Чезаре Павезе
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Годен к перу», — не раз писал о самом себе Чезаре Павезе в своих не предназначенных для печати и выпущенных посмертно «Дневниках». Эти слова не просто свидетельство веры в свое призвание, не просто жизнь, отданная литературе. Павезе вкладывал в них еще и другой, горький смысл, он хотел ими подчеркнуть свою «непригодность» к жизни, то, что он сам в «Дневниках» называл «абсурдным пороком», свой страх перед одиночеством, давнее намерение покончить с собой, которое он осуществил вскоре после выхода в свет лучшей своей повести «Луна и костры».
«У меня нет биографии, — говорил о себе Павезе. — После меня останется лишь несколько книг, в которых обо мне сказано все или почти все»[1]. Думается, в этом он был прав, хотя книги его далеки от пресловутой «исповедальной прозы».
Чезаре Павезе родился 9 сентября 1908 года на севере Италии, в Пьемонте, в небольшом поселке Сан-Стефано Бельбо, расположенном в предгорьях Альп, неподалеку от Турина. Отец Павезе, мелкий судебный чиновник, умер вскоре после переезда семьи в Турин. Мать, женщина сурового нрава, всегда была Павезе чужой. В семье он был близок лишь с сестрой Марией и сохранил эту близость на протяжении всей своей жизни.
Детство Павезе было разделено между зимой в Турине и летом, когда его привозили в Сан-Стефано Бельбо, где у семьи сохранился собственный домик. И тогда он снова бродил по родным холмам, подолгу простаивал на мосту через Бельбо, вдыхал запахи трав и виноградников, добирался пешком до Канелли, откуда уходили поезда и которое казалось ему окном, распахнутым в мир и в жизнь. Здесь, в Сан-Стефано, он часами просиживал в мастерской плотника Скальоне, сын которого, Пиноло, стал на всю жизнь другом писателя — мы узнаем его черты в образе Нуто из повести «Луна и костры». Павезе вспоминает об этой дружбе в своей последней повести, желая объяснить, что значила для него деревня, из которой он хотел уехать и потом вернуться обратно, повидав мир, чтобы в родном краю открыть все «во второй раз». Эту мысль о возврате не раз настойчиво повторяет Павезе. В письме школьному инспектору из Сан-Стефано Николе Энрикенсу Павезе говорит: «Все мы учили в школе, что Альфьери открыл себя и Италию, бродя по миру. Вы даже не представляете себе, какую глубину обнаруживаешь в наших и греческих классиках, когда возвращаешься к ним из американского, или немецкого, или русского XX века; то же можно сказать и о семье и о родине. Я люблю Сан-Стефано до безумия, но потому, что вернулся очень издалека»[2].
Глубокая связь с деревней — в ее противопоставленности городу и в то же время в неразрывности с ним — таков основной мотив всего творчества Павезе, нашедший свое художественное воплощение в напряженно фокусированной символике его романов и стихов. Нет сомнения, у истоков того, что в книгах Павезе некоторые критики называют «мифом», можно обнаружить крестьянские легенды его родных мест.
Чезаре Павезе рос необщительным, замкнутым ребенком, учился неважно. Лишь в лицее «Массимо Д’Азельо» у Павезе появились настоящие друзья. Там он встретил учителя, оказавшего на него большое, быть может во многом решающее, влияние. То был Аугусто Монти, писатель и филолог, человек высокой культуры, убежденный антифашист, друг Антонио Грамши и Пьеро Гобетти. Он воспитывал в своих учениках любовь к свободе, ненависть к фашизму, самостоятельность мышления, твердость жизненных принципов, непримиримость к поверхностным суждениям, к верхоглядству. Аугусто Монти начинал занятия чтением текстов Данте, Боккаччо, Макиавелли, Аристо, Альфьери, Мандзони, а затем с увлечением комментировал их, сближая великую литературу прошлого с событиями современности. Монти учил видеть разницу между литературой и псевдолитературой, говорил о гражданственности искусства. Примечательно, что большинство учеников Монти сделались борцами против фашизма, среди них был и Джанкарло Пайетта — ныне один из руководителей партии коммунистов Италии, прямо со школьной скамьи начавший свой долгий путь по ссылкам и тюрьмам.
В юном Павезе Монти более всего ценил самостоятельность и своеобразие суждений. Павезе посылал учителю первые экземпляры каждой своей вышедшей книги, ждал его оценки, хотя нередко жестоко спорил с ним.
В годы учебы в лицее, а потом в университете Павезе постепенно открывал для себя Турин, прежде казавшийся ему лишь хаотичным морем огней, раскинувшимся у подножия холма. Город раскрывал перед ним свои тайны во время долгих ночных прогулок, бесед с друзьями и встреч с женщинами в маленьких кафе, за бутылкой густого и терпкого бароло. Бродяги, пьяницы, проститутки, актрисы маленьких варьете — вот привычный круг его ночных собеседников в студенческие годы. Но Павезе открывал для себя и другой Турин — Турин рабочих, Турин коммунистов, ставший крепостью антифашизма.
В одном из ранних своих стихотворений, вошедшем в первый поэтический сборник «Работа утомляет», Павезе так описывает Турин тех лет: «Ночь пришла, погасила огни, в сон врывался лишь ветер. Завтра снова мальчишки станут бродить по холмам, и никто не припомнит стрельбы. Ночью тюрьмы полны молчаливых рабочих. Кое-кто уже мертв, и на улицах пятна их крови»[3]. В этих стихах речь шла о карательной экспедиции сквадристов — боевых фашистских отрядов — во главе с Брандимарте. В ту ночь в Турине фашисты жгли, бесчинствовали, убивали.
Университет еще больше сблизил Павезе с активными борцами против фашизма, людьми высокой твердости и требовательности. Среди них был Леоне Гинзбург, расстрелянный фашистами в 1944 году (он много сделал для перевода и издания в Италии произведений русских писателей), Франко Антоничелли, в годы Сопротивления ставший главой Комитета национального освобождения, Массимо Мила, Норберто Боббио, Карло Леви и другие. Эти связи определили резко отрицательное отношение Павезе не только к насаждавшейся фашистами псевдокультуре, но и к «герметическому» искусству, в котором он видел трусливую попытку укрыться от действительности. Павезе шел прямо противоположным путем, уже в первой книге его стихов ясно прозвучали мотивы социального протеста.
В 1930 году Павезе кончает университет, защитив дипломную работу «Об истолковании поэзии Уолта Уитмена». Еще в университете Павезе перевел одну из самых любимых своих книг — «Моби Дик» Мелвилла. Интерес к американской литературе сохраняется у него на долгие годы. Он переводит Синклера Льюиса, Шервуда Андерсена, Джона Дос Пассоса, Гертруду Стайн, Джона Стейнбека, Уильяма Фолкнера и других; пишет эссе, статьи, предисловия к изданиям американских авторов, вышедшие позднее отдельной книгой под названием «Американская литература и другие очерки» (1951).
Интерес Павезе к американской литературе был неслучаен и в условиях того времени глубоко полемичен. В сущности, книги этих писателей находились под запретом в фашистской Италии, переводы выходили ничтожными тиражами в маленьких издательствах после долгих препирательств с цензурой. Сама работа по их изданию была вызвана стремлением лучших представителей прогрессивной итальянской интеллигенции развеять затхлую атмосферу культурной изоляции и провинциального национализма. В переводимых им американских писателях Павезе привлекали острота социальной тематики, антириторичность и то, что он воспринимал как непосредственный, спонтанный и в то же время активно вторгающийся в жизнь реализм.
Еще в годы фашизма началась работа Павезе в издательстве «Эйнауди», вокруг которого объединились многие прогрессивные деятели итальянской культуры. Почти в одно время с другими антифашистски настроенными сотрудниками издательства Павезе в начале 30-х годов был арестован и после нескольких месяцев тюремного заключения сослан в глухую южную деревню — Бранкалеоне Калабро. Существовала и более непосредственная причина ареста Павезе — женщина, которую он любил в те годы, была связной-подпольщицей. Трагически сложившиеся отношения с ней и впоследствии мучительный разрыв наложили неизгладимый отпечаток на всю жизнь Павезе, послужили причиной глубочайшего душевного кризиса писателя.
Не слишком счастливой для Павезе оказалась и вторая его любовь — к известной американской киноактрисе Констанс Даулинг, которая приехала в Италию после войны, привлеченная бурным расцветом итальянского кино. То были также годы наибольшего успеха Павезе, и Констанс Даулинг поначалу благосклонно отнеслась к любви «модного» писателя, который охотно сочинял для нее сюжеты сценариев. После долгих лет перерыва Павезе возвращается к стихам, в которых вновь звучит радость, ощущение полноты жизни. Это стихи о женщине с «лицом весны», чей взгляд как «утренний свет зари над еще темными холмами». Однако надеждам Павезе на счастье не суждено было сбыться, Констанс Даулинг внезапно возвращается в Америку.
Вскоре после ее отъезда, в начале 1950 года, вышла в свет последняя повесть Павезе «Луна и костры», за которую писателю была присуждена самая значительная из литературных премий того времени — премия «Стрега». Как всегда после закопченной работы, когда, по собственному признанию Павезе, он похож на «отстрелявшее ружье», писатель переживает состояние тяжелой депрессии, им овладевает ощущение подавленности, опустошенности, неверие в себя, в свои силы. Вновь его преследует неотступная мысль о самоубийстве. «Вот уже много лет я не думал об этом, — пишет Павезе в своем прощальном письме Давиду Лайола, который прочтет эти строчки уже после его смерти. — Я писал. Больше я уже не буду писать… Я отправлюсь в свое последнее путешествие с упрямым и упорным стоицизмом жителей наших гор»[4].
26 августа 1950 года Павезе покидает квартиру своей сестры, у которой он жил, и снимает номер в гостинице «Рома». Оттуда он уже не выйдет живым. На следующий день кто-то из гостиничной прислуги услышал, как кошка скребется в запертую изнутри дверь номера… Рядом с постелью лежал сборник стихов и записка: «Прощаю всех и прошу прощения у всех. Ладно? Только не надо сплетен. Чезаре Павезе».
Стихи — часть их была написана по-английски — посвящались Констанс Даулинг. Они вышли отдельным сборником, названным «Смерть придет, и у смерти глаза твои» — так начинается одно из первых стихотворений сборника. Павезе было всего сорок два года.
О своем «абсурдном пороке» самоуничтожения Павезе не раз писал в «Дневниках», писал в своих не предназначавшихся для печати рассказах. Ему не хватило мужества перед лицом жизни, его страшило одиночество, ему казалось, будто он все уже сказал в своих книгах. Он, по его словам все предвидевший «еще за пять лет», не предвидел одного — тысячи туринцев, неся красные знамена, шли за гробом писателя-коммуниста.
* * *
Известный итальянский ученый Джанфранко Контини, определяя место Чезаре Павезе в литературе своего времени, сказал: «Павезе был бесспорным вождем итальянского неореализма»[5]. С этим утверждением можно и не согласиться.
Вне всякого сомнения, неореализм в итальянской литературе тех лет был течением прогрессивным, порожденным сопротивлением фашизму, но в то же время в чем-то бесформенным, лишенным четкой художественной программы, если не считать программой стремление к созданию «лирических, опоэтизированных документов» — произведений, где не было бы четко разработанных характеров, где отсутствовали бы законченные образы, психологический анализ. Вряд ли следует перечеркивать результаты этой литературной работы первых послевоенных лет, и вместе с тем сегодня мы не можем не отметить, что, в отличие от кинематографа, в котором неореалисты создали бесспорные художественные шедевры, стоящие в одном ряду с великими произведениями мирового кино, неореалистическая литература, за немногими отрадными исключениями, породила целый поток серых, как бы штампованных по единому образцу книг, не оставивших заметного следа.
Расплывчатость или, вернее, отсутствие художественной программы «литературного неореализма» привели к быстрой его ликвидации неоформалистами и в то же время давали возможность зачислять в сторонники этого направления писателей, весьма далеких от него.
Говоря о Павезе и его эпигонах, Альберто Моравиа писал: «Павезе имеет сегодня в Италии многочисленных последователей и подражателей. Весьма любопытно, что все эти неореалистические эпигоны… не выстрадавшие интеллектуально и человечески драму Павезе, обнаружили ее уже решенной или внешне решенной в его книгах и пришли к повествовательным формулам, которые сам Павезе, будучи человеком хорошего вкуса и строгой мысли, несомненно, отверг бы. Они ищут непосредственности, мифа, встречи с действительностью вне рамок культуры, стремятся к „поэтическому документу“, а на деле приходят к одномерному натурализму, лишенному глубины культуры и мысли, либо просто к диалектальной и провинциальной фрагментарности»[6].
Как же относился к неореализму сам Павезе? Он поддерживал в нем все, что было направлено против старой, «герметической» литературы, поддерживал книги, казавшиеся ему талантливыми (например, «Черствый хлеб» неореалиста Сильвио Микеле), но с присущей ему бескомпромиссной резкостью отвергал риторичность и некоторую аморфность стиля неореалистов. Пожалуй, лучше всего отношение Павезе к неореализму раскрывает его письмо писательнице Марии Кристине Пинелли от 11 февраля 1947 года: «Сегодня все пишут стихи и мемуары, прозу и памфлеты — анализируют и исповедуются… Одна из характерных особенностей этих лет — появление прикладного искусства; все хотят показывать и свидетельствовать. Теперь уже не встретишь красиво написанной страницы, в которой не сказано ровно ничего, сонета, приятно услаждающего слух, — всего того, чем отличалась „имперская Аркадия“ времен Муссолини»[7].
Здесь и поддержка того, что в неореализме было направлено против формалистического искусства времен фашизма, и вместе с тем признание неореализма литературой прикладной, то есть ограниченной, лишенной подлинной глубины.
О Павезе много писали — одна лишь библиография критических работ о нем, вышедших в Италии, насчитывает 428 названий, а ведь писали о нем не только в Италии, но и в других странах. Писали по-разному. Для одних Павезе — «лидер неореализма», другие с еще меньшим основанием толковали о декадентских началах в его творчестве, ссылаясь главным образом на его «Дневники». Ссылаются также на книгу Павезе «Диалоги с Леуко», которой сам он придавал немалое значение. В 27 эпизодах этой книги содержится попытка современного истолкования греческой мифологии. В этой книге мы обнаруживаем прежде всего стремление художника осовременить древние мифы, вернуть на землю богов, противопоставить разум и свет познания «дьяволам подсознания», стремление к ясности, словом, нечто совсем иное, чем современный декаданс с его мифами «примитива», «дикаря», «ребенка», противопоставляемыми разуму, сознанию, зрелости, ощущению истории.
Профессор-коммунист Карло Салинари пишет об этом весьма убедительно: «Для Павезе зрелость, город, цивилизация не представляют собой негативного начала, не являются ограничением. Более того, он ценит их как элемент позитивного, элемент прогресса и блага»[8]. В этой же статье Салинари критикует писателя за его отказ от глубокой разработки характеров, за чрезмерное увлечение символикой. Вместе с тем он подчеркивает: «Павезе, быть может, первый литератор общеевропейского значения, появившийся в Италии после многих десятилетий».
Нельзя также не остановиться на проблеме влияния американской литературы на творчество Павезе, которую некоторые критики пытаются представить как прямое подражание американским писателям. Конечно, можно говорить о формальной близости стихов Павезе к Уитмену. Свободный, раскованный ритм, конкретная образность, метафоричность восприятия природы в стихотворных новеллах сборника «Работа утомляет» в какой-то мере подтверждают такое наблюдение. Но и этим стихам Павезе прежде всего присуще своеобразие, свое особое поэтическое ви́дение; в отличие от «герметиков» лирическое «я» Павезе звучит приглушенно, не противопоставлено объективности, конкретности изображения, поэт стремится высказать самое существенное о самом насущном, быть всегда «ясным, простым, объективным». Символика «Моби Дика» Мелвилла ощутима в первом широкоизвестном стихотворении сборника «Южные моря». Это стихи о человеке, который отправился путешествовать, достиг Океании, но вернулся домой, в свои горы, принеся с собой ощущение больших просторов, не убившее в нем привязанности к родным местам, без которой жизнь для него бессмысленна и невозможна. Мотивы «Южных морей», усложняясь и оттачиваясь, проходят через многие книги Павезе.
Из современных прозаиков Америки ближе всего Павезе Фолкнер, хотя четкая, краткая, доведенная до предельной ясности фраза Павезе имеет мало общего со словесными водоворотами великого американского писателя. Здесь близость совсем иного рода. У Павезе, подобно Фолкнеру, можно обнаружить четкие ряды противопоставлений: «деревня» — «город», «детство» — «зрелость», «дикость» — «цивилизация». Однако сам Павезе сознавал обреченность своей «деревни», понимал, что элементы этих параллельных рядов могут быть противопоставлены неумолимой логике исторического развития, лишь будучи оторваны друг от друга.
В отличие от Фолкнера Павезе сознавал революционность рабочего класса. Но узел, сложный узел всего творчества Павезе — именно в том, что он называл «абсурдным пороком», — в противоречии между разумом и чувством, сознанием и подсознанием, верой и неверием. Для понимания поэтики Павезе очень важны мысли, высказанные им в письме к своему учителю Монти, критиковавшему его повести «Дьявол на холмах» и «Только женщины» за их якобы «ненависть к ближнему». Павезе подчеркивает, что человечность присуща именно тому, «кто работает, кто полезен делу; а те, кто не работает и, следовательно, не приносит пользы, охвачены гангреной, от них идет смрад». Герои повести «Дьявол на холмах», трое юношей, открывающих для себя мир, вступают по замыслу писателя «в соприкосновение с миром „бесполезных“, с буржуазным миром ничего не делающих и ни во что не верящих». Заявляя о своем нежелании «прикрывать этот мир вуалью», Павезе пишет своему учителю: «Ты своими чувствами столь связан с высшей буржуазией, что тебя огорчает, когда я называю ее дерьмом, а с миром труда ты связан столь волюнтаристски, что требуешь от любой книги заурядного абстрактного оптимизма… Если это так, то мы с тобой друг друга понять не можем»[9].
* * *
В предлагаемом читателю однотомнике Павезе представлены наиболее характерные и наиболее важные для творчества писателя прозаические произведения, созданные им в основном после войны. Только одна повесть — «Прекрасное лето» — была написана еще в 1937 году, хотя опубликована была в 1949 году в сборнике того же названия. В этот сборник, удостоенный премии «Стрега», вошли также уже упоминавшиеся ранее повести «Дьявол на холмах» и «Только женщины».
«Прекрасное лето» — история любви, первой любви совсем еще юной девушки Джинии к художнику Гвидо. История жестокой и неудавшейся любви, которая продлилась всего несколько месяцев. Любовь становится для Джинии выходом из замкнутого круга одиночества и безнадежности. Жизнь ее и других персонажей этой повести протекает на фоне городских окраин Турина, скучных и грязных баров, изображена тусклыми красками повседневности. Но этот фон лишь подчеркивает жизнеутверждающую силу овладевшего девушкой чувства. Автор достигает предельной напряженности повествования, пользуясь самым скупым набором выразительных средств. Он словно устраняется, как бы наблюдает за всем со стороны. Подобно режиссерам лучших неореалистических фильмов, он лишь точно регистрирует происходящее, заставляя читателя забыть о том, что каждый из кадров подобран и смонтирован рукой мастера. Но это отнюдь не «объективный дневник чужих дел»[10], не хроника, которой нередко присуща незавершенность. За каждым из чередующихся в повести кадров — внутренняя логика событий, подсказанная художественной задачей, которую поставил себе писатель.
Большинство итальянских критиков, писавших об этой повести, подчеркивали ее безысходность, но вряд ли автор дает основания для подобных заключений. Чувство, испытанное Джинией, обогатило ее душу, раскрыло перед ней новые, неведомые ей прежде просторы; оно помогает ее становлению, своей силой и напряженностью перечеркивает неизбежность одиночества.
Сам Павезе, поясняя свою творческую манеру, писал: «Нет ничего прекрасней, чем облачить взрывчатую материю — как науки, так и поэзии — в суровые одежды, которые организуют и „большевизируют“ их»[11].
В этом сборнике уже намечен, пусть лишь пунктиром, один из ведущих в дальнейшем мотивов творчества писателя — контраст между тружениками и теми, кто паразитирует на чужом труде, контраст социальный, непримиримый по своей природе, как здоровье и болезнь, творчество и тунеядство. «Люди без дела», а значит, и без корней в жизни нравственно обречены.
Особенно четко этот конфликт прослеживается в повести «Дьявол на холмах», о которой сам Павезе говорил, что в ней ключ к верному прочтению сборника «Прекрасное лето».
Формулируя принципы своего художественного метода, Павезе писал: «Живая гармония произведения искусства порождается контрастом между естественной логикой изображенных фактов и задуманной, никогда не упускаемой из виду автором внутренней логикой, которая подчиняет себе повествование и является его целью»[12].
В «Дьяволе на холмах», произведении почти бессюжетном, в котором, однако, ясно ощутима связь чередующихся эпизодов, эта внутренняя цель выступает особенно рельефно. Речь идет о непримиримом столкновении людей двух мироощущений.
По одну сторону — крестьяне и сыновья крестьян, которые учатся делу в Турине, крестьяне, познавшие красоту родной земли, с их непосредственным и радостным отношением к жизни, по другую — морфинист Поли, отец которого «ворочает миллионами» и «заправляет» всем в Милане, его друзья и близкие, люди опустошенные, равнодушные.
И в этой своей повести Павезе воздерживается от прямого авторского вмешательства, от каких-либо оценок и деклараций; добивается он своей целя всем ходом повествования, казалось бы совсем незаметно, во твердо подчиненным авторскому замыслу, главной мысли, как бы невзначай высказанной на страницах романа: «Только те, кто обрабатывает землю, достоин жить на ней». Спасать таких, как Поли, нельзя, спасти их невозможно. Их удел — равнодушие, ненависть, гибель. Им чужда «густая кровь земля», их виноградники давно заброшены, они не способны увидеть красоту зеленых холмов, склоны которых напоминают «бока ухоженных коров», они лишь заражают других своим отчаяньем, своей никчемностью и бесполезностью. Они должны исчезнуть.
К сожалению, повесть после ее выхода в свет не была понята некоторыми, в ту пору догматическими, а позднее (как бы во искупление собственных погрешностей) сочувствующими «неоавангарду» критиками.
В письме к одному из своих критиков, Рино даль Сассо, выступившему на страницах «Унита» с весьма схематичной статьей о его произведениях, Павезе утверждал, что нельзя «исключить из искусства любую трагическую тему… Мы либо пишем трагедии, либо не пишем их. Если пишем, то должны разрешить подлецу (или жертве — в зависимости от случая) всю полноту его страданий…». Разъясняя свою мысль, Павезе говорит: «Война — печальная штука также и потому, что нужно убивать своих врагов. Само собой разумеется, это не должно ослаблять силы нашего удара, но, как правило, лучшими бойцами являются те, кто осознает эту грустную необходимость»[13].
Думается, что в этом письме Павезе весьма ясно высказывает не только свою эстетическую позицию, но и позицию борца, позицию гуманиста нового типа, не раз повторявшего, что «гуманизм не есть удобное кресло для отдыха».
Роман Павезе «Товарищ» вышел в свет в 1947 году. Замысел его созрел у Павезе в 1945 году, когда он вступил в Итальянскую коммунистическую партию.
«Товарищ» — это книга о том, как становятся коммунистами. В образе главного героя этого романа, Пабло, нашли свое воплощение черты многих друзей Павезе — коммунистов. На экземпляре книги, подаренной им одному из руководителей коммунистического подполья, Чинанни, ставшему его близким другом, сохранилась надпись: «В этой книге есть и ты».
После выхода книги Павезе обратился к руководству Итальянской коммунистической партии с письмом, не утратившим и сегодня своей актуальности и убедительно опровергающим домыслы буржуазной критики насчет «случайности» и «необязательности» сделанного Павезе политического выбора, а заодно и насчет смысла его романа «Товарищ».
Он писал, что принадлежит к тем, кто выбрал идеалы коммунизма «из любви к свободе». Говорил о важности для писателя, погруженного в созданный им самим мир, контактов с реальной действительностью, живыми людьми. Писатель, высоко ценящий свое ремесло, понимает, что одного таланта, одного воображения ему недостаточно. А «самой последовательной, самой конкретной, самой высвобожденной» формой действительности Павезе считает «борьбу, которую ведет Итальянская коммунистическая партия».
Говоря о месте интеллигенции, о месте писателя в политической жизни, Павезе с гордостью заявляет: «Наша свобода — это свобода тех, кто трудится, тех, кому приходится обрабатывать темный, твердый, неподдающийся материал»[14].
Роман «Товарищ» отражает момент наибольшей близости писателя к реальной действительности, период, когда он меньше обычного ощущал свое одиночество.
По заявлению самого писателя — «это история того, как формируется сознание». Герой Павезе бежит от бездумного и бессмысленного существования, которое он вел в своем родном Турине, бежит в Рим. Здесь он знакомится с представителями антифашистского подполья, с разными его слоями; от либералов, которые хотят покончить с фашизмом, чтобы сохранить господство буржуазии после неизбежного краха фашистской диктатуры, от болтунов из кафе, неспособных к серьезному делу, Пабло приходит к рабочим, к коммунистам, у которых учится понимать жизнь, учится мыслить. Он впервые начинает осознавать значение печатного слова, значение книг, в которых сказана правда, познает настоящую любовь, дружбу, верность слову и долгу, осмысленность человеческой жизни. Знакомство с одним из руководителей коммунистов, Скарпой, нелегально вернувшимся на родину из Испании, где шла гражданская война и где он сражался против фашистов, становится подлинной школой для Пабло — школой политической и школой воспитания чувств, становления характера.
«Товарищ» предстает перед нами отнюдь не как «тезисный» роман, а как произведение глубоко искреннее, зрелое, как синтез многолетних раздумий и наблюдений автора, сгусток чувств и мыслей людей его поколения, его судьбы.
Самым удавшимся из произведений Павезе, его «лебединой песней» считает известный итальянский исследователь литературы Карло Салинари повесть «Луна и костры». Салинари обнаруживает здесь связь с одним из ранних стихотворений «Южные моря», — это тема «возвращения после долгих странствий и поиски воспоминаний детства»[15].
С этой оценкой нельзя не согласиться, хотя она далеко не исчерпывает значения написанной незадолго до смерти книги Павезе. В этой повести как бы соединились воедино все важнейшие мотивы творчества писателя, нашли выход его многолетние искания. Да, разумеется, это книга о возвращении из долгих странствий, возвращении к родным холмам, лесам, виноградникам, к другу детства Нуто, к лучшим воспоминаниям молодости. Радость узнавания — один из ведущих мотивов повести. И в то же время увиденная «во второй раз» деревня предстает перед читателем в новом свете, во всей остроте своих социальных конфликтов, со всеми еще не зарубцевавшимися ранами партизанской войны, со своими нынешними бедами.
Эпиграф к этой книге взят из «Зимней сказки» Шекспира: «Зрелость — это все». Новым стало и ощущение зрелости, ощущение ясности, порой безжалостно разрушающей предания и мифы детства. Потребность в этой ясности, понимание того, что мир плохо устроен и его нужно изменить, воплощены в образе плотника Нуто, самом цельном из персонажей, созданных Павезе. В сущности, Нуто из «Луны и костров» — это и есть коммунист Пабло из «Товарища», только прошедший через многие испытания, обретший зрелость и цельность, Нуто, «которому во всем надо разобраться», который понимает, что «не каждый, кто захочет, может стать коммунистом», тот Нуто, который жаждет знаний и знает, что впереди его ждут долгие годы борьбы во имя счастья человека, Нуто, который «крепко вбил себе в голову, что никто не должен стоять в стороне» в этой борьбе против зла и невежества, против жадности хищников, готовых вешать и расстреливать, лишь бы сохранить награбленное.
Деревне, хранящей красоту и радость жизни, берегущей память о детстве и прожитых годах, голосу извечной мудрости и живого разума, всему, ради чего стоит жить, Павезе в этой повести противопоставил не Турин, а Америку, откуда вернулся его разбогатевший герой Угорь. Главы, посвященные Америке, звучат трагическим диссонансом всему, что дорого этому человеку. Здесь, в деревне, он вспоминает Америку, какой увидел и почувствовал ее в те двадцать лет, что прожил в этой стране.
«Здесь у нас та же Америка, она и к нам пришла, здесь у нас и миллионеры, и нищие», — обронил в одной из бесед Нуто, простыми, ясными словами раскрыв подлинный смысл того, что стоит за символикой Павезе, к которой писатель прибегает в самом конце своей стройной по композиции и очень емкой книги.
Близость к людям — вот цель, к которой стремился Павезе. «Нужна не связь с народом, нужно быть пародом. В нашем ремесле нельзя идти к чему-то, нужно быть чем-то», — писал он в «Диалогах с коммунистом», которые печатались в газете «Унита».
Вступление в Итальянскую коммунистическую партию, вспоминает Давид Лайола, «было для него одним из самых важных жизненных решений, принятых сознательно и с полным чувством ответственности».
20 мая 1945 года он принес в газету «Унита» статью, озаглавленную «Возврат к человеку». Словами этой статьи, словами глубокой веры в человека и в нужность искусства хотелось бы закончить рассказ о Павезе.
«Эти годы тревог и крови научили нас тому, что тревога и кровь не есть конец всего. На грани ужаса мы увидели, как человек открылся человеку.
Мы верим в это глубоко, потому что никогда человек не был менее одинок, чем в эти времена страшного одиночества… Много барьеров, много нелепых перегородок было разрушено в эти дни… Раскрылось все, что есть живого в человеке, и теперь он ждет, чтобы мы научились понимать и говорить.
Говорить. Слова — наше ремесло, мы признаем это без стыда, без иронии. Слова — хрупкая, живая и сложная штука, но они для человека, а не человек для них… Нас строго и доверчиво будут слушать люди, готовые воплотить наши слова в дела. Разочаровать их — значит предать их, значит предать и наше прошлое»[16].
Г. Брейтбурд
ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО ПОВЕСТЬ © Перевод Н. Наумов
I
В те времена всегда был праздник. Стоило им выйти из дому и перейти через дорогу, как они прямо шалели, и все было так замечательно, особенно по вечерам, что, возвращаясь домой смертельно усталые, они еще надеялись, что произойдет что-нибудь необыкновенное — вспыхнет пожар, в доме родится ребенок или, вот было бы здорово, вдруг наступит день и все снова высыпят на улицу и можно будет опять гулять и гулять, идти в луга и на холмы. «Понятное дело, — говорили им, — вы здоровые, молодые, у вас нет никаких забот». Но даже Тина, хотя она вышла из больницы хромой, а дома у нее нечего было есть, радовалась жизни не меньше других и как-то раз, ковыляя вслед за подругами, остановилась и расплакалась, потому что идти спать было глупо — только зря время терять, когда так хочется веселиться.
Джиния, если на нее нападало такое настроение, не подавала и виду, а провожала до дому какую-нибудь подружку и говорила, говорила, пока не выговорится. Когда надо было расставаться, им уже нечего было сказать друг другу — они давно шли молча, как будто порознь. Джина успокаивалась и возвращалась домой, не жалея, что осталась одна. Само собой, лучше всего было в субботние вечера, когда они ходили на танцы. Но и в остальные дни было хорошо, и, уходя утром на работу, Джиния подчас радовалась даже тому, что пройдется по улице. Другие говорили: «Если я поздно прихожу, то не высыпаюсь», «Если я поздно прихожу, мне попадает». Но Джиния никогда не уставала, а ее брат, который работал в ночную смену, а спал днем, видел ее лишь за ужином. В обед, когда она входила, Северино только поворачивался на другой бок. Джиния накрывала на стол и, проголодавшись, ела, сосредоточенно жуя и прислушиваясь к шумам, долетавшим с лестницы и из других квартир. Время шло медленно, как это обычно бывает, когда не с кем перемолвиться словом, и Джиния успевала помыть посуду, накопившуюся в раковине, и немножко прибраться, а потом прилечь на тахту и подремать под тиканье будильника, доносившееся из другой комнаты. Иногда она даже закрывала ставни, чтобы в комнате было темно и она могла чувствовать себя в полном уединении. Проспать она не боялась, потому что в три часа спускалась по лестнице Роза и тихонько, чтобы не разбудить Северино, скреблась к ним в дверь, пока Джиния не отзывалась. Они вместе выходили на улицу и шли к трамвайной остановке.
У Джинии с Розой только и было общего, что этот кусок дороги да звездочка из искусственного жемчуга в волосах. Но однажды, когда они проходили мимо витрины и Роза сказала: «Мы с тобой как сестры», Джиния поняла, что таких звездочек пруд пруди и что, если она не хочет, чтобы и ее принимали за фабричную работницу, она должна носить шляпку, тем более что Роза, еще зависящая от отца и матери, не скоро сможет позволить себе такую роскошь.
Разбудив Джинию, Роза, если позволяло время, заходила к ним, и Джиния с ее помощью наводила порядок, тихо посмеиваясь над Северино, который, как и все мужчины, не знал, что значит вести дом. Роза шутки ради говорила о нем «твой муж», по нередко Джиния хмурилась и отвечала, что не так-то весело, когда дома хлопот полон рот, а мужа нет. Конечно, она говорила это не всерьез — ей было даже приятно побыть одной, чувствуя себя полной хозяйкой в доме, — но Розе надо было время от времени давать понять, что они уже не девочки.
Роза и на улице не умела себя вести, кривлялась, хохотала, оглядывалась на прохожих — Джиния готова была ее исколотить. Но они часто вместе ходили на танцы, и тут она нуждалась в Розе, потому что та была со всеми на «ты», а ее дурачества только подчеркивали, что Джиния гораздо тоньше ее. В этот прекрасный год, когда они начинали жить самостоятельно, Джиния скоро поняла, что у нее есть преимущество перед другими: она и дома сама себе хозяйка — Северино был не в счет, — и в свои семнадцать лет может жить как взрослая женщина. Но пока Джиния еще носила звездочку в волосах и позволяла сопровождать себя Розе, поскольку та ее забавляла. Во всем квартале не было другой девушки, которая так чудила бы, как Роза, когда она была в ударе. Она умела любого разобрать по косточкам и высмеять и, бывало, целыми вечерами только и делала, что всех потешала. А задорная была, как петушок. «Что с тобой, Роза?» — спрашивал кто-нибудь из парней, пока все ждали, когда заиграет оркестр. «Мне страшно, — отвечала она (и глаза у нее выкатывались из орбит), — когда я входила, какой-то старик так и уставился на меня, наверное, он поджидает меня на улице, я боюсь». Парень не верил. «Должно быть, это твой дед». — «Дурак». — «Ну ладно, давай потанцуем». — «Нет, мне страшно». Уже танцуя, Джиния слышала, как тот парень кричит: «Нахалка! Ведьма! Пропади ты пропадом! Катись к себе на фабрику!» Тогда Роза смеялась, и другие тоже покатывались со смеху, а Джиния, продолжая танцевать, думала, что именно фабрика делает девушек такими. Да и удивляться было нечему, стоило только посмотреть на механиков — с кем поведешься, от того и наберешься.
Если в компании оказывался кто-нибудь из них, можно было не сомневаться, что, не успеет стемнеть, какая-нибудь девушка выйдет из себя, а если дурости хватит, то и заплачет. Они насмешничали, как Роза, и норовили увести тебя в луга. С ними было невозможно разговаривать по-человечески и приходилось все время держаться настороже, чтобы в случае чего сразу дать отпор. Но зато в иные вечера они пели, и пели хорошо, в особенности если приходил с гитарой Феруччо, высокий светловолосый парень, который вечно сидел без работы, но у которого пальцы все еще были заскорузлые и черные от въевшегося угля. Казалось невероятным, что эти грубые руки могут быть такими чуткими, и Джиния, которой однажды случилось почувствовать их у себя под мышкой, избегала смотреть на них, когда он играл. Роза сказала ей, что этот Феруччо два или три раза спрашивал о ней, и Джиния ответила: «Скажи ему, чтобы он сперва остриг себе ногти». Она ожидала, что, когда они встретятся в следующий раз, Феруччо посмеется, но он даже не взглянул на нее.
В один прекрасный день, когда Джиния выходила из ателье, обеими руками поправляя шляпку на голове, она увидела у подъезда Розу, которая бросилась ей навстречу.
— Что случилось?
— Я удрала с фабрики.
Они молча дошли до трамвайной остановки: Роза ничего больше не говорила, а озадаченная Джиния не знала, что сказать. Только когда они сошли с трамвая, Роза тихо пробормотала, что боится, не забеременела ли она. Джиния обозвала ее дурой, Роза вскипела, и они схлестнулись, остановившись на углу. До настоящей ссоры дело не дошло, потому что Роза, которая так разбушевалась только от страха, быстро остыла, но Джиния была взволнованна больше нее, она чувствовала себя обманутой и обойденной, как ребенок, который сидит в детской, когда другие развлекаются, да еще кем обойденной — Розой, у которой не было даже никакого самолюбия. «Я не такая дешевка, — говорила Джиния про себя, — больно рано в семнадцать-то лет. Тем хуже для нее, если она хочет растратить себя». Она так говорила, но не могла вспомнить об этой истории без чувства унижения: при мысли о том, что все ее подруги, ничего не говоря ей, уже побывали с парнями в лугах, а у нее, такой самостоятельной, еще колотилось сердце от одного только прикосновения мужской руки, — при этой мысли у нее перехватывало дыхание.
— Почему в тот день ты пришла сказать мне об этом? — спросила она Розу как-то раз, когда они после обеда вместе выходили из дому.
— А кому же мне было сказать? Я думала, что влипла.
— А почему ты раньше ничего мне не говорила?
Роза, теперь уже успокоившаяся, засмеялась и веселей застучала каблучками.
— Такие вещи лучше держать про себя. А то еще сглазишь.
Джиния думала: «Дура. Теперь она смеется, а давно ли готова была в петлю лезть? Она еще девчонка, вот и все». Но когда она шла одна на работу или с работы, она думала: мы все еще молоды, а чтобы знать, как вести себя, надо дожить лет до двадцати.
Однажды Джиния весь вечер разглядывала возлюбленного Розы — Пино, кривоносого коротышку, который только и умел играть на биллиарде и ничего не делал, а вдобавок ко всему гундосил. Джиния не понимала, почему Роза продолжает ходить с ним в кино, после того как убедилась, какой он подлец. У нее не выходило из головы то воскресенье, когда они вместе катались на лодке и оказалось, что у Пино вся спина в веснушках, точно изъедена ржавчиной. Теперь, когда она знала, что было между ними, она припомнила, что в этот день Роза с Пино ушли в кусты. Как это она, дура, не поняла, в чем дело? Но уж Роза и вовсе была дурой из дур, и она ей еще раз сказала это, когда они пошли в кино.
Подумать только, ведь они не раз целой компанией катались на лодке и смеялись, шутили, подтрунивали над парочками. За другими Джиния следила, а вот Розу и Пино проглядела. В полдень, в самую жару, в лодке остались только она и хромуша Типа. Остальные, в том числе и Роза, сошли на берег, и слышно было, как они перекликаются. Тина, которая была в юбке и блузке, сказала Джинии: «А я разденусь и буду загорать, только бы никто не пришел». Джиния сказала, что покараулит, но сама только прислушивалась к голосам, время от времени доносившимся с берега. Скоро все смолкло над спокойной водой. Тина, обернув бедра полотенцем, легла и стала жариться на солнце. Тогда Джиния соскочила на берег и прошла несколько шагов по траве босиком. Голоса Амелии, которая увела за собой всех остальных, больше не было слышно. Джиния, решив по глупости, что они играют в прятки, не стала их искать и вернулась в лодку.
II
Про Амелию по крайней мере было известно, что она ведет другую жизнь. Ее брат был механиком, но в то лето она лишь время от времени появлялась по вечерам в их компании и, хотя со всеми смеялась, ни с кем не откровенничала, потому что ей было уже девятнадцать или даже двадцать лет. Джинии хотелось бы иметь ее рост и ее длинные, стройные ноги — на такие ноги прямо просятся тонкие чулки. Правда, в купальном костюме у Амелии выпирали бедра, и вообще в ее фигуре было что-то лошадиное. «Я безработная, — сказала она Джинии как-то вечером, когда та разглядывала ее платье, — времени у меня хоть отбавляй, я могу целый день подбирать себе фасон. Ты знаешь, я тоже работала в ателье, как ты, там я и научилась кроить». Джиния подумала, что хорошо не шить самой, а заказывать себе платья, но ничего не сказала. Они вместе погуляли в этот вечер, и Джиния проводила Амелию до дому, потому что чувствовала себя бодрешенькой и ей совсем не хотелось спать. Недавно прошел дождь, асфальт и деревья были мокрые, в лицо веяло свежестью.
— Ты, я вижу, любишь гулять, — смеясь, говорила Амелия. — А как к этому относится твой брат Северино?
— Северино в это время на работе. Это он зажигает все фонари и следит за ними.
— Значит, это он светит парочкам? Как он одет? Как газовщик?
— Да нет, — со смехом сказала Джиния. — Он следит за рубильниками на электростанции. Всю ночь дежурит у пульта.
— И вы живете одни? Он не читает тебе морали?
Амелия болтала весело, непринужденно, по-свойски, и Джиния без труда говорила ей «ты».
— Ты давно без работы? — спросила она ее.
— Вообще-то работа у меня есть. Меня рисуют.
По ее тону можно было подумать, что она шутит, и Джиния вопросительно посмотрела на нее.
— Как рисуют?
— Анфас, в профиль, одетую, раздетую. Это называется быть натурщицей.
Джиния слушала ее, притворяясь изумленной, чтобы она продолжала рассказывать, хотя прекрасно знала то, о чем говорила Амелия. Она только никогда бы не поверила, что та заговорит с ней на эту тему, потому что никому из девушек она про свое занятие и словом не обмолвилась, и только через привратниц Роза раскрыла ее секрет.
— Ты вправду ходишь к художнику?
— Ходила, — сказала Амелия. — Но летом ему дешевле обходится рисовать на открытом воздухе. А зимой слишком холодно позировать голой, вот и выходит, что почти никогда не работаешь.
— Ты раздевалась?
— Ну да, — сказала Амелия.
Потом взяла Джинию под руку и заговорила опять.
— Работа эта хорошая — ничего не делаешь, только слушаешь разговоры. Одно время я ходила к художнику, у которого была шикарная мастерская и, когда приходили люди, подавали чай. Вот где можно набраться ума, почище, чем в кино.
— И что же, они входили, когда ты позировала?
— Спрашивали позволения. Самое лучшее — иметь дело с женщинами. Ты знаешь, что женщины тоже пишут картины? Они платят девушке, чтобы нарисовать ее голой. Но почему им самим не стать перед зеркалом? Я понимаю, если бы они рисовали мужчину.
— Небось они и мужчин рисуют.
— Может быть, — сказала Амелия, останавливаясь у своего подъезда, и подмигнула ей. — Но некоторых натурщиц они нанимают за двойную плату. На свете всякое бывает, то-то и хорошо.
Джиния сказала Амелии, чтобы она заходила к ней, и пошла домой одна по залитому отсветом фонарей и витрин асфальту, уже почти просохшему на теплом воздухе. «Такая бывалая, а рассказывает почем зря про свои дела, — думала Джиния, очень довольная. — Если бы я вела такую жизнь, как она, я бы была похитрей». Джиния была слегка разочарована, когда прошло несколько дней, а Амелия так и не зашла. Видно, в тот вечер она вовсе не собиралась подружиться с ней, но тогда значит, думала Джиния, она рассказывает такие вещи кому попало и у нее действительно винтиков не хватает. А может, она принимает меня за девочку, которая поверит чему угодно. И как-то вечером в большой компании Джиния рассказала, что видела в одном магазине картину, на которой можно было узнать Амелию. Все ей поверили, но Джинии вздумалось добавить, что она узнала ее по фигуре, потому что, когда натурщица голая, художники нарочно изменяют ей лицо.
— Как же, станут они церемониться, — сказала Роза и посмеялась над ее наивностью.
— Я была бы рада, если бы какой-нибудь художник написал мой портрет да еще заплатил бы мне, — сказала Клара.
Тут стали обсуждать, красива ли Амелия, и брат Клары, который был с ними в лодке, сказал, что в голом виде он красивее ее. Все засмеялись, а Джиния сказала, хотя никто ее не слушал:
— Если бы она не была хорошо сложена, художник не стал бы писать с нее картину.
В тот вечер она опять испытала чувство обиды и чуть не расплакалась. Но шли дни, и, когда однажды, выйдя из трамвая, она снова встретила Амелию, они как ни в чем не бывало погуляли, болтая о всякой всячине. Джиния была даже элегантнее Амелии, которая шла со шляпкой в руке и смеялась, показывая зубы.
На следующий день в обед Амелия зашла к ней домой. Из-за жары дверь была распахнута, и Джиния увидела Амелию из темноты, прежде чем та разглядела ее. Они обрадовались друг другу, и, когда Джиния распахнула ставни, Амелия огляделась вокруг, обмахиваясь шляпой.
— Неплохая мысль — оставлять дверь открытой, — сказала она. — Тебе хорошо. У меня дома так нельзя, потому что мы живем на первом этаже.
Потом заглянула в другую комнату, где спал Северино, и заметила:
— А у нас настоящий табор. В двух комнатах живем впятером, не считая кошек.
Когда пришло время идти на работу, они вышли вместе, и Джиния сказала:
— Когда тебе осточертеет на своем первом этаже, приходи ко мне, здесь можно посидеть спокойно.
Ей хотелось, чтобы Амелия почувствовала, что она вовсе не желает сказать ничего худого о ее домашних, а просто рада ей, потому что они понимают друг друга. А Амелия, не сказав ни да, ни нет, угостила Джинию чашкой кофе перед тем, как та села в трамвай. Ни назавтра, ни на следующий день они не увиделись. А потом Амелия пришла как-то вечером, на этот раз без шляпы, села на тахту и, смеясь, попросила сигарету. Джиния кончала мыть посуду, а Северино брился. Он дал ей сигарету, мокрыми пальцами зажег спичку, и они втроем пошутили насчет фонарей. Северино нужно было бежать, но он успел сказать Джинии, чтобы она не полуночничала. Амелия с улыбкой посмотрела на него, когда он выходил.
— Ты ходишь на танцы все туда же? — сказала она Джинии. — Ребята там очень славные, но надоедные. И твои подруги тоже.
Они вышли из дому и по проспектам пошли к центру, обе без шляп, наслаждаясь вечерней прохладой. Для начала они купили мороженого и, полизывая его, смотрели на людей и смеялись. С Амелией Джинии было все трын-трава, и она веселилась от души с таким чувством, как будто в этот вечер чего только не произойдет. Она знала, что может положиться на Амелию, которой было уже двадцать лет и которая шла и смотрела на всех с развязным видом. Амелия из-за жары даже не надела чулок; и, когда они проходили мимо танцзала из тех, где оркестр играет под сурдинку, а на столиках горят лампы под абажурами, Джиния испугалась, что Амелия потащит ее туда. Она никогда не была в таких заведениях и от страха затаила дыхание. Амелия сказала:
— Уж не хочешь ли ты войти?
— Жарко, и, потом, мы не одеты, — сказала Джиния. — Лучше погуляем.
— Мне тоже неохота, — сказала Амелия, — но что же мы будем делать? Не хочешь же ты стоять на углу и смеяться, глядя на прохожих?
— А ты что хотела бы?
— Не будь мы женщины, у нас была бы машина и мы бы сейчас поехали купаться на озера.
— Давай пройдемся и поболтаем, — сказала Джиния.
— Можно пойти на холм, распить бутылочку и попеть. Ты любишь вино?
Джиния сказала, что нет. Амелия посмотрела на двери, ведущие в танцзал.
— Но по рюмочке мы все-таки выпьем, — сказала она. — Пойдем отсюда. Кто скучает, тот сам виноват.
Они выпили по рюмочке в первом попавшемся кафе, и, когда вышли, Джиния почувствовала в воздухе прохладу, которой прежде не ощущала, и подумала — как хорошо, что летом вино освежает. Амелия между тем говорила, что тот, кто ничего не делает весь день, имеет право хоть вечером отвести душу, но иной раз, как подумаешь о том, что время уходит, становится страшно и пропадает охота бегать, задрав хвост.
— С тобой этого не бывает?
— Я бегу только, когда тороплюсь на работу, — сказала Джиния. — Я так мало развлекаюсь, что у меня нет времени думать об этом.
— Ты молодая, — сказала Амелия, — а я, бывает, места себе не нахожу, даже когда работаю.
— Стояла же ты на месте, когда позировала, — сказала Джиния.
Амелия рассмеялась.
— Вот уж нет. Самые ловкие натурщицы — это те, которые сводят с ума художника. Если не двигаться время от времени, он забывает, что ты позируешь, и начинает обращаться с тобой, как со служанкой. Будь только овцой, а волки найдутся.
Джиния лишь улыбнулась в ответ, но ее так и подмывало кое о чем попросить Амелию, и удержаться от этого было труднее, чем устоять перед рюмочкой ликера. Тогда она предложила посидеть где-нибудь в холодке и выпить еще по рюмочке.
— Ну что же, — сказала Амелия. — Мы выпили у стойки только потому, что это дешевле.
После второй рюмки Джиния почувствовала, как по жилам у нее разливается тепло, и, когда они выходили, осмелела и сказала Амелии:
— У меня к тебе просьба. Мне бы очень хотелось посмотреть, как ты позируешь.
Они долго говорили об этом дорогой, и Амелия смеялась, потому что натурщица, будь она голая или одетая, может интересовать мужчин, но не другую девушку. Натурщица стоит себе или сидит — на что тут смотреть? Джиния сказала, что хочет поглядеть, как художник рисует ее: она никогда не видела, как пишут красками, а это, должно быть, интересно.
— Не сегодня-завтра, — говорила она, — сейчас у тебя нет работы. Но обещай мне, что, если ты опять начнешь ходить к какому-нибудь художнику, ты возьмешь с собой меня.
Амелия опять засмеялась и сказала, что это проще простого: она знает, где мастерские художников, и может свести ее туда.
— Но будь поосторожнее, они сволочи.
Теперь смеялась и Джиния.
Потом они посидели на скамейке. Никто не проходил: время было такое — ни то ни се, и слишком поздно, и слишком рано. Вечер они закончили в танцзале на холме.
Ill
С тех пор Амелия стала часто заходить за ней, и они отправлялись пройтись, поболтать. Войдя в комнату, Амелия громко разговаривала и не давала спать Северино. Когда после обеда Роза забегала за Джинией, они уже собирались уходить. Амелия докуривала сигарету — если у нее была сигарета — и давала советы Розе, которая успела рассказать ей про своего Пино. Понятное дело, Амелии неохота было сидеть в своей клетушке, а делать весь день было нечего, вот она и водила компанию с ними. Амелия шутила и с Розой, над которой они с Джинией потешались, когда оставались одни, — делала вид, что не верит ее россказням, и смеялась ей в лицо.
Джиния сблизилась с Амелией, когда убедилась, что, несмотря на всю свою бойкость, она была просто бедняга. Амелия ходила без чулок, но только потому, что у нее их не было; всегда носила то красивое платье, которое так понравилось Джинии, но у нее не было другого. Может, потому ей и было все нипочем: Джиния заметила, что и она сама чувствует себя вольнее, когда выходит без шляпки. Ей действовала на нервы Роза, которая сразу поняла, как обстоит дело. «Бывалая-то она бывалая, — говорила Роза, — да что толку, ведь когда она снимает платье, ей приходится ложиться в постель, потому что переодеться не во что». Несколько раз Джиния спрашивала у Амелии, почему она опять не наймется позировать, а та отвечала, что, для того чтобы найти работу, надо не быть безработной.
Хорошо бы весь день ничего не делать и ходить вдвоем гулять, когда спадает жара, но при этом быть такими элегантными, чтобы, пока они разглядывают витрины, люди разглядывали бы их самих. «А быть свободной, как я, не очень-то весело, — говорила Амелия. — Я от этого на стенку лезу». Джиния дорого дала бы, чтобы Амелия говорила с ней о вещах, которые ей нравятся, потому что настоящая близость и заключается в том, чтобы знать, чего желает другой, и, если обоим нравится одно и то же, чувство робости пропадает. Но когда под вечер они проходили через пассаж, Джиния вовсе не была уверена, что Амелия любуется тем же, чем она. Никогда нельзя поручиться, что ей понравится шляпка или материя, которая приглянулась Джинии, и Джиния опасалась, что она посмеется над ней, как смеялась над Розой. Хотя Амелии весь день не с кем было перемолвиться словом, она с Джинией никогда не говорила о том, чего ей хотелось бы, что ее интересует, а если и говорила, то не всерьез. «Ты никогда не обращала внимания, поджидая кого-нибудь, сколько попадается свинячьих рыл и куриных ног? — говорила Амелия. — С ума сойти!» Может быть, она шутила, а может, и правда проводила иногда с четверть часа, глазея на прохожих и про себя насмехаясь над ними, но, как бы то ни было, Джиния уже боялась, что сглупила, признавшись Амелии, что ей хотелось бы посмотреть, как пишут картины.
Теперь, когда они отправлялись на прогулку, Амелия сама решала, куда им пойти, а Джиния подчинялась ей, соглашаясь на все. Когда они снова пришли в танцзал, где были в первый вечер, Джинии, которая тогда очень веселилась, все здесь показалось незнакомым: и освещение и оркестр, и ей понравилось только, что балконные двери были открыты и оттуда тянуло свежестью, а все потому, что она не чувствовала себя достаточно хорошо одетой, чтобы выйти на площадку между столиками. Но тут Амелия заговорила с каким-то молодым человеком, который обращался к ней на «ты», а когда смолкла музыка, другой молодой человек помахал им рукой, и Амелия, обернувшись, спросила: «Это он с тобой здоровается?» Джиния была рада, что кто-то ее узнал, но тот молодой человек исчез, а неприятный парень, который танцевал с ней в прошлый раз, торопливо прошел мимо, не замечая ее. Джинии казалось, что в первый вечер они едва успевали присесть за столик, чтобы перевести дух, а теперь им пришлось долго ждать, сидя у окна, пока кто-нибудь пригласит их, и Амелия, которая села первой, громко сказала: «Что ж, и это развлечение». Конечно, и другие девушки в этом зале были одеты не лучше Амелии, и многие тоже были без чулок, но Джиния смотрела все больше на белые куртки официантов и думала о том, что у входа, должно быть, полно машин. Потом она поняла, что глупо надеяться встретить здесь художника Амелии.
Стояла такая теплынь, что по вечерам невозможно было усидеть дома, и Джинии казалось, что она раньше даже не понимала, что такое лето, до того было хорошо каждый день, когда стемнеет, прогуливаться по бульварам. Иногда ей мнилось, что это лето никогда не кончится, и вместе с тем думалось, что им надо пользоваться, не упуская ни минуты, потому что, когда наступит осень, должно что-то произойти. Поэтому она больше не бывала с Розой в старом танцзале и в ближайшем кино, а подчас выходила одна и бежала в какое-нибудь кино в центре: чем она хуже Амелии?
Однажды вечером Амелия зашла за ней и, когда они спускались по лестнице, сказала:
— Вчера я нашла работу.
Джиния не удивилась. Она давно этого ожидала. Она спокойно спросила, скоро ли Амелия начнет.
— Я уже начала сегодня утром, — ответила та. — Два часа пробыла.
— То-то ты такая веселая, — сказала Джиния.
Потом спросила, какую картину пишет с нее художник.
— Никакую. Он просто делает зарисовки. Рисует мое лицо. Я говорю, а он набрасывает профиль. Эта работа много времени не требует.
— Значит, ты не позируешь? — сказала Джиния.
— Ты что думаешь, — бросила Амелия, — позировать — это обязательно раздеться и стоять голой?
— Ты завтра опять к нему пойдешь? — спросила Джиния.
Амелия пошла и назавтра и еще много дней подряд ходила туда. По вечерам она со смехом рассказывала про этого художника, который не мог ни минуты постоять на месте и все спрашивал Амелию, рисовал ли ее кто-нибудь вот так, расхаживая по мастерской, как он.
— Сегодня утром он нарисовал с меня ню. Он из тех хитрецов, которые приглядываются да примеряются понемножку, но сделают наброска четыре, и ты вся тут, и больше в тебе не нуждаются.
Джиния спросила, какой он из себя, и Амелия сказала: ничего особенного, маленький такой человечек.
— Как ты с ним познакомилась?
— Случайно. Заходи за мной завтра, — сказала Амелия, и они договорились пойти к нему вместе после обеда.
Назавтра, в субботу, был чудесный солнечный день. Амелия всю дорогу смешила Джинию.
По винтовой лестнице они поднялись в мастерскую. Это была большая комната, в которой царил полумрак, только в глубине ее в щелку между занавесями пробивался свет. Джиния с бьющимся сердцем остановилась на последнем марше лестницы. Амелия громко крикнула «добрый день» и в полутьме прошла до середины комнаты. Тут из-за занавесей вышел мужчина — полный, с седой бородой — и сказал, разведя руками:
— Сегодня я ухожу, девушки. Ничего не поделаешь.
На нем была широкая светлая блуза, которая оказалась грязно-желтой, когда он, обернувшись, немного отодвинул занавес, чтоб стало светлее.
— Сегодня, девушки, работать не стоит. Сегодня надо подышать воздухом.
Джиния все стояла на лестнице, откуда ей были видны ноги Амелии, четко вырисовывавшиеся против света, и тихо тянула себе под нос: «Ну пойдем, Амелия».
— Это и есть твоя подружка, которая хочет со мной познакомиться? Да ведь она совсем еще девочка. Подойди-ка сюда, — обратился он к Джинии, — дай я на тебя взгляну на свету.
Джиния Скрепя сердце переступила порог, чувствуя на себе любопытный взгляд серых глаз с каким-то хитрым, а может просто стариковским прищуром. Послышался резкий, раздраженный голос Амелии:
— Но мы же с вами условились!
— Что поделаешь? — сказал художник. — Что поделаешь? Да и вы тоже, должно быть, устали. Работать надо спокойно. Разве ты не бываешь рада, когда я даю тебе передохнуть?
Тут Амелия села на стул в тени занавесей, а Джинии показалось, что она стоит здесь уже целую вечность, не зная, как себя держать под перекрестным огнем взглядов художника и Амелии. Ей казалось, что художник шутит, но не с ними, а сам с собой; время от времени он бросал несколько слов пристававшей к нему Амелии и все повторял: «Что поделаешь?» Вдруг он, как мячик, отскочил назад и шире раздвинул занавеси. В пустом помещении пахло свежей побелкой и масляной краской.
— Мы обливаемся потом, — сказала Амелия, — дайте нам по крайней мере остыть. Верно, Джиния?
Между тем Бородач, повернувшись к ним спиной, открывал большие окна, выходившие в небо. Амелия сидела, заложив ногу на ногу, смотрела на художника и смеялась. Перед окном стоял мольберт с холстом, испещренным пятнами красок и следами соскобленных мазков.
— Когда же и работать, как не сейчас, пока еще светло? — сказала Амелия. — Держу пари, вы собираетесь изменить мне с другой натурщицей.
— Я со всеми тебе изменяю! — крикнул художник, который, низко наклонившись, рылся в ящике под мольбертом и выбрасывал оттуда листы, коробки, кисти. — Думаешь, ты лучше дерева или лошади? Я работаю, даже когда гуляю, ты что думаешь?
Амелия вскочила со стула, сняла шляпку и подмигнула Джинии.
— Почему бы вам не сделать набросок с моей подруги? — сказала она со смехом. — Она еще никогда никому не позировала.
Художник обернулся.
— Этим я и собираюсь заняться, — сказал он. — Меня заинтересовало выражение ее лица.
Он начал с карандашом в руке описывать большие круги вокруг Джинии, склонив голову набок, поглаживая бороду и щурясь, как кот. Джиния стояла посреди комнаты и не осмеливалась пошевелиться. Потом он велел ей стать ближе к свету и, не спуская с нее глаз, положил на мольберт лист бумаги и начал рисовать. В небе вырисовывались крыши домов и желтое облако. Джиния с бьющимся сердцем уставилась на это облако и, хотя слышала, как Амелия что-то говорила, ходила по комнате, сморкалась, ни разу даже не взглянула на нее.
Когда Амелия позвала ее посмотреть на рисунок, Джинии пришлось прикрыть глаза, чтобы свыкнуться с полутьмой. Потом она медленно наклонилась над листом и узнала свою шляпку, но лицо показалось ей чужим — бесчувственным, как у спящей, а рот открыт, словно девушка на рисунке говорила во сне.
— Вот задача, — говорил Бородач, — тебя в самом деле никто никогда не рисовал?
Он заставил ее снять шляпку и сказал, чтобы она села и о чем-нибудь разговаривала с Амелией. И вот они сидели и смотрели друг на дружку, сдерживая разбиравший их смех, а художник заполнял набросками один лист за другим. Амелия держалась свободно и говорила Джинии, боявшейся пошевелиться, чтобы она не думала о своей позе.
— Вот задача, — опять сказал Бородач, искоса глядя на Джинию, — можно подумать, что девственный профиль расплывчат.
Джиния спросила у Амелии, будет ли она позировать, и та громко сказала:
— Сегодня он заинтересовался тобой и теперь уж от тебя не отступится.
Они поговорили о том о сем, а потом Джиния спросила у Амелии, нельзя ли взглянуть на ее портреты, нарисованные в предыдущие дни.
Амелия встала, направилась в глубину комнаты, принесла оттуда папку, положила ее на колени Джинии и, раскрыв, сказала:
— Вот, смотри.
Джиния перевернула несколько листов, и на четвертом или пятом ее даже пот прошиб. Она не осмеливалась заговорить, чувствуя на себе взгляд серых глаз художника. Амелия тоже выжидательно смотрела на нее. Наконец она спросила:
— Ну что, нравится?
Джиния подняла голову, стараясь улыбнуться.
— Я тебя не узнаю, — сказала она.
Потом один за другим просмотрела все листы и мало-помалу успокоилась. Ведь, в конце концов, Амелия стояла перед ней одетая и смеялась.
Джиния сказала как дура:
— Это все он нарисовал?
Амелия, не поняв ее, громко ответила:
— Да уж, конечно, не я.
Когда Бородач кончил, Джинии захотелось опять закрыть глаза и подождать, как будто они еще не привыкли к освещению. Но Амелия подозвала ее, и, подойдя, Джиния в изумлении застыла перед большим листом. На нем было разбросано множество ее головок, одна какая-то кривая, иные с гримаской, которой она вовсе не делала, но волосы, щеки, ноздри были ее. Она посмотрела на смеющегося Бородача, и ей показалось, что теперь у него совсем другие глаза.
Потом Амелия начала выпрашивать деньги, повторяя, что час есть час и что они с Джинией работают не для развлечения, а для того, чтобы заработать на жизнь. Джиния, которая готова была ее исколотить, возразила, что пришла с ней случайно и вовсе не хочет отбивать у нее кусок хлеба. Бородач посмеялся сквозь зубы и сказал, что ему пора уходить.
— Пойдемте, я куплю вам мороженого и побегу.
IV
На следующее утро они снова пошли к нему вдвоем — на этот раз позировать должна была Амелия.
— Смотри не займи опять мое место, — сказала она Джинии. — Этот тип понял, что от тебя можно отделаться мороженым, и ему на руку, что ты, как он сам сказал, девственная.
Сегодня Джиния была уже не так довольна, как накануне, тем, что ее рисовали, и, едва проснувшись, подумала о своих портретах, оставшихся среди ню, нарисованных с Амелии, и о вчерашнем ужасном сердцебиении. Она таила слабую надежду выпросить у художника в подарок свои головки даже не для того, чтобы иметь их, а просто чтобы они не оставались там, в этой папке, в которую мог из любопытства заглянуть кто угодно. У нее не укладывалось в голове, что не кто иной, как Бородач, этот старый гриб, рисовал, стирал, затушевывал ноги, спину, живот, соски Амелии. Она не осмеливалась смотреть ей в лицо. Подумать только — серые глаза художника и его карандаш нацеливались на нее, примерялись к ней, обшаривали ее беззастенчивее, чем зеркало, а она спокойно выдерживала это и, может быть, даже вертелась и болтала.
— Я вам не помешаю сегодня? — спросила Джиния, когда они входили в подъезд.
— Послушай, — сказала Амелия, — ты хотела или нет посмотреть, как я позирую? Так о чем говорить? Связывайся после этого с маменькиными дочками.
В мастерской занавеси были раздвинуты и окна распахнуты, а пока они ждали Бородача, с лестницы вошла старуха служанка, чтобы присмотреть за ними. Джиния все гадала, куда Амелия станет или сядет, чтобы позировать, а Амелия уже спорила со старухой и заставила ее все-таки закрыть окна, потому что от утреннего воздуха в комнате было свежо. Старуха только что-то бурчала, и была она такая ветхая и замшелая, что Амелия смеялась ей в лицо.
Наконец вошел Бородач, на ходу натягивая блузу, и начал командовать, и мольберт перенесли в глубину мастерской где был диван-кровать, а все занавеси, кроме одной, задернули, чтобы свет падал только в этот угол. Джиния среди всей этой суматохи чувствовала себя лишней, и ей казалось, что даже старуха косо смотрит на нее.
Когда наконец старуха ушла, Амелия стала раздеваться возле дивана, а Джиния принялась следить за толстой рукой Бородача, который, стоя за мольбертом, угольным карандашом зачернял фон на белесоватой бумаге. Бородач, не глядя на Джинию сказал, чтобы она села, а потом что-то сказала Амелия. Джиния уставилась в окно на крыши, как будто она опять позировала, и подумала, что ведет себя глупо. Она сделала над собой усилие и обернулась.
Ее первой мыслью было, что Амелии, должно быть, холодно и что Бородач почти не смотрит на нее и что настоящее неудобство только в ней, Джинии, которая пришла сюда из любопытства. Смуглая Амелия казалась грязной, и на нее была жалко смотреть. Она сидела на диване, положив руки на спинку стула и спрятав в них лицо; хорошо было видно ее ногу от бедра до пятки, и весь бок, и подмышку.
Скоро Джинии стало скучно. Она смотрела, как Бородач стирает и переделывает нарисованное, видела, как он сосредоточенно морщит лоб, обменялась улыбкой с Амелией, но ей было скучно. Только когда Амелия встала, потягиваясь, и подобрала трусики, упавшие с дивана, у Джинии опять заколотилось сердце, но это было глупое волнение, которое она испытала бы, даже если бы они были одни, и которое было вызвано мыслью о том, что все мы одинаковые и что тот, кто видел голой Амелию, как бы видел и ее. Она начала ерзать на стуле.
Не поднимая головы, Амелия сказала ей:
— Чао, Джиния.
Этого было достаточно, чтобы обрадовать и успокоить ее. За минуту до того она заметила, что у Амелии красные полосы на лодыжках, и подумала, оказались ли бы и у нее, если бы ей пришлось раздеться, такие же следы от туфель. «У меня кожа лучше, моложе», — сказала она про себя. Потом спросила:
— Он тебя никогда не писал красками?
Ей ответил Бородач:
— Краски не штудируют. Они сами вливаются в окно вместе с солнцем. Здесь нет красок.
— Оно и понятно, — сказала Амелия, — вы слишком скупы. Краски дорого стоят.
— Замолчи, пожалуйста, — крикнул художник, — что ты в этом понимаешь! Ты даже не знаешь, что такое колорит — кроме вот этого дела ты вообще ничего не знаешь. Эта беленькая поумнее тебя.
Амелия только пожала плечами.
Потом откуда-то из-за крыш донесся гудок. Джиния начала прохаживаться по комнате и у окна нашла свои портреты, но не решилась попросить их. Перелистывая наброски, она опять увидела зарисовки с Амелии и стала потихоньку сравнивать их, спрашивая себя, неужели это Амелия принимала такие позы, точно на гимнастике. Возможно ли, что такой старик, как Бородач, еще развлекался тем, что рисовал девушек и изучал, как они сложены? Он, видно, чокнутый, думала она.
Они вышли из мастерской после полудня, и было приятно снова оказаться среди людей и идти по улице одетыми и любоваться яркими красками, которые, хоть и непонятно как, действительно исходили от солнца, раз ночью их не было. У Амелии тоже успокоились нервы, и она угостила Джинию аперитивом, а о художниках больше не было разговору.
Джиния долго раздумывала обо всем этом в тот день, лежа на своей тахте, да и в последующие дни тоже. В темноте она мысленно видела перед собой смуглый живот Амелии и ее равнодушное лицо и свисающие груди. Разве не интереснее рисовать одетую женщину? Если художники хотят, чтобы им позировали голыми, значит, у них другое на уме. Почему они не рисуют мужчин? Даже Амелия, когда так срамилась, становилась совсем другой, Джиния готова была расплакаться.
Но Амелии она ничего не говорила и только радовалась тому, что теперь та зарабатывает и охотнее ходит с ней в кино. Потом Амелия купила себе чулки и сделала прическу, и для Джинии опять стало большим удовольствием гулять с ней, потому что Амелия производила впечатление и многие оборачивались на них. Так прошло лето, и однажды вечером Амелия сказала:
— Твой Бородач уезжает в деревню на этюды и на виноград. Ну и хорошо, а то он начал мне действовать на нервы.
Как раз в этот вечер Амелия явилась с новой сумочкой, и Джиния спросила:
— Это он подарил тебе на прощание?
— Кто, этот жмот? — сказала Амелия. — Не смеши меня. Он норовил ничего не заплатить, вот и хотел, чтобы опять пришла ты.
Тут они поругались, потому что Амелия скрыла от нее это, и такого наговорили друг другу, что разошлись обиженные.
«Она нашла любовника, который делает ей подарки», — подумала Джиния, возвращаясь домой одна, и решила, что помирится с Амелией, только если та сама попросит ее.
Без особого желания, просто чтобы не скучать, Джиния попыталась восстановить отношения со старыми подругами. В конце концов, будущим летом ей исполнялось семнадцать лет, и ей уже казалось, что она такая же опытная, как Амелия. Особенно теперь, когда она не виделась с ней. В эти уже свежие вечера она пыталась перед Розой разыгрывать из себя Амелию. Смеялась ей в лицо и водила ее гулять, болтая о всякой всячине. Снова заговорила с ней о Пино. Но повести ее танцевать на холм она не решалась.
У Амелии наверняка кто-то был, и никто из старой компании ее больше не видел. «Пока у женщины есть что надеть, она производит хорошее впечатление, — думала Джиния. — Надо только, чтобы тебя не увидели голой». Но о таких вещах нельзя было говорить ни с Розой или Кларой, ни с их братьями, которые сразу подумали бы худое и полезли бы к ней, а Джиния этого не хотела, потому что уже поняла, что на свете есть мужчины получше Феруччо или Пино. В те вечера, которые она проводила с ними, они танцевали и шутили — и разговаривали тоже, — но Джиния знала, что все это так, пустяки, вроде того безобидного ребяческого веселья, какое бывало по воскресеньям, когда они катались на лодке, пьянея от солнца и песен, и когда достаточно было кому-нибудь из парней обернуть бедра полотенцем, изображая из себя женщину, чтобы все покатились со смеху. Но теперь в воскресенье и по вечерам Джиния скучала, потому что без Амелии она не знала, чем себя занять, и шла, куда ее вели. И только в ателье она подчас забавлялась, когда хозяйка звала ее подкалывать платье на заказчице. Просто умора, какие истории рассказывала иной раз какая-нибудь ненормальная клиентка, но еще забавнее было, когда хозяйка притворялась, что верит ей, и поддакивала самым серьезным топом, а в зеркалах отражалась ее насмешливая улыбка. Как-то раз заявилась одна блондинка, которую, по ее словам, ждала у подъезда собственная машина, но если бы это было так, думала Джиния, она поехала бы в ателье пошикарнее. Заказчица была молодая и высокая. И бесстыдная. Но красивая, как показалось Джинии, красивая и стройная, на нее было приятно смотреть, даже когда она оставалась в одних штанишках и бюстгальтере. Если бы эта позировала, то уж действительно вышла бы красивая картина, а может быть, она и вправду была натурщицей, потому что, прохаживаясь перед зеркалами, держалась так же, как Амелия. Через несколько дней Джинии попался на глаза ее счет, но там стояла только фамилия, и больше она ничего о ней не узнала. Для нее блондинка так и осталась натурщицей.
Как-то вечером товарищ Северино, который принес им лампу, пригласил Джинию к себе в магазин, и на следующий день она зашла к нему. Этот Массимо был холостой парень, как и Северино, и Джиния не стеснялась его потому, что он всегда носил комбинезон, и потому, что какой-нибудь год назад он еще брал ее за уши и спрашивал, не показать ли ей Рим. Но теперь он облизывался, поглядывая на нее. Джиния зашла к нему потому, что из этого магазина был виден подъезд дома, где жила Амелия, но Массимо, конечно, не мог догадаться, почему она задержалась у него, болтая и смеясь, и почему на следующий день пришла опять.
Они рассматривали красные и голубые лампы, и Джиния болтала и дурачилась. Сквозь витрину было видно проходящих мимо людей, и она спросила Массимо, правда ли, что Амелия ходит в белом платье.
— Откуда я знаю? — сказал он. — Вас, девушек, много. Спроси у Северино.
— Почему же у Северино?
— Северино нравятся такие кобылы, — сказал Массимо. — Это ведь та, которая ходит без чулок?
— Он сам тебе это сказал? — спросила Джиния.
— Ты его сестра и не знаешь? — со смехом сказал Массимо. — Спроси у Амелии. Ведь раньше она чуть не каждый день бывала у тебя, разве не так?
Это ни разу не приходило Джинии в голову. Мысль о том, что Северино понравилась Амелия, что он ей это сказал, а она ответила, что и он ей нравится, и что, может быть, они видятся, испортила ей настроение на весь день. Если все это было верно, то дружба Амелии оказывалась одним притворством. «Я просто ребенок», — думала Джиния, чуть не плача от злости, и, чтобы утешить себя, вспоминала, какое отталкивающее впечатление произвела на нее голая Амелия. «Но верно ли это?» — думала она. Джиния не могла себе представить, чтобы Северино влюбился в какую-нибудь девушку, и к тому же была уверена, что, если бы он увидел Амелию, когда она позировала, бедняжка разонравилась бы ему.
К вечеру она несколько успокоилась и уже была убеждена, что Массимо сказал это просто так. Ужиная с Северино, она смотрела на его руки и обломанные ногти и думала, что Амелия привыкла совсем к другому. Потом она осталась одна и, сумерничая, вспоминала о чудесных августовских вечерах, когда за ней заходила Амелия, как вдруг услышала за дверью ее голос.
V
— Я к тебе, — сказала Амелия.
Джиния промолчала.
— Ты все злишься, — сказала Амелия. — Брось. А твой брат дома?
— Только что ушел.
На Амелии было все то же платье, но у нее была красивая прическа и коралловая нитка в волосах. Она села на тахту и сразу спросила Джинию, не хочет ли та пройтись. Голос у нее был прежний, но тише и чуточку хриплый, словно простуженный.
— Кто тебе нужен, я или Северино? — сказала Джиния.
— Вот человек. Брось ты. Пойдем со мной, я хочу только немножко рассеяться.
Тогда Джиния надела другие чулки, и они сбежали по лестнице, и Джиния рассказала Амелии обо всем, что произошло за месяц.
— А ты что делала? — спрашивала она.
— Что же мне было делать? — говорила Амелия, опять начиная смеяться. — Ничего я не делала. Сегодня я сказала себе: пойду-ка узнаю, думает ли еще Джиния о Бородаче.
Ничего больше от нее нельзя было добиться, но Джиния была рада видеть ее.
— Пойдем выпьем по рюмочке? — сказала она.
Когда они пили, Амелия спросила, почему она ни разу не пришла к ней.
— Я не знала, где ты.
— Вот так так. Я весь день торчу в кафе.
— Ты мне этого никогда не говорила.
На следующий день Джиния пошла к ней в кафе. Это было новое кафе, помещавшееся в пассаже, и Джиния осмотрелась вокруг, ища Амелию. Та сама окликнула ее — громко, как будто была у себя дома, — и Джиния увидела Амелию в красивом сером пальто и шляпке с вуалеткой, которая делала ее почти неузнаваемой. Она сидела, заложив ногу на ногу и подперев кулаком подбородок, словно позировала.
— Смотри-ка, в самом деле пришла, — сказала она смеясь.
— Ты никого не ждешь? — спросила Джиния.
— Я всегда жду, — сказала Амелия, подвигаясь, чтобы дать место Джинии. — Это моя работа. Чтобы получить возможность раздеться перед художником, надо встать в очередь.
На столике перед Амелией лежала газета и пачка сигарет. Значит, она что-то зарабатывала.
— У тебя красивая шляпка, но она тебя старит, — сказала Джиния, заглядывая ей в глаза.
— Я и так старая, — сказала Амелия. — Тебе это не нравится?
Амелия сидела, прислонившись к зеркалу, в небрежной позе, точно развалилась на тахте. Она смотрела прямо перед собой, в зеркало на противоположной стене, в котором Джиния видела и себя. Только она была пониже, и они с Амелией выглядели как мать и дочь.
— Ты всегда здесь сидишь? — спросила Джиния. — Сюда приходят художники?
— Приходят, когда им хочется. Сегодня их что-то по видно.
Горела люстра, и через витрину был виден поток прохожих.
В кафе было накурено, но все блестело и дышало таким спокойствием, что казалось, будто шумы и голоса доносятся откуда-то издалека. Джиния заметила в углу двух девушек, которые шушукались между собой и разговаривали с официантом.
— Это натурщицы? — спросила она.
— Я их не знаю, — сказала Амелия. — Что ты будешь пить, кофе или аперитив?
Джиния всегда думала, что в кафе ходят, чтобы встретиться с мужчиной, и у нее не укладывалось в голове, что Амелия проводит здесь целые часы одна, но было так хорошо, выйдя из ателье, пройти по пассажу и знать, куда ты идешь, что на следующий день она опять пришла туда. Если бы только она была уверена, что Амелия рада ее видеть, она и в самом деле получила бы удовольствие. На этот раз Амелия, увидев ее через стекло, сделала ей знак подождать и вышла. Они вместе сели в трамвай.
В этот вечер Амелия была неразговорчива.
— Бывают же хамы, — обронила она.
— Ты кого-нибудь ждала? — спросила Джиния.
Они немножко поболтали и, прежде чем расстаться, условились встретиться завтра, так что Джиния смогла убедиться, что Амелия охотно видится с ней, а если она не в духе, то вовсе не из-за нее, а по каким-то другим причинам — должно быть, у нее что-то не ладилось.
— Как это бывает? Приходит художник и предлагает тебе позировать? — спросила она смеясь.
— Есть и такие, которые ничего не предлагают, — объяснила Амелия. — Им не нужны натурщицы.
— А что же они рисуют? — сказала Джиния.
— Кто его знает. Тут есть один, который говорит, что он рисует, вроде как мы красим губы. «Ты что рисуешь, когда красишь губы? Вот то же самое рисую и я».
— Но ведь помадой не рисуют, а просто мажут губы.
— А он мажет холст. Пока, Джиния.
Когда Амелия так шутила, не смеясь, Джинии делалось страшно, у нее портилось настроение и, возвращаясь домой, она чувствовала себя одинокой. К счастью, дома ей не приходилось сидеть сложа руки, нужно было что-то приготовить на ужин Северино, а после ужина уже темнело и наступало время выйти прогуляться одной или с Розой. Иногда она думала: «Ну и жизнь у меня. Верчусь как белка в колесе». Но эта жизнь ей нравилась, потому что только при таком верчении и приятно выкроить спокойный часок и отдохнуть в обед или вечером, когда она заходила в кафе к Амелии. Если бы не Амелия, она была бы посвободнее, но для чего ей это было теперь, когда погода портилась и не хотелось даже выходить на улицу? Если что-то должно было произойти в эту зиму — а Джиния чувствовала, что должно, — то, конечно, благодаря Амелии, а не таким дурехам, как Роза или Клара.
В кафе у нее начали завязываться знакомства. Там бывал один господин, который напоминал Бородача, и, когда они уходили, он на прощание помахивал Амелии рукой. Он обращался к ним на «вы», и Амелия сказала Джинии, что он не художник. Иногда к стойке подходил молодой человек, приезжавший на машине с элегантной дамой; Амелия его не знала, но говорила, что и он не художник.
— Ты что думаешь, их не так уж много, — сказала она Джинии. — Кто действительно работает, тот не ходит по кафе.
В конечном счете Амелия знала больше официантов, чем завсегдатаев кафе, но и с ее знакомыми Джиния, хоть и смеялась их шуткам, избегала излишней фамильярности.
Одного из них, волосатого молодого человека в белом галстуке, с черными как уголь глазами, который часто подсаживался к Амелии и в первый раз поздоровался с Джинией, даже не поглядев на нее, звали Родригес. Он и в самом деле был не похож на итальянца и говорил так, как будто у него першило в горле, а Амелия обращалась с ним как с мальчишкой, не стесняясь говорить ему, что, если бы он каждый день откладывал лиру-другую, вместо того чтобы тратить их в кафе, недели через две у него было бы, чем заплатить натурщице. Джинию забавляли эти нотации, но Родригес не смущался и продолжал, покашливая, называть Амелию красивой женщиной и капризной девочкой. Она смеялась, а когда он ей надоедал, прогоняла его. Тогда Родригес пересаживался за другой столик, вытаскивал карандаш и начинал рисовать, искоса поглядывая на них.
— Не обращай на него внимания, — говорила Амелия. — Много чести.
Мало-помалу и Джиния привыкла держать себя так, как будто не замечает его.
Однажды вечером они вышли из кафе и пошли куда глаза глядят, без всякой цели. Они немного погуляли, но потом пошел дождь, и они укрылись в подворотне. Было холодно, особенно теперь, когда они стояли на месте в мокрых чулках. Амелия сказала:
— Хочешь, зайдем к Гвидо, если он дома?
— Кто этот Гвидо?
Амелия высунула нос из подворотни и, задрав голову, посмотрела на окна противоположного дома.
— У него горит свет. Зайдем, переждем дождь.
Они взобрались на седьмой этаж, а может, и выше, под самый чердак. Амелия остановилась, тяжело дыша, и сказала:
— Ты боишься?
— Чего мне бояться? — сказала Джиния. — Ведь ты его знаешь?
Стуча в дверь, они услышали, как в комнате смеются, и этот тихий неприятный смех напомнил Джинии Родригеса. Послышались шаги, дверь открылась, но никто не вышел им навстречу.
— Разрешите, — сказала Амелия, входя.
В комнате действительно был Родригес — он лежал на тахте, привалившись к стене, освещенный резким светом. Но был там и другой — светловолосый солдат без куртки, в запачканных грязью ботинках и военных брюках, который стоял и, смеясь, смотрел на них. Джиния заморгала — глазам было больно от этого света, похожего на ацетиленовый. Три стены комнаты были увешаны картинами, всю четвертую занимало окно.
Амелия полушутя сказала Родригесу:
— Да вы прямо вездесущий.
Он приветственно помахал ей рукой и сказал:
— Вторую зовут Джиния, Гвидо.
Тогда солдат протянул руку и ей, бесцеремонно разглядывая ее и улыбаясь.
Джиния поняла, что надо держаться непринужденно, и стала поверх голов Амелии и Гвидо рассматривать картины на стенах. Это были все больше пейзажи с деревьями и горами, а кое-где попадались и портреты. Но лампочка без абажура, подвешенная к потолку, как в недостроенных домах, не столько светила, сколько слепила глаза. Джиния успела заметить, что тут не было столько занавесей, как у Бородача, а была только одна красная портьера в глубине комнаты, и догадалась, что там другая комната.
Гвидо спросил, не хотят ли они выпить. На большом столе посреди комнаты стояли бутылка и стаканы.
— Мы пришли погреться, — сказала Амелия. — Мы промочили ноги и продрогли до костей.
Гвидо налил всем вина — вино было красное, — и Амелия передала стакан Родригесу, который поднялся и сел. Когда они выпили, Амелия сказала ему:
— Пусть Гвидо извинит меня, но теперь вам придется встать и уступить мне место, я хочу согреть ноги. Спальные места — для женщин. Иди и ты сюда, Джиния.
Но Джиния отказалась, сказав, что уже согрелась от вина, и села на стул. Тогда Амелия скинула туфли, сняла кофту и забралась под одеяло. Родригес остался сидеть возле нее на краешке тахты.
— Вы можете разговаривать. Мне мешает только свет, — сказала Амелия и, протянув руку к выключателю, повернула его. — Теперь все в порядке. Дайте мне сигарету.
К ужасу Джинии, комната погрузилась в темноту. Но она заметила, что Гвидо подошел к тахте, услышала, как чиркнула спичка, и увидела два лица, освещенные язычком пламени, и тени, плясавшие на стене. Потом опять стало темно, и с минуту никто не подавал голоса. Слышно было только, как в окна барабанит дождь.
Кто-то произнес несколько слов, но Джиния еще не пришла в себя и не вникла в их смысл. Она заметила, что Гвидо тоже курит, спокойно прохаживаясь в темноте. Она видела огонек сигареты и слышала его шаги. Потом она поняла, что Амелия и Родригес опять повздорили. Мало-помалу она привыкла к темноте, начала различать фигуры остальных, стол и даже кое-какие картины на стене и только тогда немного успокоилась. Амелия разговаривала с Гвидо — вспоминала, как однажды, больная, она спала на этой самой тахте.
— Но тогда у тебя не было компаньона. На что он тебе? Может, ты его раздеваешь и заставляешь позировать?
Все было так странно, что Джиния сказала:
— У меня такое чувство, будто я в кино.
— Но здесь не надо платить за билет, — сказал Родригес из своего угла.
Гвидо все ходил взад и вперед и, казалось, заполнял собою всю комнату; пол дрожал под его тяжелыми ботинками. Все говорили разом, но в какой-то момент Джиния заметила, что Амелия молчит — лишь виден был огонек ее сигареты — и что молчит и Родригес. В комнате раздавался только голос Гвидо, который что-то объяснял — что именно, Джиния не понимала, потому что ее внимание было приковано к тахте. Сквозь стекла падал ночной свет, словно электрическое отражение дождя, и слышно было, как с крыш и из водосточных труб каплет, бежит, струится вода. Каждый раз, когда по случайности дождь и голос Гвидо умолкали одновременно, казалось, будто стало еще холоднее. Тогда Джиния напрягала зрение, чтобы различить в темноте огонек сигареты Амелии.
VI
На улице, у подъезда, они расстались. Дождь перестал. Джиния все еще видела перед собой грязную комнату с протекавшим потолком, освещенную лампочкой без абажура, точно уличным фонарем. Несколько раз Гвидо зажигал ее, чтобы налить вина или что-нибудь найти, и тогда Амелия, в ногах у которой, притулившись к стене, сидел Родригес, прикрывала рукой глаза и кричала с тахты, чтобы погасили свет.
— У них что, некому подмести комнату? — спросила Джиния Амелию, когда они вдвоем возвращались домой.
Амелия сказала, что Гвидо напрасно доверяет Родригесу и оставляет ему ключи от мастерской.
— Эти картины нарисовал Гвидо?
— Как бы этот португалец не продал их. На месте Гвидо я бы побоялась пустить его к себе, не стала бы снимать комнату с ним на паях.
— Ты позировала Гвидо?
Амелия по дороге рассказала Джинии, как она познакомилась с Родригесом, когда была моложе и позировала такому-то. Родригес, как и теперь, появлялся откуда ни возьмись и располагался в студии, как в кафе; часами просиживал в углу, смотрел то на нее, то на художника и никогда ничего не говорил. Уже тогда он носил белый галстук. Точно так же он вел себя и с другой натурщицей, которую она знала.
— А сам-то он разве не рисует?
— Неужели, по-твоему, найдется такая горемыка, которая согласится позировать перед ним голой?
Джинии хотелось еще раз взглянуть на картины Гвидо — она знала, что краски хорошо видны только при дневном свете. Будь она уверена, что не застанет в студии Родригеса, она, пожалуй, набралась бы смелости и пошла бы туда одна. Она представляла себе, как она поднимается по лестнице, стучит, и ей открывает этот Гвидо в солдатских брюках, и она смеется ему в лицо, чтобы разбить лед. Этот художник ей нравился тем, что не походил на художника. Джиния вспоминала ободряющую улыбку, с которой он пожал ей руку, и потом его голос, звучавший в темноте, и его лицо, когда он зажигал свет и смотрел на нее с таким видом, как будто они двое были обособлены от Родригеса и Амелии. Но теперь Гвидо не было в студии, и пришлось бы иметь дело с Родригесом.
На следующий день в кафе она спросила у Амелии, свободен ли Гвидо от службы по крайней мере по воскресеньям.
— Как-нибудь спрошу у него, — сказала Амелия. — Но я уже давно его не вижу.
— Родригес мне сказал, чтобы я приходила в студию, когда захочу.
— Смотри-ка, — проронила Амелия.
Но несколько дней Родригес не показывался в кафе.
— Держу пари, что теперь, когда у него есть угол, он ждет, чтобы мы пришли к нему, хочет разыграть из себя хозяина и пофигурять перед нами. Это в его характере.
— Тогда он просчитался, — ответила Джиния.
Пораздумав, она решила, что лечь под одеяло и погасить свет при посторонних не было со стороны Амелии таким уж нахальством — ведь Гвидо и Родригес не придали этому значения. Но ее мучила мысль о том, чем могла заниматься Амелия на этой тахте в прежние времена, когда комната принадлежала одному Гвидо.
— Сколько лет Гвидо? — спросила она у нее.
— Вроде бы столько же, сколько мне.
Но Родригес все не появлялся, а однажды утром, когда Джинию послали с поручениями, она оказалась на той улице, где они с Амелией укрывались от дождя. Она посмотрела вверх и узнала фронтон того самого дома, где находилась студия. Недолго думая, она поднялась по лестнице, которая показалась ей нескончаемой, но, войдя в коридор последнего этажа, увидела несколько дверей и не знала, в какую постучать. Она поняла, что Гвидо не знаменит, потому что у него даже не было таблички на двери, и, спускаясь, растрогалась при мысли о лампочке без абажура, которая для художника, должно быть, была хуже смерти. Когда потом они увиделись с Амелией, она не сказала ей о своем неудавшемся визите.
Однажды, разговаривая с Амелией, Джиния спросила, почему люди занимаются живописью.
— Потому что есть люди, которые покупают картины, — ответила Амелия.
— Но ведь не всякие картины, — сказала Джиния. — А как же те художники, у которых никто ничего не покупает?
— У них это просто блажь, — сказала Амелия, — но они голодают.
— А я думаю, они пишут картины, потому что это доставляет им удовольствие, — сказала Джиния.
— Оставь, пожалуйста. Стала бы ты шить себе платье, которое не собиралась бы носить? Хитрее всех Родригес: он называет себя художником, но никто никогда не видел его с кистью в руке.
Как раз в этот день они застали в кафе Родригеса, который что-то сосредоточенно рисовал в блокноте.
— Что это вы делаете? — спросила Амелия и взяла у него блокнот. Джиния тоже с любопытством посмотрела на рисунок, но они увидели только путаницу линий, напоминающую бронхи человека.
— Что это такое? Латук? — сказала Амелия.
Родригес не ответил ни да, ни нет, и тогда они стали перелистывать блокнот, в котором было много рисунков: некоторые походили на скелеты растений, иногда попадались лица, но без глаз, с черными пятнами штриховки, были и такие, что не поймешь, портреты это или пейзажи.
— Это предметы, увиденные ночью, при газовом освещении, — сказала Амелия.
Родригес смеялся, но у Джинии он вызывал скорее жалость, чем раздражение.
— Не нахожу здесь ничего красивого, — сказала Амелия. — Если бы вы меня так изобразили, я бы перестала с вами здороваться.
Родригес смотрел на нее, ничего не отвечая.
— Вам красивая натурщица ни к чему, не в коня корм, — сказала Амелия. — Где вы отыскиваете своих натурщиц? Откуда вы их выкапываете?
— Я не пользуюсь натурщицами, — сказал Родригес. — Я уважаю бумагу.
Тут Джиния сказала, что хочет еще раз взглянуть на картины Гвидо. Родригес положил в карман блокнот и ответил:
— Я к вашим услугам.
Дело кончилось тем, что Амелия с Джинией договорились прийти в студию в ближайшее воскресенье, и Джиния даже не дослушала мессу, чтобы успеть к условленному часу. Они должны были встретиться у подъезда, но Амелии там не было, и Джиния поднялась наверх. В коридоре, куда выходили четыре двери, она опять остановилась в замешательстве, не зная, в какую постучать, и, с минуту помешкав, стала спускаться вниз по лестнице. Но, спустившись до середины, она сама себя обозвала дурой, вернулась и, подойдя к последней двери, приложила ухо к замочной скважине и прислушалась. В это время из другой двери вышла растрепанная женщина в халате, с ведром в руке, Джиния, едва успевшая выпрямиться, спросила у нее, где тут живет художник, но та даже не посмотрела на нее, ничего не ответила и ушла, скрывшись в глубине коридора. Джиния, красная и дрожащая от стыда, затаив дыхание, подождала, пока смолкли шаги, и бросилась вниз по лестнице.
Она опять стала ждать у подъезда; то и дело кто-нибудь входил или выходил, и все смотрели на нее. Джиния начала прохаживаться взад и вперед по тротуару сама не своя, тем более что на другой стороне улицы, прислонясь к косяку, стоял подручный мясника и наблюдал за ней с насмешливым видом. Она подумала было спросить у привратницы, где помещается студия, но потом решила, что теперь уж лучше дождаться Амелию. Было около двенадцати.
Хуже всего было то, что на этот раз они с Амелией даже не условились встретиться после обеда, и, таким образом, Джинии предстояло провести одной и вторую половину дня. «Ничего, ничего у меня не выходит», — в отчаянии думала она. В эту минуту из подъезда выглянул Родригес и поманил ее.
— Амелия уже наверху, — сказал он как ни в чем не бывало. — Она зовет вас.
Джиния молча поднялась вместе с ним. Дверь в мастерскую была как раз та, последняя, из-за которой не доносилось ни звука. Амелия сидела на тахте и курила, как будто в кафе.
— Почему ты сразу не поднялась? — спокойно спросила она.
Джиния обозвала ее дурой, но Амелия и Родригес повторяли, что она должна была сразу подняться, и доказывали это с таким убежденным видом, что с ними невозможно было спорить. И не могла же она кричать, что подслушивала под дверью, — получилось бы еще хуже. Но достаточно было посмотреть на них обоих, чтобы понять, что они о чем-то умалчивают и что тахта кое-что знает на этот счет. «Они принимают меня за дуру» — подумала Джиния, стараясь разобрать, растрепана ли Амелия и о чем говорят глаза Родригеса.
Шляпка Амелии — та, с вуалью, — валялась на столе, и Родригес, стоя спиной к окну, смотрел на нее с ироническим видом.
— Интересно, пошла бы Джинии вуаль? — ни с того ни с сего сказала Амелия.
Джиния состроила гримаску и принялась разглядывать картины, висевшие над головой Амелии. Но эти маленькие этюды сейчас уже не интересовали ее. Принюхиваясь, она чувствовала примешанный к холодной затхлости запах духов Амелии. Ей не удалось вспомнить, как здесь пахло в прошлый раз.
Потом она стала ходить по комнате, рассматривая картины на стенах. Вглядывалась в пейзаж или в натюрморт; останавливалась; не решалась отвести от него глаза; все молчали. Было здесь и несколько женских портретов; Джинии были незнакомы эти лица. В глубине комнаты она остановилась перед обтрепанной тяжелой занавесью во всю стену. Ей вспомнилось, как Гвидо прошел за эту занавесь, чтобы взять рюмки, и она вполголоса сказала: «Можно?», но те двое не услышали, потому что в эту минуту Родригес что-то говорил, и тогда Джиния слегка отвела портьеру и заглянула в щель, по увидела только разобранную постель и раковину умывальника. Там тоже чувствовался запах духов Амелии, и Джиния заметила это, думая о том, что, должно быть, хорошо спать одной в этом закутке.
VII
— Родригесу до смерти хочется, чтобы ты ему позировала, — сказала Джиния, когда они возвращались домой.
— Ну и что?
— Ты разве не заметила, как он вертелся вокруг тебя и все смотрел на твои ноги?
— Пусть его смотрит.
— А Гвидо ты никогда не позировала?
— Никогда, — сказала Амелия.
Проходя через площадь, они увидели Розу, которая шла под руку с молодым человеком, но не с Пино, а с другим. Она висела на нем, точно вдруг охромела, и Джиния сказала:
— Смотри. Они боятся, что потеряются.
— В воскресенье все позволено, — сказала Амелия.
— Но не на площади. На них просто смешно глядеть.
— Охота пуще неволи, — ответила Амелия. — Когда дуре приспичит, она еще не на то способна.
Джиния узнала от Родригеса, что Гвидо часто получает увольнительную на вторую половину дня и приходит в мастерскую работать.
— Он и ночью писал бы, если бы мог. Чистый холст действует на него, как красное на быка, и он не успокаивается, пока не замажет его, — сказал Родригес и засмеялся похожим на кашель смехом.
Ничего не сказав Амелии, Джиния выбрала день, когда Родригес был в кафе, и одна отправилась в студию. На этот раз, когда она поднималась по лестнице, у нее колотилось сердце уже по другой причине. Но ей не пришлось раздумывать перед дверью: она была открыта.
— Войдите, — сказал Гвидо.
Джиния в замешательстве захлопнула за собой дверь и, тяжело дыша, остановилась перед художником. Может быть, такое впечатление вызывал закат, но бархатная портьера, на которую падало солнце, бросала на всю комнату красноватый отсвет. Гвидо, наклонив голову, двинулся к ней и спросил:
— В чем дело?
— Вы меня не узнаете?
Гвидо, как и в тот раз, был без куртки, в рубашке и серо-зеленых брюках.
— И другая здесь? — спросил он.
Тогда Джиния объяснила ему, что пришла одна, а Амелия в кафе.
— Родригес сказал мне, что я могу прийти посмотреть картины. Мы уже приходили один раз утром, но вас не было.
— Тогда садись, — сказал Гвидо. — Я закончу одну работу.
Он вернулся к окну и принялся скоблить ножом деревянную доску. Джиния опустилась на тахту, до того низкую, что, когда она садилась, ей показалось, будто она падает. Она была смущена этим «садись» и чуть не рассмеялась, подумав о том, что все, и художники, и механики, сразу начинают говорить девушке «ты». Но ей было приятно сидеть, прикрыв глаза, в этом мягком красноватом свете.
Гвидо сказал что-то про Амелию.
— Мы с ней подруги, — отозвалась Джиния, — но я работаю в ателье.
Солнечный свет мало-помалу угасал, Джиния встала и, повертев головой, стала разглядывать одну маленькую картину. Это был натюрморт с ломтиками дыни, которые казались прозрачными и водянистыми. Джиния заметила, что на картине лежит пятно света, только не настоящее, а нарисованное, и что оно напоминает тот красный отсвет, на который она обратила внимание, когда вошла. Тогда она поняла, что, для того чтобы рисовать, надо разбираться в таких вещах, но не решилась сказать это Гвидо. Гвидо подошел к ней сзади и стал вместе с ней смотреть картины.
— Это старые вещи, — говорил он время от времени.
— Но красивые, — сказала Джиния, замирая от страха, потому что ждала — вот-вот она почувствует на своем плече его руку. — Красивые, — повторила она и отступила в сторону.
Гвидо, не двигаясь с места, продолжал смотреть на картины.
Когда он закуривал сигарету, Джиния, опершись на стол, начала расспрашивать его, чьи это портреты на стенах и рисовал ли он когда-нибудь Амелию.
— Ведь Амелия натурщица, — сказала она.
Но Гвидо точно с неба свалился — сказал, что знать об этом не знал.
— Я сама видела, как она позировала, — подтвердила Джиния.
— Вот это новость. Какому художнику?
— Я не знаю, как его фамилия, но она позировала.
— Голая? — спросил Гвидо.
— Да.
Тут Гвидо расхохотался.
— Она нашла свое призвание, ей всегда нравилось показывать свои ноги. И ты тоже натурщица?
— Я — нет, я работаю, — вспыхнув, ответила Джиния, — я работаю в ателье.
Но она была слегка обижена тем, что Гвидо даже не предложил нарисовать ее портрет. Если ее профиль понравился Бородачу, то почему же он не нравится Гвидо?
— Амелия много чего сочиняет, — сказала Джиния, — она любит выдумывать всякие небылицы. Непонятно, чего она хочет.
— С ней не соскучишься, — весело сказал Гвидо. — Эта студия всякое видела.
— И теперь еще видит, — сказала Джиния. — Амелия и Родригес времени даром не теряют.
Гвидо посмотрел на нее не то серьезно, не то игриво: уже вечерело и выражение его лица трудно было уловить. Джиния подождала ответа, но он не последовал. После долгого молчания Гвидо сказал:
— Ты мне нравишься, Джиния. И знаешь, мне нравится, что ты не куришь. У девушек, которые курят, всегда что-нибудь неладно.
— Здесь совсем не пахнет масляной краской, как у других художников, — сказала Джиния.
Гвидо стал надевать куртку.
— Здесь пахнет скипидаром. Это приятный запах.
Джиния не поняла, как это получилось, но она вдруг увидела прямо перед собой его лицо и почувствовала, как он коснулся рукой ее затылка, в то время как она, ударившись бедром об стол, как дура таращила глаза. Наваливаясь на нее, Гвидо сказал:
— У тебя под мышками пахнет приятнее, чем от скипидара.
Красная как рак, она оттолкнула его, бросилась к двери и выбежала. Остановилась она только на трамвайной остановке. После ужина она пошла в кино, чтобы не думать о том, что произошло в студии.
Но она все-таки думала об этом, и чем больше думала, тем яснее становилось ей, что она опять пойдет туда. И вот поэтому она не находила себе места: она знала, что поступила глупо, как девушка в ее возрасте уже не должна поступать. Она надеялась только, что Гвидо обиделся на нее и больше не станет пытаться ее обнять. Она не могла простить себе, что, сбегая вниз по лестнице, не прислушалась к тому, что он кричал ей вслед, и теперь не знала, звал ли он ее вернуться. Весь вечер в темном зале она с болью в сердце думала о том, что, какое бы решение она ни приняла сейчас, она все равно пойдет к нему опять. Она знала, что иначе желание снова увидеть его, и извиниться перед ним, и сказать ему, что она была дурой, свело бы ее с ума.
Назавтра Джиния в студию не пошла, но тщательно вымыла подмышки и вся надушилась. Она рассудила, что сама виновата, если распалила Гвидо, но в иные минуты была рада, что так получилось, потому что теперь она знала, чем завлекают мужчин. «Амелия эти вещи прекрасно знает, — думала она, — но для того, чтобы узнать их, ей пришлось растратить себя».
В кафе она застала Амелию с Родригесом. Войдя, она сперва испугалась, подумав, что они все знают, потому что Амелия как-то странно посмотрела на нее, но через минуту уже успокоилась и, слушая обычные глупости Родригеса, притворялась усталой и скучающей, а про себя вспоминала голос Гвидо. Теперь она многое понимала: почему Родригес, когда говорил, наклонялся к Амелии, почему он щурил глаза, как кот, почему Амелия вдруг поладила с ним. «У Амелии мужские вкусы, она поопаснее Гвидо», — думала Джиния и невольно смеялась про себя.
На следующий день она пошла в студию. Утром в ателье синьора Биче сухо сказала девушкам, что после обеда они могут оставаться дома по случаю праздника. Дома Джиния застала Северино, который менял рубашку, потому что ему надо было идти на митинг. Был патриотический праздник, на улицах развевались флаги, и Джиния сказала:
— Интересно, дают ли сегодня солдатам увольнительную.
— Лучше бы мне дали поспать, — ответил Северино.
Но Джиния была счастлива и убежала, не дожидаясь, пока за ней зайдут Амелия или Роза. Правда, потом, у подъезда дома, где была студия, она пожалела, что не пришла вместе с Амелией.
Она сказала себе: «Зайду на минутку, взгляну, нет ли там Амелии», и медленно поднялась по лестнице. На самом деле она вовсе не думала, что застанет в студии Амелию, — она знала, что в это время та бывает в кафе. Но, подойдя к двери и остановившись перевести дух, она услышала голос Родригеса.
VIII
Дверь была открыта, и видно было окно, за которым синело небо. Родригес говорил громким и настойчивым голосом. Джиния заглянула в комнату и увидела Гвидо, который слушал, прислонившись к столу.
— Можно? — тихо сказала она, но они ее не услышали. Гвидо в серо-зеленой рубашке был похож на рабочего. Он посмотрел на нее невидящим взглядом.
— Я ищу Амелию, — топким голосом сказала Джиния.
Тогда голос Родригеса умолк, и тут Джиния увидела и его: он сидел на тахте, обхватив руками колено, и смотрел в одну точку.
— Тут нет Амелии?
— Это же не кафе, — сказал Родригес.
Джиния, стоя на пороге, смотрела на Гвидо. Он заложил руки за спину и прищурил глаза.
— Раньше сюда не приходили все эти девушки, — сказал он. — Это ты их приваживаешь?
Джиния опустила голову, но она поняла по его голосу, что он не сердится.
— Входи же, — сказали ей, — не валяй дурака.
Никогда в жизни Джинии не было так хорошо, как в этот день. Она боялась только, что придет Амелия и все испортит, но время шло, а Амелия не приходила, и Гвидо с Родригесом все спорили, и иногда Гвидо, смеясь, смотрел на нее и говорил: «Скажи ему, что он остолоп». Спор шел о живописи, и Гвидо говорил с жаром, повторяя, что краски есть краски. Родригес, который по-прежнему сидел, обхватив колено руками, упрямо возражал ему, а порой отмалчивался или ехидно смеялся, пуская петуха. Смысл разговора был ей непонятен, но, когда Гвидо говорил, его было приятно слушать. В голосе его чувствовалась сила и увлеченность, а когда Джиния смотрела ему в глаза, у нее перехватывало дыхание.
На крышах домов еще догорало солнце, и Джиния, сидя у окна, переводила взгляд с неба на художников и видела в глубине студии красную, как гранат, портьеру и думала о том, что хорошо было бы, спрятавшись за ней потихоньку ото всех, следить за кем-нибудь, кто думал бы, что он один в комнате. В эту минуту Гвидо сказал:
— Что-то холодно. У нас еще есть чай?
— Есть и чай и спиртовка. Только к чаю нет ничего.
— Сегодня чай приготовит Джинетта, — сказал Гвидо, поворачиваясь к ней. — Спиртовка там, за портьерой.
— Лучше бы она сходила купить нам печенья, — сказал Родригес.
— Ну нет, — ответила Джиния. — Вы мужчина, вы и идите.
Гвидо и Родригес возобновили разговор, а Джиния тем временем нашла за портьерой спиртовку, чашки и коробку с чаем, поставила вскипятить воду и сполоснула чашки под умывальником. За спиной слышались голоса художников, но в этом темном закутке, едва освещенном язычком пламени, она чувствовала себя как в пустом доме, где царит тишина и можно спокойно собраться с мыслями. При этом свете еле видно было неубранную постель в узком закоулке между стеной и портьерой. Джиния представила себе лежащую на ней Амелию.
Выйдя из-за портьеры, она заметила, что Гвидо и Родригес с любопытством смотрят на нее. Джиния, уже снявшая шляпку, откинула назад волосы и взяла с подоконника большую тарелку, всю испачканную красками, точно палитра. Но Гвидо поймал ее взгляд и, поискав в ящиках, протянул ей чистую тарелку. Джиния поставила на нее еще мокрые чашки, потом вернулась к спиртовке и заварила чай.
За чаем Гвидо рассказал ей, что эти чашки подарила ему одна девушка вроде нее, портрет которой он писал.
— А где же этот портрет? — спросила Джиния.
— Это же была не натурщица, — со смехом ответил Гвидо.
— Вам долго еще служить в солдатах? — сказала Джиния, потягивая чай.
— К огорчению Родригеса, через месяц я буду свободен, — ответил Гвидо. А потом проговорил. — Значит, ты больше не обижаешься?
И не успела Джиния тихо улыбнуться и покачать головой, Гвидо сказал:
— Тогда будем на «ты».
Особенно хорошо было после ужина. Амелия, которая зашла за Джинией к ней домой, тоже была веселая — потому что, когда праздник и люди ничего не делают, говорила она, я счастлива. Они гуляли, перешучиваясь и хохоча как дурочки.
— Где ты была сегодня, что делала? — спросила Амелия.
— Ничего особенного, — сказала Джиния. — Пойдем потанцевать на холм?
— Это тебе не лето, теперь там знаешь какая грязь.
Словно по волшебству они оказались на той улице, где находилась студия.
— Я туда не пойду, — сказала Джиния. — Хватит с меня твоих художников.
— А кто тебе сказал, что мы идем туда? Этот вечер наш, и никто нам не нужен.
Они постояли на мосту, глядя на ожерелье отсветов, лежавших на воде.
— Я видела Бородача, и он спрашивал про тебя, — сказала Амелия.
— Неужели ему не надоело тебя рисовать?
— Я его встретила в кафе.
— Он не отдаст мне мои портреты?
Но, разговаривая с Амелией о Бородаче, Джиния думала совсем о другом.
— Когда в прошлом году ты ходила к Гвидо, что вы с ним делали?
— Что же, по-твоему, мы могли делать? Смеялись и били стаканы.
— А потом вы поссорились?
— Да что ты. Просто он летом уехал в деревню — запер мастерскую и поминай как звали.
— Как ты с ним познакомилась?
— Разве я помню? Натурщица я или не натурщица?
Джиния промолчала — не хотелось ссориться в этот вечер.
Стоять на мосту было холодно. Амелия курила, опершись на каменный парапет.
— Ты и на улице куришь? — сказала Джиния.
— Какая разница, на улице или в кафе? — ответила Амелия.
Но в кафе они не пошли, потому что Амелии и днем надоело торчать там. Они повернули к дому и остановились у кино. Заходить не имело смысла — уже кончался последний сеанс. Пока они разглядывали фотографии, из кино вышел Северино — туча тучей, по лицу было видно, что он раздражен. Северино прошел мимо них, кивнув Амелии, но потом вернулся и заговорил с ними, и Джиния в жизни не слышала, чтобы он разговаривал так любезно. Он даже отпустил Амелии комплимент по поводу ее вуалетки. Он рассказал им содержание фильма, чтобы посмешить их, и Амелия смеялась, но не так, как в кафе, когда ей что-нибудь говорили официанты: она хохотала, показывая зубы, как хохочут девчонки в своей компании, чего с ней давно уже не случалось. Голос у нее был очень хриплый — должно быть, из-за курения, подумала Джиния. Северино повел их в бар и угостил обеих кофе, а Амелии сказал, что надо бы им как-нибудь встретиться в воскресенье.
— Пойти потанцевать?
— Конечно.
— Тогда пусть и Джиния пойдет с нами.
Джинию разбирал смех.
Они проводили Амелию до подъезда, а когда за ней захлопнулась дверь, пошли вместе домой. «Гвидо примерно одних лет с Северино, — думала Джиния, — он мог бы быть моим братом». А еще она думала: «Чего не бывает в жизни. Я совсем не знаю Гвидо, но представляю себе, как мы идем с ним под руку, и останавливаемся на каждом углу, и смотрим друг на друга. Для него я Джинетта. Не обязательно хорошо знать друг друга, чтобы любить». И, думая обо всем этом, она семенила возле Северино с таким чувством, как будто она еще маленькая девочка. Вдруг она спросила, нравится ли ему Амелия, и поняла, что он не ожидал этого вопроса.
— Что она делает днем? — вместо ответа спросил Северино.
— Она натурщица.
Северино, видно, спутал натурщицу с манекенщицей, потому что заговорил о том, что платья на ней действительно сидят хорошо, и тогда Джиния переменила разговор и спросила:
— Уже есть двенадцать?
— Смотри, — сказал Северино. — Амелия себе на уме, а ты при ней ходишь в дурочках.
Джиния сказала ему, что они видятся редко, и Северино промолчал, потом на ходу закурил сигарету, и они подошли к подъезду, как будто каждый сам по себе.
В эту ночь Джиния плохо спала и одеяло казалось ей тяжелым. В голову лезли разные мысли, час от часу все более сумасбродные. Она представляла себе, как она лежит одна в закутке студии, в той самой постели, и слышит за портьерой шаги Гвидо, как она живет вместе с ним, целует его и стряпает ему. Кто знает, где он ел, когда еще не был солдатом. Потом она стала думать о том, что никогда бы не поверила, что спутается с солдатом, но что Гвидо в штатском, должно быть, очень красивый мужчина, такой светловолосый и сильный, и старалась вспомнить его голос, который она уже забыла, тогда как голос Родригеса прекрасно помнила. Чем больше она думала, тем меньше понимала, почему Амелия спуталась с Родригесом, а не с ним. Она была рада не знать, что делали вдвоем Амелия и Гвидо в то время, когда они били стаканы.
Когда зазвонил будильник, она уже не спала, а, нежась в постели, думала о всякой всячине. Рассвело, и она пожалела о том, что наступила зима и нельзя больше любоваться прекрасными красками, которые исходят от солнца. Интересно, думал ли об этом Гвидо, ведь он говорил, что краски — это все. «Какая красота», — сказала про себя Джиния и встала.
IX
На следующий день в обед Амелия зашла к Джинии домой, но, так как с ней за столом сидел Северино, они только поболтали о том, о сем. Когда они вышли на улицу, Амелия сказала, что утром была у одной художницы, которая нанимает ее. Почему бы и Джинии не пойти к ней? Эта ненормальная хотела написать картину с двух обнявшихся женщин, и, таким образом, они могли бы позировать вместе.
— Почему бы ей не рисовать саму себя, глядя в зеркало? — ответила Джиния.
— Что ж, по-твоему, голой ей, что ли, рисовать? — со смехом сказала Амелия.
Джиния ответила, что не может уходить из ателье, когда ей вздумается.
— Но ведь она будет платить нам, понимаешь? — сказала Амелия. — С такой картиной работы много, так что это надолго. А если ты не пойдешь, она не возьмет и меня.
— Что же, ей мало одной натурщицы?
— Пойми, ей нужно нарисовать двух борющихся женщин. Поэтому и требуются две натурщицы. Это большая картина. Нам надо только стоять в такой позе, как будто мы танцуем.
— Я не хочу позировать, — сказала Джиния.
— Чего ты боишься? Ведь это же женщина.
— Не хочу, и все.
Они спорили, пока не подошли к остановке трамвая, и Амелия уже начала злиться. Не глядя на Джинию, она спросила, уж не воображает ли та, что у нее под одеждой что-то такое, что надо беречь, как святыню. Джиния не отвечала. Но когда Амелия сказала, что ради Бородача она, Джиния, согласилась бы раздеться, она рассмеялась ей в лицо. Они расстались очень холодно, и было ясно: Амелия ей этого не простит. Но Джиния, которая сперва только пожала плечами, потом вдруг испугалась, что Амелия поднимет ее на смех при Гвидо и Родригесе и, чего доброго, Гвидо тоже посмеется над ней. «Вот ему я стала бы позировать, если бы он захотел», — думала она. Но она прекрасно знала, что Амелия сложена лучше и что любой художник предпочтет ее. Амелия была больше похожа на зрелую женщину.
Под вечер она зашла в студию, чтобы опередить Амелию. Гвидо сказал ей, что всегда бывает там в это время. Но дверь была заперта. Джинии пришло в голову, что Гвидо в кафе вместе с Родригесом и Амелией. Она пошла туда, но, заглянув в витрину, увидела только Амелию, которая сидела, подперев кулаком голову, и курила. «Бедняжка», — подумала Джиния, возвращаясь домой.
Прогуливаясь после ужина, она увидела с улицы, что окно студии освещено, и, обрадовавшись, взбежала наверх; но Гвидо там не было. Ей открыл Родригес и, пригласив ее войти, извинился за то, что будет есть в ее присутствии — уж очень он проголодался. Ел он колбасу прямо с бумаги, стоя перед столом при том же угнетающем свете, которым студия была освещена в тот раз, когда она впервые пришла сюда. Ел, как мальчишка, откусывая от целой булки, и, если бы не его смуглое лицо и не фальшивые глаза, Джиния, может быть, и пошутила бы по этому поводу. Он и ей предложил закусить, но она только спросила про Гвидо.
— Раз он не пришел, значит, он в наряде и ему приходится оставаться в казарме, — сказал Родригес.
«Тогда я пойду», — подумала Джиния, но не решилась сказать это вслух, потому что Родригес, уставившийся на нее, понял бы, что она пришла только для того, чтобы повидать Гвидо. Не зная, как быть, она обвела глазами комнату, казавшуюся при этом свете донельзя убогой, оглядела валявшиеся на полу бумажки и окурки и спросила Родригеса, не ждет ли он кого-нибудь.
— Да, жду, — сказал Родригес, перестав жевать.
Но и тут Джиния не нашла в себе силы уйти. Она спросила, не видел ли он Амелии.
— Вы только и делаете, что бегаете друг за другом, — сказал Родригес, глядя на нее. — Почему бы это? Ведь вы обе женщины.
— Почему? — переспросила Джиния.
— Да, почему? — ухмыляясь, сказал Родригес. — Уж вы-то должны это знать. Интуитивно чувствовать. Ведь женщинам свойственна интуиция, правда?
Джиния с минуту помешкала и спросила:
— Амелия искала меня?
— Что там искала, — сказал Родригес. — Она сохнет по тебе.
Портьера в глубине комнаты раздвинулась, и из-за нее вышла Амелия. Она бросилась на Родригеса, а тот, оторвав зубами кусок булки, обежал вокруг стола, как будто они играли в догонялки. Амелия была без шляпы и казалась взбешенной, но посреди комнаты остановилась и стала смеяться. Однако у нее это плохо получалось.
— Мы не знали, что это ты, — сказал она.
— А, вы ужинали, — сухо сказала Джиния.
— У нас маленький интимный ужин, — сказал Родригес. — Но оттого, что нас трое, он будет еще интимнее.
— Ты искала Гвидо? — спросила Амелия.
— Я зашла на минутку, но меня ждет Роза. Уже поздно.
Амелия крикнула ей:
— Постой, дуреха!
Но Джиния сказала:
— Я не дуреха. — И сбежала вниз по лестнице.
Она уже завернула за угол, когда услышала позади дробный стук каблуков: кто-то бежал за ней. Это была Амелия, без шляпы.
— Почему ты уходишь? Неужели ты поверила Родригесу?
Джиния, не останавливаясь, сказала:
— Оставь меня в покое.
Много дней при воспоминании об этом у нее колотилось сердце, как будто она еще убегала из студии. Когда она думала об Амелии и Родригесе, у нее сжимались кулаки. О Гвидо она даже не осмеливалась думать и не знала, как увидеться с ним. Она была уверена, что потеряла и его.
Наконец она сказала себе: «Я просто дурочка, почему я вечно за кем-то бегаю? Я еще не научилась быть одной. Кто захочет меня видеть, сам придет ко мне».
С этого дня она успокоилась и думала о Гвидо без волнения и стала обращать больше внимания на Северино, который подчас удивлял ее: когда ему что-нибудь говорили, он, прежде чем ответить, смотрел в землю и никогда не поддакивал тому, кто говорил, а все больше отмалчивался. Но вообще-то он был совсем не глуп, хоть и мужчина. А вот она до сих пор вела себя, как Роза. Немудрено, что с ней и обращались, как с Розой.
Она больше никого не искала, не ходила в кино и в танцзал, а довольствовалась тем, что одна слонялась по улицам и иногда добиралась до центра. Стоял ноябрь, было холодно, и в иные вечера она садилась на трамвай, сходила у пассажа и, немного побродив, возвращалась домой. Она все надеялась встретить Гвидо и всем солдатам мимоходом заглядывала в лицо. Как-то раз она — только так, посмотреть — с бьющимся сердцем подошла к кафе Амелии. Там было много народу, но Амелии не было.
Дни тянулись медленно, но из-за холода легче было усидеть дома, и в это унылое время Джиния думала, что такого лета, как прошлое, ей уже никогда не видать. «Теперь я другая женщина, — думала она, — просто не верится, что я была тогда такая шальная. Мне это чудом сошло с рук». Ей казалось невероятным, что в будущем году опять наступит лето. И она уже представляла себе, как она теплым вечером идет по бульварам, одна, с покрасневшими от слез глазами, и ходит так изо дня в день, из дому на работу, с работы домой, точно тридцатилетняя старая дева. Хуже всего было то, что ей больше не доставляло удовольствия полежать полчасика в темноте. И, даже возясь на кухне, она думала о студии и подолгу стояла без дела, глядя в одну точку.
Потом она отдала себе отчет в том, что провела так не больше двух недель. Выходя из ателье, она всякий раз надеялась, что у подъезда ее кто-нибудь поджидает, и оттого, что этого не случалось, она испытывала такое чувство, будто день потерян и она живет уже завтрашним, послезавтрашним днем и все ждет чего-то такого, что никогда не происходит. «Мне еще нет семнадцати, — утешала она себя, — у меня еще много времени впереди». Но она никак не могла понять, почему Амелия, бежавшая за ней по улице без шляпы, больше не показывается. Может быть, она только боялась, что Джиния станет всем рассказывать про нее.
Однажды под вечер синьора Биче позвала ее к телефону. «Тебя просит какая-то женщина с мужским голосом», — сказала она. Это была Амелия.
— Послушай, Джиния, соври там, что Северино болен, и приходи к нам. Тут и Гвидо. Поужинаем вместе.
— А Северино?
— Забеги домой, покорми его, а потом приходи. Мы тебя ждем.
Джиния послушалась, забежала домой и сказала Северино, что поужинает с Амелией, потом поправила прическу и вышла из дому. Шел дождь. «У Амелии голос, как у чахоточной, — думала она. — Бедняжка».
Она решила, если не будет Гвидо, тут же уйти. В студии она нашла Амелию и Родригеса, которые в полутьме разжигали керосинку.
— А где же Гвидо? — спросила она.
Амелия выпрямилась и, проведя по лбу тыльной стороной ладони, указала на портьеру. Из-за портьеры высунул голову Гвидо и крикнул Джинии: «Привет!» Тогда она улыбнулась. Стол был завален бумажными тарелками и провизией. На потолке зажегся желтый кружок — отсвет керосинки.
— Зажгите свет! — крикнул Гвидо.
— Не надо, так лучше, — сказала Амелия.
Было не очень-то тепло, и они не снимали пальто. Джиния подошла к закутку, где был умывальник, и, отведя рукой портьеру, громко спросила:
— В честь чего эта вечеринка?
— Если хочешь, в честь тебя, — тихо сказал ей Гвидо, вытирая руки. — Почему ты не приходила?
— Я пришла как-то раз, но вас не было, — прошептала Джиния.
— Говори мне «ты», — сказал Гвидо, — в этот вечер мы все на «ты».
— Вы были в наряде? — сказала Джиния.
— Ты был в наряде, — сказал Гвидо, гладя ее волосы.
В этот момент у нее за спиной зажгли свет, и Джиния отпустила портьеру и уставилась на картину с дыней.
За стол не садились, дожидаясь, пока в комнате станет теплее. Все слонялись из угла в угол в пальто, засунув руки в карманы, и от этого казалось, будто ты в кафе. Родригес налил себе вина и наполнил три других стакана. «Подождите еще», — сказала Амелия, а Родригес сказал, что пора начинать. Потом стол осторожно, чтобы не разлить вино, перенесли к тахте, и Джиния поспешила сесть рядом с Амелией.
Угощение составляли колбаса, фрукты, сласти и две большие оплетенные бутыли. Джиния подумала, не такие ли пирушки устраивали в свое время Амелия с Гвидо, и, выпив вина, спросила у них об этом, а они стали со смехом рассказывать, что вытворяли в этой студии. Джиния слушала с завистью, ей казалось, что она родилась слишком поздно, и она сама называла себя за это дурой. Она понимала, что с художниками не надо серьезничать, потому что они ведут не такую жизнь, как другие, ведь вот Родригес, который не писал картин, сидел тихо и жевал, а если что и говорил, то только насмешничал. Он исподлобья лукаво посматривал на Джинию, и она переносила на него то чувство раздражения, которое вызывали у нее рассказы о том, как Гвидо развлекался с Амелией.
— Нехорошо рассказывать мне все это, — сказала она жалобно. — Обидно делается, что меня здесь тогда не было.
— Но теперь-то ты здесь, — сказала Амелия, — вот и веселись.
И тут Джиния почувствовала желание, неудержимое желание побыть наедине с Гвидо. Однако она понимала, что так расхрабрилась только потому, что рядом с ней сидит Амелия. Иначе она удрала бы.
«Я еще не научилась держать себя в руках, — повторяла она про себя. — Я не должна волноваться».
Потом все закурили, и ей тоже дали сигарету. Джиния не хотела курить, но Гвидо сел рядом с ней, поднес ей спичку и сказал, чтобы она не затягивалась. Амелия и Родригес возились на краю тахты.
Джиния, отстранив Гвидо, вскочила на ноги, положила сигарету и, ни слова не говоря, прошла в глубину студии, откинула портьеру и остановилась в темноте. Позади нее разговаривали, но голоса звучали приглушенно, будто доносились откуда-то издалека.
— Гвидо, — прошептала она не оборачиваясь и бросилась ничком на кровать.
X
Все четверо молча вышли из дому, и Гвидо с Родригесом проводили их до трамвая. Гвидо в берете, надвинутом на глаза, был совсем другой. Он обеими руками сжимал руку Джинии и говорил ей: «Джинетта, милая». Тротуар, казалось, уходил у нее из-под ног. Амелия взяла ее под руку.
Когда они дожидались трамвая, зашел разговор о велосипедах. Но Гвидо пододвинулся к Джинии и тихо сказал ей:
— Смотри не передумай. А то я не напишу твоего портрета.
Джиния улыбнулась ему и взяла его за руку.
В трамвае она молчала, уставившись в спину водителя.
— Как придешь домой, сразу ложись в постель, — сказала Амелия. — Это у тебя больше от вина.
— Не думай, я не пьяная, — сказала Джиния.
— Хочешь, я побуду с тобой? — сказала Амелия.
— Оставь меня в покое.
Тогда Амелия заговорила о том, как нескладно получилось в прошлый раз, но Джиния слушала не ее, а грохот трамвая.
Дома, оставшись одна, она почувствовала себя лучше, потому что никто на нее не смотрел. Она села на кровать и долго сидела, глядя в пол. Потом вдруг разделась, нырнула под одеяло и погасила свет.
Назавтра был солнечный день, и Джиния одевалась с таким чувством, будто оправилась от болезни. Ей пришла в голову мысль, что Гвидо уже часа три на ногах, и, глядя в зеркало, она сама себе улыбнулась и послала поцелуй. Потом она вышла из дому, не дождавшись Северино, который должен был вернуться с работы.
Она удивлялась тому, что идет по улице, как обычно, и что ей хочется есть, и думала только об одном: отныне она должна видеться с Гвидо без этих двоих. Но Гвидо сказал ей только, чтобы она приходила в студию; о свиданиях где-нибудь еще не было речи. «Должно быть, я по-настоящему люблю его, — подумала она, — не то хороша бы я была». Для нее вдруг словно вернулось лето, когда хотелось идти куда глаза глядят, смеяться, шутить, когда радовало все на свете. То, что произошло, казалось ей почти неправдоподобным. Ее разбирал смех при мысли о том, что, будь на ее месте Амелия, Гвидо в темноте не заметил бы этого. «Видно, ему нравится, как я говорю, как я смотрю, какая я из себя; я нравлюсь ему как подружка, он любит меня. Он не верил, что мне уже семнадцать лет, целовал меня в глаза; я настоящая женщина».
Теперь ей радостно было работать весь день, думая о студии и дожидаясь вечера. «Я для Гвидо не просто натурщица, — думала она, — мы с ним друзья». Ей было жаль Амелию, которая даже не понимала, чем хороши картины Гвидо. Но когда в два часа та зашла за ней, Джиния заробела: ей хотелось кое о чем спросить Амелию, но она не знала, как к этому подойти. Спросить про это Гвидо у нее не хватило бы духу.
— Ты уже кого-нибудь видела? — спросила она.
Амелия пожала плечами.
— Вчера, когда ты погасила свет, у меня закружилась голова и, кажется, я закричала. Ты слышала, как я кричала?
Амелия слушала ее с самым серьезным видом.
— Ничего я не гасила, — тихо сказала она. — Я знаю только, что ты исчезла. Можно было подумать, что Гвидо режет тебя. Вы по крайней мере позабавились?
Джиния сделала гримаску, глядя прямо перед собой. Они продолжали идти пешком до следующей остановки.
— Ты любишь Родригеса? — спросила Джиния.
Амелия вздохнула, потом сказала:
— Не бойся. Мне не нравятся блондины. Если уж на то пошло, я предпочитаю блондинок.
Джиния улыбнулась и больше ничего не сказала. Она была довольна, что идет с Амелией и что они в ладу между собой. Они спокойно расстались у пассажа, и на углу Джиния обернулась и посмотрела вслед Амелии, пытаясь угадать, идет ли она к той художнице.
А сама она в семь часов опять пошла в студию и медленно, чтобы не раскраснеться, поднялась на шестой этаж. Но хотя она и медленно поднималась, а перешагивала сразу через две ступеньки. Она все думала, что, если Гвидо и нет, он в этом не виноват. Но дверь была открыта. Гвидо услышал ее шаги и вышел ей навстречу. Теперь Джиния была по-настоящему счастлива.
Ей хотелось бы поговорить с ним, многое сказать ему, но Гвидо запер дверь и первым делом обнял ее. В окно еще пробивался свет, и Джиния спрятала лицо у него на плече. Сквозь рубаху она чувствовала теплоту его кожи. Они сели на тахту, и Джиния, ничего не говоря, заплакала.
Плача, она думала: «Вот если бы и Гвидо плакал», — и чувствовала жгучую боль в сердце, от которой вся млела и, казалось, теряла сознание. Но вдруг она лишилась опоры; она поняла, что Гвидо встает, и открыла глаза. Гвидо стоял и с любопытством смотрел на нее. Тогда она перестала плакать, потому что ей казалось, что она плачет на людях. Под взглядом Гвидо Джиния, почти не различавшая ничего вокруг, опять почувствовала, что у нее на глаза навертываются слезы.
— Ну-ну, — шутливым тоном сказал Гвидо, — жизнь и так коротка, не надо плакать.
— Я плакала от радости, — сказала Джиния.
— Тогда ладно, — сказал Гвидо, — но в другой раз так сразу и говори.
И вот прошло с полчаса, а Джиния, которой хотелось бы о многом расспросить его — про Амелию, про него самого, про его картины, и что он делает по вечерам, и любит ли он ее, — так и не набралась смелости и только настояла на том, чтобы они ушли за портьеру, потому что при свете ей казалось, что все на них смотрят. Там, когда они целовались, Джиния тихо сказала ему, что вчера он сделал ей так больно, что она чуть не закричала, и тогда Гвидо помягчал и стал утешать ее и ласкать, шепча ей на ухо: «Вот увидишь, это пройдет, вот увидишь. А сейчас тебе больно?» Потом, когда они лежали в истоме, согревая друг друга своим теплом, он многое объяснил ей и сказал, что такой девушке, как она, не сделает худого и пусть она не беспокоится. Тогда Джиния в темноте взяла его руку и поцеловала ее.
Теперь, когда она знала, что Гвидо такой хороший, у нее прибавилось смелости, и, положив голову ему на плечо, она сказала, что хочет всегда видеться с ним наедине, потому что с ним ей хорошо, а с другими нет.
— Вечером сюда приходит ночевать Родригес, — сказал Гвидо, — не хочешь же ты, чтобы я выставил его на улицу. Здесь работают, понимаешь?
Но Джиния сказала, что ей довольно часочка, минутки, что она тоже работает и будет забегать сюда каждый вечер в это время, но хочет заставать его одного.
— Когда ты станешь штатским, Родригес все равно будет приходить? — спросила она. — Мне очень хотелось бы посмотреть, как ты рисуешь, но чтобы никого больше не было.
Потом она сказала, что согласилась бы позировать ему, но только на этом условии. Они лежали в темноте, и Джиния не замечала, что темнеет. В этот вечер Северино пришлось уйти на работу, поужинав всухомятку, но это случалось уже не в первый раз, и он никогда не жаловался. Джиния ушла из студии, только когда пришел Родригес.
В эти последние дни перед увольнением с военной службы Гвидо по вечерам грунтовал и сушил холсты, прилаживал мольберт и все приводил в порядок. Он никуда не выходил. Как видно, было делом решенным, что Родригес и дальше будет жить с ним. Но Родригес умел только устраивать кавардак и заводить пустые разговоры, когда Гвидо было некогда. Джиния была бы так рада помочь Гвидо навести в студии чистоту и порядок, но понимала, что Родригес стал бы приставать к ним и мешаться у них под ногами. От нечего делать она опять начала гулять с Амелией. По большей части они ходили в кино, потому что обе кое-что утаивали друг от друга, и им было нелегко проводить вечера, болтая. Было ясно, что у Амелии что-то на уме и она ходит вокруг да около — недаром она то и дело острила насчет блондинов и блондинок. Но Джиния уже привязалась к ней и была неспособна скрывать свои чувства. Однажды вечером, когда они возвращались домой, она спросила, договорилась ли Амелия с той художницей. Амелия сделала большие глаза и сказала, что об этом нечего говорить.
— Почему же, — сказала Джиния, — я никогда не позировала, но мне неприятно, если ты из-за меня потеряла эту работу.
— Перестань, пожалуйста, — сказала Амелия. — Ты нашла любовника и плюешь на всех. Правильно делаешь. Но на твоем месте я бы поостереглась.
— Почему? — спросила Джиния.
— Что говорит Северино? Нравится ему зять? — со смехом сказала Амелия.
— Почему я должна остерегаться? — спросила Джиния.
— Ты отбиваешь у меня моего прекрасного художника и еще спрашиваешь?
У Джинии екнуло сердце. С минуту она шла молча, чувствуя на себе взгляд Амелии, потом спросила:
— Ты позировала Гвидо?
Амелия взяла ее под руку и промолвила:
— Я пошутила.
Потом, помолчав, сказала:
— Разве не лучше нам гулять вдвоем, как женщина с женщиной, чем портить себе кровь, путаясь с хамами, которые ничего не понимают в девушках и ухлестывают за первой попавшейся?
— Но ты ведь крутишь с Родригесом, — сказала Джиния.
Амелия пожала плечами и фыркнула. Потом проговорила:
— Скажи мне одну вещь. Гвидо по крайней мере осторожен?
— Не знаю, — сказала Джиния.
Амелия задержала ее и взяла за подбородок.
— Посмотри мне в лицо, — сказала она.
Джиния не стала сопротивляться, потому что речь шла о Гвидо. Они остановились в тени подъезда, и Амелия быстро поцеловала ее в губы.
XI
Они пошли дальше, и испуганная Джиния натянуто улыбалась под взглядом Амелии.
— Сотри помаду, — сказала Амелия спокойным голосом.
Джиния, не останавливаясь, достала зеркальце и смотрелась в него не отрываясь, пока они не дошли до следующего фонаря — все разглядывала глаза и поправляла волосы.
— Ты, наверное, думаешь, что я выпила? — сказала Амелия, когда они миновали фонарь.
Джиния спрятала зеркальце и, не отвечая, пошла дальше. Стук их каблуков по тротуару отдавался в ушах. На углу Амелия хотела было остановиться, но Джиния сказала:
— Нам сюда.
Они завернули за угол, и, когда подошли к подъезду, Амелия сказала:
— Ну, пока.
— Пока, — сказала Джиния и пошла дальше одна.
На следующий день, когда она вошла в студию, Гвидо зажег свет, потому что на улице стоял туман и, заволакивая огромные стекла, казалось, окутывал и их самих.
— Почему ты не разожжешь керосинку? — спросила Джиния.
— Керосинка горит, — сказал Гвидо, который на этот раз был в куртке. — Не бойся, зимой будем топить камин.
Джиния, обойдя комнату, приподняла прибитый к стене кусок материи и увидела маленький камин, заполненный стопками книг и всяким хламом.
— Как хорошо. И тот, кто позирует, встает сюда?
— Если позирует голым, — сказал Гвидо.
Потом он вытащил из-под кровати чемодан, в котором оказалась его штатская одежда.
— У тебя были натурщицы? — спросила Джиния. — Покажи мне папки с рисунками.
Гвидо взял ее за руку повыше локтя.
— Я вижу, ты много чего знаешь про художников. Скажи-ка, ты знакома с кем-нибудь из нашей братии?
Джиния шутливо приложила палец к губам и попыталась вырваться.
— Лучше покажи мне папки. Вы с Амелией говорили, что сюда приходило много девушек.
— Понятное дело, — сказал Гвидо, — такая у меня профессия. — Потом, чтобы она не вырывалась, поцеловал ее. — Так кого же ты знаешь?
— Да никого, — сказала Джиния, обнимая его. — Я хотела бы знать одного тебя и чтобы никто больше сюда не приходил.
— Мы соскучились бы, — сказал Гвидо.
В этот вечер Джиния хотела подмести пол, но половой щетки не нашлось, и она решила хотя бы перестелить постель за портьерой, грязную, точно звериное логово.
— Ты будешь спать здесь? — спросила она.
Гвидо сказал, что любит ночью смотреть на звезды и будет спать на тахте.
— Тогда я не стану перестилать постель, — сказала Джиния.
На следующий день она пришла со свертком в сумочке. Это был галстук для Гвидо. Гвидо шутя примерил его на свою серо-зеленую гимнастерку.
— Когда ты будешь в штатском, он тебе пойдет, — сказала Джиния.
Потом они ушли за портьеру и сплелись в объятиях на неубранной постели, натянув на себя одеяло, потому что было холодно. Гвидо сказал, что это ему полагается делать ей подарки, и Джиния, состроив гримаску, попросила у него половую щетку для студии.
Эти дни, когда они виделись вот так, урывками, были самые лучшие, только у них никогда не было времени спокойно, не торопясь поговорить, потому что с минуты на минуту мог прийти Родригес, а Джиния не хотела, чтобы он застал ее неодетой. Но в один из последних дней Гвидо сказал, что чувствует себя перед ней в долгу, и они договорились пойти куда-нибудь после ужина.
— Пойдем в кино, — сказал Гвидо.
— Зачем? Лучше погуляем, так хорошо побродить вдвоем.
— Да ведь холодно, — сказал Гвидо.
— Можно пойти в кафе или в танцзал.
— Я не люблю танцевать, — сказал Гвидо.
Вечером они встретились, и Джинии было как-то странно, что она идет по улице с сержантом, но она говорила себе, что это Гвидо и что он все тот же. Сперва Гвидо держал ее за руку, как девочку, но ему то и дело приходилось отдавать честь офицерам, и Джиния перешла на другую сторону и сама уцепилась за его руку. Так они шли, и Джинии даже улица казалась другой.
«Что, если бы мы встретили Амелию?» — думала она и рассказывала Гвидо про синьору Биче, стараясь удержаться от смеха. Гвидо шутил и приговаривал:
— Через три дня я перестану отдавать честь этим образинам. Посмотри только, что за рожи — так и просят кирпича.
— Амелия тоже любит потешаться над прохожими, — сказала Джиния. — Остановится и смеется им в лицо.
— Амелия иногда перебарщивает. Ты давно ее знаешь?
— Мы соседки, — сказала Джиния. — А ты?
Тогда Гвидо рассказал ей про тот год, когда он снял студию и к нему приходили его друзья студенты, один из которых потом стал монахом. Амелия тогда еще не была натурщицей, но любила повеселиться, и они приходили и днем и вечером, и смеялись, и пили, а он тем временем пытался работать. Как именно он познакомился с Амелией, Гвидо не помнил. Потом один из его друзей ушел в армию, другой сдал экзамены, третий женился, и веселое время кончилось.
— Ты жалеешь об этом? — сказала Джиния, заглядывая в глаза Гвидо.
— Больше всего я жалею о монахе, который иногда пишет мне и спрашивает, как я работаю и вижусь ли с кем-нибудь из старых друзей.
— Но ведь и другие тоже могут тебе писать?
— К чему мне это, я же не в тюрьме, — сказал Гвидо. — Тот, который постригся в монахи, был единственный, кому нравились мои картины. Ты бы видела его: рослый, дюжий мужчина вроде меня, а глаза девичьи. Жаль, он все понимал.
— А ты не станешь монахом, Гвидо?
— Такой опасности нет.
— Родригесу не нравятся твои картины. Вот он действительно смахивает на священника.
Ко Гвидо вступился за Родригеса и сказал, что он замечательный художник, но, прежде чем рисовать, все обдумывает и ничего не делает случайно, и его работам не хватает только цвета.
— У него на родине слишком много красок, — сказал он. — Маленьким он объелся ими и теперь хотел бы рисовать без них. Но какой у него глаз, какая рука!
— Ты позволишь мне смотреть, когда будешь рисовать красками? — сказала Джиния, сжимая его руку.
— Если я буду еще способен на это, когда расстанусь с военной формой. Вот раньше я действительно работал. Я писал по картине в неделю. Такая была жизнь, что все горело в руках. Кончилось это времечко.
— А я для тебя ничего не значу? — спросила Джиния.
Гвидо прижал к себе ее руку.
— Худое лето, когда солнца нету, а ты же не солнце. Ты не знаешь, что такое писать картину. Мне бы нужно влюбиться в тебя, чтобы поумнеть, но тогда я потерял бы время. Надо тебе сказать, что человек может по-настоящему работать, только, если у него есть друзья, которые понимают его.
— Ты никогда не был влюблен? — сказала Джиния, не глядя на него.
— Влюблен? У меня нет на это времени.
Устав ходить по улицам, они отправились разыгрывать из себя влюбленных в кафе. Гвидо курил и слушал то, что она говорила ему, глядя на входящих и выходящих посетителей. Чтобы доставить ей удовольствие, он нарисовал карандашом ее профиль на мраморном столике. Улучив минуту, когда поблизости никого не было, Джиния сказала ему:
— Знаешь, я рада, что ты никогда не был влюблен.
— Вот и хорошо, если тебе это приятно, — сказал Гвидо.
Вечер кончился грустно, потому что выяснилось, что, как только Гвидо уволят с военной службы, ему придется поехать к себе на родину навестить мать. Джиния утешалась как могла, расспрашивая Гвидо о его доме и семье, о занятиях его отца, о его детстве. Она узнала, что у него есть сестра, которую зовут Луиза, а еще оказалось — и это ей не понравилось, — что Гвидо, собственно говоря, крестьянин. «Мальчишкой я бегал босиком», — признался он ей со смехом, и тогда Джиния поняла, почему у него такие сильные руки и такой зычный голос. Ей не верилось, что крестьянин может стать художником, а Гвидо, как ни странно, хвалился этим и, когда Джиния сказала ему: «Но ты ведь живешь здесь», ответил ей, что настоящему художнику место в деревне.
— Но ты ведь живешь здесь, — повторила Джиния, и тогда Гвидо сказал:
— Мне хорошо только на вершине холма.
С тех пор Джиния почему-то много думала об этой Луизе, которая имела счастье быть сестрой Гвидо, и завидовала ей, и старалась представить себе, о чем Гвидо говорил с ней, когда был подростком. Теперь она понимала, почему Амелия никогда не зарилась на него. «Не будь он художником, он был бы простым мужиком», — думала Джиния и представляла себе его призывником, одним из тех горланящих песни деревенских парней в шейных платках, которых в марте забирают в солдаты. «Но он живет здесь, — думала она, — и он образованный, был студентом, и у нас одинаковые волосы. А интересно, Луиза тоже беленькая?» В этот вечер Джиния, как только пришла домой, заперла дверь на ключ, потом разделась перед зеркалом и озабоченно оглядела себя. После той боли, которую в первый раз причинил ей Гвидо, ей казалось удивительным, что у нее на теле не осталось никаких следов. Она вообразила себя позирующей перед Гвидо и села на стул, как сидела Амелия в студии Бородача. Кто знает, скольких девушек Гвидо видел голыми. Только ее он еще как следует не видел, и при одной мысли об этом у Джинии колотилось сердце. Хорошо бы было вдруг стать такой, как Амелия, смуглой, стройной и равнодушной. А так она не могла показаться Гвидо голой. Сперва они должны были пожениться.
Но Джиния знала, что он никогда не женится на ней, как бы она его ни любила. Она знала это с того самого вечера, когда отдалась ему. Спасибо и на том, что пока еще, когда она приходила, Гвидо переставал работать и шел с ней за портьеру. Она понимала, что сможет и дальше встречаться с ним, только если станет его натурщицей. Иначе в один прекрасный день он возьмет другую.
Джинии было холодно сидеть перед зеркалом голой, и, чувствуя, что у нее сделалась гусиная кожа, она накинула на себя пальто. «Вот как я выглядела бы, если бы позировала», — говорила она и завидовала Амелии, которая уже не стыдилась.
XII
В тот вечер, когда Джиния увиделась с Гвидо в последний раз перед его отъездом, она вдруг почувствовала в его объятиях, что такое умирать от наслаждения, и так замлела, что Гвидо отдернул портьеру, чтобы посмотреть на нее, но она закрыла лицо руками. Когда потом пришел Родригес и стал болтать с Гвидо, Джиния поняла, что значит не быть женатыми и не иметь возможности проводить вместе день и ночь. Она в каком-то ошеломлении спустилась по лестнице, убежденная, что теперь она уже не такая, как прежде, и что все это замечают. «Вот почему любовь считается чем-то запретным, — думала она, — вот почему». И она спрашивала себя, прошли ли через это и Амелия, и Роза. В витринах она видела себя идущей, как пьяная, и это расплывчатое отражение, мелькавшее, как тень, подтверждало, что она стала другой. Теперь она понимала, почему у всех актрис такие томные глаза. Но беременеют, должно быть, не от этого, думала она, потому что у актрис обычно не бывает детей.
Как только Северино ушел, Джиния заперла дверь и разделась перед зеркалом. Она увидела, что она все та же, и это показалось ей непостижимым. У нее было такое ощущение, будто кожа отстала от тела, и еще ее слегка знобило, но она не изменилась, она была такая же бледная, белая, как всегда. «Будь здесь Гвидо, — пронеслось у нее в голове, — я дала бы ему смотреть на себя. Я сказала бы ему, что теперь я настоящая женщина».
Наступило воскресенье, и провести его без Гвидо было невесело. Пришла Амелия, и Джиния была счастлива, потому что теперь не боялась ее и, поглощенная мыслями о Гвидо, могла не принимать ее всерьез. Она предоставляла ей болтать, а тем временем думала о своей тайне. Бедняжка Амелия была более одинока, чем она.
Амелия тоже не знала, куда пойти. День был пасмурный и холодный, стоял сырой туман, и даже на футбол не тянуло. Амелия попросила чашку кофе и была не прочь остаться дома и поговорить, лежа на тахте. Но Джиния надела шляпку и сказала:
— Выйдем. Мне хочется пойти на холм.
Амелия, как ни странно, подчинилась ей: она была какая-то вялая в этот день. Они сели на трамвай, чтобы поскорей добраться, хотя и сами не знали, куда им спешить. Джиния командовала, вела Амелию, выбирала улицы, как будто у нее была определенная цель. Когда они стали подниматься в гору, заморосил дождь, и Амелия начала ныть, что они промокнут до нитки, но Джиния сказала:
— Пустяки, это только туман оседает.
Они были уже под деревьями, на пустынном шоссе, где казалось, что ты на краю света, и слышно было только, как плещется вода в канаве и где-то далеко позади погромыхивает трамвай. Воздух был свежий и влажный; чувствовался запах гниющих листьев. Амелия мало-помалу оживилась, и они под ручку трусили по асфальту и, смеясь, говорили, что сошли с ума и что даже влюбленные парочки не ходят на холм в такую погоду.
Их нагнала шикарная машина и, проехав вперед, начала замедлять ход.
— Вот если бы у нас была такая, — сказала Амелия.
Из машины высунулась рука в сером рукаве и поманила их.
— Разрешите вас подвезти? — сказал человек с моноклем в глазу, когда они приблизились.
— Прокатимся, Амелия? — смеясь, шепнула Джиния.
— Как бы нам это боком не вышло, — сказала Амелия. — Чего доброго, он отвезет нас к черту на рога и высадит, а обратно тащись пешком.
Они пошли дальше, а этот тип ехал за ними и говорил глупости и гудел.
— Ну ладно, я сяду, — сказала Амелия, — все лучше, чем стаптывать туфли.
— А блондиночка не поедет? — выскакивая из машины, сказал незнакомец, мужчина лет сорока, тощий как щепка.
Они сели в машину, Амелия посередине, а Джиния с краю, притиснувшись к дверце. Тощий синьор пролез за руль и для начала обнял Амелию за плечи. Увидев у своего уха его костлявую смуглую руку, Джиния подумала: «Если он ко мне притронется, я его укушу». Но они сразу поехали, и этот синьор, у которого был безобразный шрам на виске, сосредоточил все внимание на дороге, а Джиния, прижавшись щекой к окну, подумала о том, как хорошо было бы разъезжать всю эту неделю, пока не вернется Гвидо.
Но это удовольствие быстро кончилось. Машина замедлила ход и остановилась на площадке. Вокруг уже не было красивых зеленых деревьев, а была пустота, заполненная туманом и расчерченная телеграфными проводами. Склон холма казался голой кручей.
— Вы здесь хотите выйти? — поворачиваясь к ним, спросил синьор с моноклем, который он все не вынимал из глаза.
И тут Джиния сказала:
— Вы идите себе в кафе. Я вернусь пешком.
Амелия сделала большие глаза.
— Что за безумие, — сказал мужчина.
— Я вернусь пешком, — повторила Джиния. — Вас двое, а третий лишний.
— Дура, — шепнула ей Амелия, когда они вылезали из машины, — неужели ты не понимаешь, что этот не отделывается словами, а платит?
Но Джиния сделала пируэт и крикнула:
— Спасибо за все! Отвезите домой мою подругу.
Выйдя на дорогу, она с минуту прислушивалась к тишине — не донесется ли из тумана шум заработавшего мотора, потом засмеялась и стала спускаться под гору. «Видишь, Гвидо, я перед тобой чиста», — думала она и оглядывала склоны, вдыхая холодный воздух и запах земли. Гвидо сейчас тоже был среди голых холмов, в своих родных местах. Может быть, он был дома и сидел у огня, куря сигарету, как курил в студии, чтобы согреться. Тут Джиния остановилась, потому что с такой ясностью представила себе теплый и темный закуток за портьерой, как будто была там в эту минуту. «О Гвидо, вернись», — говорила она про себя, сжимая кулаки в карманах пальто.
Домой она вернулась рано, но, усталая, с мокрыми волосами, в забрызганных грязью чулках, была слишком занята собой, чтобы томиться одиночеством. Она сняла туфли, легла на тахту, и, угревшись, поболтала с Гвидо. Она думала о шикарной машине и представляла себе, как развлекается Амелия, которая, вполне возможно, и раньше знала этого синьора.
Когда пришел Северино, она сказала ему, что ей осточертело работать в ателье.
— Ну и уходи, подыщи себе другое место, — сказал он миролюбиво. — Только не оставляй меня больше без еды. Выбирай для своих дел более подходящее время.
— Мне и так дыхнуть некогда.
— Мама всегда говорила, что ты могла бы и дома сидеть. Много ли ты зарабатываешь!
Джиния соскочила с тахты:
— В этом году мы не ходили на кладбище.
— Я ходил, — сказал Северино. — Не притворяйся, ты это прекрасно знала.
Но насчет ателье Джиния сказала просто так, не всерьез. Как ни мало она зарабатывала, без этих денег ей было бы нечего надеть и она не купила бы себе резиновые перчатки, чтобы не портить руки при мытье посуды. И на шляпку, духи, кремы, подарки для Гвидо у нее тоже не было бы денег, и она ничем не отличалась бы от фабричных девчонок вроде Розы. Чего ей не хватало, так это времени. Ей нужна была бы такая работа, чтобы кончать в обед.
С другой стороны, в занятости был свой плюс. Что она делала бы в эти дни одна, без Гвидо, если бы ей пришлось сидеть дома? Слонялась бы весь день из угла в угол и все думала бы, думала бы об одном и том же, пока голова не распухнет? А так она на следующее утро пошла в ателье, и день миновал. Она побежала домой и приготовила хороший ужин для Северино, решив ублажать его все эти дни, потому что потом ему и вправду придется иногда оставаться без горячего.
Амелия не показывалась. В иные вечера Джиния уже готова была пойти в кафе, но вспоминала, что дала себе слово не искать ее, и оставалась дома в надежде, что Амелия сама придет к ней. Как-то раз заявилась Роза показать ей фасон платья, которое она собиралась себе сшить, и Джиния уже не знала, о чем с ней разговаривать. Они потолковали о Пино, но Роза не сказала, что теперь у нее уже другой. Она только жаловалась, что умирает от скуки, и все повторяла:
— Но что поделаешь? Выйдешь замуж, совсем жизни не будет.
Неотвязная мысль о Гвидо не давала Джинии спать, и подчас она на него злилась — как он не понимает, что должен поскорее вернуться. «Кто его знает, приедет ли он в понедельник, — думала она, — может, и не приедет». И уж кого она просто ненавидела, так это Луизу, которая была всего-навсего его сестрой, а могла видеть его весь день. Она дошла до того, что подумывала пойти в студию и спросить у Родригеса, держит ли Гвидо свое слово.
Но вместо этого она пошла в кафе повидать Амелию.
— Ну, как ты повеселилась в воскресенье? — спросила она.
Амелия, курившая сигарету, даже не улыбнулась и тихо сказала:
— Хорошо.
— Он отвез тебя домой?
— Конечно, — сказала Амелия. — Потом спросила. — Почему ты удрала?
— Он обиделся?
— Ну что ты, — ответила Амелия, пристально глядя на нее. — Он только сказал: «Остроумная малютка». Почему ты удрала?
Джиния почувствовала, что краснеет.
— Послушай, он был просто смешон со своим моноклем.
— Дура, — сказала Амелия.
— А как Родригес?
— Он только что ушел.
Они вместе пошли домой, и Амелия сказала ей:
— Я попозже приду к тебе.
В этот вечер ни одна, ни другая не предложили куда-нибудь пойти. Помыв посуду, Джиния села на край тахты, где лежала Амелия.
Они долго молчали, а потом Амелия проронила своим хриплым голосом:
— Остроумная малютка.
Джиния, не оборачиваясь, пожала плечами, Амелия протянула руку и тронула ее волосы.
— Оставь меня, — сказала Джиния.
Амелия, тяжело вздохнув, приподнялась на локте.
— Я влюблена в тебя, — сказала она хрипло. Джиния, вздрогнув, посмотрела на нее. — Но я не могу поцеловать тебя. У меня сифилис.
XIII
— Ты знаешь, что это такое?
Джиния молча кивнула.
— А я вот не знала.
— Кто тебе сказал, что ты больна?
— Ты разве не слышишь, как я говорю? — сказала Амелия сдавленным голосом.
— Но ведь это от курения.
— И я так думала, — сказала Амелия. — Но тот добрый человек, который подвез нас в воскресенье, был врач. Посмотри.
Она расстегнула блузку и вытащила одну грудь.
Джиния сказала:
— Я не верю, что это сифилис.
Амелия, держа рукой грудь, подняла на нее глаза.
— Тогда поцелуй меня, — тихо сказала она, — вот сюда, где воспалено.
С минуту они пристально смотрели друг на друга; потом Джиния закрыла глаза и наклонилась к груди Амелии.
— Ну нет, не надо, — сказала Амелия, — я и так уже поцеловала тебя один раз.
Джиния почувствовала, что вся покрылась испариной, и глупо улыбнулась, красная как рак. Амелия молча смотрела на нее.
— Видишь, какая ты глупая, — сказала она наконец. — Как раз теперь, когда ты влюблена в Гвидо и тебе нет до меня никакого дела, ты хочешь доказать, что любишь меня. — Она стала застегивать блузку, и Джиния заметила, какая у нее худая рука.
— Признайся, что тебе нет до меня никакого дела.
Джиния не знала, что сказать, потому что сама не понимала, как она могла решиться на поступок, который чуть было не совершила. Но она не обижалась на Амелию, потому что догадывалась теперь, что скрывалось за листами, где Амелия была нарисована голой, за ее позами и разговорами. Она дала Амелии выговориться, хотя ее все время тошнило, как тошнило, бывало, в детстве, когда она, собираясь мыться, раздевалась на стуле возле печки.
Но когда Амелия сказала, что болезнь распознают по крови, Джиния испугалась.
— Как же это делают? — спросила она.
Когда Амелия рассказывала, ей делалось легче. Она сказала Джинии, что из руки берут иголкой кровь, и эта кровь темная-темная. Сказала, что ее заставляют раздеваться и больше получаса держат на холоде, а врач всегда злится и грозит отправить ее в больницу.
— Он не имеет права, — сказала Джиния.
— Ты еще зеленая, — сказала Амелия. — Он может даже засадить меня в тюрьму, если захочет. Ты не знаешь, что такое сифилис.
— Но где же ты им заразилась?
Амелия искоса посмотрела на нее.
— Сифилисом заражаются в постели.
— Для этого нужно, чтобы один из двоих был уже болен.
— Ну да, — сказала Амелия.
Тут Джиния вспомнила про Гвидо и вся побелела, не в силах вымолвить ни слова.
Амелия сидела на тахте, держа рукой грудь под блузкой, и смотрела в одну точку; без вуали, с выражением отчаяния на лице, она была непохожа на себя. Время от времени она стискивала зубы, обнажая десны.
— Посмотрела бы ты на Родригеса, — сказала она вдруг все тем же сдавленным голосом. — Ведь он сам говорил, что от сифилиса слепнут и с ног до головы покрываются струпьями. Когда я сказала ему, что больна, он побледнел как полотно. — Амелия скривила губы, как будто хотела плюнуть. — Всегда так бывает. У него ничего нет.
Джиния так торопливо спросила, уверена ли она в этом, что Амелия опешила.
— Да, будь спокойна, у него брали кровь. Такие зануды — толстокожие. Ты боишься за Гвидо?
Джиния попыталась улыбнуться и заморгала глазами. Амелия помолчала — казалось, ее молчание тянулось целую вечность, — потом бросила:
— Гвидо ко мне никогда не прикасался, будь спокойна.
Джиния была счастлива. Она была так счастлива, что положила руку на плечо Амелии. Амелия покривилась.
— Ты не боишься прикасаться ко мне? — сказала она.
— Я же не сплю с тобой, — пролепетала Джиния.
Амелия заговорила о Гвидо, и у Джинии мало-помалу перестало колотиться сердце. Амелия сказала ей, что с Гвидо она даже никогда не целовалась, потому что нельзя же крутить любовь со всеми, и что Гвидо ей нравится, но она не понимает, как это он нравится и Джинии, поскольку она блондинка и он тоже блондин. Джиния, минуту назад похолодевшая от страха, чувствовала, что по жилам ее снова разливается тепло, и наслаждалась этим ощущением.
— Но если у Родригеса ничего нет, — сказала она, — значит, и у тебя ничего нет. Врачи ошиблись.
Амелия посмотрела на нее из-под опущенных век.
— Ты что думала? Что это он меня заразил?
— Не знаю, — сказала Джиния.
— Я же говорю тебе, что он испугался, как ребенок, — проронила Амелия. — Нет, это не он. Но от божьего наказания не уйдешь. У той стервы, которая наградила меня этим, болезнь зашла дальше, чем у меня. Она этого еще не знает, и я дам ей ослепнуть.
— Это женщина? — тихо спросила Джиния.
— Я больна уже больше двух месяцев. Это ее подарочек, — сказала Амелия, притронувшись к груди.
Весь вечер Джиния старалась успокоить ее, но следила, чтобы она к ней не прикасалась, и ободряла себя, думая о том, что они с Амелией только ходили под руку и к тому же сама Амелия сказала ей, что заболевают, когда есть какая-нибудь ранка, потому что зараза в крови. И потом, Джиния, хоть и не осмеливалась об этом говорить, была уверена, что такие вещи случаются с теми, кто грешит, как грешила Амелия, хотя, если вдуматься, тогда все мы должны быть больны.
Когда они спускались по лестнице, Джиния сказала, что Амелия не должна мстить этой женщине, потому что, если та не знала, что больна, она ни в чем не виновата. Но Амелия, остановившись на ступеньке, перебила ее:
— Может, мне тогда послать ей букет цветов?
Они условились встретиться завтра в кафе, и Джиния с бьющимся сердцем посмотрела ей вслед.
Но назавтра Джиния встала ни жива ни мертва. Она вышла из дому на час раньше, чем обычно, когда еще горели фонари, и побежала в студию. Она не решилась сразу подняться, опасаясь, что Родригес еще спит, и стала, поеживаясь от холода, прохаживаться взад и вперед под окном с тем же чувством, с каким она ворочалась с боку на бок в постели. Но потом она, вся дрожа, поднялась и постучала в дверь.
Она застала Родригеса в пижаме. Он посмотрел на нее мутными глазами и, вприпрыжку пробежав через комнату, в которой, как всегда, было грязно и светло, сел на край кровати. Джиния начала что-то лепетать, а Родригес чесал себе лодыжки, пока она не спросила, был ли он у врача. Тут они оба стали на все корки ругать Амелию, и у Джинии, смотревшей в сторону, чтобы не видеть безобразных ног Родригеса, от волнения даже голос задрожал.
Потом Родригес сказал:
— Я лягу в постель, а то холодно, — и улегся, натянув на себя одеяло.
Когда Джиния, дрожа, сказала ему, что Амелия однажды поцеловала ее, он засмеялся, приподнявшись на локте.
— Выходит, мы товарищи по несчастью, — сказал он. — Только поцеловала?
— Да, — сказала Джиния. — Это опасно?
— Как поцеловала?
Джиния не понимала. Тогда Родригес объяснил ей, что он имеет в виду, и Джиния поклялась, что Амелия поцеловала ее безо всякого такого, как девушка девушку.
— Ерунда, — сказал Родригес, — будь спокойна.
Джиния стояла у портьеры; на столе тускло поблескивал грязный стакан и валялись апельсинные корки.
— Когда приезжает Гвидо? — спросила она.
— В понедельник, — сказал Родригес и, указывая на стакан, добавил: — Видишь? Его уже ждет натюрморт.
Джиния улыбнулась и двинулась было к двери.
— Посиди, Джиния. Сядь сюда, на кровать.
— Мне надо бежать на работу, — сказала Джиния.
Но Родригес стал жаловаться, что она разбудила его и даже не хочет побыть с ним минутку.
— По случаю миновавшей опасности, — сказал он.
Тогда Джиния села на краешек кровати, у раздвинутой портьеры.
— У меня сердце болит за Амелию, — сказала она. — Бедняжка. Она так убивается. От сифилиса в самом деле слепнут?
— Да нет, — сказал Родригес, — вылечиваются. Ее всю исколят, кое-где срежут кожу, и, увидишь, этот самый доктор еще ляжет с ней в постель. Можешь мне поверить.
Джиния пыталась сдержать улыбку, а Родригес продолжал:
— Он возил вас на холм?
Разговаривая, он гладил ее по руке, точно кошку по шерстке.
— Какие холодные руки, — сказал он потом. — Почему бы тебе не забраться ко мне под одеяло, чтобы согреться?
Джиния дала поцеловать себя в шею, лепеча «не надо, не надо», потом вся красная вскочила на ноги и убежала.
XIV
Вечером Родригес тоже пришел в кафе и сел за соседний столик с той стороны, где сидела Джиния.
— Ну, как голос? — спросил он не то серьезно, не то шутливо.
Как раз в это время Джиния старалась утешить Амелию, объясняя ей, что от сифилиса вылечиваются, и обрадовалась, когда ей пришлось замолчать. Они с Родригесом едва взглянули друг на друга.
Молчала и Амелия, и Джиния уже собиралась спросить, который час, когда Родригес проговорил ироническим тоном:
— Нечего сказать, хороша, оказывается, ты и малолетних совращаешь.
Амелия не сразу поняла, и в ожидании ее ответа Джиния от страха закрыла глаза. В тот самый момент, когда она открыла их, она услышала угрожающий голос Амелии:
— Что тебе наплела эта дура?
Но Родригес, видно, сжалился, потому что сказал:
— Она пришла ко мне сегодня утром, когда я еще спал, расспросить про тебя.
— Делать ей нечего, — сказала Амелия.
В эти дни Джиния старалась быть очень хорошей, чтобы Гвидо вправду приехал, и опять пошла повидать Родригеса. Уже не утром в студию, потому что боялась, что он начнет к ней лезть, как в прошлый раз, да и не хотела будить этого соню, а в полдень в тратторию, где он обедал и где предстояло обедать и Гвидо, когда он вернется. Траттория находилась на той же улице, где была остановка трамвая, и Джиния зашла туда по дороге поболтать и узнать, что нового. Она вела себя, как Амелия, подшучивала над Родригесом, но он понял ее и больше не давал рукам воли. Они договорились, что в воскресенье она придет в студию немножко прибрать к приезду Гвидо.
— Мы, сифилитики, ничего не боимся, — сказал Родригес.
А Амелия туда больше не ходила. Джиния встретилась с ней в субботу после обеда и проводила ее к доктору, который ей делал уколы. Они в нерешительности остановились у подъезда, и под конец Амелия сказала:
— Не поднимайся, а то он и у тебя найдет какую-нибудь хворь, — и, взбегая по лестнице, бросила: — Пока, Джиния. — И у Джинии, до этого такой веселой, защемило сердце, и домой она вернулась подавленная. Даже мысль о том, что послезавтра приедет Гвидо, не утешала ее.
Вот и воскресенье пролетело как сон. Джиния весь день провела в студии — подметала, стирала пыль, наводила порядок. Родригес даже не пытался приставать к ней. Он помог ей вынести на помойку горы бумажных кульков и очисток. Потом они отряхнули от пыли книги, лежавшие в камине, и поставили их на ящик, как на книжную полку. Когда они мыли кисти, Джиния на минуту остановилась как зачарованная: запах скипидара напомнил ей Гвидо, и он так живо представился ей, как будто был здесь, рядом. Родригес с недоумением посмотрел на нее, и она улыбнулась.
— Повезло этому свинтусу, — сказал Родригес, когда Джиния кончила уборку и вышла из-за портьеры с полотенцем в руках. — Ему и не снится, что он найдет здесь такую чистоту и порядок.
Потом они выпили чаю в уголке возле керосинки и стали просматривать папки Гвидо, которые нашли под книгами, но Джиния была разочарована, потому что там оказались только пейзажи и голова старика.
— Подожди, подожди, — сказал Родригес, — я знаю, что ты ищешь.
Скоро пошли женщины. Они напоминали модные картинки, и Джинии было занятно смотреть на них, потому что это была мода двухлетней давности. Их сменили голые женщины. Потом появились голые мужчины, и Джиния поскорее перевернула эти листы, застеснявшись Родригеса, который сидел, прислонившись к стене, и заглядывал ей через плечо. Наконец опять попалась одетая женщина — широколицая деревенская девушка, нарисованная до пояса.
— Кто это? — спросила Джиния.
— Наверно, его сестра, — сказал Родригес.
— Луиза?
— Не знаю.
Джиния внимательно изучала эти большие глаза и тонкий рот. Девушка была ни на кого не похожа.
— Хороша, — сказала Джиния. — Вот если бы все портреты были такие. А то у вас, художников, люди всегда выходят какими-то сонными.
— Это ты ему говори, — сказал Родригес, — я тут ни при чем.
У Джинии было так радостно на душе, что, догадайся об этом Родригес, он, наверное, поцеловал бы ее. А он, напротив, что-то погрустнел, и, если бы не свет, еще сочившийся сквозь стекла, Джиния приласкала бы его, вообразив, что это Гвидо сидит на тахте. При мысли о нем она закрыла глаза.
— Как хорошо, — сказала она вслух.
Потом она еще раз спросила Родригеса, не знает ли он, в котором часу завтра приезжает Гвидо. Но Родригес ответил — трудно сказать, возможно, он приедет на велосипеде. Тут они заговорили о родных местах Гвидо, и, хотя Родригес там никогда не был, он шутки ради описал их Джинии, как скопища свинарников и курятников, откуда не так-то просто выбраться, потому что дороги там такие, что в эту пору по ним ни пройти, ни проехать. Джиния нахмурилась и велела ему перестать.
Они вместе вышли из студии, и Родригес обещал, что не будет стряхивать пепел куда попало.
— Я вообще буду ночевать сегодня где-нибудь на скамейке. Идет?
Они, смеясь, вышли из подъезда, и Джиния села на трамвай, думая об Амелии и о девушках, которых она видела на рисунках, и мысленно сравнивая себя с ними. Казалось, только вчера они с Амелией были на холме, а вот уже и Гвидо возвращался.
Назавтра она проснулась сама не своя. Время до обеда пролетело как миг. Она условилась с Родригесом, что, если Гвидо приедет, они будут в кафе. Затаив дыхание, она подошла к кафе и сквозь витрину увидела их у стойки. Гвидо стоял, поставив ногу на перекладину; в плаще он выглядел худым. Будь он один, Джиния не узнала бы его. Плащ на нем был распахнут, и виден был серый галстук — не тот, который она подарила ему. В штатском Гвидо уже не казался молодым парнем.
Они с Родригесом, смеясь, разговаривали. Джиния подумала: «Хоть бы тут была Амелия. Я бы сделала вид, что иду к ней». Чтобы набраться храбрости, ей пришлось напомнить себе, что она навела в студии чистоту и порядок.
Джиния была еще в дверях, когда Гвидо заметил ее, и она шагнула ему навстречу с таким видом, как будто вошла случайно. Никогда еще она так не смущалась перед ним, как в эту минуту. Он на ходу, среди сутолоки протянул ей руку, продолжая через плечо что-то говорить Родригесу.
Они почти ничего не сказали друг другу. Гвидо торопился больше, чем она, потому что его кто-то ждал. Он ободрил ее улыбкой и спросил:
— Ну, как поживаешь? Все в порядке?
А в дверях крикнул:
— До свиданья!
Джиния пошла к трамваю, улыбаясь как дура. Вдруг кто-то взял ее за руку повыше локтя, и знакомый голос, голос Гвидо, шепнул ей на ухо:
— Джинетта!
Они остановились, и у Джинии выступили слезы на глазах.
— Куда ты шла? — спросил Гвидо.
— Домой.
— Не сказав мне доброго слова? — сказал Гвидо и, нежно посмотрев на нее, сжал ей руку.
— О, Гвидо, — сказала Джиния, — я так тебя ждала.
Они молча вернулись на тротуар, потом Гвидо сказал:
— Теперь ступай домой, а когда придешь ко мне, пожалуйста, не плачь.
— Сегодня вечером?
— Сегодня вечером.
В этот вечер Джиния, перед тем как выйти из дому, помылась специально для Гвидо. При мысли о предстоящем свидании у нее подкашивались ноги. Она, замирая от страха, поднялась по лестнице и, подойдя к двери, прислушалась. В студии горел свет, но было тихо. Джиния покашляла, как она уже делала один раз, но за дверью не послышалось никакого движения, и она решилась постучать.
XV
Ей, смеясь, открыл Гвидо, и из глубины комнаты послышался девичий голос:
— Кто там?
Гвидо протянул ей руку и сказал:
— Заходи.
В мерклом свете у самой портьеры какая-то девушка надевала плащ. Она была без шляпки и посмотрела на Джинию сверху вниз, как будто была здесь хозяйка.
— Это моя коллега, — сказал Гвидо. — А это просто Джиния.
Девушка, закусив губу, подошла к окну и стала, как в зеркало, глядеться в темное стекло. Походкой она напоминала Амелию. Джиния смотрела то на нее, то на Гвидо.
— Так-то вот, Джиния, — сказал Гвидо.
Наконец девушка ушла, но на пороге обернулась и еще раз смерила Джинию взглядом. Дверь захлопнулась, и послышались удаляющиеся шаги.
— Это натурщица, — сказал Гвидо.
В эту ночь они остались на тахте при зажженном свете, и Джиния уже не старалась прикрыться. Они перенесли керосинку к тахте, но все равно было холодно, и, после того как Гвидо с минуту смотрел на Джинию, ей пришлось опять забраться под одеяло. Но прекраснее всего было, прижимаясь к нему, думать о том, что это настоящая любовь.
Гвидо встал и как был, голый, пошел за вином и вернулся, дрожа от холода. Они согрели стаканы над керосинкой, и в постели от Гвидо пахло вином, но Джинии больше нравился теплый запах его кожи. У Гвидо на груди были курчавые волосы, и, когда он раскрывался, Джиния сравнивала их со своими, тоже светлыми, и ей было и стыдно и приятно в одно и то же время. Она сказала на ухо Гвидо, что боится смотреть на него, а Гвидо ответил:
— Ну и не смотри.
Лежа в обнимку, они заговорили об Амелии, и Джиния сказала ему, что она попала в беду из-за женщины.
— Так ей и надо, — сказал Гвидо. — Разве этим шутят?
— От тебя пахнет вином, — тихо проговорила Джиния.
— В постели еще и не тем пахнет, — ответил Гвидо, но Джиния зажала ему рот рукой.
Потом они погасили свет, и Джиния смотрела в потолок и думала о разных вещах, а Гвидо дышал ей в щеку. За окном виднелись убегающие вдаль огни. Запах вина и теплое дыхание Гвидо вызывали у Джинии мысль о его родных местах. И еще она думала о том, вправду ли Гвидо, который всю поцеловал ее, не говоря ни слова, нравится ее тело, хотя она такая худышка, или он тоже предпочел бы Амелию, смуглую и красивую.
Потом она заметила, что Гвидо заснул, и ей показалось невероятным, что можно спать вот так, обнявшись, и она потихоньку отодвинулась, но на новом месте, не согретом их телами, ей стало не по себе — она почувствовала себя голой и одинокой. Опять подкатила тошнота и защемило сердце, как бывало в детстве, когда она мылась. И она спросила себя, почему Гвидо спит с ней, подумала о том, что будет завтра, вспомнила, как она ждала его все эти дни, и глаза у нее наполнились слезами, которые она выплакала тихо, чтобы Гвидо не услышал.
Они оделись в темноте, и в темноте Джиния вдруг спросила, кто была эта натурщица.
— Так, одна бедняга. Ей сказали, что я вернулся, вот она и пришла.
— Она красивая? — спросила Джиния.
— Ты что, не видела?
— Но как можно позировать при таком холоде?
— Вам, девушкам, холод нипочем, — сказал Гвидо. — Вы созданы для того, чтобы быть голыми.
— Я не смогла бы, — сказала Джиния.
— Да ведь лежала же ты только что голая.
Когда зажегся свет, Гвидо с улыбкой посмотрел на нее.
— Ты довольна? — сказал он.
Они сели рядышком на тахту, и Джиния положила голову на плечо Гвидо, чтобы не смотреть ему в глаза.
— Я так боюсь, что ты меня не любишь, — сказала она.
Потом Джиния стала готовить чай, а Гвидо тем временем курил, сидя на тахте.
— Кажется, я делаю все, как ты хочешь. Я даже на весь вечер выпроводил Родригеса.
— Он вот-вот вернется? — спросила Джиния.
— У него нет ключа от подъезда. Я сам спущусь за ним.
Они расстались у подъезда, потому что Джинии не хотелось встречаться с Родригесом. Она вернулась домой на трамвае осоловелая, уже ни о чем не думая.
Так началась для нее новая жизнь, потому что теперь, после того как они с Гвидо видели друг друга голыми, ей все казалось иным. Вот теперь она действительно была как бы замужем, и, даже когда оставалась одна, ей достаточно было подумать о глазах Гвидо, вспомнить, как он смотрел на нее, чтобы прогнать чувство одиночества. «Вот что значит выйти замуж». Она спрашивала себя, вела ли себя мама так же, как она с Гвидо. Но ей казалось невозможным, чтобы у других хватило на это смелости. Ни одна женщина, ни одна девушка не могла видеть голого мужчину, как она видела Гвидо. Такое может случиться только раз.
Но она не была дурой и понимала, что все так думают. И Роза тоже так думала, когда хотела покончить с собой. Разница только в том, что она ходила с Пино в луга и не знала, как хорошо встречаться и болтать с Гвидо.
Однако с Гвидо было бы хорошо и в лугах. Джиния все время думала об этом. Она проклинала снег и холод, которые были помехой всему, и, замирая от наслаждения, думала о лете, когда они будут ходить на холм, гулять ночью, открывать окна. Гвидо сказал ей:
— Видела бы ты меня в деревне. Только там я пишу по-настоящему. Ни одна девушка не сравнится с холмами.
Джиния была рада, что Гвидо не взял натурщицу, а хотел написать картину, которая опоясывала бы всю комнату, как прорезь в стене, так, чтобы на тебя со всех сторон глядели холмы и ясное небо. Он обдумывал ее, когда был солдатом, а теперь целый день возился с полосами бумаги и делал на них мазки, пока еще просто так, для пробы. Однажды он сказал Джинии:
— Я еще недостаточно хорошо тебя знаю, чтобы написать твой портрет. Подождем.
Родригес почти не показывался: когда к ужину Джиния приходила в студню, он уже сидел в кафе. Зато там бывали другие знакомые Гвидо, которые приходили провести с ним вечер, в том числе и женщины: однажды Джиния увидела окурок, запачканный помадой, и вот тогда-то, чтобы доставить удовольствие Гвидо, она, сказав, что не хочет беспокоить его и стесняется этих людей, предложила ему оставлять дверь открытой, когда он один и хочет ее видеть.
— Я бы приходила всегда, Гвидо, — сказала она, — но я понимаю, что у тебя есть своя жизнь. Я хочу, чтобы, когда мы видимся, мы были одни и чтобы я никогда не бывала тебе в тягость.
Говорить ему подобные вещи доставляло ей такую же острую радость, какую она испытывала, когда они обнимались. Но в первый раз, когда она нашла дверь запертой, она не выдержала и постучала.
Иногда в обед к ней приходила Амелия с осунувшимся лицом и синевой под глазами. Они сразу выходили, потому что Джиния не хотела дать ей время сесть на тахту, и до трех часов слонялись по улицам. Амелия без стеснения заходила в бар и пила кофе, оставляя на чашке пятно помады — она густо красилась, чтобы не выглядеть бледной. Когда Джиния сказала ей, что так она может заразить людей, которые будут после нее пить из этих чашек, Амелия ответила, пожав плечами:
— Пусть моют. Ты что думаешь? На свете полно таких людей, как я. Вся разница в том, что они этого не знают.
— А тебе, видно, лучше, — сказала Джиния. — У тебя голос звонче.
— Ты находишь? — сказала Амелия.
Только об этом они и говорили. Джиния хотела бы о многом спросить Амелию, но не решалась. В тот единственный раз, когда она упомянула о Родригесе, Амелия скорчила гримасу и сказала:
— Брось, ну их обоих.
Но однажды вечером она пришла к Джинии и спросила:
— Ты пойдешь сегодня вечером к Гвидо?
— Не знаю, — сказала Джиния. — У него, наверно, будет народ.
— И ты стесняешься, не хочешь надоедать ему? Приучаешь его развлекаться без тебя? Дура, пока ты не перестанешь тушеваться, у тебя никогда ничего не выйдет.
Когда они шли в студию, Джиния сказала ей:
— Я думала, ты поссорилась с Родригесом.
— Он все такая же свинья, — ответила Амелия. — Подумать только, что я спасла ему шкуру. Это он тебе сказал, что мы поссорились?
— Нет. Он только говорит, что ты нашла удобный предлог, чтобы крутить с этим врачом.
Амелия засмеялась с угрозой в голосе. Когда они подошли к подъезду, Джиния увидела, что окно наверху освещено, и упала духом, потому что до этой минуты надеялась, что Гвидо нет дома.
— Там никого нет, — все-таки сказала она. — Не стоит подниматься.
Но Амелия решительно вошла в подъезд.
Они застали в студии Гвидо и Родригеса, которые разжигали огонь в камине. Первой вошла Амелия, потом Джиния, силившаяся улыбаться.
— Кого я вижу! — сказал Гвидо.
XVI
Джиния спросила, не помешают ли они, и Гвидо бросил на нее комический взгляд, который озадачил ее. Возле камина были сложены дрова. Амелия между тем направилась к тахте и села, спокойно сказав, что сегодня холодно.
— У кого какая кровь, — пробормотал Родригес, возясь у камина.
Джиния спрашивала себя, кого бы это они могли ждать, если даже затапливали камин. Еще вчера этих дров не было. С минуту все молчали, и ей было стыдно за нахальство Амелии. Когда огонь занялся, Гвидо, не оборачиваясь, сказал Родригесу:
— Ничего, еще тянет.
Амелия расхохоталась как сумасшедшая, и Родригес тоже осклабился от удовольствия. Потом Гвидо встал и погасил свет. Комната, в которой затанцевали тени, стала совсем другой.
— Вот мы и собрались опять, — сказала Амелия. — Как хорошо.
— Не хватает только каштанов, — сказал Гвидо. — Вино есть.
Амелия сняла шляпу, почувствовав себя счастливой, и сказала, что на углу старуха продает жареные каштаны.
— Пусть сходит Родригес, — сказала Амелия.
Но Джиния от радости, что они больше не дуются друг на друга, сама сбежала вниз по лестнице. Ей пришлось порядком побегать, ежась от холода, потому что старухи на углу не было, и, кружа в поисках каштанов, она думала про себя, что Амелия ничего подобного не сделала бы ни для кого. Она вернулась, запыхавшись. В комнате все танцевало перед глазами. Родригес, как когда-то, сидел на тахте, в ногах у лежащей Амелии, а Гвидо, стоя в красноватой полутьме, говорил и курил.
Они уже наполнили стаканы и болтали о картинах. Гвидо говорил о холме, который хотел написать, о том, что думает трактовать его как женщину, лежащую грудями к солнцу, и придать ему пластичность и теплый колорит, присущие женскому телу.
Родригес сказал:
— Это уже было. Придумай что-нибудь другое. Это уже было.
Тут они заспорили о том, была ли на самом деле уже написана такая картина, а тем временем ели каштаны и бросали скорлупу в камин. Амелия бросала ее на пол. Под конец Гвидо сказал:
— Нет, никто никогда не писал то и другое вместе. А я возьму женщину и положу ее так, как будто это холм на фоне нейтрального неба.
— Значит, ты задумал символическую картину. Тогда ты напишешь женщину и не напишешь холма, — злясь, сказал Родригес.
До Джинии это не сразу дошло, но в какой-то момент Амелия вызвалась позировать Гвидо, и он не возражал.
— При таком холоде? — спросила Джиния.
Ей даже не ответили, и Гвидо с Родригесом стали обсуждать, куда для этого перенести тахту, чтобы совместить свет с теплом от камина.
— Но Амелия больна, — сказала Джиния.
— Ну и что? — вскинулась Амелия. — Мое дело лежать и не двигаться.
— Это будет высоконравственная картина, — сказал Родригес, — самая нравственная картина в мире.
Они позубоскалили, посмеялись, и Амелия, которая из осторожности не пила, под конец все-таки попросила налить ей стакан и объяснила, что надо только потом вымыть его с мылом. Она сказала, что так делает и дома, и рассказала Гвидо, как ее лечит этот доктор, и они пошутили насчет уколов, и Амелия сказала, чтобы он не беспокоился, потому что кожа у нее здоровая. Джиния в отместку спросила, прошло ли у нее воспаление на груди, и тут Амелия разозлилась и бросила в ответ, что груди у нее покрасивее, чем у Джинии. Гвидо сказал:
— Посмотрим.
Все со смехом переглянулись. Амелия распахнула блузку, расстегнула бюстгальтер и показала свои груди, держа их обеими руками. Зажгли свет, и Джиния, мельком посмотрев на Амелию, поймала ее злой и торжествующий взгляд.
— Теперь посмотрим твои, — сказал Родригес.
Но Джиния уныло покачала головой и под взглядом Гвидо опустила глаза. Прошла долгая минута, а Гвидо ничего не говорил.
— Ну, давай, — сказал Родригес, — мы поднимаем тост за твои.
Гвидо все молчал. Джиния резко отвернулась к камину, и за спиной у нее послышалось: «Дура».
И вот на следующий день Джиния пошла на работу, зная, что Гвидо наедине с голой Амелией. В иные минуты у нее разрывалось сердце. Она все время представляла себе лицо Гвидо, разглядывающего Амелию. Она надеялась только, что там и Родригес.
После обеда ее послали отнести счет, и она смогла забежать в студию. Дверь была заперта. Она прислушалась и не услышала ни звука. Тогда она слегка успокоилась.
В семь часов она всех их нашла в кафе. Гвидо щеголял в ее галстуке и разглагольствовал, а Амелия курила и слушала. Джинии небрежно, точно девочке, сказали: «Садись». Заговорили о былых временах, и Амелия стала рассказывать про знакомых художников.
— А ты что нам расскажешь? — сказал Родригес на ухо Джинии.
Джиния, не оборачиваясь, сказала:
— Не надо.
Потом они все вместе прошлись по пассажу, и Джиния спросила у Гвидо, смогут ли они повидаться после ужина.
— Куда же денется Родригес? — сказал Гвидо.
Джиния с отчаянием посмотрела на него, и они договорились встретиться и немножко погулять.
В этот вечер шел снег, и Гвидо предложил зайти в кафе выпить пунша. Они выпили у стойки. Джиния, вся промерзшая, спросила у него, как это Амелия позирует при таком холоде.
— Камин греет, — сказал Гвидо, — и, потом, она привыкла.
— Я бы не выдержала, — сказала Джиния.
— А кто тебя просит?
— О Гвидо, — сказала Джиния, — почему ты так обращаешься со мной? Я ведь заговорила об этом только потому, что Амелия больна.
Они вышли, и Гвидо взял ее под руку. Снег забивался в рот, залеплял глаза, обсыпал с головы до ног.
— Послушай, — сказал Гвидо. — Я знаю, в чем дело. И знаю даже, что вы кое-чем балуетесь. Тут нет ничего такого. Все девушки любят целоваться. Так что брось ты все это.
— Но ведь есть же Родригес… — сказала Джиния.
— Все вы одинаковые. Если хочешь, сама можешь позировать Родригесу, валяй приходи завтра. Я же не спрашиваю у тебя, что ты делаешь целый день.
— Да не хочу я позировать Родригесу.
Они расстались у подъезда, и Джиния, вся в снегу, вернулась домой, завидуя нищим, которые просят милостыню и больше ни о чем не думают.
На следующий день в десять часов она заявилась в студию и, когда Гвидо открыл ей, сказала, что отпросилась с работы.
— Это всего только Джиния, — обернувшись назад, сказал Гвидо.
За окном белели заснеженные крыши. На тахте, поставленной перед топившимся камином, сидела голая Амелия и, ежась, умоляла закрыть дверь.
— Значит, тебе захотелось посмотреть на нас, — сказал Гвидо, возвращаясь к мольберту. — Кого же из нас ты ревнуешь?
Джиния, надувшись, присела на корточки у камина. Она даже не взглянула на Амелию и не подошла к Гвидо. Гвидо сам подошел к камину подбросить дров, хотя огонь и без того пылал так, что в самом деле нельзя было озябнуть и голым.
Мимоходом он дал Джинии легкий подзатыльник, а потом погладил Амелию по колену, но тут же отдернул руку, как будто обжегся. Амелия, лежавшая на спине, боком к огню, подождала, пока он вернется к окну, и хрипло прошептала:
— Ты пришла посмотреть на меня?
— Родригес ушел? — спросила Джиния.
Гвидо громко сказал:
— Подними немного колено.
Тут Джиния решилась обернуться и, отодвинувшись от огня, потому что ей стало жарко, с завистью посмотрела на Амелию. Гвидо время от времени бросал на них из-за мольберта быстрый взгляд и снова наклонялся над листом.
Наконец он сказал:
— Одевайся, я кончил.
Амелия села и накинула на плечи пальто.
— Готово дело, — со смехом сказала она Джинии.
Джиния потихоньку подошла к мольберту. На длинной полосе бумаги Гвидо угольным карандашом набросал контур тела Амелии. Это были очень простые, иногда переплетающиеся линии. Казалось, Амелия стала водой и текла по бумаге.
— Тебе нравится? — спросил Гвидо.
Джиния кивнула головой, стараясь узнать Амелию. Гвидо посмеивался. И тут Джиния с бьющимся сердцем сказала:
— Нарисуй меня тоже.
Гвидо поднял на нее глаза.
— Ты хочешь позировать? — спросил он. — Раздевшись?
Джиния оглянулась на Амелию и сказала:
— Да.
— Ты слышала? Джиния хочет позировать голой, — громко сказал Гвидо.
Амелия хихикнула. Потом вскочила и, запахнув пальто, побежала к портьере.
— Раздевайся здесь, у огня. Я одеваюсь.
Джиния в последний раз посмотрела на белые от снега крыши и пролепетала:
— Обязательно раздеться?
— Давай, давай, — сказал Гвидо. — Люди свои.
Тогда Джиния с бешено колотящимся сердцем, дрожа от волнения, стала раздеваться у огня, в душе благодаря Амелию за то, что та ушла за портьеру и не видит ее. Гвидо снял с мольберта лист и закрепил на нем новый. Джиния одну за другой клала свои вещи на тахту. Гвидо подошел помешать в камине.
— Поскорее, — сказал он, — а то дров не напасешься.
— Смелей! — крикнула Амелия из-за портьеры.
Когда Джиния разделась донага, Гвидо, не улыбаясь, медленно обвел ее своими ясными глазами. Потом взял за руку и, сбросив на пол край одеяла, сказал:
— Встань на него и смотри на огонь. Я нарисую тебя во весь рост.
Джиния уставилась на пламя, спрашивая себя, вышла ли уже Амелия из закутка. Она заметила, что отсветы огня золотят ее кожу и на нее пышет жаром. Тогда она, не поворачивая головы, скосила глаза на снег, лежащий на крышах.
— Не закрывайся. Подними руки вверх, как будто ты поддерживаешь балкон, — послышался голос Гвидо.
XVII
Джиния, улыбаясь, смотрела на огонь. У нее пробежали мурашки по спине. Послышались легкие шаги Амелии, и, когда она, поправляя пояс, встала рядом с Гвидо, у окна, Джиния улыбнулась ей, не поворачивая головы.
Но она услышала и другие шаги, возле тахты, и чуть было не опустила руки.
— Стой спокойно, — сказал Гвидо.
— Что ты так побледнела? — сказала Амелия. — Не обращай внимания.
В это мгновение Джиния все поняла и от ужаса даже не смогла обернуться. Все это время за портьерой был Родригес, который теперь стоял посреди комнаты и смотрел на нее. Ей показалось даже, что она слышит его дыхание. Она как дура уставилась на пламя, дрожа всем телом, но так и не обернулась.
Долго стояла тишина. Никто не шевелился, только Гвидо водил карандашом по бумаге.
— Мне холодно, — пролепетала Джиния.
— Возьми кофточку и накройся, — сказал Гвидо.
— Бедняжка, — сказала Амелия.
Джиния резко обернулась, увидела глазевшего на нее Родригеса, схватила свои вещи и прикрылась. Родригес, который стоял, опершись коленом на тахту и подавшись вперед, глотнул воздух, как рыба, и скорчил ей рожу.
— Ничего себе, — сказал он как ни в чем не бывало.
Все стали смеяться и утешать Джинию, но она, ничего не слушая, босиком убежала за портьеру и кое-как оделась сама не своя. Никто не пошел за ней. Второпях Джиния порвала резинку трусиков. Потом она постояла в темноте, с отвращением глядя на смятую постель. В комнате все молчали.
— Джиния, — раздался за занавесью голос Амелии, — можно?
Джиния ухватилась за портьеру и ничего не ответила.
— Оставь в покое эту дурочку, — послышался голос Гвидо.
Тогда она молча заплакала, цепляясь за портьеру. Она выплакивала душу, как в ту ночь, когда Гвидо спал. Ей казалось, что с Гвидо она только и делала, что плакала. Время от времени она говорила себе: «Почему же они не уходят?» Ее туфли и чулки остались возле тахты.
Она плакала долго и чувствовала себя совсем одуревшей от слез, когда портьера внезапно раздвинулась и Родригес протянул ей туфли. Джиния взяла их, ни слова не говоря, и лишь мельком увидела его лицо и уголок студии. В эту минуту она поняла, что сделала глупость — так разволновалась, что и у остальных отбила охоту смеяться. Она заметила, что Родригес не отходит от портьеры.
Тут ее охватил безумный страх, что Гвидо подойдет и начнет безжалостно срамить ее. «Гвидо крестьянин, — думала она, — он не станет со мной церемониться. Что я сделала! Мне бы посмеяться вместе со всеми». Она надела чулки и туфли.
Выйдя из-за портьеры, она не взглянула на Родригеса. Ни на кого не взглянула. Мельком увидела только голову Гвидо, стоявшего за мольбертом, и снег на крышах. Амелия, улыбаясь, поднялась с тахты.
Джиния одной рукой схватила с тахты свое пальто, другой шляпу, бросилась к двери и выбежала.
Когда она очутилась одна на снегу, ей показалось, что она все еще голая. Улицы были пустынны, и она не знала, куда идти. Ею так мало интересовались там, наверху, что даже не удивились, когда она пришла в такое необычное время. Она растравляла себя мыслью о том, что лето, которого она ждала, уже никогда не наступит, потому что теперь она одинока и больше не будет ни с кем разговаривать, а будет только работать весь день, на радость синьоре Биче. В какой-то момент она сообразила, что меньше всех виноват Родригес, потому что он всегда спал до двенадцати, а они разбудили его и тогда он, понятно, посмотрел на нее. «Если бы я повела себя, как Амелия, я бы их всех поразила. А я разревелась». При одной мысли об этом у нее опять навертывались слезы.
Но по-настоящему предаваться отчаянию Джинии не удавалось. Она понимала, что сама наглупила. Все утро она думала о том, что хорошо бы покончить с собой или по крайней мере схватить воспаление легких. Тогда оказались бы виноваты они и их замучили бы угрызения совести. Но кончать с собой не стоило. Она сама вздумала разыгрывать из себя взрослую женщину, и у нее ничего не вышло. Не кончать же с собой только оттого, что вошла в шикарный магазин, где все не про тебя. Коли глупа, сиди дома. «Недотепа я несчастная», — говорила Джиния и жалась к стенам домов.
Когда после обеда она пришла в ателье, синьора Биче, едва увидев ее, вскричала:
— Что за жизнь вы ведете, девушки! Ты выглядишь так, как будто беременна.
Джиния сказала, что утром у нее был жар. Она была даже довольна: по крайней мере по ней видно, что она страдает. Но, возвращаясь домой, она остановилась на лестнице и попудрилась, потому что стыдилась Северино.
В этот вечер она ждала Розу, ждала Амелию, ждала даже Родригеса, решив захлопнуть дверь перед носом у любого, кто придет. Но никто не приходил. Вдобавок ко всему Северино бросил на стол пару дырявых носков, спросив, уж не хочет ли она, чтобы он ходил босой.
— Ну и влипнет же тот дурак, который на тебе женится, — сказал он. — Если бы мама была жива, она бы тебе показала.
Джиния, у которой глаза были красные, а на сердце кошки скребли, через силу засмеялась и ответила, что скорее повесится, чем выйдет замуж. В этот вечер она не стала мыть посуду. Она постояла у двери, прислушиваясь, потом послонялась по кухне, не подходя к окну, чтобы не видеть белых от снега крыш. Нашла в кармане пиджака Северино сигареты и попробовала закурить. Увидела, что это у нее получается, и, нервно затягиваясь, бросилась на тахту, решив с завтрашнего дня курить.
Теперь Джинии уже не приходилось спешить, чтобы успеть переделать все дела, но от этого ей было только хуже, потому что она уже научилась управляться по дому на скорую руку и у нее оставалось много времени для раздумий. Курить ей было мало — ей до смерти хотелось, чтобы кто-нибудь увидел, как она курит, но даже Роза не заходила к ней. Было ужасно тоскливо вечером, когда уходил Северино, и, оставшись одна, Джиния все ждала, ждала, что кто-нибудь придет, не решаясь выйти из дому. Однажды, когда она раздевалась, собираясь лечь в постель, она ощутила сладкую дрожь, словно от ласки, и тогда она встала перед зеркалом, без смущения оглядела себя и, подняв руки над головой, повернулась кругом, чувствуя, как к горлу подкатывает комок. «Вот если бы сейчас вошел Гвидо, что бы он сказал?» — спрашивала она себя, хотя прекрасно знала, что Гвидо о ней и не думает. «Мы даже не попрощались», — проговорила она и поскорее легла в постель, чтобы не плакать голой.
Иногда на улице Джиния останавливалась, потому что вдруг представляла себе летние вечера и, казалось, даже чувствовала разливающийся в теплом воздухе аромат, и краски, и звуки, и тени платанов. Останавливалась на углах и с тоскою мечтала обо всем этом среди грязи и снега. «Лето, конечно, придет, иначе и быть не может», — говорила она себе, но именно теперь, когда она была одинока, это казалось ей невероятным. «Я старуха, вот что. Все хорошее для меня кончилось».
И вот однажды вечером, когда Джиния спешила домой, она встретила у подъезда Амелию. От неожиданности они не поздоровались, но Джиния остановилась. Амелия, приодетая, в шляпке с вуалью, прогуливалась взад и вперед, как видно поджидая кого-то.
— Что ты тут делаешь? — спросила Джиния.
— Жду Розу, — сиплым голосом сказала Амелия, и они посмотрели друг на друга.
Джиния поджала губы и взбежала по лестнице.
— Что с тобой сегодня? — сказал ей Северино за едой. — Ухажер на свидание не пришел?
Когда Джиния осталась одна, ее по-настоящему разобрала тоска. Она даже не плакала. Как безумная кружила по комнате. Потом бросилась на тахту.
Но как раз в этот вечер пришла Амелия. Джиния не поверила своим глазам, когда открыла дверь. Но Амелия вошла, как обычно, спросила, дома ли Северино, и села на тахту.
Джиния даже забыла закурить. Они перекинулись несколькими словами о том, о сем — просто так, чтобы не молчать. Амелия сняла шляпку и заложила ногу на ногу. Джинии, которая стояла, опершись о стол, возле низко опущенной лампы, не было видно ее лица. Заговорили о наступивших холодах, и Амелия сказала:
— Как я промерзла сегодня утром.
— Ты все еще лечишься? — спросила Джиния.
— А что? Я изменилась?
— Не знаю, — сказала Джиния.
Амелия попросила закурить: на столе лежала пачка сигарет.
— Я тоже курю, — сказала Джиния.
Когда они закуривали, Амелия сказала:
— Ну, ты отошла?
Джиния залилась краской и ничего не ответила. Амелия, глядя на свою сигарету, сказала:
— Я так и думала.
— Ты оттуда? — пролепетала Джиния.
— Не важно, — ответила Амелия. — Хочешь, пойдем в кино?
Докуривая сигарету, Амелия со смехом сказала:
— Ты произвела впечатление на Родригеса. Он спрашивал, нравишься ли ты мне. Теперь Гвидо ревнует к нему.
Джиния попыталась улыбнуться, а Амелия продолжала:
— Слава богу, к весне я буду здорова. Врач говорит, что вовремя взялся за меня. Послушай, Джиния, в кино не идет ничего хорошего.
— Пойдем куда хочешь, — сказала Джиния, — веди меня.
ДЬЯВОЛ НА ХОЛМАХ ПОВЕСТЬ © Перевод Н. Наумов
I
Мы были тогда очень молоды. В тот год я, кажется, никогда не спал. Но был у меня товарищ, который спал еще меньше, чем я, и случалось, рано утром, когда прибывают и отправляются первые поезда, он уже прогуливался перед станцией. Это значило, что после того, как мы поздней ночью расстались с ним у подъезда его дома, Пьеретто побродил еще и уже на рассвете выпил где-нибудь кофе. А теперь он разглядывал заспанные лица метельщиков и велосипедистов. Он даже не помнил о наших ночных разговорах — пока он шатался, они выветрились у него из головы, и спокойно говорил: «Поздно уже. Пойду спать».
Если за нашей компанией увязывался еще кто-нибудь из ребят, он понять не мог, что мы собираемся делать в такое время, когда кино уже кончилось, остерии закрылись, улицы опустели и все смолкло. Он сидел с нами тремя на скамейке, слушал, как мы переговариваемся или зубоскалим, загорался, когда нам приходило в голову пойти будить девушек или встречать восход на холмах, а когда мы отказывались от этой затеи, сникал и, помешкав, уходил домой. На следующий день он нас спрашивал: «Что же вы делали?» Ответить ему было нелегко. Мы послушали пьяного, посмотрели, как расклеивают афиши, обошли базарную площадь, видели прогуливающихся проституток. Тогда Пьеретто говорил: «Мы познакомились с одной женщиной».
Парень не верил, но, оторопев, слушал с раскрытым ртом.
— Тут нужна настойчивость, — говорил Пьеретто. — Прогуливаешься взад и вперед под балконом. Всю ночь. Она это знает, замечает. Не важно, что ты с ней не знаком, такие вещи нутром чувствуешь. И вот она не выдерживает, соскакивает с кровати и распахивает ставни. Ты приставляешь лестницу…
Но между собой мы не любили разговаривать о женщинах. Во всяком случае, всерьез. Ни Пьеретто, ни Орест не откровенничали со мной. Поэтому они мне и нравились. Черед женщин, тех, что разлучают друзей, видно, еще не пришел. А пока мы разговаривали о том, о сем, обо всем на свете, и до того нам это нравилось, что не хотелось тратить время на сон.
Однажды ночью мы сидели на скамейке на берегу По. Орест проговорил:
— Пойдемте спать.
— Прикорни здесь, — сказали мы ему. — Лето ведь, пользуйся. Не можешь, что ли, спать вполглаза?
Орест, прижавшись щекой к спинке скамейки, искоса посмотрел на нас.
Я говорил о том, что в городе никогда не следовало бы спать: «Всегда огни горят, всегда светло, как днем. Надо бы и по ночам что-нибудь делать».
— Все дело в том, что вы еще мальчишки, — сказал Пьеретто. — Оттого и угомониться не можете.
— А ты-то кто? — сказал я. — Старик, что ли?
Орест вдруг вскинулся:
— Старики, говорят, никогда не спят. Мы шатаемся по ночам. Интересно знать, кто же спит.
Пьеретто посмеивался.
— Ты что? — спросил я, насторожившись.
— Чтобы спать, надо сперва побаловаться с женщиной, — сказал Пьеретто. — Вот почему старики не спят и вы не спите.
— Может быть, — пробормотал Орест, — но все равно у меня слипаются глаза.
— Ты не городской, — сказал Пьеретто. — Для таких людей, как ты, ночь еще имеет смысл — тот же самый, что в былые времена. Ты вроде дворняжки или курицы.
Был уже третий час.
Холм по ту сторону По искрился, словно усыпанный блестками. Было прохладно, пожалуй, даже холодно.
Мы поднялись и пошли назад, к центру. Я думал о том, какой ловкач Пьеретто: себя поддеть не даст, а нас всегда выставляет лопухами. Ни я, ни Орест, к примеру, не томились бессонницей из-за женщин. В который раз я спросил себя, какую жизнь вел Пьеретто до того, как приехал в Турин.
На скамейках у привокзального газона, под чахлыми деревцами, спали с открытым ртом два оборванца. Без пиджаков, курчавые, с черными бородами, они были похожи на цыган. Неподалеку находились уборные, и, несмотря, на ночную свежесть и разлитый в воздухе запах лета, здесь стояла вонь, точно напоминание о длинном солнечном дне, сутолоке и шуме, о пыли и поте, выщербленном асфальте, беспокойной толпе. Под вечер на этих скамейках у газона — жалкого оазиса в сердце Турина — всегда сидят невзрачные женщины, бобыли, лоточники, горемыки. Чего они ждут? Пьеретто говорил, что они ждут чего-то необыкновенного — землетрясения, от которого рухнет город, светопреставления. Иногда летняя гроза разгоняет их и все омывает.
Два оборванца спали как убитые. На безлюдной площади какая-то светящаяся вывеска еще взывала к пустому небу, бросая отблески на их лица.
— Вот разумные люди. Надо взять с них пример, — сказал Орест и было двинулся домой.
— Пойдем с нами, — сказал Пьеретто. — Дома тебя никто не ждет.
— Ну и там, куда вы идете, меня тоже никто не ждет, — сказал Орест, но остался.
Мы свернули к новой галерее.
— Этим парням можно позавидовать, — сказал я тихо. — Должно быть, хорошо проснуться на площади при первых лучах солнца.
Пьеретто ничего не ответил.
— Куда мы идем? — сказал я, останавливаясь.
Пьеретто прошел еще несколько шагов и тоже остановился.
— Я бы не прочь куда-нибудь зайти, но везде закрыто, — сказал я. — Хотел бы я знать, на что нужна вся эта иллюминация.
Пьеретто не ответил по своему обыкновению: «А ты на что нужен?», а проговорил:
— Хочешь, пойдем на холм?
— Далеко, — сказал я.
— Далеко, но зато как там пахнет, — сказал он.
Мы снова спустились по проспекту; на мосту мне стало холодно; потом быстрым шагом, чтобы поскорее оставить позади привычные места, мы стали подниматься по склону. Было сыро, темно, луна не показывалась; в воздухе мелькали светляки. Немного погодя мы замедлили шаг, запыхавшись. На ходу мы с Пьеретто говорили о себе; говорили с жаром и втягивали в разговор Ореста, вспоминали, как ходили по этим дорогам, разгоряченные вином или спором. Но все это не имело значения, все это было только поводом для того, чтобы идти, подниматься, мерить шагами холм. Мы шли мимо полей, оград, решеток вилл, вдыхали запах асфальта и леса.
— По-моему, пахнет так же, как от цветка в вазе, никакой разницы, — сказал Пьеретто.
Как ни странно, мы до сих пор никогда не поднимались на вершину холма, по крайней мере по этой дороге. Где-то должен был быть перевал, высшая точка косогора, откуда, как я себе представлял, взору, словно с балкона, открывается внешний мир — раскинувшиеся внизу равнины. С других точек холма, из Суперги, из Пино, мы днем уже смотрели на окрестности. Орест показывал нам пальцем на темнеющие вдали, за морем крутогоров, лесистые урочища — его родные места.
— Поздно очень, — сказал Орест. — Когда-то здесь было полно всяких заведений.
— В какое-то время они закрываются, — сказал Пьеретто. — Но те, кто уже там, кутят до утра.
— Подумаешь, — сказал я, — стоит подниматься летом на холм, чтобы развлекаться за закрытыми ставнями и дверьми.
— Там, наверное, есть сад, лужайки, — сказал Орест. — Спят, должно быть, в парке.
— Где-то и парки кончаются, — сказал я. — Начинаются леса и виноградники.
Орест что-то проворчал. Я сказал Пьеретто:
— Ты не знаешь сельской местности. Бродишь ночи напролет, а сельской местности не знаешь.
Пьеретто не ответил. Время от времени где-то лаяла собака.
— Хватит, дальше не пойдем, — сказал Орест на повороте дороги.
Пьеретто вышел из задумчивости.
— Тем более, — поспешно сказал он, — что зайцы и змеи притаились — боятся прохожих, а пахнет здесь бензином. Где теперь та сельская местность, которая вам по душе?
Он с ожесточением набросился на меня.
— Неужели ты думаешь, — произнес он безапелляционным тоном, — что, если кого-нибудь зарежут в лесу, все будет как в сказке? Как бы не так, и сверчки вокруг мертвого не умолкнут, и озеро крови будет не больше плевка.
Орест с отвращением сплюнул. Потом сказал:
— Осторожно, машина.
Медленно и бесшумно показался большой открытый бледно-зеленый автомобиль и послушно остановился как вкопанный, оставшись наполовину в тени деревьев. Мы растерянно уставились на него.
— Смотри-ка, фары погашены, — сказал Орест.
Я подумал, что в автомобиле какая-нибудь парочка и что лучше бы нам в эту минуту быть далеко отсюда, на перевале, и никого не встретить. Почему они не катят в Турин на своей роскошной машине, не оставят нас одних на раздолье? Орест, глядя в землю, сказал, что надо двигаться.
Я ожидал, что, приблизившись к машине, услышу шепот и шорох, а может, и смех, но вместо того увидел только мужчину за рулем — молодого человека, который сидел, откинувшись на спинку сиденья и запрокинув голову к небу.
— Он похож на мертвеца, — сказал Пьеретто.
Орест уже вышел из тени. Мы шли под стрекот сверчков — Орест впереди, Пьеретто рядом со мной; и, пока я сделал несколько шагов под деревьями, мне много чего пришло в голову. Пьеретто молчал. Напряжение стало невыносимым. Я остановился.
— Не может быть, — сказал я. — Он не спит.
— Чего ты боишься? — сказал Пьеретто.
— Ты видел его?
— Он спал.
Я сказал, что так не засыпают, да еще за рулем. У меня в ушах еще звучали слова ни с того ни с сего вспылившего Пьеретто.
— Хоть бы прошел кто-нибудь.
Мы обернулись и посмотрели на изгиб дороги, где чернели деревья. Над дорогой промелькнул светлячок, как огонек сигареты.
— Послушаем, поедет ли он дальше.
Пьеретто сказал, что, имея такую машину, можно в свое удовольствие смотреть на звезды. Я напряг слух.
— Может, он нас увидел.
— Посмотрим, откликнется он или нет, — сказал Орест и издал крик. Дикий, звериный, он вначале походил на рев быка, а кончился чем-то вроде пьяного хохота. Мы все прислушались. Опять залаяла собака; испуганные сверчки умолкли. Никакого ответа. Орест открыл рот, чтобы повторить крик, а Пьеретто сказал:
— Начали.
На этот раз мы заорали все вместе, протяжно, с повторами и завыванием. У меня по коже мурашки забегали при мысли о том, что от такого вопля, как от луча прожектора в ночи, нигде не укроешься — он разносится по склонам, слышится на глухих тропинках, проникает в темные буераки, норы, дупла, и от него все дрожит.
Снова остервенело залилась собака. Мы прислушивались, глядя на изгиб дороги. Я хотел было сказать: «Наверно, он умер от страха», как вдруг раздался звук захлопнувшейся дверцы машины. Орест сказал мне на ухо: «Летучка[17]принеслась», — и мы замерли в ожидании, не спуская глаз с купы деревьев. Но ничего не произошло. Собака унялась, и повсюду под звездным небом снова слышался стрекот сверчков. Мы все смотрели на темную полоску у дороги.
— Подойдем, — сказал я, наконец. — Ведь нас трое.
II
Когда мы приблизились, он сидел на подножке машины, опустив голову и закрыв лицо руками. Он не пошевелился. Мы стояли поодаль и смотрели на него, как на опасного зверя.
— Рвет его, что ли? — сказал Пьеретто.
— Может быть, — сказал Орест.
Он подошел к неизвестному и положил ему руку на лоб, будто пробуя, нет ли у него жара. Тот уперся лбом в его ладонь, точно пес, играющий с хозяином. Они как бы отталкивали друг друга, и я расслышал, как они посмеиваются. Орест обернулся.
— Это Поли, — сказал он. — Я его знаю. У них вилла в наших местах.
Незнакомец, сидя, держал за руку Ореста и мотал головой, словно отряхивался, выходя из воды. Это был красивый молодой человек, постарше нас, с мутными, осоловелыми глазами. Не выпуская руки Ореста, он посмотрел на нас невидящим взглядом.
Тут Орест сказал:
— Ты ведь, кажется, был в Милане?
— Для тяги еще время не пришло, — сказал тот. — Ты на белок охотишься?
— Что ты, мы же не на Взгорьях, — проговорил Орест и высвободил руку. Потом оглядел автомобиль и сказал: — Вы сменили машину?
«Что он толкует с пьяным? — подумал я. Страх, который я испытывал вначале, перешел в раздражение. — Бросил бы его, и пусть себе валяется в канаве».
Этот тип глядел на нас. Он был похож на тех больных, которые, лежа в постели, смотрят в одну точку, подавленные и печальные. Никто из нас никогда не доходил до такого состояния. Однако он был загорелый и вообще на вид хоть куда, под стать своей машине. Мне стало стыдно, что мы так вопили.
— Отсюда не видно Турина? — сказал он, с живостью поднимаясь на ноги и оглядываясь вокруг. — Странно. Вы не видите Турина?
Если бы не его голос, слабый, сдавленный, хриплый, можно было бы подумать, что он совсем пришел в себя. Поглядев по сторонам, он сказал Оресту:
— Я здесь третью ночь. Здесь есть место, откуда виден Турин. Пойдемте туда? Это чудесное место!
Теперь мы стояли кружком, и Орест вдруг спросил его в упор:
— Ты удрал из дому?
— В Турине меня ждут, — сказал он. — Разбогатевшие люди, которых невозможно выносить. — Он посмотрел на нас, улыбаясь, как застенчивый ребенок. — До чего противны люди, которые все делают в перчатках. И детей, и миллионы.
Пьеретто косо посмотрел на него.
Поли достал сигареты и угостил нас всех. Сигареты были мягкие, раскрошившиеся. Мы закурили.
— Если бы они увидели меня с тобой и твоими приятелями, — сказал Поли, — они подняли бы меня на смех. А мне забавно оставлять с носом этих людей.
Пьеретто громко сказал:
— Немного же вам нужно, чтобы позабавиться.
Поли сказал:
— Я люблю пошутить. А вы не любите?
— Плохо говорить о разбогатевших людях, — сказал Пьеретто, — имеет право только тот, кто и сам сумел разбогатеть. Или умеет жить, не тратя ни гроша.
Поли с удрученным видом сказал:
— Вы так думаете?
Он произнес это таким озабоченным тоном, что даже Орест не сдержал улыбки. Внезапно Поли обнял нас за плечи, сгреб в кучу и, как бы беря в сообщники, еле слышно сказал:
— У меня есть на то другая причина.
— Какая же?
Поли опустил руки и вздохнул. Он смотрел на нас проникновенно и кротко, как будто даже изменившись в лице.
— Дело в том, что в эту ночь я чувствую себя как бог, — сказал он тихо.
Никто не засмеялся. Мы с минуту постояли молча, потом Орест предложил:
— Пойдемте посмотрим на Турин.
Мы прошли немного вниз, до уступа у поворота дороги, где полыхали отсветы Турина, и остановились на краю откоса. Поднимаясь в гору, мы не оборачивались. Поли, положив руку на плечо Ореста, смотрел на море огней. Отбросил сигарету и смотрел.
— Ну, что будем делать? — сказал Орест.
— До чего мал человек, — сказал Поли. — Улицы, дворы, гребни крыш. Отсюда кажется — море звезд. А когда ты там, этого не замечаешь.
Пьеретто отошел на несколько шагов. Мочась на кусты, он крикнул:
— Вы просто издеваетесь над нами, и больше ничего!
Поли спокойно сказал:
— Я люблю столкновения взглядов. Только в столкновениях чувствуешь себя сильнее, возвышаешься над самим собой. Без них жизнь пошла. Я не строю себе иллюзий.
— А кто их строит? — сказал Орест.
Поли поднял глаза и улыбнулся.
— Кто? Да все. Все те, кто спит в этих домах. Они видят сны, просыпаются, любятся, думают: «Я такой-то и такой-то», воображают, что имеют вес, а на самом деле…
— Что на самом деле? — сказал Пьеретто подходя.
Поли запнулся, потеряв нить мысли. Щелкнул пальцами, подыскивая слово.
— Ты говорил, что жизнь скучна, — сказал Орест.
— Какие мы сами, такая у нас и жизнь, — сказал Пьеретто.
Поли сказал:
— Давайте сядем.
Он совсем не выглядел пьяным. Я начал думать, что блуждающий взгляд так же обычен для этого человека и так же неотделим от него, как шелковая рубашка, манера пожимать руку, красивый автомобиль.
Мы немного поболтали, сидя на траве. Впрочем, я молчал, слушая стрекот сверчков. Поли как будто не обращал внимания на сарказмы Пьеретто: он объяснял ему, почему три ночи кряду не показывался в Турине и избегал всякого общества, называл гостиницы, видных людей, содержанок. И по мере того, как Пьеретто, по всей видимости, проникался к нему интересом и симпатией, я, наоборот, внутренне отдалялся от него, склоняясь к мнению, что он просто без царя в голове. Он снова сделался для меня таким же чуждым и безразличным, как в ту минуту, когда автомобиль остановился и я подумал, что в нем забавляется парочка.
Я вдруг сказал:
— Стоило уходить из Турина, чтобы без конца говорить о нем.
— Да, — сказал Орест, вскакивая на ноги. — Двинемся домой, завтра надо работать.
Поли поднялся, поднялся и Пьеретто.
— А ты что, не идешь? — сказали они мне.
Когда мы шли к автомобилю, я замедлил шаг и, немного отстав вместе с Орестом, спросил у него, кто такой этот Поли. Он сказал мне, что у них земли в его местах, большая вилла, целый холм. «Раньше он туда приезжал, и мы вместе охотились. Он и тогда уже был непутевым, но еще так не пил».
Он крикнул Поли:
— В этом году вы приедете в Греппо?
Поли прервал разговор с Пьеретто и обернулся.
— Папа засадил меня туда в прошлом году, не оставив машины, — сказал он не смущаясь. — Странные идеи приходят людям. Он хотел оторвать меня… От чего? Не знаю, приеду ли опять. Там было бы хорошо провести денек, но не больше. С кем-нибудь из приятелей и с пластинками.
Он любезно распахнул перед нами дверцы машины. Мне не хотелось садиться в нее, потому что теперь я понимал, что с ним мы не можем оставаться самими собой. Приходилось слушать его и принимать его взгляд на мир, отвечая ему в тон. Быть с ним вежливым значило служить ему зеркалом. Я не понимал, как мог Орест когда-то проводить с ним целые дни.
Поли сел за руль и, обернувшись, сказал:
— Значит, едем?
— Куда?
— В Греппо.
Орест вскинулся:
— Что мы, с ума сошли? Я хочу спать.
Я тоже возразил, что в такое время нелепо ехать бог знает куда.
— Еще не рассвело, — сказал Поли. — Сейчас без чего-то четыре. В пять будем там.
Мы оба закричали, что у нас есть дом.
— Отвези нас в город, — сказал Орест. — В Греппо съездим как-нибудь в другой раз.
Я шепнул ему:
— А он нас не угробит?
Орест повторил:
— Я хочу спать. Высади нас у Новых Ворот.
Мы поехали в Турин. Машина мчалась плавно и уверенно. Пьеретто, сидевший рядом с Поли, так и не раскрыл рта.
Мы ехали по освещенным, но пустынным проспектам. Орест сошел на улице Ниццы, у пассажа. Вылезая, он сказал Поли: «До свиданья». Через минуту высадили и меня у моего подъезда. Я попрощался и сказал Пьеретто: «Завтра увидимся». Машина, в которой они остались вдвоем, тронулась и унеслась.
III
Днем мы корпели над книгами, готовясь к экзаменам; в особенности Орест, который изучал медицину. Мы с Пьеретто учились на юридическом и усиленные занятия отложили на октябрь: ведь право схватывается с налету и не требует работы в лаборатории. А вот Орест вкалывал и даже не всегда ходил с нами гулять по вечерам. Но мы знали, где его найти в обед: у него дом был в деревне, и в Турине он снимал комнату, а столовался в траттории.
На следующий день после нашего ночного колобродства я пошел к нему. Он сидел в траттории и грыз яблоко, прислонившись спиной к стене и облокотись на портфель. Поздоровавшись, он спросил, видел ли я уже Пьеретто.
Было жарко. Мы, обмахиваясь, поговорили о нашем плане — отправиться на каникулы втроем в селение Ореста. Дом у него был просторный, мы бы там весело провели время. Но мы с Пьеретто хотели идти туда пешком с рюкзаком за плечами.
Орест сказал, что это ни к чему: нам и без того еще надоест деревенская глушь и жара.
— Почему ты спросил о Пьеретто?
— Неужели ты думаешь, — сказал Орест, — что он спал этой ночью?
— Может, он занимается?
— Возможно, — сказал Орест. — С Поли и его машиной. Разве ты не заметил, как они спелись?
Тут мы заговорили о прошлой ночи, о Поли, обо всем его странном поведении.
Орест сказал, что не надо удивляться. Они с Поли говорили друг другу «ты», хотя отец Поли был важной шишкой в Милане, командором и очень богатым человеком, владельцем огромного имения, куда никогда не приезжал. Поли вырос в этом имении, где проводил каждое лето с целой оравой мамок и нянек, с каретой и лошадьми, и только когда сменил короткие штанишки на брюки, смог поступать по-своему, выходить из усадьбы и знакомиться с людьми из округи. Два или три охотничьих сезона он вместе с другими ходил стрелять бекасов. Он был славный малый и с головой. Только твердости ему не хватало, это верно. За что ни возьмется бросит на середине, ничего не доводил до конца.
— Этих людей такими делает жизнь, которую они ведут, — сказал я. — Они становятся капризными, как женщины.
— Но ведь он все понимает, — сказал Орест. — Ты слышал, что он говорил о людях своего круга?
— Это он просто так говорил. Он был пьян.
Орест покачал головой и сказал, что Поли не был пьян — пьяные ведут себя не так.
— Может быть, три дня назад он действительно напился и набезобразил. Но теперь с ним что-то похуже. Пьяный вызывает у людей симпатию.
Оресту случалось отпускать такие неожиданные замечания.
— Он не нападал на людей своего круга. Он нападал на тех, кто нажил деньги, а жить не умеет, — сказал я. — Ты его друг. Ты бы должен был его знать.
— Ты же понимаешь, что это за дружба, — сказал Орест. — Вместе охотиться — все равно что вместе в школу ходить. Моему отцу это было лестно.
Он допил свой стакан, и мы ушли. Огибая здание, где помещалась траттория, на залитой солнцем улице, я заметил вскользь, что Пьеретто нахамил Поли.
— У него такая манера смеяться, что кажется, будто он плюет тебе в лицо. Он не придает этому значения, но люди обижаются.
— Кто его знает, — сказал Орест. — Я никогда не видел, чтобы Поли обижался.
Вечером ни Орест, ни Пьеретто не пришли на наше обычное место встречи. Я в тот год, когда оставался один, не знал, куда себя деть. Вернуться домой и сесть заниматься было бессмысленно; я слишком привык жить общей жизнью с Пьеретто, болтать с ним и шататься по улицам; в воздухе, в движении, в самой темноте было что-то такое, чего я не мог понять и от чего мне было не по себе. Меня всегда в таких случаях подмывало пристать к девушке, или завернуть в какой-нибудь подозрительный кабак, или же выйти на проспект и шагать, шагать до самого утра бог знает куда. Иногда я в нерешительности останавливался на углу и простаивал там чуть не час, злясь на самого себя.
Но в этот раз вышло не так плохо. Недавняя встреча с Поли избавила меня от излишней разборчивости. Я говорил себе, что всегда и везде есть счастливчики, которые, даже если это никчемные люди, дурее меня, наслаждаются жизнью больше, чем я, не гоняться же за ними. Мать и отец, сельские жители, обосновавшиеся в городе, не сознавая этого, внушили мне: сумасбродства бедняков тебе будут доступны, но сумасбродства богачей — никогда. Понятно, бедняки не значит голодранцы.
Я провел вечер в кино, но время от времени мои мысли возвращались к Поли, и это отвлекало меня и не давало спокойно смотреть картину. Когда я вышел, мне еще не хотелось спать, и я прошелся по безлюдным переулкам, вдыхая свежий воздух и глядя на звезды. Я родился и вырос в Турине, но в этот вечер я думал о выходивших прямо в поле улочках большого селения, где прошли молодые годы моих родителей. А вот Орест жил в таком селении и собирался вскоре вернуться туда. Вернуться навсегда. Ни к чему другому он не стремился. Он мог бы, если бы захотел, остаться в городе. Но какая разница?
Когда я входил в свой подъезд, меня кто-то окликнул. Это был Пьеретто, который, отделившись от стены противоположного здания, пересек улицу и подошел ко мне. Он был не прочь постоять, поболтать — спать ему еще не хотелось. Раньше он не показывался потому, что весь день был с Поли. Остаток ночи они колесили за городом; к утру оказались у озер, на солнцепеке. Поли стало плохо, и, вылезая из машины, он шмякнулся наземь, похоже было — солнечный удар. Потом оказалось, Поли нанюхался кокаина, у него было отравление. Пьеретто позвонил по телефону в ту гостиницу, где Поли остановился в Турине; ему кто-то ответил, чтобы он позвонил в Милан. «У меня на это нет денег!» — крикнул Пьеретто. Тогда один священник, который умел водить машину, сел за руль, и они отвезли Поли в Новару. Там один доктор привел его в чувство — дал ему какое-то лекарство, от которого его прошиб пот и вырвало; потом Пьеретто поругался со священником, который обвинял его в том, что он совратил своего товарища. Наконец Поли все уладил, заплатил доктору, заплатил за телефон и за завтрак, и они отвезли священника домой, рассуждая с ним по дороге о грехах и об аде.
Пьеретто был в прекрасном настроении. Ему доставили удовольствие сумасбродства Поли, доставила удовольствие прогулка, доставила удовольствие физиономия священника. Теперь Поли поехал принять ванну и переодеться; тут еще была замешана одна синьора, какая-то фурия, которая гналась за ним от Милана до Турина и осаждала его в гостинице, добивалась разговора с ним, посылала ему цветы.
— Может, он немножко чокнутый, — сказал Пьеретто, — но парень не промах. Умеет развлечься за свои деньги.
— Всему есть границы, а он удержу не знает, — сказал я. — Пустой человек.
Тут Пьеретто принялся объяснять мне, что Поли ведет себя ничуть не хуже нас. Мы, бедняки-обыватели, проводим ночи, сидя на скамейке и разговаривая, спим с продажными девками, пьем вино, а ему по средствам наркотики, свобода, шикарные женщины. Богатство — это сила. Вот и все.
— Ты с ума сошел, — сказал я. — Мы думаем, стараемся вникнуть во все. Я, например, хочу понять, почему мне доставляет удовольствие гулять. Или, скажем, тебя тянет в Турин, а мне нравится подниматься на холм, нравятся запахи земли. Почему? Поли на такие вещи наплевать. Он пустой человек, вот и Орест то же самое говорит.
— Оба вы ненормальные, — сказал Пьеретто и объяснил мне, что у человека есть потребность испытать себя, потребность опасности, и что границы тут определяются средой, в которой живешь.
— Может быть, Поли говорит и делает глупости, — сказал он, — может быть даже, он сломает на этом шею. Но было бы еще печальнее, если бы он жил, как мы.
Заспорив, мы, как всегда, пошли куда глаза глядят. Пьеретто утверждал, что Поли прекрасно делает, что познает жизнь, насколько ему позволяют средства.
— Но ведь он говорит глупости, — возражал я.
— Не важно, — отвечал Пьеретто, — он выкладывается на свой лад, и ему открываются такие вещи, о которых вы даже не подозреваете.
— Что же, и ты собираешься нюхать кокаин?
Пьеретто, рассердившись, сказал, что Поли не рисуется тем, что принимает наркотики. Об этом он почти не говорит. Но тому священнику он высказывал такие мысли о грехе, которые свидетельствуют о глубоком взгляде на вещи и о жизненном опыте.
Тут я рассмеялся ему в лицо, и он опять разозлился.
— Ты возмущаешься тем, что человек нюхает кокаин, а сам смеешься, когда говорят о грехе!
Он остановился у одного бара и сказал, что хочет позвонить по телефону. Через минуту он высунулся из кабины и спросил, придет ли Орест.
— Уже полночь, Орест спит. Ему надо завтра заниматься — его средства не позволяют бездельничать, — сказал я.
Пьеретто заорал в трубку. Это продолжалось довольно долго. Он посмеивался и говорил. А когда вышел, сказал:
— Идем к Поли.
IV
Перспектива провести еще одну бессонную ночь ужаснула меня. Отец и мать ничего не сказали бы; за столом обронят несколько слов о погоде, искоса взглянут на меня, подняв глаза от тарелки, осторожно спросят, когда экзамены. Не знаю, как чувствовал себя со своими Пьеретто, а мне было больно смотреть на эти беззащитные лица, и я себя спрашивал, каким был мой отец в двадцать лет, и какой была в девушках мать, и будет ли в свое время такая же отчужденность между мной и моими детьми. Наверное, моим родителям мерещились карты, женщины, преддверие тюрьмы. Что они знали о наших ночных томлениях? А может, они были правы: со скуки да со скверной привычки все и начинается.
Когда мы подошли к гостинице, синьора Розальба прохаживалась взад и вперед по тротуару, а Поли выводил машину на улицу. Я тихонько сказал Пьеретто:
— Только уговор: сегодня ненадолго. Уже двенадцать.
Поли явно хотел взять нас с собой, чтобы эта женщина не вешалась ему на шею. Он даже подшучивал на этот счет. Нас он представил ей как «цвет Турина»: мол, слушай и учись. Такие господа, как Поли, не церемонятся — используют людей с веселым нахальством. Я не понимал Пьеретто, который играл ему на руку.
Синьора Розальба села впереди, с Поли. Она была худая, бедняжка, с красными глазами, напыженная, а в волосах у нее красовался цветок. Она ни минуты не сидела спокойно, да и раньше, когда мы ждали Поли, бросала на нас тревожные взгляды, силилась улыбнуться, гляделась в зеркальце. На ней было розовое вечернее платье, но на вид она годилась Поли в матери.
Он без умолку болтал, шутил и смеялся, озорно поглядывал на женщину и гнал машину. В одно мгновение мы выехали из Турина. Пьеретто, наклонившись вперед, что-то сказал ему.
Поли резко затормозил. Окрестность была окутана темнотой, впереди маячили горы. Розальба возбужденно смеялась.
— Куда поедем?
Я сказал напрямик, что не намерен колобродить всю ночь.
Поли обернулся и сказал мне:
— Мне хочется, чтобы вы составили нам компанию. Положитесь на нас. Мы не поздно вернемся.
Розальба огорченно сказала:
— Хватит, Поли. Зачем ездить всю ночь? Что ты за шальной человек.
Поли включил зажигание, но, прежде чем тронуться, пошептался с Розальбой. Я видел их сблизившиеся головы, улавливал взволнованные и интимные нотки в их голосах, а потом заметил, как Розальба согласно закивала. Поли с улыбкой обернулся к нам.
Он развернул машину и поехал назад, в Турин. По пустынным улицам окраины мы подъехали к холму, черневшему в ночи. Потом помчались под откосом вдоль берега По. Промелькнуло Сасси. Было ясно, что Поли и Розальба уже бывали в этих местах. Она прижималась к его плечу. Что Пьеретто находил в этой паре? Я гадал, знает ли она, что Поли принимает наркотики, пытался вообразить их обоих пьяными, вызвать в себе ненависть к ним. Но мне это не удавалось. Новизна этой быстрой езды, внезапные толчки, черная вода и черный холм, казалось нависавший над головой, не давали мне думать ни о чем другом. «Вот! Вот!» — закричала Розальба, а Поли уже сбавлял скорость, подъезжая к ярко освещенной вилле. Он свернул на усыпанную гравием дорожку и остановился на стоянке машин. Впереди, над рекой, была площадка, где размещались столики с лампами под абажуром. Мелькали белые куртки официантов.
Когда мы расселись и сделали заказ, не без суеты и неловкости — Розальба несколько раз передумывала, никого не хотела слушать, дулась и громко говорила, Пьеретто положил локти на стол, и из рукавов у него выглядывали обтрепанные манжеты, — я предоставил остальным разговаривать между собой и сказал себе: «В конце концов, это обыкновенное кафе». Откинувшись на спинку стула, я стал прислушиваться к шуму воды, доносившемуся из темноты.
Но это было не обыкновенное кафе. Грянул и тут же стих, заиграв под сурдинку, маленький оркестр, и в центре круга, образуемого светящимися абажурами, появилась женщина и запела. Она была в вечернем платье и с цветком в волосах. Мало-помалу из-за столиков поднимались пары и, тесно прижимаясь, танцевали в полутьме. Голос женщины вел танцующих, говорил за них, вилял и вздрагивал вместе с ними. Казалось, здесь, между рекой и холмом, отправлялся какой-то странный обряд, где все отзывались конвульсивными движениями на крик женщины, потому что женщина, Розальба в оливковом платье, не столько пела, сколько кричала — раскачивалась, прижимая руки к груди, и кричала, словно молила о чем-то.
Теперь наша Розальба с блаженным видом сжимала руку Поли, а он, не обращая на нее внимания, разговаривал с Пьеретто.
— Лучше бы каждый пел сам, — сказал Пьеретто, — есть вещи, которые надо делать самим, без чужой помощи.
А Поли со смехом:
— Уж не взыщи, кто танцует, тому не до этого.
— Кто танцует, тот дурак, — ответил Пьеретто, — ищет вокруг то, что у него в руках.
Розальба с восторженностью маленькой девочки захлопала в ладоши. У нее горели глаза. Тут принесли кофе и выпивку, и ей пришлось отцепиться от Поли.
Оркестрик опять заиграл, но на этот раз обошлось без пения. На несколько минут смолкли все инструменты, кроме пианино, на котором с блеском исполнялись виртуозные вариации — и не хочешь, а заслушаешься. Потом оркестр перекрыл пианино и заглушил его. Во время этого номера лампы и рефлекторы, освещавшие площадку, как по волшебству меняли цвет — с зеленого на красный, с красного на желтый.
— Уютное местечко, — сказал Поли, оглядываясь вокруг.
— А публика здесь — не люди, а сонные мухи, — сказал Пьеретто. — Вот бы сейчас завопить на манер Ореста.
Поли удивленно вскинул на него глаза, потом вспомнил и сказал:
— А что наш друг, лег спать? Я хотел бы, чтобы он был здесь.
— Он еще не переварил вчерашней ночи, — сказал Пьеретто. — Жаль. Он не переносит некоторых вещей.
Розальба передернула плечами, и я вдруг представил себе ее голой. Она сухо сказала Поли:
— Я хочу танцевать.
— Дорогая Рози, — ответил он, — не могу же я оставить скучать моих друзей. Это было бы невежливо. Мы ведь в Турине, культурном городе.
Розальба вспыхнула. Я понял в эту минуту, что она полоумная и не умеет себя держать.
Кто знает, может быть, у нее были дети в Милане. Вспомнив историю с цветами, которые она посылала Поли, я отвел глаза. Пьеретто сказал:
— Я был бы польщен, если бы вы согласились потанцевать со мной, Розальба, но знаю, что не могу на это надеяться. К сожалению, я не Поли.
Огорошенная Розальба метнула на него донельзя злобный взгляд.
Между тем оркестр опять начал играть, и я тоже что-то залепетал. Я не умел танцевать. Поли невозмутимо подождал, пока я кончу, и снова заговорил:
— Я хочу вам сказать, что эти дни имеют для меня очень большое значение. Я многое понял. Вчерашний крик пробудил меня. Так просыпается сомнамбула. Это было знамение, это был кризис болезни…
— Ты был болен? — сказала Розальба.
— Хуже, — сказал Поли. — Я был стариком, который воображал себя ребенком. Теперь я знаю, что я взрослый человек, порочный, слабый, но взрослый человек. Этот крик заставил меня трезво посмотреть на самого себя. Я больше не строю иллюзий.
— Вот сила крика, — сказал Пьеретто.
Я невольно вгляделся в глаза Поли — не осоловели ли.
— Я вижу свою жизнь, — продолжал он, — как жизнь другого человека. Я знаю теперь, кто я, что у меня позади, что я делаю…
— Но вы уже слышали раньше этот крик? — перебил я его.
— Ты дубина, — сказал Пьеретто.
— Так мы перекликались на охоте, — улыбнувшись, сказал Поли.
— Значит, вы были на охоте? — вырвалось у Розальбы.
— Мы были на холме.
Последовало неловкое молчание, во время которого мы все, кроме Поли, рассматривали свои ногти. В кругу столиков снова запела та женщина. Розальба отбивала такт каблуком, видно сгорая от нетерпения. Слушая голос певицы и шарканье танцующих пар, я думал о стрекоте сверчков на черном холме.
— Ну, — сказала Розальба, — ты наговорился? Потанцуем теперь?
Поли не моргнул глазом и не двинулся с места. Он все думал об этом крике.
— Хорошо проснуться и отбросить иллюзии, — продолжал он улыбаясь. — Чувствуешь себя свободным и ответственным. Есть в нас потрясающая сила — свобода. Человек может достичь внутренней чистоты. Человек способен пойти на страдания.
Розальба раздавила сигарету о блюдечко. Пока она молчала, бедняжка, такая худая и бледная, она была терпима. По крайней мере для нас, которые в свои двадцать лет еще не знали, что такое пресыщенность. Интеллигентный голос Поли обуздал ее, сдержал. Розальба сидела как на иголках.
Наконец она спросила его в упор:
— Скажи прямо, что ты задумал? Хочешь удрать из Турина?
Поли, нахмурившись, тронул ее за плечо, потом просунул руку под мышку, как будто боялся, что она упадет, и хотел ее поддержать. Пьеретто сделал ободряющий знак, мол, ничего, обойдется, и подался вперед, как бы опасаясь упустить что-нибудь из разыгравшейся сцены. Розальба, прикрыв глаза, тяжело дышала.
— Ублажить ее? — колеблясь, сказал нам Поли. — Потанцевать с ней?
Когда мы остались за столом вдвоем, Пьеретто поймал мой взгляд и подмигнул мне. Голос женщины в оливковом платье наполнил ночь. Я сделал гримасу и сказал:
— Дерьмо.
Пьеретто, сияя, налил себе ликеру. Налил мне, выпил еще.
— В чужой монастырь со своим уставом не суйся, — изрек он. — Они тебе не нравятся?
— Я сказал — дерьмо.
— А парень-то не больно хитер, — сказал Пьеретто. — С этой женщиной можно себе больше позволить.
— Она глупа, — сказал я.
— Влюбленная женщина всегда глупа, — сказал Пьеретто.
Я на минуту прислушался к словам песни, которая вела пары: «Жить, жить… брать, брать… без страсти». Но как ни раздражали эти пустые слова, мелодия захватывала, и этому трудно было противиться. Я спрашивал себя, слышен ли голос певицы на холме.
— Вот тебе и современные ночные развлечения, — сказал Пьеретто. — Они стары как мир.
V
В ту ночь Розальба танцевала и с Пьеретто — в пику Поли, чтобы унизить его. Не знаю уж, сколько мы выпили все вместе, казалось, ночь никогда не кончится, но оркестр давно уже перестал играть, и Розальба подозвала официанта и потребовала, чтобы Поли расплатился и повез нас ужинать в Валентино. В кругу света, падавшего из-под абажура — только наша лампа еще горела на площадке, — мельтешило розовое платье, а с По волнами накатывал ночной холод. Так как Поли все не уходил, снова завязав разговор с Пьеретто и с официантом, Розальба выскочила, села в машину и принялась гудеть. На шум вышли хозяин кафе, официант, посетители, выпивавшие по последней за стойкой; Розальба вылезла из машины и стала звать: «Поли! Поли!»
На обратном пути Поли правил одной рукой, обнимая Розальбу за талию, а Розальба сладко потягивалась, донельзя довольная. Время от времени она оборачивалась, как бы подбадривая нас, точно мы были ее сообщники. Пьеретто все время молчал. Машина не свернула к Турину, а проехала через мосты и помчалась по дороге в Монкальери. Но и там мы не остановились; было ясно, что мы едем без всякой цели, чтобы время убить. Опьянев, я закрыл глаза.
Очнулся я от резкого толчка, с таким ощущением, будто меня взметнуло вихрем; мое кошмарное забытье продолжалось долго, и, когда я увидел над собой глубокое сияющее небо, мне показалось, что я падаю в него вниз головой. В холодном розовом свете зари машина, подскакивая на булыжнике, ехала по улице какого-то селения. Моргая глазами от ветра, врывавшегося в окошко, я огляделся и увидел, что Розальба и Пьеретто спят, а селение безлюдно и замкнуто в тишине. Только Поли спокойно крутил руль.
Он остановил машину, когда из-за гребня холма выглянуло солнце. Пьеретто был весел; Розальба щурила глаза. Боже мой, какой старой она выглядела в своем розовом платье. Все они вызывали у меня злость и в то же время жалость. Поли обернулся и с бодрым, жизнерадостным видом сказал нам «доброе утро».
— Нехорошо получилось, но я сам виноват. Где мы? — сказал я.
— Позвони домой, — сказал Пьеретто. — Скажи, что ты плохо почувствовал себя.
Поли и Розальба принялись дурачиться, кусать друг друга за ухо. Розальба вытащила из волос цветок и, не давая его Поли, который хотел его схватить, протянула мне.
— Нате, — сказала она хрипло, — и не портите нам удовольствие.
Пока мы ехали дальше, я все нюхал его и меня мучила мысль: первый раз в жизни женщина дала мне цветок, и надо же, чтобы это была такая выдра, как Розальба. Я злился на Поли за тягомотную ночь.
Показалась колокольня другого селения. По узкому проулку, между домами с крылечками и пузатыми балконами мы выехали на площадь. В утренней тени какая-то девочка брызгала на булыжник водой из бутылки.
В кафе деревянный пол был тоже обрызган, и от него пахло погребом и дождем. Мы сели у окна против солнца, и я сразу спросил про телефон. Телефона не было.
— Все из-за тебя, — сказал Поли Розальбе. — Если бы ты не заставила меня танцевать…
— Скажи лучше, если бы ты не пил, — взорвалась Розальба. — Ты уже ничего не понимал. До одурения накачался коньяком.
— Брось, — сказал Поли.
— Спроси у твоих приятелей, что ты плел! — крикнула она с озлоблением. — Спроси у них, они слышали.
Пьеретто сказал:
— Он говорил о важных вещах. О внутренней чистоте и свободном выборе.
Женщина, которая обслуживала нас, исподтишка приглядываясь к Розальбе, сказала, что на почте есть телефон. Тогда я поднялся и попросил у Пьеретто бумажник. Розальба тоже встала и сказала мне:
— Я пойду с вами. Разгоню сон. Здесь пахнет так, что можно с ума сойти.
Мы вдвоем вышли на площадь. В своем розовом платье, высокая и худая, она была чучело чучелом. Из окон высовывались головы, но на улице еще никого не было.
— В это время все в поле, — сказал я, чтобы прервать молчание.
Розальба попросила у меня сигарету.
— У меня обыкновенные «мачедония», — сказал я.
Розальба остановилась, я дал ей огня, и, закуривая, она сказала с деланным смешком:
— Вы моложе Поли.
Я поскорее отбросил спичку, которая обожгла мне пальцы.
Розальба продолжала, заливаясь краской:
— И искреннее Поли.
Я отодвинулся, не сводя с нее глаз.
— Ну вот, — сказала она, — такая у меня кожа, ни с того ни с сего краснею. Не обращайте внимания… А теперь скажите мне одну вещь.
Она хриплым голосом спросила меня, что мы делали в эти дни. Когда я стал рассказывать о нашей встрече, она заморгала глазами.
— Поли был один? — допытывалась она. — Но тогда почему он оказался в полночь на холме?
— Один, но было уже три часа.
— А как получилось, что вы остались с ним?
Я сказал ей, что Орест и Пьеретто могут рассказать о Поли лучше, чем я. Я пошел спать, а Пьеретто провел с ним все утро. Поли, кажется, немного выпил. Впрочем, как всегда. Пусть спросит у Пьеретто, они долго разговаривали.
В ту же минуту я понял, что Розальба не теряла времени даром и, танцуя, уже расспросила Пьеретто. Она пристально посмотрела на меня. Почувствовав раздражение, я отвел глаза, и мы пошли дальше.
На почте, ожидая соединения, я сказал Розальбе, которая курила, стоя в дверях:
— Орест знает Поли с детских лет… Прошлой ночью он был с нами.
Она не ответила и продолжала смотреть на улицу. Я тоже вышел на порог и поглядел на небо.
Поговорив с матерью в тесной кабинке — было плохо слышно и приходилось кричать, — я опять вышел на порог, но Розальба не тронулась с места.
— Пошли? — весело сказал я.
— Ваш друг, — заговорила она, встрепенувшись, — очень хитрый парень. Он вам ничего не сказал про Поли?
— Они поехали на озера.
— Я знаю.
— Поли был пьян, и ему стало плохо.
— Нет, а до этого, — нетерпеливо сказала Розальба, и у нее задрожал голос.
— Не знаю. Мы нашли его на холме, когда он смотрел на звезды.
Тут Розальба судорожно уцепилась за мою руку и повисла на мне. Две крестьянки, проходившие по улице, обернулись и посмотрели на нас.
— Вы меня понимаете, правда? — сказала Розальба, тяжело дыша. — Вы видели, как Поли обращается со мной. Вчера я думала, что умру, я уже три дня одна в гостинице. Я не могу даже выйти погулять, потому что меня знают. Я здесь у него в руках; в Милане думают, что я на море. Но Поли пренебрегает мной, я надоела ему, он не хочет даже потанцевать со мной…
Я смотрел на камни мостовой и чувствовал, что на нас глазеют с балконов.
— …сегодня ночью, вы видели, он был в хорошем настроении. Когда он пьян, он еще переносит меня, но, пока не напьется, готов на все, чтобы удрать от меня. Теперь… — тут у нее пресекся голос, — …я никогда не знаю, что будет завтра.
Она не отпустила мою руку, даже входя, когда я откинул портьеру из звенящих висюлек. Поли и Пьеретто беседовали в тени, и, увидев нас, Пьеретто крикнул:
— Что мы будем есть?
Нам подали яичницу и вишни. Я старался не глядеть на Розальбу. Поли, разламывая хлеб, продолжал говорить:
— Тем вернее решаешься, чем ниже ты пал. Когда мы оказываемся на самом дне, когда все потеряно, тогда мы и обретаем самих себя.
Пьеретто смеялся.
— Пьяный есть пьяный, — сказал он. — Он уже не выбирает ни наркотики, ни вино. Он уже сделал выбор миллионы лет назад, когда в первый раз закричал «пей до дна».
— Есть внутренняя чистота, — сказал Поли, — ясность духа, которая идет из глубины…
Розальба молчала, а я не осмеливался смотреть на нее.
— Я тебе говорю, — перебил Поли Пьеретто, — что если ты сегодня ночью забыл про время, то потому, что потерял способность сделать выбор.
— Но я ищу эту чистоту, — упрямо сказал Поли, с трудом ворочая языком, — и я тем ближе к ней, чем лучше я осознаю, что я низок и что я взрослый человек. Ты понимаешь или нет, что человеку свойственна слабость? Как ты можешь подняться, если сначала не упадешь?
Розальба молча ела вишни. Пьеретто покачал головой и сказал:
— Нет.
Я думал о давешнем разговоре с Розальбой, и не столько о ее словах, сколько о голосе и о том, как она сжимала мою руку. Когда мы встали и собрались уходить, я взглянул на нее. Она показалась мне спокойной, сонной.
VI
Зря потратив утро, мы в кислом настроении расстались с Розальбой и Поли у подъезда гостиницы. Ярко светило солнце, и от сверкания витрин болели глаза. Мы с Пьеретто молча прошли по бульварам; я думал об Оресте.
— Пока, — сказал я на углу.
Я пришел домой и бросился на кровать. В коридоре слышались суетливые шаги матери, но я оттягивал момент встречи. Я не собирался спать, хотел только прийти в себя. От усталости мне легко удавалось не думать о прошедшей ночи, о сумбурных рассуждениях Поли, о хныканье Розальбы, и я мысленно видел над собой сияющее небо, в которое на рассвете проваливался в полусне, и шел по улочкам селения, поглядывая вверх, на балконы. Мне были знакомы такие селения, скучившиеся среди полей. Я помнил село на равнине, где жили дедушка и бабушка, к которым родители отправляли меня на каникулы, когда я был ребенком, огороды, оросительные канавы, шпалеры деревьев, проулки, дома с крылечками и лоскуты высокого-высокого неба. Из моего детства у меня в памяти осталось только лето. Жизнь и мир с утра до вечера были замкнуты в пределы узких улочек, выходивших прямо в поля. Великое чудо, если примчавшаяся бог весть откуда машина проедет по большаку через селение, поднимая пыль и взбудораживая ребятишек.
Пока я лежал в темноте, мне опять пришел на ум план пройти вместе с Пьеретто через холмы с рюкзаком за плечами. Я не завидовал тем, у кого есть машина. Я знал, что на машине только покрывают расстояние, но не знакомятся с краем, по которому едут. «Пешком — другое дело, — скажу я Пьеретто, — идешь по тропинкам, огибаешь виноградники, все видишь. Смотреть на воду совсем не то, что прыгнуть в воду, вот и тут такая же разница. Уж лучше быть голодранцем, бродягой».
Пьеретто смеялся в темноте и говорил мне, что теперь повсюду бензин. «Как бы не так, — бормотал я, — крестьяне не знают, что такое бензин. Для них коса и мотыга — это все. Прежде чем вымыть бочку или срубить дерево, они еще смотрят на луну — нет ли худого знака, а когда опасаются града, протягивают две цепи на гумне…»
«И страхуют имущество, — смеялся Пьеретто. — И покупают молотилки. И опрыскивают виноград купоросом».
«Крестьяне всем этим пользуются, — крикнул я вполголоса, — пользуются, но живут по-другому. В городе они чувствуют себя плохо».
Пьеретто ехидно смеялся. «Подари машину крестьянину, — сказал он с ухмылкой, — увидишь, как он будет оборачиваться. Уж будь покоен, он не посадит в нее ни Розальбу, ни нас. Крестьянин дела делает».
Я думал об Оресте, который учился на врача. «Вот крестьянин, который живет в городе, — сказал я Пьеретто. — Знаний у него побольше, чем у нас, но он не шалопайничает. Для него ночь имеет другой смысл, ты и сам это говоришь…»
Мою полудрему прервал телефонный звонок. Позвали меня. Я думал, что это Розальба, что она еще не выговорилась. Но звонила сестра Пьеретто, спрашивала, не видел ли я его — уже два дня его не было дома.
— Я расстался с ним полчаса назад, — сказал я ей, — сейчас он придет.
Чтобы не повредить ему, я не сказал, как мы провели ночь. Она сказала:
— Подонки вы и больше никто. Где вы спали?
— Мы не спали.
— Вот и плохо. Кто спит, не грешит, — засмеялась она.
— А кому охота спать?
За столом я соврал, что у нас лопнула шина. Отец сказал, что из-за шины может случиться несчастье, в особенности если тот, кто сидит за рулем, выпил. Потом он добавил, что не стоит развлекаться за счет приятелей: с людьми, у которых большие средства, никогда не расквитаешься.
После обеда я решил заниматься. Но перед этим я принял ванну, чтобы взбодрить себя. Я подумал, что Розальба и Поли, наверное, делают то же самое и что Розальба, пожалуй, слишком стара, чтобы позволять себе раздеваться при нем.
Под вечер зазвонил телефон. Это был Пьеретто.
— Приходи к Оресту, — сразу сказал он.
— Я занимаюсь.
— Приходи, дело стоит того, — сказал он. — Эти двое перестрелялись.
Скоро мы уже сидели в траттории и обсуждали это событие с Орестом, который пришел из больницы и два раза звонил своим приятелям-санитарам, чтобы справиться, как обстоит дело. Поли был при смерти: пуля попала ему в бок и задела легкое; а Розальба кричала сбежавшимся коридорным: «Убейте и меня, почему вы меня не убиваете?», так что пришлось запереть ее в ванной.
— Когда это произошло? — спросил я.
— Это она со злости выстрелила в него, — сказал Орест. — Перед этим она что-то кричала, в баре было слышно, как они ссорятся. Кто его знает, какая грязная история кроется за всем этим.
Произошло это среди дня, в самую жару. Поли, видимо, незадолго до того принял наркотик, потому что блаженно смеялся, лежа на диванчике.
Мы толковали об этом весь вечер. Теперь в больнице и в гостинице ждали указаний из Милана. Розальбу держали в номере под замком; ее судьба зависела от того, выживет ли Поли, а также от его отца, который должен был приехать: такой человек, как он, мог во избежание скандала в два счета прекратить расследование и всем заткнуть рот. Правда, налицо был револьвер Розальбы, дамская игрушка, обделанная в перламутр, но кое-кто был уже готов подменить его более подходящим оружием.
— Такова власть денег, — бесстрастно сказал Пьеретто. — Деньгами можно покрыть и преступление и агонию.
Орест еще раз позвонил в больницу.
— Приехал старик, — сказал он, вернувшись к нам. — И то хорошо. Интересно, знает ли он эту женщину.
Тут мы сказали ему, что во всем виноват Поли, что мы провели с ними ночь и даже при нас он обращался с нею по-хамски.
— Он сам на это нарвался, — говорил Пьеретто. — С такой женщиной, как Розальба, шутки плохи.
— Я сейчас же возвращаюсь в больницу, — сказал Орест. — Ему делают переливание крови.
В эту ночь мы с Пьеретто гуляли вдвоем. Я совсем выдохся и смертельно хотел спать, а он все пережевывал эту историю. Я сказал ему, что утром Розальба меня спрашивала о Поли.
— Было ясно, что это добром не кончится, — сказал Пьеретто. — Женщина может понять все, что угодно, только не душевный кризис, который переживает мужчина. Знаешь, что она мне сказала ночью? Что Поли, несмотря на свою молодость, теперь даже не смотрит на женщин.
— А меня она спросила, что мы делали на холме.
— Она бы предпочла, чтобы он развратничал. Такие вещи женщины понимают.
Тут я сказал, что, на мой взгляд, он и развратничал. Что кокаин, что свободный выбор — все одно скотство. Поли просто насмехался над людьми, вот и все. И если он за это поплатился, то так ему и надо.
Пьеретто улыбнулся и ответил мне, что умрет ли Поли или выживет, он, во всяком случае, испытал нечто из ряда вон выходящее, и тут ему можно позавидовать.
— Ты можешь не верить, — сказал он, — но чего мы ищем каждый вечер, шатаясь по улицам? Чего-нибудь такого, что выбило бы нас из обычной колеи, внесло бы разнообразие в нашу жизнь…
— Хотел бы я посмотреть на тебя, если бы ты оказался на его месте.
— Но ведь и ты сам день и ночь думаешь о том, как выйти из клетки. Зачем, по-твоему, мы ходим за По? Только зря: самые неожиданные вещи происходят здесь же, в Турине, — в комнате, в кафе, в трамвае…
— Я не ищу неожиданностей.
— Ну что ж, — сказал он, — мир принадлежит таким людям, как Поли. Заруби себе это на носу.
На следующий день Поли все еще был между жизнью и смертью, и ему опять делали переливание крови. По словам Ореста, теперь, когда с ним был отец, а действие наркотика кончилось, он походил на испуганного ребенка, готового расплакаться. По приезде старик сразу пошел к Розальбе: что они сказали друг другу, было неизвестно, но Розальбу упрятали в пансион, который содержали монахини, а о покушении на убийство больше никто не упоминал. «Несчастный случай», — говорил главный врач своим ассистентам. Эти новости интересовали Пьеретто, и Орест это знал.
Бедный Орест, рискуя провалиться, совсем запустил подготовку к экзаменам: дежурил у постели Поли в качестве санитара. Он представился командору, и они разговорились. Орест сказал, что старик со знанием дела толковал о деревенской жизни, о земле на Взгорьях, об урожаях. В больницу он приезжал на зеленой машине Поли, которую сам водил. Он и сменял по утрам Ореста, отсылая его спать.
Наконец стало известно, что Поли выкарабкивается. Пьеретто тоже навестил его и, вернувшись, сказал:
— Он все такой же и читает Нино Сальванески.
Я решительно отказался идти к нему. Мы поговорили о нем еще несколько дней, а потом Орест сказал нам, что его в мягком вагоне отправили на море.
VII
В то лето я по утрам ходил на По и проводил там час или два. Мне нравилось грести до пота, а потом бросаться в холодную, еще темную воду, которая так хорошо промывает глаза. Почти всегда я ходил на реку один, потому что Пьеретто в это время отсыпался. Если он тоже приходил, то правил лодкой, пока я купался. Бывало, гребешь против течения, проплываешь под мостами мимо одетых камнем берегов и между дамбами и посадками подходишь к косогору. А на обратном пути любуешься возносящимся над рекою холмом, который, хотя и стоял июнь, в этот час еще окутывали испарения, свежее дыхание растений. На этих лодочных прогулках я и пристрастился к вольному воздуху и понял, что наслаждение, которое доставляют вода и земля, продолжается за пределами детства, за пределами огорода и сада. Вся жизнь, думал я в эти утренние часы, подобна игре на солнце.
Но не игрой были заняты землекопы, которые, стоя по пояс в воде, с натугой поднимали со дна лопаты грязного песка и кидали его на баржу. Спустя час или два, полная доверху, она оседала до уровня воды, и худой, загорелый до черноты человек в жилете, надетом на голое тело, отталкиваясь шестом, медленно вел ее вниз по течению. В городе, за мостами, ее разгружали, и она медленно возвращалась назад с группой рабочих, а солнце между тем поднималось все выше. К тому времени, когда я уходил с реки, они успевали сделать две или три ездки. Весь день, пока я шатался по городу, занимался, болтал с приятелями, отдыхал, эти люди спускались и поднимались по реке, выгружали песок, соскакивали в воду, пеклись на солнце. Я особенно часто думал о них вечером, когда начиналась наша ночная жизнь, а они возвращались домой, в бараки на берегу По или в стандартные четырехэтажные дома рабочих кварталов, и заваливались спать. Или шли в остерию опрокинуть стаканчик. Конечно, и они тоже видели солнце и холм.
От соприкосновения с рекой я всякий раз испытывал прилив бодрости, которая сохранялась у меня на весь день. Казалось, солнце и мощное течение заряжали меня своей энергией, сообщали мне слепую, веселую и лукавую силу вроде той, которая свойственна дереву или лесному зверю.
Пьеретто тоже, когда приходил со мной, наслаждался утром на По. Спускаясь по течению к Турину, мы сохли, лежа в лодке, и промытыми, ясными от солнца и ныряния глазами глядели на берега, на холм, на виллы и на далекие купы деревьев, четко вырисовывающихся в воздухе.
— Если каждый день вести такую жизнь, — говорил Пьеретто, — превратишься в животное.
— Стоит посмотреть на землекопов…
— Нет, я не про них, — сказал он, — они только работают. Я имею в виду животное по здоровью и силе… И по эгоизму, — прибавил он, — по тому сладкому эгоизму, от которого жиреют…
— Мы же не виноваты, если нам хорошо.
— А кто тебя обвиняет? Никто не виноват в том, что родился. Виноваты другие, всегда виноваты другие. Мы себе плывем в лодке и курим трубочку, вот и все.
— Ну, мы еще не совсем животные.
Пьеретто смеялся.
— Кто знает, что такое настоящее животное, — сказал он, — рыба, дрозд, ящерица… Или, скажем, белка… Некоторые говорят, что в каждом животном заключена душа… неприкаянная душа. Мол, это чистилище… Ничто так не отдает смертью, — продолжал он, — как летнее солнце, яркий свет, роскошная природа. Ты нюхаешь воздух, чуешь запах леса и осознаешь, что растениям и животным нет до тебя никакого дела. Все живет и мучается само по себе. Природа — это смерть…
— При чем тут чистилище? — сказал я.
— Иначе природу не объяснишь, — сказал он. — Или она ничто, или в ней обитают души.
Он уже не раз заводил этот разговор. Это меня и раздражало в Пьеретто. У меня не такой характер, как у Ореста, который в подобных случаях только пожимал плечами и смеялся. Когда речь идет о природе, каждое слово задевает меня за живое. Я не находился, что ответить, и молча орудовал гребком.
Пьеретто тоже не мог равнодушно смотреть на бегущую воду. Это он сказал нам в прошлом году: «На что же вам дана река? Почему бы не пойти на По?» — и растормошил нас с Орестом, робевших сделать то или другое только потому, что до сих пор никогда этого не делали. Пьеретто лишь несколько лет назад приехал в Турин, а до этого жил в разных городах, таскаясь за отцом, беспокойным архитектором, который то и дело перевозил семью с места на место. Однажды в Пулье он даже поместил жену и дочь в женский монастырь, а сам с Пьеретто жил в келье мужского, где руководил реставрационными работами. «Мой отец, — говорил Пьеретто, — не находит общего языка со священниками и чувствует себя с ними не в своей тарелке. Он их терпеть не может и, когда мы жили в монастыре, грызся с ними из-за меня, потому что до ужаса боялся, как бы я не сделался священником или монахом». Теперь старик, гигантского роста мужчина, ходивший в рубашке с открытым воротом, угомонился и довольствовался Турином; вернее, семья жила в Турине, а он разъезжал. Я видел его всего несколько раз, и всегда Пьеретто и он подшучивали друг над другом, обменивались советами и разговаривали до крайности фамильярно — я и не знал, что сын может так разговаривать с отцом. В глубине души мне не нравились эти вольности, и я не понимал, зачем отец Пьеретто держит себя, как наш сверстник.
— Тебе было хорошо в монастыре, — говорил ему Пьеретто, — потому что ты жил там как холостяк.
— Глупости, — отвечал старик, — человеку хорошо там, где у него ни о чем душа не болит. Недаром монахи так жиреют.
— Есть и худые монахи.
— Это монахи по ошибке, нудные люди. Святость — дурной знак. С такими каши не сваришь.
— Это вроде как ездить на мотоцикле, — сказал Пьеретто. — Монах на мотоцикле разве похож на монаха?
Старик подозрительно посмотрел на него.
— А что ж тут плохого?
— Ничего, — сказал Пьеретто, — только святой в наше время — все равно что монах на мотоцикле…
— Анахронизм, — сказал я.
— Старая лавочка, — с раздражением сказал старик, — религия — это старая лавочка. Они это знают лучше нас.
В тот год старик работал в Генуе, где у него был какой-то подряд, и Пьеретто должен был поехать туда на морские купания. Его сестра уже уехала, и Пьеретто звал нас поехать с ним — людей посмотреть. Но у нас уже был план отправиться к Оресту, а дома у меня считали: хорошенького понемножку и, поскольку под носом По, можно обойтись и без моря. Я решил поэтому остаться в Турине, дождаться августа, когда вернутся Пьеретто и Орест, а потом вместе с ними, закинув за спину рюкзак, двинуться в путь.
Я не поверил бы, если бы мне сказали, что в начале лета в городе мне будет так хорошо. Один, без приятелей, не встречая на улицах даже знакомого лица, я вспоминал прошлые дни, ходил на лодке, рисовал себе что-нибудь новое, необычное. Самым беспокойным временем была ночь — понятное дело, Пьеретто испортил меня, — а самым прекрасным — середина дня, около двух, когда улицы пусты, только полоска неба зажата между домами. Часто я замечал какую-нибудь женщину у окна, скучающую, погруженную в себя, как это бывает только с женщинами, и, проходя, поднимал голову, мельком видел комнату, обстановку, краешек зеркала и уносил с собой удовольствие, которое мне это доставляло. Я не завидовал моим товарищам, которые в эти часы были на пляже, в кафе, среди бронзовых от загара полуголых курортников. Конечно, говорил я себе, они очень весело проводят время вдали от меня, но ведь они вернутся, а пока я хожу по утрам на реку, загораю, гребу и не жалуюсь на свою долю. Девушки тоже приходили на По, кричали с лодок, гомонили на берегах Сангоне[18]; даже землекопы поднимали головы и отпускали шуточки; я знал, что настанет день, когда я познакомлюсь с какой-нибудь из них и между нами что-то произойдет; я уже представлял себе ее глаза, ноги и плечи, видел перед собой изумительную женщину, а тем временем греб и курил трубку.
Трудно было на воде, стоя в лодке и отталкиваясь веслом, не разыгрывать из себя атлетически сложенного первобытного человека, не всматриваться орлиным взглядом в горизонт или в очертания холма. Я себя спрашивал, пришлись ли бы по вкусу людям вроде Поли такие удовольствия и поняли ли бы они мою жизнь.
Одну девушку и я в конце июля сводил на По, но не произошло ничего потрясающего или нового. Я ее знал, это была продавщица книжного магазина, костлявая и близорукая, но с холеными руками и томными манерами. Когда я рассматривал книги, она спросила меня, где я так загорел. Я ее пригласил покататься на лодке, и она с радостью обещала прийти в субботу.
Она пришла в белом купальном костюмчике, поверх которого была надета юбка, и юбку она сняла, повернувшись ко мне спиной и хихикая. Лежа на подушках на дне лодки, она жаловалась на солнце и глядела, как я гребу. Звали ее Терезина или попросту Рези. Время от времени мы обменивались несколькими словами о жаре, о рыбаках, о купальных заведениях Монкальери. Она говорила не столько о реке, сколько о плавательных бассейнах. Спросила, танцую ли я. Она щурила глаза и от этого казалась рассеянной.
Я причалил под деревьями, бросился в воду и поплыл. Она купаться не стала, потому что намазалась кремом от солнца — так и разило парфюмерией. Когда я вылез из воды, она сказала, что я здорово плаваю, и прошлась по берегу. Ноги у нее были недурные — длинные, розовые. Но мне почему-то стало ее жалко. Я принес ей подушки на камни, и она сказала, чтобы я взял баночку с кремом и намазал ее сзади, куда она не доставала. Тогда я стал на колени и принялся натирать ей пальцами спину, а она говорила, чтобы я натирал хорошенько, и смеялась, откидывая назад голову и прижимая затылок к моему рту. Потом она изогнулась и поцеловала меня в губы. Было ясно — она свое дело знает. Я сказал:
— Зачем ты намазалась этим кремом?
А Рези, касаясь носом моего носа:
— А ты что задумал, негодник? Не выйдет, запрещено.
Продолжая смеяться и щуря глаза, она спросила, почему бы и мне не натереться маслом. Тут я прижал ее к себе. Она вывернулась и сказала:
— Нет-нет, натрись маслом.
На большее, чем поцелуи, она не согласилась, хоть и пошла со мной в кусты. В первый момент меня взяла досада, но потом я уже не жалел, что тем дело и кончилось. На солнце, в траве наши тела и этот приторный запах были как-то неуместны; есть вещи, которые хороши только в городе, в комнате. На вольном воздухе голое тело выглядит некрасиво. У меня было неприятное чувство, что мы оскорбляем эти места. Сдавшись на просьбу Рези, я отвез ее в один бассейн, и там она получила полное удовольствие, разглядывая других купальщиков и потягивая через соломинку шипучку.
VIII
К Рези я больше не показывался, потому что был сыт по горло историей с кремом, плавательным бассейном, подразумеваемыми правилами игры. В конечном счете мне было лучше одному, и Рези была не первая девушка, разочаровавшая меня. Что же, думал я, вместо того чтобы похвастаться Пьеретто потрясающим любовным приключением, я ему скажу, что нет женщины, которая стоила бы солнечного утра на воде. И я уже знал ответ: «Утра — нет, а ночи — да».
Я не мог себе представить Ореста на море вместе с Пьеретто. В прошлом году, когда я поехал туда с Пьеретто и его сестрой, Орест не присоединился к нам, а сразу же помчался в свое селение, затерявшееся среди холмов. «Что он там находит, — сказал тогда Пьеретто, — надо и нам побывать в этих местах». Так родился план отправиться туда пешком, но уже зимой Орест стал отговаривать нас, доказывая, что лучше провести месяц на винограднике, чем на дорогах. В его словах была доля правды, но Пьеретто не соглашался. Такой уж у него был характер, ему не сиделось на месте, и в прошлом году, когда мы с ним ходили на По, он каждое утро искал новый пляж, повсюду совал свой нос и везде заводил знакомства. Захудалая харчевня или шикарная гостиница — ему было все равно. Не зная ни одного диалекта, он говорил на всех. Бывало, скажет: «Сегодня вечером — в казино», и, кого бы ему ни приходилось для этого обхаживать, будь то уборщик купален, хозяин или старуха, содержащая меблированные комнаты, он у каждого находил слабое место и добивался своего — проводил вечер в казино. Можно было помереть со смеху, глядя на этого проныру. Но у женщин он не имел успеха. На женщин его ухватки не действовали. Он их захлестывал, затоплял потоком слов, а потом терял терпение, начинал хамить и ничего не добивался. Впрочем, я даже не уверен, что он так уж хотел добиться своего.
— Чтобы нравиться женщинам, надо быть глупым, — сказал я как-то раз, чтобы утешить его.
— Нет, — ответил он, — этого недостаточно. Хотя, кроме всего прочего, надо быть глупым.
Пьеретто был невысокого роста, смуглый, с тонким лицом и вьющимися волосами — с виду настоящий сердцеед: казалось, стоит ему посмеяться или поглядеть на девушку, он отобьет ее у кого угодно. К тому же по сравнению с верзилой Орестом и со мной он был, без сомнения, куда более пылким. Однако и на море он не одержал никаких побед.
— Ты слишком нахраписто действуешь, — говорил я ему, — не даешь толком познакомиться с тобой. Всякая девушка хочет знать, с кем имеет дело.
Мы шли по дороге вдоль обрывистого, скалистого берега, отыскивая один маленький пляжик.
— Вот женщины, вот и купание, — сказал Пьеретто.
Внизу, крохотные на расстоянии, раздевались Линда и Карлотта, сестра Пьеретто и ее подруга, красивая девушка постарше нас, на которую мы оба непременно обернулись бы, если бы встретили ее на улице.
— Вот так штука, — сказал Пьеретто, — они нас ждут.
— Линда привела ее для тебя.
Пьеретто поднял руку и крикнул. Но рокот моря, который до нас едва доносился, должно быть, заглушил его голос. Тогда мы стали кидать камешки. Девушки подняли головы и встрепенулись. Они, видно, что-то кричали, но мы не слышали.
— Спустимся, — сказал я.
На пляж мы добрались с моря, плывя в зеленой воде. Мы долго дурачились с девушками, лазали по скалам, брызгались. Потом я лег жариться на солнце, глядя на пену, окаймлявшую песок, а Пьеретто тем временем занимал сестру и ее подругу.
Разговор шел о том, что даже на пустынных пляжах валяются косточки от фруктов и обрывки газет. Пьеретто говорил, что в мире уже не осталось ни одного девственного уголка. Что многих потому и тянет сюда, что в облаках и в морском горизонте есть что-то дикое и первозданное. Что древняя претензия мужчины на обладание женщиной, еще не потерявшей невинности, — пережиток того же пристрастия, той же глупой жажды опередить всех. Карлотта сидела, опустив голову, и волосы падали ей на глаза; она не понимала шутки и смеялась нехотя, с кислым видом. Надо же было Пьеретто завести этот разговор именно с ней. Карлотта была девушкой немудрящей — шла ли речь о море, о ребенке или о кошке, говорила просто-напросто: «Мамочка моя, до чего же красиво». У нее, правда, были приятели, с которыми она болтала на пляже и танцевала, но она говорила, что терпеть не может встречаться в городе с теми, кто видел ее полуголой на взморье. С Линдой она гуляла под ручку.
Пьеретто не унимался. Линда, лежавшая на скале, сказала, чтобы он перестал. Пьеретто заговорил о крови. Он сказал, что пристрастие к нетронутому и дикому есть пристрастие к пролитию крови. «С женщиной спят, чтобы нанести рану, пролить кровь, — объяснил он. — Буржуа, который женится, и непременно на девственнице, тоже хочет удовлетворить это желание…»
— Перестань! — крикнула Карлотта.
— Почему? — сказал он. — Все мы надеемся, что когда-нибудь это случится и с нами…
Линда встала, потянулась и предложила поплавать.
— По той же причине ходят в горы, на охоту, — говорил Пьеретто. — Сельское уединение вызывает жажду крови…
С этого дня прекрасная Карлотта не стала больше ходить на нетронутые места. Линда сказала нам:
— Вот вы и достукались.
Так Пьеретто отпугивал девушек и еще утверждая, что ловко вел себя и остался в выигрыше. Потом он открывал новые места, находил новых людей и заводил разговор на другую тему. Но за весь сезон он так ни с кем и не подружился, если не считать хозяина какого-то кабачка и стариков пенсионеров.
Что до меня, я долго вспоминал этот укромный пляжик. По совести сказать, море, такое огромное и изменчивое, мало что говорило моему сердцу; мне нравились замкнутые места — ложбины, проулки, террасы, оливковые рощи. Порой, распластавшись на скале, я подолгу смотрел на какой-нибудь камень величиной с кулак, который на фоне неба казался огромной горой. Вот такие вещи мне нравятся.
Теперь я думал об Оресте, который в первый раз видел море. Пьеретто, уж конечно, не давал ему спать, а вместе они, я знал, были способны на все — от купания нагишом до причащения таинств бутылки во всех ночных заведениях. К тому же там была Линда со своими подругами и был отец Пьеретто, а при его взбалмошном характере невозможно было предугадать, что ему взбредет в голову. Я не без грусти вспоминал о том, как мы, бывало, вставали перед рассветом и, потихоньку выйдя из дому, гуляли вдоль берега моря при теплом свете последних звезд. Конечно, Орест и без всяких приправ наслаждался бы каникулами. Но мне не терпелось услышать от него, плывя с ним в лодке по По, убедился ли он, как прекрасен мир.
Однако против моих ожиданий ни он, ни Пьеретто не вернулись в Турин. Вернулась одна Линда, работавшая в какой-то конторе, и в первых числах августа позвонила мне.
— Слушайте, — сказала она, — ваши приятели ждут вас в одном селении — забыла, как оно называется. Давайте повидаемся, и я объясню вам, как туда добраться.
Я сразу назвал ей селение среди холмов, где жил Орест. Так и оказалось. Эти обормоты уже уехали туда.
Мы встретились с Линдой под вечер перед ее любимым кафе. В первый момент я ее не узнал, до того она загорела. Она и на этот раз заговорила со мной шутливо, как говорят с ребятишками.
— Угостите меня вермутом? — сказала она. — Пляжная привычка.
Она села, заложив ногу на ногу.
— Скверная штука возвращаться в августе, — вздохнула она. — Хорошо вам, вы никуда не уезжали.
Мы поговорили о Пьеретто и Оресте.
— Не знаю, как они провели время, — сказала она, — я предоставила им барахтаться самим. Они уже не маленькие. В этом году у меня были свои приятели, взрослые люди, слишком взрослые для вас…
— А что Карлотта, прекрасная Карлотта?
Линда рассмеялась во все горло.
— Пьеретто часто перебарщивает. В нашей семье все такие. Это бывает и со мной. Мы ужасные люди. А с годами становимся все хуже.
Я не стал ей возражать и, щурясь, посмотрел на нее. Она заметила это и сделала мне гримасу.
— Мне, правда, уже не двадцать лет, как вам, — проговорила она, — но и не такая уж я старая.
— Старыми не становятся, — сказал я, — старыми рождаются.
— Ни дать ни взять, изречение Пьеретто, — воскликнула она, — типичное изречение Пьеретто!
Я в свою очередь сделал гримасу.
— Мы их произносим по одному в день, — проговорил я, — когда наберется достаточно, тогда и кончим.
IX
Дом Ореста, как розовый балкон, возвышался над морем лощин и оврагов, от которых рябило в глазах. Я все утро ехал по равнине, по знакомой равнине, и в окошке вагона мимо меня промелькнули памятные с детства оросительные каналы, обсаженные деревьями, зеркала воды, луга, выводки гусей. Я еще думал обо всем этом, когда поезд пошел между отвесных скал, где, чтобы увидеть небо, надо было задирать голову. Проехав через узкий туннель, он остановился. Я оказался на маленькой площади, где было жарко и пыльно, а вокруг, куда ни кинь взгляд, видны были лишь выжженные солнцем косогоры. Жирный возчик показал мне дорогу; нужно было идти в гору и в гору, селение находилось наверху. Я бросил чемоданчик на повозку, и мы стали подниматься вместе следом за медлительными быками.
Мы шли через виноградинки и сухое жнивье, и, по мере того как раздвигался горизонт, я различал все новые селения, новые виноградники, новые косогоры. Я спросил у возчика, кто посадил столько винограда и хватало ли рук возделывать его. Он с любопытством посмотрел на меня и повел разговор издалека, стараясь выяснить, кто я такой. Потом сказал:
— Виноградники всегда были, это ведь не то что построить дом.
Когда мы добрались до каменной кладки, укреплявшей террасу, на которой стояло селение, я хотел было спросить, зачем это дома ставят наверху, но, взглянув на угрюмое лицо возчика с узкими щелочками глаз, предпочел промолчать. Дул легкий ветерок, пахло фигами, и здесь, на этом склоне холма, мне почудилось веяние моря. Я вздохнул полной грудью и проговорил:
— До чего же хороший воздух.
Мы вошли в селение. На каменистую улочку выходили дома с внутренними двориками и несколько вилл с балконами. Мне бросился в глаза сад, где было полным-полно далий, циний, герани — преобладало красное с желтым — и цветов фасоли и тыквы. В прохладных закоулках между домами, лестницами, курятниками сидели старые крестьянки. Дом Ореста находился на углу площади, у изгиба опорной кладки, и был окрашен в переливчатый розовый цвет — настоящая маленькая вилла, обшарпанная вьюнками и ветром. Потому что тут, наверху, даже в этот час дул ветер — я заметил это, как только вышел на площадь и возчик указал мне дом. Я порядком вспотел и направился прямо к двери, поднялся по трем ступенькам и постучал бронзовым дверным молотком.
Ожидая, пока мне откроют, я огляделся вокруг и подумал, что для Ореста это хорошо знакомые места, где он родился и вырос, и что все здесь — и освещенная солнцем шероховатая штукатурка, и кустик травы на балконе, вырисовывающийся на фоне неба, и глубокая полуденная тишина, нарушаемая только тарахтением удаляющейся повозки, — должно быть, близко и дорого его сердцу. Подумал о том, сколько на свете мест, которые вот так принадлежат кому-нибудь, с которыми кто-нибудь кровно связан и о которых другие не имеют понятия. Я опять постучал в дверь, на этот раз рукой.
Мне отозвалась через притворенные ставни какая-то женщина. Что-то воскликнула, забормотала, спросила, кого мне надо. Ни Ореста, ни его товарища не было дома. Женщина сказала, чтобы я минутку подождал; я извинился, что пришел в такой час; наконец мне открыли.
Со всех сторон показывались женщины — старухи, прислуги, девочки. Мать Ореста, дородная женщина в переднике, суетливо встретила меня, осведомилась, как я доехал, провела в полутемную комнату (когда открыли ставни, я увидел сервизы и картины, мебель в чехлах, бамбуковый треножник, вазы с цветами и понял, что это гостиная), спросила, не хочу ли я кофе. В комнате стоял затхлый запах хлеба и фруктов. Усадив меня, хозяйка села сама и с такой же, как у Ореста, слегка снисходительной улыбкой поговорила со мной. Она сказала, что Орест скоро вернется, что все мужчины скоро вернутся, что через час подадут на стол и что у Ореста все товарищи славные — наверное, и учимся мы вместе. Потом она встала и, сказав: «Ветер поднялся», закрыла ставни. «Не взыщите, — извинилась она, — вам придется спать в одной комнате. Не хотите ли умыться?»
К тому времени, когда вернулись Орест и Пьеретто, я уже знал весь дом. Наша комната выходила в пустоту, на далекие холмы, а умывались здесь в тазу, разбрызгивая воду на красные кафельные плитки. «Не обращайте внимания, если замочите пол, — сказала мать Ореста, — мух меньше будет». Я уже успел выйти на балкон, спуститься в кухню, где женщины возились у плиты, в которой потрескивали дрова, полистать календари и старые школьные книжки в кабинете отца Ореста, куда он потом вошел, крича во все горло, — у него были усы, и я узнал его по фотографиям, висевшим в гостиной. Он дал мне прикурить, и мы разговорились. Его интересовало, был ли я тоже на курорте, есть ли земли у моего отца и учусь ли я на священника, как мой приятель. На всякий случай я осторожно спросил:
— Это вам Орест сказал про него?
— Знаете, как бывает, заходит разговор про божественное — женщины в такие вещи верят, хотят верить, — вот оно и сказывается. Этот Пьеретто что твой священник, дока по части закона божьего и всего такого прочего, видно, учился в семинарии… Моя свояченица хочет рассказать о нем настоятелю.
— Это он просто так, дурака валяет. Неужели вы его еще не раскусили?
— Я так думаю, — сказал усач, — вся эта божественность — пустые выдумки. Но женщины из-за нее теряют голову.
— То же самое говорит его отец. — И я рассказал ему, как Пьеретто попал в монастырь, и объяснил, что он насмотрелся там на монахов и священников, понял, что они за птицы, и так же, как его отец, ни во что это не верит. — Он валяет дурака, вот и все.
— Ну и потеха, — сказал он, — ну и потеха. Ради бога не выдавайте его. Смотрите-ка, жил в монастыре.
Пришли черные от загара Орест и Пьеретто, в легких рубашках, без пиджаков, и дружески похлопали меня по плечу. Они были голодные как волки, и мы сразу пошли к столу. На главное место сел отец; взад и вперед сновали женщины, старые тетки, сестренки Ореста. Я познакомился с жертвой Пьеретто, свояченицей Джустиной, бодрой старухой, сидевшей на другом конце стола. Девочки шутили, подсмеивались над ней, говорили о каких-то цветах для алтаря, которые пономарь поставил в святую воду. Кто-то упомянул об Успении. Я следил за всеми, ожидая потехи, но Пьеретто, казалось, был предупрежден: он ел и помалкивал.
Так ничего и не произошло. Мы поговорили о морских купаниях, где побывал Орест. Я сказал, что загорал на По и что там полно курортников. Девочки внимательно слушали. Отец Ореста дал мне кончить, потом сказал, что солнца везде хватает, но в его времена на Ривьеру ездили только больные.
— Туда едут не из-за солнца, — сказал Пьеретто, — и не из-за воды.
— А для чего же туда едут? — сказал Орест.
— Чтобы видеть своего ближнего таким же голым, как ты сам.
— А на По тоже есть купальные заведения? — стараясь замять этот разговор, спросила меня мать Ореста.
— А то как же, — сказал Орест, — и там поют и танцуют.
— Нагишом, — сказал Пьеретто.
Старая Джустина фыркнула.
— Я понимаю мужчин, — сказала она с презрением, — но что туда ходят девушки — это просто срам. Им бы следовало предоставить мужчинам ходить туда одним.
— Не хотите же вы, чтобы мужчины танцевали с мужчинами, — сказал Пьеретто, — это было бы неприлично.
— Еще неприличнее, когда девушка раздевается на людях! — крикнула старуха.
Мы продолжали уплетать за обе щеки, а разговор перескакивал с одного на другое, то затухая, то оживляясь. Время от времени речь заходила о домашних делах, о сельских сплетнях, о работе, о земле, но, стоило раскрыть рот Пьеретто, затрагивалась какая-нибудь щекотливая тема. Быть может, это забавляло бы меня, если бы мы не имели друг к другу никакого отношения и его поведение не становилось бы в глазах хозяев также и моим. Что до Ореста, то он с довольным видом смотрел на меня и у него смеялись глаза: он был рад видеть меня в своем доме. Я украдкой показал ему кулак и, переставляя два пальца по столу, изобразил ходьбу. Он не понял и комично завращал глазами — подумал, что мне надоело сидеть за столом.
— Хорошенькую шутку вы сыграли со мной, — сказал ему я. — Разве мы не договорились проделать путь пешком?
Орест пожал плечами.
— Не бойся, мы еще находимся по косогорам и виноградникам, — сказал он, — для того мы и приехали, чтобы гулять в свое удовольствие.
Отец Ореста не понял, о чем мы говорим. Мы объяснили ему, что собирались прийти сюда пешком из Турина. Сестренка Ореста ахнула и зажала рот руками. Отец сказал:
— Какой смысл, ведь есть же поезд.
Тут выскочил Пьеретто:
— Когда все ездят на поезде, становится шиком идти пешком. Это такая же мода, как морские купания. Теперь, когда у всех есть ванна в доме, становится шиком принимать ванны под открытым небом.
— Говори за себя, ведь это ты был на море.
— Ну и народ, — сказал отец, — в мои времена за модой тянулись только женщины.
Мы поднялись из-за стола отяжелевшие и осовелые. Женщины ни на минуту не оставляли мою тарелку пустой, а отец Ореста, сидевший рядом со мной, непрестанно наполнял мой стакан.
— Пойдите поспать, — сказали мне, — сейчас самая жара.
Мы втроем поднялись по лестнице в нашу комнату, где воздух был горячий, как в бане. Я ополоснул лицо в белом тазу, чтобы немножко взбодрить себя, и сказал Оресту:
— Сколько времени продолжается праздник?
— Какой праздник?
— А что же это тогда? Нас откармливают как на убой. Здесь в один присест съедают столько, что хватило бы на полк солдат.
Пьеретто сказал:
— Если бы ты пришел пешком, тебе и этого было бы мало.
Орест смеялся, стоя у окна с прикрытыми ставнями. Он скинул рубашку, обнажив загорелое мускулистое тело.
— До чего хорошо, — сказал он и бросился на постель.
— Орест пристрастился танцевать и играть на гитаре, — сказал Пьеретто. — На танцах вокруг него прямо море бушевало. Ему еще до сих пор мерещится запах моря, когда он видит девушку.
— А здесь и вправду пахнет морем, — сказал я, подходя к окну. — Да и ширь такая, как будто море раскинулось. Посмотри.
Пьеретто сказал:
— Первый день — твой. Пожалуйста, любуйся видом. Но завтра — всё.
Я дал им немножко позубоскалить, потом сказал:
— Что-то вы больно веселы. В чем дело?
— А что? — сказал Пьеретто. — Ты поел и попил, чего тебе еще?
А Орест:
— Может, хочешь выкурить трубочку?
Их заговорщический тон, звучавший в темной комнате особенно интригующе, действовал мне на нервы. Я сказал Пьеретто:
— Ты уже напугал всех женщин в доме. Ты все такой же. Дело кончится тем, что тебе покажут на дверь.
Орест вскочил и сел на кровати.
— Вот что, шутки в сторону, — сказал он. — Вы не уедете отсюда, пока не пройдет сбор винограда.
— Что же мы будем делать весь август? — пробормотал я, снимая майку, а когда выпростал голову, услышал, как Пьеретто говорит:
— …Смотри-ка, он тоже черный, как жук…
— Солнце греет как на Ривьере, так и на По, — проговорил я, а они опять принялись смеяться.
— В чем дело? Вы пьяны?
— Покажи нам пупок, — сказал Орест.
Я шутки ради оттянул вниз брючный ремень, показав бледную полоску на коже живота.
Орест и Пьеретто загоготали и заорали:
— Позор! И он тоже! Ясное дело!
— Ты еще меченый, — усмехнулся Пьеретто на свой манер, точно плюнул в физиономию. — Пойдешь с нами на болото. Тут не церемонятся. От солнца ничего не надо прятать.
X
Мы отправились туда на следующий день. Посреди котловины, отделявшей наш холм от неровного плато, меж виноградников и кукурузных полей протекал ручей, сбегая в обрывистую расщелину, заросшую желтой акацией и ольшаником. В расщелине вода застаивалась, образуя цепочку бочагов, и тот, кто спускался в нее, оказывался как бы на дне колодца, откуда видно лишь небо да кромку зарослей ежевики. В полуденные часы туда падали отвесные лучи солнца.
— Что за селение, — говорил Пьеретто, — чтобы раздеться догола, приходится прятаться в землю.
Потому что в этом и состояла их игра. Они уходили из дому примерно в полдень и голые, как змеи, проводили час или два в этой расщелине, купаясь и валяясь на солнце. Цель была в том, чтобы стереть с себя позорное пятно, чтобы загорело все тело, не исключая паха и ягодиц. Потом они шли обедать. В день моего приезда они пришли как раз оттуда.
Теперь я понял, что означали недомолвки и смешки женщин. В доме не знали о выдумке Пьеретто, но купание посреди полей, хотя бы даже купались одни мужчины, хотя бы даже в трусах, поражало воображение.
Я узнал в этот день и многое другое. На новом месте поначалу не спится, даже если все отдыхают после обеда. В то время как дом погружался в сон и во всех комнатах только мухи жужжали, я спустился по каменной лестнице на кухню, откуда доносились негромкие голоса и глухие шлепки. Я нашел там одну из сестренок и мать Ореста, которая, засучив рукава, месила тесто на столе. Седая старуха, наклонившись над лоханкой, мыла посуду. Они улыбнулись мне и сказали, что готовят ужин.
— Так рано? — удивился я.
Старуха, обернувшись ко мне, засмеялась беззубым ртом и прошамкала:
— Готовить — не есть: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Мать Ореста сказала, вытирая лоб:
— Ничего. В этом доме нас, женщин, хоть отбавляй. Двое ли мужчин или четверо — все одно, не перетрудимся.
Девочка с русыми косами, перестав поливать муку водой из половника, как завороженная смотрела на меня.
— Ты что, ополоумела? Пошевеливайся, — сказала ей мать и снова принялась месить тесто.
Я постоял, поглядел. Сказал, что мне не хочется спать. Подошел к ведру, висевшему на стене, и хотел напиться из ковшика, но мать Ореста крикнула:
— Ну-ка, Дина, подай ему стакан.
— Не надо, — сказал я, — когда мальчишкой я жил в деревне, у нас пили из ведра.
Так я заговорил о моем селении, о хлевах, о поливных огородах, о гусях.
— Это хорошо, что вы уже жили в деревне, — сказала мать. — Значит, вам не привыкать, вы знаете, что это такое.
Разговор зашел о Пьеретто, который жил только в городе и привык к другой жизни.
— Ничего, его жалеть не приходится, — сказал я смеясь, — ему еще никогда не было так хорошо.
И я рассказал о его сумасшедшем отце, который таскал их с места на место, так что им случалось жить и в монастырях, и на виллах, и в мансардах.
— Он любит позубоскалить и почесать язык, но не по злобе — просто у него такой веселый характер, — сказал я. — Когда познакомишься с ним поближе, видишь, что он лучше, чем кажется.
Мать продолжала месить тесто.
— Не взыщите, здесь, кроме как с Орестом, вам будет не с кем поговорить, — сказала она. — Мы женщины темные.
Это было наименьшее из зол. Я не сказал ей этого тут же, но был рад, что в доме были только пожилые женщины и девочки. Представьте себе только девушку нашего возраста, скажем родную сестру Ореста, и нас вокруг нее. Или ее подругу, какую-нибудь Карлотту. А тут самой старшей девочкой была одиннадцатилетняя Дина, та, что за столом, засмеявшись, зажимала себе рукой рот.
Когда я спросил, нет ли в селении табачной лавочки, мать велела Дине проводить меня туда. Мы вышли на площадь и пошли в ту сторону, откуда я утром пришел. Ветер улегся; в тени сидели женщины и старики, выбравшиеся из дому подышать свежим воздухом. Мы прошли мимо сада с далиями, и я заметил, что между домами зияет пустота, а вдали вровень с нами вырисовываются вершины холмов, как острова в воздушном океане. Люди подозрительно поглядывали на нас; маленькая Дина шла рядом со мной, чистенькая и причесанная, и что-то болтала себе под нос. Я спросил ее, где папины виноградники.
— У нас хозяйство в Сан-Грато, — сказала она и указала на желтый гребень нашего холма, горбатившийся над домами за площадью. — Там белый виноград. А еще в Розотто, где мельница. — И она указала на долину, где по пологому склону стлались луга и заросли кустарника. — А там, за станцией, справляют праздник. В этом году он уже был. Пускали фейерверк. Мы с мамой смотрели с балкона…
Я спросил, кто обрабатывает землю.
— Как это кто? — сказала она и от удивления даже остановилась. — Крестьяне.
— А я думал, ты и твои сестрички с папой.
Дина хихикнула и испытующе посмотрела на меня, стараясь понять, не шучу ли я.
— Что вы! — сказала она. — Нам некогда. Мы должны следить, чтобы батраки работали как следует. Папа всем командует, а потом продает урожай.
— А тебе хотелось бы обрабатывать землю?
— Это мужская работа, от нее делаются черными — солнце печет.
Когда я вышел из лавочки, помещавшейся в полуподвале, где пахло серой и сладкими рожками, Дина чинно ждала меня.
— Многие женщины загорают на море, — сказал я. — Теперь это модно — загорать до черноты. Ты уже видела море?
Разговора на эту тему Дине хватило на всю дорогу. Она сказала, что на море она поедет, когда выйдет замуж, не раньше. На море одна не поедешь, а кто ее мог отвезти туда сейчас? Орест был еще молод для этого.
— Мама.
Мама, по словам Дины, была женщина старой закваски и считала, что нельзя шагу ступить, пока не выйдешь замуж.
— Пойдем посмотрим церковь, — сказал я.
Церковь была на площади — большая, из белого камня, с ангелами и святыми в нишах.
Я откинул портьеру, и Дина проскользнула внутрь, перекрестилась и стала на колени. Мы огляделись в прохладной полутьме. В глубине церкви, как кусок торта, белел алтарь, виднелось множество цветов и горела лампада.
— Кто приносит цветы мадонне? — шепнул я Дине.
— Девочки.
— А когда в поле собирают цветы, разве не загорают? — сказал я тихо.
Выходя из церкви, мы в дверях столкнулись со старухой — это была Джустина. Она степенно посторонилась, потом узнала меня, узнала девочку и расплылась в улыбке. Воспользовавшись ее изумлением, я спустился по ступеням. Но Джустина, не выдержав, обернулась и сказала мне вслед:
— Вот это я понимаю. Прежде всего бог. Вы уже видели благочинного?
Я пролепетал, что зашел сюда невзначай, просто из любопытства.
— Чего вы стесняетесь? — сказала она. — Вы прекрасно поступили. Не поддавайтесь ложному стыду. Вы меня очень утешили…
Мы оставили ее на ступенях, а когда шли через площадь, Дина сказала мне, что старуха вечно торчит в доме священника и бросает стирку, стряпню, любую работу по дому, лишь бы не пропустить службу.
— Где бы мы были, если бы все поступали так же, как ты? — говорила ей мать.
— В раю, — отвечала Джустина.
Были в этот день и другие происшествия, другие встречи, а вечером мы пили, ели и гуляли по селению при свете звезд. Я думал обо всем этом на следующий день, лежа голый в луже под палящим солнцем, в то время как Орест и Пьеретто плескались, как дети.
В этой яме было настоящее пекло, а над собой я видел раскаленное добела небо, и у меня кружилась голова и рябило в глазах. Мне вспоминались слова Пьеретто о том, что в полях пылающее августовское солнце вызывает мысль о смерти. Он был прав. В той сладкой дрожи, которую мы испытывали от сознания, что мы голые и прячемся от всех взглядов, в том упоении, с которым мы купались и валялись, как бревна, на солнцепеке, было что-то зловещее — скорее звериное, чем человеческое. Я замечал корни и плети, которые, как черные щупальца, выглядывали из высокой стены расщелины — то были знаки внутренней, тайной жизни земли. Орест и Пьеретто, более, чем я, привыкшие ко всему этому, возились, прыгали, болтали. Они вдоволь поиздевались над моими бедрами, пока еще постыдно бледными.
Никто не мог застать нас врасплох в этой норе — через кукурузу бесшумно не пройдешь. Мы были в безопасности. Орест, лежа в воде, говорил:
— Загорайте, загорайте. Прожаримся на солнце — станем здоровыми, как быки.
Странно было, находясь здесь, думать о том, что происходит наверху, о людях, о жизни. Накануне вечером мы погуляли по селению, прошлись вдоль низкой каменной стены, опоясывающей площадь. Возбужденные вином и свежим воздухом, мы смеялись, здоровались с людьми, которых встречали, слушали, как поют. Кучка молодых парней приветливо окликнула Ореста; священник прогуливался в тени и поглядывал на нас. Незначащие слова и шутки, которыми мы, почти не различая лиц в сгущающейся темноте, обменивались то с женщиной, то со стариком, то между собой, вселяли в меня странное веселье, праздничное и беспечное чувство, а веяние теплого ветра и мерцание звезд и далеких огней сулили продлить его на всю жизнь. Ребятишки, оглушительно крича, гонялись друг за другом по площади. Мы строили планы, говорили о селениях, рассеянных по склонам и гребням холмов, где мы собирались побывать, о винах, которые надо попробовать, об удовольствиях, которые нас ждут, о сборе урожая.
— В сентябре, — сказал Орест, — будем ходить на охоту.
Тут я вспомнил о Поли.
XI
Мы сразу заговорили о нем под стрекот сверчков.
— Греппо внизу, — говорил Орест, — там, где вон та кучка звезд. Оно только чуть выглядывает из-за плато: на заре виднеются вершины сосен…
— Двинем туда. Пошли, — сказал Пьеретто.
Но Орест сказал, что на ночь глядя туда идти не стоит и что Поли наверняка еще на Ривьере.
— Если только он там не загнулся.
— Он чувствовал себя хорошо. Теперь уж он поправился…
— А может, в него пульнула другая.
— Что же, это ему на роду написано?
— Как, — крикнул Пьеретто, и ветер подхватил его голос, — разве ты не знаешь, что то, что с тобой случается один раз, потом повторяется? Что как ты поступил один раз, так поступаешь и всегда. Не случайно некоторые люди не выбираются из бед. Это называется судьба.
О Поли опять зашел разговор на следующий день за столом, когда мы вернулись с болота. Орест, обведя взглядом домашних, сказал:
— Знаете, кого я видел в этом году?
Когда он рассказал историю с ранением, рассказал про Розальбу, зеленую машину, ночные поездки и после града жадных вопросов и восклицаний наступило ошеломленное молчание, мать сказала:
— Он был такой красивый ребенок. Помню, как они проезжали в карете с раскрытыми зонтиками от солнца. Его держала на руках кормилица в кружевной наколке… Это было в тот год, когда я ждала Ореста.
— Ты уверен, что это Поли из Греппо? — бросил отец.
Орест снова принялся рассказывать всю историю, начиная с той ночи на холме.
— А кто эта женщина? — спросила мать, бледная от волнения.
Девочки слушали с раскрытым ртом.
— Мне жаль отца, — сказал отец Ореста. — Такой человек! Он был, можно сказать, хозяином Милана. Вот чем иногда кончается дело, когда денег куры не клюют.
— Ничего, — сказал Пьеретто, — с деньгами не пропадешь. Отец Поли все уладил. Такие вещи сплошь и рядом случаются в хороших семьях.
— Только не здесь, — сказал Орест. — У нас такого не бывает.
Тут вмешалась старая Джустина. До сих пор она только слушала, переводя взгляд с одного на другого, готовая в любую минуту ринуться в бой.
— Синьор прав, — сказала она, стреляя глазами в Пьеретто, — везде водятся эти грехи. Если бы родители не давали детям воли, не предоставляли бы их самим себе, как собак, а держали бы в руках, спрашивали бы с них…
Она долго продолжала в том же духе, опять напустившись на танцы и морские купания. Сестра раз-другой что-то шепнула ей и взглядом указала на Дину и младших девочек, но не смогла ее остановить. К счастью, это удалось старой Сабине, то ли служанке, то ли бабушке, то ли тетке, сидевшей в конце стола, которая, моргая глазами, спросила, о ком идет речь.
Когда ей объяснили — старуха была туга на ухо, и, чтобы она расслышала, приходилось кричать, — она пропищала, что дом в Греппо отперт, что муж портнихи со станции видел, как туда повезли баулы, что насчет Поли она не знает, а женщины наверняка уже там.
В тот день мы поднялись в Сан-Грато, на гребень холма, где нас встретил отец Ореста, который с сиесты был на виноградниках. Его батраки опрыскивали шпалеры купоросом. Сгорбленные, в заскорузлых от пота блузах и штанах, пестревших синими пятнами, они кружили на солнцепеке, накачивая из железных ранцев голубоватую воду. С виноградных листьев капало, насосы шипели. Мы остановились у большого бака, полного этой невинной на вид воды, глубокой и непрозрачной, как голубое око, как перевернутое небо. Мне было странно, что надо обрызгивать грозди этой ядовитой жидкостью, которой были изъедены широкие шляпы батраков, и я сказал это отцу Ореста.
— Ведь когда-то, — заметил я, — выращивали виноград без этого.
— Кто его знает, — сказал он и что-то крикнул парню, ставившему в траву бутылку, — кто его знает, как поступали когда-то. Только теперь полно болезней.
Он опасливо посмотрел на небо и пробормотал:
— Лишь бы ненастье не нагрянуло. А то обмоет виноград, и придется его сызнова опрыскивать.
Орест и Пьеретто позвали меня сверху; они прыгали под развесистым деревом.
— Идите, идите есть сливы, — сказал мне отец Ореста, — если только их птицы не склевали.
Я прошел через выжженное солнцем жнивье и присоединился к ним на макушке холма. Чудилось, мы на небе. Внизу, под нами, виднелась площадь селения, казавшаяся отсюда крохотной, и неразбериха крыш, лестниц, сараев. Хотелось прыгать с холма на холм, хотелось все обнять взглядом. Я посмотрел на восток, где кончалось плато, отыскивая вершины сосен, о которых говорил Орест. В распадок между склонами лился ослепительно яркий свет, и горизонт дрожал перед глазами. Я невольно зажмурился, не различив ничего, кроме марева.
Отец Ореста подошел к нам, подпрыгивая на комьях пашни.
— Благодать у вас тут, — сказал Пьеретто с набитым ртом. — Дурак ты, Орест, что не живешь здесь.
— Я хотел, — сказал отец, глядя на Ореста, — чтобы этот парень занимался в агрономическом училище. Обрабатывать землю становится все труднее.
— У нас в селении, — вмешался я, — говорят, что любой крестьянин понимает в этом больше агронома.
— Само собой, — сказал отец, — первое дело практика. Но теперь никак не обойдешься без химии и удобрений, и чем учиться на врача, чтобы приносить пользу другим, лучше бы он научился хозяйствовать с выгодой для себя.
— Медицина — это тоже агрономия, — весело сказал Орест. — Здоровое тело что поле, которое дает урожай.
— Но если не исхитришься, тебе это ничего не даст.
— А что, много болезней у винограда? — спросил Пьеретто.
Отец Ореста обернулся и обвел взглядом виноградник, где над шпалерами поднимались голубоватые облачка.
— Хватает, — сказал он. — Земля вырождается. Может, и верно, что когда-то, как говорит ваш товарищ, в деревне не знали всех этих хвороб, но факт тот, что теперь стоит на минуту отвернуться, назавтра жди беды…
Не видя Пьеретто, я почувствовал, что он ухмыляется.
— Земля вроде женщины, — продолжал отец Ореста. — Вы еще холостые, но в свое время узнаете: у женщины каждый день что-нибудь не слава богу — то голова болит, то спину ломит, то месячные пришли. Ну да, должно быть, все дело в месяце — всходит он или заходит… — Он невесело подмигнул.
Пьеретто опять ухмыльнулся.
— Что ты там рассказываешь, — вдруг набросился он на меня, — будто деревня изменилась. Деревню делают люди. Ее делают плуги, химикалии, нефть…
— Ясное дело, — сказал Орест.
Поддакнул и отец.
— …В земле нет ничего таинственного, — сказал Пьеретто. — Мотыга тоже научный инструмент.
— Я вовсе не говорил, что земля изменилась! — воскликнул я.
— Боже мой, — сказал отец Ореста, — как много значит мотыга, видно, когда поле не обрабатывают. Тогда его не узнать. Оно кажется пустошью.
Теперь я в свою очередь посмотрел на Пьеретто и усмехнулся, но ничего не сказал. Он сам заговорил:
— Болото — другое дело.
— Что значит — другое дело?
— Ну, не то что, например, этот виноградник. Тут царствует человек, а там — жаба.
— Но ведь жабы и змеи водятся повсюду в деревне, — сказал я. — И сверчки тоже, и кроты. И растения везде одинаковые. На пустоши и здесь корни одни и те же.
Отец Ореста рассеянно слушал нас. Вдруг он обернулся и сказал:
— Хотите видеть, что такое пустошь, — ступайте в Греппо. Боже мой, у меня сегодня целый день не выходит из головы этот малый и его отец. Теперь кое-что становится понятно. А ведь какое имение! Когда был жив дед, они покупали только масло и соль. Паршивое дело — иметь землю и не жить на ней…
XII
Каждый день мы спускались к болоту, а по дороге вволю болтали и смеялись. Хорошо было утром: в низинах трава была еще мокрая от росы и, даже когда мы уже лежали в расщелине под палящим солнцем, спину еще холодила сыроватая, остывшая за ночь земля. Теперь нам знаком был каждый уголок в зарослях кустарника, каждый просвет, каждый утренний шорох или шелест. Подчас в самую жару наплывало огромное белое облако, и тогда на затененной поверхности воды четче обозначались перевернутые отражения крутого откоса, каких-то цветков, неба.
Эти солнечные ванны стали для нас, можно сказать, порочной привычкой, хотя мы уже загорели везде. В первое воскресенье, когда мы не отправились на болото, а пошли к обедне и, стоя на паперти среди принаряженной толпы, в которой взад и вперед шмыгали ребятишки, слушали службу, заглушаемую звуками органа и колоколов, я про себя думал о том, как хорошо было бы сейчас лежать голым на солнцепеке, чувствуя под собой влажную землю. Я шепнул Пьеретто, который угрюмо смотрел в затылок Оресту:
— Ты представляешь себе этих людей голыми на солнце, как мы?
Он даже ухом не повел, и я вернулся к своим мыслям. У нас с Орестом вышел спор на винограднике (вторую половину дня мы обычно проводили в Сан-Грато, а в тот раз Пьеретто куда-то запропастился): существует ли где-нибудь такой заповедный уголок, такая глухомань, куда никто никогда ногой не ступал, где испокон века времена года, дождь и вёдро сменялись без ведома человека. Орест говорил, что нет, что не сыщется ни буерака, ни лесной чащобы, которых не потревожили бы рука или глаз человека. По крайней мере охотники, а в былые времена разбойники побывали везде. Нет, а крестьяне, крестьяне, говорил я. Охотники не в счет. Охотник живет той же жизнью, что и дичь, за которой он охотится. Меня интересовало, добрался ли крестьянин, именно крестьянин, до самых глухих мест, всю ли землю он общупал. Можно сказать, изнасиловал.
Орест сказал:
— Кто его знает.
Но видно было, что он не понимает, какое это имеет значение. Он тряхнул головой и бросил на меня насмешливый, как у матери, взгляд.
Мы сидели на валу виноградника и, когда поднимали глаза, видели, как колышутся молодые побеги. Если смотреть снизу на виноградник, который взбирается к самой вершине холма, кажется, что ты где-то между небом и землей. У ног — пересохшие комья пахоты и искривленные корневища, а перед глазами — зеленые фестоны листьев и ряды лоз, которые касаются облаков. А тишина такая, что невольно вслушиваешься в себя.
— Тот возчик, которого я встретил на станции, — вдруг вырвалось у меня, — сказал, что виноградники всегда были.
— Возможно, — сказал Орест, — только в былые времена, говорят, плети сосисками подвязывали, а под кустами текло молоко.
— Ты вот смеешься, — сказал я, — а даже города были всегда. Пусть грязные, захудалые — кучки лачуг да пещер, но были. Где человек, там и город. Надо признать, что Пьеретто прав.
Орест пожал плечами. Так он всегда оканчивал споры — способ не хуже всякого другого.
— До чего ему, наверное, не по нутру, — сказал он вдруг, — когда мать на ночь запирает дверь. Ведь он полуночник — бывало, до утра один шатался по всему Турину.
— Надо будет нам как-нибудь ночью выйти погулять, — сказал я. — Мне хочется посмотреть на холмы при луне. Вчера уже показался серпик месяца.
— На море мы купались при луне, — сказал Орест. — До чего приятно: как будто пьешь холодное молоко.
Они ни разу мне не говорили об этом. Мне вдруг стало грустно. Я почувствовал себя одиноким, и во мне шевельнулась зависть.
— Время идет, а виноград все никак не созреет, — сказал я. — Когда же мы вернемся в Турин?
Орест не мог про это слышать. Он сказал, что не понимает, чего мне еще надо: я ем досыта, пью хорошее вино, целый день ничего не делаю…
— Вот то-то и оно, — сказал я. — Мы ничего не делаем, а твоя мать работает. Все здесь работают на нас.
— Тебе скучно? — сказал Орест. — Или ты боишься, что доставляешь слишком много беспокойства? Ерунда. Ты даже тете Джустине угодил.
(Это я настоял, чтобы мы пошли к обедне — просто из уважения к семье Ореста.)
— Ну что, сегодня на мельницу не пойдем?
Мы каждый день спускались с холма в котловину, где находилась вторая усадьба, слонялись по гумну, пили пиво, которым угощал нас отец Ореста. Но что было хорошо в Россотто, так это сенокос, луга, заросшие клевером, выводки гусей. Под вечер мы играли в шары с работниками Пале и Кинто, а Орест ходил по делам на станцию.
— По-моему, — говорил Пьеретто, — тут дело нечистое. Из Генуи он каждый день кому-то отправлял письма.
Орест, когда с ним заговаривали об этом, только смеялся и качал головой. Так было и в тот раз, когда, проходя мимо домика с геранью на окнах у железной дороги, он крикнул «добрый день» и ему откликнулся молодой и веселый голос. Орест сказал нам, чтобы мы шли дальше, и завернул за угол.
— Так, значит, — сказал Пьеретто, когда он показался на гумне, — это дочь начальника станции?
Орест опять засмеялся и ни слова не сказал.
Благословенным уголком была эта Мельничная котловина. Даже у шлагбаума, где скоплялись повозки и ревела скотина, чувствовалось какое-то особенное, ласковое веяние: станционные домики и клумбы приводили на память городскую окраину в майские вечера, когда девушки гуляют по бульвару и откуда-то тянет запахом сена. И даже раздетые и разутые батраки из Россотто под впечатлением проносящихся поездов толковали о пиве и о велосипедных гонках.
Вечером после сенокоса мы пили не пиво, а вино. Отец сказал нам: «Приходите засветло» — и, накинув на плечи пиджак, стал подниматься вверх по тропинке. На станции царило какое-то праздничное оживление, и Оресту пришлось извиняться за то, что он задержался там дольше обычного. Из погребов Россотто достали бутылку, потом другую. От этого вина все больше пересыхало в горле. Мы трое пили его под навесом, выходившим в луга. Я не понимал, то ли от воздуха такая сладость в вине, то ли от вина — в воздухе. Казалось, я пью аромат сена.
— Это фрагола[19],— сказал Орест. — Ее привезли нам мои двоюродные братья из Момбелло.
— Ну и дураки мы, — говорил Пьеретто, — днем и ночью ломаем себе голову, в чем секрет деревни, а этот секрет у нас здесь, внутри.
Потом мы задумались, почему это в Турине мы любили захаживать в остерию, а с тех пор, как были в деревне, ни разу по-настоящему не выпили.
— Для этого нужно идти куда-нибудь вечером, — сказал я, — не можем же мы пьянствовать в твоем доме.
— Зато теперь пей сколько влезет, — говорит Орест, — здесь нам никто не помешает.
Зашел разговор о лошадях. В Россотто была двуколка, как раз на троих, и Орест сказал, что ее в любое время можно заложить.
— Поедем к моим двоюродным братьям в Момбелло, — предложил он. — Мне хочется их повидать. Они парни что надо. Рано утром уедем, а вечером вернемся.
— Тогда мы останемся без купания, — проговорил я. — Сегодня утром я был от этого сам не свой.
— Ну и наплевать, — промычал Пьеретто. — Мне опротивело видеть тебя голым.
— Тем хуже для тебя, — сказал я.
— Но ты же урод уродом! — крикнул Пьеретто. — Только пьяный я смогу и дальше переносить это зрелище.
Орест налил нам опять.
— Вот уж это невозможно, — бросил я. — Нельзя быть голыми и пьянствовать.
— Почему нельзя? — спросил Орест.
— И нельзя спать с женщиной в лесу. В настоящем лесу. Любовь и выпивка требуют такой обстановки, в которой живут цивилизованные люди. Однажды я катался на лодке…
— Ничего ты не понимаешь, — перебил меня Пьеретто.
— Ну, ты катался на лодке… — сказал Орест.
— С одной девушкой, и она не кобенилась. Мы бы с ней поладили. Но я не смог. Сам не смог. Мне казалось, что я кого-то или что-то оскорбил бы.
— Это потому, что ты не знаешь женщин, — сказал Пьеретто.
— Но ведь ты же раздеваешься догола на болоте? — сказал Орест.
Я признался, что делаю это с замиранием сердца.
— Мне кажется, что я совершаю грех, — сказал я. — Может, потому-то это и приятно.
Орест, улыбаясь, кивнул. Я понял, что мы пьяны.
— Недаром, — добавил я, — такие вещи делают тайком.
Пьеретто сказал, что тайком делают много таких вещей, в которых нет ничего греховного. Это просто вопрос обычая и хороших манер. Грешно только не понимать, что ты делаешь.
— Возьми Ореста, — сказал он. — Он каждый день тайком ходит к своей девушке. Это в двух шагах отсюда. Они не делают ничего непристойного. Сидят в саду, разговаривают, может быть, держатся за руки. Она его спрашивает, когда он получит диплом и станет самостоятельным. Он отвечает, что ему еще год учиться, потом отбывать военную службу, потом найти место коммунального врача — выходит, через три года, так ведь? — и виляет хвостом, и целует ей косу…
Орест, пунцовый от смущения, тряхнул головой и потянулся за бутылкой.
— И ты считаешь, что это грех? — сказал Пьеретто. — Эта сценка, это жениховство, по-твоему, грех? Но Орест мог бы нам довериться и рассказать о ней. Настоящие друзья так не поступают. Скажи же нам что-нибудь, Орест. Скажи хотя бы, как ее зовут.
Орест, красный как рак, улыбаясь, сказал:
— Как-нибудь в другой раз. Сегодня лучше выпьем.
XIII
Но я уже все знал от Дины. Как-то раз я застал ее на балконе, где она чинно сидела на табуретке и шила.
— Значит, ты скоро выходишь замуж, — сказал я.
— Сперва ваш черед, — в тон мне ответила она, — вы же молодой человек.
— Молодым людям спешить некуда, — сказал я. — Посмотри на Ореста, он об этом и не думает.
Последовала шутливая перепалка, и Дина, наслаждаясь моим изумлением, выложила мне все, что знала. Понизив голос и лукаво поблескивая глазами, она сказала, что Орест ухаживает за Чинтой; что домашние Чинты об этом знают, но здесь, у них, — никто; что Чинта дочь путевого обходчика и работает у портнихи; что она ловкая, умелая — сама шьет себе платья и ездит на велосипеде. Дина даже знала, что Чинта не пара Оресту — ее отец сам мотыжил свой виноградник — и поэтому в селении Оресту приходится делать вид, что между ними нет ничего серьезного.
— Она хорошенькая? — спросил я. — Тебе она нравится?
Дина пожала плечами.
— Мне-то что. Оресту жениться, пусть он и смотрит.
И в день сенокоса не кто другой, как Дина, заметила, что мы выпили.
— Сегодня вечером мы говорили с Орестом о Чинте, — шепнул я ей, когда мы сидели на ступеньках крылечка при свете молодой луны. А она, уставившись на меня широко раскрытыми глазами:
— Вы распили бутылку? И небось не одну?
— Откуда ты знаешь?
— За ужином вы все время прикрывали рукой стакан.
Я спрашивал себя, что за женщина выйдет из маленькой Дины. Смотрел на старух, на Джустину и других, на мать Ореста, сравнивал их с девушками из селения, которых можно было видеть на полевых работах, — черноволосыми, крепконогими, коренастыми и сочными. Это ветер, холм, густая кровь делали их такими ядреными и налитыми. Подчас, когда я пил или ел — суп, мясо, перец, хлеб, — я спрашивал себя, не стал ли бы и я таким же от этой грубой и обильной пищи, от земных соков, которыми здесь был напоен даже ветер. А вот Дина была беленькая, миниатюрная, тоненькая, с осиной талией. «Должно быть, и Чинта, думал я, хрупкая и стройная как лоза. Наверное, она ест только хлеб и персики».
Разразилась гроза, и проливной дождь, к счастью без града, исхлестал поля и размыл дороги. Это случилось в то утро, когда мы собирались уехать на двуколке. Мы провели его в доме, переходя от одного окна к другому, среди женщин и девочек, которые шарахались и визжали при вспышках молнии. Отец Ореста сразу надел сапоги и вышел. На кухне потрескивал хворост в печи, и трепещущие красноватые отсветы падали на гирлянды из цветной бумаги, медную утварь, изображения божьей матери и оливковую ветвь, висевшие на стене. От разделанного кролика на окровавленной доске для резки мяса пахло базиликом и чесноком. Дрожали стекла. Кто-то кричал сверху, чтобы закрыли окна. «А Джустины-то нет дома!» — ужасались на лестнице. «Ничего, — услышал я голос матери Ореста, — уж у нее-то всегда есть где схорониться».
Наступил момент какой-то странной уединенности, чуть ли не покоя и тишины во время потопа. Я постоял под лестницей, куда через слуховое окно летели брызги дождя. Слышно было, как падает и ревет плотная масса воды. Я представлял себе затопленные и дымящиеся поля, бурлящее болото, обнажившиеся корни и дождевые потоки, врывающиеся в самые сокровенные уголки земли.
Гроза кончилась так же внезапно, как началась. Когда мы с Диной и другими вышли на балкон, откуда были слышны громкие голоса, раздававшиеся во всех концах селения, усеянный листьями цемент кое-где уже просох. С долины дул ветер, и в небе, как вспененные кони, неслись облака. Почти черное море холмов, рябившее белесыми гребнями, казалось, придвинулось в приливе. Но не облака и не горизонт потрясали меня. С ума сводила упоительная свежесть, которая ощущалась во всем — и в сыром воздухе, и в мокрых ветвях и примятых цветах, и в остром, солоноватом запахе озона и напоенных влагой корней. Пьеретто сказал:
— Какое наслаждение!
Даже Орест жадно дышал и смеялся.
В это утро мы пошли не на болото, а в Сан-Грато, куда позвал нас отец Ореста посмотреть, велики ли убытки. Там наверху земля была усыпана паданцами, а попадались и сорванные с крыши, разбитые черепицы. Вместе с девочками мы собирали в большие корзины валявшиеся в грязи яблоки и персики, а кое-где поднимали прибитые к земле побеги. Любо было смотреть на маленькие, слабенькие цветочки, пестревшие на разлезшейся пахоте виноградника, которые, не успело выглянуть солнце, уже выпрямлялись и расправляли лепестки. Густая кровь земли была способна и на это. Все говорили, что скоро в лесах будет полным-полно грибов.
Но мы не пошли по грибы, а поехали на следующий день к двоюродным братьям Ореста. От станции лошадка повезла нас по проселочной дороге, поднимавшейся по отлогому склону. По сторонам тянулась кукуруза; изредка промелькнет рощица и опять кукуруза да кукуруза. Утреннее солнце уже сделало чудеса. Если бы не твердая и бугристая от засохшей грязи дорога и не освеженный ветром воздух, никто не сказал бы, что вчера бушевала непогода. Почти не замечая подъема, мы ехали среди полей то в легкой тени желтой акации, то между двумя стенами тростника.
Хутор двоюродных братьев Ореста, затерявшийся среди тростниковых зарослей и дубняка, находился в глубине плато, между невысокими холмами.
Мы уже подъезжали к нему, а я то и дело оборачивался, потому что незадолго до того, когда мы выехали из узкой ложбины между грядами валунов, Орест сказал, указывая куда-то в небо:
— Вон оно, Греппо.
Взглянув поверх тянувшихся к солнцу виноградных лоз, я увидел огромный лесистый косогор, темный от сырости. Он казался необитаемым — ни пашни, ни крыши.
— Это и есть имение? — проговорил я.
— Вилла на вершине, ее заслоняют деревья. Оттуда видны селения, которые лежат на равнине.
Стоило нам спуститься в низину, как Греппо скрылось из виду, и я все еще искал его среди деревьев, когда мы подъехали к хутору.
Сначала я не понял, почему Орест так восторженно говорил о своих двоюродных братьях. Это были взрослые мужчины — один даже с проседью, — рослые и плотные, с волосатыми ручищами, оба в клетчатых рубашках и штанах из чертовой кожи. Они вышли во двор и, не выказав никакого удивления, взяли нашу лошадь под уздцы.
— Это Орест, — сказал один из них.
— Давид! Чинто! — крикнул Орест, соскакивая на землю.
К нам бросились три охотничьи собаки; они то скалили зубы и рычали, то прыгали вокруг Ореста. На широком дворе земля была бурая, почти красная, как на виноградниках, через которые мы проезжали. Каменный дом был подсинен купоросом, которым опрыскивали вьющийся виноград. Одно окно на нижнем этаже зияло черным проемом.
Первым делом лошадь отвели в тень, под дуб, и оставили там остыть.
— Всё врачи? — спросил Давид, подняв на нас глаза.
Орест с жаром объяснил ему, кто мы такие.
— Пойдемте в холодок, — сказал Чинто и повел нас за собой.
Мы пили до конца дня, а в августе дни длинные. Время от времени один из братьев вставал, скрывался в винном погребе и выходил оттуда с полным графином. Наконец мы тоже спустились в погреб, и там Давид стал угощать нас вином прямо из бочки — продырявив мастику, наполнял запотевший стакан и затыкал отверстие пальцем. Но это было уже под вечер. А до этого мы обошли дом и виноградники, пообедали полентой, колбасой и дынями, смутно разглядели в темноте женщин и детей. Помещение было низкое, неуютное, как хлев; выходило оно в поля с вкрапленными там и тут дубами, над которыми тучей носились скворцы.
Возле хлева был колодец, и Давид достал из него ведро воды, набросал туда гроздей винограда и сказал, чтобы мы ели. Пьеретто, сидя на чурбане, смеялся как ребенок и без умолку говорил с набитым ртом. Чинто, тот, что помоложе, крутился вокруг колодца, слушал разговоры, любовно поглядывал на лошадь.
Мы говорили о том о сем — об урожае, об охоте, о грозе, о круговороте времен года.
— Зимой, — сказал я, — вы здесь, в низине, должно быть, оторваны от всего мира.
— Если надо, мы поднимаемся наверх, — сказал Давид.
— Ты не понимаешь, для них зима — самая лучшая пора, — сказал Орест. — Знаешь, как хорошо охотиться, когда выпадает снег?
— Да и весь год хорошо, — добавил Давид. — Надо только выбирать подходящий день.
Казалось, собаки поняли, о чем идет речь. Они поднялись и настороженно уставились на нас.
— Да ведь здесь вас никто не контролирует, — сказал Пьеретто, — кто знает, сколько зайцев вы настреляли в августе?
— Скажите это Чинто, — расхохотался Давид, — скажите это Чинто. Он стреляет фазанов.
Тут Орест поднял голову, точно принюхиваясь.
— Что, и теперь еще на Взгорьях есть фазаны? — сказал он и переглянулся с Чинто и с Давидом. — А вы знаете, что Поли из Греппо подстрелили, как фазана?
Братья спокойно выслушали рассказ Ореста, и, пока он с пылом говорил, Давид налил ему вина. Слушая, я заметил, что эта история, теперь уже давняя, звучала здесь как-то неправдоподобно, фальшиво. Что общего имела она с этим вином, этой землей, этими двумя людьми?
Кончив рассказывать, Орест посмотрел на братьев, потом на нас.
— Ты не сказал, что он нюхает кокаин, — заметил Пьеретто.
— Ах, да, — сказал Орест, — у него уже мозги не на месте.
— Он сам должен знать, что делает, — сказал Давид. — Хорошо еще, что он уже на ногах.
— Мы не знаем, вернулся ли он в Греппо, — сказал Орест.
— Кто-то там живет, — спокойно сказал Чинто, — оттуда ходят за покупками к Двум Мостам.
— А что же говорит сторож? — встряхнувшись, спросил Орест.
Чинто недобро осклабился. Давид ответил за него:
— Был тут разговор насчет тростника. По перьям видно, сколько мы птицы настреляли, а этому, поди ж ты, дался тростник… Но ты же понимаешь… Не стоит об этом и говорить.
XIV
Мы уехали, когда уже показалась луна и повеяло вечерней прохладой. Жаль было покидать этот хутор, одинокий, как остров, эту бескрайность красной земли, эти тощие лозы под раскидистыми дубами. Но Орест сказал:
— Поедем, уже темнеет.
Лошадка понеслась, как охотничья собака. Когда мы проезжали под яблоней, Пьеретто поднял руку, и на нас градом посыпались яблоки. «Э-ге-гей!» — орали мы и прищелкивали языком.
— Случалось с тобой когда-нибудь, — сказал Пьеретто, — чтобы ты столько выпил, а голова была бы такая ясная?
— Когда пьют под открытым небом, на вольном воздухе, — сказал Орест, — никогда не пьянеют.
Потом они перемигнулись и стали приставать ко мне:
— А ты что скажешь?.. Ведь, по-твоему, на природе не гоже ни пить, ни спать с женщиной…
Я отмахнулся от них и сказал:
— Мне понравились твои братья.
Тут мы заговорили о Давиде и Чинто, о винах, о ведре с виноградом, о том, как прекрасна простая, естественная жизнь, а ветерок от быстрой езды шевелил нам волосы.
— Замечательно, в какой строгости они держат женщин, — говорил Пьеретто. — Мы себе прохлаждаемся во дворе, пьем и разговариваем о всякой всячине, а женщины и ребятишки сидят на кухне, чтобы не мозолить глаза.
Солнце шло на закат над самыми виноградниками и окрашивало густой киноварью каждый ствол и каждый ком земли.
— А между тем они работают, — сказал я, — обживают эту землю.
— Дурак ты, Орест, — говорил Пьеретто. — Что тебе Турин, что тебе анатомичка? Тебе бы нужно жениться на этой девушке и тихо-мирно обрабатывать свою землю…
Орест, глядя прямо перед собой, в затылок лошади, спокойно сказал:
— А откуда ты знаешь, что я не собираюсь так и сделать… Дай только время.
— Что вы за люди… — заметил я. — Одного отец прочит в монахи, другого — в агрономы. Вы об этом слышать не хотите и портите родителям кровь, а кончится тем, что ты, Пьеретто, будешь монахом-безбожником, а ты, Орест, — сельским врачом.
— Отцу это, во всяком случае, не повредит, — сказал Пьеретто с довольной улыбкой. — Нужно, чтобы он понял, что жизнь трудна. Если же потом, как и следует, ты придешь к тому, чего он для тебя хотел, ты должен убедить его, что он был не прав и что ты это сделал только ради него.
— А ты в самом деле женишься на этой девушке? — спросил я Ореста.
— Он все отмалчивается, — сказал Пьеретто. — Мол, пьяные, что с ними разговаривать.
Луна была красивая, еще по-вечернему бледная, не белая, но и не желтая, и я представил себе, как она будет светить ночью над всем этим краем, над землей, над плетнями. Мне вспомнился косогор Греппо, но, обернувшись, я увидел, что он исчез, словно растаял в чистом воздухе. «Это и есть Взгорья?» — хотел я спросить, но как раз в эту минуту Орест заговорил.
— Ее зовут Джачинта, — сказал он, не глядя на нас. Потом, размахивая кнутом, крикнул: — Боже мой, этим летом я сойду с ума!
Прошлой ночью ему и Пьеретто не спалось, и они принялись вспоминать жизнь на взморье. Орест рассказал, что, когда он был ребенком, низкие холмы, среди которых мы ехали сейчас, казались ему островами в морских далях и, глядя на это таинственное море, он в воображении бросался в него с высоты балкона.
— Тогда мне так хотелось сесть в поезд, уехать, побывать в других краях. А теперь мне и здесь хорошо. Не знаю даже, нравится ли мне море.
— Но ведь на Ривьере ты чувствовал себя как рыба в воде.
Мы приехали, распевая песни, а пока поднялись пешком из Россотто, нам опять захотелось выпить. Такие вещи женщины понимают — они поставили на балкон столик и принесли нам бутылку вина.
— Ну-ну, отведите душу, посидите при луне, — сказала мать Ореста. — Луна всякое слышала.
Ночь была тихая, безветренная, селение спало, только где-то лаяли собаки. В эту ночь Орест раскрыл душу — все рассказал нам про Джачинту. Когда луна закатилась и запел петух, Пьеретто сказал:
— Вот собака, даже у меня слюнки потекли.
Назавтра было воскресенье. Как бежали недели! Мы опять слонялись по площади среди вырядившихся, как чучела, мужчин и закутанных в покрывало женщин, которые наводили на мысль о палящем солнце и о болоте. Так, глядя на небо, мы и отбыли обедню. Я спрашивал себя, существуют ли праздники для молчаливых братьев из Момбелло, прерывают ли они свою обыденную жизнь, привязанную к гумну, полю, винному погребу, чтобы смешаться с другими людьми. Для них праздником была охота, терпеливое ожидание, сумеречные часы в сторожкой глуши. Когда служба кончилась, я стал смотреть на выходящих из церкви, переводя глаза с одного на другого — не встречу ли такой же взгляд, такое же выражение лица, спокойное и вместе с тем угрюмое, замкнутое, как у Давида и Чинто. Вышли и наши женщины. Джустина воззрилась на нас и, дергая за руки девочек, которым не стоялось на месте, начала нам выговаривать: зачем мы пошли к обедне, раз даже не вошли в притвор.
— Что такое притвор? — спросил Орест.
А Пьеретто еще и не то отчебучил. Он сказал, что дом божий — весь мир и что даже святой Франциск преклонял колени в лесу.
— На то он и был святой, — проворчала Джустина, — он верил в бога.
— А в церковь ходят те, кто не верит в бога, — сказал Пьеретто. — Не говорите мне, что ваш священник верит в бога. У него на лице написано, что он за птица.
Вокруг нас толковали о предстоящих праздниках и ярмарках, потому что середина августа в деревне — пустое время, когда между уборкой зерновых и сбором винограда можно передохнуть, и крестьяне, как говорится, бьют баклуши, точат лясы, живут без забот и в ус не дуют. Во всей округе гуляли, и только об этом и шел разговор.
— Превыше всего служение богу, — сказала Джустина, — служение богу. Те, кто не почитает священнослужителей, не христиане и не итальянцы.
— Блюсти религию не значит только ходить в церковь, — сказал отец Ореста. — Жить, как велит религия, не так-то легко. Надо воспитывать детей, содержать семью, быть со всеми в ладу.
— Послушаем теперь вас! — вскричала Джустина, обращаясь к Пьеретто. — Что такое религия?
— Религия, — сказал Пьеретто, — это понимание сути вещей. Святая вода тут ни при чем. Говорить с людьми надо, понимать их, знать, чего хочет каждый из них. Ведь все хотят чего-нибудь достичь в жизни, стремятся к чему-то, а к чему, и сами толком не знают. Так вот, у каждого это стремление от бога. Значит, достаточно понимать и помогать другим понимать…
— Ну и что же ты поймешь, когда тебе придет время помирать? — сказал Орест.
— Проклятый могильщик, — сказал Пьеретто. — Когда люди умирают, у них уже нет никаких стремлений.
Они продолжали этот разговор за столом и после обеда. Пьеретто сказал, что признает святых, что больше того — на его взгляд, на свете только и есть святые, потому что каждый в своем стремлении как бы святой и, если бы ему дали осуществить это стремление, оно принесло бы плоды. А священники цепляются за какого-нибудь одного святого познаменитее и говорят: «Поступайте, как он, и спасете душу свою», но не принимают в расчет, что на свете нет даже двух одинаковых капель воды и что каждый день — новый день.
Теперь Джустина молчала, только зыркала глазами на Пьеретто. Было часа четыре, мы сидели в тени на балконе и пили кофе, а из пылающей зноем окрестности до нас доносились приглушенные голоса, шорохи, шелест ветра. Отсюда, сверху, косогоры напоминали бока улегшихся коров. Каждый холм с рассеянными по его склонам — то крутым, то пологим — виноградниками, полями, лесами был особым миром. Видны были дома, рощицы, синие дали. И сколько бы ты ни смотрел, все открывалось что-нибудь новое — необычное дерево, изгиб тропинки, гумно, невиданный оттенок цвета. Закатное солнце подчеркивало каждую деталь, и даже странная морская прозелень, в которой, словно окутанное облаком, тонуло Греппо, манила больше обычного. На следующий день мы должны были поехать туда на двуколке, и, чтобы скоротать вечер, хорош был любой разговор.
XV
Особым миром был и холм Греппо. Дорога туда шла по Взгорьям — спускалась в лощинки и взбегала на бугры, минуя дубовое урочище. Подъехав к подножию холма, мы увидели на его гребне черные против света деревья, вырисовывающиеся на фоне неба. На середине подъема Орест, обернувшись назад, показал нам, как далеко простираются земли Поли. Мы слезли с двуколки, и лошадь шагом повезла ее за нами по дороге, куда более широкой, чем проселок, по которому мы ехали вначале. Эта широкая дорога — местами еще покрытая асфальтом — с выбросами туфа на крутых откосах прорезала дремучие склоны.
Но поражала дарившая здесь запущенность, одичалость: тут заглохший, заросший травой виноградник, там опутанные вьющимися растениями фруктовые деревья, смоковницы и вишни вперемежку с ивами, желтой акацией, платанами, бузиной. В начале подъема был лес из высоких грабов и тенистых тополей, где даже веяло прохладой, потом, по мере того как мы выходили на солнце, растительность мельчала, но к знакомым формам примешивались необычные — олеандры, магнолии, иногда кипарисы и странные деревца, которых я никогда не видел, и вся эта неразбериха придавала особую уединенность попадавшимся кое-где лужайкам.
— Про это и говорил твой отец? — спросил я Ореста.
Он ответил, что настоящую пустошь, поросшую лесом равнину, где все, кому вздумается, пасли скот и заготовляли дрова, мы уже прошли.
— Здесь собирались сделать заповедник. Видишь, какую дорогу проложили. Когда был жив дед Поли, сюда целыми компаниями приезжали господа. Но тогда равнину обрабатывали, и старик день и ночь разъезжал с ружьем и хлыстом. Папа его знал. Он был родом из долины.
Мне вдруг ударил в нос стоявший в воздухе смешанный запах соков, бродящих в опаленных солнцем растениях, земли и раскаленного асфальта. Этот запах приводил на ум автомобиль, гонку, дороги на побережье, приморские сады. С насыпи над дорогой свешивались бледные тыквины, в которых я узнал головки кактусов.
Мы вышли на вершину холма из зарослей кустарника, которые здесь переходили в настоящий парк — сосновую рощу, окружающую виллу. Теперь под ногами у нас был гравий, а между стволами деревьев проглядывало небо.
— Точно остров, — сказал Пьеретто.
— Естественный небоскреб, — отозвался я.
— Такой, как он есть, — сказал Орест, — он никому не нужен. Вот если бы здесь была клиника, современная клиника со всем необходимым оборудованием. В двух шагах от дома, представляешь?
— Запах мертвечины уже есть, — сказал Пьеретто.
Гнилью тянуло из водоема метров десяти в длину и ширину, с валуном в центре, выступающим из зеленой стоячей воды, заросшей белыми цветами.
— Вот тебе и бассейн с живой водой, — сказал я Оресту. — Бросаешь туда мертвых, и они воскресают.
Между соснами белел дом.
— Постойте здесь, — сказал Орест, — я пойду на разведку.
Мы остались с лошадью, и я молча глядел на странное небо между стволами деревьев. В глубине души я надеялся, что Поли здесь не окажется, что никого не окажется и что, обойдя парк, мы вернемся домой. Запах бассейна напомнил мне болото, и я затосковал по знакомым местам. Мне хотелось разве только еще раз взглянуть на полесье, живописное в своей запущенности и одичалости.
Раздался звонкий голос:
— Кого вам надо?
Внезапно появившись из-за деревьев в белых шортах и блузке, к нам подошла светловолосая молодая женщина с суровыми глазами.
Мы переглянулись. По ее тону было ясно, что это хозяйка. В эту минуту лошадь и двуколка показались мне чем-то смешным и нелепым.
— Мы хотим повидать Поли, — с улыбкой сказал Пьеретто. — Мы…
— Поли? — переспросила женщина, подняв брови, и лицо ее приобрело чуть ли не оскорбленное выражение. Чтобы не глядеть на ее ноги, я отводил глаза в сторону и все-таки чувствовал себя неловко.
— Мы друзья Поли, — сказал Пьеретто. — Мы познакомились с ним в Турине. Скажите, пожалуйста, как он себя чувствует?
Но и это, по-видимому, не понравилось женщине, которая сменила прежнюю гримасу на кислую улыбку и нетерпеливо посмотрела на нас.
В эту минуту из аллеи вылетел Орест, возбужденно восклицая:
— Поли здесь, и жена его здесь. Кто знал, что у него есть жена…
Он осекся, увидев, что мы не одни.
— Ты нашел его? — спокойно спросил Пьеретто.
Орест, покраснев, пролепетал, что за ним пошел садовник. Он с растерянным видом смотрел то на нас, то на женщину.
— Поболтаем пока, — сказал Пьеретто.
Внезапно блондинка смягчилась. Она кокетливо взглянула на нас и протянула нам руку. От ее сдержанности не осталось и следа.
— Друзья моего мужа — мои друзья, — с улыбкой сказала она. — А вот и Поли.
Я много раз думал потом об этой встрече, о том, как покраснел Орест, о днях, которые мы вслед за тем провели в Греппо. Сам не знаю почему, мне сразу пришла на ум Джачинта, но Джачинта была брюнетка. Смутило меня в первый момент и то, что у Поли была жена. Все, что у нас с ним было в прошлом, становилось запретным, превращалось в помеху. О чем мы могли теперь говорить? Неудобно было даже спросить, как поживает его отец.
Но Поли принял нас очень тепло, с той чрезмерной, немножко нелепой радостью, которая была обычна для него. Полноватый, с мягким, по-детски открытым взглядом, он мало изменился. Он был в короткой рубашке навыпуск, с цепочкой на шее. Он сразу сказал, что не отпустит нас, что мы должны остаться у него до завтра, что ему хочется подольше поговорить с нами.
— Но ведь у вас медовый месяц, не так ли? — сказал Пьеретто.
Супруги посмотрели друг на друга, потом на нас. Поля усмехнулся.
— Мед у него вызывает крапивницу, — с деланной грустью сказала женщина. — Что было, то сплыло. Здесь мы скучаем. Я у него за компаньонку и немножко за сестру милосердия.
— Рана должна была бы закрыться, — сказал Орест.
Пьеретто улыбнулся.
Тут Орест понял, что сболтнул липшее, прикусил губу и пробормотал:
— Отец у тебя голова. Но из-за тебя он поседел…
Женщина сказала:
— Вы, должно быть, хотите пить. Проводи их, Поли. Я сейчас приду.
В комнате с высоким потолком и окнами во всю стену, где пестрели разноцветные занавески и кресла, Поли продолжал радоваться нашему приезду и вздыхать от удовольствия, а на вопрос Пьеретто, знает ли его жена о туринской истории, просто ответил, что да, знает.
— Было время, когда мы с Габриэллой все говорили друг другу. Она мне очень помогла, бедная девочка. Мы с ней немало поездили по свету и покуролесили. Потом жизнь развела нас. Но на этот раз мы решили провести лето вместе, как дети, какими мы были когда-то. У нас есть общие воспоминания…
Пьеретто, явно стараясь быть вежливым, слушал его, не прерывая. А вот Орест не сдержался и ляпнул:
— Что же ты делал в Турине, раз был женат?
Поли посмотрел на него с неприязнью, почти со страхом, и проронил:
— Не всегда делаешь то, что хотелось бы другим.
Пришла Габриэлла и открыла бар. В нем было полным-полно бутылок и хрусталя, и, когда его открывали, он освещался. Мы заговорили о Греппо. Я сказал, что на холме очень красиво и что я готов был бы провести здесь всю жизнь, бродя по лесам.
— Да, здесь недурно, — сказала она.
— Что вы делаете с утра до вечера? — сказал Пьеретто.
Габриэлла как была, с голыми ногами развалилась в кресле.
— Загораем, спим, занимаемся гимнастикой… Ни с кем не видимся.
Я не мог привыкнуть к этому загорелому лукавому лицу, которое так неожиданно меняло выражение. Она была очень молода, должно быть, много моложе Поли, но в голосе ее порой слышались хриплые нотки, которые поражали меня. Это от вина, думал я, или от кое-чего другого.
— Завтрак у нас холодный, — сказала она нам со смехом. — Варенье, бисквиты. Серьезная еда будет вечером.
Мы возразили, что нас ждут дома, что нам пора ехать, что мы должны вернуться засветло.
Это неприятно удивило и расстроило Поли. Он сказал Пьеретто, что наш приезд для него праздник и что ему надо многое сказать нам, а жену попросил распорядиться, чтобы нам приготовили комнаты наверху.
Мы отшучивались и не уступали. Меня настойчивость Поли раздражала, и, поглядывая на Ореста, я думал об обратной дороге, о том окне на станции, где его ждали, о сумерках.
Поли сказал:
— Какая разница, где ночевать? Почему вы так относитесь ко мне?
Габриэлла изящным движением подняла рюмку, с унылым видом посмотрела на нее и сказала:
— Неужели вас так интересуют куры и гулянки?
Даже Поли засмеялся. Поладили на том, что мы опять приедем на следующий день и побудем у них подольше.
XVI
Потребовалось два дня, чтобы уговорить семью Ореста снова отпустить нас в Греппо. «Плохо вам, что ли, здесь, у вас?» — сказал отец. Женщины с мрачными лицами, усевшись за стол, держали совет. Только известие о том, что Поли женат, смягчило мать, и тогда разговоры перешли на туринскую историю, которая представала теперь в новом свете, — всех интересовало, была ли жена Поли, как ей надлежало, подавлена горем и в то же время тверда и полна решимости не давать мужу потачки.
— Ей наплевать. Она загорает, — сказал Орест.
— Вот какие вещи случаются, когда муж и жена живут врозь.
— Но если муж и жена живут врозь, — сказал отец, — значит, между ними уже что-то неладно.
Орест с раздражением отрезал, что все дело в деньгах.
— У кого нет бешеных денег, тот работает или учится, и ему не до блажи. Так едем мы или не едем?
Мы заложили двуколку и поехали, но еще не было решено, останется ли Орест с нами в Греппо. Когда мы уезжали оттуда, Габриэлла, прощаясь с нами, пожалела, что они не могут приехать за нами на машине, а Поли смущенно пояснил, что отец реквизировал ее, чтобы он не подвергал себя опасностям и по-настоящему отдыхал. Мы проделали прежний путь через поля, дубовые рощи, виноградники, окруженные развалившимися изгородями, и я снова увидел грабы, полесье. В утреннем свете все блестело и сверкало росой. Огромный холм, поросший кустарником, жил своей потаенной жизнью, одичалый и уединенный, погруженный в тишину, нарушаемую только жужжанием пчел, как дремучая гора стародавних времен. Я искал глазами затерянные среди зарослей лужайки. Пьеретто возмутился тем, что целый холм принадлежит одному человеку, как в те времена, когда одна семья носила имя всего края. Летали птицы.
— Они тоже входят в имение? — проговорил я.
На площадке среди сосен мы нашли нечто новое: шезлонги и валявшиеся на траве бутылки и подушки. Садовник занялся нашей лошадью и отвел ее в сарай; Пинотта, загорелая рыжая девушка, которая в прошлый раз прислуживала нам за столом, стояла у распахнутой калитки оранжереи и смотрела на нас, не выходя на солнце.
— Спят, — ответила она на наш вопрос, кивком головы указав наверх.
Из оранжереи по цинковому желобу текла струйка воды.
— Сколько бутылок, — примирительным тоном сказал Пьеретто. — Должно быть, напились как свиньи. Что, кутили вчера вечером?
— Приехали из Милана какие-то целой оравой, — пробормотала девушка, откидывая назад волосы тыльной стороной ладони. — Танцевали до утра и дрались подушками. Прямо несчастье. А вы останетесь у нас?
— Где же эти миланцы? — спросил Орест.
— Приехали и уехали на машине. Ну и народ! Одна женщина упала из окна.
В сосновой рощице веяло утренней прохладой. В ожидании хозяев мы выкурили по сигарете. В доме незаметно было никакого движения. Я прислонился к стволу дерева и стал смотреть на равнину. Мы нашли недопитую бутылку, прикончили ее и попросили Пинотту открыть нам веранду.
Тут нас и застали Поли и Габриэлла. Они шумно дали знать о себе — послышались голоса и звонки. Пинотта бросилась вверх по лестнице. Наконец спустился Поли в пижаме, взлохмаченный и что-то бормочущий себе под нос. Он, держа нас за руки, попенял нам, что мы заставили себя ждать три дня; и так, стоя, мы поспорили о том, виноваты ли в наших излишествах наши ближние, которые соблазняют нас, или мы сами, поскольку даем себя соблазнить.
— Добрые приятели привезли мне немного миланской жизни, — говорил Поли. — Только бы они не приехали опять. Нам надо побыть одним.
Вошла Габриэлла, одетая и свежая.
— Поднимайтесь, поднимайтесь, хотите принять ванну? — сказала она нам. — Оставь их в покое, после поговорите.
Я уже забыл эти волосы медового цвета, и эти голые ноги в сандалиях, и этот неизменный вид курортницы, которая собирается на пляж.
Ведя нас наверх, в комнаты, она сказала:
— Будем надеяться, что там не спал никто из этих сумасшедших.
Тут Орест решительно объявил, что он ночевать будет дома: оставит нас в Греппо, а если надумает, приедет на велосипеде.
— Почему? — сказала Габриэлла, состроив гримасу. — Мама боится, как бы вы не потерялись? — Потом засмеялась и добавила: — Ну, как хотите. Дорогу вы знаете.
Спустившись вниз, я застал там Габриэллу и Поли вместе с Орестом. Пьеретто все еще плескался в ванне. Когда я проходил мимо, он что-то крикнул мне через дверь.
Входя в застекленную комнату, я еще сомневался, стоит ли оставаться в Греппо. Пинотта между тем уже успела расставить опрокинутые вазы с цветами, убрать тарелки и рюмки, выбросить окурки из пепельниц, и изящно обставленная комната со светлыми и легкими занавесками опять стала восхитительно уютной. Другие комнаты были загромождены более простой и грубой мебелью, в деревенском вкусе, оставшейся со времен деда-охотника: ларями, неуклюжими креслами, тяжелыми дубовыми столами, — была там даже кровать с балдахином, — но здесь, в гостиной, чувствовалась рука Габриэллы и Поли. Или, может быть, Розальбы, думал я. У меня не шли из головы Розальба, пятна крови, глупая злость, которой были окрашены те дни.
Неприятное чувство, которое я испытывал, расхаживая по коврам, вежливо поддерживая разговор, глядя на несчастную Пинотту, появлявшуюся, когда ее звали, и поспешно выполнявшую распоряжения, которые отдавались веселым, но не терпящим возражений тоном, объяснялось также и этим — воспоминанием о Розальбе, мыслью о том, что подобные вещи могут происходить там, где царит такая чистота и изысканность.
В это утро мы говорили о лесах. Когда Орест рассказал, что мне нравится сельская местность и до того хотелось приехать сюда, что я даже отказался от поездки на море, Габриэлла сразу вспомнила о море, о пляже в маленькой бухте, где у них были друзья, и об оливах, сбегавших к самой воде. Это было частное владение, огороженный, запретный пляж с бассейном посреди леса, где купались в ветреные дни и куда никому из отдыхающих на побережье, кроме своих, не было доступа.
Поли съехидничал насчет хорошего вкуса хозяев дома, которые, по его словам, одевали слуг рыбаками с кушаком на поясе и вязаным колпаком на голове.
— Дурак, они сделали это только в тот раз, когда устроили праздник, — сказала Габриэлла с покоробившей меня резкостью, и я уловил злое выражение, промелькнувшее на ее лице, как в первый день, когда мы встретились.
Орест сказал:
— Значит, там был лес на самом берегу?
— Там и сейчас лес. Такие вещи не меняются, — ответила Габриэлла.
К ней вернулась прежняя непринужденность, но, разговаривая, она следила взглядом за Поли. Он курил с рассеянным видом.
— В этом лесу Габриэлла танцевала классические танцы под музыку Шопена, — сказал он, рассеянно глядя на дым сигареты. — Босая и с покрывалом, при луне. Помнишь, Габри?
— Жаль, — сказала она, — что вчера вечером не было твоих друзей.
Она позвала Пинотту и велела ей открыть рамы.
— Ночная вонь еще не выветрилась, — проговорила она. — Где побывали эротоманы и пьяницы, смердит, как в хлеву. Черт бы побрал эту твою художницу, которая курит гаванские сигары.
— Я думал, оргия у вас была под соснами, — сказал я.
— Они, как обезьяны, повсюду рассеялись, — бросила она. — Не исключено, что парочка этих типов осталась в роще.
Поли улыбнулся своим собственным мыслям.
— А что, Пьеретто не спустился? — спросил он.
Когда появился Пьеретто, Габриэлла уже успела нам сказать, что в Греппо живут в абсолютной свободе, уходят и приходят когда вздумается, и, если кому-нибудь хочется побыть одному, никто ему не мешает.
— Вы спустились, а я поднимусь, — сказала она Пьеретто. — Будьте умниками, мальчики.
Уже второй раз она исчезала в это время; Поли сказал нам, что она загорает; мы говорили об этом, когда ехали на двуколке, и Пьеретто пошутил:
— Вот еще одна меченая… Не позвать ли нам ее на болото?
Мне хотелось теперь уйти, побродить до завтрака одному по склону холма, но вместо этого я взял под руку Ореста, и мы направились под сосны. Поли и Пьеретто позади нас принялись о чем-то рассуждать.
XVII
Когда стало смеркаться, Орест с хмурым видом сел на двуколку и уехал. Скоро стемнело. Мне удалось остаться одному, и я прохлаждался под соснами в ожидании ужина. Пьеретто и Поли беседовали возле бассейна, Поли, весь день ходивший с усталым и опухшим лицом, говорил вполголоса, и все напоминало мне ту ночь на холме, когда Орест своими криками вспугнул тишину. Из-за изгороди я слышал реплики Пьеретто, его безапелляционные суждения. Поли жаловался, говорил о себе, о своем теле.
— Когда я понял, что выздоравливаю, что должен встать на ноги, как ребенок… Никогда по-настоящему не знаешь некоторых вещей… Мысль о смерти не испугала меня. Трудно жить… Я благодарен бедняжке Розальбе за то, что она научила меня этому…
Он говорил медленно, с чувством, тихим, но внятным голосом.
— …В глубине нашего существа таится великий покой, радость… Все в нас рождается из этого. Я понял, что зло, смерть… исходят не от нас, не мы их творим… Я прощаю Розальбе, она хотела мне помочь… Теперь для меня все стало легче, даже отношения с Габриэллой…
Пьеретто прервал его хохотком и сказал — наверное, ему в лицо:
— Враки.
Их голоса на мгновение столкнулись, и взял верх голос Пьеретто.
— Нахальная ложь, — говорил он. — И Розальба не хотела тебе помочь, и ты не имеешь права жаловаться на нее. Вы оба вели себя по-свински… Какая тут душевная чистота.
Поли тихо говорил:
— Все было предрешено. Не мы убиваем друг друга…
Голоса удалились и пропали в лунной ночи. Я вдохнул запах сосен, стоявший в еще теплом воздухе. Острый и терпкий, он напоминал запах моря. Весь день мы бродили по зарослям, спускаясь до середины склона. Габриэлла привела нас к Маленькому гроту под грядой туфа, заросшему по краям адиантумом, где застоялась лужа воды. В одной лощинке мы нашли персиковое деревце со зрелыми, сладкими как мед плодами. Орест был одержим каким-то мрачным весельем. Чтобы напугать Габриэллу, он издавал свои дикие вопли. Под вечер я заметил, что из Греппо не слышно обычных деревенских шумов — квохтанья, пения петухов, лая собак.
Мы сели ужинать, когда было уже совсем темно. Стол, накрытый Пиноттой, которая трепетала от одного взгляда Габриэллы и со всех ног бросалась выполнять ее приказания, был сервирован с ослепительной роскошью. На скатерти в изящном беспорядке были разбросаны цветы.
— Стол священен, — сказала Габриэлла. — Надо, насколько возможно, смаковать каждый глоток.
Она спустилась в сандалиях, но переодетая и любезно сказала нам:
— Садитесь, пожалуйста.
Я старался не смотреть на манжеты Пьеретто.
Мы говорили об Оресте, о его самолюбивом характере, о том времени, когда они с Поли бродили по лесам. Говорили о сельской и городской жизни. Говорили о детстве Поли и о потребности в уединении, которая рано или поздно овладевает всеми. Габриэлла болтала о путешествиях, о скучных обязанностях, которые налагает светская жизнь, о странных встречах в горных гостиницах. Она родилась в Венеции. Мы признались, что мы оба всего лишь студенты.
Пинотта все время прислуживала нам, двигаясь так бесшумно, что можно было подумать, будто она босая. Я догадался, что где-то поблизости, на кухне, находится другая женщина, повариха, настоящая хозяйка дома. Я смотрел на цветы и белоснежную скатерть, бесшумно ел, поглядывал на Габриэллу. Мне даже не верилось, что я здесь, в таком доме, подобном острову в крестьянском крае. Мне все еще вспоминались гирлянды из цветной бумаги на кухне у Ореста, желтые початки кукурузы на гумне, виноградники, лица крестьян, стоящих под вечер в дверях домов. Габриэлла ела с видом скромницы и тихони, Поли сидел, уткнувшись в тарелку, а Пьеретто без конца говорил о том, как он любит шататься по ночам.
Я все поглядывал на Габриэллу и думал о том, не поступил ли Орест умнее нас, вернувшись домой, где можно было спокойно выспаться, побыть одному, собраться с мыслями.
Он знал Поли лучше, чем мы, но было ясно, что в Греппо ему не по душе. Он удрал не только из-за Джачинты. Три дня назад по дороге в селение, обменявшись шуточками насчет того, достойна ли Габриэлла пойти с нами на болото, мы заговорили о ее отношениях с Поли. Что эти двое делают здесь? — спрашивали мы себя. Если они приехали для того, чтобы побыть наедине и помириться, зачем им нужны мы? И что знает Габриэлла о Розальбе? Что по ночам она вместе с Поли нюхала кокаин? Судя по всему, Габриэлле сметки не занимать.
— Поверьте мне, — говорил Пьеретто, — эти двое ненавидят друг друга.
— Тогда почему они живут вместе?
— Я это узнаю.
Хорошо еще, что за столом Поли непрестанно наливал нам вина. Габриэлла тоже пила, смакуя каждый глоток и под конец встряхивая головой, как птица. Я думал: кто знает, быть может, если они достаточно выпьют, они станут более искренни, более непосредственны и Габриэлла скажет нам, что, несмотря на все, она любит своего Поли, а он, Поли, скажет, что Розальба была уродина, что связь с ней была безумием, мороком и что от этого морока его излечила встреча с нами — встреча с нами и вопль Ореста. Достаточно этого, говорил я про себя, и мы сразу сдружимся, отпустим Пинотту и пойдем погулять или ляжем спать, довольные друг другом. Жизнь в Греппо изменилась бы.
— Вам будет скучно, — сказала вдруг Габриэлла. — Здесь у нас ночью одни сверчки. Ваш друг хорошо сделал, что уехал…
— Сверчки и луна, — сказал Поли. — И мы.
— Только бы вы этим удовольствовались, — сказала Габриэлла, играя розой, лежащей перед ней. Потом подняла глаза и бросила: — Я слышала, что в Турине вы с Поли посещали ночные заведения?
Она посмотрела на нас и рассмеялась.
— Ну-ну, что это у вас сделались такие похоронные физиономии? — воскликнула она. — Все мы грешники. Вернулся блудный сын, заколем же тельца.
Поли запыхтел и посмотрел исподлобья.
— Синьора, — крикнул Пьеретто, — я поднимаю тост за тельца!
— Какая я вам синьора, — сказала она, — мы можем звать друг друга по имени. У нас достаточно общих знакомых.
Поли, помрачнев, сказал:
— Послушай, Габри. Дело кончится, как вчера.
Габриэлла зло усмехнулась.
— Не хватает музыки, — сказала она, — и сегодня никто не пьян. Тем лучше, мы можем поговорить откровенно.
Пьеретто сказал:
— Выпить можно потом.
— Если ты хочешь музыки, — сказал Поли, поднимаясь, — я могу поставить пластинку.
Я увидел, как тонкая рука Габриэллы сжала розу, которую минуту назад она уронила на стол, и не решился посмотреть ей в лицо.
Поли уже сел, не поставив пластинку.
— Музыка требует веселья, — сказал он. — Сначала выпьем еще немного.
Он протянул руку к рюмке Габриэллы. Она дала налить себе вина и выпила. Выпили и мы все. Я думал об Оресте и о его винограднике.
Когда мы в молчании закурили сигареты, Габриэлла вдохнула дым, посмотрела на нас и засмеялась.
— Мы не поняли друг друга, — сказала она насмешливо. — Искренность не преступление. Я ненавижу преступления, совершенные в состоянии аффекта. Мне хотелось бы только, чтобы кто-нибудь мне сказал, был ли Поли очень комичен в ту ночь, когда, сидя в автомобиле, он открыл жизнь без фальши…
XVIII
— Дайте мне сказать, — проговорила Габриэлла. — Когда люди вдвоем, они мало говорят и заранее знают, что услышат в ответ. Что быть вдвоем, что одному — почти все равно… Я хотела бы только, чтобы кто-нибудь мне сказал… вы ведь тоже были с Поли в ту ночь… объяснил ли он честной компании, что живет с чувством внутренней чистоты… Он открыл это в Турине, я знаю. Но я хотела бы видеть, какими были лица у всех тех, кто его слушал. Потому что Поли искренен, — сказала Габриэлла убежденно. — Поли наивен и искренен, каким должен быть человек, и не всегда понимает, что душевные кризисы не для всех. Эта наивность — его прекрасная черта, — добавила она и улыбнулась. — Но скажите мне, как приняли это другие.
И она с лукавством, жестким и смеющимся взглядом посмотрела на нас.
Когда разговор принял такой оборот, Поли не смутился. Казалось, он ожидал худшего.
Пьеретто сказал:
— С бешенством, с пеной у рта. Со скрежетом зубовным. Кто-то даже затрясся от злости.
Мне не понравилось лицо Поли. Он пристально смотрел на нас, прищурив глаза с опухшими веками.
— Quos Deus vult perdere[20],— добавил Пьеретто. — Бывает.
Габриэлла с минуту смотрела на него как завороженная, потом засмеялась глупым смешком. Вдруг, изменив тон, она предложила:
— Не выйти ли нам подышать свежим воздухом?
Мы молча встали и спустились по ступенькам. Нас встретила песнь сверчков, и в лицо пахнуло запахом неба.
— Пойдемте в рощу, посмотрим на луну, — сказала Габриэлла. — Потом будем пить кофе.
В ту ночь Пьеретто пришел ко мне в комнату. При мысли о том, что мне предстоит спать в этом доме и назавтра проснуться в нем, а потом спуститься вниз, снова встретиться с Поли и Габриэллой, сесть с ними за стол и опять полуночничать, — при этой мысли меня бросало в жар.
Мы допоздна сидели под соснами при луне. Габриэлла больше не поминала о прошлом. Она непринужденно расспрашивала нас о себе. Но от напряжения, настороженности, ощущения чего-то невысказанного у меня слова застревали в горле. Теперь я знал, что все они одинаковы, включая и Поли, и Габриэллу, все готовы сорваться с цепи, чтобы убить вечер. Прошлой ночью эти деревья и луна, должно быть, видели черт знает что. К чему было столько двусмысленных фраз, маскирующих некую яму, когда все мы знали, что это за яма.
Я сказал это Пьеретто, когда он зашел ко мне в комнату.
— Ты можешь мне объяснить, что мы делаем в этом доме? — сказал я ему, куря последнюю сигарету. — Эти люди нам не компания. У них есть деньги, есть друзья, есть возможность бездельничать круглый год. Где это видано, чтобы ели за столом, усыпанным цветами? Весь этот шик и блеск не для нас. Нам лучше на винограднике Ореста, на болоте. Орест это сразу понял…
— Однако Габриэлла тебе нравится, — перебив меня, бесстрастно сказал Пьеретто.
— Габриэлла? С ней не поладишь. Она уже видит нас насквозь и не знает, что с нами делать. Посмотри на Ореста…
— Вот увидишь, Орест вернется, — опять перебил меня Пьеретто.
— Надеюсь. Мы завтра же…
— Не кричи, — сказал Пьеретто. — Меня отсюда силком не вытащишь. Уж больно занятно смотреть на эту комедию… Интересно, долго ли она будет продолжаться.
Тут мы заговорили о Поли, о его странной судьбе — о том, что у него просто дар выводить из себя женщин.
— Ну и тип, — говорил Пьеретто. — Ему бы надо стать отшельником. Он рожден для того, чтобы жить в келье, только не знает этого.
— Я бы не сказал. Женщин он умеет выбирать.
— Ну и что? В том-то и беда. Они допекают его, как фурии.
— Что же, он на это идет. Как-никак, Габриэлла его жена. Не ты же спишь с ней.
Тут Пьеретто посмотрел на меня на свой манер, с таким видом, как будто я сморозил что-то смешное и нелепое, и сказал:
— До чего ты глуп. Габриэлла не спит с Поли. Это всякому ясно. Где твои глаза?
Он насладился моим изумлением и продолжал:
— Ни он, ни она об этом и не думают. Я не знаю даже, почему они живут вместе.
Он с минуту помолчал и добавил:
— Впрочем, может быть, они даже не задаются вопросом, почему они живут вместе.
Спалось мне хорошо — постель была мягкая, пуховая. К тому же в течение многих дней мы спали втроем в одной комнате, а тут я был один и от этого проснулся свежий и как бы проясневший, точно небо, которое я утром приветствовал из окна. Все уже пробудилось, ожило, все дышало росной свежестью, и солнце, заливавшее равнину, которая виднелась внизу, за соснами, убедило меня, что вокруг раздолье и что мы славно проведем время в Греппо — полюбуемся лесами и полями, поболтаем, подурачимся, всем телом вберем в себя очарование этого царства. Нас ждали буераки, полянки, длинные дни, заполненные прогулками, ждал грот Габриэллы, куда мы собирались еще раз сходить.
Было еще утро, когда, трезвоня, как почтальон, велосипедным звонком, приехал Орест вместе с Пиноттой, ходившей за покупками к Двум Мостам. Самое забавное, что он действительно привез почту — открытки для нас с Пьеретто, и Габриэлла крикнула ему из окна:
— Если это нужно для того, чтобы вы бывали у нас, я скажу всем моим друзьям, чтобы они писали мне.
Мы вместе с ней вошли в гостиную и посидели там в ожидании Поли. Орест с веселым видом рассказал нам, что видел стан птиц и слышал хлопанье крыльев и писк, предвещавшие охотничий сезон.
— Неужели вы так кровожадны, Орест? — воскликнула Габриэлла. — Послушайте, — сказала она, — не лучше ли нам звать друг друга по имени? Ведь для того и приезжают в деревню, чтобы освободиться от условностей, правда?
Орест вернулся к охоте и сказал, что Поли не должен спать так поздно. Летом на охоту ходят спозаранок, еще до рассвета, чем скорее привыкнешь вставать в это время…
— Только не с собаками, — вскричала Габриэлла, — для собак это плохо. Роса притупляет им нюх. — Она рассмеялась в лицо ошеломленному Оресту. — Вы этого не знаете… Девочкой я проводила лето в Бренте, среди охотников за жаворонками. Там только и были слышны выстрелы и лай собак…
— А где старый пес Рокко? — бросил Орест.
— Наверное, сдох, — сказала она. — Спросите у Поли. Кстати, Поли не хочет больше убивать животных. Он вам не говорил?
Орест вопросительно посмотрел на нее.
— Ему это уже не по душе, — объяснила Габриэлла. — Это не согласуется с новой жизнью, которую он начал. — Она улыбнулась. — Но бифштексы он ест…
— Я так и подозревал, — фыркнул Пьеретто.
Орест не понимал, почему мы развеселились, и с заинтригованным видом смотрел на нас, переводя взгляд с одного на другого.
— Вчера вечером мы говорили о Поли, — объяснила Габриэлла. — Вы непременно должны остаться с нами. Здесь все разыгрывается к ночи.
Немного погодя Габриэлла исчезла. Мы побродили по комнатам, прилегающим к веранде, — там были книги, старые книги в переплетах, карточные столики, биллиард. Мне нравился зеленый свет, сочившийся в окна сквозь ветви сосен. В одном уголке я нашел романы, иллюстрированные журналы и рабочую корзиночку Габриэллы. Из кухни доносился приглушенный стук. Я еще не видел садовника.
— У тебя столько земли, — сказал Пьеретто Поли, — почему бы тебе не пахать ее?
Поли ответил на это только смутной улыбкой, а Орест сказал:
— Это не для него. Он не попользуется ею даже для охоты. Кончится тем, что его отец все продаст.
— А зачем ему пахать землю? — спросил я Пьеретто, подняв глаза от журнала.
— Человек, переживающий душевный кризис, всегда пашет землю, — сказал Пьеретто. — Это наша общая мать, и она никогда не обманывает своих детей. Ты бы должен был это знать.
— Но как бы то ни было, — проговорил Поли, — в сентябре вы сможете устроить здесь облаву.
Никто ничего не сказал. Я подумал, что до сентября осталось каких-нибудь десять дней, и спросил себя, удобно ли здесь жить все это время. Вроде бы подразумевалось, что мы останемся. Я ничего не сказал и снова открыл журнал.
К завтраку Габриэлла спустилась в халате, и от нее пахло солнцем. Она села в углу, затененном опущенными жалюзи, и, смеясь, опять завела с Орестом разговор об охоте.
XIX
Итак, Орест тоже остался жить в Греппо. Иногда он уезжал на велосипеде и приезжал опять. Холм, можно сказать, пекся на августовском солнце: жимолость и дикая мята образовывали вокруг него невидимую стену, и хорошо было бродить по его склону и, добравшись до той границы, за которой начинался грабовый лес, возвращаться назад, подобно насекомым и птицам, которых отпугивала густая тень. Казалось, мы, как мухи в меду, увязаем в этой духмянной и солнечной благодати. В первые дни мы после полудня спускались все вместе по крутым откосам к заросшим травой виноградникам, а однажды, обойдя весь холм, через заросли ежевики вышли к маленькой почерневшей и полуразвалившейся беседке, в которой сквозь щели видно было небо. Но ни от ограды, ни от аллеи, которая вела к ней, не осталось и следа; склон был сплошной целиной, хотя когда-то здесь был сад с красивым павильоном. Орест и Поли называли эту беседку китайской пагодой и вспоминали то время, когда она еще утопала в жасмине. Теперь, подходя к ней, мы услышали шорох в крапиве — должно быть, там бегали полевые мыши или ящерицы. Но это запустение не навевало грусти — тем более дикой и девственной казалась окрестность. Наши голоса, глохшие в кустарнике, не могли нарушить ее покой. Мысль о том, что от зарослей, озаренных ярким летним солнцем, веет смертью, была верна. Здесь никто не жил, никто не вскапывал землю, чтобы извлечь из нее что-нибудь: когда-то попробовали и бросили.
Пьеретто сказал Габриэлле:
— Не понимаю, почему вы с Поли не проводите зиму в этой беседке. Питались бы кореньями. Обрели бы душевное спокойствие… Летом природа отвратительна. Настоящая оргия плоти и соков. Только зимой душа вступает в свои права.
— Что это тебя разбирает? — сказал Орест.
Габриэлла бросила;
— Вот сумасшедший.
Поли улыбнулся. А Пьеретто продолжал:
— Будем искренни. Природа в августе непристойна. Откуда берется столько мешков семян? Так и несет совокуплением и смертью. А цветы, животные в течке, падающие с деревьев плоды?
Поли смеялся.
— Зимой, — крикнул Пьеретто, — земля по крайней мере погребена. Можно подумать о душе.
Габриэлла посмотрела на него, посмотрела на Поли, и на губах ее промелькнула улыбка.
— Зиму я знаю, как провести, — проговорила она, — а этот непристойный запах мне нравится.
В первые дни, когда Поли и Пьеретто вели долгие беседы, мы вместе с Габриэллой частенько спускались до середины склона и, сидя на краю откоса, курили, глядя на крохотные деревья, видневшиеся на равнине.
В отличие от Поли, который ни слова не говорил об окрестностях, Габриэлла расспрашивала Ореста об окружных селениях, дорогах, церковках. Ее интересовало, как живут крестьяне, и где прошло детство Ореста, и где здесь охотятся. Мне больше всего нравилось смотреть с высоты на дубовое урочище, красноземное Момбелло двоюродных братьев Ореста. Когда мы однажды заговорили о нем, Габриэлла с любопытством спросила, не там ли живет девушка Ореста. Я ответил: нет, но зато там живут два дельных человека, которые обрабатывают свои виноградники и ни в ком не нуждаются. Орест молчал. Мне казалось, что, восхваляя Давида и Чинто, я говорю о нем. Габриэлла сказала:
— Почему же они работают, раз они хозяева земли?
Я принялся объяснять ей, что то-то и хорошо, что только те, кто обрабатывает свою землю, достойны жить на ней, а все остальное — крепостничество. Она иронически покривила губы, казавшиеся бледными, оттого что лицо было такое загорелое, и проронила!
— Видно, это птицы невысокого полета.
Прогуливаясь с ней и с Орестом по склонам холма, дышавшим запахом мяты и пересохшей земли, я не мог избавиться от мысли, что для тех, кто находится на винограднике в Сан-Грато, этот холм обозначает горизонт и что на фоне неба он кажется им островком в океане. Не знаю, думал ли об этом Орест, вообще говоря, не в его характере было думать о таких вещах. Я сказал ему шутя:
— Если бы ты родился в Греппо, у тебя на горизонте было бы вон что. — Я указал пальцем на равнину, где белели поселки. — Тебе не хочется больше уехать, поколесить по свету?
— Там одни только рисовые поля, — сказал Орест, — а за ними Милан…
— О, Милан, — протянула Габриэлла, — не говорите о нем плохо, рано или поздно мне придется туда вернуться.
В эти первые дни я думал также о том, что Габриэлла мне нравится и что нет ничего худого в том, чтобы быть с ней рядом. Одни — Орест, Габриэлла и я — мы могли говорить непринужденно, тогда как в присутствии Поли чувствовали себя не в своей тарелке. Нам не приходила в голову мысль ни о нем, ни о Розальбе, и, если кто-нибудь из нас случайно упоминал о тех днях, которые мы провели с ними в Турине, Габриэлла первая, улыбнувшись, переводила разговор на другую тему. Но по большей части мы разговаривали мало: Орест по обыкновению молчал, а я не мог окончательно избавиться от скованности, потому что чувствовал какую-то отчужденность Габриэллы, чувствовал наигранность даже в том, как она смеялась, хлопая в ладоши. Пьеретто, может быть, мог преодолеть это чувство, но и он при ней следил за собой. В глубине души я больше всего любил думать о ней, о том, что мы живем в Греппо и она тоже здесь живет и так же, как мы, вдыхает запахи зарослей. Лучше всего было, когда мы спускались к гроту или к виноградникам — есть дикие плоды, валяться на траве, жариться на солнце. Мы всегда находили какой-нибудь уголок, пригорок, буерак, где мы еще не были, что-нибудь такое, чего мы еще не видели, не трогали, не вобрали в себя. В воздухе был разлит крепкий, как нигде, августовский солоновато-горький настой земли. И так приятно было думать обо всем этом ночью, при яркой луне, не затмевающей лишь редкие звёзды, и слушать доносящиеся со всех сторон отзвуки тайной жизни холма.
Орест назвал нам животных, которые водились в Греппо. Тут были сороки, сойки, белки, попадались сони. Были зайцы и фазаны. Но мне довольно было одних сверчков и стрекоз, которые пели днем и ночью, словно это был голос самого лета. Иногда я вздрагивал всем телом от их ошалелого стрекота — должно быть, он отдавался даже под землей, в змеиных норах, в путанице корней.
Я спрашивал себя, любили ли эту землю, эту дикую гору, как, мне казалось, любил ее я, хозяева Греппо — не Поли и Габриэлла, о которых не стоило и говорить, а их предок-охотник и сторожа, когда-то охранявшие имение. Уж конечно, они знали ее куда лучше, чем мы.
Присутствие Габриэллы, с которой я мысленно разговаривал, как подчас про себя спорил с Пьеретто, помогло мне понять одну вещь: запустение, царившее в Греппо, было символом неправильной жизни, которую вели она и Поли. Они ничего не давали холму, и холм ничего не давал им. Дикое расточительство земли и жизни не могло принести иных плодов, кроме внутренней пустоты и неудовлетворенности. Я снова и снова вспоминал виноградники Момбелло, грубое лицо отца Ореста. Чтобы любить землю, нужно возделывать ее и поливать своим потом.
На следующий день после того, как мы побывали в так называемой китайской пагоде, мы снова вернулись туда, и я улыбнулся, вспомнив слова Пьеретто о том, что природа летом отдает совокуплением и смертью. На эту мысль наводило даже оглушительное жужжание насекомых. И знойная духота в тени плюща, и жалобное квохтанье куропатки. Я оставил в полуразвалившейся беседке Габриэллу и Ореста, которые топали ногами и орали, чтобы вспугнуть куропатку, и вышел на солнце.
XX
По вечерам мы сидели на веранде, пили, слушали пластинки, играли в карты.
— До чего я никчемная, — говорила Габриэлла. — Меня не хватает даже на то, чтобы развлечь вас всех.
Время от времени она танцевала с кем-нибудь из нас и, пройдя круг-другой, садилась на место. В первые вечера мы молча слушали музыку и следили за ее на, за полетом голубой юбки.
— До чего я никчемная, — сказала она как-то раз, откидываясь на спинку кресла и вытягивая ноги. — Я устала жить.
— Кажется, она говорит серьезно, — заметил Пьеретто.
— Устала ото всего, — сказала Габриэлла. — Устала просыпаться по утрам, вставать, одеваться, устала от ваших умных разговоров. Я хотела бы пойти в остерию и напиться с грузчиками.
— Это мазохизм, — сказал Поли.
— Да, — сказала она, — я хотела бы, чтобы какой-нибудь мужчина задушил меня. Я не заслуживаю ничего другого.
— О, мы переживаем душевный кризис.
— Вот именно, — холодно отрезала Габриэлла. — Душевный кризис. Здесь это в моде. Будьте осторожны, Орест, не то и вы докатитесь до этого.
— Вы предостерегаете только его? — сказал Пьеретто.
Габриэлла скривила рот.
— По сравнению с ним мы шваль, — сказала она, и по ее взгляду я понял, что в это «мы» она включает и меня. — Только он один среди нас искренний и здоровый человек.
Орест так воззрился на нее, что мы засмеялись. Улыбнулась и Габриэлла.
— Ведь правда, вы всегда искренни и не знаете поэтому никаких душевных кризисов? — сказала она ему. — Вы хоть раз в жизни солгали, Орест?
— Кризис кризису рознь… — начал Поли.
— Еще бы, — добродушно сказал Орест. — Кому не случается приврать?
Тут Поли начал жаловаться и обвинять всех нас, Габриэллу, вообще людей в том, что они останавливаются на поверхности вещей, сводят жизнь к жалкой комедии, ограничиваются бессмысленными жестами и этикетками. Он говорил, что люди лезут вон из кожи и идут против совести ради самых пошлых материальных целей. Кто думает о местечке, кто о своих мелких пороках, кто о завтрашнем дне. Все копошатся, как муравьи, и заполняют дни болтовней и суетой.
— Но если мы хотим быть искренними, — сказал он, — что нам до этих пустяков? Конечно, все мы шваль. Так в чем же выход для человека, который переживает душевный кризис? Уж конечно, не в том, чтобы напиться с грузчиками, которые ни на волос не лучше нас. Выход только в том, чтобы углубиться в самих себя и понять, кто мы.
— Это пустая фраза, — сказал Пьеретто.
— Разве все остальное имеет какое-нибудь значение? — упрямо продолжал Поли. — Все остальное можно купить, все остальное могут сделать за тебя другие…
— Не у всех есть для этого средства, — перебил его Орест.
— Ну и что? Я сказал «могут», а не «делают». Все это вещи, которые не зависят от нас. Только одно никто не может сделать за тебя: сказать тебе, кто ты…
— Но ведь мы — шваль! — выкрикнула Габриэлла. — О Поли, неужели ты не согласен, что мы шваль?
— Поли утверждает другое, — заметил Пьеретто. — Что все мы склонны удовлетворяться этикеткой, ходячим мнением. Недостаточно знать, что мы шваль, этого слишком мало. Надо спросить себя почему, надо понять, что мы можем не быть швалью, что и мы созданы по подобию бога. Так приятнее.
Габриэлла подошла к проигрывателю и поставила новую пластинку. При первых нотах она обернулась, протянула руки и пропела умоляюще:
— Кто меня пригласит?
Встал Орест, а мы трое продолжали разговор. Теперь Поли принялся рассуждать о том, что если бог внутри нас, то незачем искать его вовне, в деятельности, в поступках.
— Если нам дано походить на него, — проговорил он, — то в чем же надо искать это сходство, как не во внутреннем мире человека?
Я следил глазами за голубой юбкой и думал о Розальбе. Я чуть было не сказал: «Эта сцена уже была», но тут заметил, как лицо Пьеретто осветилось странной улыбкой.
— Ты уверен, что это не старая ересь? — проговорил он.
— Это меня не интересует, — резко сказал Поли. — Для меня достаточно, чтобы это было верно.
— Тебе так важно походить на отца небесного? — сказал Пьеретто.
— А что же еще имеет значение? — убежденно сказал Поли. — Ты боишься слов? Назови это как хочешь. Я называю богом абсолютную свободу и уверенность. Я не задаюсь вопросом о том, существует ли бог; мне достаточно быть свободным, уверенным и счастливым, как он. А чтобы достичь этого, чтобы быть богом, человеку достаточно спуститься в самую глубину своего «я», познать себя до конца.
— Да бросьте вы! — крикнул Орест через плечо Габриэллы.
Мы не обратили на него внимания. Пьеретто весело сказал:
— И ты достигаешь этой глубины? Часто ты туда спускаешься?
Поли без тени улыбки кивнул.
— А я думал, — продолжал Пьеретто, — что лучше всего познают себя, когда рискуют собственной шкурой. К примеру, ты знаешь, что бы ты сделал, если бы наступил потоп?
— Ничего.
— Ты меня не понял. Я спрашиваю, не что бы ты хотел сделать, а что бы ты сделал. Что ноги заставили бы тебя сделать. Убежал бы? Упал бы на колени? Затанцевал бы от радости? Кто может сказать, что знает себя, пока не попал в переплет? Самопознание — всего лишь яма для нечистот; душевное здоровье обретают на вольном воздухе, среди людей.
— Я был среди людей, — сказал Поли, понурив голову, — я с детства среди людей. Сначала колледж, потом Милан, потом жизнь с ней. Я поразвлекся, ничего не скажешь. Думаю, это происходит со всеми. Я знаю себя. И знаю людей… Нет, это не тот путь.
— Мне не хочется умирать, — проплывая мимо нас, сказала Габриэлла, — потому что тогда я больше никого не увижу.
— Вы себе танцуйте! — крикнул Пьеретто. — Но она права, — сказал он Поли. — А вот ты, значит, видишь бога в зеркале?
— Как это? — сказал Поли.
— В силу логики. Раз мир тебя не интересует и твой взгляд устремлен на бога, которого ты несешь в себе, то, пока ты жив, ты будешь видеть его в зеркале.
— Почему бы нет? — сказал Поли со спокойным видом, который меня поразил. — Никто не знает собственного лица.
Музыка смолкла. В тишине сквозь оконные стекла был слышен стрекот сверчков.
— На нас опять нападает тоска, — сказала Габриэлла, подойдя к нам под руку с Орестом. — Вы нам надоели.
Мы все вышли из дома и при свете огромной луны, всходившей в это время, пошли по дороге.
— Хорошо бы было, если бы поблизости находилось какое-нибудь заведение, — сказал Пьеретто, — тогда у нас была бы цель.
Габриэлла, которая вместе с Орестом шла впереди нас, сказала:
— Негодник. Смотрите, если вы опять заговорите о потопе.
Я шел между двумя парами, вдыхая запахи земли, луны, жимолости. Мы прошли мимо насыпи, где росли кактусы. На кустах и стволах деревьев, рассеянных по склонам, играли отсветы луны. Чувствовалось легкое дуновение ветерка, словно дыхание ночи.
Впереди Орест болтал о том, что с ним случилось, когда как-то раз он ехал верхом, а позади Поли спорил с Пьеретто:
— Есть своя ценность в чувственной жизни, в грехе. Немногие люди знают пределы собственной чувственности… вернее, знают, что она безмерна, как море. Для этого требуется мужество, и человек может освободиться, только исчерпав ее до дна…
— Но у нее нет дна.
— Это нечто такое, что переносит нас по ту сторону смерти, — говорил Поли.
XXI
Я подтрунил над Орестом по тому поводу, что он уже три дня не ездил в селение и спал в комнате на первом этаже, рядом с комнатой кухарки.
— Ему я доверяю, — сказала Габриэлла.
По утрам Орест поднимался наверх, будил меня, и мы курили у окна.
— Сегодня я встал еще затемно, — сказал Орест, — с раннего утра бродил по лесу.
— Что же ты не свистнул мне? Я бы пошел с тобой.
— Мне хотелось побыть одному.
Я сделал такое лицо, какое сделал бы в подобном случав Пьеретто, и мне самому стало неприятно. Орест опустил глаза, как нашкодившая собака.
— Тут кто-нибудь замешан?
Орест, не отвечая, глядел на свою сигарету.
— Пойдем на балкон, — сказал он.
На балкон вела деревянная лестничка, кончавшаяся люком. Мы никогда не поднимались туда. Там в полдень загорала Габриэлла.
Мы на цыпочках прошли по коридору. Лестничка чертовски заскрипела под нашей тяжестью. Орест вылез первый.
Мы попали в маленькую лоджию, которую заливало утреннее солнце. Снаружи ее закрывал кирпичный парапет, а на столбиках, обегавших ее вокруг, были укреплены рейки, служившие подпорками для вьющихся растений. На парапете стояли вазы с ярко-красной геранью, а из-за него выглядывали темные верхушки сосен.
— Неплохо. Эта женщина умеет жить.
Орест в замешательстве смотрел по сторонам. У стены стояли скамеечки для ног и сложенный шезлонг, на крючке висели купальные халаты. Я подумал, что тому, кто лежит в шезлонге, должно быть, видно только небо и герань.
— Милый мой, — сказал я Оресту. — Нет надобности брать ее на болото. Она уже чернее нас.
— Ты хочешь сказать, что она загорает таким же манером?
— Тебя она не приглашала сюда? — сказал я, улыбаясь, и мне опять стало неприятно. Орест не сводил глаз с купальных халатов.
— Вот счастливцы муравьи и шершни, — сказал я. — Ну, пошли.
Кто был виноват в том, что произошло? Я со своими шуточками? Еще теперь, думая об этом, я во всем виню Греппо, луну, разговоры Поли. Я должен был бы сказать Оресту: «Поедем домой». Или поговорить об этом с Пьеретто. Он, пожалуй, мог бы его спасти. Но Пьеретто, который понимает все, в эти дни ничего не замечал.
Впрочем, и мне самому нравилась тайная игра. Приближался полдень, и Габриэлла, которая все утро разгуливала по дому в шортах, болтала, хлопала дверьми, гоняла туда и назад Пинотту, Габриэлла вдруг исчезала, оставляя нас на освещенной солнцем лужайке среди сосен или на покойной веранде, где мы по очереди читали вслух. Мы с Орестом обменивались быстрым взглядом — это был наш секрет, и время для нас как бы приостанавливалось, слишком медлительное, тягучее в этот солнечный час. Однажды утром, когда Поли пошел наверх и немного задержался там, я заметил, что Орест бледнеет. Я не испытывал ревности к Оресту; я всерьез не думал о Габриэлле, да и не задавался вопросом, думает ли он о ней. Мне доставляла удовольствие эта игра, вот и все; она была такая же безобидная, как тайна болота, и все же, я скрывал ее от Пьеретто. С его характером он был способен заговорить об этом за столом.
Когда я подумал, не сказать ли Оресту: «Но ведь тебя ждет Джачинта, разве не так?», я понял, что уже поздно. Это было в то утро, когда на мое обычное подмигивание Орест не ответил: его будто подменили. Габриэлла объяснилась с ним. На заре, после ночной грозы, они вместе вышли из дому, и я видел из окна, как они, смеясь, шли назад. Как раз в это утро Поли не вышел из своей комнаты. Внизу я нашел Пьеретто и Пинотту, которые о чем-то вполголоса разговаривали, и Пинотта угрюмо посмотрела на меня. Пьеретто сказал, что опять началась старая история.
— Этот кретин нанюхался.
Пинотта рассказала, что ее позвали очистить блевотину с одеял.
— И часто это бывает?
— Всякий раз, как они перепьются, — сказала она.
Накануне вечером мы не пили ничего, кроме апельсинового сока. От духоты и первых вспышек молний всем было как-то тягостно, не по себе, а у меня это настроение обратилось в ощущение неловкости, даже в настоящее чувство вины, и, переведя разговор на Греппо, где мы загостились, я сказал, что пора уезжать. Все — в том числе и Габриэлла — набросились на меня: мол, здесь нам очень хорошо и предстоит еще много всего.
— Ни у кого, кроме Пинотты, нет оснований жаловаться, — сказал Поли. — Но Пинотта не может жаловаться.
Тогда (молнии озаряли сосны) я сказал, что не понимаю, зачем они приехали в Греппо побыть наедине, если нуждаются в нашем обществе.
— Вот нахал, — сказала Габриэлла, но тут загремел гром, мы пошли домой, и больше об этом разговора не было.
Теперь Пьеретто поднялся со мной в мою комнату, и мы заговорили о рецидиве наркомании у Поли.
— Я этого ожидал, — говорил Пьеретто. — Этот кретин не на шутку пристрастился к кокаину. Что толку, что отец держит его в деревне. Через час Поли поднимется, — продолжал он. — Опасности нет. С избранниками бога это бывает.
— В данном случае тут замешан Орест, — заметил я.
Пьеретто скривил рот. Он думал о Поли.
— Это испорченный ребенок, — сказал он. — Виноват в этом наш мир, где некоторые загребают деньги лопатой. Получается так, что их дети, вместо того чтобы отплывать от берега, как все, оказываются в глубокой воде, когда еще не умеют плавать. Вот они и захлебываются. Ты знаешь, какую жизнь он вел в детстве по милости родителей?
Он рассказал мне скверную историю о служанках и гувернантках, которыми Поли был окружен в Греппо до тринадцати-четырнадцати лет. Они научили его разным глупостям, главной из которых было, что богатыми рождаются и что его маму другие женщины должны почитать, хотя перед богом, разумеется, все — его дети. Одна, служанка взяла его к себе в постель, когда ему еще не было двенадцати лет, и в течение нескольких месяцев высасывала из него все соки. Мало того, она водила его в лес, и там они тоже баловались, так что он сделался развратником еще раньше, чем стал мужчиной.
— Для него жизнь и состоит из таких вещей, — говорил Пьеретто. — Он таскал у матери снотворное, чтобы одурманить себя. Жевал табак. Бил по щекам служанок, чтобы иметь предлог обнимать их и прижиматься к ним…
— Он свинья, вот и все, — сказал я нетерпеливо. — Причем тут деньги? Не все, кто ровня ему, похожи на него.
— То-то и есть, что похожи, — сказал Пьеретто. — Но что бы там ни говорила его жена, он наивнее других. И знаешь, он всерьез верит в то, что говорит. Увидишь, если он не умрет, то сделается буддистом.
Вот тут я и увидел в окно приближавшихся к дому Габриэллу и Ореста. Они оскальзывались на траве, поднимаясь по крутому скату, и смеялись.
Я сказал Пьеретто:
— А Габриэлла? Она не нюхает кокаин?
— Габриэлла подшучивает над всеми нами, — сказал он. — Ее это забавляет.
— Но почему же они живут вместе?
— Привыкли ругаться.
— А не может быть, что они любят друг друга?
Пьеретто засмеялся на свой лад и присвистнул.
— Этим людям некогда любить, — сказал он. — Они смотрят на вещи проще. Все их проблемы связаны с деньгами.
Потом мы спустились на веранду и там нашли Ореста и Габриэллу. Она уже побывала у Поли (у них были отдельные комнаты) и, вернувшись, сказала:
— Больной поправился.
Никто ни словом не обмолвился о наркотике. И у Габриэллы, и у Ореста смеялись глаза, и скоро мы забыли о Поли. Мы продолжали обсуждать план поехать завтра потанцевать на празднике в одно селение, славившееся ярмаркой, которую устраивали в конце августа. Когда в полдень Габриэлла исчезла, я бросил быстрый взгляд на Ореста, но на этот раз он не ответил мне тем же. Он сидел безучастно, поглощенный своими мыслями, но у него все еще блестели глаза. Тут я всерьез задумался о Джачинте.
XXII
Чтобы повезти нас на гуляние, Орест съездил домой за двуколкой, но на ней помещалось не больше трех человек. У Поли болела голова, и ему было не до танцев, а я сказал, что тоже останусь, потому что уже привязался к Греппо, да и неплохо было денек побыть одному.
— Негодники вы, — сказала Габриэлла, сидя на двуколке между Орестом и Пьеретто, — но все-таки жаль, что вы остаетесь.
Они уехали, помахивая нам и смеясь. Я провел утро у грота, заросшего адиантумом. С этого места был виден только гребень холма, врезавшийся в небо, — равнину скрывали заросли тростника. Быть может, в былые времена там был виноградник, от которого осталось одно воспоминание. У входа в грот я разделся догола и стал загорать. Я не делал этого с тех дней, когда мы ходили на болото, и поразился, что я такой черный, почти такой же черный, как черешки адиантума. Я думал обо всякой всячине, блуждая взглядом там и сям. Из-за зарослей, замыкавших лужайку и заслонявших ее от сторонних глаз, мог кто-нибудь показаться, но кто? Не кухарки, не Поли. Может быть, духи круч и лесов или какой-нибудь здешний зверек — такие же голые и нелюдимые существа, как и я. В бледном серпе луны, стоявшей над тростником в ясном небе среди белого дня, было что-то колдовское, символичное. Почему чувствуется какая-то связь между голыми телами, луной и землей? Даже отец Ореста шутил насчет этого.
В полдень я вернулся на виллу среди сосен, старую и белую, как луна. Я послонялся за домом, возле оранжереи, увидел в окошке рыжую голову Пинотты, гладившей белье. Пока я смотрел через открытую дверь на горшки с роскошными цветами, от которых пестрело в глазах, вышел старый Рокко и что-то пробормотал. Мы завязали разговор; он нашел, что я хорошо выгляжу.
Я сказал, что в Греппо чистый воздух; если Поли такой здоровый и живой, разве он этим не обязан годам, которые провел в Греппо?
Пинотта подняла голову и стала прислушиваться, по обыкновению угрюмо посматривая на меня.
— Да-да, — сказал Рокко, — воздух здесь хороший.
«Вот была бы штука, — думал я, — если бы оказалось, что Поли и с этой крутит».
Должно быть, я улыбнулся, потому что Рокко косо посмотрел на меня. Потом он выплюнул окурок себе в руку, загрубелую и смуглую до черноты, и пробормотал что-то еще.
Он пожаловался на сушь. Сказал, что воды из бассейна не хватает и вдобавок ее приходится носить ведрами. В свое время был насос, но он сломался.
Тогда я спросил, где берут питьевую воду.
— В колодце, — сказала Пинотта из окна. — А кто ее достает? — Рыжая голова неистово затряслась. — Я достаю, все я.
Я хотел поговорить с Рокко, расспросить его о том, каким был этот холм и как здесь текла жизнь в былые времена, но меня стесняла Пинотта, ни на минуту не сводившая с меня своих круглых глаз.
Тогда я спросил, моется ли кто-нибудь на балконе и какой водой. Пинотта ухмыльнулась на свой лад.
— На балконе синьора принимает солнечные ванны, — сказала она.
— Я думал, вы ей носите туда воду.
— Еще этого не хватало, что я, каторжная?
Она набралась духу и спросила меня, почему я не поехал на гуляние. Этот вопрос заинтересовал и Рокко. Они оба испытующе посмотрели на меня, явно надеясь что-то выведать.
— Мы все не помещались на двуколке, — отрезал я.
Старый Рокко покачал головой.
— Больно много народу, — пробормотал он, — больно много народу.
Поли, у которого все еще было помятое, изнуренное лицо, спустился позавтракать, потом вернулся к себе и снова появился, только когда стало темнеть. За весь день мы не обменялись и десятью фразами, не зная, что сказать друг другу; он улыбался усталой улыбкой и слонялся с места на место. Всю вторую половину дня я, сидя в ломберной, перелистывал старые книги, пожелтевшие альбомы, энциклопедии и иллюстрированные альманахи. Когда в сумерках вошел Поли, я поднял голову и сказал ему:
— Как вы думаете, вернутся они к ужину?
Поли взглянул на меня, и лицо его прояснилось.
— Не выпить ли нам пока по рюмочке? — предложил он.
Мы пили, сидя под соснами.
— Время идет, — заметил я. — Даже здесь, где как будто все остается без перемен. В сущности, вам хорошо одному.
Поли улыбнулся. Он был без пиджака, с цепочкой на шее, бронзовый от загара.
— Почему бы нам не перейти на «ты»? — сказал он. — Ведь мы оба друзья Ореста.
Мы перешли на «ты». Он вежливо осведомился о моей жизни в Турине, спросил, что я буду делать, вернувшись туда. Мы поговорили о Пьеретто; я рассказал ему, что в доме у Ореста женщины думают, что Пьеретто теолог, а он засмеялся и сказал, что ценит его выше, но что у него есть один недостаток — он не верит в глубинные силы, которые таятся в нас, в нашу неосознанную чистоту.
Я спросил его, проведет ли он эту зиму в Греппо. Он молча кивнул, внимательно глядя на меня.
— Я все думаю, — сказал я ему, — что, оказавшись снова в этих местах, где прошло твое детство, ты, наверное, испытываешь волнующее чувство. Для тебя, должно быть, все здесь имеет свой голос, свою жизнь. В особенности теперь.
Поли молчал, так уставившись на меня, точно слушал глазами.
— …Даже меня забрало, когда я приехал сюда. Представь себе. Я никогда здесь не был. Но это сочетание запущенности и укоренелости… тут не просто сельская местность, а что-то большее… просто захватило меня. Когда ты здесь жил, уже так и было?
Он упорно смотрел на меня.
— Дом был этот самый, — сказал он. — Тогда было больше народу, больше служб, но дом остался таким же.
— Я не про дом. Я говорю о зарослях, о заброшенных виноградниках, об этом впечатлении дикости. Сегодня утром я загорал возле грота, и мне казалось, будто холм — что-то живое, что у него есть кровь, голос…
Я увидел, что он задумался.
— Ты столько времени прожил здесь, в Греппо, неужели ничего такого тебе никогда не приходило в голову?
Я говорил, а про себя думал: «Если я псих, то и он тоже. Кто знает, может, мы и найдем общий язык».
Но Поли сказал, вертя в руках стакан:
— Как все мальчишки, я до безумия любил животных. У нас были собаки, лошади, котята. У меня был Буб, ирландский рысак, который потом сломал себе спину… Мне нравится в животных их равнодушие ко всему, что происходит вокруг. Они свободнее нас…
— Может быть, то, что я говорю о холме, ты находишь в животных. Ты любишь диких животных, зайцев, лисиц?
— Нет, — решительно сказал Поли. — Я разговариваю с животными, как разговариваю с вами, а с дикими животными нельзя разговаривать. Я любил Буба потому, что его можно было хлестать. Любил котят, потому что их можно было держать на коленях. Понимаешь? — сказал он, просветлев. — Это все равно как обладать женщиной, быть с мамой… Впрочем, нет, с мамой другое дело, — поправился он. — Бедняжка, из-за нее я страдал. Однажды зимой она уехала в Милан, и рождество я провел один, с прислугой и снегом. По вечерам я, не зажигая света, смотрел в окно на снег и, если женщины искали меня, не откликался, чтобы они сходили с ума от беспокойства…
— Такие воспоминания подходят для зимы, — сказал я.
— Мамы уже нет, — сказал Поли. — Ты прав. Для меня в деревне всегда зима.
Так прошел этот вечер, а когда совсем стемнело, мы пошли ужинать. Пинотта смотрела на нас, сидевших вдвоем за столом, с таким видом, как будто это было очень забавное зрелище, и ходила взад и вперед, шаркая ногами. Меня томило какое-то тревожное чувство, по-видимому, больше, чем Поли. Мы долго пили, и в какой-то момент, сам не знаю как, я заговорил о Розальбе. Я спросил Поли, где она, что с ней сталось.
— О, — сказал он меланхолично, — она умерла.
XXIII
Когда поздним утром они трое приехали на двуколке, у меня голова была как чугун, а голос охрип. Мы всю ночь говорили о смерти Розальбы. Поли мало что знал об этом. Она покончила с собой в том пансионе, который содержали монахини, — отравилась то ли ядом, то ли наркотиком, — когда он уехал на море. Мы прогуливались под соснами, вокруг бассейна, и говорили, говорили до самого утра. Поли говорил, что смерть не имеет значения, что не мы ее причиняем, что внутри нас — радость и покой и ничего больше.
Тогда я спросил его, входит ли кокаин в условия душевного покоя. Он ответил, что все мы употребляем какие-нибудь наркотики, от вина до снотворных, от нудизма до охоты с ее жестокостью.
— При чем тут нудизм? — сказал я.
Оказалось, вот при чем: некоторые выходят на люди голыми из потребности уподобиться животным и преступить человеческую норму.
Мне не хватило ночи, чтобы заставить его признать, что между самоубийством и смертью от болезни или несчастного случая целая пропасть. Поли говорил о Розальбе нетвердым голосом растроганного ребенка; с умилением говорил о тех днях, когда он был при смерти; никто ни в чем не был виноват; Розальба умерла; им обоим было хорошо.
Всю ночь мы, как бы подтверждая его правоту, пили, курили и спорили. Восход солнца застал нас в креслах, за кофе, который подала нам растрепанная Пинотта. Сквозь иглы сосен просвечивала луна. Теперь мы толковали об охоте, о бедных животных: Поли говорил, что из всех наркотиков кровопролитие единственный, пристрастия к которому он не понимает; в крови есть что-то дьявольское, этому научила его Розальба.
— Вот теперь Орест затевает охоту. Он не понимает, что человек может испытывать отвращение к некоторым вещам. Пусть охотится, но не пристает к другим…
Дневной свет меня немного успокоил, но напряжение, усталость, глухой гнев не дали мне заснуть. Когда я услышал на поляне веселые голоса, меня взяла злость на Пьеретто, который, конечно, знал про Розальбу, но ничего не сказал мне, и я не сразу спустился: смотрел в потолок и думал о том, что Розальба, кокаин, пролитая кровь, холм — все это сон, злая шутка, которую все сговорились сыграть со мной. Оставалось только спуститься и сделать вид, что я ни о чем не догадываюсь, чтобы не попасть в дурацкое положение. Оставалось только рассмеяться им в лицо, вот что…
Внезапный грохот заставил меня соскочить с постели. Я подбежал к окну и увидел, как они со смехом слезают с двуколки. Орест потрясал дымящимся ружьем, Габриэлла с распущенными волосами, зацепившись платьем за козлы, кричала: «Снимите меня».
Из дома выскочили Пинотта и кухарка; вышел Поли. Поздоровались, начались тары-бары. Про вино, про ярмарку, про овраги. «Ну и посмеялись же мы, — говорили они. — Мы заехали в селение Ореста». Лошадь, опустив голову, рыла землю копытом.
Спустился и я. Сумятица не улеглась до самого полдня. Габриэлла, Орест и Пьеретто продолжали галдеть и на веранде. Они все еще были под впечатлением шумного веселья, и это объединяло их. Что за селения, говорили они, вот где люди умеют повеселиться, а Пьеретто угодил в канаву и в одном кабаке подрался с хозяином; потом они звонили в колокола, взбудоражили пономаря; а еще воровали виноград на одном винограднике.
— Ну как, — сказал Пьеретто, сидевший на подлокотнике кресла Габриэллы, — ты приготовил ружья, Поли? Мы будем вам вместо собак.
В полдень они наконец угомонились. Габриэлла поднялась наверх привести себя в порядок. Я посмотрел на Ореста — вид у него был спокойный и счастливый. Его возросшую близость с Габриэллой выдавали глаза, не надо было ни о чем его спрашивать.
Я не понимал Пьеретто, который опять принялся шутить с Поли. Они заговорили об одном крестьянине, который знал деда Поли и рассказывал, сколько женщин тот обрюхатил в окрестных селениях.
— В нашем роду мужчины этим издавна славились, — сказал Поли. — И отпора они не получали.
— Жаль, что Габриэлла тебя любит, — сказал Пьеретто. — А то можно было бы отплатить вашей семье той же монетой. Ты должен почаще посылать ее на такие гулянья.
Не знаю, что было на уме у Пьеретто, но Ореста взорвало, и, вскочив на ноги, он выкрикнул что-то нечленораздельное. Поли недоуменно взглянул на него.
Орест стоял перед Пьеретто и не говорил ни слова. Они на мгновение уставились друг на друга, оба пунцово-красные, потом Пьеретто пришел в себя.
— Что это с тобой? — сказал он резко. — Тебя задело за живое?
Орест смерил взглядом его, потом Поли и вышел, ничего не сказав.
Как только мы с Пьеретто, поднимаясь по лестнице, оказались одни, я спросил у него, знает ли он про Розальбу. Он спокойно сказал, что давно уже знает и со времени туринской истории этого ожидал.
— Что же и остается женщине в таком положении? У женщин нет отговорок. Они не способны на абстрактное мышление…
— Поли ублюдок и недоумок…
— А ты этого не знал? — сказал он. — Ты что, с луны свалился?
Мне хотелось исколотить его. Я прикусил язык. В эту минуту по коридору пропорхнула Габриэлла; она кивнула нам и сбежала по лестнице.
— Что это за новая история? — пробормотал я. — Кто из вас двоих вскружил ей голову?
— Ты хочешь сказать, кто думает, что вскружил ей голову. Такой ловкач, который заарканил бы ее, еще не родился.
— А все-таки кто-то всерьез ударяет за ней.
— Все может быть, — ухмыльнулся Пьеретто. — Это ты ему присоветовал?
Тут я понял, что Пьеретто знает еще меньше меня. Я взял его под руку — чего никогда не делал, — и мы подошли к окну.
— Это продолжается уже три дня, — сказал я ему, — и может произойти скверная история. Я говорил, что лучше уехать. По-моему, они способны даже убить друг друга. До Поли мне нет дела… Но я боюсь за Ореста.
— Что тебя пугает? Ружье? — сказал Пьеретто, готовый рассмеяться.
— Однако вот и ты об этом подумал. Меня пугает, что с Орестом стало невозможно разговаривать.
— Только и всего?
— Мне не нравится лицо Поли. Не нравятся его разговоры. Не нравится эта история с Розальбой…
— Но Габриэлла тебе нравится.
— Не тогда, когда она пьянствует в кабаках. Это не такие люди, как мы…
— То-то и хорошо, — воскликнул Пьеретто, — то-то и хорошо!
— Ты сам сказал, что они ненавидят друг друга.
— Дурак, — сказал Пьеретто, — люди, которые ненавидят друг друга, по крайней мере искренни. Тебе не нравятся искренние люди?
— Но Орест собирается жениться на Джачинте…
Мы продолжали разговаривать, пока снизу нас не позвали завтракать. За столом Поли сидел со смущенным и досадливым видом, к Оресту нельзя было подступиться, а Габриэлла, успевшая вымыть голову, болтала о быках со смешными рыжими кисточками на концах хвостов и об омерзительной вони ацетилена.
— А я люблю запах ацетилена, — сказал Пьеретто. — Он напоминает мне о рожках, которые лоточники зимой пекут на улицах.
XXIV
Я решил поговорить с Орестом. Мне это было нелегко? не то чтобы он избегал меня, но у него было то ли саркастическое, то ли обиженное выражение лица, которое меня обескураживало. Я остановил его на лестнице и попросил показать мне ружье.
— Ты нас возьмешь с собой на охоту? — сказал я.
Ружье и ягдташи валялись на диване в биллиардной.
Я достал из сумки красный патрон и сказал Оресту:
— Одним из этих патронов ты хочешь убить Поли?
Он взял его у меня из рук и пробормотал:
— При чем тут Поли?
Тогда я спросил у него, хочет ли он меня выслушать. Понизив голос (остальные были на веранде), я сказал ему, что теперь, когда мы все с Поли на «ты», мы обязаны относиться к нему как к другу. А разве Орест поступает с ним по-дружески? Две недели назад, если бы Поли начал увиваться за Джачинтой, что бы было? Хоть бы они по крайней мере вели себя так, чтобы никто ничего не замечал. В какой-то момент даже Поли, какой он там ни охладелый, какой он ни псих, какой он ни чурбан, не сможет больше закрывать на это глаза. Не лучше ли нам уехать, пока не поздно? Вернуться домой, сохранить хорошее воспоминание? Чего он добивается?
Орест слушал меня, краснея, и несколько раз порывался прервать. Но когда я перестал говорить, он с упрямым видом улыбался и молчал, глядя на меня исподлобья.
— Джачинта тут ни при чем, это не одно и то же, — пролепетал он наконец. — Я ничего не краду. Да мы и не хотим прятаться. Она думает так же, как я.
— Что она так думает, это понятно. Она женщина. Но ты-то понимаешь, чем это кончится?
Он опять посмотрел на меня, и у него на скулах заходили желваки.
— Они уже больше года жили врозь, — сказал он. — Она и видеть его не хотела. Это отец Поли послал ее сюда. Чтобы она постаралась угомонить его, чтобы он больше не куролесил. Ты же видел, как Поли обращается с ней.
Я не ответил ему, что за больным не ухаживают, напаивая его, зля и путаясь с другим у него на глазах. Это было бесполезно, Орест говорил запальчиво, и лицо его приняло то задорное и упрямое выражение, которое означает «теперь или никогда».
— Она необыкновенная женщина, — сказал он. — Видел бы ты ее на гулянии. Как она танцевала, смеялась, шутила с музыкантами… Она умеет обходиться со всеми…
— И она сказала, что любит тебя?
Орест удержался от ответа и только посмотрел на меня. Посмотрел украдкой, с жалостью. У него блестели глаза. Через несколько дней, когда стало ясно, что дело серьезнее, чем мы могли представить себе, я понял, что за этим взглядом скрывалась попытка не быть дерзким, не оскорблять меня своим счастьем. Потому что мы стыдились таких вещей. Не умели говорить о них.
— К тому же, — сказал Орест, — для Поли здесь нет ничего неожиданного. После туринской истории… Да она и тогда уже не жила с ним…
— Она сама тебе это сказала? Тогда что же они делают вместе?
Мы продолжали этот разговор, пока нас не прервали. Мне так и не удалось преодолеть его упорство, заставить его призадуматься. Габриэлла, должно быть, поняла, что речь идет о ней, потому что подошла к нам, взяла нас под руки, сказала: «Ну, хватит секретничать» — и потом все время пристально посматривала на меня.
В этот день мы пошли на охоту. Пошел и Поли.
— Мы поговорим, а они пусть себе стреляют, — сказал ему Пьеретто.
Мне казалось, что Поли смотрит на Ореста и на жену с таким видом, как будто они его забавляют. Он то и дело останавливался, задерживал Пьеретто, задерживал меня, говорил, как ему хорошо с нами, потому что из всех людей, с которыми он познакомился за последние годы, никто его так не понимал, как мы. Я предоставил разговаривать Пьеретто; в какой-то момент я потерял терпение и свернул за густую заросль кустарника. Я знал, что Орест и Габриэлла, чтобы найти фазанов, должны спуститься к заброшенным виноградникам, знал, что Габриэлла не думает о фазанах, и Орест о них не думает, и Поли тоже. И вот я решил отстать от них всех и найти укромное местечко где-нибудь в тростнике, откуда было бы видно равнину. Так я и сделал и, растянувшись на траве, закурил.
Конечно, было тяжело не видеть Габриэллу, не слышать ее голоса, не быть на месте Ореста. Я спросил себя, не было ли в последнем разговоре с ним какой-то доли досады, обиды с моей стороны. Меня мучила мысль о том, что один из нас любовно ведет ее по роще, быть может, к беседке, и там они при свете дня… Я вспоминал До, вспоминал болото. Куда делся запах смерти, присущий лету? И вся наша болтовня, все наши разговоры?
Раздался ружейный выстрел. Я напряг слух. Послышались веселые голоса, я различил голос Пьеретто. Снова выстрел. Вскочив на ноги, я искал глазами среди виноградников облачко дыма. Они были внизу, у самого грабового леса. Вот дураки эти двое, пробормотал я, они в самом деле стреляют фазанов. И, снова бросившись на траву, я стал слушать неясный гул, раскаты выстрелов, жизнь Греппо со всеми ее приливами и отливами, которой я мог теперь спокойно наслаждаться.
Мы пошли домой, когда тень холма уже покрывала долину. Они убили с десяток воробушков, которых показали мне, раскрыв ягдташ, где они лежали окровавленные среди патронов. Габриэлла шла с Орестом и Пьеретто и, увидев меня, надулась; меня спросили, куда я, черт побери, запропастился.
— В другой раз они попадут в тебя. Будь поосторожнее, — сказал мне Поли с самым спокойным видом.
За столом мы опять заговорили об охоте, о фазанах, об облавах, которые можно устроить. Орест говорил с жаром, убежденно, как это давно уже с ним не случалось. Габриэлла не сводила с него глаз, и вид у нее был задумчивый, отрешенный.
— Давид и Чинто пустили в расход заповедник, — говорил Орест. — Почему ты не сменишь лесника?
— Тем лучше, — говорил Поли. — Охота — детская игра.
— Игра владетельных особ, — сказал Пьеретто, — феодальных синьоров. Как раз то, что требуется в Греппо.
Потом Габриэлла свернулась клубочком в кресле и продолжала слушать наш разговор, не потребовав ни карт, ни музыки. Она курила и слушала, посматривала то на одного, то на другого и как будто улыбалась. Подали вино, но она не стала пить. Я смотрел на Поли и думал о том, как проходят вечера в Греппо, когда он и Габриэлла одни. Должны же мы были когда-нибудь уехать. Да и они сами должны были уехать. Что делалось на этой вилле в зимние вечера? Меня охватила печаль при мысли о том, что лето в Греппо, любовь Ореста, эти слова, и эти паузы, и мы сами — все скоро пройдет, все кончится.
Но тут Габриэлла вскочила на ноги, со стоном потянулась, как девочка, и сказала, даже не взглянув на нас:
— Погасите свет. Ведь правда, Орест, чтобы увидеть летучих мышей, надо погасить свет?
Они вышли и сели на ступеньки, и мы присоединились к ним. Звезд было больше, чем сверчков, стрекотавших вокруг, Мы заговорили о звездах и о временах года.
— Последняя утренняя звезда показывается вон там, — сказал Орест.
Он и Габриэлла встали и пошли прогуляться среди деревьев; они шли бок о бок, прижимаясь друг к другу; нам слышно было, как шелестят их шаги. Было странно подумать, что Поли сидит между нами. На мгновение мне показалось, что среди нас он единственный здравомыслящий человек. Мы с Пьеретто молчали, взволнованные и встревоженные. А Поли сказал:
— Похоже на ту ночь, когда мы с холма смотрели на Турин.
— Чего-то не хватает, — проговорил я.
— Не хватает крика.
Тогда Пьеретто — я услышал, как он вобрал в себя воздух, — оголтело заорал, взвизгивая и подхохатывая. В доме послышался топот ног и захлопали двери, а издалека донесся приглушенный голос откликнувшегося Ореста.
— Как бы Габриэлла не простудилась, — сказал Поли.
— Не выпить ли нам чего-нибудь? — сказал Пьеретто.
XXV
— До чего охота зайти в бар, — сказал Пьеретто, когда мы, захватив бутылку, снова уселись на ступеньках, — пройти мимо кино, пошататься ночью по Турину. А вам?
— Иногда, — сказал Поли, — я себя спрашиваю, понимают ли женщины некоторые вещи. Понимают ли они, что такое мужчина… Женщины либо бегают за мужчиной, либо заставляют его гоняться за собой. Ни одна женщина не выносит одиночества.
— То-то их и встречаешь в час ночи на улице, — сказал Пьеретто.
— Было время, когда я считал их чувственными, — сказал Поли, глядя в землю, — думал, что они хоть по этой части сильны. Ничуть не бывало. Они и в этом поверхностны. Ни одна женщина не стоит щепотки наркотика.
— Но разве это не зависит также и от мужчины? — сказал я.
— Факт тот, что женщины душевно мертвы, — сказал Поли. — У них нет внутренней свободы. Потому-то они всегда гоняются за кем-то, кого никогда не находят. Самые интересные из них — отчаявшиеся, те, что не способны наслаждаться… Их не удовлетворяет ни один мужчина. Это настоящие femmes damnées[21].
— Dans les couvents[22],— сказал Пьеретто.
— Какое там, — сказал Поли. — Их можно найти в поездах, в гостиницах, где угодно. В самых лучших семьях. Женщины, затворившиеся в монастырь или заключенные в тюрьму, — это женщины, нашедшие любовника… Бог, которому они молятся, или мужчина, которого они убили, ни на минуту не покидает их, и они спокойны…
Скрипнул гравий, и я прислушался в надежде, что Орест и Габриэлла возвращаются и делу конец, но это, видно, упала шишка или проскользнула ящерица.
— К тебе это не имеет отношения, — сказал Пьеретто. — Или ты сам хочешь кого-нибудь убить?
Поли закурил, и огонек сигареты осветил его лицо; глаза у него были прикрыты. Мне показалось, что слова Пьеретто задели его. Из темноты послышалось:
— Я для этого недостаточно альтруистичен. Меня это удовольствие не привлекает.
— Он предоставляет людям самим лишать себя жизни, — сказал я Пьеретто.
Мы долго молчали, созерцая звезды. С холма поднимался, разливаясь среди сосен в ночной прохладе, сладкий, почти цветочный запах. Я вспомнил жасмин у беседки; должно быть, когда-то его цветы в тени боскета походили на россыпь звезд. Жили ли когда-нибудь в этом павильоне?
— Животные понимают человека, — сказал Поли. — Они лучше нас умеют быть одни…
Слава богу, прибежала Габриэлла, крича: «Не поймаешь!» Подошел Орест, не такой возбужденный.
— Вот твой цветок, — сказал он ей.
— Орест видит в темноте, как кошка, — со смехом сказала Габриэлла. — В темноте он даже говорит мне «ты». Послушайте, — обратилась она к нам, — говорите мне все «ты», и дело с концом.
Когда мы вошли в помещение и зажгли свет, натянутость прошла. Мы рассеялись по комнате, и Габриэлла, напевая, выбрала пластинку. В волосах у нее был цветок олеандра. Она откинулась на спинку кресла и стала слушать песню. Это был томный блюз с синкопами, исполняемый звучным контральто. Орест молчал, стоя у проигрывателя.
— Хорошо, — сказал Пьеретто. — Мы этой пластинки никогда не слышали.
Габриэлла слушала улыбаясь.
— Это что-то из пластинок Мауры? — сказал Поли.
Так кончился этот вечер, и мы пошли спать. Я спал плохо, тяжелым сном. Меня разбудил Пьеретто, который вошел в мою комнату, когда солнце стояло уже высоко.
— У меня болит голова, — сказал я.
— Ты не одинок, — сказал он. — Слышишь, уже наяривают.
Дом наполнял голос с пластинки, то самое контральто.
— С ума сошли, что ли, в такое время?
— Это Орест приветствует возлюбленную, — сказал Пьеретто. — Остальные спят.
Я окунул лицо в таз и, отфыркиваясь, сказал:
— Он не перебарщивает?
— Глупости, — сказал Пьеретто. — Кого я толком не пойму, так это Поли. Я не ожидал, что он станет жаловаться. Похоже, он все-таки не хочет, чтобы ему наставили рога.
Начав было причесываться, я остановился и сказал:
— Если я правильно понял, Поли устал от женщин. Он сказал, что они ему житья не дают. Он предпочитает животных и нас.
— Ничего подобного. Разве ты по заметил, что он с болью говорит о женщинах? Он влюбленный дурак…
Когда мы спустились, песня давно уже кончилась. Пинотта, которая смахивала пыль, сообщила нам, что Орест, как только поставил пластинку, сел на двуколку и уехал, сказав, что к полудню вернется.
— Так и есть, — сказал Пьеретто, — он себе места не находит.
— Он приедет на велосипеде, — сказал я.
Пьеретто усмехнулся, а Пинотта нахально посмотрела на меня. Я не удержался и сказал:
— Интересно, как на него повлияет прогулка на станцию.
— Она будет ему полезна для здоровья, полезна для здоровья, — ответил Пьеретто и потер руки. Потом сказал Пинотте: — Вы не забыли про сигареты?
Часов в одиннадцать, когда мне стало невмоготу, я поднялся наверх и постучал в комнату Поли. Я хотел попросить у него аспирин.
— Войдите, — сказал он.
Он лежал на кровати под балдахином в своей роскошной гранатовой пижаме, а у окна сидела Габриэлла, уже в шортах.
— Извините.
Она посмотрела на меня так, как будто в моем появлении было что-то забавное.
— Сегодня день визитов, — сказала она.
Я почувствовал какую-то неловкость. Мне не понравились их лица.
Габриэлла сама встала достать мне таблетки от головной боли. Она прошла через комнату по сверкающим как зеркало красным плиткам, которыми был вымощен пол, и стала рыться в ящике комода.
— Только бы не ошибиться, — сказала она, и я увидел в зеркале ее смеющееся лицо.
— Это в ванной, — сказал Поли.
Габриэлла выскользнула из комнаты.
— Мне очень жаль, — пролепетал я. — Но прошлой ночью мы не спали.
Поли, не улыбаясь, смотрел на меня со скучающим выражением лица. У меня было такое впечатление, что он не видит меня. Он пошевелил рукой, и только тут я заметил, что он курит.
Вернулась Габриэлла и протянула мне таблетки.
— Мы сейчас спустимся, — сказала она.
Я со своей головной болью провел утро у грота. Я спрашивал себя, виден ли из лоджии Габриэллы тростник, где я нахожусь. Я думал о старой Джустине, о матери Ореста, о том, что они сказали бы, если бы знали, что происходит в Греппо. Но в это утро я чувствовал себя спокойнее, мне казалось, что самое трудное позади, что все еще может уладиться. Что за несчастье, говорил я себе, что это случилось именно с Орестом, у которого уже есть девушка. Видно, такой уж у него характер.
Вернувшись на виллу, я никого не нашел и остановился под соснами. Можно было только гадать, приехал ли Орест. Всякий раз, когда я возвращался с такой прогулки, я думал, что, быть может, она последняя. Но пока Поли не прогонял нас, это значило, что он еще переносит паше присутствие; если бы Пьеретто был прав, Поли уже указал бы нам на дверь. Он был все такой же, Поли: терпел Ореста, только бы иметь под рукой Пьеретто, да и меня, чтобы было с кем поговорить, терпел из лени и равнодушия. В общем, из обычной низости.
Орест, к сожалению, приехал. Мне сказал это Пьеретто.
— Они загорают на балконе, — бросил он с невинным видом, а Поли, который шел рядом с ним, казалось, не обратил на это внимания. Лицо у него было невыспавшееся. Он курил, и я заметил, что у него дрожит рука.
— Загорают наверху? — пролепетал я.
Они посмотрели на меня, как на какого-то надоеду, и принялись опять говорить о боге.
Но за завтраком Поли кое-что сказал. Он пожаловался, что кто-то из нас запустил пластинку в семь часов утра. Он даже накинулся на Габриэллу за то, что она разбудила его. Сердито сказал:
— Всему свое время.
Габриэлла свирепо смотрела на него. Но тут Орест с шутливо покаянным видом объявил, что это он виновник происшествия.
Воцарилось молчание, и Габриэлла метнула на Ореста испепеляющий взгляд. Она была в бешенстве.
— Что за проклятье жить среди сумасшедших и болванов, — сказала она злобно, с гримасой отвращения.
Тогда Орест, покраснев, бросил салфетку на стол и вышел.
XXVI
Наступило тягостное затишье. Отсутствие Ореста расстроило наш план пойти на охоту; Габриэлла поднялась к себе писать письма; Пьеретто сказал: «Что за идиот», — и пошел спать. Единственным, кто не вышел из равновесия, казался Поли, который остался в гостиной и перелистывал журналы, поставив возле себя бутылку коньяка. Увидев в окно, что я слоняюсь как неприкаянный, он спросил, почему я не иду выпить и не позову Пьеретто. Тогда я попятился в сосны, крикнула «Пьеретто!» — и ушел.
Я спустился к грабовому лесу и пошел дальше. До сих пор я ни разу не делал этого. Я оказался на красной проселочной дороге, которая вела через плато, пыльной и усеянной бычьим навозом. Над нею роем кружились желтые бабочки. Мне был приятен теплый запах клевера и хлева, он говорил мне, что свет не сошелся клином на Греппо. Во мне всплыло все, что накипело на сердце, и я решил в тот же вечер объявить, что возвращаюсь в Турин.
Повернув назад, я в последний раз посмотрел на холм. Снизу видны были только сосны и обрывы, поросшие чахлым кустарником. Греппо действительно был как бы островом, бесплодным и диким. В тот момент мне хотелось быть уже далеко и думать обо всем этом, живя своей обычной жизнью. Ведь теперь я уже не мог забыть этот холм — он запал мне в сердце.
Я встретил Рокко, который медленно спускался по склону. Он сказал, что наверху меня ищут.
— Кто меня ищет? — спросил я.
По его словам, меня искали все четверо. Они преспокойно пили чай под соснами.
— И доктор тоже?
— Да, и доктор.
Вот сумасшедшие, подумал я и настороженно поднялся на вершину холма. Габриэлла — она была в розовой юбке — закричала, увидев меня, закричала, что я не должен ее предавать, не должен дезертировать, как вчера. Я пожал плечами и стал пить чай. Орест как ни в чем не бывало снова принялся объяснять некоторые хитрости стрельбы (он уже держал ружье на коленях). Наконец мы, слава богу, двинулись.
На этот раз мы шли все вместе. Я толкнул Пьеретто локтем в бок и вопросительно посмотрел на него. Он отвернулся и поглядел на небо.
— Разве они не поссорились? — прошептал я.
— Она пошла к нему в комнату, — ответил он.
Тогда я подвинулся к Оресту и спросил у него, где же тот заяц, которого мы должны убить. Тут Поли что-то сказал ему, и он обернулся, а Габриэлла мельком посмотрела на меня, изобразив улыбку. Так как мы уже сошли с дороги, первый же куст отделил нас от остальных. С бьющимся сердцем я пролепетал (мы уже перешли на «ты»):
— Могу я с тобой поговорить?
— Pardon? — сказала она, по-прежнему смеясь.
— Так дело не пойдет, Габриэлла, — сказал я. — Я хотел поговорить с тобой об Оресте. — Мы остановились. Я заглянул ей в глаза. Она была серьезна, хоть и смеялась.
— Орест выводит всех из терпения, — пробормотала она. — У него скверный характер.
Я посмотрел на нее в упор. Она пожала плечами и отодвинулась. Потом заговорила суровым тоном:
— Ты ему тоже должен это сказать, если он тебя слушает. Кажется, вы добрые друзья. Он не должен больше капризничать. Я таких, как вы, не боюсь…
Мы шли между деревьями и кустами. Позади нас слышались шаги остальных. Раздвигая ветви, Габриэлла схватила меня за запястье и прошептала:
— Ты не знаешь, как он мне дорог… Никто не знает. Такой серьезный, такой смешной, такой молодой… Смотри, если ты заговоришь с ним об этом… Но он должен слушаться меня и не капризничать…
Мы вышли на прогалину, вышли и остальные. Что-то просвистело у меня над ухом, и раздался выстрел. Я услышал, как заорал Пьеретто. Закричала и Габриэлла. Все мы закричали. Оказалось, Орест выстрелил в дикую утку — крякву, как он нам сказал, — и промахнулся.
— Что за сумасбродство стрелять нам в затылок, — сказала Габриэлла. — Ты мог уложить нас.
Но Орест был счастлив.
— Ведь это всего лишь дробь, — сказал он. — Чтобы убить человека таким зарядом, надо стрелять в него в упор.
— Дай мне ружье, — сказала она. — Я хочу выстрелить.
Поли остался на краю поляны, как бы подчеркивая, что не принимает участия в этой игре. Мы стали ждать другой птицы; Габриэлла держала ружье наизготове; Орест смотрел то на нее, то на небо, беспокойный и радостный. Немного погодя, поскольку ничего не происходило, Поли предложил идти дальше, спуститься к беседке.
В этот вечер за столом было много разговоров и шуток насчет кряквы.
— Тут нужна была бы собака, — говорил Орест.
— Прежде всего нужен охотник, — сказал Пьеретто.
Они говорили с набитым ртом, уписывая за обе щеки.
— Аппетита ты не потерял, — сказал я Оресту.
— А почему бы ему не проголодаться? — сказал Поли. — Ведь он охотник.
— Ему надо расти, — сказал Пьеретто.
— Что вы имеете против Ореста? — вмешалась Габриэлла. — Оставьте его в покое. Он мой возлюбленный.
Орест смотрел на нас вроде бы весело, но сконфуженно.
— Будь осторожен, — сказал ему Поли. — Габриэлла женщина. Ты заметил, что Габриэлла женщина? — продолжал он с легкой насмешкой.
— Это нетрудно, — засмеялась она. — Я здесь одна.
— Единственная, — сказал Поли и, улыбнувшись, подмигнул нам.
Пьеретто, как видно, все понимал и забавлялся. Орест уткнулся в тарелку. Казалось, он готов провалиться сквозь землю. А Габриэлла с минуту смотрела на него, и с лица ее не сходила язвительная улыбка.
Сколько дней Габриэлла так улыбалась ему? Она улыбалась и мне, и даже Поли. Казалось, вернулись наши первые дни в Греппо. Габриэлла и Орест вместе исчезали, скрывались на балконе, в лесу. Это выглядело так, как будто они играют; прятаться не было надобности. Я думаю, что они могли бы встречаться и говорить на глазах у нас, на глазах у Поли. Габриэлла была способна на это. Иногда мне казалось, что она смеется над нами, что она вымещает на Оресте свою злость на нас всех. Когда вечером мы собирались за столом, лицо у Ореста было удивленное, подчас обалделое. Ни мне, ни Пьеретто уже не удавалось расшевелить его, даже заводя разговор о Поли. Впрочем, какое это имело значение? Габриэлла кружила ему голову только для развлечения. Я сказал ему это однажды вечером, когда он сидел, нахмурившись, но Орест только покачал головой: мол, ты не знаешь.
Время от времени они ссорились — это чувствовалось по их молчанию, по их взглядам. По утрам, когда Поли долго не спускался и Орест путался под ногами у Габриэллы, она говорила ему, чтобы он побыл с нами, сходил за цветами, проводил Пинотту к Двум Мостам. «Ступай, ступай, дуралей», — бросала она ему с небрежной улыбкой, расхаживая по комнатам. Орест в отчаянии шел в сосняк. Но потом спускался Поли, спускался Пьеретто, и тогда Габриэлла настойчиво звала его, требовала, чтобы он присоединился к нам, брала его под руку. Орест повиновался, сопровождаемый саркастическим взглядом Поли.
XXVII
— Я не в восторге от этого сосняка, — сказал как-то вечером Пьеретто, приближаясь вместе с Поли ко мне между стволами деревьев. — Разве это глушь? Жабы и змеи здесь не водятся.
— Какая муха тебя укусила? — сказал я.
— Держу пари, что тебе и здесь хорошо, — сказал он и ухмыльнулся. — А по мне, на болоте лучше. Здесь даже нельзя раздеться догола. Засилье цивилизации.
— Я не нахожу, — сказал Поли. — Мы живем, как крестьяне.
Из-за деревьев вышла Габриэлла и подозрительно посмотрела на нас.
— Секретничаете? — спросила она.
— Какие тут секреты, — сказал Пьеретто. — Вот Поли убежден, что живет по-крестьянски. А по-моему, мы едим и пьем, как свиньи. Вернее, как баре.
— Как баре? — надувшись, переспросила Габриэлла.
Пьеретто рассмеялся ей в лицо.
— Странные понятия у некоторых людей, — сказал он. — Что же, по-вашему, вы зарабатываете себе на жизнь?
Но Поли сказал:
— Если ты хочешь раздеться догола, пожалуйста.
— Это невозможно, — сказал Пьеретто. — Здесь чувствуешь себя слишком цивилизованным.
— Вы хотите ходить голым? — сказала Габриэлла. — Почему бы нет? Но крестьяне таких вещей не делают.
Тут Пьеретто посмотрел на меня.
— Ты слышал? У синьоры те же взгляды, что у тебя.
— Не называй меня синьорой.
— Как бы то ни было, — упрямо продолжал Пьеретто, — ходить голым, как животные, не может никто. Я спрашиваю себя, почему…
Габриэлла едва заметно улыбнулась.
— Поймите меня правильно, — сказал Пьеретто. — Жить голым, а не раздеться забавы ради.
Между деревьями показался Орест с обиженной миной на лице.
— На мой взгляд, — сказал Поли, — все мы голые, хоть и не знаем об этом. Жизнь — слабость и грех. Нагота — это слабость, что-то вроде открытой раны… Женщины ощущают это, когда у них месячные.
— Твой бог должен быть голым, — пробормотал Пьеретто. — Если он похож на тебя, он должен быть голым…
За столом все чувствовали себя неловко. Даже Пьеретто в этот вечер не шутил. Самый невинный вид был у Ореста, который грустно-грустно смотрел на Габриэллу. От этого разговора под соснами остался какой-то осадок, какое-то чувство стыда. Я вдруг заметил, что Поли и Габриэлла обмениваются взглядами — напряженными, почти страстными, непритворными. Меня снова охватило давнее нетерпение, стремление остаться одному. На этот раз заговорил Пьеретто.
— Как ни хорошо в Греппо, а всему приходит конец. Пора и честь знать, — сказал он резко. — Что ты об этом думаешь, Орест?
Орест, которого этот вопрос застал врасплох, поднял голову, не успев изменить умильное выражение лица. Но никто не улыбнулся. Ни Поли, ни Габриэлла ничего не возразили. Очевидно, что-то происходило. Я снова подумал о Розальбе.
— Охотники, сезон окончен, — сказал тогда Пьеретто.
Орест робко улыбнулся.
— Предстоит еще сезон перелетных птиц, — сказала вдруг Габриэлла с неожиданной живостью. — Бекасов, куропаток. — Она надула губы. — Но вы ведь должны сначала побывать на сборе винограда.
Мы снова заговорили о том, что стояло у Ореста костью в горле. С его отцом было условлено, что мы приедем на сбор винограда в Сан-Грато. Всякий раз, когда упоминалось об этом, Орест мрачнел. Так было и теперь.
— Жаль, что на виноградниках Греппо виноград собирают только дрозды, — сказал Поли, исподтишка поглядывая на него. — Ну ничего, Орест. Ты съездишь туда, а мы тебя подождем.
Но странное дело, именно оттого, что всем было не по себе, во взглядах не сквозило обычного лукавства. В воцарившейся тишине раздался автомобильный гудок. Внезапно в стекла брызнул свет, и Габриэлла вскочила, восклицая: «Это они! Они опять приехали». Послышались громкие голоса.
Клаксон ревел, как Орест в ту ночь, на холме. Поли нехотя встал. Пинотта прошмыгнула через комнату в кухню. В какой-то момент мы с Орестом остались одни, и, помню, я, уже стоя, зачем-то налил себе вина, а снаружи тем временем усиливался шум и смех. Я положил руку на плечо Оресту и сказал ему: «Крепись».
Так началась эта ночь, которой суждено было стать последней. Я вышел наружу. Небо было звездное, в мягком воздухе стоял запах сосен и прели. Резкий свет фар двух машин придавал сказочную эффектность гравию, черным стволам деревьев, провалу равнины. Со всех сторон показывались миланцы. Габриэлла наскоро представляла мне то одного, то другого; я, обалдев от всей этой кутерьмы, только пожимал руки, Пьеретто тоже; когда мы вошли в помещение, я никого не помнил.
Наш ужин полетел вверх дном. Пинотта, которая обычно прислуживала нам просто в фартучке, появилась в наколке. Распахнули бар. Девушки и мужчины бросились в кресла, смеясь и прося не беспокоиться — кто-то уже поел, кто-то выпил, а из машин между тем принесли корзины — пропасть всякой снеди, бутылок, сластей; захлопали пробки. Я насчитал трех женщин и пятерых мужчин.
Женщины были по-дорожному повязаны косынками, но щеголяли пестрыми платьями и голыми ногами. Ни одна не могла сравниться с Габриэллой. Они галдели, просили огня, беззастенчиво разглядывали нас. Из имен, которыми они называли друг друга, я разобрал только одно — Мара. Среди мужчин был один — молодой, тощий, с подергивающимся, как у бесноватого, лицом, в странной курточке, доходившей ему только до пояса. Его звали Чилли. Войдя, он так вытаращил глаза на Пинотту, что все покатились со смеху. Другой взял Габриэллу под руку, и они опустились на диван. Еще один, вылощенный, стоял в сторонке и кричал, что счастлив приветствовать хозяев и друзей дома.
Пока они бурно выражали свою радость по поводу встречи, было невозможно говорить ни о чем другом. Упоминания о Милане, словесная перепалка, общее возбуждение преобразили и Поли, который отпускал комплименты женщинам, подмигивал то одному, то другому, словоохотливо отвечал тем, кто к нему обращался. Раскрасневшаяся Габриэлла отбивалась от осаждавших ее остряков. Все хором осуждали уединенную жизнь, которую вели Поли и Габриэлла, аморальный эгоизм любви на лоне природы, добровольно избранную скуку. Мужчина в светлом костюме, с энергичным лицом, неизменно сохранявшим саркастическое выражение, — некий Додо, которому было уже под сорок, как я потом узнал, — выждал минуту тишины и холодно объявил, что можно иметь романы с чужими женами, но уж никак не со своей собственной.
Пьеретто принюхивался к атмосфере, как охотничья собака. Я заметил, что Орест исчез. Исчезла и Габриэлла. Через минуту они вернулись, неся маленький столик. Опустив глаза, вошла Пинотта с наколотым льдом. Габриэлла, смеясь, захлопала в ладоши — я заметил, что она переоделась и была теперь в голубом, — и пригласила желающих подняться наверх и умыться. Нас осталось на веранде пять или шесть человек, в том числе худая женщина, сидевшая возле Поли.
XXVIII
Худая сказала Поли:
— Сейчас же объясните мне, почему вы живете здесь.
— Разве вы не знаете? — сказал Поли. — Папа держит меня в заточении.
Худая сделала гримасу. Она была уже не очень молода. Протянув бокал, она сказала:
— Налейте мне.
Голос у нее был сухой и резкий, а пальцы унизаны кольцами.
— Папа или Габриэлла? — спросила она с глупым смехом.
— Это все равно, — сказал юнец с взъерошенными волосами, примостившийся на подлокотнике кресла. — Семейные обстоятельства.
Пьеретто, до сих пор не раскрывавший рта, проронил:
— За один вечер у него не выведаешь этот секрет.
Никто не обратил на него внимания. Юнец сказал:
— Но мы хотим развеселить тебя. Мы подумали: быть может, один он мало пьет. Вот мы и приехали наставить тебя на истинный путь. Додо готов был держать пари, что ты даже не знаешь, что танцуют в этом году в Милане.
— Вот что, — серьезно сказал Поли и, подняв палец, стал отбивать такт.
— Нет! — со смехом закричали все.
Худая закашлялась, и бокал зазвенел у нее в руке. Вошел Додо, сверкая золотыми зубами в саркастической улыбке.
— Ты отстал на год, — сказал юнец, когда смех стих.
— Нет, не больше чем на три месяца, — бесстрастным тоном подхватил Додо. — Поли остановился в своем развитии три месяца назад.
Этот Додо был загорелый мужчина с холодными глазами, говоривший небрежно и самоуверенно. Я вспомнил, как поморщился Поли, когда мы услышали автомобильный гудок и голоса приехавших, вспомнил взгляды, которыми он перед этим обменивался с Габриэллой. Теперь все это было забыто, а вылощенные приятели наших хозяев спускались по лестнице и со смехом вваливались в гостиную. Последней, когда уже захрипел проигрыватель, вошла Габриэлла.
Я стоял, прислонившись к подоконнику, и мне хотелось исчезнуть, удрать в лес.
Не стушевавшийся Пьеретто уже принялся болтать, замешавшись в группу миланцев. Никто еще не танцевал. Тощий Чилли развлекался в одиночку, поглощая пирожки, и видно было, как у него ходит кадык. Орест опять исчез. Заметив это, я посмотрел на Габриэллу. Она что-то говорила Поли, а всклокоченный юнец тянул ее за запястье. Она смеялась, и продолжала говорить, и уступала юнцу. В этом платье она была очень хороша. Я спросил себя, сколько из присутствующих мужчин прикасались к ней, сколько из них путались с ней до Ореста.
Остальные женщины мне не понравились. Все они, блондинки и брюнетки, были вроде Розальбы. Развалившись в креслах, они холодно смеялись и чокались. Худая, самая раззолоченная и накрашенная, все еще не двинулась с места. Она сидела на диване, поджав под себя ноги, и слушала разговор мужчин с фальшиво невинным выражением порочного личика.
Потом я вдруг увидел, что все танцуют. Контральто пело тот самый блюз. Ореста все не было. Габриэлла кружилась в объятиях Додо, который, и танцуя, сохранял ледяное спокойствие. Мне показалось очевидным, что этот лысеющий, верно уже поживший и саркастически настроенный человек — как раз такой мужчина, какой ей нужен. Он что-то шептал ей, и Габриэлла смеялась, почти касаясь губами его щеки.
Я прошел через комнату, чтобы налить себе вина, и натолкнулся на Пьеретто, который ел лед.
— Ты еще держишься на ногах? — сказал я ему.
Он снисходительно посмотрел на меня.
Чудаковатый Чилли подошел к нам, пробравшись между парами. Я ожидал, что он отпустит какую-нибудь шутку — состроит рожу или кукарекнет, — но он протянул нам руку.
— Очень рад, — сказал он надтреснутым голосом. И, подмигнув, добавил: — А здесь уютненько.
— Вы первый раз здесь? — спросил Пьеретто.
— Я даже не знаю толком, где мы, — сказал он тем же дребезжащим голосом. — Мы были в клубе и играли в покер, а приятели заехали за нами. Я думал, мы едем в казино, но потом увидел Мару, и она мне сказала: «Мы едем к Поли». А кто же еще вспоминает о Поли? Мне сказали, что он сошел с ума. — Чилли вытаращил глаза как сумасшедший. — Между прочим, что за штучка служанка? — шепотом спросил он. — Та, рыжая… Годна к употреблению?
— Вполне, — сказал Пьеретто.
— Что говорят о Поли в Милане? — спросил я.
— А кто же знал, что он еще жив? От него только и проку, что можно прошвырнуться сюда.
Похожий на птичку своими мелкими, резкими движениями, он повернулся к двери, стянул курточку на талии и ушел.
— Симпатичный парень, — проговорил я. — Элегантный и искренний.
Пьеретто тряхнул головой и окинул взглядом стол и танцующие пары.
— Все они искренни, — сказал он убежденно. — Едят, пьют и блудят. Чего ты хочешь? Чтобы они научили тебя, как это делается?
— Где Орест? — спросил я.
— Если бы ты принадлежал к их обществу, ты бы делал то же самое…
Я опрокинул еще рюмку и вышел.
Хорошо было уйти в ночь и постоять на насыпи. Музыка и шум голосов у меня за спиной звучали приглушенно, а вокруг все тонуло в темноте, и казалось, я парю среди звезд.
Вернувшись, я отвел Габриэллу в сторонку и сказал ей:
— Орест ждет тебя возле дома.
— Если он сумасшедший…
— Не знаю, кто из вас больше сумасшедший, — сказал я. — Меня, например, никто не ждет.
Она засмеялась и выскользнула наружу.
Время от времени образовывался кружок, и Пьеретто разглагольствовал, смеялся, флиртовал с женщинами. Пока еще никто не предлагал выйти всей компанией в рощу. Проигрыватель неустанно пел. В сущности, было легко смешаться с этими людьми. И женщины и Додо хотели только веселиться. Надо было веселиться вместе с ними. До утра было еще далеко.
Прилежнее всех танцевали Поли и эта худая с кольцами. Настал момент (Габриэлла давным-давно вышла), когда проигрыватель умолк. Поли и худая остановились, держа друг друга в объятиях, прижимаясь друг к другу. Остальные толпились вокруг Чилли, который, преклонив колени на ковре, с завыванием простирался ниц перед фотографией Поли в рамке с подпоркой, поставленной на пол. Присутствовал при этом и Пьеретто, все еще не натешившийся.
Вдруг Чилли затянул литанию. Мара, белокурая подружка Додо, смеялась до слез и, вытирая глаза, умоляла его перестать. Остальные хлопали Чилли. Пошатываясь, подошел Поли и тоже засмеялся.
Но тут раздался голос Пьеретто. Он сказал, что у всякого уважающего себя бога есть рана в боку.
— Пусть подсудимый разденется, — объявил он. — Пусть он покажет нам рану.
Послышалось еще несколько смешков, потом все умолкли. Худая, оставшаяся за кругом, допытывалась:
— Что там такое? Что происходит?
Я не осмеливался смотреть на Поли; с меня довольно было другой пунцовой физиономии.
Кто-то поставил пластинку; тут же образовались пары. Я подошел к столу выпить и оказался в обществе Додо, который вертел головой, кого-то ища.
— Ее здесь нет, — сказал я ему, — сейчас придет.
Он поднял рюмку и едва заметно подмигнул мне. Я кивнул ему без тени улыбки. Мы друг друга поняли.
Я был очень пьян. От шума и гама у меня все туманилось перед глазами. В глубине комнаты я увидел сидящего Поли. Кто-то говорил с ним — там был и Пьеретто, — и он выглядел спокойным, слегка осовелым. Правда, он был бледен, но теперь уже все казалось каким-то бледным.
Вошли Габриэлла и Орест.
XXIX
Теперь многие вышли из дому и слонялись под соснами. Собирались спуститься по склону холма. Искали кого-то, кажется, Поли и ту, с кольцами. Проигрыватель молчал. Я пошел выпить еще рюмочку джину.
Проходивший мимо Орест хлопнул меня по плечу. Он так и сиял от счастья.
— Все в порядке?
У него тоже были взъерошены волосы.
— Только бы уехали эти типы, — сказал он.
— Что говорит Габриэлла?
— Ей не терпится спровадить их.
Как раз в эту минуту вышли Габриэлла с Додо.
— Ладно, — сказал я, — тебе надо выпить.
В окно веяло свежестью, даже холодком (теперь по вечерам и по утрам равнину окутывал туман). Мимо магнолий прошла Пинотта с подносом, и в тени кто-то обнял ее. Она вырвалась и убежала, разроняв бокалы. На шум из сосняка отозвались крики «ура».
— Видал, — сказал я Оресту, — разгулялись напропалую. А где Пьеретто?
— Только бы они уехали, — сказал он.
Мы были одни на веранде.
— В эту ночь ты можешь мне сказать, — проговорил я, поднеся бокал ко рту, — ты был с ней на балконе? Ты ее взял?
Орест посмотрел на меня и что-то сказал, едва шевеля губами. Я подался вперед. Он с улыбкой тряхнул головой и ушел.
Я услышал, как кто-то отхаркивается на лестнице, потом донеслись приглушенные голоса. По-видимому, поднимались в спальни. Может, и в мою. Я не удержался и вышел на порог. Никого не было. Тогда я с заготовленной улыбкой на случай, если кого-нибудь встречу, стал взбираться по лестнице. Повсюду горел свет, и это вызывало ощущение одиночества. Наверху тоже никого не было. Я вошел в свою комнату, закрыл за собой дверь, зажег и погасил свет. Никого. Я сел у окна и покурил в темноте. Из сосняка доносились крики, гомон, неясные голоса. Я думал о Греппо, утратившем свою девственность.
Меня вывел из задумчивости шум шагов в коридоре. Я вышел и увидел голубую юбку Габриэллы, которая сворачивала на лестничную площадку. Я нагнал ее на середине лестницы. Она ничего не сказала, только сделала мне гримасу, и мы вместе спустились.
— Устала? — сказал я.
Она пожала плечами. Я не спросил у нее про Додо. Мы вместе вышли из дому. Послышался женский визг и скрипучий смех Пьеретто.
— Веселятся, — сказал я.
Опустившись на ступеньки, Габриэлла потянула меня за руку.
— Посиди со мной минутку, — сказала она заговорщицким тоном.
— Если подойдет Орест, ему это не понравится, — пробормотал я.
— Ты не в духе? — улыбнулась она. — Хочешь выпить?
— Послушай, — сказал я. — Что у тебя было с Орестом?
Она не ответила мне, но и не отпустила мою руку. Я чувствовал ее дыхание и ее аромат. Я прижался щекою к ее щеке и поцеловал ее. Она отодвинулась от меня. Ничего не сказала и отодвинулась. Я не прикоснулся к ее губам. Она не ответила на мой поцелуй. Теперь у меня колотилось сердце, наверняка и она это чувствовала.
— Дурак, — сказала она холодно. — Видел? Вот это у меня и было с Орестом.
Я был унижен и подавлен. Я слушал ее, опустив голову.
— Вы мальчишки, — сказала она, — все, и Орест, и тот, третий. Что вы хотите? Мы с вами друзья, ну и что дальше? На этом все и кончается. К зиме вы вернетесь в Турин. Оресту тоже нужно вернуться. Ты должен ему это сказать. У Ореста есть девушка, пусть он женится на ней. Я тут ни при чем.
Она замолчала. Немного погодя я сказал:
— Ты ревнуешь?
— Ах, перестань. Только этого не хватало.
— Тогда, значит, Поли ревнует…
— Не говори глупостей. Ты должен только сказать Оресту, что я не могу располагать собой. Ты ему это скажешь?
— Что с тобой? Ты плачешь?
— Да, скажи ему, что я плачу, — проговорила она напряженным голосом. — Он должен понять, что Поли болен и что я хочу только одного — чтобы он выздоровел.
— Но Орест говорит, что тебе не было никакого дела до Поли. Вы разошлись. Где ты была, когда Поли лежал в больнице?
Мне стало стыдно, что я это сказал. Габриэлла молчала. У меня опять заколотилось сердце.
— Послушай, — сказала она, — ты мне веришь?
Я подождал.
— Веришь или нет?
Я поднял голову.
— Я люблю Поли, — прошептала Габриэлла. — Тебе кажется это абсурдным?
— A он? Он тебя любит?
Габриэлла поднялась и сказала мне:
— Подумай об этом. Ты должен сказать это Оресту. Когда вы уедете, ты должен все время ему это говорить… Ты милый.
Она ушла под сосны. У меня кружилась голова. Когда я встал, я готов был сбежать из Греппо, мне хотелось шагать и шагать до зари, как я это делал в Турине в те ночи, когда не находил себе места, идти до самого Милана или уж не знаю докуда. Но вместо этого я вошел в гостиную выпить еще.
В это время с лестницы спустился Поли. На нем было два пиджака, оба внакидку, а глаза у него были как зола, как угли в золе. Я ожидал увидеть его пьяным, но не в таком состоянии. Он сказал, чтобы я побыл с ним, сел и покурил с ним. Сказал это тихо, но настойчивым тоном.
Я спросил его из вежливости, давно ли он знает этих своих приятелей. И в эту минуту я заметил, что он вовсе не пьян. А если и пьян, то, во всяком случае, не от вина. У него были такие же глаза, как в ту ночь, когда мы встретили его на холме.
— Поли, — сказал я, — ты себя плохо чувствуешь?
Он посмотрел на меня исподлобья, сжимая руками подлокотники кресла.
— Начинает холодать, — сказал он. — Хоть бы снег выпал. Тогда Орест смог бы кого-нибудь убить…
— Ты имеешь зуб на Ореста?
Он без улыбки покачал головой.
— Мне бы хотелось, чтобы вы всегда были здесь. Тебе не весело в этот вечер? Уж не хочешь ли ты уехать?
— Твои миланские друзья уедут утром.
— Они наводят на меня скуку, — сказал он. — Это взрослые младенцы. — Он содрогнулся, как от позыва на рвоту, и сжал губы. Потом опустил глаза и продолжал: — Трудно поверить, как крепко в нас сидит то, что запало в душу, когда мы были детьми. Мне самому кажется, что я все еще ребенок. Думать и чувствовать по-детски — наша самая давняя привычка…
За окном какой-то идиот загудел в клаксон одной из машин, и от этого хриплого, сдавленного рева Поли вздрогнул.
— Трубы Страшного суда, — сказал он мрачно.
В эту минуту вошел Додо. Увидев нас, он остановился.
— Ну и бестия этот Чилли! — воскликнул он. — Должно быть, он у кого-то из женщин стащил трусики. Он каждому сует их под нос и говорит: «Если отгадаешь, чьи они, женщина твоя». Интересно знать…
Поли смотрел на него погасшим взглядом.
— Ты пьян? — сказал Додо. — Он пьян? — Он снова придал своему лицу саркастическое выражение, потер руки и подошел к столу. — Становится свежо, — объявил он. — Не знаю, что это на женщин напала охота гулять. — Он опрокинул рюмку и прищелкнул языком. — Наверху никого нет? — Поли все так же смотрел на него. — Вы не видели Габриэллы?
Когда Додо ушел, Поли снова заговорил:
— Хорошо, когда так кричат в ночи. Кажется, будто это какой-то нутряной голос. Будто это голос самой земли или крови… Мне нравится Орест.
XXX
Рассвет застал нас всех на веранде — мы сидели кто где, по двое, по трое, особняком. Чилли и еще один спали. Кто смотрел в окно, кто болтал. Пьеретто и Додо тянули граппу.
Мы вернулись вразброд из зарослей кустарника, из рощи, с насыпи. Пинотта, которую я разбудил, постучав в дверь ее каморки, варила нам кофе.
Лица, землистые на рассвете, стали мертвенно-бледными, потом розовыми, а электрический свет мало-помалу тускнел. Погасив его, мы растерянно оглянулись вокруг. Первыми встрепенулись женщины.
Они уехали, когда стало совсем светло, но еще не просохла роса — влажный гравий почти не заскрипел под шинами. Старый Рокко, стоя возле бассейна, из которого торчала труба, смотрел им вслед.
— Мы приедем еще, — орали они. — По автостраде сюда рукой подать.
— Мы приедем в Милан! — крикнула с насыпи Габриэлла.
Поли уже ушел к себе. Мы послонялись по усыпанной гравием площадке, озираясь вокруг. С низкой ветки сосны свешивался клетчатый шарф. Я задел ногой валявшийся на гравии целехонький бокал. Теперь, утром, при обычном свете, я не осмеливался взглянуть в глаза Габриэлле. Орест молча, как и все, прохаживался, заложив руки за спину.
— Дураки эти миланцы, — сказал Пьеретто.
Габриэлла устало улыбнулась.
— Ты банален. Возможно, они то же самое говорят о нас.
— Все дело в мужчинах, — сказал Пьеретто. — О мужчине можно судить по тому, каких женщин он терпит.
— Ты их вообще не терпишь, — бросил Орест.
— Вот что, — сказала Габриэлла, — обсудите это между собой. Я пойду отдохнуть. Счастливо оставаться.
Мы проводили глазами ее удаляющуюся фигуру, четко вырисовывающуюся в ясном воздухе, и вернулись в гостиную. Мне казалось невозможным, чтобы мы возобновили прежнюю жизнь. Что-то изменилось. Как бы это выразить? У меня было такое чувство, будто и с нами здесь уже распрощались.
В гостиной был кавардак, и в спертом воздухе стоял запах цветов. Воняло воском. На одной из тарелок тлела недокуренная сигарета.
— Ночью я зашел на кухню, — сказал Орест, — и застал там Пинотту. Она плакала оттого, что никто с ней никогда не танцует.
Мы посидели в креслах. Как я и ожидал, у меня заболела голова, и я как бы вынашивал в себе эту боль.
— Выпей-ка, это помогает, — сказал Пьеретто и налил себе рюмку.
Потом зашел разговор о том, чтобы пойти за покупками к Двум Мостам. Эта мысль нам понравилась.
— И то дело, поможем Пинотте.
Я поднялся к себе в комнату за пиджаком. Проходя по коридору — мне запомнился легкий запах, исходивший от согретых солнцем занавесок, — я услышал кашель, харканье, хрип. Эти звуки доносились из комнаты Поли. Я нажал на ручку двери, и дверь подалась. Поли, сидевший на кровати в пижаме, поднял глаза. Он тяжело дышал, а в руке держал носовой платок, который был весь в крови. Он поднес его ко рту.
С минуту я стоял в нерешительности, а Поли смотрел на меня с каким-то беспомощным выражением в опухших глазах…
— Не понимаю, — пролепетал он, с трудом переводя дыхание.
Он хотел было спрятать руку, потом раскрыл ее. Рука тоже была в крови.
— Это не рвота, — сказал он, — Габриэлла…
Я нашел ее в ее комнате. Она выбежала, на ходу надевая халат. Поли встретил ее с удивленным и обиженным видом наказанного ребенка.
— Мне не больно, — сказал он. — Я только сплюнул.
Мы позвали Ореста, позвали Пьеретто. Габриэлла металась по комнате, суетилась вокруг Поли. Глаза ее горели сухим блеском, как в жару, точно ее изнутри жгли все взгляды, слова, жесты этих дней, а лицо приняло суровое, почти ожесточенное выражение, которое уже не сходило с него.
Орест тщательно выслушал Поли, кусая губу.
— Пойдем, — сказал я Пьеретто, — не будем им мешать.
— Ты знал, что он чахоточный? — говорили мы друг другу на веранде.
— При той жизни, которую он вел, это не удивительно, — сказал я. — Вероятно, он это знал.
— Ну да, — сказал Пьеретто, — в таких случаях лечатся.
Иногда он был наивен, Пьеретто. Я сказал ему, что недостаточно помнить о здоровье, чтобы делать или не делать то или другое. Сказал, что Поли, какой он ни сумасшедший, человек меланхоличный, одинокий, из тех, кто много думает о таких вещах и поэтому заранее знает, что с ним должно случиться.
— А про Габриэллу ты знал?
— Что?
— Что она влюблена как кошка.
С этим он согласился. Но потом сказал:
— А кто мышь?
Они спустились вниз, и Поли тоже. Вид у него был кислый, глаза запавшие, лицо бледное. Он сказал нам обычным голосом, что нет причины менять наши привычки, что на свете полно людей, у которых идет кровь из носу, и кто хочет жить, живет.
Орест ледяным тоном объяснил, что болезнь у него, по-видимому, застарелая и что он не понимает, как могли в больнице не заметить этого. Он говорил, не глядя на Габриэллу.
— Ты должен немедленно показаться врачам, — сказал он Поли. — Тебе надо ехать в Милан.
Тогда Габриэлла сказала нам, что спустится к Двум Мостам позвонить по телефону.
— Давай я съезжу на велосипеде, — предложил я.
— И отвези меня, — сказала Габриэлла, — я хочу поговорить с его отцом.
Но я не умел везти другого, да еще под гору, и, естественно, поехал Орест. Габриэлла сидела на раме между его рук, и он щекой касался ее плеча.
— Не выпить ли нам с горя? — сказал Поли, входя в дом. — Теперь уж все равно.
Он маленькими глотками выпил свою рюмку. Лицо у него было землистое, но он улыбался. Я думал о той ночи на холме, когда из-за деревьев показалась зеленая машина.
— Не хватало только моего отца, — сказал Поли. — Правда, ему осталось недолго возиться со мной, скоро мне конец.
Пьеретто пробормотал, чтобы он не говорил глупостей.
— Разве от этого что-нибудь меняется? — глухо сказал Поли.
Он кашлянул и прикрыл рукой рот. Потом вытащил сигарету.
— Брось, — сказал Пьеретто.
— И ты туда же, — сказал Поли, но не закурил и положил сигарету. — Такие грешки и заполняют день. Рисковать жизнью из-за маленького порока, из-за пустяков не так уж глупо. Перед тобой открывается целый мир.
— Мир велик, — сказал Пьеретто и опрокинул рюмку.
Когда Орест и Габриэлла вернулись, мы уже были под хмельком, и Поли лепетал, что жить легко, когда умеешь избавиться от иллюзий.
Орест посоветовал ему отдохнуть перед дорогой. Габриэлла отняла у него рюмку и сказала, чтобы он лег. Потом она вместе с Пиноттой начала ходить по дому, посылать нас то туда, то сюда, доставать из комодов и шкафов и упаковывать вещи. Орест, сжав зубы, ходил за ней.
Вскоре после полудня приехал автомобиль, зеленая машина, которую вел молодой парень в ливрее. Он почтительно сказал, что синьора командора нет в Милане. Габриэлла велела ему погрузить чемоданы.
Мы позавтракали в молчании. Габриэлла встала из-за стола, чтобы поговорить со старым Рокко. Я пошел посидеть на насыпи, поглядел на равнину и на дикие склоны холма. В небе, откуда, казалось, и веяло сладким запахом фруктов, плыли большие белые облака.
Сели в машину. Мы трое разместились сзади. Поли не сказал ни слова и, к моему удивлению, не сел за руль. Орест повесил через плечо свое охотничье ружье, а рукой придерживал на подножке велосипед.
У подножия Греппо мне не пришло в голову оглянуться. Мы немножко поспорили, какой дорогой ехать, и, потрясшись несколько минут на ухабах, оказались на станции, между домиков с цветами на окнах, перед знакомыми холмами. Мне показалось, будто я знал их всю жизнь. Мы вышли у шлагбаума. Отсюда начиналось белое от пыли асфальтированное шоссе с защитными тумбами и низкими изгородями. Мы обменялись несколькими словами, пошутили, и суровое лицо Габриэллы на миг осветилось улыбкой. Поли помахал рукой.
Потом они уехали, а мы пошли выпить на мельницу.
ТОВАРИЩ РОМАН © Перевод Л. Вершинин
I
Меня прозвали Пабло потому, что я играл на гитаре, как испанец. В ту самую ночь, когда Амелио разбился на дороге в Авильяну, я с несколькими друзьями отправился на холм неподалеку, подзакусить. Отсюда даже мост был виден. Мы пили и веселились в лучах сентябрьской луны, пока холод не загнал нас петь песни под крышу. Девушки начали танцевать. Я играл — Пабло тут, Пабло там, — но мне что-то грустно было. Я любил играть для тех, кто понимает в музыке, а эти только и знали, что орали во все горло. По дороге домой я снова играл, а приятели пели. От густого тумана рука моя стала влажной. Я был по горло сыт такой жизнью.
Теперь, когда Амелио попал в больницу, мне не с кем было словом перемолвиться, не с кем душу отвести. Я знал, что идти к нему в больницу бесполезно, ведь он кричал и ругался день и ночь напролет и никого не узнавал. Мы пошли взглянуть на его мотоцикл, который все еще валялся в кювете у придорожного столба. Сломалась колесная спица, колесо соскочило, чудо еще, что сам мотоцикл не загорелся. Крови на земле не было, только пятна бензина. Потом мотоцикл увезли куда-то на ручной тележке. Я никогда особенно не любил мотоциклы, но этот чем-то напоминал разбитую гитару. Счастье еще, что Амелио теперь ничего не сознавал. Говорят, он, может, и выживет. Обо всем этом я думал, пока обслуживал покупателей в магазине, но навещать его не пошел, все равно бесполезно, и говорить о нем больше ни с кем не стал. А вечером, вернувшись домой, все вспоминал свои разговоры с разными людьми и думал, почему я никому не сказал, что одинок как пес — и не оттого вовсе, что рядом со мной не было Амелио, с ним я тоже чувствовал себя одиноким. Может быть, ему я и сказал бы, что последнее лето так провожу, что мне осточертело шляться с гитарой по остериям да торчать в магазинчике. Амелио понимал такие вещи.
Потом я узнал, что Амелио положили в гипс, а ноги у него начали сохнуть. День и ночь я думал о друге и не хотел, чтобы люди говорили мне о нем. Теперь стали болтать, что в ту ночь с ним была девушка, что она вывалилась на траву и у нее даже волосы не растрепались, что они мчались как сумасшедшие — пьяные были, и что рано или поздно этим — все равно кончилось бы. Всякое болтали. Его девушку мне показали однажды утром, когда она проходила мимо нашего магазина. Она была высокая, статная. Глядя на нее, трудно было даже себе представить, что она летела кувырком с мотоцикла. От Амелио этого можно было ожидать, тут уж ничего не скажешь. Мысль о том, что они все лето вдвоем носились на мотоцикле по автострадам, тесно прижавшись друг к другу, приводила меня в ярость. Стоит ли из-за этого рисковать головой? Говорят, она навещает его. Тем лучше, нам не придется ходить.
В эти дни я не мог усидеть в магазине. Уходил и один шел к берегу По. Садился на парапет и смотрел на людей, на лодки. Так приятно погреться утром на солнышке. Я хотел понять, почему мне все осточертело и почему именно теперь, когда я чувствовал себя одиноким как пес, у меня никакой охоты не было водить с кем-нибудь дружбу. И еще думал о том, что Амелио не может даже сесть в постели и никогда больше не будет ходить. Раньше он целыми днями испытывал моторы — на это и жил. Как же теперь он будет жить? Может, он лодку для себя приспособит. Но частенько, даже когда есть деньги, ни собственная лодка, ни гитара — ничто тебе не мило. Это я на себе испытал. Чего бы я только не дал, лишь бы узнать, что за жизнь вел Амелио до того, как разбился. Может, потому что он мог обойтись без любого из нас и в разговоре из него, бывало, двух слов не вытянешь, мне ни разу в голову не пришло расспросить его об этом. Сколько вечеров провели мы вместе, я играл на гитаре, и нам обоим было хорошо, потом выпивали по стаканчику вина, он возвращался на Корсо, я — в магазин. Я всегда видел его в кожаной куртке мотоциклиста. Зайдет на секунду в магазин и скажет: «Вечером встретимся?» Своих девушек он мне никогда не показывал. Если в остерии собирался народ, он все так же продолжал сидеть в одиночестве за своим столиком.
Как-то утром в магазин решительно вошла та самая высокая девушка, которую мне показали на улице, и, улыбаясь, спросила, где ей найти Пабло.
— Меня зовут Линда, — сказала она. — Я от Амелио, он вернулся домой. Он хочет вас видеть, но сам прийти не может.
Моя мать была в магазине, она справилась о здоровье Амелио. Женщины перекинулись несколькими словами. Линда все осматривалась вокруг. Она была веселой, держалась мужественно. Никто еще не рассказывал так спокойно о том, что случилось в ту ночь.
На следующий день я пошел к Амелио; он лежал на кровати у распахнутого настежь окна. Он ни словом не обмолвился о том, что с ним произошло, и о том, что посылал за мной. Он был в желтой фуфайке, все такой же большой, длинный. Лицо его совсем не изменилось, только осунулось, словно он всю ночь не спал. В комнате царил беспорядок. В открытое окно медленно вползал туман. Казалось, мы не в комнате, а на улице.
Я не стал у него спрашивать, как он себя чувствует, потому что и так все знал. Но Амелио спросил, что я поделываю и часто ли играл на гитаре в эти месяцы. Я пожал плечами.
— Какая уж тут гитара! — Вытащил пачку сигарет, дал ему закурить, закурил сам. Потом сказал: — Ходили смотреть, что сталось с твоим мотоциклом. Будешь продавать части?
— Мотоцикл можно починить, — ответил он. — Ног у него ведь нет, у мотоцикла-то.
От тумана руки мои стали влажными. На улице было по-утреннему свежо.
— Послушай, — спросил я, — тебе не холодно?
— Закрой, пожалуй, холодновато.
Проходя мимо зеркала, я увидел там отражение Амелио. Лежа в кровати, он целый день видел себя в зеркале словно бы высовывающимся из лодки. Сначала одеяло, потом краешек простыни, затем фуфайку, лицо, нижнюю челюсть и, наконец, дым от сигареты.
— Куришь много? — спросил я.
Он стряхнул пальцем пепел и слегка усмехнулся:
— Это первая. К ночи приканчиваю всю пачку.
Я принес из магазина блок в сотню сигарет и не знал, как ему вручить. Воспользовавшись моментом, положил сигареты на кровать, под газеты.
— Знаешь, с того дня я на прогулки гитару не беру. Надоело. Для него нужна гитара? Чтобы развлекать четырех болванов, которые ждут тебя вечером за городом! Они устраивают кошачий концерт, орут как сумасшедшие, при чем здесь гитара? Теперь, если хочется поиграть, отправляюсь куда-нибудь один.
— Одному тоже невесело, — бросил Амелио. — Твое счастье, что тебе не приходится играть ради заработка.
А может, сказать ему, что мне надоела такая жизнь, что я предпочел бы зарабатывать на хлеб игрой на гитаре? Что мир велик и я хочу начать жить по-новому? Бродить по свету и жить иначе. В то утро я знал только одно: я должен что-то предпринять. Ведь у меня вся жизнь впереди.
— Если б ты играл ради заработка, ты кое-что понял бы, — сказал Амелио, бросил окурок и откинул голову на подушки. Он был худой, и острый кадык торчал, точно кость.
На следующее утро я снова пришел к нему. Мне нравилось приходить в эти утренние часы, когда дома никого не было. Входил в кухню, тихонько стучался в дверь, спрашивал, можно ли войти, и оказывался в этой холодной комнате с распахнутым настежь окном.
Амелио хотел, чтобы в комнате было холодно и он чувствовал бы себя как на улице. Он все время лежал на спине, жадно глотая воздух, и лишь изредка, приподнявшись на локте, тяжело поворачивался на бок. Я садился на край кровати, стараясь не задеть его ног.
— Больно?
Он, не мигая, смотрел на меня. На некоторые вопросы он вообще не отвечал. Таков уж он был. Молчал, и все тут. Однажды я спросил, навещает ли его еще кто-нибудь. Он глазами показал на букетик цветов, стоявший в стакане на столике.
— Вот это хорошо, — сказал я.
Приободрить его я не умел. Мне казалось, что у него больше мужества, чем у меня. Он не говорил о том, скоро ли выздоровеет. Вообще ни о чем серьезном не говорил. Таков уж он был. Я рассказывал ему о чем-нибудь, порой оживляясь, Амелио слушал, негромко отвечал.
— А за город больше не ездишь? — спросил он.
— Со мной, верно, что-то случилось. Не по душе мне все эти компании стали. Да и магазин надоел. Точно я бездельник какой, но ведь на самом деле это не так. Сколько на свете людей, и все живут, что-то делают. Ты всегда был неугомонный, тебе это понятно. Ну что толку торчать дома?
— Но ведь у тебя есть девушка?
— Подумаешь! Распрощаешься с ней — даже легче станет.
— Смотря с какой.
Зачем я говорил об этом именно с ним, с калекой? Но с кем еще я мог отвести душу? Все это я понимал уже потом, на улице, испытывая огромное облегчение, оттого что ушел из этих стен, от этого устоявшегося запаха грязи и пота, от утомительной необходимости что-то говорить. И тогда я стыдился своей болтовни о том, что хочу что-то сделать, найти, что мечтаю бродить по свету. Какое дело до всего этого Амелио, калеке, прикованному к постели?
Однажды я столкнулся у ворот с выходившей от Амелио Линдой. Она окинула меня быстрым взглядом и прошла мимо. Я стал медленно подниматься по лестнице, чтобы войти, когда он уже успокоится. Мелькнула мысль: «Если бы я пришел немного раньше, то застал бы их вместе». В то время я еще мало что знал о девушках, хотя и рассуждал о них, как опытный мужчина. По вечерам я встречал девушек в кино, днем, когда они катались на лодке, видел их на танцульках и когда они приходили в наш магазин. Но этого мало, чтобы знать девушек. Я был еще желторотым птенцом. Поднявшись по лестнице, я громко постучал в дверь, чтобы Амелио услышал, потом вошел. Амелио полулежал на подушке, окурок сигареты словно приклеился к губе. На этот раз я спросил у него, когда он рассчитывает подняться с постели. В комнате еще пахло духами Линды, и я понял, почему окно было распахнуто. Я не расслышал, что он ответил: искал глазами тот букетик цветов, но его не было.
— Тебе что, больше не приносят цветов?
На стуле стояли грязная чашка и блюдце. На кровати среди газет валялся плащ. И вообще, в это утро в комнате царил страшный беспорядок. Как всегда, было холодно. Ночью прошел дождь, но на улице уже светило солнце. Доносились голоса прохожих и крики рыночных торговцев.
— Ничего, что я прихожу так рано? — спросил я.
Амелио пожал плечами и выплюнул окурок.
— Пойди возьми на кухне стакан, — сказал он.
Когда я вернулся, он налил в чашку коньяку из стоявшей на полу бутылки, потом протянул мне стакан.
— Вместо цветов тебе, вижу, принесли коньяк. Хорошо ли начинать утро с коньяка? — сказал я.
Он залпом осушил чашку, потом ответил:
— Ведь мне ходить-то не надо.
Коньяк был отменный; я уже тогда любил пропустить утром рюмочку.
— Не пей много, — добавил я. Вынул тихонько сигареты, но, так и не дождавшись подходящего момента, положил их прямо на блюдце. Амелио скользнул по ним взглядом и поставил чашку. Он даже и не подумал закурить.
— Выбор один: тележка или костыли. Паралич ног, — резко сказал он.
Я с первого дня ждал и боялся этой минуты. Все прочие разговоры были пустой болтовней. «А ведь он не побрился даже ради нее», — подумал я. Я промолчал, только недоверчиво усмехнулся, словно не принял всерьез его слов. Подумал еще: «А на улице светит солнце». Потом посмотрел на его прикрытые одеялом ноги.
— А что говорят врачи?
— Для них… — Напрягшись, он сбросил одеяло и приподнялся на локте.
Я увидел волосатые, худые как палки ноги. Они казались совсем безжизненными, две тоненькие засохшие ветки, толщиной в руку, не больше. Фуфайка закрывала только верх живота. Но я сделал вид, будто разглядываю его ноги.
Он не произнес ни слова, я тоже. Он повернулся, опираясь на руку, но ноги его лежали неподвижно, как плети. Я поглядел на открытое окно.
— Тебе холодно?
Он отрицательно покачал головой и бросил на меня злой взгляд. Я поднялся и подошел закрыть окно.
В этот вечер Линда пришла ко мне в магазин и спросила, нет ли у меня новостей от Амелио.
— Разве вы не виделись? — удивился я.
— Знаю только, что ему сняли гипс, — сказала она. — Ну и дела.
В магазине были Ларио и Келино, которые внимательно слушали и глядели на нее во все глаза. Немного погодя она спросила, когда я собираюсь его навестить.
Тут вмешался Келино и начал нести несусветную чушь.
— Амелио предпочитает, чтобы его навещали девушки…
Я этого Келино и раньше терпеть не мог, он один из тех, что ходят за тобой и бубнят: «Давай повеселимся сегодня вечером». Я приношу гитару, все пьют, распевают песни, а на следующий день он тебе говорит, что гитару ты купил на последние материнские гроши и сигаретами угощал всех, чтобы не платить за вино, а с Амелио дружишь потому, что тот смутьян, а сам ты подонок. Но Линда только посмотрела на него с улыбкой, и ясно было, что улыбалась она, чтобы ничего не отвечать.
Потом спросила, не хочу ли я навестить Амелио вместе с нею. Когда мы вышли на улицу, она оглянулась и замедлила шаг.
— Плохи дела у Амелио, — сказала она. — Он никогда больше не сможет ходить. А что он говорит вам, своим приятелям, когда вы его навещаете?
— Только я один к нему и захожу…
— Нет, к нему много друзей заходит, — ответила Линда.
— Я их никого не знаю.
— Ну, не будь таким сердитым, Пабло, — улыбаясь, проговорила Линда и взяла меня под руку. — Пройдемся немножко. Я не хочу идти к Амелио. Знаешь, с друзьями я на «ты».
В тот вечер мы долго гуляли, болтали обо всем. Вечером я чувствую себя в форме, если успеваю принарядиться, мне нравятся яркие галстуки, но Линда сказала, что я выбрал неудачную расцветку.
— Я вышел в чем был, чтобы пойти к Амелио, так ведь?
— Ну ничего. Давай лучше сегодня походим, поболтаем.
Когда я сказал, что этим утром видел, как она выходила от Амелио, Линда ничего не ответила. Она не хотела об этом говорить. Помолчала и, улыбнувшись, перевела разговор на другое. Стала рассказывать, как они с Амелио носились по дорогам, как свалились в кювет и она порвала платье.
— Но почему мы гуляем вдвоем сегодня вечером? — внезапно спросила она.
Мы пересекали маленькую площадь, где прежде я никогда не бывал.
— Куда мы идем?
— Ах, да, я хотела тебя спросить, нельзя ли помочь Амелио?
Она говорила возбужденно, перескакивая с одной темы на другую, словно выпила лишнего. Но она была совсем не глупа, нет. Мне трудно было уследить за ее мыслями. Я вел ее под руку и старался поддерживать разговор. Все время путал «ты» и «вы». От напряжения я даже взмок.
— Хочу, чтобы Амелио поправился и смог ходить, — обиженным тоном проговорила она.
— И ездить на мотоцикле?
— А почему у тебя нет мотоцикла?
Тогда я сказал, что каждому свое. Амелио куда толковее меня, я умею только торговать сигаретами в магазине на Корсо да разъезжать на велосипеде.
— Разве у тебя нет никакого другого занятия?
Я об этом не подумал, но она мне напомнила, что я играю на гитаре.
— Ты хорошо играешь?
— Кто его знает.
— Мне хотелось бы тебя послушать как-нибудь вечерком.
— Тогда нам нужно снова встретиться, — смеясь, сказал я.
— Конечно, — ответила она.
Мы зашли в кафе, и теперь я смог хорошенько рассмотреть ее лицо. Когда я говорил, она глядела мне прямо в глаза. А я думал об искалеченных ногах Амелио. Мне хотелось понять, видела ли она эти тоненькие ноги, и я рассказал ей об утренней сцене. Она сделала гримаску и зажмурила глаза, но не прерывала меня. Не успел я договорить, как она положила мне руку на плечо и торопливо сказала:
— Мы должны помочь ему. Он ведь больше не сможет работать.
— Я и сам по-настоящему не работаю. Живу у матери.
— Почему ты не играешь в оркестре?
Вот что ей взбрело в голову в этот вечер. Сам я над этим никогда не задумывался. Моя гитара была к месту в остерии, на тихой улочке. Но ведь это же не работа. И потом, я любил играть в одиночестве.
— А на танцы ты ходишь?
Мы договорились, что пойдем вместе на танцы. Я проводил ее до самых ворот. Жила она на пьяцца Кастелло.
II
Я не рассказал Амелио о своей встрече с Линдой. Теперь, когда я входил к нему, я сразу ощущал запах ее духов. Окно было распахнуто, но вместе с холодным воздухом я вдыхал ее аромат. На полу валялись окурки со следами губной помады.
— Вот увидишь, ты непременно выздоровеешь, — убеждал я его, — главное — делать упражнения.
— Какие упражнения?
— А разве в детстве ты не учился ходить?
— Не такими ногами.
О цветах он мне больше не говорил. Перестал бриться. Ту бутылку коньяку он уже прикончил.
— Если ты и дальше так будешь продолжать, ты их всех распугаешь.
— Кого?
— Своих девушек.
Как-то утром он попросил меня принести гитару. В эти дни достаточно было Линде тихо сказать мне: «Хорошо, Пабло», и я уже чувствовал себя счастливым. Я пришел к нему с гитарой, сел на постель и начал играть. Амелио слушал, откинув голову на подушку. Слушая, он, как и Линда, закрывал глаза. Он даже не заметил, что играл я неважно. Слушал и молчал. Я сказал:
— Завтра принесу тебе чего-нибудь выпить.
На другой день я зашел в кафе напротив его дома и просидел там все утро, дожидаясь, не выйдет ли Линда. Я видел, как вышла из дому мать Амелио, видел, как сновали взад и вперед незнакомые мне люди, но Линда не появлялась. Прихватив с собой фьяску вина и гитару, я поднялся к Амелио в обычный час. И на этот раз играл с бо́льшим настроением, мы пили вино и болтали. Теперь мне казалось, что запах духов Линды стал куда слабее. В следующие дни я прятался за углом кафе и все ждал. Но Линда не приходила.
Однажды утром я сказал ему:
— Знаешь, хорошо еще, что тогда ты один покалечился. Вы же были оба пьяны. Подумай только.
— Я уже думал.
— А с той девушкой ничего плохого не случилось?
— С женщинами никогда ничего не случается.
— Но вы ведь были оба пьяны?
— Откуда ты взял?
Как-то он спросил, хожу ли я на танцы.
— Что-то неохота, — ответил я. — Предпочитаю гулять один.
— И к женщинам тебя не влечет?
— Время неподходящее, — сказал я. — Ты же без них обходишься, могу и я обойтись.
— Чертово зеркало, — процедил он. — Точно все время в кино сидишь.
— Хотелось бы мне, чтобы женщины сами меня добивались, — сказал я. — Лежать бы, как ты, в постели, и пусть себе ухаживают. Не все ли равно, кто за кем.
Амелио уставился в потолок и промолчал. Потом сказал:
— Ты не работаешь и за девушками не бегаешь. А ведь ты молодой. И лицо у тебя веселое.
С того дня, отправляясь к нему, я старался внушить себе, что никакой Линды никогда и в глаза не видел. Я все думал о ногах Амелио, о его мотоцикле. Но Линда не выходила у меня из головы. Я вспоминал, как шел с ней под руку и как, танцуя, она коснулась моего колена, вспоминал ее смех и походку.
Теперь я стал реже играть для Амелио. Нельзя же было напиваться каждое утро. А в полдень я к нему не ходил. В эти часы его мать стряпала на кухне и запрещала нам пить. Однажды она остановила меня, когда я уходил, и сказала, что хочет со мною поговорить. Она не плакала, не повышала голоса, не хотела, чтобы Амелио нас услышал, а начала тихо рассказывать, что, еще когда Амелио был мальчишкой, отец чуть не до смерти избил его за то, что он невесть куда удрал на мотоцикле, что раньше Амелио месяцами страдал от головной боли, но его вылечил один доктор, сделав ему укол вот в этой самой кухне. А какой же толк от теперешних больниц, если там держат людей подолгу, а вылечить не могут? Сначала все денежки вытянут, а потом домой отправляют. И теперь Амелио конченый человек. Я слушал и понимал, что ей хочется излить свое горе, и мне было стыдно, что вот я здоров и пришел сюда побренчать на гитаре, и я сказал ей, что Амелио парень толковый и работу наверняка найдет.
— Амелио все, что зарабатывал, тратил направо и налево, — проговорила она. — Никому не отказывал. А кто ему хоть одно сольдо вернул? Я уже и радиоприемник продала, и последние сбережения истратила. А чем ему помогли все эти люди?
— У него много друзей. Мы его любим.
— Приходят так, только языки почесать…
Амелио закричал из комнаты, чтобы она отпустила меня домой.
— Чужое горе не болит, — заключила старуха.
На этот раз я сам спросил у Линды ночью, на холме, чем мы можем помочь Амелио.
— Я много для него сделала, — сухо ответила она. — В больнице ухаживала. Ты тогда даже не знал, куда его положили. Все его дела уладила. Спроси у него, кто спас тогда деньги в Новаре. Нет, лучше ничего не спрашивай, — внезапно сказала она, схватив меня за руку. — Если только он сам не вспомнит.
Когда она так вот говорила, я начинал понимать, что она за человек. О чем мы с ней только не переговорили в тот вечер, сколько было шуток, но вот пришла эта минута, и мне стало страшно. Если бы я ответил ей, мы с ней уже никогда больше не встретились бы. Я даже не знал толком, где она живет, чем занимается. Мы только и делали, что перебрасывались шуточками. Шутили по любому поводу. Приятно было обмениваться с ней шутками, да и так легче было ладить друг с другом. Но я чувствовал, что в душе она совсем другая.
— Раз уж ты теперь не танцуешь с Амелио, что будет плохого, если мы с тобой сходим потанцевать? — сказал я, когда мы возвращались домой.
— Конечно, — согласилась она.
Мы заговорили о том, что Амелио не сможет больше танцевать, но пить, сидеть на постели и даже заниматься любовью сможет.
— Любовью все любят заниматься, знаешь, — сказала она.
Потом Линда шутя поинтересовалась, не просил ли меня Амелио подыскать ему девушку.
— Я бы и сама прислала к нему кого-нибудь, но просто ни одной не знаю. Все мои знакомые — мужчины.
— А найдется девушка, которая согласилась бы пойти к нему?
— Почему бы и нет?
Тогда я сказал:
— Придется тебе пойти.
— Нет, я не хочу вести себя подло.
На другой день Линда спросила, когда я собираюсь навестить Амелио, и сказала, что тоже придет.
— Хочу послушать ваши разговоры, — сказала она. — О чем вы, мужчины, говорите между собой.
Я пришел к Амелио с гитарой, когда его матери не было дома. У него осталось немного вина, и мы выпили. Я положил гитару на кровать, он взял ее и стал перебирать струны. Я молчал, низко опустив голову, слушал, как струны звенят. «Если бы он умел играть, — подумал я, — он мог бы ходить на костылях по дворам и просить милостыню». И тут мне впервые пришло в голову, что все эти нищие, хромые, слепые, покрытые коростой старики, что стоят на углу улиц, были когда-то, как и Амелио, здоровыми, молодыми. Кто знает, задумывалась ли Линда над этим. Меня злость взяла, что она придет сюда сегодня.
Когда Амелио отдал мне гитару, я начал тихо наигрывать, словно был один в комнате, но постепенно так увлекся, что уже не мог остановиться, все играл и играл, и одна мелодия сменялась другой. Не знаю, понял ли Амелио мое настроение. Он был из тех, кому нравится слушать, как звучит гитара, смотреть, как быстро бегают пальцы, кого поражает ловкость исполнения, а не проникновенность. Он воспринимал мотив, но не красоту пассажа. И он все глядел на мои пальцы.
Вдруг я поднял голову и увидел в дверях Линду, она приложила палец к губам и с довольным видом усмехнулась.
Амелио приподнялся на локте.
Линда сразу же начала тараторить, что ее вот по утрам никто не будит игрой на гитаре, что мы с Амелио все делаем тайком, но теперь она хочет послушать, как я играю. Потом подошла к кровати, взглянула на Амелио, поправила одеяло. Заметила, что на полу стоит бутылка вина, но ничего не сказала. Я поднялся, чтобы она могла присесть на кровать.
— Чего это ты в такую рань пришла? — недовольным голосом спросил он. Потом снова лег и, казалось, успокоился.
Я понял, что мне надо уйти, да побыстрее, хотя теперь уже все равно. На шее у Линды был голубой шелковый шарф, и по комнате она ходила так уверенно, точно прожила здесь всю жизнь.
— Вы давно уже веселитесь? — неожиданно резко сказала она. — Научите и меня, как стать веселой. Ну а ты чего молчишь? — обратилась она ко мне. — Послушай, Пабло, ведь мы с тобой теперь на «ты», верно? Ты рассказал об этом Амелио?
Амелио молча смотрел в зеркало.
— Тебе неохота больше играть, да? — спросила Линда. — Пойду на кухню, приготовлю кофе. Буду оттуда слушать.
Она ушла на кухню. Гитара сразу стала какой-то тяжелой у меня в руках. Чего бы я не дал, чтобы оказаться сейчас на кухне.
— Поступай как знаешь, — сказал Амелио. — Если хочешь, поиграй еще.
Я сел на кровать и положил гитару на колени. Не играл, а лишь перебирал струны. Притворился, будто задумался и делаю это машинально. Амелио закурил сигарету. Из кухни доносилось позвякивание чашек. Потом Линда крикнула:
— Пабло, иди сюда, помоги мне!
Я столкнулся с ней в дверях и быстро взглянул на нее. В руках у Линды было две чашки, и она просила меня принести еще одну с кухни. Проходя, она задела меня бедром. Когда я вернулся, они уже беседовали.
— Тебе же лучше будет, если ты вместо вина будешь пить кофе.
— Да оставь ты меня в покое, — сказал Амелио.
Потом они заговорили о мотоцикле. Линда спросила, приходил ли к нему покупатель.
— Я сам сперва посмотрю, что стало с машиной, а потом уже буду с ним разговаривать, — ответил Амелио.
— У меня тоже нет ни гроша, — сказала Линда. — Кому хорошо живется, так это Пабло.
Она посмотрела на меня. Амелио тоже взглянул на меня.
— Что это ты не разговариваешь, не играешь, — смеясь, сказала Линда. — И на «ты» не хочешь со мной быть. Небось все думаешь, как помочь Амелио?
— При чем здесь это? — пробурчал Амелио.
Гитара лежала рядом на кровати. Я со злостью сказал:
— Так ты хочешь, чтобы я поиграл?
Снова зазвучала прежняя мелодия, но теперь я словно обезумел. Играл я негромко и сам не замечал, как бегали мои пальцы по струнам. И чем больше я играл, тем милее казалась мне мелодия, я наслаждался ею, но знал, что все это никому не нужно и что мне уже давно следовало уйти. Они слушали меня молча, и, когда я кончил, Линда скорчила гримаску. Амелио же сказал, что очень здорово у меня получилось.
— У тебя бывает желание потанцевать? — спросила Линда, взяв у него из рук чашку. — Помнишь, как мы танцевали у Джиджи под аккомпанемент гитары?
Амелио сразу оживился.
— Помнишь, — продолжала Линда, — было зверски холодно, все даже воротники подняли. А гитарист, чтобы согреть пальцы, окунал их в стаканчик с граппой.
— Тогда и улица вся обледенела, — сказал Амелио. — А ночью мы стали кататься на санках.
— Вот ведь сумасшедшие были. Вздумали в январе у самых ворот кататься на санках!
Линда подняла с пола газету и спросила:
— Ты что, газеты все подряд читаешь? — Потом сказала мне: — Он все туринские газеты выписывает.
Я посмотрел на нее, но ничего не ответил.
— А вот Пабло вроде меня. Он газет в руки не берет.
— Ничего не теряет, — бросил Амелио.
Я не знал, как поступить. Не знал, надоел ли я Линде и догадался ли обо всем Амелио. Я смотрел, как они оживленно разговаривали. Мне хотелось бы быть сейчас далеко отсюда, на берегу По. Я представил себе Линду и Амелию одних в этой комнате. Поднялся и сказал:
— До свидания. Пойду домой.
— Ты что, не хочешь, чтобы я оставалась здесь? — сказала Линда и сердито посмотрела на меня.
— А мне-то что. Мне надо идти, — грубо бросил я.
— Ты что, злишься на меня? — протянула Линда.
Я пожал плечами и спрятал гитару в футляр. Так бы и швырнул ее, чтобы она раскололась на куски.
— Дай мне хоть сигарету, — сказала Линда.
— Пачка на кровати. — И я ушел.
Остаток утра я провел, бесцельно блуждая по улицам. Моросил дождь, под ногами хлюпала грязь. В конце концов я очутился на окраине Турина, на какой-то заброшенной улочке, и мне вспомнилась та ночь, когда мы бродили с Линдой и как она остановилась на маленькой площади и сказала: «Но почему мы гуляем вдвоем?» Теперь и не вспомнишь, что это была за площадь. Я замедлил шаги. Улочка была пустынной, вокруг ни души.
Все же Линда зашла ко мне в магазин и оставила записку. Она написала лишь, что, когда дурь у меня пройдет, не мешало бы навестить Амелио, а то он совсем один. Писала она наспех, тут же на прилавке, значит, рассчитывала застать меня дома.
К Амелио я не пошел и все эти дни почти не выходил из магазина. Вечно торчал у двери и выкуривал сигарет больше, чем продавал. Но нередко туманным или солнечным утром я представлял себе, как Линда подымается по лестнице к Амелио, как они весело болтают вдвоем, Линда поправляет ему одеяло, потом обнимает его и целует. Потом мне слышался ее голос, когда она, желая утешить его, говорит: «А помнишь?» Может, они и сейчас спят вместе. По вечерам я уходил из дому то с одним, то с другим приятелем, иногда с Ларио, иногда еще с кем-нибудь. Мы шли к женщинам или в кино; я ни с кем больше не говорил об Амелио, а если кто-нибудь заговаривал о нем, я молчал. А про себя думал: «Все это зря, ведь Линда просто дура». Но в душе я понимал, что Линда вовсе не дура и что она, в сущности, предпочла калеку Амелио мне, который, как всякий пропойца, только и умеет что бренчать на гитаре. И все-таки я упорно ждал, уверенный, что она никогда больше не придет.
Но она пришла, и лицо у нее было радостное. Она смело вошла в магазин — там никого не было — и спросила, прошла ли у меня блажь. В этот момент вернулась мать, и Линда, сразу же приняв озабоченный вид, стала покупать марки. И такое она сделала серьезное лицо, что моя мать ее не узнала. «Вот, — подумал я, — в этом вся Линда». Но потом она попросила проводить ее до двери и сказала, что с тех пор так и не видела Амелио. На шее у нее был повязан все тот же голубой шарф.
— Хочешь, пойдем вечером прогуляемся? — сказала она.
Ill
Так мы снова стали гулять с ней по вечерам, и теперь уж только вдвоем, без всяких знакомых. Линда знала много всяких местечек в долине, куда парочки добирались на машине; понятно, это стоило немного дороже, но зато можно было не беспокоиться, что вас здесь узнают, что вдруг появится Ларио или еще кто-нибудь. Мы могли потанцевать, а потом сесть за столик и болтать. Однажды Линда спросила меня, нравятся ли мне здешние оркестры.
— Уметь самому играть, должно быть, приятно, — сказала она. — А ты и правда здорово играешь. В тот день я поняла, какой ты. Почему, бы тебе не захватить гитару сюда, в «Парадизо»?
— Ты с ума сошла. Нас выставят за дверь.
— Ну тогда пойдем потанцуем.
Потом притушили свет, и мы стали целоваться. Линда танцевала, тесно прижавшись ко мне и стараясь губами отыскать мои губы. Я давно чувствовал, что к этому идет, но с Линдой все выглядело по-иному. Не казалось чем-то запретным, просто трудно было быть рядом и не касаться ее.
Постепенно мы пристрастились к «Парадизо». Ходить туда пешком было холодно. Другое дело автомобиль или мотоцикл Амелио.
— Ты бывала здесь с Амелио? — спросил я ее как-то вечером.
— Я прихожу сюда всякий раз, когда удается.
— Одна приходишь?
— Здесь одна никогда не бываешь.
— Послушай, — сказал я, — расскажи мне, как вы с Амелио проводили время.
Линда, смеясь, взглянула на меня.
— Тебе мало, что мы здесь танцуем с тобой? По-моему, танцевать лучше, чем о ком-то говорить. — Затем сказала: — Жизнь у меня была беспокойная. Приходилось ездить в Новару, Салуццо, Казале. Иногда он возил меня на мотоцикле. Уезжали мы рано утром. Я обходила клиентов.
Линда рассказала, как познакомилась с Амелио. В тот год она ездила на Ривьеру, возила туда свои модели. Выкупалась в море и забыла на пляже свой голубой шарф.
— Великолепный шарф, теперь такого не найти, — сказала она. На следующий день она отправилась смотреть гонки и вдруг видит: навстречу ей идет длиннющий парень, а у него из-под кожаной куртки выглядывает небесно-голубой шелк. «Это мой шарф», — заявила она. Амелио вытащил его, понюхал и сказал: «Посмотрим, — потом наклонился к ней, вдохнул ее запах. — Верно».
Так состоялось их знакомство.
— Я не знал, что у Амелио такое тонкое обоняние.
— Амелио — парень что надо.
В тот вечер, танцуя, я все пытался уловить запах Линды, мне хотелось быть с ней у моря, греться вместе на солнце, а утром просыпаться и видеть ее рядом, потом садиться в поезд, разъезжать повсюду, работать и знать про нее все-все, какой она была с Амелио и какая она была в детстве, знать всю ее жизнь. Линда заметила, что пальцы мои дрожат, и тогда она протянула губы для поцелуя, потом взяла меня за руку, и мы вернулись за столик.
— Что с тобой? — Чуть покраснев, она взглянула мне в лицо.
В тот самый вечер, когда все произошло, Линда была очень взволнована. Вечером мы встретили Лубрани. Случалось, что в ресторанчике мужчины иной раз раскланивались с Линдой, но она никого не окликала. А этот подошел прямо к нашему столику и сказал:
— Вот ты где.
Линда ответила что-то и протянула ему руку. Он был в пальто, я успел заметить, что это толстый, красномордый детина с усами. Посыпались шутки, остроты, в конце концов мне пришлось поздороваться с ним, потом подошел швейцар, взял у него пальто. Он представился:
— Лубрани, — и уселся за наш столик.
Он разговаривал с Линдой и поглядывал на меня. Говорил он, а Линда смеялась. Он был из тех, чей разговор действует на женщин, словно щекотка. Он пришел сюда потанцевать и поглазеть на публику. Может, подвернется что-нибудь стоящее. Он провел рукой по волосам и сказал:
— Да, уже седые.
Линда сказала, что такого добра, которое он ищет, всюду хватает. Она смотрела на него во все глаза. Он испытующе взглянул на нее.
— Ты-то, как я вижу, уже кое-что нашла, — пробурчал он в усы. — Давай потанцуем немного.
Обняв его, Линда ободряюще помахала мне рукой; в смутной тревоге я смотрел, как они танцуют, вслушивался в музыку, в шорох их шагов. И еще я думал об обнаженных деревьях, о холодных дорогах, о танцевальных залах, о всех тех, кто смеется, наслаждается жизнью, о всех тех, у кого есть деньги. Но Линда была тут, рядом, в этом зале, скоро она вернется за столик, и мы непременно закончим наш разговор.
Танец кончился, но я не сразу увидел их. Потом услышал голос Линды. Подошла она, за ней Лубрани, а с ними какая-то блондинка. Они сели. Я подумал: «Вот эта ловит себе карася».
Лубрани объявил, что хочет отпраздновать встречу, и заказал ликер и сухое вино. Блондинку отыскала Линда, с которой они были на «ты». Линда называла ее просто Лили, старалась усадить рядом с Лубрани и даже сказала:
— Знала бы Клари!
Но Лубрани, усевшись за столик, только к Линде и обращался, а блондинку, которая все поглядывала вокруг, по-отцовски похлопывал по плечу. Теперь они вспоминали прошлое, как Линда приносила в театр пакеты и картонки, а Клари устраивала ей сцены ревности.
— Бедняжка, — вздохнула Линда. — Она все такая же красивая?
— Мне приходится держать ее дома. — Лубрани сердито посмотрел на меня, словно я был в этом виноват. Желая его задобрить, я улыбнулся.
— Но время от времени она от меня убегает, — продолжал Лубрани, — все еще хочет петь в театре. Теперь она, верно, в Неаполе.
Он предложил выпить и налил всем ликеру.
Заиграл оркестр. Лубрани поднялся, молча подал руку Лили, и мы все пошли танцевать.
— Где ты раздобыла этого типа?
— Он бывший хозяин театра, — шепотом ответила Линда. — Девочкой я разносила костюмы балеринам. Помню, он вечно торчал на лестнице и глазел на нас.
— Дурак. Еще почище твоей Лили.
— Денег он, однако, заработал немало. И он вовсе не такой уж дурак.
Тут Линда, видно, вспомнила о чем-то известном ей одной, потому что глаза ее так и заискрились от смеха. Ликер тут был явно ни при чем. Когда мы снова сели за столик, она посмотрела на меня, как прежде, и сказала: «Будь паинькой», — и коснулась моей руки.
— А что это за блондинка? — спросил я.
— Кто ее знает, — весело ответила Линда.
В эту минуту Лили и Лубрани, очень довольные собой, под руку подошли к столику. Лили остановилась, стараясь попасть ногой в соскочивший туфель. Лубрани поддерживал ее, чтобы она не упала.
— Оказывается, здесь не пьют и не танцуют! — вдруг вскричал он. — Линда, не узнаю тебя!
Я начал злиться. Я встречал таких вот типов, ткни их разочек хорошенько, они и полетят вверх тормашками. Однако в этом ресторанчике мне было как-то не по себе. Но все-таки я сказал:
— Нам вдвоем и посидеть неплохо.
Лубрани громко и весело расхохотался, глядя на меня своими налитыми кровью глазами. За компанию рассмеялась и Лили. Потом оба мирно уселись за столик.
Так прошел вечер, даже Лили развеселилась. Рассказывала, что весь день возится с собаками, купает их, подстригает, расчесывает, опрыскивает духами и отводит домой к хозяевам.
— С кобельками, наверно, особенно много возни, — вставил Лубрани.
Но Лили не поняла шутки, она уже слишком много выпила белого вина. Я молчал и не мешал им болтать. Линда и без меня справлялась. Время от времени мы танцевали. Когда моей дамой бывала Линда, я наклонялся к ней и шептал на ухо: «Вот и ты». Последний танец Линда танцевала с Лубрани. Вернувшись к столику, она сказала:
— Пошли домой.
На улице было ветрено, с холмов тянуло сыростью. Накрапывал дождь. Лили предложила:
— Давайте лучше останемся.
Все-таки мы уселись в автомобиль Лубрани. Шикарная машина.
— Поедем ко мне, догуляем, — сказал он.
Я устроился рядышком с Линдой и в темноте сжал ее руку, желая дать ей почувствовать, что все-все понял.
Лубрани жил на Торре Литториа. Он провел нас в большую комнату, похожую на залу, где мы только что были. В стенных нишах горели лампы, стоял большой стол, покрытый стеклом. Лубрани включил проигрыватель и поставил на стол бутылки.
Мы сели с Линдой на низенькую тахту. Танцевать мне уже не хотелось. Лубрани и Лили немного покружились посередине комнаты. Белокурая Лили, казалось, была просто создана для всей этой мебели, не то что Лубрани, под которым сотрясался пол.
— Если бы не дождь, — сказала Лили, — отсюда видны были бы все крыши Турина.
Потом Лили вдруг вскочила и побежала, Лубрани за ней.
— Потуши свет, — сказала Линда.
Мы выпили еще. Лили громко, пискляво смеялась. «Глупышка, — думал я, — неужели ей и в самом деле так весело?» Лили и Лубрани устроились в уголке. Было слышно, как они тяжело дышали. В темноте Линда сжала мне руку.
— Что ты? — почти смеясь, спросил я.
Я чуть было не шепнул ей: «А о чем сейчас думает Амелио?» Но промолчал, обнял Линду и позабыл обо всем.
Когда я поднялся, я не мог ничего разглядеть в темноте, и мне вдруг захотелось остаться одному. Чуть-чуть белело окошко. Я положил руку на лоб Линды и продолжал сидеть молча.
— Ты чем-то расстроен? — спросила она, но не пошевельнулась.
Я поцеловал ее и снова лег рядом.
Вскоре послышался голос Лили, звавший нас. Лубрани был в ванной комнате, его тошнило, он был весь в поту. Он с трудом стоял на ногах и все хватался за умывальник. Лили не могла одна справиться с ним. В ванной было много стекла, майолики и света.
Я сказал Лили:
— Что за скотина. До чего все это несправедливо.
Лили удивленно посмотрела на меня, словно я сказал глупость. Но потом мы оба расхохотались, сунули голову Лубрани под кран, и он наконец-то пришел в себя. Лили вышла из ванной своей танцующей походкой. Я оставил Лубрани сидеть на стульчаке — он тупо смотрел в пол и икал, — а сам вернулся с Лили в комнату.
Линда сказала:
— Покурим немного.
При свете комната показалась мне совсем незнакомой, точно я попал невесть куда. Лили курила, Линда молча сидела на тахте, на столе валялись опрокинутые бокалы — все стало неузнаваемым. Я невольно взглянул на тахту, на примятые подушки, на ноги Линды. Все молчали. Лили сказала:
— Уже светает.
— Дай мне выпить, — попросила Линда.
Мои губы еще чувствовали вкус ее губ. Я молча отпил глоток и протянул бокал Линде. Она взглянула на меня своими темными глазами, чему-то загадочно улыбнулась и выпила вино.
День еще не наступил, но ночь была на исходе. Хлопнула дверь и раздались тяжелые шаги. Появился Лубрани. Одежда его была испачкана, он держался за дверной косяк. Лубрани злобно взглянул на нас.
Лили бросила сигарету. Лубрани икнул, нетвердыми шагами прошелся по комнате и в конце концов плюхнулся в кресло.
— Пусть себе спит.
Линда вскочила с тахты и сказала:
— Проводи-ка Лили. А я уложу его и пойду домой. Тут всего два шага.
Лили уперлась.
— Нет, пошли все вместе. Ведь у нас один ключ.
— Ну хорошо, оставайся со мной, — ответила ей Линда. — Отправишься отсюда прямо на работу.
Тогда я сказал:
— Вот еще нежности. Он всего-навсего пьян. К утру проспится.
Мы вышли все вместе и прошли под пустынными портиками. Линда держалась чуть впереди, шаги ее гулко отдавались на мостовой.
— Мне сюда, — сказала она и исчезла в тумане.
Я взял Лили под руку. Некоторое время мы шли молча. Миновали сады, миновали район Дора.
— Все-таки несправедливо, — произнесла наконец Лили. — У Лубрани есть машина, но он спит дома, а мы вот должны идти пешком.
Она была неглупая, эта Лили. Она понимала, почему я молчу. Понимала даже, что сейчас мне хотелось бы побыть одному. Она остановилась и сказала:
— Послушай. Мне уже нечего опасаться. Да я и привыкла ходить по ночам.
— Да идем же, идем, — строго прервал я ее.
Потом мы шутили, говорили о Линде. Лили познакомилась с ней в «Парадизо». Она не сказала, с кем была Линда, да я и не спрашивал. Я испытывал невероятную усталость. Лили болтала без умолку. Я спросил ее, почему она ходит на танцы одна.
— Как почему? — удивленно переспросила Лили.
Неужели ей нравилось так вот напиваться с Лубрани?
— А ведь тебе скоро на работу, — сказал я. — Когда же ты спишь?
Лили чуть подпрыгивала на ходу и крепко держалась за мою руку.
— Успею отоспаться, когда состарюсь.
Так дошли мы до последней остановки. Это было уже где-то на краю города. Лили огляделась по сторонам и поблагодарила меня.
— Понятно, дом у меня не такой, как у Лубрани.
— Через два часа наступит утро, — сказал я.
IV
Будь сейчас лето, я бы встретил утро в полях. Мне было приятно, что я один, клонило ко сну. Я шел уже полчаса, а навстречу мне попадались только грузовики. Сначала из густого тумана раздавался их гул, затем мостовую освещал унылый свет фар. Шагая, я размышлял: «Никому и невдомек, что произошло сегодня ночью». Но я не должен больше думать об этом. Мне пришло в голову: что, если бы в темноте рядом со мной оказалась Лили?
Остаток ночи я скоротал в кафе у вокзала. Улицы были пустынны. Только это кафе и было открыто. Здесь вместо тумана клубился пар от кофеварки, с улицы врывался холодный воздух, пропитанный запахом угля и поездов. Боже, как мне все нравилось в это утро. Все еще спали, спала и Линда. Я смотрел на поднятые шторы, на окна, за которыми вот-вот забрезжит рассвет. Вот бы мне сейчас гитару!
Когда наступило утро, я отправился к Амелио. Мне нечего было делать до самого вечера. Я пошел к нему, чтобы рассказать все без утайки и успокоиться. Поднялся по лестнице. Дверь была заперта. Я постучал.
Открыла мать Амелио. Я подумал: «Если почувствую там запах духов Линды, все будет кончено». Вышла мать и резко сказала:
— У него гости.
Амелио позвал ее, она о чем-то переговаривалась с ним из кухни. Потом она крикнула:
— Входите, он разрешил.
Сегодня я пришел пораньше. Старуха вышла и закрыла за собой дверь.
В комнате на кровати Амелио сидела незнакомая худенькая девушка. На ней был дешевый дождевик и баскский берет. Она не была похожа на гулящих девиц — скорее, на тех, кто посещает вечернюю школу. Она взглянула на меня, чуть прищурившись, не двигаясь с места, и Амелио, который полулежал, привалившись к подушке, нехотя процедил;
— А, это ты!
Я натянуто улыбнулся и спросил:
— Может, лучше оставить вас вдвоем?
Окно было занавешено, одеяла в беспорядке, повсюду, и даже на полу, валялись газеты. Девушка держала в руке какие-то листки бумаги. Пахло несвежей постелью.
— Ты все пьешь? — спросил я Амелио.
На лице Амелио, как ни странно, появилось нечто вроде улыбки, но голос звучал серьезно.
— Ты, верно, не спал всю ночь? — спросил он.
— А что, разве заметно? — удивился я.
Если б не эта девушка, сейчас был бы самый подходящий момент рассказать ему обо всем. Кто знает, может, тогда все приняло бы другой оборот. Может, он в ответ пожал бы плечами, а может, промолчал. Что бы я сделал на его месте, право, не знаю. Но он впился в меня жадным взглядом, и я понял, что Линда к нему больше не приходила.
Девушка в берете безмолвно ожидала, разглядывая свои ногти. Я вспомнил о гитаре. Стал бы Амелио слушать ее сейчас? Я не мог смотреть ему в глаза. И сказал:
— Всю эту ночь я бродил по Турину. Только что с вокзала. Познакомился там с одной девицей, она стрижет собак и душит их духами. Мы ходили с ней в долину…
Оба ничего не ответили. Девушка покусывала ногти, Амелио ждал.
— …Я познакомился с каким-то болваном, от него жена удрала. Понимаешь, он платит за выпивку, но без закуски. У него собственная машина… Когда ты встанешь с постели? Закурить хочешь?
Оба не сводили с меня глаз и молчали.
— Ну ладно, — сказал я, — оставляю вас вдвоем.
— Пойди выспись, а потом уж кури, — заметил Амелио на прощание.
Девушка хотела встать — она похожа была на школьницу, — но Амелио сделал ей знак, и она осталась сидеть. Когда я был уже на кухне, мне послышалось, будто кто-то позвал меня, но это Амелио разговаривал с той девушкой. Я ощутил, как за моей спиной захлопнули дверь.
Дома я поругался с мамой и сестрой. За прилавок пришлось стать Карлоттине. А они и так всю ночь глаз не сомкнули. И ведь она отлично знает, что я ходил танцевать, и знает с кем. Я не стал с ней спорить и завалился спать.
Вечером в кафе пришла Линда. Она не спросила, выспался ли я. Молча уселась в угол и закурила. Смотрела на меня с тем же безразличием, что и на дым от своей сигареты. Когда я сказал, что хочу с ней поговорить, она даже не пошевельнулась. Смотрела на кольца дыма и молча выслушала меня до конца.
— Тебе мало того, что мы вместе? — спросила она.
— Я хочу зашибить деньгу.
— Ну, это не для тебя.
— Жизнь, которую я веду, — сказал я ей, — требует много денег.
— Если бы ты гнался за деньгами, — ответила Линда, — с тебя хватило бы магазина. Ты не за деньгами гонишься.
— А за чем же?
Линда в ответ только пожала плечами со знакомой мне недовольной гримаской.
— Что ты делал сегодня? — спокойно спросила она.
— Скажи, — продолжал я, — Амелио гнался за деньгами?
— Оставь его в покое.
— Сегодня я был у него.
Тут Линда поглядела на меня в упор.
— Ему лучше?
Я пожал плечами:
— Этой ночью, возвращаясь домой, я заглянул к нему.
Линда стряхнула пепел и тихо сказала:
— Зачем ты это сделал?
Я взял ее руку.
— Я пошутил — не ночью, а утром. У него были гости.
— Ты сказал ему?
Я стиснул ей руку и ответил:
— Нет.
— А хотел сказать?
— Не знаю сам. Да и что я мог ему сказать? О тебе он ни словом не обмолвился. А ты мне никогда не говорила, что у тебя было с ним.
— А если что и было, — спросила Линда, глядя мне прямо в глаза, — что изменилось бы?
Тогда я спросил ей в тон:
— А что может измениться?
Линда уставилась взглядом в стол, потом внезапно сказала:
— Пойдем отсюда.
Вскоре мы уже сидели в другом кафе.
— Почему ты сказала, что я не умею зарабатывать деньги?
— Потому что ты не зарабатываешь их.
— Просто нужно найти работу, вот и все.
— Нет, не все. Надо иметь страсть к деньгам.
— Я вовсе не собираюсь становиться миллионером. С меня хватит, если я смогу водить тебя на танцы.
— Видишь, значит, ты не гонишься за деньгами.
— Мне осточертела такая жизнь; я тоже хотел бы иметь мотоцикл и разъезжать с тобой повсюду.
— И вывалить меня в канаву, — улыбнулась она и посмотрела на меня. — У тебя есть гитара, — продолжала она. — Почему бы тебе не попробовать играть в оркестре?
— Сам не знаю.
— Я вот ничего не понимаю в музыке, не умею ни петь, ни играть. Но тебя ведь недаром прозвали Пабло, все уверяют, что ты прирожденный музыкант.
В этот вечер мы не пошли на танцы. Все говорили о прошлой ночи и о Лили, которая ходит в «Парадизо» без кавалера.
— Вот кто гонится за деньгами, — сказала Линда, — и подвернись ей какая-нибудь возможность…
— У нее чудесные вечерние туфельки.
— У Лили? Голодала, чтобы купить их.
Тогда я спросил Линду, почему это девушки так не любят друг друга. Линда засмеялась, но тут же нашлась:
— Ты даже заметил, какие на ней туфельки. Может, вы и целовались?
— А вы с ней похожи, — сказал я. — Ты тоже хочешь разбогатеть.
Я вспомнил, как в прошлом году шатался вечерами по городу с веселой компанией, а потом пел в остерии. Странно создан человек, подумал я. Сколько времени прошло, а кажется, что все это было вчера.
— Чему ты улыбаешься? — спросила Линда.
— Представляю, что сказали бы мои приятели с Корсо, если бы я вдруг разбогател.
— Но ведь ты немножко уже разбогател.
Мы посмотрели друг на друга.
— Тебе этого мало?
— Одно от другого неотделимо, — ответил я. — Идут рука об руку. Утром на вокзале я чувствовал себя счастливым. Мне даже не хотелось возвращаться домой.
Линда сказала:
— Тебе хмель в голову ударил. — Потом прибавила: — Куда же это ты заходил сегодня утром?
— Знаешь, кто у него был сегодня? — спросил я Линду. — Это ты поставляешь ему женщин?
— Каких женщин?
Я рассказал про девушку в берете. Линда только плечами пожала.
— Это обычные выдумки Амелио. Пусть себе делает что хочет.
— Она просто уродина.
Линда проговорила:
— Пойдем отсюда.
Мы вышли. На улице Линда сказала:
— Прижмись крепче, мне холодно.
Так мы шли, тесно прижавшись друг к другу, а когда я говорил, губы мои касались ее волос.
— Не зайти ли нам еще куда-нибудь? — предложил я.
Линда молчала и только сжимала мою руку.
— Верно, с Лили ты так же вот гулял тогда? — сказала она.
Я старался замедлить шаг, мне хотелось, чтобы улица эта тянулась бесконечно. Мы вышли на площадь и остановились.
— Может, пойдем в остерию? — сказал я.
Линда ответила:
— А ты ведь не знаешь, где я живу? Обещай, что сразу уйдешь, тогда зайдем ко мне.
Пока мы подымались по лестнице, кровь стучала у меня в висках. Я без конца целовал ее, здесь было совсем темно. Линда сказала:
— Входи.
Она зажгла свет в просторной и пустой прихожей. Там стоял только шкаф и пахло новой материей.
— Днем здесь работают портнихи, — сказала Линда. Потом погасила электричество. Из глубины сквозь стеклянную дверь лился слабый свет уличных фонарей. — Комната у меня не больше шкатулки.
Мы прошли через темную прихожую. Линда открыла дверь и включила свет. Я вошел вслед за ней.
В эту ночь она меня все наставляла: нужно жить спокойно и стараться ни от кого не зависеть. Ни от кого.
— Хорошо, что ты это понимаешь, — сказал я ей.
— Ну, мать и сестры другое дело, — ответила Линда. — Не надо себя так настраивать. — И добавила, что Амелио этого никогда не делал. Вот почему ему и удалось скопить денег на мотоцикл. — Можно пить, — сказала она, — и ходить куда угодно. Но если у тебя есть дом, то надо возвращаться домой. У тебя есть гитара, — продолжала Линда, — и магазин.
— Что толку? — сказал я. — Вот смотри, Амелио все потерял.
— Оставь Амелио в покое, ты ведь его не знаешь по-настоящему, — говорила Линда. — Амелио молодец, ты за него не волнуйся. Незачем себя так настраивать. И нечего его жалеть.
Я спросил, почему она не хочет признаться, что была близка с Амелио.
— Потому что это неправда, — ответила она. — Просто мы встречались, а больше ничего не было.
— Видела, что у него с ногами?
Линда сжала мою руку и промолчала. Я спросил шепотом:
— А у тебя он бывал?
— Не все ли равно, — сказала Линда. — Уж поверь, на твоем месте Амелио не стал бы задавать такие вопросы.
Потом она налила мне чаю, вскипятив воду на маленькой плитке. В комнате было темно, и только электрическая плитка бросала красный отблеск. Провожая меня, Линда не зажгла света. В дверях обняла и шепнула:
— Завтра в кафе.
И опять я уходил на рассвете. Трамваи еще не ходили, лишь слышался их отдаленный звон. Было очень холодно, фонари уныло раскачивались на ветру. Глядя на Торре Литториа, я подумал о Лубрани и о том, что он делает. Может, он снова напился. Чего только в этих особняках не происходит. Линда, наверно, сейчас уже уснула. «Так счастлив я уже никогда не буду!» — беззвучно кричало все во мне. Но площадь была безлюдна, я мог бы даже заорать.
На вокзал я на этот раз не пошел. На виа Милано была уже приоткрыта дверь кафе. Я завернул туда. Хотелось спать, но было так приятно покурить, вспоминая сегодняшнюю ночь. Я заказал молока, чтобы согреться и подкрепиться. Потом выпил рюмочку граппы.
Что изменилось, думал я, с того времени, как мы были детьми? Разве только то, что жизнь идет и что дом наш везде и нигде, как сказано в Священном писании. И что теперь я пью граппу, но и молоком не брезгаю. Интересно, любит ли Линда молоко? Тут я подумал, что у Линды, как и у всех женщин, должно быть свое молоко. Я представил себе ребенка, который сосет грудь матери, познавшей любовь. И как он пищит, если не дать ему грудь! А я сижу себе в кафе и посмеиваюсь.
Потом в кафе вошли несколько человек с покрасневшими от холода лицами. Какая-то женщина, за ней две зеленщицы с рынка в кожаных фартуках. Кто заказывал рюмку граппы, кто кофе с бренди. Вот появились носильщик и нищие, они топали ногами, чтобы согреться. Обычные лица, сколько их встречаешь на Корсо. Начало светать.
Возвращаясь домой, я все думал об этих людях. Одни работают, другие нет. Стоит ли лезть из кожи и трудиться не покладая рук, чтобы заработать побольше, если и носильщик и нищий, в конце концов, выглядят одинаково? Между теми, у кого нет крыши над головой, и теми, кто выползает на площадь на рассвете, нет большой разницы. У тех и у других озябшие лица, гусиная кожа.
Видно, Линда права, подумал я. Я не гожусь для того, чтобы зарабатывать деньги. Конец Корсо упирался в холм. Но Линда сейчас спит, и на этот холм она ходила танцевать с Амелио в такую же холодную ночь, когда играла только гитара и гитарист окунал пальцы в граппу, чтобы согреть их.
Я шел, и мне было холодно. Помню, проходя мимо новой тюрьмы, я посмотрел на толстые стены и подумал: «Интересно, в камерах тепло или нет?» Тут я увидел тюремную машину, которая подъехала к воротам, стражники открыли дверь. Я чуть-чуть замедлил шаг. Мне никогда не приходилось видеть, как людей сажают в тюрьму. Чего только не бывает на свете. «Неужели в такой ранний час тоже сажают в тюрьму? — думал я весь остальной путь. — Кто знает, дают ли в тюрьме молоко».
V
Как-то я встретился с Ларио после полудня, а потом провел с ним вечер. Днем мы вместе отправились на велосипеде в Сан-Мауро, ему нужно было отвезти заказ одному клиенту. Была суббота, и Ларио был свободен. Я тоже был свободен, так как Линда мне сказала: «Уходи, сегодня я хочу побыть одна. Увидимся завтра».
Ларио понимал, что со мной что-то происходит, и потому, когда в Сасси я вдруг вырвался вперед, он, догнав меня, молча поехал рядом, не задавая никаких вопросов. Я мчался как сумасшедший и, несмотря на холод, весь взмок; мне хотелось проверить, на что я гожусь. И вот так, отрываясь от Ларио, который неотступно следовал за мной, несясь по шоссе, расстилавшемуся впереди, я словно оставлял у себя за спиной все свои мысли и весь этот день и уже думал только о том, что ждет меня завтра. В Сан-Мауро, присев на насыпь, мы подкрепились колбасой и потом глядели на темнеющие вдали холмы, где, по словам Ларио, когда-то охотился его дед с доном Боско. Но мне больше нравилась По, и я любовался ее прозрачными водами и не мог поверить, неужели это та же самая река, что в Турине. Солнце зашло, и Ларио сказал:
— Умей я играть на гитаре, я бы играл с утра до ночи.
— А я так и делаю, — ответил я. — Каждое утро играю полчасика.
— Но ведь утром тебя никто не слушает, — сказал он, — какая тебе прибыль?
Когда мы возвращались домой, еще больше похолодало.
— Знаешь, — сказал Ларио, — девушки обижаются. Почему ты больше не гуляешь с ними? — Ларио всегда говорит спокойно. Потом помолчит, немного поразмыслит. Он парень упрямый. — Ведь не станешь же ты уверять, что и по ночам сидишь у Амелио.
— Ночью я брожу по Турину. — Мне даже стало весело. — Прогуливаюсь, играю на гитаре и пою, — сказал я, — потом обхожу народ с шапкой и собираю деньги.
В этот вечер мы с Ларио зашли в остерию, и я захватил с собой гитару. Меня там не ждали, но встретили шумно, как всегда. Потом почти все стали танцевать, кто-то хлопнул меня по плечу и сказал:
— А ведь ты бы, пожалуй, сыграл лучше, чем они.
Те, кто не пошел танцевать, затеяли спор. Мнения разделились: одни утверждали, что, когда танцуешь, нужно слушать музыку, другие говорили, что это ерунда и на музыку не обращаешь внимания. Я молчал, а затем объявил, что во время танца меня интересует только партнерша, музыку же лучше слушать, когда ты один. Потом взял гитару и стал что-то наигрывать, прислушиваясь к разговорам.
Разве предполагал я вчера, что снова буду сидеть за этим столиком? Я подумал, что Амелио тоже вот так коротал здесь вечера, когда не встречался с Линдой. И я сидел за столиком тихо, как он, и раздумывал обо всем. Я представлял себе, как он выходит на костылях из дому, идет, подходит к нашему магазину. И говорит: «Сегодня вечером», останавливаясь на пороге, чтобы не подыматься по лестнице. Спрашивает у Карлоттины: «Где Пабло?» И вот мы, как я сегодня, входим в остерию. Я вижу гримасу презрения на его лице, прилипшую к губе сигарету, вижу, как он наносит мне резкий удар в челюсть, точно пса тычет в морду. «Негодяй! — кричит он. — Убирайся отсюда!»
Потом я подумал: «А что, если бы я пришел сюда с Линдой?» Амелио уж наверняка не привел бы Линду в нашу компанию. Меня охватила ярость оттого, что весь вечер я думаю только о ней и об Амелио, и я сказал приятелям, которые играли в карты: «Выпить охота», — и взял в руки гитару.
Ларио и Мартино слушали меня, прислонившись к подоконнику. Для начала я сыграл быстрый танец. Принесли вино, и мы втроем выпили. Келино, не отрываясь от карт, обернулся:
— Угостили бы и нас!
Я не играл здесь с того дня, как разбился Амелио. Но я наперед знал все, что они скажут. Знал, что, когда они начнут петь, кто-нибудь крикнет: «Либо в карты играть, либо петь»; что потом будет ораторствовать Келино, за ним другие и наконец закажут еще вина. Все мне было заранее известно. Напиться бы поскорее да уйти.
Я поиграл еще немного, и скоро все перебрались за наш столик. Мне припомнились слова Линды, что надо бы мне попробовать свои силы в оркестре. «Пожалуй, попроси я сейчас у них денег за игру, мне бы тут же раскроили череп бутылкой». За игру на гитаре не платят. Это ведь такой пустяк. Мое обычное развлечение, когда я не с Линдой. У меня заныло под ложечкой, словно от удара кулаком, и я играл, чтобы эта щемящая боль прошла, пил, чтобы она снова вернулась, и мне до смерти хотелось встать, выйти на улицу, бродить до самого утра.
Но единственный верный путь забыть обо всем — напиться. Все говорили, кричали и умолкали, лишь когда я начинал играть не знакомую им мелодию. С минуту они слушали, потом снова принимались болтать. Один лишь Мартино, совсем еще мальчик, стоял у окна и слушал за всех.
«Этот бедняга кончит вроде меня, — думал я. — Как знать, кто будет его Линдой?» Но, увидев его мозолистую руку с огрубевшими пальцами, черными от въевшейся в кожу металлической пыли, я понял, что у него судьба иная. «Будь он на моем месте, он тоже мучился бы. Но теперь путь его ясен». Я поднял стакан и подмигнул ему, как некогда мне Амелио. Мартино в ответ улыбнулся одними глазами.
Об Амелио не было разговора. Никто не навещал его, и никто даже не спросил меня, вижусь ли я с ним. Зато надо мной подшучивали из-за Линды. Имени ее никто не знал, но меня видели с ней на Корсо. В конце концов я сказал:
— Да отстаньте вы! Лучше скажите, не нужен ли кому-нибудь хороший гитарист?
— А мы его задаром имеем, — сказал Келино. — Какой дурень станет платить за то, чтобы послушать гитару?
Меня просто бесили его слова. Кто-то сказал:
— Будь это в Неаполе, ты мог бы играть в Марекьяро.
— Слушать небось вы его любите, — резко сказал Ларио. — Когда Пабло не приходит, уж как вы его честите.
Пусть себе препираются! Я знал, чем все кончится. И начал наигрывать: «Тарантелла, тарантелла». Скоро все умолкли и окружили меня. Все-таки хорошо, когда умеешь играть: люди и не хотят тебя слушать, а музыка их увлекает. И еще хорошо, когда кончишь играть, а тебя просят: «Сыграй еще!» А ты притворяешься, будто тебе надоело. Тут надо быть артистом. Но всегда находится кто-нибудь, кто просит поиграть еще — ему, мол, моя игра нравится, — а как начнешь играть, даже не слушает, думает о чем-то своем. И если тебе не удастся сразу же его увлечь, ты остаешься в дураках.
Что ж, утро вечера мудренее, и, когда на следующий день я увидел на углу улицы Линду, спокойствия моего как не бывало. Пожалуй, в Сан-Мауро мне и то полегче было. Но она была в хорошем настроении, и у меня отлегло от сердца. Линда сказала, что Лубрани ждет нас к завтраку.
— Как же быть? Меня дожидаются дома.
Линда обошлась со мной как с мальчишкой.
— Если уж ты не ночевал дома, — сказала она, — неужели не можешь провести с нами утро? Ведь я для тебя же стараюсь. Лубрани хочет послушать, как ты играешь.
— Но ведь его дом не остерия.
Линда рассердилась:
— Ты просто дурак!
Потом сказала, что у Лубрани есть дома и гитара, и другие инструменты.
Я позвонил в бар на Корсо, чтобы предупредили моих домашних. Выходя из лифта, я спросил у Линды:
— Как он там, протрезвился?
— Помолчи, пожалуйста, — сказала она.
— Надеюсь, никого посторонних не будет?
— Конечно, нет.
Дверь нам открыла красивая девушка и сказала:
— Заходите.
Она провела нас в уже знакомую мне комнату. И сразу я вспомнил все, что произошло в ту ночь. Нет, это невозможно. Странно еще, почему Линда, которая с Лубрани на «ты», до сих пор не бросила меня. Линда подошла к огромному, как зеркальная витрина, окну и стала смотреть на крыши домов.
Вошел Лубрани, он был в очень светлом костюме; если б не эти усы и налитые кровью глаза, он мог сойти за молодого человека. Мы расположились за покрытым стеклом столиком, пили ликер, закусывали; Линда ела и без умолку болтала, он смеялся, не переставая жевать. Та красивая девушка не показывалась, стол был накрыт заранее. Я хотел спросить про Лили, но сдержался. В это утро Лубрани вел себя куда приличнее. Он слушал меня спокойно и даже любезно передавал блюда.
О гитаре разговора не было. Лубрани сказал, что на днях собирается в Геную, а Линда спросила:
— На машине?
К концу завтрака он стал называть меня Паблито, потом сказал:
— Может, прокатимся?
Мы уселись в его «ланчу», и он все повторял:
— С вами я и сам становлюсь моложе.
— Давайте поедем на Авильянские озера, — предложила Линда.
Мы поехали к озерам. На полпути, когда машина нырнула в туман, я спросил Линду:
— Вы тогда здесь разбились?
Она скорчила недовольную гримаску.
— А как же гитара? — вдруг вспомнила она.
Лубрани вел машину и прислушивался к разговору.
— На озере есть и гитары и все, что хочешь. — Потом, не оборачиваясь, добавил: — Я знаю, вы, музыканты, не очень любите играть на чужом инструменте.
Линда сказала:
— Да ну, ерунда.
По этой самой дороге я в прошлом году ездил на велосипеде. Мы сошли на площади, огляделись вокруг. Потом, предводительствуемые Лубрани, направились прямо в кафе. Я вспомнил Сан-Мауро. Лубрани заказал бароло. Мы поднялись по деревянной лесенке и расположились наверху в отдельном кабинете, где были камин и софа. Сюда не долетали голоса сидящих внизу, в зале.
Было еще рано, и мне казалось, что за окном моросило. На стене висела большая картина, на которой была изображена темнокожая улыбающаяся женщина в неаполитанском костюме, стояла она подбоченясь, точно готовилась пуститься в пляс. Линда сказала Лубрани:
— Вели затопить камин.
Пока мы пили, мальчик-слуга все поглядывал на нас. Лубрани сказал:
— Ты еще молод, Пабло, и не знаешь, что бароло пьют всегда втроем.
— Нет, не знаю, — сухо ответил я.
— Какое чудесное вино! — сказала Линда.
Когда мальчик ушел, я почувствовал себя увереннее. Линда, словно в танце, легко кружилась по комнате с бокалом в руке. Потом упала в кресло, но вина не пролила.
— Теперь Линда расскажет нам, какое вино пьют зимним днем в часы любовного свидания. В таких вещах знают толк только женщины. Ну, Линда, отвечай же. Вот в такой день, как сегодня, когда снег на дворе?
Линда, откинув голову на спинку кресла, не задумываясь, ответила:
— Пьют то, которое окажется под рукой.
— Нет, нас ты не проведешь. Отвечай честно.
— Раз бароло пьют втроем, давайте пить бароло, — сказала она.
— Ты бывала здесь раньше? — спросил я.
Она пожала плечами. Лубрани сказал мне:
— Линда всюду побывала.
Через матовые стекла с трудом пробивался белесый свет. Я поднял голову и посмотрел на картину. В отблесках пламени неаполитанка, казалось, танцевала. Линда заинтересовалась, что это я так упорно разглядываю, и тут даже подскочила в кресле.
— А гитара?
Мы позвонили, и мгновенно появился мальчик.
— Гитару! — приказал ему Лубрани.
Мальчик не понял и продолжал стоять.
— Живо разыщи гитару. Должна же здесь быть гитара.
Мальчик испуганно поднял на нас глаза.
— Я желаю играть на гитаре! — рассвирепев, заорал Лубрани.
Ему пришлось спуститься вниз, чтобы переговорить с хозяйкой. Линда бросила сигарету и поглядела на меня. В глазах у нее играли отсветы пламени. Но я не успел ничего предпринять, как Лубрани уже вернулся.
Было еще не поздно, и вдруг мгновенно надвинулся вечер. Как хорошо было смотреть на огонь, пылающий в камине. Из окна тянуло холодом, я стоял у портьеры, и мне представилось, что я с улицы наблюдаю, как в этой комнате трое распивают бароло. Но Лубрани опять обратился ко мне. Он все рассказывал о бароло.
— Ведь вот приходит такое время, когда вам хочется побыть вместе. Поуютнее устроиться в комнате и провести вечерок втроем. Ну что ж, валяйте, пейте из одного бокала, — говорил он. — Такие забавы всем нравятся. И весело, и обстановка подходящая.
Линда засмеялась и сказала ему: «На, выпей». Она поднесла ему бокал, и он, вытянув губы, стал пить, стараясь не пролить ни капли, затем, как на балу, с изящным поклоном передал бокал Линде, и та, заливаясь смехом, тоже отпила немного.
— Ты, Паблито, смотришь на нас свысока, у тебя нет, как у меня, этого. — И он дотронулся до своих седых волос. — Ты ведь хорошо знаешь Линду, да? Линда хуже всякого палача, — добавил он. — Она нас всех загонит в гроб, молодых и старых. Одно в ней хорошо: держится, как настоящая синьора.
Линда поднялась, подошла к окну и стала рядом со мной. Обняла меня за шею и спросила, глядя мне в глаза:
— Может, сядем? — Она притянула меня к себе, словно собираясь танцевать. Лубрани что-то говорил, мы сели, и губы Линды были совсем близко от моего лица. Так мы и сидели с нею в полутьме.
Лубрани все болтал и потягивал вино. У него горели глаза, но он не был пьян. Ему, видно, нравилось смотреть, как мы сидим, обнявшись; он облизывал губы и все рассуждал о том, как приятно сидеть втроем в уютной комнате.
— Зимой лучше места и не сыщешь, чем такое вот провинциальное кафе. Здесь все чинно, благородно. Что там Венеция, Ривьера! Здесь можно по-настоящему насладиться жизнью, выпить. Да, Паблито, вот это жизнь. Но все не так-то просто…
Наконец мальчик принес гитару. Лубрани заказал кофе:
— Чтобы приятнее было слушать.
Подали кофе, принесли вино.
— Не зажечь ли свет?
— Не надо. — Я остался сидеть на своем месте. Настроил гитару. Линда слегка отодвинулась от меня и стала слушать.
Я играл как-то напряженно, точно на уроке. Этот проклятый Лубрани все понимал. Немного погодя он начал мне подпевать. Я внимательно следил, не поведет ли он ее танцевать. Линда уже начала притопывать. После каждой мелодии они восклицали «браво», а Лубрани протягивал мне бокал.
— У тебя талант, — подбодрил он меня в темноте.
Я представлял себе, что меня слушает Амелио. В освещенной лишь пламенем камина комнате мелодии рождались сами собой. Порой я пропускал какой-нибудь пассаж.
— Э, нет, — говорил Лубрани, — нас не проведешь.
Как бывает в таких случаях, немного спустя ему самому захотелось играть. Он стал небрежно наигрывать песенки. И все спрашивал: «А эта тебе знакома, а вот эта?» Начал играть «Голубку», потом «Небо и море». Но пальцы его плохо слушались, и это было заметно. Линда сказала:
— Ну, пожалуй, хватит.
Мы допили вино и вышли на площадь. В небе уже блестели звезды. Решили поужинать на озере.
— Как-никак, сегодня воскресенье! — сказал я.
Мы медленно ехали на машине вдоль озера. Линда все восклицала: «Как красиво!» Даже Лубрани поворачивал голову и смотрел на камыши, на стлавшийся над водой туман. Похолодало. Дул пронизывающий ветер.
Лубрани вел машину и говорил о своей поездке в Геную:
— Знаешь, кого я там увижу? — Он назвал не то Ферреро, не то Карлетто, и Линда сразу же вырвала у меня руку. Она стала колотить его кулаками по спине и кричала:
— И я хочу в Геную!
— Ну что ж, поедем, — сказал Лубрани. — Отправимся все вместе.
За ужином они без конца говорили об этом Карлетто; потом мы вернулись в Турин и закончили вечер в «Парадизо».
VI
Помню, в ту пору я часто внезапно просыпался среди ночи, думал о Линде, и мне казалось, что она рядом со мной. Потом я лежал с закрытыми глазами и думал о другом; я чувствовал себя как ребенок, который что-то натворил, совершил что-то ужасное и теперь все пропало, я остался один как пес. Я боялся пошевелиться, мне хотелось бы не просыпаться, умереть. И даже мысль о том, что когда-нибудь Линда будет со мной, будет рядом, не приносила мне утешения. Просто мне было жалко себя. Я был точно младенец, которого положили голышом на стол, а мать и сестры ушли из дому. Я накрывался с головой одеялом и лежал так, охваченный отчаянием.
Я думал, что, может быть, это просто усталость. И почти всегда, когда я вот так, не двигаясь, лежал на кровати, мне начинало казаться, что я стал таким же калекой, как Амелио, и никогда больше не смогу выйти из дому; так, в детстве, бывало, закроешь глаза и представляешь себя слепым. Потом мне казалось, что я ковыляю на костылях, полумертвый от усталости. Я щупал свои ноги и думал о Линде, о том дне, когда Амелио обо всем догадался. «Что я наделал!» — все твердил я про себя. Швырнуть бы эту гитару об стенку. Стать бы кем-то другим, исчезнуть.
Как-то утром мы с Линдой и Лубрани отправились на машине в Геную. Дома я сказал, что еду туда узнать насчет работы, встретиться с нужными людьми, мол, один человек хочет послушать, как я играю на гитаре, а такой случай нельзя упустить.
— Чего же ты гитару с собой не берешь? — спросила сестра.
— Куда тебя нелегкая несет? — сказала мать.
Они сунули мне в карман сто лир. Я надел серое пальто, повязал горло шарфом и, счастливый, выбежал из дому.
У Линды пылали щеки, она была простужена: сидела закутанная в одеяла. Я устроился впереди, рядом с Лубрани, и порой помогал ему вести машину. Я поминутно оглядывался на Линду.
— Не волнуйся, никуда она от тебя не убежит, — сказал Лубрани.
Было прохладно и сухо, ярко светило солнце, и казалось, дорога что-то напевает. Я тоже мурлыкал себе под нос и на первой же остановке угостил всех кофе. Назад, к машине, я возвращался вместе с Линдой, впереди шествовал Лубрани.
— Карлетто, наверное, ждет нас не дождется? — сказал я Линде.
— Еще бы. Он сидит без гроша.
Этот Карлетто был актером и раньше выступал в театре, куда Линда привозила костюмы. Я подумал, что он, наверно, молодой, приятный и толковый парень. Лубрани сказал:
— Кто слишком хитер, тот в дураках остается.
Я тихонько спросил у Линды:
— Знакомых у тебя, видно, не перечесть?
— Да, немало, — ответила она, — я никого не растеряла. Со всеми в дружбе.
Я старался и вида не подать, что никогда еще так далеко не ездил. Что я до сих пор в жизни видел, кого знал? Где бывал? Иногда я думал: «Сколько же на белом свете разных людей, особенно бедняков, о которых никто даже не ведает». И мне хотелось все бросить и вскочить в первый попавшийся поезд, и я готов был кричать. К черту гитару, к черту эту табачную лавку! Надо жить, как Амелио. Как все люди.
За Нови мы остановились на горке — размять затекшие ноги. Я постоял чуточку, радуясь солнцу и простору. Тут даже растения были маленькие и какие-то скрюченные, я таких никогда прежде не видывал. Линда спросила:
— Где это мы находимся?
В Геную мы приехали голодные, но довольные. Лубрани пошел в кафе искать Карлетто. В кафе было много солнца, людей, было накурено. Я спросил у Линды, которая пила кофе:
— А где здесь порт?
— Там, где вода, — ответила она.
Потом, когда мы отправились обедать, я увидел, что одна из улиц словно обрывается в пустоту, казалось, прямо за горой встает небо. Оно прозрачно-голубое. «Оно так низко?» — подумал я. Меня поражало, что прохожие спокойно идут себе по улице и никто из них не взглянет вниз. «Что за люди в Генуе, — удивлялся я, — они даже не понимают, какое это счастье жить у моря».
Когда в одном из переулков мы зашли в остерию, где было тепло и уютно, к Линде вернулось хорошее настроение. Она ела с таким аппетитом, что на нее приятно было смотреть. Вместе с Лубрани она заказывала всякие изысканные блюда, и официант носился без устали. В самый разгар пира появился Карлетто.
Он был горбун и все время смеялся, мы усадили его за свой столик. В его глазах и во всех повадках было что-то мальчишеское. «А это кто такая?» — спросил он, когда Линда протянула ему руку. Потом он узнал ее, и с этой минуты веселый горбун то и дело старался ее поддеть.
Они отпускали друг другу «комплименты»: Карлетто восторгался тем, что она так выросла, а Линда тем, что он так хорошо зарабатывает. Тем временем ему принесли закуску, и он принялся за еду, не переставая курить и смеяться, напряженно-нервный, как кошка.
С тех пор немало воды утекло, и мне довелось встречаться с самыми разными людьми; я видел потом Карлетто уже не улыбающимся, но тот день мне запомнился так отчетливо, словно это случилось вчера. Не знаю уж почему, но я решил, что Карлетто родом из Генуи, вероятно, потому, что глаза у него были светло-голубые, как море. Но когда ему объяснили, кто я такой и что я играю на гитаре, он, на лету уловив мои мысли, сказал:
— Я начинал свою карьеру в «Меридиане».
У него была крупная голова, курчавые волосы. Я заметил, что он вовсе и не смеется, а, скорее, ухмыляется. Он не говорил: «Да уж насмотрелся я», — а все повторял: «Сами знаете, как бывает». Лубрани он подмигнул и сказал:
— Ешь, тебе это полезно.
Он был горбат, кривобок и весь как на пружинах. Я слушал его, словно завороженный, ведь подумать только, они с Линдой знают друг друга с детских лет. Я бы дорого дал, чтобы узнать, какая была Линда девочкой. Сама она рассказывала мне, что день-деньской разносила в коробках заказы и однажды какой-то старичок остановил ее на улице и сказал: «Пойдем ко мне, наешься сладостей до отвала»; а у ворот ее каждый раз поджидал юноша, просил отнести записку какой-нибудь девушке и совал в руку четыре сольди и все ждал благосклонного ответа. Рассказывая мне об этом, Линда заразительно смеялась. То была другая, не знакомая мне Линда. Я хотел понять, что же в ней сейчас осталось от прежней Линды. Кое-что рассказывал Карлетто, не переставая жевать и дымить сигаретой.
— Ты, Лубрани, многим сумел задурить голову, но только не Линде. Ее тебе не удалось сбить с толку. Помнишь, Линда, сколько раз он убеждал тебя, что ты можешь стать балериной или певицей, сделать себе имя.
— Он даже говорил, что повезет меня в Париж учиться.
— Вот негодяй!
— Но ведь я хотел сделать из нее артистку, — сказал Лубрани. — Ты, Карлетто, это знаешь. Да и теперь еще не поздно.
— Мы прощаем тебе, что ты хотел соблазнить Линду. Это пустяк! Так и быть, прости его, Линда. Но когда он возьмется за ум, надо будет ему втолковать, что уж лучше быть содержанкой, чем шлюхой.
— Помнится, меня смущали его слова, — сказала Линда.
— В пятнадцать лет ты не клюнула на его приманку. Эх, Лубрани, тут ты просчитался, не на такую напал. Твой номер не со всеми проходит.
Лубрани улыбнулся в усы и заказал еще ликера.
— Ты, Карлетто, все-таки попридержи язык, — предостерег он его, — ведь Линда тут с Пабло.
Тогда-то Карлетто и спросил, кто я такой, и, обратившись ко мне, сказал:
— Я начинал в «Меридиане».
— А я никогда не пел и не выступал на сцене, — сказал я.
— Может, это и к лучшему, — сказал Карлетто. — Сам я из Ванкильи, и все мои друзья туринцы. В детстве я играл на фисгармонии.
— А теперь организовал свою труппу, — поддела его Линда. — Как идут дела?
— Сами знаете, как оно бывает.
Я уже слышал от Линды, что в Сан-Ремо он поплатился за свой острый язык: с ним разорвали контракт. В этой истории были замешаны один из фашистских главарей и его любовница. Ему досталось и от фашистского профсоюза и от квестуры, и он всю осень промаялся без работы.
— Пришлось-таки хлебнуть горя, — сказал он.
Пиджак на нем лоснился, впрочем, и лицо тоже. Две глубокие морщины залегли в углах рта, и поэтому казалось, что он все время усмехается.
— Знаешь, — сказал он, обращаясь к Линде, — ревю, в котором мы сейчас выступаем, писал скотина, каких мало. Даже евреев туда приплел.
— А я рад, что тебя учат уму-разуму, — сказал ему Лубрани и поглядел на нас с Линдой. — Твое призвание — смешить публику. Комик, да еще горбун — лучше и не придумаешь.
— Тебе-то, видно, горбуны не нужны, — усмехнулся Карлетто. — Иначе ты бы давно пригласил нас в Турин на гастроли.
Тут они заговорили о контракте, и Лубрани сразу преобразился. Он бросил окурок в пепельницу и не дал нам больше выпить ни рюмки. Линда курила, равнодушно уставившись в потолок. И только Карлетто продолжал возмущаться, ища в нас поддержки, и не переставая грыз орехи. Немного спустя я спросил Линду, не хочет ли она пойти прогуляться.
— Так ты и в самом деле собиралась стать артисткой?
Мы шли по улочке, такой крутой, что казалось, будто мы на гору взбираемся. Линда засмеялась и протянула в нос:
— Это Лубрани настаивал. Вот дурень-то.
Тогда я сказал, как мне досадно, что я не знал ее девочкой.
— Думаешь, я какая-нибудь особенная была?
— Чего бы я не дал, чтобы встретиться с тобой раньше. Ведь у тебя столько знакомых было, почему же я не знал тебя? Это правда, что ты сама не захотела быть артисткой?
— Что ж, по-твоему, я должна была петь, если не умею? Я вовсе не такая восторженная дурочка.
— Видишь, выходит, я прав, что не пытаюсь зарабатывать игрой на гитаре.
Мы очутились на улице, которая нависала над морем, как балкон. Позади высился холм, словно сложенный весь из домиков и ступеней. А впереди где-то внизу голубело, как и прежде, море.
— Но ведь ты умеешь играть, — сказала Линда. Она увидела море и тоже остановилась. — Давай покурим, — сказала она, подойдя к балюстраде. Мы закурили и посмотрели вниз. — Ну и денек, — сказала она. — Вчера шел снег, а сегодня светит солнце. Знаешь, Карлетто меня раздражает.
— Как, по-твоему, — спросил я, — море меняет цвет, когда идет снег?
Мы оба рассмеялись.
— Я море только в кино и видел, — сказал я. Пахнуло теплым ароматом, как в саду. — Неужели у моря и впрямь такой запах? — Потом я добавил: — Какой же Карлетто болван, что хочет уехать отсюда.
Линда спросила:
— Тебе нравится Карлетто?
— Послушай, — сказал я ей, — давай приедем сюда летом. Но нужны деньги. Я хочу работать, чтобы нам с тобой не расставаться. Может, у тебя в ателье найдется для меня хоть какая-нибудь работенка. Ведь я могу объезжать заказчиков, исполнять всякие поручения. Справлялся же с этим Амелио, справлюсь и я. Я хочу быть с тобой днем и ночью.
Линда позволила мне поцеловать ее, но не в губы, а в глаза.
— Пойдем выпьем кофе, — тихо сказала она.
В кафе мы снова заговорили о Карлетто.
— Неудачник он, — сказала Линда. — Сколько раз этот Карлетто по собственной глупости оставался без работы. Он и Лубрани, не стесняясь, всю правду выкладывал. Наконец устроился было хорошо, так нет же, не поладил с фашистами.
— Но ведь сейчас он снова выступает.
— Кто не угодил фашистам, тот человек конченый. Послушай, — сказала она, взяв меня за руку. — Обещай, что никогда не пойдешь против них.
Взгляд у нее был испуганный. Я так и не понял, шутит она или говорит всерьез. Чтобы успокоить ее, я тоже улыбнулся. Потом мы вернулись в кафе. Лубрани и Карлетто сидели перед батареей бутылок и ворохом каких-то фотографий.
— А это кто? — спрашивал Лубрани.
— Такая-то.
— У нее ноги черт знает какие.
— И у меня тоже.
Линда сказала, что пора им кончать споры, лучше пойдем прогуляемся. Карлетто зло рассмеялся:
— Ты приехал специально ради нас. Значит, понимаешь, что мы кое-чего да стоим. А раз так, бери, кого я тебе предлагаю.
— Покажи нам фотографию Дорины, — сказала Линда.
— Где ты только понабирал таких? — удивлялся Лубрани.
Карлетто ничего не ответил, лишь усмехнулся. Потом поднялся, собрал фотографии, взял Линду за руку и сказал мне:
— Может, поедем послушаем немного музыку?
Линда согласилась. Обернувшись к Лубрани, я спросил:
— Ну как, идем?
Мы все погрузились в «ланчу», я сел рядом с Лубрани.
Скоро мы выехали на приморскую улицу и некоторое время неслись вдоль берега. За моей спиной Карлетто как ни в чем не бывало болтал с Линдой; рассказывал ей, что хочет переменить амплуа и снова выступать в варьете.
— Вот бы ты меня обрадовал, — сказал Лубрани.
Остановились мы у какого-то ресторана на самом берегу.
Через застекленную дверь видно было солнце и море. Меня удивило, что танцевали здесь не лучше, чем у нас в Турине.
— Уговори Линду потанцевать со мной, тогда увидишь, как танцуют, — сказал Лубрани.
— Знаю, ты давно уже на нее заришься, но Линду не проведешь, — ответил ему Карлетто.
Он подмигнул мне, встал и пригласил Линду танцевать.
Забавно было смотреть, как Линда кружилась в объятиях этого горбуна, на них стали обращать внимание. Я подумал, что ведь и Амелио тоже калека.
Лубрани сказал:
— Ну а мы, дорогой мой, давай выпьем.
Наконец Карлетто и Линда вернулись, чему-то громко смеясь. Они рассказали, что рядом с ними танцевала блондинка с негром в черном пиджаке. «Из этой парочки получился отличный шоколадный крем», — сострил Карлетто.
Потом я пошел танцевать с Линдой и сказал ей:
— А мне Карлетто нравится.
Опять на столе среди посуды появилась кипа фотографий, и Линда начала их рассматривать. Сквозь стекло мне было видно, как волны с силой разбивались о камень. Я взял несколько фотографий.
— Вот это она, — сказал Карлетто. На фотографии была изображена высокая, пышная женщина в меховой шубке. — Это Дорина.
Лубрани наклонился и тоже стал внимательно разглядывать ее. Линда сказала:
— Ее надо посадить на диету.
— Уж не знаю, чем меньше она ест, тем больше толстеет, — улыбнулся Карлетто.
— Всех взять не могу, просто не могу, — говорил Лубрани, дымя сигарой. Повертел в руках фотографию какого-то актера, мельком взглянул и сказал: — А, да это ты!
Но мы с Линдой стали разглядывать фотографию. Чуть подавшись вперед, на нас смотрел элегантный мужчина в черном фраке, причесанный, как артист балета. Никакого сходства с Карлетто.
— Так ведь он просто красавец, — сказал я Линде.
Линда захохотала:
— А ты что думал, один ты красивый?
Карлетто уговаривал Лубрани взять еще несколько девушек.
— У нас и так двоих не хватает, бросили сцену.
— Какой аванс они просят? — спросил Лубрани.
В результате оказывалось, что он согласен взять лишь одного Карлетто.
— Да ты приди их послушать, — пытался убедить его Карлетто.
— Зря ты волнуешься. Артисток в труппу мы быстро наберем. Их повсюду хоть пруд пруди.
Я смотрел через стеклянную дверь, как бьется о берег море. Слушал музыку и думал о лете. Вспомнил о своей гитаре. Мечтал, как мы с Линдой придем ночью на берег и я буду играть ей на гитаре, обнимать ее, мы будем с нею вдвоем. Была же она одна в ту ночь, когда потеряла шарф. Только бы дождаться лета…
Карлетто сказал:
— Я ведь тебе уже объяснил, что дал им слово. Не могу же я их надуть. Понятно тебе? — И злобно засмеялся.
Лубрани оставался невозмутимым.
— Ты ведь сделал попытку. Ты должен выступать только как комик, проявить свой талант. Сборы-то хоть хорошие делаете? Вот в чем главная загвоздка. Если сборы у вас плохие, сами виноваты.
Карлетто сказал:
— Программа у нас замечательная. Даже критикам понравилась… — Он вынул газеты.
Лубрани погасил сигару, огляделся.
— Может, вы потанцуете немного? — обратился он ко мне. — Который час?
Когда танец кончился и мы с Линдой вернулись, сделка уже состоялась. Лубрани убирал авторучку, а Карлетто внимательно изучал пустую рюмку. Мы направились к машине. Карлетто небрежно бросил:
— Привет всем.
— Приезжай поскорее! — весело и непринужденно, как это умеют женщины, крикнула ему Линда и укуталась в одеяла.
Генуя провожала нас ярким солнцем, и последнее, что я увидел, были ее оголенные, словно посыпанные пеплом, холмы.
VII
В Турин мы приехали ночью. Довезли Линду до самого дома.
— Мне что-то нездоровится, — сказала она. И побежала к себе, пряча нос в воротник пальто.
— Пойдем поужинаем, — предложил Лубрани.
— У меня с собой ни гроша.
— Пустяки.
За ужином он сказал, что, наверно, это он виноват в болезни Линды.
— Я как раз вчера уговорил ее поплавать немного в бассейне. Ты там бываешь? Хотя, верно, надо сначала стать членом клуба. А попасть в клуб трудно. Воду в бассейне, правда, подогревают, но простудиться можно в два счета. А ты не знал? Значит, она тебе не рассказывает о таких вещах?
Когда Лубрани понял, что я клюнул на его удочку, он стал гораздо смелее.
— Линда о многом не говорит, но делает. Иначе она не может. Как ты без курева. Не любит она долго раздумывать. А ты разве раздумываешь, когда хочешь затянуться? — Он открыл рот и медленно выпустил дым. — Ты наблюдал за ней, когда она с кем-нибудь разговаривает? Она будто сигаретой затягивается. И с тобой также. Ты над этим никогда не задумывался? Кажется, что она ждет, не правда ли? — резко продолжал он. — Ждет твоего слова или еще чего-то. Но это только видимость одна, она уже все сама решила. Жаль, что у тебя нет денег, — продолжал он. — Ведь ты наверняка думаешь, что женщины только за деньгами и гонятся. А ты уверен, что до тебя у нее не было кого-то получше?
— Ну и что из этого?
— Уж не думаешь ли ты, что очаровал ее игрой на гитаре? Просто смешно. Гитара и дым от сигареты — вещи одного порядка. Ты ведь продаешь сигареты и должен это знать.
«Да замолчи ты, замолчи», — шептал я про себя, глядя в его злые глаза. Но он платил за ужин, и я должен был слушать.
— Все это я знаю, — медленно и тихо ответил я. — Знаю лучше кого другого. Но что с того?
Он расхохотался и сказал, что пошутил.
— Нельзя вечно и всегда быть вместе, это ясно. Но ходила она в бассейн только со мной. Линда, конечно, лжива, как все женщины, но я верю, со мной она, пожалуй, откровенна. Раз она тебе ничего не сказала про бассейн, значит, она туда и не ходила. Ты ее давно знаешь, Пабло?
Я ничего не ответил, только посмотрел на него. Мы смерили друг друга взглядом. Я спросил его, между прочим:
— А за чем еще гонятся женщины, если деньги их не интересуют?
— Гм-гм, — самодовольно хмыкнул он. Подозвал официанта. — Они гонятся за многим. А не только за деньгами. Знай же, — деловито продолжал он поучать меня, — исключений тут не бывает. Я прежде всего заставляю женщину раздеться, чтобы узнать, что она собой представляет. И все до одной раздеваются. Без всяких колебаний. Женщина, которая знает себе цену, охотно раздевается. Но это еще ничего не доказывает. Женщинам нужно другое. Все они тщеславны. Одни хотят найти друга сердца. Попадаются и истерички. Тебе не доводилось видеть пьяную женщину? Есть и такие, что меняют любовника, желая досадить ему. А на деньги им наплевать.
— И то хорошо, — сказал я.
Он небрежно взял счет и расплатился. Когда мы выходили, он сказал:
— Послушай моего совета, все твои планы насчет того, чтобы играть в каком-нибудь оркестре, — ерунда. Чем плоха табачная лавка?
На следующий день я с утра поспешил к Линде. Мне пришлось пройти через мастерскую, где работали портнихи. Линда велела мне закрыть дверь, но в постель к себе не пустила.
— У меня грипп, — объяснила она.
Я ничего не спросил о бассейне. Линда жаловалась, что от палящего солнца Генуи и от этих сквозняков в дороге она совсем расхворалась.
— Небось радуешься, что я заболела. Можешь держать меня здесь взаперти и даже прибить. Тебе понравился Карлетто?
— У нас только и разговору, что о других.
— О ком же?
— Вчера о Карлетто. И еще о другом. Вечно так.
— О чем же прикажешь мне говорить?
— Никогда мы не бываем с тобой вдвоем.
— А сейчас? Ты опять недоволен? Можешь уходить. — Потом, помолчав, сказала: — Что с тобой? Чего тебе не хватает?
В это утро я хотел ей все высказать. Сел на кровать и начал говорить. Она взяла мою руку и прижала к щеке. Я наклонился и поцеловал ее.
— Я заражу тебя гриппом.
Я положил голову к ней на подушку и тихо сказал:
— Давай проведем сегодняшний день вдвоем.
— А потом?
— Потом я найду работу и мы поженимся.
— Вот молодец, отлично придумал, — засмеялась она.
Я прижался к ней лицом и ничего больше не сказал. Немного погодя она спросила:
— Мы и так вместе. Что тебе еще надо?
Больше я ей ничего не сказал. Линда лежала неподвижно и вздыхала. Так прошло не знаю сколько времени. Я почти забыл, что она рядом. Вдруг Линда вздумала искать под подушкой платок. Я немного отодвинулся, и она спокойно сказала:
— Мне нравится жизнь, которую я веду. Почему ты хочешь, чтобы я ее изменила? Ты должен к этому привыкнуть. Я не желаю зависеть ни от тебя, ни от других. И ты тоже не должен от меня зависеть. Ты ревнуешь, да? Твое право, — продолжала она. — Хотела бы я видеть человека, который не ревнует. Я тоже ревнивая. Тебе надо найти работу и не думать обо всем этом. Почему бы тебе не играть на гитаре? Это занятие как раз по тебе, у тебя ведь нет никакой профессии. А вот хороший гитарист из тебя вполне может получиться.
В дверь постучали, и низенькая брюнетка в белом передничке спросила у Линды, не хочет ли она кофе.
— Мне его вот кто готовит, — ответила Линда, — это мой доктор.
Та захихикала и убежала.
С того дня я начал искать работу, ходил повсюду, старался улизнуть из магазина пораньше. Снова стали говорить о судьбе Амелио, и одна мысль о том, что он может проковылять мимо наших окон, отворить дверь и ждать, прислонившись к дверному косяку, вызывала во мне страх. Его мать говорила, приходя за покупками, что Амелио может спускаться только в лифте. «Поэтому они перебираются в нижний этаж», — рассказывала одна женщина, которая слышала этот разговор. Я знал, что Амелио не придет ко мне в магазин, и все же невольно косился на дверь. «Не виноват же я, что он бесится». Мне никак не удавалось найти работу, но я знал, что, очутись в моем положении Амелио, он бы ее отыскал. Чем-то он, видно, занимался даже и сейчас, лежа в постели, иначе его вместе с матерью давно бы вышвырнули на улицу. Наверняка он что-то покупает и потом продает.
Линда не выходила несколько дней, и все это время к ней прибегали за советом девушки из мастерской. Однажды пришла какая-то важная дама и сказала, что хочет посоветоваться с Линдой о фасоне платья, так как доверяет только ей. Они вместе начали смотреть всякие выкройки и французские журналы мод. Линда без конца вызывала мастериц, отдавала всевозможные распоряжения и все это делала, не вставая с кровати, с неизменной улыбкой. Да, она знала свое дело. Потом они с дамой заговорили о нынешних знаменитостях, об актрисах, о спортивных модах.
В комнате у Линды стояло множество зеркал и изящный ночной столик, на котором лежали щеточки, расчески, казалось, что все эти вещи попали сюда прямо из бара «Кристалло» либо из парфюмерного магазина. Я тоже люблю хорошо одеться, но для Линды в этом, да еще в умении вести светский разговор чуть не цель жизни. Она часто говорила мне: «Это еще что, вот если бы у меня была своя квартира». Гуляя со мной, Линда иногда останавливалась и рассматривала витрины; она знала, где продаются самые изысканные вещи, а я проходил мимо этих магазинов, даже не замечая их. Бродить с ней по улицам было одно удовольствие; будь у меня еще «ланча», мы бы вполне могли сойти за богатую парочку. У нее был красивый кожаный чемодан с ярлыками разных гостиниц, она сказала мне: «Как давно я не путешествовала».
Когда она выздоровела, я повел ее ужинать в бар. В тот бар, где был с Лубрани.
— Наш первый ужин вдвоем, — сказала она. — У нее была привычка с жадностью набрасываться на еду, при этом глаза Линды сверкали голодным блеском. Глядя на нее, и у меня разыгрался аппетит. — Я люблю путешествовать, — продолжала она. — Ты даже не представляешь себе, как приятно приехать вечером в незнакомый город. Путешествовать в одиночестве. Менять города, дома, старые привычки. Бросить все и на месяц, на год стать совсем другой.
— Ты и так каждый день другая.
Она засмеялась. Я всегда мог рассмешить ее, если хотел. Это все равно что играть на гитаре. Есть жесты, движения, которые всегда вызывают смех и увлекают тех, кто тебя слушает. Быстрый взгляд — и только, притворяешься, будто ничего не произошло. Наступает момент, когда делаешь это безотчетно. Линда знала в этом толк. Смотрела на меня. Точно сигаретой затягивалась. Клала мне руку на плечо и смотрела на меня. В такую минуту я мог бы сказать ей: «Пойдем займемся любовью», — и она бы пошла.
— Если мне удастся заработать денег, поедем с тобой к морю.
— Кто тебе сказал, что в этом году я поеду к морю? — рассмеялась она.
В тот вечер шел снег, но мы все равно отправились в «Парадизо» потанцевать и по дороге угодили в сугроб. Линда сказала: «Все-таки не хватает Лубрани». В «Парадизо» из знакомых была одна Лили, которая танцевала и чувствовала себя счастливой. Она помахала мне рукой и что-то крикнула, но слова ее потонули в грохоте оркестра. Линда сказала: «Смотри у меня», — и увлекла меня за собой в глубь зала. Мы провели весь вечер вдвоем, танцевали, дурачились. Линда рассказывала, как однажды в Сан-Ремо она уплыла на лодке далеко в море и долго купалась там, а потом даже сняла с себя купальный костюм и стала загорать.
— Просто чудесно было, — протянула она. — Хорошо бы всем всегда оставаться голыми. Если бы люди решились ходить по улице нагишом, пожалуй, они стали бы лучше.
— А в бассейне ты не бываешь?
— Нет, там вода грязная.
Вышли мы из ресторана поздно вечером; ветки деревьев побелели, и землю затянула тоненькая корка льда. Мы безуспешно искали среди машин «ланчу». Пришлось возвращаться на трамвае. В такой снежный вечер особенно приятно покурить, и мы немного прогулялись под портиками, выкурили по последней сигарете, потом зашли в бар.
— Тебя не попрекают, что ты целыми днями где-то пропадаешь?
— Даже за те немногие часы, что я бываю дома, я успеваю порядком измучить сестру и маму своей игрой. Все время упражняюсь. Как-нибудь вечером поиграю тебе одной, хочешь?
— Тебе надо попробовать свои силы в варьете. А ты туда и носа не кажешь. Давай я попрошу Лубрани.
— Не нравится мне этот Лубрани.
Мы стояли у дверей ее дома.
— Может, поднимешься? — сказала она.
Так мы проводили дни, и, уходя от нее в полдень, я знал, что скоро к ней заявится Лубрани и потащит ее в бар. Линда сама рассказала мне об этом, но ведь все вечера она проводила со мной; мне бы следовало ревновать ее, но я не мог. Что она в нем могла найти, кроме денег? А вот со мной она не ради денег встречается.
Я почти совсем позабыл об Амелио. Лишь когда выходил из дому и шел по Корсо, вспоминал о нем. Теперь я жил, так же как он в те времена, когда носился с Линдой на мотоцикле и работал. Вот только работы у меня не было. Но к Лубрани я обращаться не хотел. Линде я сказал, чтобы она не осаждала Лубрани просьбами обо мне.
— Как хочешь, — ответила она, — но это единственный путь.
— На его месте я бы все сделал, чтобы убрать с дороги такого вот Пабло.
— Глупый, вот поэтому-то он и должен тебе помочь. Разве ты отказал бы мне, попроси я тебя о каком-нибудь одолжении? И потом, Лубрани знает, — продолжала она, — что, если ты добьешься успеха, у тебя закружится голова и ты забудешь обо мне.
— Я не стремлюсь добиться успеха.
— Ты его добьешься, — убежденно сказала Линда. — Ты еще молод. Нельзя же весь век заниматься только любовью.
— Люди ради этого и живут вместе.
— Бог ты мой, — вздохнула Линда.
— Правда, всегда заниматься любовью нельзя. Просто люди живут вместе. И занимаются еще многими другими делами.
— Вот видишь, — спокойно сказала она, — любовь здесь ни при чем.
Мы спорили об этом почти каждый вечер. А днем я искал работу. Я познакомился с бывшим хозяином Амелио, у которого была мастерская по ремонту мотоциклов, он продавал и покупал машины и держал гараж грузовиков для дальних рейсов.
— В мастерскую возьму тебя хоть сегодня, — сказал он мне. — Но машину я доверяю тому, кто старше тридцати. У тебя, наверно, по молодости в голове хмель бродит? А мне сумасшедшие не нужны.
Тогда я спросил, не разрешит ли он мне поездить с шофером на грузовике, поучиться немного.
— Больно уж ты любишь на гитаре играть, — ответил он, — мои парни с тобой по дороге перепьются.
Если бы у меня хватило смелости пойти к Амелио, я бы попросил его нажать где надо. Он знал всех шоферов и всех рабочих мастерской. В прежние времена он бы мне помог. В прежние времена. Я знал кое-кого из шоферов, приходивших в кафе.
— Время сейчас скверное, — говорили они мне, — кроме простуды, ничего не заработаешь. А права у тебя есть?
— Чем тебе не по душе магазин? — говорили мне дома. — Какая еще работа тебе нужна?
Я искал такую работу, чтобы можно было играть на гитаре и не расставаться с Линдой. А мастерская ведь все равно что магазин. Мне же хотелось разъезжать и быть хозяином самому себе. В шоферском кафе я повидал немало всякого народу. Были шоферы, работавшие в ночную смену. Зарабатывали они неплохо и крупно играли. Приезжали на рассвете, вечером, ночью. Мне припомнилось то утро, когда я пил в этом баре граппу с молоком. Я знал, что работа шофера — сплошные разъезды. Но я готов был даже уходить от Линды, когда день еще не занимался.
Водить грузовик я не умел, да и прав у меня не было. Однажды вечером, когда Линда была занята, я взял гитару и вместе с Ларио пошел в кафе. Официант приглушил радио, я заказал вина и стал играть в свое удовольствие. Я слышал, как вокруг шептались: «Да это парень из табачного магазина на Корсо». Наконец нашлись и любители попеть, и мы заказали еще вина. Потом гитару взял высокий, крепкий белокурый парень с бледным лицом. Звали его Мило. Он начал играть одно танго за другим, но его остановили.
— Ты лучше пой, — сказали ему приятели. — Пусть он поиграет.
На следующий день я катил в грузовике вместе с Мило и одним механиком постарше нас. Мы везли в Казале мешки с серой. Когда мы выехали, спустился туман и пришлось зажечь фары.
— Если прояснится, я дам тебе вести машину, — сказал Мило.
В Трофарелло светило солнце. Я сел за руль. Мне казалось, что я тащу за собой целый дом. Особенно трудно было на спусках.
— Это еще полбеды, а вот в провинции Алессандрия дороги такие, что сам черт ногу сломит, — утешал меня Мило.
— Как бы нам на полицейского не напороться, — предупредил механик.
К счастью, мы ехали без прицепа.
— Хуже всего у тебя получается с переключением скоростей. Сразу видно, что ты в балиллу[23] был записан.
Когда мы выезжали на хорошую дорогу, я снова садился за руль. Мило мне сказал:
— Жаль, что у тебя нет с собой гитары.
— Ну, это в другой раз.
Мы сделали остановку в Монкальво. Кругом лежал снег. Теперь я начал понимать, зачем шоферу нужны темные очки. Дорогу совсем развезло.
Мы перекусили в комнатушке, где топилась печь, потом выпили по стаканчику вина. Мило и механик рассказывали о своих бесчисленных поездках. Мило даже побывал со своим грузовиком в Риме.
— Зарабатывать-то мы зарабатываем неплохо, но отложить ни гроша ни удается, — сказал он.
Я вынул неначатую пачку сигарет и угостил их.
— А я и в Испании успел побывать, — сказал механик. — Там тоже отличные парни есть. Весь бензин ушел на то, чтобы их дома поджечь.
Мило подмигнул ему:
— И там немало наших.
Механик ответил:
— Когда не разрешают драться в помещении, выходят на улицу.
В Казале снова туман и непролазная грязь на дороге. Нам дали другую машину. Мы должны были отвезти в Турин цемент. Я хотел прогуляться немного, посмотреть город, но они предложили мне:
— Лучше пойдем погреемся.
Они знали хорошую остерию, и мы как следует там подзаправились. Потом сыграли разок в карты. Выглянуло солнце, но до чего же оно было бледное, жалкое.
Наконец мы выехали, но по дороге что-то случилось с мотором. Он начал пошаливать на полдороге к Асти. Нам пришлось целый час проторчать в снегу и чинить мотор, железо обжигало руки. Меня разбирала досада: сегодня вечером я с Линдой уже по встречусь. Но вот мотор заурчал. Мы помыли руки снегом, насухо вытерли их и потащились дальше. С зажженными фарами, в сплошном тумане мы прибыли в Турин глубокой ночью. Линда ждала меня у порога дома.
После этого я некоторое время не ездил на грузовике и только ходил в мастерскую.
VIII
Линда сама рассказывала, что Лубрани увивается за ней, рассказывала с веселым смехом, и несколько раз мы вместе с ним подшучивали над этим.
— Самое смешное, — говорил Лубрани, — что живем мы в двух шагах друг от друга, но до сих пор даже не подозревали об этом.
— Надо Пабло благодарить, что теперь узнали, — смеялась Линда.
Лубрани всегда выглядел элегантно. Ему перевалило за пятьдесят, он любил вкусно поесть и выпить, и, если бы не делал массажа, не одевался бы так хорошо, не был бы надушен, его можно было бы принять за толстого старого носильщика.
— Ходите почаще в турецкую баню, — поучал он, — главное — попариться, открыть поры, чтобы тело дышало.
Однажды ночью я спросил у Линды, видела ли она его в трусиках.
— Нравится он тебе? Должно быть, он оброс волосами до самой шеи.
— Бедняжка Лубрани, — сказала Линда, — а может, он розовый и гладкий, как младенец.
Она мне часто говорила, что, хоть Лубрани и богат, он все же несчастлив.
— Клари его бросила. Уговорила записать на ее имя театр, а потом взяла и ушла от него. Надо было видеть его в то время. Когда он встречает кого-нибудь из нас, из тех, кого знал еще детьми, он бежит за нами, как собачонка. Он хороший. И много работает. Все только и знают, что клянчат у него деньги, а он работает.
— Оно и видно, — сказал я.
— Да-да, и, пожалуйста, не ехидничай. А знаешь ли ты, что у него всюду свои театры, а начинал он без гроша в кармане? И работа у него совсем особенная. Звонит по телефону и разъезжает повсюду. Он многим дает работу.
— Наживается за их счет.
— Глупый ты. Без таких людей, как он, не обойдешься.
Приходилось терпеть и Лубрани, чтобы всегда быть с Линдой. Неподалеку от варьете находился бар, куда мы отправлялись в полночь распить последнюю бутылку ликера, послушать музыку, повеселиться до зари. В те вечера, когда Линда поздно кончала работу, я обыкновенно ждал ее в этом баре. В эти часы сюда приходили развлечься певички из варьете, спортсмены, жонглеры, свободные от работы официанты, возчики, девицы. Это были как бы кулисы варьете. То и дело какой-нибудь артист, а то и целое семейство акробатов вскакивали и бежали в театр. Одни курили, другие болтали с приятелями, третьи просто закусывали в перерыве. Многие заказывали на ужин только кофе с молоком и хлеб; в проходе между столиками носились друг за другом детишки. Время от времени какой-нибудь непутевый парень начинал крутиться возле одной из девиц, а та через весь зал переговаривалась с барменом, о чем-то громко спрашивала его, шутила. Парень тоже смеялся и осмеливался вставить двусмысленную остроту. Тогда девица закидывала ногу на ногу. Через некоторое время они подымались и вместе уходили.
Бар назывался «Маскерино». Закрывали его в полночь, но достаточно было пройти с черного хода и постучать в дверь, и вас впускали. Когда мы появлялись в «Маскерино» с Лубрани, нас встречали с почетом и усаживали в сторонке за отдельный столик, под прикрытием пышных пальм в кадках.
— Этот бар случайно не тебе принадлежит? — спросила Линда у Лубрани, когда мы впервые туда пришли.
— Нет. Я бы лучше поставил дело, — ответил он. — Велел бы все здесь вычистить и выгнал бы весь этот сброд. Закрыл бы бар на месяц. Но зато потом — официанты в белых фраках, джаз-оркестр и море света.
— Здесь и сейчас неплохо, — сказала Линда.
Какая-то женщина, разыгрывая из себя сумасшедшую, одна танцевала перед оркестрантами, которые перестали играть и платками утирали пот. Посетители — их было в зале совсем немного — ждали, когда снова раздастся музыка, а несколько разгоряченных вином парней и девушек стучали по столу, отбивая такт для одинокой танцовщицы. А она поминутно громко взвизгивала, словно танцевала на сцене варьете.
— Сплавь ты его потанцевать с какой-нибудь девицей, — украдкой прошептал я Линде.
Линда улыбнулась и сказала, что не пойдет танцевать ни со мной, ни с ним. Ничего не поделаешь, пришлось сидеть за столиком. Первым заговорил Лубрани. Он сказал, что противно смотреть, когда женщина одна делает то, что полагается делать вдвоем. В театре еще куда ни шло, там это все-таки представление, но, если женщина одна бесится в баре, она просто больная.
— Но ведь пьяные женщины тебе нравятся, — заметила Линда.
— Да, если я с женщиной вдвоем. Это другой разговор… Ну и кто-нибудь еще играет. Но напиваться в одиночестве — удовольствие сомнительное. Пабло молод и может растрачивать время впустую. Мы же — нет.
— Наглец! — вырвалось у Линды.
Лубрани, опустив голову, с минуту помолчал. Потом убежденно сказал:
— У нас с тобой много общего, моя дорогая. Женщина всегда старше своих лет. Мы-то с тобой стреляные воробьи, знаем, как все идет. И к чему приводит. И цену этому знаем. Нас ничем не удивишь.
Я смотрел на него и думал, что же это такое — женщины? Даже лучшие из них. Даже Линда. Если для них все мужчины одинаковы, то почему бы им не выбрать одного-единственного и не ходить потом за ним неотступно, как собака за хозяином? Но нет, они хотят всегда иметь выбор. И выбирают, окружив себя множеством мужчин, играя то с тем, то с другим, из каждого стараясь извлечь выгоду. Радости это не приносит никому, и в конце концов сама женщина остается без настоящего друга.
— Линда, — сказал я, — давайте представим себе, где мы будем в это же самое время в будущем году. И будем ли мы счастливы? С кем и как проведем вечер? Идет?
— Да-да! — воскликнула Линда. — А кто начнет?
— Или, если хотите, давайте вспомним, где мы были в прошлом году. Двадцатого вечером. Как мы провели тот вечер и с кем. Ток, пожалуй, легче будет.
— Разве теперь вспомнишь? — пробормотал Лубрани.
— Ага! — крикнула Линда. — Хорошо же ты провел вечер, если он у тебя из головы вылетел. Выходит, никакого удовольствия ты не получил.
— Откуда ты знаешь, может, ему тогда не до удовольствий было? — сказал я Линде. — Может, он ждал кого-нибудь. Или ехал в поезде и произошло крушение, или носу из дому высунуть не мог из-за плохой погоды.
Лубрани только молча улыбнулся. Потом посмотрел на нас своими маленькими глазками.
— Значит, двадцатого вечером? — с преувеличенной серьезностью сказал он. Порылся в карманах и вытащил записную книжку.
— Как интересно! — воскликнула Линда.
Лубрани стал небрежно перелистывать записную книжку.
— Двадцатого, двадцатого, — повторял он. — Досада какая, не могу найти. Ведь целый год прошел.
— Дай я посмотрю, — сказала Линда.
Но Лубрани успел отвести ее руку.
— Покажи сейчас же! — закричала Линда. Они опрокинули рюмку. — Ты за это поплатишься, — сказала Линда.
— Тут одни деловые записи.
— Тогда изволь рассказывай про этот год.
Лубрани, шутливо отмахиваясь от Линды, снова начал листать свою книжку. Он полушутя-полусерьезно бормотал какие-то имена, названия.
— Бухгалтер… дирижер… провел ночь… Звонил… врач, дирижер… Флоренция… подходящая толстуха… Кьянчано… провел ночь.
— Покажи-ка, что ты вчера вечером записал.
Но Лубрани не дал ей посмотреть и спрятал книжку.
— Расскажи лучше ты, Линда, что ты делала двадцатого вечером. Ну, мы слушаем…
Линда скорчила недовольную гримаску и проворчала, что у нее нет записной книжки.
— У меня ничего не осталось в памяти от этого года. Время растратила впустую. Ничего уже не могу вспомнить.
— Пусть будет не двадцатое. Расскажи, что было в прошлом году в декабре, что ты тогда делала? — сказал я.
— Работала, — сказала Линда.
— День и ночь? — спросил Лубрани.
— Разве вспомнишь сейчас? Запоминаешь только то, что делается по привычке изо дня в день. Все остальное забывается. Все, что ты говорил, во что верил, больше не существует. Помню только одно утро, на улице был такой густой туман, что казалось, мир навсегда исчез за белой ватной пеленой. Даже шагов не было слышно… Лишь это утро мне и запомнилось.
— С кем же ты гуляла по улицам той ночью?
— Э, давайте бросим эти глупости, — сказал Лубрани, — а то плетем всякие небылицы.
О моих воспоминаниях они не спросили. Не знаю даже, обрадовало меня это или нет. Линда наклонилась над столом и сказала:
— Давайте лучше попробуем угадать другое. Что мы будем делать в этот день в будущем году?
Безумная танцовщица давно утихомирилась. Две-три пары еще танцевали. Было уже часа три утра, и зал опустел. Половина оркестрантов дремала.
— Впрочем, нет, — неожиданно сказала Линда, — давайте вспоминать, что мы делали сегодня вечером.
— Пей лучше, пей, — заметил Лубрани.
— Хочешь, чтобы я запомнила это вино? — жалобным голосом сказала Линда.
На следующий день, когда мы вдвоем шли с ней по улице, я спросил:
— Ты и вправду забыла все, что было в прошлом году?
— А ты все еще думаешь об этом? — сказала Линда.
Возвращаясь домой, я решил, что лучше уж одиночество, чем постоянное ожидание, что Линда скоро забудет и думать обо мне. Мысли эти доставляли мне горькую радость. Может, если внезапно оборвать наши встречи, это заденет ее за живое и тогда она уже не сможет меня забыть.
— Я вот помню каждую минуту с того дня, как увидел тебя, — сказал я.
— Все может быть.
Она говорила так, словно уже бросила меня. Я стиснул зубы.
— Вчера ночью я понял, какая ты, — тихо проговорил я.
Она взяла меня за руку и что-то сказала.
— Значит, в прошлом году ты все вечера сидела дома?
Она еще крепче сжала мою руку и сердито спросила:
— Что с тобой?
— Ничего. Но зачем ты так говоришь? Ведь был Амелио, и ты сама рассказывала, что ездила с ним на холм. Ну, в тот вечер, когда вы танцевали под портиками…
— Вам ничего нельзя рассказать, — с упреком ответила она. — И ты такой же, как все.
Так мы начали вспоминать прошлое, она рассказала мне многое о своей жизни и как-то сразу загрустила. Мы собирались пойти в кино, но раздумали. Купили жареных каштанов и побрели вдоль берега По. Спустилась ночь, на улицах зажглись фонари, и мне хотелось, чтобы ночь эта никогда не кончалась, потому что при одной только мысли, что мы можем расстаться и не увидеться больше, у меня подкашивались ноги. Словно она была частью меня самого. Ее тело я ощущал, как свое. Ее голос был словно объятия. Она рассказала, что, когда была девчонкой, пошла гулять на холм с одним дрянным парнем и там прямо на траве он овладел ею. И прибавила, что все это пустяки, и вся жизнь наполнена этими пустяками, потом спросила, неужели я совсем не изменился с тех пор, как впервые познал любовь. Разговор перешел на Амелио, и она стала отрицать, что спала с ним.
— Какой ужас, — сказала она.
— А я и сейчас люблю Амелио, но пойти навестить его просто не в силах. Мне не нравится жизнь, которую я веду. Вечно этот поганый Лубрани путается под ногами. Почему мы не можем быть только вдвоем, скажи, Линда?
Не любил я ходить по ночам в «Маскерино» вместе с Лубрани, но вечером мне там нравилось. Бар был недалеко от моего дома, и Линда прибегала туда прямо из ателье. Утром я обычно исполнял обязанности подручного в мастерской, надеясь таким путем завоевать доверие хозяина. Дома родные громко возмущались и без конца твердили: «Становись-ка лучше за прилавок и торгуй». Однажды я и правда встал за прилавок, взял гитару в руки и, когда приходили покупатели, не прекращал игры. Так что все равно управляться с ними пришлось сестре и матери. С тех пор они перестали попрекать меня, что я стараюсь улизнуть из дому. Я был убежден, что рано или поздно стану работать шофером, неважно, здесь или в другом городе, лишь бы со мной была Линда.
Я немного подрабатывал тем, что продавал ноты. У меня дома были партитуры опер, и в «Маскерино» я очень скоро свел знакомство с музыкантами. Постоянно у одного или двух оркестрантов, чаще всего у женщин, не оказывалось нот. Тогда я предлагал: «У меня есть поты, уже переписанные, цена такая-то». Там был один старичок, Карландреа. В молодости этот Карландреа играл на кларнете в оркестре, но потом заболел астмой. Он никак не мог понять, почему я не хочу стать солистом.
— Я и так солист, — говорил я ему, — да еще какой. Играю, когда хочу и кому хочу.
Он знал Лубрани и говорил про него: «О, это настоящий синьор».
Линда тоже не могла меня понять.
— Боюсь попасть в лапы к Лубрани, — объяснил я ей. — Играть на гитаре — не настоящая работа. Это все равно как если бы тебе платили деньги за то, что ты хорошо одеваешься. Моя работа — дальние рейсы.
Линда приходила вечером, когда бар еще был погружен в полутьму. Кресла здесь были старые, обитые потертым красным бархатом, большую люстру зажигали только в полночь, но мы с Линдой не жаловались. Линда заказывала яйца и молоко. И я за компанию с ней. Она рассказывала мне про свою работу, про своих новых заказчиц. Почти всегда ей звонил в мастерскую Лубрани, предлагая встретиться в «Парадизо» или в варьете. Я предпочитал ходить в варьете. Там хоть можно было посидеть с нею рядом. Но иногда я говорил: «Да ну его ко всем чертям», — и мы проводили вечер вдвоем, натянув Лубрани нос. Но на следующий день он об этом даже не заикался.
Карландреа был похож на таракана, и при одном взгляде на него у меня пропадала всякая охота стать солистом.
— Вот какой конец нас ждет при первом же несчастье.
— Какой же?
— Станешь таким вот старым, дряхлым, жалким.
— Столько дорог ведет к такому концу, — спокойно ответила она.
Таких печальных и смешных историй в «Маскерино» было немало. К примеру, история с Минние, гардеробщицей. Одно время эта Минние пела в «Меридиане». Когда я ее впервые увидел, мне показалось, что она немного похожа на мою сестру. Я хочу сказать, что она мало подходила для той профессии, которую ей подыскала мать. У нее только и было, что красивые глаза да кроличья шубка. Но все-таки она была звездой варьете, и мать всегда поджидала ее у дверей «Меридианы». Однажды я зашел с Линдой в «Маскерино» и увидел там старую мать Минние; ее окружала группа людей, и они что-то горячо обсуждали. Оказывается, она рассказывала им о Минние и просила прочесть дочкино письмо.
«Дорогая мама, я думала, он богатый. Кто же мог знать? Мне казалось, он богатый-пребогатый, и я его ужасно любила. Что я только наделала, дорогая мамочка».
Линда рассмеялась.
— Вот старая дура.
Я сказал ей, что знал эту Минние, и вот какой ее постиг конец. Линда тряхнула головой и снова посмотрела на старуху. Я рассказал Линде о женщинах, которых встречал ночью на корсо Ингильтерра.
— Какие вы, мужчины, негодяи, — сказала она, — покупаете на улице женщину, как покупают каштаны. Где вы с ними забавляетесь?
— Я никого не покупаю, — ответил я.
— Но вы радуетесь, что можно найти этих, уличных. Они вам, может, и не нужны, пока у вас есть подруга. Но завтра вы и от них не откажетесь, — говорила Линда обиженным голосом, и непонятно было, шутит она или сердится. — Однажды я своими глазами видела. Как это они говорят? «Угости сигареткой».
Я встречал этих женщин каждый раз, когда возвращался ночью от Линды. Но теперь, проходя мимо, я уже не думал об этом так равнодушно, как в прошлые годы: «И так живут люди». Теперь мне было их нестерпимо жаль. Падал снег, а они брели по улицам, пряча лицо, и виден был лишь огонек зажженной сигареты.
— Только дуры могут пойти на такое, — сказала Линда.
— Почем знать? Может, их нужда заставляет?
— «Угости сигареткой», — смеясь, повторила Линда. — Говорю тебе, только дуры.
Я вспомнил о той женщине, которую мы с Мило как-то повстречали на шоссе. Мы возвращались с грузом из Пьянеццы в Турин. Она попросила подвезти ее; влезая в кабину, она высоко задрала юбку.
— Теперь веди ты, — сказал мне Мило.
И я вел машину до самого Турина. Те двое словно хотели замучить, обессилить друг друга.
— Так я из кабины вылечу, — сказала она ему.
Одета она была очень скромно и даже не накрашена. С виду обыкновенная женщина, скорее всего семейная, лет так тридцати пяти — сорока. Вот только щеки у нее были очень впалые да глаза изголодавшегося человека. Потом она сказала Мило:
— Твой друг, видно, не такой, как ты.
Я молча вел машину и думал: «А ведь и ты, верно, была чьей-то любимой, чьей-то Линдой».
Под Новый год Линда сказала мне, что ей предстоит дальняя дорога. Сказала улыбаясь, точно ей выпали такие карты. В тот вечер мы просто чудом удрали от Лубрани. Мы поужинали с ней в «Маскерино», а Новый год встретили вдвоем у нее в комнате. Я был уже немного под хмельком, и мне захотелось потанцевать.
— Понимаешь — путешествие. Путешествовать поеду, — говорила она.
Она еще точно не знает, но, во всяком случае, поедет на недельку, не больше.
— Деловая поездка, — смеясь, сказала она. — Будь паинькой, я скоро вернусь.
Но в ту ночь мы забыли о путешествии, обо всем на свете.
На следующий день мы встретили в «Маскерино» Карлетто, только что приехавшего из Генуи.
IX
Он разговаривал с барменом и не заметил меня. Я очень удивился: голос и манеры как будто его, а вот горб почти исчез. Он был в шляпе и казался маленьким. Он громко рассказывал бармену, что ему снятся кошки, и при этом изгибался по-кошачьи. Бармен хохотал.
Вошла Линда и не заметила Карлетто.
— Знаешь, кто там у стойки? — сказал я ей.
— О-о, Карлетто приехал! — обрадованно воскликнула она, продолжая сидеть, и посмотрела на меня.
— Он уже полчаса рассказывает бармену про кошек, — сказал я. — Ему приснилось, что в Турине полным-полно кошек и, чтобы выбраться из города, нужно превратиться в кошку и незаметно удрать по крышам.
— А тебе не снятся такие сны? — спросила Линда.
— Вчера ночью мне приснилась Лили.
— Хорош, нечего сказать.
— Но это была не Лили. Она была похожа на мою сестру, Карлоттину. Мы шли по улице, она впереди, я сзади. Я все боялся, если она обернется, то увидит меня и убежит. А я знал, если она обернется, я увижу Лили. Мы шли, минуя переулки, и я боялся, что кто-нибудь выскочит нам наперерез. Я все бежал за Лили и знал, что она хочет заманить меня в переулок и схватить сзади за плечи…
Но вот Карлетто заметил нас. Он бросил бармена и подбежал к нам. Линда сказала ему:
— Как я рада!
Они обнялись, потом он поздоровался и со мной.
— Я здесь уже два дня, — сказал Карлетто. — И эта свинья Лубрани уже успел меня надуть. Даже не знаю, когда начну работать.
— А Дорина с тобой? — спросила Линда.
— Вернулась в Рим, здесь не на что было бы жить. В Риме все друг друга знают, как кошки с одной улицы. — Он ударил себя по лбу, потом стукнул кулаком по столу. — Вот, оказывается, почему мне снились кошки! — крикнул он. — Турин ничем не лучше Рима.
Линда спросила меня:
— Ну и чем кончилась твоя история с Лили?
И я стал вспоминать:
— Мы приехали на берег моря, бегали наперегонки. Лили мчалась на велосипеде по песку, я схватил камень и издали бросил в нее, целясь в голову. Камень попал ей прямо в висок и отлетел в воду. Лили упала замертво на песок.
Карлетто заметил:
— Смерть, да еще у моря — это плохая примета.
— Кто любит, тот всегда убивает, — сказала Линда.
Мне неприятно было рассказывать свой сон в присутствии Карлетто. Такое же чувство испытываешь, когда забываешь конец какой-нибудь истории или когда гитара начинает фальшивить. Все равно что раздеться догола перед чужими. Этот сон можно было рассказать одной лишь Линде, на ушко. А Линда вдруг приняла все всерьез — стала издеваться над Лили, корчить недовольные гримаски. Она спросила:
— А как была одета Лили?
— Не помню.
Тут Карлетто зло усмехнулся.
— Да-да, конечно, — воскликнула Линда, — они занимались любовью!
— Хватит вам, — сказал Карлетто. — Так и знайте — сегодня ночью я брошусь в По.
— Как ты встретил Новый год? — спросила Линда.
— Искал Лубрани, чтобы набить ему морду. Ведь из-за него я подвел стольких людей. Я же не такой негодяй, как он. Если я вернусь в Геную, мне там здорово намнут бока. Знаешь, какую он со мной шутку сыграл? Отказал мне и отдал зал своей Клари.
— Это ерунда, — сказала Линда. — Тебя любит публика. Всем это известно.
— Только не Лубрани.
Потом он успокоился и стал напевать песенки из своей программы. Линда прикурила от моей сигареты и попросила его:
— Повесели нас.
И Карлетто принялся рассказывать, петь и танцевать. Самые двусмысленные песенки, самые мудреные па он исполнял с необычайной легкостью, выразительно прищелкивая пальцами. И каждую минуту менял голос. Линда смеялась кудахчущим смехом. На нас стали поглядывать. Ни разу еще мне не доводилось видеть такого своеобразного актера. Даже горб ему помогал. Казалось, это суфлерская будка. Он изображал целый оркестр. Потом внезапно перевоплощался в женщину. И умудрялся еще украдкой курить. Наконец сам расхохотался.
— Ведь все это бесполезно, — сказал он Линде. — Труппы-то больше нет и в помине.
— По-моему, это даже лучше, чем в театре, — сказал я. — Такого ревю мне не случалось видеть.
— А в Турине вы эту программу не покажете? — спросила Линда.
Карлетто снова начал чертыхаться.
— Если не разыщу сегодня вечером Лубрани, — сказал он, — богом клянусь, брошусь в По.
Мы должны были встретиться с Лубрани, но я понял, что Линда предпочитает ему об этом не говорить.
— Лубрани велел кассиру театра передать мне, что придет сегодня вечером, — сказал Карлетто.
— Садись, поужинаешь с нами, — предложила Линда.
Мы съели по яйцу. Карлетто все время оглядывался по сторонам, потом сказал:
— Раньше здесь было светлее. — Крикнул бармену: — Пусть принесут свечу! — Потом сказал мне: — Вас я не знаю. Вы кто такой? A-а, тот самый, что на гитаре играет? А Лубрани тебя еще не обставил?
— Нет, я — механик и играю только на английском ключе.
Линда смотрела на нас и смеялась.
— Если бы все то время, что ты без толку проводишь в мастерской, ты потратил на игру, давно уже приобрел бы имя.
Карлетто сказал:
— А твой друг совсем не дурак. Я и сам не прочь был бы иметь такую специальность.
— Зачем мне имя? — сказал я Линде. — Я люблю играть для друзей. А велика ли радость играть только ради денег?
— Правильно говоришь! — воскликнул Карлетто. — Правильно.
Теперь в «Маскерино» яблоку негде было упасть. Вот-вот должно было начаться представление в варьете, некоторые поднимались и уходили, другие усаживались. К Карлетто подошли приятели и потащили его к стойке. Линда сказала мне:
— Уйдем отсюда.
Мне хотелось посидеть еще немного.
— Пойдем же. Что нам за интерес слушать их разговоры о делах.
Она что-то тихо сказала официанту, мы поднялись и ушли. Мы отправились пешком в «Парадизо».
— Лубрани, если захочет, придет, — заметила она. — А мы будем танцевать.
В разгар танцев, конечно, появился Лубрани, и не один, а с Карлетто. Судя по всему, они помирились, и Лубрани был в самом веселом расположении духа. Он сказал:
— Хватит вам танцевать. Давайте кутнем. — Он велел подать холодную закуску и красное вино: — Вы ведь сегодня не ужинали, — обратился он к нам. — По вашей милости Карлетто может с голоду умереть.
Карлетто погрозил Линде пальцем. Сняв пальто, он вновь превратился в маленького горбуна. Лубрани поминутно хлопал его по спине, а мы хохотали, уписывали закуски и слушали Карлетто, напевавшего песенки из своего ревю.
— Что ж ты, Пабло, не захватил гитару? — говорили они.
Я даже не заметил, когда к нашему столику подсела Лили. Теперь я уже все понял и как последний дурак пил и пил. Линда сказала мне, что уезжает завтра. Я понимал, что Линда играет с Карлетто так же, как играла со мной. Я сидел молча и не мешал им переругиваться. Мне хотелось уйти, остаться одному, совсем одному.
Не помню, что я говорил и делал. Помню только, что совершенно опьянел и танцевал с Лили, танцевал с Линдой. Вышли мы из ресторана поздно, почти под утро. Когда машина остановилась на пьяцца Кастелло, я хотел потихоньку улизнуть за колонну, но они заметили это и окликнули меня.
У Лубрани я снова нагрузился. Мы пили ликер, Карлетто все подпрыгивал и что-то кричал; потом мы расположились прямо на полу. Выключили свет, чтобы остаться в темноте, но за окнами уже брезжил рассвет и виднелись покрытые снегом крыши. Мы знали, что Линда завтра уезжает, и Лубрани сказал, что ее отъезд надо отпраздновать, и все порывался произнести тост.
Я спросил Линду:
— Может, пойдем спать?
— Так ведь уже утро.
Мы перевернули весь дом вверх дном: искали мандарины, кофе, ликер. Как всегда в этот час, в окно пробивалось серое мглистое утро: бесполезно было зажигать свет. Лица у всех стали белыми как снег, и даже Карлетто наконец сдал. Он сел на кровать и сказал:
— Посплю, пожалуй.
— Хочешь оставить Лубрани одного с девушками? — сказал я ему.
— А знаешь, эта Лили ничего девица.
Настало утро, меня одолевал сон. Лили сказала, что уходит, ее ждут собачки. Линда мылась в ванне, Лубрани готовил кофе. Я сказал Лили, чтобы она сматывала удочки.
Оставшись один в комнате, я почувствовал, что для меня Линда уже как бы уехала. Лучше мне отправиться домой. Я спросил через дверь, идет ли Линда со мной. Она разозлилась и крикнула: «Хватит, надоело!» Прерывающимся от обиды голосом я высказал ей все, что думал. Теперь я твердо знал: я уже остался один, а Линда уехала.
Вышли мы от Лубрани все вместе в полдень и направились прямо в бар. По дороге Линда сказала:
— Ну не сердись, Пабло, — и протянула руку.
— До свидания, — ответил я, повернулся и пошел. Линда осталась с Лубрани и Карлетто.
Так началась неделя моего одиночества. Я знал только, что Линда уехала в Милан. Первые три дня я сидел дома или работал в мастерской. Теперь даже гитара не приносила мне утешения. Я играл, а мысли мои были далеко. Когда я стоял за прилавком, я все время поглядывал на дверь. Мне все думалось: вдруг сейчас войдет Линда. Я заходил в кафе в поисках Мило, но его там не оказалось. Один вечер провел с Мартино в остерии, но гитары с собой не брал. Там были Ларио, Джильда; они предложили пойти куда-нибудь потанцевать. Было там еще трое или четверо незнакомых мне людей. Я предпочел остаться здесь, послушать всякие разговоры. Джильда рассказала о влюбленных, которые пошли в парк «Валентино», сели на скамейку и одновременно выстрелили в себя. «Он умер, она осталась жива». «Вот какова жизнь», — подумал я. Ведь прежде и я сказал бы: «Ну и на здоровье!»
На четвертый день, в воскресенье, я собрался смотреть футбол. Приятели обрадовались.
— Хорошо еще, что на футбол с нами идешь.
Но игра была неинтересная. После ужина мне надо было отнести Карландреа ноты. Я решил, что не мешает заглянуть в «Маскерино». И спокойно направился туда. Там никого не было, все пошли в варьете. Потом появился Карлетто.
— А, это ты, — бросил он мне. И с ожесточением задымил сигаретой.
— Ну, как ваше ревю? — спросил я.
— Эта свинья Лубрани опять сбежал. — Он закашлялся от дыма. — В Милан удрал.
Мы просидели с ним в баре целый вечер. Я все выспрашивал у него, точно ли, что Лубрани уехал в Милан и когда?
— Кажется, сразу после той пирушки. Так мне по крайней мере ответил по его домашнему телефону какой-то болван, — сказал Карлетто. Он начал возмущаться, что выступления из-за этого опять срываются. — И в театре никто ничего не знает. Мерзкая у меня профессия.
Я спросил, один ли он приехал в Турин или с труппой.
— Труппу я распустил. Поверил этому Лубрани.
— У меня сейчас нет ни гроша, — сказал я.
— Ничего, как-нибудь перебьюсь.
— Когда он вернется, не знаешь?
— Сказали, будто через два дня.
На следующий день мы засели с ним в баре с самого утра. Он хотел узнать от меня поподробнее о Лили. Потом сказал, что Лубрани вообще-то человек энергичный и что-что, а уж девушек умеет выбирать. Вот только слова своего не держит. Он и ужин хороший умеет устроить. И с девицами вроде этой Лили знает, как обращаться. Раньше он куда крепче был, и вечера не проходило, чтобы он не пристал к какой-нибудь девице.
— С кем он был, когда вы познакомились?
— Да с Клари. Она уже и тогда тянула из него деньги, но зато научила его вести себя в обществе. В то время Клари была похожа на Лили. А Лубрани сам ведь невысокого полета, и ему очень нравились такие вот опрятные кошечки. Но он совсем не глуп и быстро сообразил, что в театре таким женщинам нечего делать. В театре надо уметь огрызаться, показывать когти, — продолжал Карлетто. — Все друг друга готовы съесть. Тут кошечка и начнет царапаться. А представляешь, как царапаются такие вот, вроде Лили?
Так мы проболтались вместе целый день, я с удовольствием и переночевал бы у него. Ведь мне надо было как-то убить еще две ночи. Правда, он не переставая говорил о Лубрани. Но оставаться одному было куда хуже. В голову лезли всякие мысли, и я никак не мог от них отделаться. Вечером Карлетто спросил:
— Что у тебя такое приключилось?
— С чего ты взял?
— Знаешь что? Сходи-ка за гитарой, и посидим в каком-нибудь уютном уголке. Выпьем вина.
— Мне что-то ни играть, ни пить не хочется. Пропала охота, да и только.
— Зато я хочу выпить, — сказал он.
Карландреа внимательно следил за нами со своего обычного места. Увидев, что на столе у нас появилась бутылка, он начал усиленно сморкаться. Карлетто наполнил рюмки и попросил у меня закурить. Я протянул ему сигарету, и на миг перед глазами промелькнул лежащий в постели Амелио.
— Да, кое-кто сегодня смеется, — не удержавшись, резко сказал я Карлетто.
Карлетто от изумления только рот раскрыл и чуть не поперхнулся дымом. «У меня кружится голова, — подумал я, — и я ничего не могу поделать». Немного успокоившись, я сказал:
— Угости старика. Я сам дня три назад крепко напился и до сих пор в себя не приду.
Карлетто предложил:
— Хочешь, пойдем в варьете?
Я опустил голову на руки, словно не в силах был одолеть усталость. Карлетто что-то сказал старику. Я слышал, как Карландреа подсел к нашему столику. Мраморная доска столика приятно холодила лицо, и я закрыл глаза.
Я вспомнил то утро, когда мы с Линдой пришли к Амелио. Вспомнил, как она вошла, что она говорила. На шее у нее тогда был голубой шарф. Вспомнил, что я убежал. Что мы столкнулись с ней в дверях кухни. Все это тогда не имело никакого значения. Все еще было впереди. Кажется, это произошло только сегодня. Но теперь многое мне стало понятно.
Я думал обо всем этом и чувствовал себя таким одиноким. Слышал, как Карлетто подшучивал над Карландреа. Потом они что-то сказали обо мне. Я поднял голову, притворившись, будто только что проснулся. Всю ночь я не мог глаз сомкнуть, и при мысли, что мне придется провести еще одну ночь в одиночестве, меня покидало мужество. Я что-то шептал в темноте, крепко обнимая подушку. А мысли были все те же, истертые, как ступеньки в доме.
Весь следующий день я бродил по городу и ждал, когда наконец наступит вечер. Падал мокрый снег, я шел и думал: «Кто знает, может, и в Милане сейчас снег». Мне надо было зайти в «Маскерино», и я радовался, что увижусь там с Карлетто и его приятелями, радовался, что проведу с ними всю ночь. Но я старался отсрочить эту минуту: мне казалось, что, нарушив свое одиночество в этот последний вечер, я что-то утрачу.
Карлетто встретил меня словами:
— Знаешь, я тут раздобыл для тебя гитару. Уж на этот раз мы повеселимся.
Он сказал, что его друзья актеры уезжают в Рим и в двенадцать ночи придут прощаться в «Маскерино». Мне это показалось хорошим предзнаменованием, и я сказал ему:
— Вчера мне было не по себе. Давай-ка сюда гитару.
Карлетто сказал, что гитару должны принести друзья.
— А пока выпьем. Ты правильно делаешь, — потягивая вино, сказал он, — что не связываешься с варьете. Умнее многих поступаешь. Вот меня, к примеру, петь в варьете нужда погнала.
— Но ведь ты по-настоящему талантлив.
— Ну и что из того? От Лубрани ведь не уйдешь.
Тогда я спросил, почему он не поищет работу у других антрепренеров.
— Сам знаешь, как оно бывает, — вздохнул он. — Меня крепко прижали в последний раз. Ты даже и не представляешь, сколько надо хлопотать во всяких учреждениях, чтобы добыть разрешение. Лубрани тем и хорош, что на многое закрывает глаза.
— А сменить профессию ты не можешь? — тихо спросил я.
— Профессию не меняют, — сказал он. — Можно сменить любовницу, но не профессию. — Он взял рюмку и разом осушил се. — Конечно, профессия у меня паршивая, — продолжал он, — ты мне тем и нравишься, что не стремишься быть артистом.
— Если бы мог, непременно стал бы.
— Рассказывай кому-нибудь другому, — засмеялся он. — Прежде и я был таким, как ты. Ты хочешь жить один и ни от кого не зависеть.
Сейчас мне не казалось, что Карлетто намного старше меня. Большеголовый, с ясными, светлыми глазами, он выглядел совсем юным. И все же где-то его ищет Дорина, и вокруг рта залегли глубокие складки, и улыбка у него такая усталая.
— А вот вчера вечером, — сказал я, — я готов был сменить профессию. Слишком уж меня пришибло.
Карлетто внимательно посмотрел на меня и выпустил струйку дыма.
— Я понимаю, — сказал он, — раньше тебе жилось лучше.
Мы все сидели с ним за столиком, пока не пришли его друзья. Они появились, когда зажглась большая люстра и заиграл оркестр. Это были веселые простые люди — Лучано, Фабрицио, Джулианелла. С ними я вроде был один и в то же время в кругу друзей. Совсем другой народ эти римские актеры: я мог пить с ними и мог спокойно смотреть со стороны, как они кутят. Устроились мы в маленьком зале, куда никого больше не пускали. И если ты гитарист, то быстро заводишь дружбу со всеми. День уже занялся, а я все играл.
X
Я играл с удовольствием, радуясь, что ночь уже позади и наступил день. И я знал, что, когда отложу в сторону гитару, что-то в моей жизни оборвется. К прежнему возврата не будет.
Когда Линда, едва мы остались одни, спросила: «Что с тобой такое?» — я этому не удивился. Мы столько лгали друг другу, столько всего утаивали, что и на этот раз я ответил:
— Да так, ничего.
— Ты просто сумасшедший. — Села на кровать, сняла шляпку. — Поцелуй меня, — сказала она.
Я поцеловал ее в щеку, она взяла мою руку. Мне показалось, что я поцеловал холодный лепесток цветка. Линда приоткрыла глаза и посмотрела на меня. Я знал, что ей и сейчас хорошо со мной. Она была все та же, с неизменным голубым шарфом на шее. Поглядела на меня весело и чуть насмешливо.
— Я устала, — сказала она, — хочу прилечь. — И легла на постель. Я поднялся и стал ходить по комнате. — Курить хочется, — сказала она. Я закурил и молча протянул сигарету Линде. — Знаешь, — лениво протянула она, — ведь и в этом есть своя прелесть. Разве нельзя оставаться хорошими друзьями? Бывает же так, что устанешь и нет у тебя желания ни целоваться, ни обниматься, а только поговорить хочется или даже помолчать вдвоем.
Я ничего не ответил, лишь пристально взглянул на нее.
— Что с тобой творится? Уж не собираешься ли ты меня убить? Знаешь, я, может, выйду замуж. Тебе даже не интересно за кого?
Я не мог понять, почему мне не хочется ни кричать, ни ссориться, а только поскорее уйти от нее, очутиться на улице. Она что-то мне говорила, а я подумал, что еще вчера, собираясь в «Маскерино», я на минуту почувствовал себя счастливым.
— У меня просто сердце разрывается, — продолжала Линда. — Ведь я знаю, что ты страдаешь. Послушай, как бьется.
Она взяла мою руку и положила себе на грудь. Я ощутил теплоту ее тела и крепко стиснул ее пальцы. Потом еще крепче, она вскрикнула. Но тут же расхохоталась.
— Молчишь все, да еще дурно со мной обращаешься. Я ведь не гитара, — тихо проговорила она.
Когда я ушел от нее, была поздняя ночь. Я подумал, что надо бы поспать. В трамвае я всю дорогу дремал, прислонившись головой к окну. Просыпался, вспоминал, сколько раз я уже возвращался домой на рассвете, и опять забывался тревожным сном.
На следующее утро мы с Мило отправились в Геную. Грузовик у нас был с прицепом, и вести его было куда труднее. Механик с радостью согласился отдать мне половину заработка, чтобы я его заменил, и остался в Турине. Только так, в дороге, я и мог еще жить. Когда мы выехали из города, я был почти счастлив.
У Мило в Генуе была девушка, и он отправился к ней. Я остался в одиночестве и до самой ночи бродил по генуэзским улицам. От сильного ветра у меня потрескались губы, теперь до меня доносился запах моря. Стемнело, на улицах зажглись огни. У нас в Турине, когда в горах выпадает снег, ясным днем тоже пахнет морем. Я внюхивался в этот запах и все искал ту балюстраду, ту остерию, где мы сидели с Линдой. Даже здесь она не выходила у меня из головы, но теперь я глядел на море уже с другой, незнакомой балюстрады.
Когда мы ехали обратно, мною всецело завладела мысль, что я возвращаюсь в Турин. Я прислонился головой к стенке кабины и попытался уснуть. Мне казалось, что меня подстерегает опасность, что сейчас должно решиться что-то, от чего зависит моя жизнь. Я подумал: «Но ведь все уже решено, это произошло».
Мило сказал:
— Переключай сцепление осторожнее. Если сломается, застрянем мы с тобой посреди дороги. — Потом снова принялся рассказывать про свою девушку.
Так я и проводил теперь дни: то в остерии, то на грузовике. Выпивал, куда-то спешил, спал где придется. Домой забегал только взять сигареты.
Однажды мать сказала:
— Ты бы хоть рубашку сменил!
Я натянул на себя фуфайку, а поверх — комбинезон.
— Я еду в Бьеллу, а там меня никто не знает, — ответил я.
Вскоре я узнал, что Амелио давно уже не живет на старом месте. Он приобрел нижний этаж дома вместе с лавчонкой, которая там помещалась. «И это как раз теперь, когда все кончено». Но мне нравилось, что я не знаю, где он живет. Я думал о Линде, которая знала, где я живу, и каждый вечер, как обычно, отправлялась в бар.
«Но ведь с Карлетто я могу повидаться», — подумал я однажды вечером. Я прошел мимо бара, где бывали Линда с Лубрани, прошел мимо витрины ателье. Последний раз я проходил под этими портиками с Линдой. Я обернулся и поглядел вверх на Торре Литториа. Я вспомнил, что, выходя от Линды, на другом конце площади я обычно видел эту башню. Может, и Линда, проходя здесь, думала об этом.
В «Маскерино» никого не было, кроме Карландреа и девиц. Официант ничего не мог мне сказать. Тогда я побрел к зданию варьете, не зная, что же делать дальше, и отчаяние начало охватывать меня. Я равнодушно взглянул на выставленные фотографии артисток, сколько раз я видел их, проходя мимо, как вдруг передо мной возникло лицо Карлетто; да ведь это та самая фотография, где Карлетто снят в черном костюме, элегантный и улыбающийся. «Помирились, значит, — подумал я, — тем лучше». Но у меня было такое чувство, будто я что-то потерял, и мне было грустно, что теперь Карлетто стал работать на Лубрани.
Я постоял несколько минут у театра. «Надо на что-то решиться, — подумал я, — иначе я скоро начну метаться по улицам и говорить сам с собой». На душе у меня кошки скребли. Я спросил у кассирши, когда кончается спектакль. «И эта тоже день и ночь работает на Лубрани, — подумал я, — ему мало артисток кордебалета». Кассирша ответила, что я могу подождать здесь, ведь все выходят только через главный подъезд. Тогда я вернулся в «Маскерино» и сел у темного окна. Ждать — это тоже занятие. Чтобы немного успокоиться, я выпил рюмку вина. У театра прохаживалось несколько человек. Внезапно главный вход осветился, и я увидел Карлетто и других артистов. Они остановились у двери, о чем-то заговорили; потом показались Линда и Лубрани. Всей компанией они перешли площадь. В этот момент на улице зажглись фонари. Первой меня заметила Линда и сразу что-то сказала Карлетто. Мне она помахала рукой, но не двинулась с места. Я уже собирался уйти, но в этот момент дорогу мне преградил Карлетто.
— Дамы ждут тебя, — торжественно проговорил он. На нем был черный пиджак, прическа растрепалась.
— Кого я вижу! — воскликнул я. — Да ты, похоже, опять помирился со своим хозяином?
— Знаешь, всякое бывает. Так ты идешь с нами?
Я усадил его, налил ему вина.
— Когда мы с тобой вдвоем посидим? Я уже забыл, когда последний раз играл на гитаре.
— Зайди за мной завтра к концу спектакля, — сказал он.
— Эх, Карлетто, Карлетто, как же тебе мало надо, чтобы успокоиться. Тебе больше уже не снятся кошки?
Но тут подошла Линда и спросила, почему я задерживаю Карлетто.
— Я никого не задерживаю.
— Можно мне сесть за твой столик?
Заиграл оркестр, Линда поднялась и сказала мне:
— Потанцуем?
Танцуя, она все пыталась вызвать меня на разговор:
— Какая тебя муха укусила? Все эти дни я ждала тебя. Ты никогда меня не любил — в этом все дело.
Я высказал ей все, что у меня лежало на сердце; она молча слушала. Потом сказала:
— Пабло, хочешь, уйдем куда-нибудь вдвоем?
Чего она мне только не наговорила, когда, обнявшись, мы сидели на холме.
— Ты обращаешься со мной, как со своей рабыней, — сказала она. — Вдруг ни с того ни с сего исчез, да я еще должна была первая заговорить с тобой.
— Дни и ночи я бродил по улицам, стараясь забыть тебя.
— Теперь ты видишь, что это бесполезно! — воскликнула она. — Ты со мной.
— В другой раз уйду навсегда.
— Ты нехороший, — сказала она. — Не смей так говорить!
— Замолчи, прошу тебя, замолчи, — сказал я.
— Ты, конечно, меня любишь, но другом мне быть не можешь.
— Разве не лучше нам быть только вдвоем? — спросил я. — Не хочу делить тебя ни с кем.
— Покажи мне человека, который хотел бы иного, — смеясь, сказала она мне на ухо.
Потом я в последний раз спросил ее, согласна ли она, чтобы мы жили вместе.
— Я тебя прощаю, — сказал я. — Принимаю тебя такой, какая ты есть. Вот с этой самой ночи давай жить вместе.
Она ответила мне, — в темноте я не видел ее лица, — что, пожалуй, попытается.
На следующий день мы пошли в кафе. Пока я пил черный кофе, она все поглядывала на меня. Потом сказала:
— Пабло, встретимся вечером, хорошо?
— Я от тебя целый день не отстану.
— Это невозможно, Пабло. Мне надо идти в ателье. Ты что сегодня будешь делать?
Вечером мы снова отправились в «Парадизо», и все пошло по-старому.
— Иной раз, — сказала она, — ты бываешь просто невыносим. Никак не хочешь понять, что каждый живет по-своему и то, что я делаю, касается только меня одной. У тебя ведь есть друзья?
— Я их всех бросил.
— Значит, ты не со мной одной так поступаешь. Но ведь это ничего не даст. Люди-то разные. И каждый по-своему интересен.
Теперь я понял, что совсем одинок. Вдруг понял это и почувствовал себя почти счастливым. Мысль, что, побывав в постели у Линды, я тихонько спущусь по лестнице и пойду бродить по туринским улицам, а потом улягусь спать один, была живительной, как глоток ликера. Все остальное не имело никакого значения, и я примирительно ответил:
— Может, ты и права.
Линда с довольным видом взяла меня за руку.
Ночь мы провели вместе. Назавтра я договорился ехать с Мило. Знать, что Линда будет ждать меня, было приятнее, чем спать с нею. Такую жизнь вел и Амелио. Проходя в темноте по площади, я чувствовал себя счастливым.
По вечерам мы иногда встречали Карлетто. Ужинали мы с Линдой, как и прежде, в «Маскерино» и по молчаливому уговору уходили из бара пораньше, чтобы не повторять прежних ночных кутежей. Карлетто ничуть нам не мешал; когда мы приходили, он, улыбаясь, вставал из-за стола и придвигал Линде стул.
Он каждый день ходил в «Парадизо», чтобы встретиться там с Лили. Однажды вечером он сказал:
— Завтра возвращается этот, с Торре Литториа.
Я не знал, что Лубрани был в отъезде. Линда покраснела и зло посмотрела на Карлетто. «Ага, — подумал я, — покраснела». Я никогда не видел, чтобы Линда краснела. И тут я вдруг понял, что Линда помирилась со мной в тот самый день, когда уехал Лубрани.
Линда накинулась на него:
— Что ты этим хочешь сказать?
— Да так, ничего, просто для кого-то кончилась безмятежная жизнь, — усмехнулся Карлетто.
Я заметил, как Лили дернула его за руку и тихо сказала:
— Перестань.
Но Карлетто уже разошелся во всю. И весь свой гнев излил именно на Линду.
— Меня просто зло берет, что ты еще находишь простачков, которые тебе верят, — резко сказал он. — Сама прекрасно знаешь себе цену, но помалкиваешь. Все вы одного поля ягоды: что ты, что она. Карьеру вы себе делаете не на сцене, о нет!
Лили совсем растерялась, но Линда не произнесла ни слова. Спокойно смотрела на него и улыбалась. Потом взяла его стакан и, пристально глядя ему в глаза, отпила немного вина и отдала ему стакан. Карлетто слегка поклонился ей. И оба расхохотались.
На обратном пути я даже не стал упрекать Линду. Она шла молча, заметно встревоженная. Наконец неуверенно сказала:
— Вот дурень. Может, ему Лили чем-то досадила.
Мы остановились у ворот ее дома.
— Значит, завтра он возвращается? — спросил я.
Она, украдкой поглядывая на меня, сказала:
— Ты же знаешь…
— Вечером увидимся?
— Конечно.
Я был рад, что пошел домой. На следующий день я все утро играл на гитаре. Из кухни шел приятный запах супа, в комнате было тепло, и я с удовольствием повторял одно упражнение за другим. В полдень зашел механик, приятель Мило, купил сигару и завел разговор о политике. «Те же речи, что у Амелио, — подумал я. — Профессия у них, видно, такая, что они все в политику ударились». Механик нападал на тех, кто выколачивает из народа деньги и хочет заткнуть ему рот, чтобы править, как им вздумается.
— Но в этот раз горшок сам полез в печь. В Испании им уже задали жару. Не знаю, понятно ли тебе?
— Разве одни фашисты едят из этого горшка? — спросил я.
— Кухня и повара фашистские. Не обязательно всем носить черную рубашку.
XI
Теперь я знал, что значила для меня Линда. Достаточно было подумать о Лили, чтобы понять это. О Лили, которая готова была провести ночь с кем угодно и думала лишь о бальных туфельках. Я бы мог легко, играючи сделать ее своей любовницей. Нет, Лили никому не западала в душу.
Линда, даже не сказав «прощай», снова сошлась с Лубрани. В «Маскерино» она велела передать мне, что у нее уйма работы. Вечером я пошел к ней, долго ждал ее у ворот дома, но не дождался. На следующий день я отправился в ателье. Девушки портнихи посмеивались мне вслед. Линда разговаривала со мной в салоне совершенно взбешенная.
— Знаешь, это уж слишком, — сказала она. И сразу вышла. Потом вернулась. — Здесь работают, ты что, не понимаешь? — бросила она мне в лицо. Но потом все-таки позволила взять себя за руку и постояла еще с минутку. — Если смогу, вечером встретимся.
А я в этот вечер отправился с Мило в Монкальери и гитару взял с собою. Мы завернули к одному приятелю в бар.
— Никаких девушек, — сказал я Мило, — видеть их не могу.
В полночь с улицы раздался стук в окно. Девушки хотели войти послушать мою игру.
— Встань у дверей и никого не пускай, — попросил я Мило.
— С чего это ты, вроде как не хромой и не горбатый, а прячешься? — удивился Мило.
— Встань у двери, говорят тебе.
Я совсем захмелел. Мило выглянул за дверь и сказал:
— Подожди меня немножко.
Когда он через полчаса вернулся, я разговаривал сам с собой. «Как Амелио, — рассуждал я вслух, — она вышвырнула меня, как когда-то Амелио». Мило сказал:
— Там тебя какая-то блондинка дожидается.
Он повел меня в парк, где дорожки были усеяны опавшими листьями. Блондинка ждала, прислонившись к дереву. Листья под ногами были скользкие, и мы с Мило то и дело спотыкались.
— Вас что, ноги не держат? — смеясь, сказала она.
Было совсем не холодно. Я прижался к шершавой коре дерева. Мило крикнул:
— Ты уж его приласкай!
Блондинка все сделала сама, уходя, она аккуратно застегнула мое пальто. Когда Мило втиснул меня в трамвай, я больше не разговаривал сам с собой.
— Завтра отправляемся в путь, — сказал он, — машину поведешь ты.
Целый месяц я беспробудно пил. «Как Амелио, — думал я. — Она меня прогнала прочь, как когда-то Амелио». Я искал забвения в вине. Еще не придя в себя после одной попойки, я уже начинал думать о следующей, и так мне тошно было, что хоть плачь. Мило убеждал меня: «Да плюнь ты на все», — а я пил и пил, и ночь превращалась в день. Но напиваться каждый раз тоже было тяжело.
— Уже март наступил, — сказал мне однажды Мило, — самое хорошее время для работы. Ты что все-таки собираешься делать?
Я ничего ему не ответил, только стиснул зубы.
В тот месяц мы ездили с ним в Бьеллу и Новару, снова побывали в Казале; я жил как во сне. Помню только, что возвращался на рассвете, ночевал в кафе, носился на грузовике по дорогам. Однажды я вскочил на колесо, когда машина уже тронулась, и с размаху упал на асфальт; мне показалось, что пришел мой конец. Меня точно ударили кулаком между глаз, на мгновение я потерял сознание. Мило что-то кричал и звал меня, а я, с глупым видом глядя на него, радостно сказал: «Да ведь я не пьян. Все в порядке».
Помню еще, что все это время ел я, как голодный волк. Ел дома, в машине, ел в Казале и Новаре. Лишь за едой горе мое утихало. Оно сменялось раздражением, и от этого я еще больше страдал. Это поглощало все мои силы.
Мило говорил, что я должен сдать экзамен на шофера и получить права. Но я и слышать об этом не хотел. Кое-что я и так тайком зарабатывал, а на большее у меня упорства не хватало, ремонтную мастерскую я окончательно забросил. Частенько играл с шоферами в карты в кафе; все ночи напролет я либо бренчал на гитаре, либо резался в тресетте; играл я крупно и просадил немало денег. Оказывается, и в картах, чтобы выиграть, нужен азарт, а у меня голова была занята совсем другим, и я играл спустя рукава. Мило говорил мне:
— У тебя один недостаток. Не умеешь доводить дело до конца.
Но дела — они своим чередом идут. Карлетто никуда не уехал. Однажды вечером меня кто-то окликнул. Передо мной стоял Карлетто. Он был без пальто.
— Продал, — сказал он, — я снова на мели. Ты чего не здороваешься?
За разговором мы незаметно дошли до «Маскерино». Увидев, что я хочу пройти мимо, он с обычной своей усмешкой сказал:
— Не волнуйся. Там уже давно никто не бывает.
Мы вошли в бар.
— Ты что, в больнице лежал? — спросил он.
— Я бы не прочь, да только не кладут туда тех, у кого аппетит хороший.
Я подумал: «Еще неизвестно, кому из нас двоих хуже». Протянул ему недокуренную сигарету и с грустью посмотрел на его осунувшееся лицо.
— Ты с тех пор никого не видел? — спросил он.
— Никого.
Я заказал крутое яйцо и сказал ему:
— Ешь.
— А ты что же, не будешь? — удивился он. — Раньше ты вроде на аппетит не жаловался.
В тот вечер мною овладело злое веселье. Карлетто наконец-то на все открыл мне глаза. Мы закусили, выпили, я слегка похлопал его по горбу и сказал:
— Знаешь, я даже рад, что Лубрани снова надул тебя.
— А ведь в Риме меня Дорина ждет, — сказал он. — Там уж с голоду не умрешь.
— Ты уверен, что ждет?
— Ручаться никогда нельзя, — засмеялся он, — никогда.
Мы еще несколько раз виделись с ним после этого. Спал Карлетто в театре, в каморке ночного сторожа.
— Лубрани мне хоть ложе предоставляет, — сказал он, — а вот Лили это и в голову не пришло.
— Ты ее больше не видел?
— Я же тебе говорил, что продал пальто.
Мне было приятно помочь ему. За обеды платил я. Словно со мною рядом была женщина, которая нуждалась в помощи.
— Как только заработаешь немного денег, купишь себе билет и укатишь в Рим, — сказал я. — А жаль расставаться.
— Когда вернусь в Рим, сразу расплачусь с тобой.
— Болван ты. Разве о деньгах речь?
Как-то он даже зашел ко мне домой. Карлоттина встретила моего друга весьма недружелюбно и метнула на него свирепый взгляд. Карлетто сказал ей:
— Почему бы нам не попробовать петь вместе? — Он взял гитару и стал ее настраивать. — Создадим трио. Мы с вами, синьора, будем петь, а Пабло играть. Станем шататься по площадям, и вы будете обходить народ с шапкой.
Он еще долго донимал ее, Карлоттина в ответ что-то бурчала себе под нос. Того и гляди обзовет его «проклятым горбуном». Тогда я взял гитару и вышел с ним на улицу.
Наконец Карлетто нанялся петь по вечерам в кино. Где-то у черта на рогах, далеко за Дора.
— Поверь мне, что театр, что кино — разницы большой нет, — объяснял он.
Там ему больше помогал горб, чем голос. Он пел песню про одного еврея, у которого горб рос быстрее, чем у беременных женщин живот. Потом появлялись две девушки, колотили Карлетто по спине трехцветным флажком, поддавали ему под зад и распевали «Убирайся вон из Италии». В зале кто смеялся, кто свистел.
Лишь несколько вечеров выступал он там, заработал двадцать лир, а потом его выгнали на все четыре стороны. Чтобы подбодрить его, я предложил вместе ходить по дворам и петь.
— На худой конец обольют нас водой.
— Ну что ж, я готов, — сказал Карлетто.
Я взял гитару, и мы отправились с ним по глухим дворам. Пошел я на это скорее из любопытства. Я мог больше заработать за одну поездку с Мило, но мне хотелось помочь Карлетто. И мне даже доставляло какую-то горькую радость это добровольное унижение. Я тешил себя мыслью, что вот, кажется, я уже совсем прибит к земле, раздавлен, а все не сдаюсь. Так мы бродили по дворам все утро. Потом перенесли свои концерты со дворов на улицу. Мне было все равно где играть, но Карлетто совсем охрип. Я только подыгрывал ему и следил, не покажется ли привратник. Но подбирать деньги, которые бросали служанки, я не мог. Мне это казалось столь же унизительным, как собирать окурки. Я очень удивлялся, когда сверху сыпались монеты.
— Это твои, ты и собирай, — говорил я Карлетто. Обычно и двух лир не набиралось.
Я бросил Мило и связался с Карлетто. С ним день тянулся не так долго. О Линде мы не говорили. С меня хватало того, что Карлетто и так все знал. Я все еще был оглушен тем, что со мной произошло. Меня грызла тоска, я не мог смотреть на женщин. По утрам еще было совсем свежо, а вечерами привольно, как в поле. Должно быть, так сейчас на море. Иногда я думал, что Линда ведь могла бы ко мне вернуться, и мне становилось жалко и ее тоже. Сколько раз она бросала Лубрани и возвращалась ко мне. Может, она-то и страдала больше всех и шутила потому, что наперед знала, чем все кончится. Наверно, и Амелио понял ее игру, которая и мне теперь стала ясна. Значит, все было заранее решено с того самого дня, когда она впервые зашла в магазин и спросила, как ей найти Пабло. И снова мне стало так тошно: ведь, выходит, я был лишь игрушкой в ее руках.
— С тобой, Карлетто, не случалось, — спросил я, — чтобы все было решено еще до того, как ты что-либо сделал?
Он ответил, что со всеми такое бывает. Всегда находится человек, который становится тебе поперек дороги, и ты хочешь поступить по-своему и не можешь.
— А ведь хорошо всегда поступать по-своему.
— Конечно, но слишком многим хочется тобой командовать.
— Но я не о том говорю. Я говорю о том, что делается под настроение. Ну там стаканчик выпьешь, сигаретку выкуришь, с девушкой погуляешь.
— Слишком многие и тут хотят командовать. Насчет выпивки и курева тоже решает хозяин.
— Ну а насчет девушек?
— За тебя решает хозяин. Если не получишь работы и останешься без гроша, можешь с девушками распрощаться.
Я не понимал, куда он гнет. А он ждал, и в глазах у него зажегся лукавый огонек. У меня-то ведь другое на уме было, совсем другое.
— Посмотри, что они сделали с Италией, — сказал он. — Можешь ты по своему желанию хоть пальцем пошевелить? Дадут тебе работу, если ты разные там документы не представишь? Позволят тебе хоть на кусок хлеба заработать, если ты им низко не поклонишься?
— Вожу ведь я машину без всяких прав.
— Ты можешь только на гитаре играть. Да притом украдкой. И даже петь не имеешь права, не то с тебя штраф сдерут.
Да, гитара, подумал я. На гитаре я, конечно, могу играть, когда мне вздумается. С Карлетто поболтать. Конечно, в таких мелочах я сам себе хозяин. Но есть ведь вещи поважнее, те, что человека к земле пригибают и от нас не зависят. Придавят, точно грузовиком, будешь задыхаться, как от воспаления легких, и при этом всегда кто-нибудь стоит сзади да руки от удовольствия потирает.
— Так ты, значит, думаешь, что бог всеми делами заправляет? — сказал Карлетто. — Тогда выходит, — задумчиво добавил он, — что бог повсюду: он и с нищими и с теми, кто на Торре Литториа в роскоши живет.
Наступили по-весеннему теплые, душистые вечера. Я бы многое отдал, чтобы, как прежде, ходить с Линдой в «Парадизо». Такие ночи и впрямь созданы для любви. Теперь я часто останавливался у витрин, где была выставлена дамская одежда. Мило уговорил меня брать в поездки гитару. Однажды в воскресенье в Пьянецце он заставил меня играть, сидя на парапете моста, когда мимо проходили девушки. Они даже танцевать стали. С моста было видно всю долину, и мне казалось, что я стою у балюстрады в Генуе. Тут я понял, что свихнулся не на шутку. Мне вдруг захотелось сбросить этих девушек с моста, и счастье еще, что у нас с собой было вино и что Мило поднял меня на смех. Нет, с меня довольно. Я понял: отныне все, что связано с Турином, — и работа, и родной дом, и улицы, по которым я бродил, — не могут принести мне успокоения. И даже мысль о том, что Карлетто есть нечего, меня больше не волновала. Я стал бесчувственной скотиной. Мне надоело видеть его голодные глаза, ведь я знал, что, будь у него деньги, он бы тоже бросил меня.
— Можешь этого не опасаться, — сказал он, — не поеду же я в Рим оборванцем, не имея костюма. В таком виде мне там нельзя показываться.
Он говорил о Риме с упоением, как Мило о женщинах. Рассказывал, что Рим огромный город, где все что-то едят и другим есть дают.
— Там такое изобилие, что это даже в воздухе чувствуется. Никто на ночь дверей не запирает. Пьют и едят прямо на улице.
— А таких вот, с Торре Литториа, в Риме много?
Он понизил голос и, подмигнув, сказал:
— Кое-кто там думает и об этом. Я знаю парней что надо.
Потом он рассказал, что улицы в Риме как бы убегают вверх, а за домами видны пинии.
— Можешь дневать и ночевать на улице, — добавил он. — Сейчас в Риме настоящее лето. Весь город — как одна большая остерия, и небо там всегда ясное. Ходишь-бродишь, куда душе угодно, а хочешь — отправляешься за город. Повсюду люди закусывают, веселятся. Ты бы со своей гитарой там разбогател.
Кончилось тем, что однажды утром я сказал Мило;
— Я еду в Рим.
— Это тебе не Пьянецца, — ответил он. — Туда и обратно шесть дней езды.
— Я хочу остаться в Риме.
— Поезжай лучше поездом, дешевле выйдет.
— Да ведь нас двое.
Мило посмотрел на меня и сказал:
— Ладно, договорились.
XII
Когда я приехал в Рим на грузовике, который раздобыл для нас Мило, я был доволен, что проделал такой длинный путь и что на свете существуют другие края, города и горы и столько всяких мест, которых я никогда не видел. Приехали мы ночью. Карлетто спал, прислонившись к плечу шофера. Мы остановились поужинать в горном селении; там в маленькой таверне, где на стене висели воловьи рога, а крестьяне кричали и ругались не хуже господ, я перестал наконец вспоминать о доме. «Хорошо, — подумал я, — что хоть здесь Амелио никогда не был».
— На этот раз, — сказал я Карлетто, — мы поступили как хотели.
— Как знать, — ответил он. — Просто нам пока везет.
Ночь выдалась холодная; шофер по моей просьбе высадил нас у какого-то селения на берегу реки. Я не хотел ночью вламываться в чужой дом и будить людей.
— Пойдем до Рима пешком, — предложил я, — часа через три начнет светать.
Но у нас был багаж и еще гитара.
— Ну а если ночной патруль заметит? — с тревогой спросил Карлетто.
Дорина жила на площади возле моста.
— Это мост Мильвио, — сказал Карлетто.
Я шел и все оглядывался по сторонам. Дома здесь высокие, попадаются даже десятиэтажные, и все холмы залиты светом. На улицах не было ни души.
— Знаешь, Карлетто, мы точно по центру Турина идем, а ведь это самая окраина, — с удивлением заметил я.
Проснулся я в незнакомой комнате и увидел, что лежу на низеньком диванчике. Ночевал я не в доме Дорины. Ночью, завидев нас, Дорина, ее мать и дочки подняли такой крик, что выбежали все соседи, и, поскольку у Дорины в доме свободного места не оказалось, меня приютила толстая старуха, которая выскочила на лестницу в ночной рубашке. Они с Дориной начали орать не своим голосом, точно случилось несчастье. Но оказалось, что это обычный разговор двух римлянок, и старуха спокойно сказала, что я могу переночевать у нее — живет она одна, и ей очень нравится, когда молодые люди играют на гитаре. Она уложила меня в постель, и я был рад, что Карлетто и Дорина смогут насладиться встречей.
Разбудил меня уличный шум, но в доме было очень тихо, хотя время уже близилось к полудню. Я вдруг заметил, что воздух здесь совсем другой — более сухой и прозрачный, небо было июльской голубизны, каким бывает в Турине ясным январским днем.
— Чем это пахнет? — спросил я у старухи, которая убирала комнату.
— Кофе варится, — ответила она. — Не хотите выпить чашечку?
Но когда я вышел, то понял, что это был не только запах кофе. На площади перед двумя статуями, увенчивавшими мост, дорожные рабочие суетились вокруг котла с кипящим гудроном. «А ведь и Рим культурный город», — подумал я.
Мы договорились, что ночевать я буду у старой Марины. Каждый день я встречался с Карлетто, и мы шли с ним к Дорине обедать. Дорина оказалась еще толще, чем на фотографии. Она скорее походила на мать Карлетто, но лет ей было не так уж много. Она расхаживала по дому в халате и все время покрикивала на своих двух дочек. Муж ее, социалист, сидел в тюрьме. Странное дело, Дорина понимала толк в пении, да и сама прежде была певицей, но об искусстве никогда и не заговаривала. Вообще она обращалась со мной и с Карлетто, как с двумя повесами и бездельниками. Но, оставшись вдвоем со мной, она сразу сказала, что я просто сокровище, что я не должен ни о чем беспокоиться и спокойно отдыхать. Я предложил ей денег, но она отказалась. Карлетто она объявила, что в театре его ждут. Он отправился туда, и его сразу приняли. Я подумал, что когда женщина относится к тебе как к сыну, то либо она уже замужем, либо ты горбун. Но как это Карлетто мог, ни о чем не задумываясь, жить с ней, у меня просто в голове не укладывалось. Нет, он еще настоящий мальчишка, этот Карлетто. Когда я ему сказал, что все могу понять, но не представляю себе, как можно украсть жену у человека, который сидит в тюрьме, он ответил, что жену всегда у кого-нибудь крадут и надо устраиваться — ведь в один прекрасный день ее и у тебя украдут.
— Но ведь он в тюрьме, — сказал я.
— Он это заранее знал, — невозмутимо ответил Карлетто. — Тот, кто садится в тюрьму, понимает, что женщине нужен друг сердца. В Риме нельзя жить без любовника.
Мы вышли вместе с Дориной и отправились в тратторию поужинать. Она любила провожать своего Карлетто до варьете. Представления давались на небольшой сцене кинотеатра в центре города, зрители в зале кричали и переговаривались между собой, словно они собрались на площади. Карлетто, как только кончался его номер, присоединялся к нам. Мы ели салат и блинчики, пили сухое вино. Сначала оно мне пришлось не по вкусу, но потом я распробовал его как следует и пил с удовольствием.
— Судьба моя такая, — пожаловался я как-то Дорине, — куда ни приеду, только и знаю, что в остериях время провожу.
— У тебя, наверно, нет своего дома, — сказала она.
Вообще-то на «ты» мы перешли с ней позже, но в тот вечер она впервые так обратилась ко мне.
— Да я только что из дому: мне там мать и сестра уже порядком надоели.
— У нас тебе будет хорошо, — сказала она, — и, если захочешь обзавестись собственным домом, оставайся здесь.
Я смотрел на нее и смеялся. Мне нравилась в Риме эта лень, которая точно была разлита в воздухе. Здесь и вино пили по-иному, чем в Турине, не торопясь и не до бесчувствия. Все — и люди, и дома, и белое вино — нравилось мне и вселяло бодрость. Я знал, что смогу здесь жить и работать, что столько дорог и гор осталось позади; и каждый день мне казалось, будто я только что слез с грузовика и что мне теперь никакие пути не заказаны. Если мною овладевала тоска по Турину, я сжимал кулаки, начинал кружить по комнате и, устремляя свой взор вверх, твердил про себя: «Пабло, ведь ты в Риме». И постепенно успокаивался. Да, теперь я стал другим.
Пока я жил на свои скромные сбережения, и горя не знал. Марина брала за комнату сто лир, да еще поила меня кофе и стирала белье. Взамен я угощал ее апельсинами и однажды даже сыграл на гитаре. Она тоже была толстой, но такой старой, что с трудом двигалась. По утрам она бродила по дому в одной рубашке и юбке, смотрела, как я бреюсь, и все удивлялась, до чего же я еще молодой. Раньше на этой кровати, рассказывала она, спала красивая девушка, еще красивее Дорины, свежее и моложе ее. Она тоже причесывалась перед этим зеркалом, умывалась над этим вот умывальником. Она была брюнеткой, звали ее Розария.
— Сколько она берет? — не поворачиваясь, спросил я.
Марина громко рассмеялась.
— Вы, туринцы, народ хороший, — продолжала она болтать. — Только вот финоккьо [24] есть не умеете. Хотите сразу до мякоти добраться и все вкусное выбрасываете. А у финоккьо мякоти нет.
— Иногда он в горле застревает, — ответил я.
Она добавила, что насчет Розарии я ошибаюсь. Два года назад ей счастье привалило: она была в Фреджене и подцепила там богатого синьора. Теперь ей, наверно, половина Рима принадлежит.
— Понятно, финоккьо, значит, купается в оливковом масле, — пошутил я.
Марина стала объяснять мне, что Рим — это бездонная бочка. Она ерзала на стуле и вздыхала.
— Эх, если бы я не была такой старой, — сокрушалась она. — Мы, римлянки, очень уж любим сладко поесть и побездельничать. А что из этого получается, по мне и Дорине видно. Раньше-то, в молодости, я жила в Кампителли; в воскресенье, пока доберешься сюда, всю душу вытрясет. Ты небось думаешь, что все эти дома, дороги и дворцы на виа Фламинио и до самой этой площади римляне строили? Уж можешь мне поверить, не они. Другие строители, такие же парни, как ты, из разных там городов. У нас были только камни, а кто знал, что это деньги?
— Я тоже не знал, что из камней можно делать деньги, — пошутил я.
— Не разыгрывай из себя Карлетто, — сердито сказала она. — Я вот вижу, ты с гитарой не расстаешься, и так мне за тебя больно. Хоть мне и приятно слушать твою игру, но я хочу, чтобы ты добился большего. Возьми, к примеру, дуче. Он ведь тоже из ваших краев.
Поговорив с ней, я выходил из дому и шел бродить по городу. Рассматривал улицы и дворцы, среди них были такие старые, что их, конечно, только римляне и могли построить. Мне как-то не верилось, что эти дворцы могли воздвигнуть простые парни, вроде меня. Здесь и дышалось по-иному, словно сам воздух был другой. Я останавливался на мосту, смотрел, слушал, как тараторили римляне. Таких холмов и таких ярких цветов в наших краях и не встретишь. Эта толстуха Марина много всякой ерунды наболтала. Мне хорошо здесь потому, что все кажется новым, необычным. И все-таки, когда я проходил иногда лунным вечером по мосту Мильвио и смотрел на холмы, встающие за Тибром, на чернеющие вдали рощи, мне казалось, что это рощи по берегам моего родного По и склоны Сасси. С холмов все местности одинаковы. Мне эти места нравились больше, чем дворцы Рима. От моста шла платановая аллея, напоминавшая мне Валентино или Ступиниджи. По мосту мчались грузовики, уезжавшие из города. В остериях обедали дорожные рабочие и каменщики, стоял запах извести, а на дороге целый день раздавались удары кувалд и кирок.
— Видишь, и в Риме работают вовсю, — сказал мне Карлетто. — Наш импресарио восседает в Палаццо Венеция[25]. Откуда только такие деньги берутся, никто не знает. Строят башни, мосты, уборные. Неважно что, лишь бы строить.
— Но ведь люди живут.
— Люди живут и на каторге. Там даже кормят бесплатно.
А однажды старая Марина меня отчитала. Она пересмотрела всю мою одежду и осталась очень недовольна.
— Так ты, значит, не фашист, — разочарованно сказала она. — Даже черной рубашки у тебя нету.
— Разве это обязательно?
— Священника по сутане узнают. Тебе мать что, этого не говорила? Ты в Рим зачем приехал — зарабатывать деньги или проживать последнее? — Она покачала головой и добавила: — Ты поберегись. И похитрей тебя люди за решетку попадали.
Карлетто и Дорина ненавидели фашистов смертельной ненавистью. Но это не мешало Дорине порой набрасываться на Карлетто. Когда ее дочки не возвращались вовремя домой, когда они что-нибудь разбивали или их прогоняли с площади мальчишки, члены балиллы, бабушка начинала причитать, что живут они, как на улице, а другие еще носят эту форму. Дорина принималась кричать, что если уж мужчина не понимает, что кругом делается, то чего можно требовать от них, женщин? В каких только грехах не обвиняла она Карлетто и своего арестованного мужа. Денег они не накопили, отравили ей лучшие годы, и все ее мечты разлетелись в прах. Карлетто она упрекала за то, что он умеет лишь смеяться да издеваться над другими, а муж ее как был наивным мечтателем, так и остался.
— Будь я мужчиной, — восклицала она, — уж я бы…
— Ну, что бы ты сделала? — смеялся Карлетто. — Ведь ты и сейчас получше многих живешь.
Я вспомнил, как однажды мы сидели вечером с Амелио в кабачке и зашел разговор о политике. Кто-то стал громко доказывать, что дуче все правильно делает и теперь нам, итальянцам, живется лучше, чем прежде, а болтать языком попусту всякий умеет. «Поэтому ты лучше и помолчи», — сказал Амелио. И так посмотрел на защитника дуче, что у того пропала всякая охота говорить.
Но наедине со мною Дорина никогда не заводила разговора о фашистах. Когда мы выходили вместе из дому, чтобы встретить Карлетто, она расспрашивала меня о Турине, об ателье мод и сама рассказывала, что пошла в театр так, из каприза, и тогда в Генуе все продала: шубы, драгоценности, даже голос. И смеялась.
— Не знаю уж почему, но вы, туринцы, мне нравитесь, — как-то сказала она. — Вы сумасшедшие, насмешники и упрямцы. И все-таки, не будь у меня семьи, я, может, и решилась бы…
Я вел ее под руку и думал о Турине. «Пабло, помни, ты теперь в Риме, — настойчиво твердил я себе, — ты в Риме».
— А по Турину ты не скучаешь? — вдруг спросила она. Потом стала грустной и заговорила о своих годах: — Старшая дочка уже кокетничает с мальчиками, знаешь.
Тут подошел Карлетто и сказал:
— Ага, попались.
В нашей траттории Дорина была общей любимицей. Поначалу я решил: верно, потому, что прежде она пела в театре, да и теперь ее еще частенько просили спеть. Но однажды вечером я услышал, как один из сидевших за столиком с восхищением сказал приятелю: «Вот это женщина!» — и понял, что обоим им Дорина кажется красивой. Мне страшно захотелось рассказать о своем открытии Карлетто. «В Риме у людей даже вкусы другие, — в изумлении подумал я. — Вот ведь какие им женщины нравятся». Когда мы возвращались домой, я заметил, что многие мужчины оборачивались ей вслед. «Что ж, Дорине это только приятно», — порадовался я за нее.
Почти полдня мы проводили в остерии, и очень скоро я убедился, что Карлетто прав, когда говорил, что Рим — одна большая остерия, где жизнь бьет ключом. И верно, в остерию приходили целыми семьями, приносили с собой цыпленка, салат, фрукты, заказывали вина и с аппетитом принимались за еду. Я вспомнил «Маскерино», куда постоянно заглядывали артисты. Теперь я понял, что «Маскерино» просто грязная, жалкая дыра, которую посещали лишь захудалые артисты да проститутки. Здесь же собирались люди со всего квартала, и все пели, веселились, попивали вино, закусывали. Я вспомнил ту ночь в «Маскерино», когда мы сидели с Карлетто и его друзьями, римскими артистами, и следующий день, и еще следующий, и столько всего вспомнил.
Наступил апрель и принес тепло; двери домов распахнулись, в остерию залетал свежий ветерок, и все улицы были словно усыпаны звездами. Ко мне приставали, чтобы я принес в остерию гитару — нашлись там и другие гитаристы. Я играл, Карлетто сыпал шутками, и скоро все начали называть меня просто Пабло.
XIII
Немножко заработать оказалось не так трудно, и скоро я убедился, что в Риме полным-полно таких вот Пабло. Все приятели убеждали меня сговориться с хозяином какой-нибудь остерии и играть там для посетителей. Теперь Карлетто не нуждался в моей помощи, и я, гуляя по городу, заглядывал в мастерские, заходил в гаражи и спрашивал, не нужен ли им работник. Я хотел и в Риме устроиться механиком или шофером. Но одни требовали от меня шоферские права, другим надо было дать взятку, третьи не верили, что я из Турина.
— Да ведь я приехал на грузовике, — доказывал я. — И водить его умею.
«Какую я глупость сделал, что не записал номер того грузовика, на котором мы с Карлетто приехали в Рим».
В двух шагах от дома Марины, на виа Кассиа, была мастерская, где ремонтировали велосипеды, а иногда седла и конскую сбрую. Даже непохоже было, что эта мастерская находится в Риме.
Паренек, работавший в этом сарае, сказал мне:
— Тебе надо поговорить с Бьондой[26].
Я и в самом деле ожидал увидеть блондинку, но ко мне вышла женщина с лицом цыганки, в брюках и клетчатой блузе. Она посмотрела на мой галстук и ботинки — галстук был приличный, ботинки дырявые — и спросила:
— А рекомендации у тебя есть?
— Пока что нет.
Она взяла меня на работу.
Неподалеку от мастерской рабочие строили мост, и вечно кому-нибудь требовалось починить велосипед. Пиппо, подручный Бьонды, лишь проверял отремонтированные велосипеды да развозил заказы. Хозяйка была вдовой, ее муж недавно умер, и она боялась, как бы не растерять всех клиентов. На нас она бросала злые взгляды и говорила только по делу, видно, не доверяла нам. Она была из тех женщин, которые могут прогнать своего мужа, а потом плакать о нем по ночам. Пиппо сказал мне, что ночью она бродит по дому, как лунатик; лицо у нее было худое, глаза мрачные, как и полагается вдове. Она целые дни просиживала в задней комнате и через окошечко в стене наблюдала за нами. Вечером подсчитывала у себя за столиком выручку и платила мне поденно. Спала она в темном углу, и воздух в ее комнатушке был спертый, пахло керосином. Когда я приходил утром, она ждала меня у дверей, потом исчезала, даже не поздоровавшись. На вид ей было лет тридцать.
Первым делом я как следует вычистил нашу мастерскую и потребовал от Бьонды положить Пиппо определенное жалованье: до этого он жил на чаевые. Я велел ему накачивать велосипедные камеры и часто посылал с поручениями. Установил для него распорядок дня, но нередко разрешал ему уйти пораньше. Потом я сказал Бьонде, что нам нет смысла возиться с упряжью, тем более что никто из нас не умеет ее толком чинить. Иногда у нашей мастерской останавливалась разукрашенная, как на карнавале, тележка возчиков вина из окрестных селений, которым надо было починить подпругу — грошовая работа. Я убеждал Бьонду не браться за это, но она и слушать не хотела — ее родные всю жизнь только этим и занимались. Я ничего ей не возразил, но возчикам стал отвечать, что мы с Пиппо заняты. Бьонда поняла мою хитрость, но предоставила нам действовать по-своему. Зато старая Марина никак не могла примириться с тем, что я работаю поденным рабочим.
— Нашел себе работу в какой-то дыре, — возмущалась она. — И что ты за человек такой? Зачем, спрашивается, ты в Рим-то приехал? Разве здесь кто знает, что ты играть умеешь?
Потом она принималась за Дорину и доказывала ей, что я вовек не выбьюсь в люди, если буду работать как простой поденщик.
— А твой Карлетто пальцем не пошевелит, чтобы ему помочь, — упрекала она Дорину, — пусть Пабло хоть с голоду подыхает, как последний нищий. У парня золотые руки, а он и в ус не дует.
Но Дорина сказала ей, что со мной в Турине приключилась одна неприятность. После этого она на несколько дней умолкла, а Дорина, едва завидев меня, начинала улыбаться и лукаво подмигивать. Они о чем-то тайком переговаривались с Мариной, но Карлетто, конечно, вскоре узнал эту тайну и тоже стал загадочно посмеиваться. Наконец однажды вечером Марина отозвала меня к окошку и спросила, отпраздновал ли, я уже Пасху. Я не сразу понял, к чему она клонит; она живо сунула мне в руки образок.
— Носи его всегда в кармане, он тебе счастье принесет.
— Я не верю в талисманы, — засмеялся я.
— Не говори так, ведь он священный, тебе поможет.
— Но я же не больной.
— Все мы больные, понял? Ты некрещеный, что ли?
Она была страшно рада моей уступчивости и, когда на следующий день Карлетто стал ей многозначительно подмигивать, весело сказала:
— Он еще мальчик, и женщине легче легкого его терзать.
Я не обращал внимания на все эти разговоры и продолжал работать у Бьонды. Как приятно было выйти вечером в город, зная, что в кармане лежат заработанные тобою деньги. Спускалась ночь, теплая римская ночь, цветы и деревья благоухали так, словно уже наступило лето. Я шел в тратторию и, проходя по мосту, все смотрел на темневшие вдали холмы с редкими пиниями и никак не мог понять, почему холмы эти голые, точно выжженные.
— Город пожирает все вокруг, — сказал Карлетто.
— Будет тебе чепуху нести.
— А ты думаешь, там земля такая, что ничего не растет? Посмотри, сколько зелени в самом Риме. Просто город точно утюгом прошелся по окрестным селениям и оставил после себя пустыню.
Когда я спросил у Карлетто, видно ли с холмов или с Собора святого Петра хоть клочок моря, он ответил, что мне надо самому поскорее съездить к морю. Не сказав никому ни слова, я в одно прекрасное утро сел в трамвай и поехал за город. Слез я в Остии и пошел на пляж. Вспомнил, как мне приснилось, что я бегу за Лили по берегу моря. Давно уже мне не снились женщины. Я шел по мокрому песку, и мне казалось, что я иду по лугу. Потом сел на песок и стал глядеть, как, пенясь, набегают на берег волны. Посидел немного и пошел дальше, к черневшим вдали пиниям, на ходу отшвыривая ногой мусор. Внезапно мне вспомнилось, как Амелио нашел на пляже шарф Линды.
Вернулся я домой вечером и все еще чувствовал на губах соленую влагу моря. Теперь я понимал, почему в Риме люди на улицах шумели и весело смеялись, и не только толстосумы, но и бедняки с окраин. Стоило лишь взглянуть на небо над головой, чтобы понять, что море рядом. Сидя у окон, у дверей, на балконах домов, все, даже последние бедняки, вдыхали этот запах моря. Подсобные рабочие, каменщики, ребятишки, молоденькие девушки, весь бедный люд Рима высыпал на улицу, громко разговаривая и смеясь. Однажды утром мне повстречался отряд фашистов. Они тоже хохотали. Только что закончился их слет, и теперь они, горланя песни, возвращались домой.
— Они тут как сыр в масле катаются, — зло сказал Карлетто. — Ты когда-нибудь видел, чтобы человек пил и ел вволю и был недоволен?
— С виду они вроде народ добродушный.
— Это тебе не Турин. В Рим приезжают, чтобы жирку поднакопить, фруктов всласть поесть. Вот попробуй отнять у этих добродушных фашистов лакомый кусочек, тогда увидишь, что будет.
— А сколько здесь таких, что одни кости грызут, ты не считал? — спросил я Карлетто. — В Италии тьма-тьмущая бедняков, которым есть нечего, а спроси их, так они все за фашистов.
И тут у меня с ним начался такой же разговор, как прежде с Амелио. Но Амелио скажет, бывало, несколько слов, потом тряхнет головой и добавит: «В общем, это пустяки», — и умчится на мотоцикле в Новару, где его ждали друзья. Я понимал, что он не доверяет мне, ведь я никогда газет не читал и о политике не любил говорить. Обо всем этом я часто думал здесь, в Риме. Как хотелось бы мне, чтобы он вдруг оказался рядом.
А сейчас Карлетто говорил со мной, как тогда Амелио. Он сказал, что кое в чем я сам виноват. И объяснил, что таких, как я, много; все мы ничего не делаем, а только поглядываем. Почему победили фашисты? Потому что многие умыли руки. Вот им и удалось захватить Рим. Нам нужно было выступить всем вместе, сопротивляться.
— Что же ты собираешься делать? — спросил я. — Отвоевывать Рим обратно?
В тот вечер мы бродили с ним, пока не погасли уличные фонари. Подолгу стояли у перил моста и не могли наговориться. Карлетто рассказал, что многие старые антифашисты уцелели и готовы продолжать борьбу. Некоторые эмигрировали за границу, другие сидят по тюрьмам. Все борются по мере сил и держат связь друг с другом.
— Фашисты не очень-то уверенно себя чувствуют, — продолжал он, — тюрьмы битком набиты. Многие люди хоть и спят пока еще у себя дома, но за ними день и ночь ведется слежка. Знаешь, что мы должны делать? Нам, молодому поколению, надо работать с массами. Прислушиваться к их разговорам и помогать им разобраться во всем. Надо распространять газеты, вести пропаганду. Организовать забастовку, — в заключение добавил он.
Потом Карлетто ушел выступать в театр, и я с улыбкой подумал: «А как же Дорина? Если ее муж выйдет из тюрьмы, что же тогда будет?» Но когда мы сидели с ней в траттории, поджидая Карлетто, я хорошенько обо всем поразмыслил, и мне стало радостно, что и для заключенных есть надежда. Была прекрасная светлая ночь. На освещенных огнями реклам улицах толпился народ, то и дело проезжали машины и экипажи, остерии были открыты, где-то гремело радио, а эти бедняги сидят за решеткой. Да, хорошо бы разметать всю эту фашистскую свору. Не видеть больше на стенах физиономию дуче.
Понемногу я успокоился и даже пожалел, что не захватил с собой гитару. В тот вечер в тратторию впервые пришли Лучано и Фабрицио, двое друзей Карлетто; мы вспомнили о нашей пирушке в «Маскерино», и Дорина захотела отпраздновать встречу. Немного погодя к нам подсел не знакомый мне гитарист с цветком в петлице и принялся бренчать, да так, что тошно было слушать. Все уговаривали его не играть больше и передать гитару мне. Но тот озлился и, сообразив, что я нездешний, совсем обнаглел и обозвал меня свиньей и ублюдком. Потом швырнул в меня стулом. Когда на шум прибежали полицейские, он валялся на полу и рыгал. А так как уложил его на пол я, мне пришлось сообщить полицейским свою фамилию и адрес. Особой радости я при этом не испытывал: ведь кто раньше знал обо мне?
Дорина натерпелась такого страху, что нам пришлось отвезти ее домой в пролетке. Мы же вчетвером решили немного прогуляться. Шли и пошучивали.
— В Турине такого, верно, не бывает, — сказал Лучано.
— Да нет, не скажи, в остерии всякое случается.
— Пабло молодец, — остановившись, сказал Карлетто, — он, когда надо, умеет постоять за себя. Нужно уговорить его присоединиться к нам.
Мне казалось, что я уже целую вечность не видел Турина. Слушая их разговоры, я вспоминал о той ночи, когда мы пили в «Маскерино» и я играл на гитаре; шел снег, и утром я отправился домой один-одинешенек. Вот и сейчас тоже была ночь, но только ночь в Риме. Я спросил:
— А Джулианелла как поживает? Поет по-прежнему?
Трое друзей оживленно говорили и ничего мне не ответили. Меня даже смех стал разбирать при мысли, что Карлетто может руководить какими-то людьми. А между тем он принял решение.
— Завтра мы получим литературу. Ты, Фабрицио, отнесешь ее в Трастевере. А ты, Пабло, пойдешь со мной на прогулку, договорились? — сказал он.
«Пойти на прогулку» означало отнести листовки в определенный квартал.
— Ведь ты, Пабло, со многими людьми встречаешься. Нам как раз нужно связаться с рабочими, которые строят мост. Помог бы ты организовать забастовку строительных рабочих.
— Да они лучше меня во всем разбираются, — возразил я. — Приходят в мастерскую и сами начинают меня уму-разуму учить. Они до чентезимо знают, на сколько их обсчитали.
— Такие сведения надо собирать, — сказал Лучано, — и потом сообщать нашим товарищам.
Я согласился пойти завтра «на прогулку». И вместе с Карлетто вышел в полдень, поскольку Бьонда была в мастерской.
— Где же листовки? — спросил я.
Карлетто хитро усмехнулся:
— Об этом не беспокойся.
По дороге мы болтали о разных пустяках. Потом вскочили в проходящий трамвай. Сошли сразу после Собора святого Петра.
— Ох, не было бы у меня горба! — вздохнул Карлетто. — А то меня все знают.
Неожиданно у самого моста я столкнулся с каким-то военным. Тот сразу же обрушился на меня с руганью. Я уже хотел было ответить, но Карлетто меня удержал.
— Бежим лучше, а с ним в другой раз рассчитаешься.
Мы юркнули в один из переулков. Люди ютились в каких-то жалких норах, напоминающих стойла.
— Прямо как в Генуе, — сказал я Карлетто.
Он ничего не ответил и толкнул меня в подъезд:
— Подожди здесь.
В подъезде было темно и пахло гнилью. Карлетто мгновенно исчез. Немного погодя я выглянул и увидел, что он возвращается. Он неторопливо шел по переулку и улыбался. Мы опять свернули на улицу.
— Ну а как же с листовками?
— Все уже сделано, — шепотом ответил он. — Теперь нам надо добраться до центра.
«Только и всего», — подумал я, оглядываясь вокруг.
— Почему ты не дал мне почитать хоть одну? Мне тоже интересно узнать, о чем там пишут.
— Это было бы неосторожно, — ответил он. — Такие вещи в трамвае не читают.
Я никак не мог понять, в чем же заключается настоящая опасность. Тогда Карлетто растолковал мне, о чем пишут в этих листовках.
Возвращаясь домой, я все пытался поставить себя на место тех, кто тайком читает эти листовки. Что бы я сказал, прочитав, что кругом воровство, что нам надо быть стойкими и не предавать свой народ и что весь мир ненавидит фашистов? Кто-то рисковал жизнью, печатая эти листки. Об этом и дорожные рабочие говорили, приходя в мастерскую. В моей голове не укладывалось, зачем надо было писать листовки, ежеминутно рискуя, что тебя арестуют. Не понимал я, что за удовольствие находит во всем этом Карлетто. Когда фашистам удавалось поймать кого-нибудь с листовкой в руках, они торжествовали. Про это тоже говорил мне Карлетто. Поднесут листовку к самому твоему носу, прочтут вслух, а потом начинают избивать. Стоило ли идти на такой риск? Ведь если хотят причинить кому-нибудь неприятность, его заранее не предупреждают.
Я возвращался в мастерскую немного взволнованный. В общем-то, я был рад, что узнал, как все это делается. А Бьонде вовек не догадаться, на какую «прогулку» я ходил. И что сказала бы старая Марина? Я бы многое отдал, чтобы поговорить сейчас с Амелио. Вспомнил, как он лежал тогда в постели, а кругом валялись газеты. Верно, он был похитрее Карлетто. Со мной, например, он никогда не откровенничал. Кажется, все бы отдал, чтобы поговорить с ним сейчас.
Но в мастерской вместо Амелио я увидел Солино, приятеля покойного мужа Бьонды; он варил гудрон и полдня проводил в траттории.
— Нам ведь и так платят, — сказал он. — Чего же особенно стараться?
— Кто вам платит?
— Подрядчику прямая выгода, чтобы работа растянулась подольше. Ведь после каждого рабочего дня он немалую толику денег кладет себе в карман.
Бьонда в окошко наблюдала за нами. Я закурил сигарету и прислонился к дверям. Мимо промчался грузовик с прицепом и с номерным знаком Анконы.
— И так тоже жить можно, — сказал Солино. — Зарабатывают шоферы неплохо.
Тогда я сказал:
— Мне довелось работать на грузовике. Люблю я ездить по дорогам.
В комнату ленивой походкой вошла Бьонда.
— Дай прикурить, — обратилась она ко мне. Она тоже частенько курила, стоя в дверях, и держала сигарету, как мальчишка. Была она в комбинезоне покойного мужа. — Значит, хочешь водить машину? — тихо спросила она.
Солино выплюнул окурок и направился к выходу.
— Берегитесь! — на ходу кинул он. — Если Пабло вас бросит, навеки вам соломенной вдовой оставаться.
XIV
Теперь я обедал в траттории напротив мастерской, обычно прямо на улице, усевшись под деревьями. В полдень раздавались шаги каменщиков. Они приходили, запачканные известкой, и заказывали литр вина.
Ни разу еще Бьонда не предложила мне пообедать вместе с нею. Чувствовалось, что одиночество тяготит ее; частенько, не выдержав, она выходила на порог и подолгу курила там. В своей клетчатой блузе она была похожа на мальчишку. Загар словно не приставал к ее и без того темной коже. Иногда я пытался вызвать в своем воображении прошлое: и передо мной была уже не Бьонда, а та, другая, далекая, и мы лежали с нею рядом. Со мной происходило то же, что с выздоравливающим после лихорадки: достаточно было любой мелочи, чтобы снова начался жар. Но по вечерам я радовался, что ухожу из мастерской.
Ужинал я вместе с Дориной и Карлетто и свою гитару держал в траттории. Меня неизменно заставляли играть сторнели[27], а Карлетто пел их, как умеют петь только в Риме. Приходили и девушки, чем-то напоминавшие Лили, но только римлянки, и всегда в компании очередного богатого друга. Я бродил среди них счастливый, но полный досады и пил, пил по любому поводу. Однажды в тратторию пришла Джулианелла, сестра Лучано, и мы потом с ней всю ночь бродили по улицам и распевали песни. Договорились вчетвером поехать на пляж в Лидо. Но ни у кого из нас не было красивых трусов, и мы предпочли отправиться в Кастелло и там закусить. Какое это было чудесное место! Кругом одни виноградники, и в каждом доме пропасть вина. Мы поднялись к Рокка ди Папа и там ели, пили и дурачились.
Я написал домой, что устроился хорошо. Когда пришло письмо со штампом «Турин», я несколько раз перечитывал его и потом долго носил в кармане. В конце письма стояла подпись «Твоя сестра Карлотта». Они с матерью больше не бранили меня и даже написали: «Будь здоров и счастлив». Странным казалось, что оттуда могут приходить письма.
Особенно любила подшутить надо мной Джулианелла. Она все спрашивала, неужто я приехал в Рим только затем, чтобы жениться на вдове. Вмешивалась в наши разговоры и насмешливо говорила: «Вот погодите, наладит Пабло дела в мастерской, пошлет он вас ко всем чертям и сам сделается фашистом».
— При чем тут мастерская? — сказал я.
— А где же тогда твоя девушка прячется?
— Вот придешь ко мне, тогда узнаешь.
Заслышав, что мы говорим о политике, Дорина начинала нервничать.
— Вы не знаете, что это такое, когда к вам врываются с обыском, — говорила она. — Все вверх дном перевернут и даже воду в уборной спустят. Вы не знаете, каково приходится тем, у кого муж в тюрьме. Уж лучше мертвым его увидеть. А так ни минуты спокойной нет. Та же смерть, только медленная, она длится месяцами, годами.
— Все служит нашему делу, — сказал Карлетто. — Даже те подлости, которые совершаются.
— Но тем, кто сидит за решеткой, от этого не легче.
— Главное — знать, за что ты туда попал.
Так случилось, что, когда мы отправились вечером в кафе, зашел разговор об арестованных. Лучано сказал, что знает кое-кого из них. Есть и адвокаты, и студенты, и синьоры.
— Эти люди знают, из-за чего они там, — сказал Карлетто. — Разве станет врач или адвокат рисковать головой из-за пустяков? Ведь им есть что терять, да и люди они ученые.
— Они-то, может, и знают, — согласился я, — но что они делали?
— И они тоже боролись против фашизма.
— Если они просто болтали языком в кафе, зачем было подвергать себя опасности? Хотел бы я поговорить с одним из этих людей, доволен ли он теперь.
— Они тоже «ходили на прогулку», — негромко ответил Лучано.
Но я сказал, что не вижу толку в этих прогулках. Печатать тайком то, что все и так знают, просто глупо. А уж рисковать угодить из-за этого в тюрьму — тем более. Чего, собственно, добиваются все эти студенты и синьоры? Занять место фашистов. Пусть тогда сами и борются. Все равно ведь мы, рабочие, простые люди, такие, как Лучано и Джулианелла, семьи бедняков, которые вдесятером ютятся в какой-нибудь дыре, в счет не идем. В их грузовике для нас места не найдется. Нам остается только броситься под колеса. Марина, эта старая развалина, продолжал я, помнит, как было в прежнее время. Раньше те же синьоры всем заправляли.
Тут Лучано сказал, что я прав, но для того они и борются, чтобы все изменилось.
— Ладно, — прервал я его, — только ты мне толком объясни, чего они добиваются. Пока что мне об этом никто не сказал.
Тогда Карлетто не выдержал и закричал:
— Я тебя знаю. Ты хочешь все делать самостоятельно и как вздумается. Боишься, что кто-то тебя проведет. Но события развиваются сами по себе, хочешь ты того или нет. Значит, уж такая судьба.
— Скотина ты этакая, — сказал я ему, — беда с любым может приключиться.
Немного погодя я его напрямик спросил:
— Чтобы доверять тем, кто изучает разные там науки, надо самому учиться. Ты сам-то понял, когда встречался с теми синьорами, на твоей они стороне или нет?
Говорил я так просто, для разговору и чтобы заставить Карлетто замолчать. Но об учебе я уже давно подумывал. Чтобы разбираться во всем, надо засесть за книги и учиться, но не той ерунде, которой нас пичкают в школе, надо понять то, о чем пишут в газетах, получить хорошую профессию, узнать, кто же управляет миром. Если сам выучишься всему, сможешь потом обойтись без ученых синьоров. И уж тогда им тебя не провести. Я понял, что другого пути для меня нет. В учебе должна быть, конечно, какая-то система. Ведь есть же люди, которые разбираются в этих вещах. Но как найти такого понимающего человека и все ему объяснить?
Каждый вечер мы подолгу беседовали и возвращались домой поздно ночью. Чтобы не привлекать внимания, мы гуляли по бульварам, переходили из одной остерии в другую, а порой даже уезжали за город. Обычно с нами отправлялась Дорина с несколькими приятельницами. Гитара помогала нам отвести всякие подозрения, но в иные ночи я готов был играть как одержимый, даже если бы оказался в полном одиночестве. Усевшись под деревом, вдыхая прохладу лунной ночи, я не мог не играть. Самый воздух Рима, казалось, создан для того, чтобы люди бодрствовали. И в эти минуты мне так хотелось все уметь: петь, как поют негры, стать ученым! «Я еще молод, и у меня есть время», — твердил я себе. Иногда я вспоминал о том, что мне выпало на долю в этом году, и о том, как я изменился, о том, каким счастьем был для меня приезд в Рим. Все хорошо, если тебе повезет, думал я.
Как-то я поехал на завод в Аурелию, чтобы достать запасные части, и с тех пор дня не проходило, чтобы я не раскатывал на велосипеде час или два. Мастерскую я оставлял на попечение Бьонды и Пиппо. Как-то Бьонда спросила, далеко ли я собрался.
— Так, прокатиться немножко, — ответил я.
— А где ты вечера проводишь?
— Куда я могу пойти?
— Ты не танцуешь, не играешь в карты, не ходишь в Трастевере.
— Этим я в Турине занимался.
— Значит, и в Турине есть Трастевере?
— Да, и похож немного на ваш, что на виа Дора. Только у нас он называется Фортино.
— А что ты там делал?
Разговаривая, она смотрела в землю. «Она вовсе не глупа», — подумал я. Бьонда стояла, слегка покачиваясь, поглядывала на меня.
— Во всяком случае, велосипедистом не был.
Заложив руки за спину, будто мальчишка, она посмотрела на меня не улыбаясь. Я тоже, не улыбаясь, взглянул на нее, заранее зная, чем все это кончится.
— Почему это рестораны всегда у воды? — спросил я.
— И верно, почему? — сказала она.
Но я не стал продолжать этот разговор, понимал, что он может далеко зайти. Бьонда мне сказала, что идет сегодня в кино. Я подумал: «В клетчатой блузе?» — и невольно подмигнул ей. Она все поняла и улыбнулась одними глазами. «Черт возьми, да она сообразительная». Она походила на мальчишку. Целый день перед глазами у меня была ее курчавая головка, ее рот, ее гибкая фигурка в комбинезоне, и так до самой ночи. В тот вечер я сбежал из мастерской, не дожидаясь конца работы.
Я думал о ней много дней подряд, и это меня даже радовало. Бьонда безвыходно сидела в своей комнате и ни с кем не встречалась. Она не испортит мне вечера с Карлетто. Я подумал об этом и улыбнулся. Сколько уж времени у меня никого не было. Иной раз, когда я разговаривал и шутил с приятелями, вдруг горячая волна крови приливала к моему лицу, и я знал, что Бьонда ждет меня. Тем приятнее было подольше засидеться в компании.
Так проходили вечера, а я ничего не предпринимал. Все равно она никуда не убежит. Как хорошо, когда все происходит само собой. В этот раз я знал, чего хочу, да мне и не нужно было прилагать никаких стараний. Утром я шутя спрашивал Марину: «Ну, разве я не пай-мальчик — сплю всегда один». Она искоса поглядывала на меня и что-то недовольно бурчала. Но я не унимался, говорил, что во всем образок виноват: с тех пор как я стал носить его в кармане, у меня из головы не выходят женщины. Она смотрела на меня узкими, как щелочки, глазами и отвечала:
— Смейся, смейся. Увидишь, что с тобой потом случится.
В один из вечеров Бьонда сказала мне:
— Пойдешь завтра со мной на футбол?
Я всего ожидал, но только не этого. Мы собирались пойти на футбол целой компанией, вместе с Лучано и его сестрой. Я объяснил Бьонде, что иду с друзьями.
— Я тоже пойду с вами, — сказала она. — Возьми мне билет.
Она пошла и сидела вместе с нами на трибуне. Оделась она со вкусом, и мне не пришлось за нее краснеть. Сидела она между мной и Карлетто и с таким волнением следила за игрой, словно заключила пари, какая команда выиграет, а иногда даже вскрикивала. От пива она отказалась. Джулианелла все пыталась втянуть Бьонду в разговор и даже пригласила ее сходить как-нибудь в варьете послушать Карлетто. Бьонда отвечала ей совсем тихим голосом, а когда на поле возникали особенно острые моменты, хватала меня за руку и прижималась ко мне. Под конец и я молча прижался к ней.
После футбола мы все зашли в остерию, но Бьонда даже не допила свою рюмку. Мы давали друг другу смешные прозвища и хохотали до упаду. Я не захватил с собой гитару, но Карлетто все-таки спел свои песенки. Бьонда собралась было уходить, но все стали уговаривать ее провести вечер с нами. Можно будет поужинать где-нибудь за городом. Я тоже стал упрашивать ее остаться.
Мы зашли в тратторию за моей гитарой, потом отправились ужинать за город. Джулианелла знала неплохое местечко недалеко от старой римской дороги, которая проходила через аркаду, похожую на огромные ворота. Мы шли между каменными оградами и полями, тут и там чернели деревья, торчали большие камни. Я никогда еще не видел такой пустынной местности. Мне вдруг захотелось стать птицей, чтобы поскорее улететь отсюда.
Наконец вся наша компания уселась за столики в саду маленького ресторанчика, огороженного металлической решеткой. Мы были в каких-нибудь двух шагах от Рима, но казалось, что город далеко-далеко отсюда. Стемнело, однако огней в саду не зажгли.
Мы ели, смеялись, пили, и я играл на гитаре. Бьонда сидела молча и смотрела, как мы дурачились. Ей нравилось слушать мою игру. Я пил и уже не знал удержу. Но когда начинал играть, требовал полной тишины: мне хотелось, чтобы каждая нота в этот вечер звучала чисто.
Однако Карлетто пора было возвращаться в театр. Бьонда отказалась идти с нами, сказала, что она достаточно повеселилась и теперь ей пора домой. В трамвае мы пытались уговорить ее, но ничего из этого не вышло. Все наперебой говорили мне: «Ты, Пабло, конечно, проводишь Бьонду». Я порядком выпил, и мне вспомнились прежние вечера на лугу, я, пожалуй, отпустил бы ее одну, но приятели уговорили меня.
— Проводишь и вернешься в театр, — сказала мне Дорина.
Я перекинул гитару через плечо, и мы с Бьондой вдвоем отправились домой. Пока мы ехали целой компанией в трамвае, все шло гладко. Но вот когда мы остались одни и она очутилась рядом со мной, волей-неволей мне пришлось начать разговор.
— А я и не знал, что вас зовут Джина.
Она украдкой взглянула на меня.
— Я тоже не знала, что ты Пабло.
Потом разговор оборвался, и до самой мастерской мы шли молча. Бьонда открыла дверь и спросила:
— Хочешь выпить чашечку кофе?
Она пошла в заднюю комнату сварить кофе, я положил гитару и стал ждать. Через освещенное полуоткрытое окошко слышно было, как она насвистывает.
— Редко встретишь женщину, которая любит свистеть, — сказал я.
Свист прекратился, и до меня донеслись слова:
— Но ведь это не запрещено?
— Женщине, которая носит комбинезон, и свистеть не заказано, — согласился я.
Она ничего не ответила, а почему, я так и не понял.
— А вам идет комбинезон, — продолжал я. — Как подумаю о вас, днем и ночью вижу в комбинезоне.
Она снова промолчала, и из комнаты не доносилось больше ни звука. Я подошел к двери, не зная, что делать дальше. В эту пору на улице ни души, в мастерской полная тьма. Вдруг зажегся свет. Я обернулся. Она стояла передо мной в своем комбинезоне и улыбалась.
Всю ночь мы провели вместе, в объятиях друг друга. Она была из тех женщин, для которых любовь наслаждение.
Много раз я говорил ей:
— Ну, я одеваюсь.
— Не уходи, — просила она, — может, ты никогда больше и не захочешь провести со мной ночь.
Я называл ее Джинеттой. Она то смеялась, то плакала: ни минуты не оставалась спокойной. Наконец она затихла, я тоже лежал в темноте молча, с открытыми глазами. «Каковы все-таки женщины, — думал я, — она уже поняла, что не слишком-то нужна мне». Меня душила злоба, словно рядом лежала та, другая, словно эта ночь с ней не принесла мне никакой радости. Джина сказала, что по моим жестам, словам, взглядам она поняла, что нужна мне. «Сказки одни, — думал я, — бабьи хитрости. Не желает признать, что сама добивалась меня». Мне хотелось уйти к себе, остаться одному. Неужели она днем и ночью будет как тень ходить за мной?
Когда я утром проснулся, ее уже не было рядом. Она готовила кофе.
— Проголодался, наверно, — сказала она, входя в комнату. На ней была ее обычная блузка; она подошла к кровати и посмотрела на меня.
— Хозяйка, что-то не ладится?
Она обняла меня за шею, прижалась ко мне, словно глупенькая девчонка. Я поцеловал ее и спросил:
— Что с тобой?
— Ты мне совсем не доверяешь. Ты обо мне даже не думаешь.
В то утро я понял, как чудно устроен мир. Если ты любить кого-нибудь, то он смеется над тобой. Значит, мне тоже надо было посмеяться над ней, но я этого не хотел. Об этих своих мыслях я ей не сказал ни слова, по сказал, чтобы она была сдержанней.
— Мы ведь не женаты. Понимаешь? Будем считать, что все еще впереди.
Я спустился к реке выкурить сигарету. Как все-таки красивы эти холмы с пологими склонами и разбросанными на них виллами! Разве не прекрасна река в такой солнечный день? Со стороны строящегося моста доносились глухие удары кирок. Я вспомнил холм в конце Корсо той зимой.
Потом я вернулся в мастерскую и проработал все утро. Бьонда вместе с Пиппо проверяла починенные покрышки. Я уже собрался повести ее обедать, когда меня позвал Пиппо. Пришел какой-то человек и хочет со мной поговорить, он ждет меня в саду.
— Пусть войдет, — сказал я.
Это был Карлетто. На этот раз он не смеялся.
— Ты здесь! — крикнул он, бросившись мне навстречу. — Сегодня ночью взяли Лучано.
XV
— Угораздило же тебя как раз сегодня не ночевать дома! — крикнул он. — Когда мне сказали, что тебя нет, меня чуть удар не хватил. Где ты был?
Мы оба думали, как нам теперь быть, но он так волновался, что спросил первое, что ему пришло на ум. Как все произошло, я узнал лишь позднее. И узнал больше, чем мне было нужно. С той ночи Карлетто точно подменили. Глядя на него, и нам с Дориной становилось тревожно.
В то утро к Дорине прибежала Джулианелла. Дверь ей открыл Карлетто, и Джулианелла с плачем бросилась ему на шею. Фашисты вломились к ним часа в четыре ночи, когда Лучано еще спал, перевернули все вверх дном, велели ему одеться и увели. Джулианелла прибежала разузнать, что с остальными: она решила, что схватили всех нас.
— Да успокойся ты, — сказал я Карлетто.
— Нет, ты только представь, я звоню, дверь открывает Марина и говорит, что ты домой не возвращался. «Его, верно, на улице арестовали! — крикнула мне Дорина. — Они всех хватают. И тебя, наверно, уже ищут». Вот я и побежал к тебе в мастерскую.
— Лучано небось и не представляет, какой из-за него переполох поднялся, — пытался я пошутить.
У Карлетто от волнения дрожали руки. Мы знали, что этим дело не ограничится. Джулианелла сказала, что у Лучано нашли листовки, и если его заставят говорить, то мы пропали.
— Лучано парень некрепкий, — волновался Карлетто. — Вот увидишь, его изобьют, и он все выболтает.
Я подумал об этом и промолчал. Мне хотелось спросить Карлетто: «Ты что, все своими глазами видел?» — но стало жалко его, и я только сказал:
— Тебя ведь еще не посадили, чего же ты причитаешь.
Мне самому тюрьма не казалась такой уж страшной. Я спросил у Карлетто, не спрятана ли у него подпольная литература.
— Кажется, нет. — Он нервно ходил по комнате, потом внезапно остановился и закричал: — Вот несчастье!
— Что еще такое?
— Книги мужа Дорины хранятся у нас.
Он сказал, что домой не вернется.
— Ведь людей хватают не только ночью. Может, они нарочно не арестовали меня, чтобы сцапать, когда я «пойду на прогулку». Или в театре. А может, они и на женщин хотят устроить облаву.
Я дал ему выговориться и обдумывал то, что произошло. Если Карлетто сбежит, сразу станет ясно, что он боится ареста. Этим он лишь сам себя погубит. Нужно разузнать, как обстоят дела, почему взяли Лучано, а не Карлетто. Может, Лучано был связан еще с другими людьми. Возможно, со студентами и с теми адвокатами из кафе.
Я высказал свои сомнения Карлетто, который все метался по комнате. Сначала он ничего мне не ответил. Он был слишком взволнован. Наконец остановился и сказал:
— Думаешь, они случайно нашли у него листовки? Кто-то во всем признался. И Лучано все разболтает, если не будет знать, что я на свободе.
Мне вспомнилось, как я бродил по Турину и напивался. И чем больше я тогда пил, тем неотвязнее думал все об одном, и кровь во мне кипела. Так же, как сейчас Карлетто, я не знал ни минуты покоя, разговаривал сам с собой. День и ночь у меня перед глазами стояла Линда.
— Я отсюда не двинусь, — сказал Карлетто. — Дома никто не знает, что я пошел к тебе.
— Сбегаю заберу книги, — сказал я ему. — Дорина, верно, чего-чего только не передумала.
Я посоветовал ему сидеть в саду и побежал к Дорине. На площади все было спокойно. Я тихо поднялся по лестнице и хотел было сначала зайти к Марине, как вдруг открылась дверь Дорининой комнаты и кто-то окликнул меня: «Пабло!» Я вошел в комнату. Здесь собрались все: Дорина с матерью, старая Марина и Джулианелла. Джулианелла совсем не была сражена горем. Только нервничала немного. Но кто действительно меня замучил, так это мать Дорины: она ходила за мной по пятам и ныла. Я попросил Дорину поскорее связать книжки. И объяснил ей, что Карлетто до смерти напуган и втолковать ему что-либо совершенно невозможно.
— Ему уехать надо, сейчас же уехать, — хором стали убеждать меня женщины.
— Фабрицио тоже взяли?
— Кто знает?
Было решено, что Дорина с Карлетто на время уедут из Рима в деревню, где у Дорины были родственники. Дорина немедленно отправилась в мастерскую переговорить обо всем с Карлетто. Я взял книги и вместе с Джулианеллой пошел к Тибру. «В реку их брошу», — сказал я ей. Джулианелла еле держалась на ногах от усталости, и мы завернули в кафе. Там она сказала, что не совсем уверена, нашли ли у Лучано листовки. У него забрали письма, даже ноты и какие-то отпечатанные на машинке листки, но, может, это были просто ненужные бумаги. Она говорила, и на глаза у нее навертывались слезы. Брата она не винила, да и вообще никого не винила. Сказала только, что его наверняка избили.
— Когда арестовывают какого-нибудь синьора, — заметила она, — то обращаются с ним вежливо. А мы, простые люди, для них все равно что коммунисты.
— Может, мы и в самом деле коммунисты, — сказал я.
Она слегка улыбнулась и спросила, не схожу ли я с ней в театр предупредить хозяина, что трое его артистов выступать не смогут.
— Мне надо сначала спрятать книги. Пойду домой. Скоро увидимся.
По дороге я думал: «А верно ли, что они избивают только рабочих? Значит, они боятся нас больше, чем синьоров?» Я начал кое-что понимать в правилах игры.
Карлетто и Дорина сидели на кровати и все спорили. Джина стояла на страже у двери, у нее хватило смекалки отправить Пиппо отнести заказы.
— Ну и дела пошли, — прошептал я ей на ухо.
Она ничего не ответила, только покраснела и наклонила голову.
Чтобы Карлетто понял, что ночевать здесь негде, пришлось показать ему, что в комнате всего одна кровать. Я ему сказал, что, как видно, никаких листовок у Лучано не нашли и он может не волноваться, Лучано не подведет. Дорина пошла узнать, что с Фабрицио, а Джина повела Карлетто в заднюю комнату немного подкрепиться. Потом она закрыла мастерскую, и мы отправились с ней в остерию напротив.
Вечером пришли Дорина и Фабрицио, они рассказали, что виделись со многими людьми и, судя по их словам, вокруг все спокойно. Стоило скрипнуть двери, как Карлетто немедленно бежал к окну. Мы пытались ему объяснить, что нет смысла ехать в деревню: если квестура его разыскивает, ему и там не спрятаться. Я видел, что Карлетто и сам это понял и упорствует только из самолюбия. Наконец он уехал вместе с Дориной, прихватив с собой узел с вещами, а Фабрицио вернулся в театр.
День проходил за днем; я почти ни с кем не виделся. Каждый вечер, едва уходил Пиппо, глаза Джины с надеждой обращались ко мне. Вначале она заговаривала со мной резко и сухо, и во взгляде ее сквозило отчаяние. Я подходил к ней и старался ее успокоить, а она умоляюще хватала меня за руки. Несколько раз я оставался у нее ночевать.
Наступил июнь, и мысль о тех, кто сейчас томился в тюрьме, причиняла мне острую боль. Отчего они, а не мы должны страдать? Не знаю уж почему, но я был твердо уверен, что их избивают по ночам. Что бы я ни делал — бродил ли по улицам, проводил ли ночи с Джиной, возвращался ли домой на рассвете, — мысль о заключенных неотвязно преследовала меня. И когда спадала жара и набережная Тибра, кафе и сады наполнялись веселой толпой, мне становилось еще тоскливее. В полдень, выезжая прокатиться на велосипеде, я отправлялся всегда на окраину и выбирал самые глухие и спокойные улицы. Мне ненавистен был центр с его вечной толкотней и мчащимися машинами, с духотой и отвратительным запахом раскаленного асфальта. Палаццо Венеция был совсем рядом, и этот запах, и голос, доносившийся оттуда, казалось, преследовали меня. Они преследовали меня, когда я смотрел на дворцы, ударяли в нос со страниц газет. Казалось, и прохожие пропитаны этим запахом. Я сворачивал за угол, и даже здесь, в центре, переулки были точно отхожие места. Сколько веков мочились здесь римляне? Потом я отправлялся на виа Лунгара еще раз взглянуть на тюрьму. И тут стояло все то же зловоние.
Я искал Джулианеллу в траттории, но там ее не оказалось. Где она живет, я не знал, да, по правде сказать, и не очень интересовался. Зашел к Фабрицио, и он сказал, что лучше всего переждать. Джулианелла ходит в тюрьму, носит Лучано передачи, и за ней, конечно, ведется слежка. Пока лучше к ней не ходить.
Его слова отбили у меня всякую охоту шутить. Теперь я мог видеться только с Джиной и старой Мариной. Я перестал ездить на велосипеде и почти все время проводил в мастерской. В общем-то, старая Марина не слишком донимала меня разговорами. Она вместе с матерью Дорины смотрела за детьми. Джина тоже поняла, что меня не переделаешь, и теперь она сама управлялась в мастерской, а я мог уходить и приходить, когда мне вздумается. Платила она мне по-прежнему сдельно. Правда, после той ночи она попробовала было взять меня на содержание. Но так робко предложила мне помощь, что даже рассмешила меня.
— Дорогая хозяйка, — сказал я, — может, вы хотите вынести кровать в мастерскую? Я поденный работник Пабло — и все тут.
Днем я шел в остерию напротив полакомиться финоккьо. Вернувшись, садился на ящик и играл на гитаре. Но работа не позволяла долго прохлаждаться. Иной раз приходилось ремонтировать мотоциклы, и тогда я с удовольствием копался в моторе. Будь у меня кое-какие сбережения, сейчас легко было бы расширить мастерскую. Джина знала, о чем я думаю, и наблюдала за мной. Не спала ночами, все что-то обдумывала. Я переговорил с разными людьми, прикинул, сколько у меня в наличии денег. Но не было у меня уверенности в завтрашнем дне. С той ночи, как взяли Лучано, все для меня изменилось. Я чувствовал, что надвигается гроза. Так долго продолжаться не может. Я утешал себя, что это одни пустые страхи. И все же иногда мною овладевала тревога. Даже Джина не могла меня успокоить.
Она из кожи лезла, чтобы угодить мне, старалась удержать меня лишних полчаса в постели. Рассказывала про свое детство, про отца, который был кузнецом и каретником и держал мастерскую в селении за горами, и туда часто приходил похожий на меня гитарист. Джина сама стирала и штопала мое белье. Готовила мне густо перченный мясной салат. Однажды вечером она прерывающимся голосом, чуть не плача, сказала, что не может иметь детей, так как ей сделали операцию. «Тебе нечего бояться», — прошептала она и прижалась ко мне. Я ей ответил, что осторожность никогда не помешает.
Стоял июнь, и я думал, как хорошо было бы съездить на Тибр. Но меня томило беспокойство. Я боялся даже выйти из дому — вдруг придут друзья с какими-нибудь вестями, а меня не будет. Да и Дорина должна была рано или поздно вернуться из деревни. Фабрицио же обещал зайти, если узнает что-нибудь. Иногда мне казалось, что, может, это и к лучшему. Ни с кем не буду видеться, стану меньше волноваться. Придется все лето проработать в мастерской. «Одно лето проторчал в Турине, другое — в Риме», — ворчал я.
— Побудь со мной еще немного, — уговаривала меня по вечерам Джина.
«Хорошо еще, — думал я, — что я теперь всегда сижу дома».
Однажды я решил заглянуть в пакет с книгами. В Тибр я их так и не бросил. Книги были старые и грязные. От нечего делать я стал их перелистывать, а Джину предупредил: «Если тебя кто спросит, скажи, что это книги покойного мужа». Некоторые из них были написаны по-французски и на других языках. На следующий же день я бросил их с моста в реку. Но итальянские книги оставил. В них рассказывалось о событиях мировой войны 1915 года, об истории фашизма и походе на Рим. Оказывается, с фашистами боролись не только социалисты, но и крестьяне, металлисты, «народные смельчаки»[28]. Фашисты всех пересажали, избивали людей до полусмерти, а вожаков приканчивали. И дома поджигали. «Вот те на! — удивился я. — А почитать фашистские газеты, так они только об итальянском народе и пекутся». Деньги же фашистам всегда давали синьоры, и чернорубашечники им были вроде как дети родные. Меня прямо зло брало, когда я читал, что столько простых людей, которые живут своим трудом, позволили горстке синьоров обмануть себя. «А Карлетто все еще верит этим синьорам. Разве Лучано не по их вине попал в тюрьму?»
Каждый вечер я прочитывал несколько страниц, но едва у дверей раздавались чьи-то шаги, как сердце у меня начинало отчаянно колотиться. И все же я понимал, что не могу выбросить в реку такие книги. «Неужто Карлетто все эти книги прочел? — думал я. — Непохоже». Была среди них и книга под заглавием «Рим или Москва». Я прочел и ее, ведь, как-никак, жил-то я сейчас в Риме. Но мне не верилось, что написанное в ней правда. О Риме в книге ничего и не говорилось, там больше про Россию было написано: люди, мол, в России умирают в тюрьмах, живут по десять человек в одной комнате, женщины занимаются проституцией и постоянно делают аборты.
— Вот после того, как фашисты устроили поход на Рим, у нас как раз такие вещи и происходят, — сказал я Джине. Она не сводила с меня глаз: знала, что мне грозит опасность, и ждала, когда я ее поцелую.
XVI
Потом Лучано выпустили, и все окончилось благополучно. Карлетто, немного пристыженный, вернулся из деревни, и мы все встретились в траттории. Оба они совсем не изменились. Лучано сказал, что в тюрьме его не били, но говорил он так, чтобы нас не напугать. Позже Джулианелла рассказала мне, что видела мать другого заключенного, которой возвращали окровавленную рубаху сына.
— Меня взяли для очной ставки, — рассказывал Лучано. — Еще когда я работал в Турине, я познакомился с одной красивой девушкой. Месяц назад мне взбрело на ум послать ей открытку и подписаться «Целую. Лучано». Этого оказалось достаточно. Ведь в то время она была уже арестована.
— Значит, тебя посадили не по милости тех синьоров, с которыми мы ужинали тогда в кафе? — спросил я.
— Нет. Вначале я тоже думал, что из-за них. Просто та девушка была коммунисткой. Когда она меня увидела, она засмеялась следователю в лицо. «Этот? Да он же в „Нирване“ поет». Она не знала, чем я занимаюсь, и это меня спасло. Если уж фашисты примут тебя за красного, пощады от них не жди.
— Но ведь ты и в самом деле немножечко красный? — сказала Дорина.
Они ни капельки не изменились. Карлетто упорно молчал. Фабрицио сказал, что лучше нам некоторое время не видеться.
— Кому хорошо, так это Пабло, — шутила Джулианелла, — сидит себе спокойно да покуривает. Давайте лучше пойдем танцевать.
Остаток вечера мы провели на берегу Тибра, по танцевал я только с Джулианеллой. Потом уговорил и Дорину покружиться немного. Карлетто был какой-то вялый, словно он, а не Лучано вышел из тюрьмы. Он ни на минуту не отпускал от себя Лучано и что-то рассказывал ему вполголоса. В этот вечер он не смеялся.
— Помнишь, как тебе приснились кошки? — спросил я его.
— Какие еще кошки?
Он напускал на себя деловой вид. Меня так и подмывало спросить, как ему отдыхалось в деревне. Но я сдержался и сказал только, что книги я выбросил в Тибр.
— Какие книги?
— Перестань разыгрывать из себя дурака, — сказал я. — Любой на твоем месте мог отправиться в деревню. Ты сам эти книжки читал?
Оказалось, что он их прочел, и мы проспорили до самого утра. Он отослал Дорину спать, а мы пошли в сквер возле моста, и здесь Карлетто накинулся на меня, словно разъяренный кот. В России, доказывал он, произошло то же, что в Италии.
— А возьми Испанию, — продолжал он, — именно красные делают все, чтобы проиграть войну.
— Когда проигрывают войну, все до одного виноваты бывают, — разозлился я. — Можно подумать, что ты сам был в Испании. Но ведь в России красные победили, разве не так? Главное, что там у власти те, кто трудится.
Когда мы поднялись к себе — он, чтобы немного соснуть, а я побриться, — Марина стояла на балконе в одной рубашке, поджидая меня.
— Добрые люди уж если и гуляют по ночам, то с гитарой, — с упреком сказала она. — Лучше бы сходил мессу послушать.
Я больше всего любил в Риме эти прохладные утренние часы. Хорошо вставать рано! В кухне я обнаружил вишни и принялся уплетать их, стоя на балконе; мне вспомнилась зима в Турине, когда я возвращался домой на рассвете и пил кофе в баре или на вокзале. Как бы ни было плохо, думал я радостно, но даже в тюрьме для заключенных каждое утро наступает рассвет. Неужели во всем Риме нельзя найти ни одного коммуниста, чтобы побеседовать с ним? А та девушка, про которую рассказывал Лучано, сидит в тюрьме. Вот бы повидаться с ней и поговорить обо всем. В эти дни я к каждому приставал, не знает ли кто коммуниста. Друзья в ответ хохотали, а Карлетто просто из себя выходил. Он мне говорил, что надо не искать для себя всякие отговорки, а бороться с фашизмом.
— Послушай, — сказал я ему в одну из встреч, — если фашисты так ненавидят красных, у них наверняка есть на то причины.
— Просто видят в них конкурентов, — ответил он.
Тут в разговор вмешался Лучано.
— Пабло, верно, хотел сказать, что, пока на свете существует капитал, будут и фашисты.
Теперь Лучано и Карлетто стали чаще заходить ко мне в мастерскую. Но я предпочитал беседовать с Лучано, тот все же изредка признавал мою правоту.
— Раз ты со мной согласен, — говорил я ему, — плюнь на этих синьоров, что в кафе прохлаждаются, и присоединяйся к красным.
— А зачем? — отвечал он. — Не всем же в одной партии быть. Если они в конце концов победят, будем им помогать.
— Если живы останемся, — усмехнулся Карлетто.
Джина тоже слушала нас, но молчала. Она разбиралась во всех этих вопросах еще хуже меня, но старалась не пропустить ни слова.
— До чего же Карлетто упрям и глуп, — сказал я ей однажды вечером. — Ведь ему самому нелегко хлеб достается, а он ничего и понимать не хочет.
— Горб мешает, — пошутила она.
Я внимательно наблюдал за приходившими в мастерскую клиентами и пытался вызвать их на разговоры. Когда заходил какой-нибудь толковый парень, я вынимал газету: «Ну, как там война в Испании?» Но единственный, кто мне отвечал, был Солино. Завернет, бывало, из остерии к нам в мастерскую, остановится на пороге, пожует сигарету, сплюнет, потом скажет: «Когда кончится война, работы много будет. Ведь сколько домов разрушено». Но рабочие помоложе, строившие мост, меня почти не слушали. В газеты никто из них даже не заглядывал. «Черт побери, — недоумевал я, — либо я старею, либо совсем дураком стал. Раньше я, вроде них, в газете только про спорт и читал».
Бывали дни, когда жара становилась нестерпимой. Тогда мы отправлялись к морю. Мы с Джиной несколько раз ездили в трамвае на пляж. Но выбирались обычно в воскресенье, и в трамвае была страшная теснота, похуже, чем вечером на Корсо. Доберешься наконец до моря и бредешь вдоль берега, пока не отыщешь свободное местечко на пляже. И все же как приятно в такую жару сидеть у моря. Иногда мне даже казалось, что небо и море слились воедино. Я бросался в воду и заплывал так далеко, что уже не различал берега. Джина лежала на песке и терпеливо ждала меня. Я смотрел, как девушки входят в воду — некоторые из них мне нравились. Может, одна из них заплывет подальше и разденется там догола, думал я. В город мы возвращались вечером. Потом ужинали и танцевали в своей компании. Теперь в траттории снова собирались все мои приятели. Иногда туда заходила и Джина. В эти вечера, танцевал ли я или пил вино, мне все вспоминалась зима, «Парадизо» и грузовик Мило. «А ведь, в сущности, — думал я, — ничего не изменилось, и бродит сейчас со мной по улицам Рима не Джина, а та, другая, и мы с ней весело смеемся, пьем в траттории вино». Я твердо знал, что наступит день, и мы с ней встретимся, что-то должно непременно случиться. Потом вспоминал Амелио, и на душе у меня становилось тоскливо.
Мне нравилось ездить на завод в Аурелию. Вырвавшись из Рима, я мчался на велосипеде по тропинке, змеившейся среди лугов. На заводе мне за гроши чинили покрышки, да и дорога туда была приятной. Я завел дружбу с некоторыми рабочими. В перерыве они обычно играли в шары. Я останавливался поболтать с ними. Эти действительно все понимали с полуслова.
— В нужный момент мы будем готовы, — говорили они. Все это были люди лет под сорок или за сорок. Они вспоминали войну, забастовки. — Мы тогда мальчишками были, — говорили они, — и не разбирались, что происходит. Но уж в следующий раз нас, рабочих, не проведут.
Был среди них и молодой парень по имени Джузеппе. Его отцу фашисты проломили голову. Джузеппе-то, конечно, знал, почему сквадристы[29] тогда победили.
— Нас называли красными, а мы никогда ими не были. Иначе бы мы защищались. Задали бы им перцу. Где действительно есть красные, там все по-иному оборачивается.
Когда я спросил, есть ли в Риме красные, он ответил:
— Наверно, есть. Мы, во всяком случае, готовы выступить.
Однажды он повел меня домой к своему отцу. Квартира его помещалась на четвертом этаже старого, запущенного дома. Настоящая дыра. Не знаю почему, но, когда я поднимался по лестнице, мне показалось, что я уже бывал здесь. Изо всех дверей доносились крики мальчишек, пахло специями и нечистотами, было жарко, как на пляже. Джузеппе сказал:
— Отец, тут один мой товарищ хочет с тобой познакомиться.
Старик сидел на кухне и, склонившись над столом, ел хлеб.
В кухне было почти темно, он дожевал кусок и посмотрел на меня, но не пошевелился. Джузеппе сказал мне:
— Давай присядем.
Ни старик, ни Джузеппе не начинали разговора. Пришлось мне самому объяснить цель моего прихода. Джузеппе поставил на стол три стакана, и оба стали внимательно слушать меня. Я то и дело сбивался, перескакивал с одного на другое. Сказал старику, что знаю его историю и хочу, чтобы он мне объяснил некоторые вещи. Добавил, что я новичок в Риме. Он пристально глядел на меня и слушал. Глаза у него были спокойные, бесцветные, как вода в реке.
— А кого ты здесь знаешь? — спросил он.
— Я потом о них скажу, — ответил я и продолжал свой рассказ.
Мне бы хотелось знать, сказал я, что произошло в двадцатом году. Почему руководители рабочих дали себя обмануть. И почему красные тех времен не оказались по-настоящему красными. Правда ли, что все коммунисты уехали воевать в Испанию и что там дело кончится так же, как у нас.
— А Джузеппе тебе ничего не говорил? — сказал он.
— Кое-что рассказывал, но мало, — ответил я.
— Что же ты от меня хочешь узнать? — спросил он. — Разве ты не видишь, какая у нас теперь жизнь? Ты в Турине ни с кем не заговаривал об этом?
— В Турине-то? Да там я только на танцы ходил.
— Ну а на заводе? Ты что, никогда не работал?
Я рассказал ему про магазин, про то, сколько времени потерял впустую. Он опять поглядел на меня своими выцветшими глазами. Тогда я спросил:
— Вы мне, может, не доверяете?
— Да что ты, сынок, — сказал он. — Я просто хочу знать, что тебя привело сюда и с кем ты в Риме дружбу водишь.
Я подробно рассказал ему, где живу и с кем встречаюсь.
— С ними ты не беседовал про двадцатый и двадцать первый годы?
— Да они в этом плохо разбираются. Но сам я кое-что читал. — И сказал ему, какие книги прочел.
Старик не спросил, кому принадлежат книги, а стал рассказывать про сквадристов. Он сказал, что на первых порах это были отряды головорезов, которые хорошо знали, чего добиваются: побольше денег нажить.
— Но сейчас мы ведем другую борьбу. Они свое дело сделали и теперь на покое. Им уже самим драться неохота. А у нас на горбу квестура да чиновники. Они-то и избивают наших.
Он спросил, готов ли я бороться, я не смог ему ответить сразу. А у него была привычка не дожидаться ответа. Иной раз только я соображу, что сказать, а он уже заводит разговор о другом.
Под конец он мне сказал, что главное — это сохранять спокойствие, работать в мастерской и встречаться с Джузеппе. В кухне стало совсем темно.
Ушел я от него не слишком довольный собой. Я понял, что говорил со стариком, как глупый мальчишка, и что Джузеппе с отцом не просто занимаются «прогулками», как Карлетто. А узнать я ничего толком не узнал. Может, они меня даже за шпика приняли. Но главное я понял, что показался им пустомелей. «Почему то? Да почему это? Может, вы мне не доверяете? Почему руководители рабочих дали себя обмануть?» Просто стыд один… Вспомнишь, так тошно становится. Я бродил по Риму и все время думал: «Как же я так сплоховал?» Но я был с ними вполне искренен. Откровенней и искренней, чем старик и Джузеппе. Я бы мог им и про Джину все рассказать. Потом я подумал, что еще увижусь с Джузеппе и тогда мы как следует обо всем потолкуем. Успокоенный этой мыслью, я пошел домой.
На завод я повременил ехать. Дождался, пока представился подходящий случай. Целыми днями работал, а по вечерам читал. По-прежнему спорил с Лучано и Карлетто, но у Лучано все же можно было кое-чему поучиться. Он во всех подробностях знал, как шла война в Испании, чем больше рассказывал, тем яснее я понимал, что с этими красными мне по пути.
Однажды, захватив покрышки, я снова отправился на завод к Джузеппе. Проезжая мимо дома старика, я посмотрел на его окно и подумал, что ведь таких домов в Риме тьма-тьмущая. И если даже в каждом подъезде есть хоть один красный, то, значит, их уже немало наберется. Да еще многие по тюрьмам сидят. Сколько же их всего?
Мы пошли с Джузеппе в остерию распить бутылку вина. Говорили с ним об Испании и о разных вещах. Я рассказал ему о «прогулках» и спросил, что он об этом думает.
— Что это за люди? — поинтересовался он.
— Люди они неплохие, — сказал я, — но до конца идти не хотят.
Тогда Джузеппе мне объяснил, что все, и даже синьоры, могут принести пользу делу.
— Ты на их руки не смотри, — сказал он. — Тут важно не то, чего они хотят, а то, что они делают.
Я ему сказал, что не понимаю, как могут бедняки вроде нас быть заодно с хозяевами.
— В листовках и книгах и это разъясняют, — сказал он.
В этот раз он дал мне несколько подпольных листков и маленькую книжечку, с виду похожую на катехизис. Когда я на следующий день снова заспорил с Лучано, он у меня спросил:
— Откуда ты все это знаешь? Или, может, в газетах вычитал?
Ночью я прочел ту маленькую книжечку, и мне стало легче спорить. Тогда я впервые понял, что листовки и книги не только напоминают фашистам о неизбежной расплате, но и помогают убеждать людей. Раньше я об этом и не задумывался.
После ужина я попробовал прочесть книжку Джине. Она стояла у стола в комбинезоне и, вытирая посуду, внимательно слушала. Читал я долго. Она выслушала все до конца, потом подошла к кровати и легла.
— Они все это и вправду хотят сделать или это только одни слова? — спросила она.
— Кое-где они уже многого добились. Теперь дело за нами.
Джина курила и смотрела в потолок.
— Нелегко это, наверно, будет, Пабло. А страшно-то как. Вдруг тебя заберут?
— Черта с два, — засмеялся я.
— Вы вот хотите, чтобы всем лучше жилось, — сказала она, — а пока только себе хуже делаете. Хватит на сегодня, — вдруг сказала она и обняла меня. — Посиди-ка немножко со мной.
Каждый раз, когда я начинал ей читать или говорить о политике, она старалась увлечь меня в постель. Она давно уже поняла, как ко мне лучше подступиться, и действовала умело. Вот и сейчас я подчинился Джине и прервал курс обучения.
И хорошо сделал, что остался у нее. Поздно вечером кто-то постучал в дверь. Это был Джузеппе; он пришел, чтобы продолжить тот разговор в остерии.
XVII
Кажется, что лето в Риме никогда не кончается. Короткие летние ночи приходили одна на смену другой. Как-то в праздничный день Джузеппе повез меня за город в селение Сант-Оресте, и там, расположившись вчетвером под оливковыми деревьями, окаймлявшими дорогу, мы беседовали о наших делах. Я сидел у поворота дороги и следил, не идет ли кто, да присматривал, торчит ли еще на площади сержант карабинеров. В другой раз Джузеппе послал меня в Саларию передать пакет с литературой солдату, который ждал меня в кабачке. Этот солдат вышел ко мне из задней комнаты без куртки, видимо, он чувствовал себя в кабачке как дома. Он подсел к моему столику и весело спросил, неужто у меня не нашлось дел поважнее, при этом лицо у него было хитрое и довольное. Потом он начал тихо расспрашивать меня, по душе ли мне такая опасная работа, виделся ли я с тем-то, знаю ли того-то. Я ему не противоречил. И даже виду не подал, что понимаю все его хитрости. Старался лишнего слова не проронить. Мы расстались с ним вполне довольные друг другом.
С Карлетто мы давно не виделись. Джина так перегрелась на пляже, что даже ходить не могла, вечерами ее навещали Лучано и Джулианелла. Однажды утром в мастерскую пулей влетел Карлетто и стал рассказывать, что виделся кое с кем, и спросил, не пройдусь ли я с ним в центр. Он добавил, что, может, ему удастся снова устроиться в варьете. По дороге мы вспомнили о том времени, когда жили в Турине; Карлетто был очень возбужден, и мне казалось, будто я снова вижу его в «Парадизо». Вдруг он спросил, играю ли я, как прежде, по ночам на гитаре и не мечтаю ли стать профессиональным гитаристом.
— А что, собственно, случилось? — недоумевал я.
— Кое-кто хочет тебя видеть.
Мы вышли на Корсо. Поднимаясь по ступенькам в отель «Плаца», он спросил:
— Может, ты зайдешь?
Я остался ждать его в холле и не знал, что и подумать. Счастье еще, что на мне был приличный костюм. Больше всего я в таких случаях смущаюсь коридорных.
Внезапно я увидел ее: она была в летнем платье, сидела в кресле и пристально смотрела на меня. Я узнал ее даже не по лицу и стройным ногам, а по этой привычке сидеть неподвижно, уставившись в одну точку. Она поманила меня рукой. «Уйти я не могу, ведь надо дождаться Карлетто», — мелькнула у меня мысль. И в ту же секунду я понял, что именно Линда и посылала Карлетто за мной, что это она приехала из Турина. Я подошел к креслу и заговорил с ней.
Линда встретила меня радостными восклицаниями и стала расспрашивать, как я живу. Она изображала из себя обиженную, но не переставая шутила и смеялась.
— Проклятый Карлетто, взял и улетучился, — сказал я.
В ответ она громко рассмеялась, потом стала меня отчитывать.
— Так-то ты соскучился по мне? Лучше уж тогда уходи. — Помолчав немного, добавила: — Может, пойдем куда-нибудь?
Мы бродили с ней по улицам, и я то и дело натыкался на прохожих. Потом пришли на берег Тибра и остановились у парапета.
— Что же ты хотела мне сказать? — спросил я.
— Ровно ничего, — ответила она, — я совсем не для объяснений встретилась с тобою. Просто мне захотелось повидать тебя и узнать, хорошо ли тебе живется.
— Какими судьбами ты очутилась в Риме? — Легкое платье облегало ее бронзовое от загара тело, она показалась мне какой-то чужой. — Ты что, отдыхала на море? — спросил я.
— А ведь ты тоже немного загорел, — проговорила она. Потом сказала, что отдыхать у моря не так уж приятно: все время возле тебя толкутся люди и нельзя ни минуты побыть одной. — Но сейчас я провела шесть дней, по-настоящему счастливых дней. Я была совершенно одна. И думала: как жаль, что со мной нет Пабло. С утра до вечера одна. А ты бываешь на море?
— Полдня в воскресенье, и мне уже становится невмоготу.
— Ты совсем не изменился, — сказала она. — Почему ты ничего не рассказываешь? Нравится тебе Рим? Чем ты занимаешься? Зарабатываешь деньги? Кое-что я, правда, от Карлетто узнала, — продолжала она. — Но Карлетто ведь совсем другой. И некоторые вещи он не понимает. Я хочу знать, ты по-прежнему мечтаешь заработать побольше денег? А девушку себе по душе нашел? Карлетто мне сказал, что есть тут у тебя одна. Ты собираешься жениться на ней?
Я ей сказал, что мне хорошо, потому что я ни о чем и ни о ком не беспокоюсь.
— Работа мне нравится, и я понял, что лучший способ заработать деньги — это вовсе не думать о них. Мне все кажется, будто я приехал в Рим только вчера. Здесь и в будни праздник.
— Послушай, — сказала она, — ты мне столько должен рассказать. Ты где обычно обедаешь? А где живешь? Давай поужинаем вместе.
— Нет, сегодня вечером я занят, работы много.
Но я так и не ушел, и мы отправились в кабачок пообедать. Линда сказала:
— Меня ждут. Надо их предупредить.
Однако поблизости телефона не оказалось.
— Кто тебя ждет? — спросил я.
Она остановилась в дверях, посмотрела на меня и улыбнулась.
— Э, бог с ними, — сказала она, — сегодня я хочу побыть с тобой.
Мы сели за столик и стали беседовать, как добрые друзья. Я с прежним удовольствием смотрел, как она ест. Она вспомнила о гитаре и спросила, играю ли я.
— Я знаю, Рим словно для тебя создан. Здесь любят гитаристов.
— Ты мне никогда не говорила, что бывала в Риме.
Она посмотрела на меня и снова засмеялась. Потом стала рассказывать про ателье, про свою жизнь.
— Нехорошо ты все-таки поступил: уехал, не сказав мне ни слова, — упрекнула она.
— Ну-ка посмотри мне прямо в глаза, — сказал я.
Она затянулась сигаретой и взяла мою руку в свою.
— Не думай, я все понимаю, ты много пережил, и мне больно за тебя.
Когда я остался один, а она смешалась с толпой на Корсо, Рим показался мне особенно прекрасным. «Мы встретимся в пять и поужинаем вместе». Она сказала, что хочет побывать во всех моих любимых местах и хоть один вечер провести со мной наедине. «Я еще не натанцевалась и не наговорилась с тобой вволю», — добавила она.
За три часа я должен был сделать все дела, зайти в мастерскую, привести себя в порядок и вернуться на Корсо.
— Что с тобой приключилось? — крикнула Марина, завидев меня.
Из дому я отправился в мастерскую, где Джина возилась по хозяйству. Она сказала, что Джузеппе принес починить покрышку. Заходил совсем недавно и ничего больше не сказал, но я знал, что Джузеппе имел обыкновение ждать меня до самого вечера. Пришлось послать Пиппо отнести ему починенную покрышку и передать, что сегодня я буду очень занят. Джина заметила, что со мной что-то происходит. Нужно было еще забежать домой.
— Пойду переоденусь, а то мне сегодня надо кое с кем повидаться, — сказал я ей. — Ночевать меня не жди.
Когда мы встретились наконец с Линдой на Корсо, солнце еще светило вовсю. Линда была в том же коротком, до колен, платье, на руке красовался золотой браслет. Мне казалось, что мы идем берегом моря. Я смеялся, шутил, дурачился, словно сказал себе: «Сегодняшний день мой, а завтра разберусь, что к чему». Столько раз, завидев вдалеке какую-нибудь девушку, я говорил себе: «Это Линда», — и теперь мне все было нипочем.
— Куда ты меня ведешь? — спросила она.
Мы долго бродили по улицам. Вспоминали прошлое. Она сказала, что так и не поняла, почему я тогда в ателье рассердился на нее. Послушать ее, во всем был виноват один Карлетто с его злым языком.
— Все дело в том, что ты не хотел меня слушать, — доказывала она. — Никак понять не можешь, что у женщины есть своя жизнь. Уж так ты создан.
На мгновение мне показалось, что сердце, как и в прежние дни, забилось часто-часто, и я готов был поверить ей, готов сказать: «Ты ошибаешься». Неужто те ночи в Турине и мое отчаяние — все оказалось впустую, тогда мне остается только одно — броситься в По. Но нет, сердце билось ровно и спокойно: слишком много передумал я обо всем этом. И сейчас для меня не имело значения, приехала ли она в Рим с Лубрани или одна. И не имело значения, что Джина дожидается меня в мастерской. Имело значение только то, что Линда шла рядом, я вел ее под руку и мы с ней снова говорили друг другу «ты». И то, что мы сегодня будто впервые познакомились. И она тоже как будто понимала это.
— Для меня, — прошептал я Линде, — этот вечер особенный. Это наша первая встреча; тебя снова прислал Амелио, и вот мы гуляем с тобой по улицам.
Тут Линда вскрикнула и остановилась.
— Я всю дорогу думала об этом, а сказать забыла. Знаешь, что случилось с Амелио? — Она наклонилась и прошептала мне на ухо: — Он был красный, коммунист, и его схватили. Отвезли в тюрьму прямо на носилках.
Я пожал плечами, будто не поверил.
— Ты-то откуда знаешь? Кто тебе сказал, что он с красными заодно? — На этот раз у меня дрожали руки. — Неужели это правда? — с трудом выговорил я. — Ведь он даже с кровати не мог подняться.
— А разве для этого обязательно передвигаться? — сказала Линда. — Он уже давно начал с ними работать. Помнишь, сколько он газет читал? У него нашли листовки.
Мы свернули в какую-то пустынную улицу. Небо было багряное, удивительно красивое; витрины уже были освещены, и я сейчас еще словно вижу перед собой эту улицу. В глазах у Линды отражалось небо. Она говорила сухо и как будто насмешливо.
— Линда, я уже не прежний Пабло, — громко сказал я ей. — Кончится тем, что я кое-кого убью.
Линда тихо ответила:
— Мне жаль тебя. Чего ты добиваешься?
Ничего она не поняла. Ну что ж, может, это и к лучшему. Линда рассказала, что первое время, когда Амелио ездил с ней в Верчелли и Новару, она тоже помогала ему. В ту самую ночь, когда Амелио разбился, она успела вынуть у него из кармана пачку листовок. Когда она потом прочла их, то поняла, что Амелио рискует головой. В листовках черным по белому было написано, что надо быть наготове, что настает решительный час.
— Поэтому ты его и бросила?
Она покраснела, а может, мне это только показалось, и сказала:
— Теперь он в тюрьме, лежит, наверно, на койке, точно мертвец. Его, должно быть, переведут в Рим, — продолжала она. — Взяли его в конце мая.
До самого ужина мы все говорили об Амелио. Наконец она сказала:
— Хватит об этом. Если он выйдет оттуда живым, сам спросишь, каково ему там пришлось. — Она пыталась улыбнуться.
Чтобы отогнать грустные мысли, мы выпили вина. Линда сказала:
— Может, сходим в «Парадизо»?
Еще час назад мне бы наверняка понравилась эта шутка, но сейчас она напомнила мне о той зиме, когда я был таким глупцом.
— Пей лучше, — сказал я, — мне сейчас не до музыки.
Вышли певец и гитарист и нагнали на нас тоску. Линда засмеялась и спросила, не собираюсь ли и я стать гитаристом, любимцем римлян. Потом мы пошли к Тибру потанцевать. Все было по-старому. Она шептала мне что-то на ухо, всем телом прижималась ко мне. Наконец я сказал:
— Пойдем домой.
— У меня нет дома, — сказала она, пристально посмотрев мне в глаза. — Я не одна.
Я вспомнил о Джузеппе, который хотел меня видеть. Вспомнил Турин и все свои муки. Вспомнил, как бешено колотилось мое сердце, как страдала моя гордость, но взбунтоваться и уйти не смог. Что бы сказал Амелио, окажись он теперь здесь, спрашивал я себя. Если бы он знал, что я тоже красный.
Теперь он уже не внушал мне такого страха из-за того, что я отнял у него Линду. В этот вечер я понял, что женщины — совсем не главное в жизни. Я спрашивал себя, стоит ли вообще на них тратить время. Не лучше ли немедля уйти к товарищам, работать с ними? Ведь Амелио в тюрьме и ждет от нас помощи.
Я протанцевал с Линдой еще один танец. Она сказала:
— Помнишь тот вечер в «Маскерино», когда мы гадали о будущем?
— Будущего не угадаешь, — ответил я, — лишь одно можно предсказать заранее: все, что человек делал, он будет делать и дальше.
— Это верно, — согласилась она, — мы всегда повторяем то, что делали прежде.
— Но часто мы сами не понимаем, что делаем, — сказал я. — Каждый день чему-нибудь нас учит.
Тут Линда остановилась и сказала:
— Уйдем отсюда.
Мы шли по булыжной мостовой, ровной, словно выложенной из черепицы. Линда воскликнула:
— Как прекрасен Рим!
— Хочешь, пойдем в лес? — спросил я.
— Ты, я вижу, все наперед знаешь, — засмеялась она.
Я остановился и поцеловал ее, она взяла меня за руку.
— В Турине ты был менее покладист, — сказала она.
Мы поднялись по Скала деи Монти, кругом ни души. Потом долго целовались под деревьями.
— Как здесь прекрасно! — повторила она. О, этот аромат, исходящий от деревьев и от нее! — Ты приходил сюда с другими женщинами?
Я ответил, что хотел прийти сюда с ней.
— Если бы ты вдруг надумала выйти за меня замуж, нам было бы в Риме хорошо вдвоем.
Она сжала мою руку и заговорила о Джине.
— Послушать Карлетто, она просто дурочка, — сказала Линда. — Ходит за тобой, как собачонка. А я думаю, она просто здорово влюбилась. Ты ей сказал обо мне?
— Это разные вещи, — уклончиво ответил я. — Главное — ты здесь.
Мы снова поцеловались. Она сказала:
— Пойдем в «Плаца».
XVIII
На рассвете она велела мне уходить.
— Ведь я тебя насквозь вижу. Ты не захочешь ничего понять, — сказала она.
Я уже с вечера все понял, но просто не хватало сил уйти.
— А он захочет понять? — спросил я, глядя ей прямо в глаза.
Она молча повернулась на бок и потянулась со вздохом.
— Мне надо как следует выспаться. Ночь я проведу в поезде. Я стал на ковер, оделся, подошел к окну, вдохнул свежий воздух.
— До чего красив Рим в этот утренний час, — сказал я. — Когда я уходил от тебя на рассвете в Турине, меня переполняло счастье.
— Ты нехороший, — протянула она.
— Я был глупый мальчишка. Если бы мне тогда сказали, кто ложится на мое место… Линда, зачем ты приехала?
— Тебе больно?
— Мне больно за тебя.
Она вскочила с постели и крепко меня обняла. Она не хочет, чтобы я был о ней плохого мнения. Не хочет, чтобы я ушел от нее и напился. Почему я не могу понять простых вещей?
— Послушай меня внимательно, — сказал я. — Эта ночь прошла, и хорошо. Я знаю тебе истинную цену. Ты осталась прежней, но я изменился.
Браслет давил мне на затылок. Я высвободился.
— Сколько ты заплатила за номер? — спросил я.
Глупей ничего нельзя было придумать. Она сидела на постели и, смеясь, смотрела на меня.
— Ты что, не понимаешь или не хочешь понять? — пробормотала она.
Я поднял жалюзи, высунулся из окна. На улице было уже совсем светло.
— Давай выкурим последнюю сигарету, как старые, добрые друзья, — предложила она.
Мы курили и смотрели в окно.
— Ты уверена, что Амелио перевезут в Рим?
— Все еще думаешь об этом? — притворно удивилась она. — Если бы я знала, ничего бы тебе не рассказывала.
— Его отвезут в тюрьму на Лунгаре, — сказал я. — Это «Плаца» для таких, как мы с Амелио. Когда ты уезжаешь?
— Сегодня вечером, в девять. В Турине я буду одна.
Говорила она, прижавшись к моему плечу и вся дрожа от холода. Голос у нее был жалобный, и она то и дело поглядывала на меня.
— Если будешь в Турине, зайдешь ко мне? — спросила она.
Я бросил недокуренную сигарету и поднялся.
— Стоит ли?
Она сделала обиженное лицо.
— Ты меня никогда не любил, — тихо проговорила она.
Проходя через холл, я думал об этом. Спускаясь по лестнице, я даже не обернулся. Двое коридорных в широких фартуках вытряхивали ковры и дорожки. Окна были распахнуты настежь, и всюду горел свет, казавшийся в эти утренние часы не таким слепящим.
Я представил себе спящего Лубрани. Вот он лежит в трусах, обнявшись с Линдой. Я распрощался в этом холле со своими иллюзиями, со своими глупыми мечтами. Нет, лучше быть свободным, идти с такими же, как ты.
Я зашел в кафе «Фламинио» выпить чашку кофе. Бедная Линда, я не должен больше встречаться с нею. Теперь уже она лепечет жалкие, ненужные слова. Мне вспомнилось, как я был счастлив прежде, если бы я только знал тогда. Но какое все это имеет значение теперь, после несчастья с Амелио? Может, и Линда это поняла.
Я вскочил на проходивший мимо трамвай и поехал к Джузеппе. Чтобы не привлекать к себе внимание, я решил подождать его на бульваре. Я подумал, что, может, кто-нибудь из наших арестован и Джузеппе приходил предупредить меня. Но когда он спокойно вышел из дому, я, воспрянув духом, пошел ему навстречу. Оказалось, что мне надо немедленно бежать в мастерскую. Приехал один из наших товарищей, и его необходимо устроить на ночлег. Джузеппе меня целый вечер разыскивал. Я единственный из всех был обладателем двух кроватей и мог дать ему приют.
Так произошло мое знакомство с Джино Скарпой, вернувшимся из Испании. У него было другое имя, но для нас он был Джино Скарпа. Когда я вошел в мастерскую, он уже сидел там и шутил с Пиппо.
— Меня зовут Пабло, — сказал я ему.
Он был худой, словно выжженный солнцем, глаза у него смеялись. Джино сразу сказал мне:
— Спать хочу до смерти. Уложите меня куда-нибудь.
Я послал Пиппо за покупками и стал совещаться с Джиной. Может, лучше отвести его к Марине.
— Сюда часто заходят клиенты, и Пиппо вечно торчит.
— Нет, лучше я здесь останусь, — сказал он. — Главное удобство, что тут есть выход через сад.
Когда Пиппо вернулся, Джино Скарпа уже спал. Он устроился на постели Джины. Все утро я проработал на улице. Джина повесила занавеску и стала готовить обед. Она то и дело поглядывала через окошко на меня и Пиппо. Вдруг Пиппо нечаянно уронил велосипед. Велосипед упал на ведро, раздался адский грохот. Я крикнул Пиппо: «Так, отлично! Все подряд ломай». Он молча посмотрел на меня и поднял велосипед.
Наконец я отпустил Пиппо обедать, а сам пошел на площадь купить газеты. На стадионе проходил фашистский праздник, в Риме было полным-полно чернорубашечников и балилла, в газетах сплошные речи. Об Испании всего несколько слов. «Значит, наши дела там неплохи», — подумал я.
Вернувшись, я увидел Скарну на пороге мастерской. Он был в комбинезоне покойного мужа Джины и спокойно ел яблоко.
— Почему тебя называют Пабло? — спросил он. — Ты что, в Испании был?
— Да что ты? Просто я на гитаре играю.
Он поинтересовался, знал ли я в Турине кое-кого, и назвал фамилии.
— Я в то время совсем еще мальчишкой был. И газет, понятно, не читал, — ответил я.
Джина крикнула нам, что обед готов. Она постелила на стол белоснежную скатерть и нарезала тоненькими ломтиками хлеб. Я, улыбаясь, смотрел на нее.
— Ей-ей, в комбинезоне Скарпа на тебя похож.
Еще вчера мне даже в голову не приходило сравнивать Джину с Линдой, да я и не смотрел на нее всерьез. Но теперь благодаря появлению Скарпы и пережитому этой ночью я взглянул на нее другими глазами. Лицо у нее было хмурое, недовольное. Она ни разу не улыбнулась и не села с нами за стол.
— Вижу, вы познакомились, — сказал я Скарпе, — она тебе даже отдала комбинезон мужа. Кстати, и имена у вас одинаковые.
— Эта одежда мне нравится, — улыбнулся он. — Самая подходящая для нас, и, главное, никто в ней тебя не узнает.
Потом он стал рассказывать об Испании, да так спокойно, точно был в Трастевере.
— У меня в отряде было четверо пьемонтцев. Что за ребята! Они тайком пробрались туда из Дижона. Если не погибли, то сражаются сейчас в осажденном Мадриде. А что обо всем этом говорят в Риме? — внезапно спросил он.
— До Испании никому нет дела…
Он неторопливо жевал, уставившись в тарелку. Дал мне высказаться, не перебивая. — Джина тоже прислушивалась к нашему разговору, — потом покачал головой.
— Слишком дорого обходится нам эта война, — проговорил он. — Фашисты гонят на убой солдат, а мы зря теряем там свои лучшие кадры. Атакуют-то они. Это они выбирали место и время для нанесения удара.
— У нас кое-кто говорит, что во всем виноваты русские.
Из мастерской позвали Джину, она быстро вышла из комнаты.
— Никого там нет, — сказала она нам, приоткрыв занавеску.
Я тихо спросил у Скарпы, бывал ли он в Турине. Я рассказал ему про Амелио и про то, что теперь он прикован к постели. Джино его не знал. В то время он был в Испании.
— Я встречал кое-кого из тех, — сказал он, — кто побывал в лапах фашистов. Они выкалывали нашим пленным глаза.
Вошла Джина и с ней Джузеппе; он посмотрел на нас, поздоровался. Скарпа сразу замолчал.
— Мы с вами уже встречались вчера ночью, — спокойно напомнил ему Джузеппе.
Джина подала нам кофе.
— А у здешних товарищей, — поинтересовался Скарпа, — ты не спрашивал про Амелио?
Мы заговорили о Турине и о последних арестах.
— Да, немало наших погибло, — сказал Джузеппе. — В газетах о них не пишут.
— Кое о ком и газеты упоминают.
— Ну уж если газеты называют имя, значит, человек был для них не очень-то опасен, — улыбаясь одними глазами, ответил Скарпа. — Но если молчат, значит, он из наших.
Его опаленное солнцем лицо было живым напоминанием об Испании, а ведь он пробыл там лишь несколько месяцев во время войны. Я вдруг обратил внимание, что глаза Джины были похожи на его глаза. Джина была молчаливой, но у нее в глазах плясали искорки. Ни Джузеппе, ни Скарпа не обращали внимания на то, что Джина прислушивается к разговору. Потом Джину снова позвали, и она ушла в мастерскую. Мы продолжали спокойно беседовать. Только я один заметил ее отсутствие.
— Этой ночью, — сказал мне Джузеппе, — мы хотели собраться у тебя. Но кое-кому не с руки сюда ехать. — Он объяснил, куда мы со Скарпой должны прийти, просил быть поосторожнее. Мне поручалось обеспечить охрану. — Захвати с собой гитару, она всегда кстати.
Джузеппе встал, распрощался с нами. Я поднял занавеску, пропуская их вперед, и прошел за ними в мастерскую. Там я увидел Линду. Они с Джиной поглядывали друг на друга, чего-то выжидая. Линда сидела на ящике и, не поднимаясь, бросила: «Привет». Потом насмешливо улыбнулась, ожидая, что я заговорю первый. Наконец она сказала:
— Я не помешала?
— Ты разве не уезжаешь сегодня вечером?
— Не волнуйся. Мне захотелось взглянуть на ваш торговый дом.
Джузеппе сказал:
— Значит, договорились, — и ушел.
Я почувствовал, что Скарпа с любопытством наблюдает за мной. Джина не дыша смотрела Линде прямо в лицо.
— Хорошо еще, что Карлетто показал мне дорогу. Как-то не хотелось уезжать, не попрощавшись с тобой. Здесь, я вижу, работают днем и ночью. — Она встала и сказала, обращаясь уже ко всем: — Пабло остался таким же. Сам хочет, чтобы я передала привет его друзьям в Турине, но молчит. А я дура, что пришла. Ему никто не нужен, но его все должны ублажать. — Последнюю фразу она произнесла каким-то чужим голосом.
Скарпа сказал:
— Вижу, ты занят. Мы пойдем.
Но тут Линда стала кричать, потом захохотала — такой я ее еще никогда не видел.
— Какие могут быть секреты с Пабло? Он еще младенец, ему мамочка нужна. Уж мы трое это хорошо знаем. Оставляйте его без сладкого, хозяйка. Как только закапризничает, оставляйте без сладкого.
— Именно это ты мне хотела сказать? — со злостью спросил я. Все было правдой. Я посмотрел на Джину, не смеется ли и она тоже. Но увидел, что она вся подобралась, пораженная и разгневанная. И сразу успокоился. Я сказал Скарпе:
— Подожди минутку, я должен с ней поговорить.
Линда крикнула мне:
— Не затрудняй себя! Я ухожу. — Потом усмехнулась. — Просто хотела узнать, что ты за человек. — Она остановилась на пороге и окинула нас взглядом. — Все-таки мог полюбезнее встретить свою подругу. Точно в дешевую остерию попала.
Джина, собравшись с духом, сказала:
— Зачем же так? Все, что хотели, вы ему уже высказали прошлой ночью.
Тогда Линда сказала:
— Если никто не возражает, я хочу поговорить с тобой, Пабло, наедине.
— Нужды нет, можешь говорить при всех.
Линда тряхнула головой и пристально взглянула на меня. Потом махнула рукой и выбежала на улицу. Последнее, что я увидел, был ее сверкнувший браслет.
Скарны при этом уже не было, он ушел в комнату. Джина стояла, прислонившись к прилавку, и молчала. Она не смотрела на меня. Взгляд ее был устремлен в раскрытую дверь, на дорогу.
— Мне перед вами совестно, — резко сказал я.
Джина ответила:
— Вернется — я ее убью.
Мы оба взглянули на дверь.
— Ты сама знаешь, как это бывает, — сказал я. — Что же тут для тебя нового? Важно только, кто чего стоит.
— Вернется — я ее убью.
Я не пытался ни приласкать, ни утешить ее.
— У нас и без того много забот, — сказал я. — А с этим покончено.
В полдень мы отправились со Скарпой в остерию.
— Пойдем прямо через улицу, — предложил он. — Самое опасное — прятаться от людей.
Мы сели с ним в уголке под миртами. Послали Пиппо купить тосканские сигары и заказали немного вина.
— Знаешь, — сказал Скарна, — вечно я в дороге, или в бегах, или в тюрьме и никак не могу посидеть спокойно, отдохнуть.
Он поведал мне о своей мечте — уехать в деревню, пожить там подольше, завести поросят.
— Одна беда, стоит мне где-нибудь пустить корни — война начинается. Либо наши друзья сражаются, либо другие. Прежде и у меня был свой дом. Давно уж и в помине нет родного очага… А у тебя вроде даже в избытке, — сказал он. — Смотри, будь поосторожнее, а то вовек не распутаешься.
— Почему-то эти истории никогда не кончаются вовремя, — смущенно ответил я. — Но думаю, на этот раз все ясно.
Скарна улыбнулся одними глазами.
— Разве тебе не известно, что всякая история повторяется дважды? Сначала она происходит всерьез, а потом вызывает только смех. Так вот, и каждый утопленник обязательно всплывает.
Но мне вовсе не хотелось смеяться, а хотелось напиться. Счастье еще, что Скарпа шутил за двоих. А ведь Линда правду сказала — женщина для меня лишь каприз, и Скарпа все слышал. «Надо будет поговорить с ним об этом», — подумал я.
XIX
Поздно вечером мы собрались в кабачке на тайное совещание. Чтобы нас не задержал ночной патруль, мы просидели там до рассвета. Джино Скарпа вместе со всеми спустился в погребок, который вел в другой погребок, откуда в случае надобности можно было выбраться прямо на улицу. Я вместе с Джузеппе остался наверху. Захватил с собой гитару, но играть было опасно — мог услышать патруль. Меня клонило ко сну, ведь прошлую ночь я глаз не сомкнул. Джузеппе то и дело спускался в погреб, поднимался наверх и каждый раз окликал меня.
— Смотри не засни. Представляешь, что будет, если они нас здесь накроют.
Но у меня так колотилось сердце, что я не мог уснуть. Я знал, что в погребке было много коммунистов, да и один Скарпа стоил десятерых. Мы о многом переговорили. Я попросил Джузеппе узнать про Амелио. Только на рассвете, после того как он объявил, что наше затворничество кончилось, а хозяин кабачка принес нам кофе, Джузеппе спокойно сказал мне:
— Ты был прав, твой туринский друг — коммунист.
Больше он ничего не знал, а может, просто не хотел говорить. Тем временем несколько пареньков, которым надо было рано на работу, по одному выбрались из кабачка. Хозяин приоткрыл дверь и для виду стал подметать пол. Я не видел, как расходились остальные.
Мы с Джино Скарпой ушли, когда уже рассвело. Из разговора с ним я заключил, что он остался недоволен совещанием. Я понял, что скоро они опять должны собраться.
Мы прошли через парк Пинчо, освещенный первыми лучами солнца. Я шагал с трудом, точно плыл против течения. Не будь рядом Скарпы, пожалуй, свалился бы на первую скамью.
— А не позавтракать ли нам? — спросил Скарпа. — Поедим прямо под деревьями, красота.
Но потом мы решили зайти в «Фламинио», в то самое кафе, где обедали накануне.
«Видно, мне на роду написано, — подумал, я, — возвращаться домой на рассвете».
— Бодрей держись, — сказал Скарпа, — это тоже своего рода война.
Но и у него у самого лицо было утомленное. Резче выступили скулы, обозначились глубокие морщины — следы перенесенных испытаний. Но взгляд его оставался все таким же твердым. Он не спеша пил кофе с молоком, и мне вдруг вспомнился острый кадык неподвижно лежавшего в постели Амелио.
— Достаточно на нас взглянуть, чтобы догадаться, кто мы такие, — сказал я. Счастье еще, что в кафе было пусто.
Скарпа устало посмотрел на кассиршу и мрачно ответил:
— Да, лица у всех у нас такие, словно мы никогда света божьего не видим. Жизнь наша бродячая, вот в чем дело.
Я выпил граппы и подумал, что и у меня судьба не лучше. Но раньше я мирился с этим, а теперь знал, чего добиваюсь. Интересно, что думает об этом Скарпа?
Мы пошли домой, и дорогой я заметил, что Скарпа чем-то обеспокоен. Он поглядывал то на небо, затянутое тучами, то на поросшие пиниями холмы.
— Ох уж эти мне римляне, — вздохнул он. — Никак их не поймешь. И каждый себя умником считает. Самоуверенности в них много. А фашисты под самым их носом, что хотят, то и делают. Какие-то они близорукие, здешние товарищи, даже не задумываются над тем, что творят фашисты во всем мире.
Тут я спросил:
— Разве они не коммунисты?
— На словах они все коммунисты, — ответил Скарпа. — Ты ведь был с нами на совещании? — Он удивленно посмотрел на меня покрасневшими от бессонницы глазами. — Знаешь, и в спорах есть своя красота. Ты даже не представляешь, как это интересно.
Я сказал ему, что теперь, когда я живу в Риме, многое мне стало понятно.
— Так всегда бывает в жизни, — заметил он. — В Риме все кажется гораздо проще. Когда я был студентом, мне тоже казалось, что главное я уже постиг. Потом, к счастью, а может, и к несчастью, я понял, что до этого еще далеко…
Неужели Джино Скарпа был студентом? Он казался мне простым рабочим, как все мы, только более толковым и знающим. Так, разговаривая, мы подошли к мастерской.
— Значит, Рим тебе знаком? — спросил я.
— С того времени он сильно изменился, — улыбнулся Скарпа. — Вот только римляне не меняются.
Джина, обрадованная, встретила нас в дверях. Она ждала нас, чтобы покормить, но я сказал, что смертельно хочу спать. Скарпа ушел в сад любоваться облаками, а я лег на кровать и сразу заснул.
Вечером я пошел к себе домой переговорить с Мариной.
— Хорош жилец, — сказала она. — У такого ключ вовек не сотрется.
— Дел много, — ответил я.
— Ну и вид у тебя!
— А как поживают соседи?
Я заплатил ей за месяц и спросил, нельзя ли будет здесь переночевать одному моему старому другу.
— Ты, верно, этого друга всего день знаешь, а уже хочешь пустить переночевать.
Тогда я зашел к Дорине, там царило страшное возбуждение. Карлетто снова приняли в театр «Арджентина». В этот вечер с ним обещали подписать контракт. С минуты на минуту он должен вернуться. Я сказал Дорине:
— Рад за вас, но все-таки Карлетто — беззаботная пташка.
Она обиделась и спросила:
— Почему это?
— Такое только в Риме бывает, — ответил я. — Все заканчивается общим весельем.
Тут Дорина велела мне замолчать. Все дело в том, что я перестал быть настоящим другом Карлетто. С тех пор как сошелся с Джиной, я совсем переменился. А когда арестовали Лучано, я стал обвинять ее, Дорину, и Карлетто во всех грехах. Да к тому же свел дружбу с какими-то грязными типами, это добром не кончится. Так все ее друзья говорят.
Она покраснела, у нее даже голос прервался. Она сказала, что лучше бы уж я все вечера проводил с ними, играл на гитаре, попытался бы поступить в театр, потом добавила:
— Теперь Карлетто сможет тебе помочь. А своим новым друзьям не очень-то доверяй.
Я понял, что для Скарпы будет спокойнее и дальше ночевать в мастерской. Тем более что речь шла всего о двух днях. В мастерской Скарпа чувствовал себя хорошо, он даже помогал Пиппо чинить велосипеды. Вечером мы поужинали и вышли посидеть в саду. Пока ни от кого никаких вестей не поступало. Ночью должно было состояться второе совещание. Мы ждали Джузеппе.
— Поиграй немного на гитаре, — попросил Скарпа.
— Вот ты учился в университете, а твой отец был состоятельным человеком, как же случилось, что ты пошел с нами? — спросил я. — Почему тебе пришлось бежать? Чем для тебя был плох фашизм?
— У каждого класса есть свои безумцы, — сказал он. — Если бы их не было, мы бы и сейчас жили, как во времена древнего Рима. Чтобы изменить мир, нужны безумцы. Ты когда-нибудь задумывался над тем, чем обязан мир безумцам? — Потом он сказал: — И ты такой же безумец. Для чего тебе нужно вести подпольную работу? Ведь ты рискуешь угодить в тюрьму или на каторгу, и тебе никто ни гроша не платит.
— Всех нас эксплуатируют…
— Тебя-то кто эксплуатирует? Джина, что ли?
Он говорил резко, чуть насмешливо. Я хотел было ответить ему. Но он меня опередил:
— Одно могу тебе сказать, разница между нами лишь та, что я, раньше чем решиться на борьбу, месяцами мучился, сомневался, искал ответа в разных книгах, а у тебя и у твоего класса это в крови. Это не такой уж пустяк.
— Вот только с коммунистами трудно было связаться, — сказал я.
— А зачем ты их, спрашивается, искал? Какая тебе от них корысть? Потому искал, что тебя вел инстинкт.
— Но хоть несколько книг мне бы не мешало прочесть. Если в один прекрасный день откроют школы для нас…
— От книг мало толку. Я видел в Испании интеллигентов, которые совершали не меньшие глупости, чем остальные. Главное — классовый инстинкт.
Мы долго беседовали с ним в саду. Ночь еще не наступила, но кое-где уже зажглись фонари. Загорелся свет в окнах домов. Как досадно, что Скарпа завтра уезжает. Я многому мог у него научиться.
Джузеппе пришел уже ночью и сказал:
— Кто-то проболтался.
Фашисты взяли наш кабачок под наблюдение. Один из товарищей заметил там двух агентов, дежуривших по очереди. Пока никого не арестовали: поджидают руководителей.
— Хозяина кабачка наверняка возьмут, — сказал Джузеппе. — Но он не знает, где ты, Скарпа, скрываешься. И все-таки будьте оба осторожны.
Он удалился неторопливым шагом, так же как пришел. Скарпа сказал, что в этих случаях хозяин всегда попадается, но не мешало бы некоторым упрямым головам хоть разок побывать в такой передряге, может, поумнеют.
— Давай пройдемся немного, — предложил он мне.
Я выглянул на улицу, нет ли шпика возле мастерской.
— Пойдем с нами, — сказал я Джине, которая только этого и ждала.
Мы поднялись на холм, к церкви. На улицах было шумно и людно. Из ярко освещенной остерии пахло вином. Не кричали только те, у кого был набит рот. А над всем Римом нависло черное-пречерное небо.
— Если нас сегодня ночью схватят, — сказал я, — это будет последнее, что мы увидели.
— Что «это»? — не поняла Джина.
— Как едят, кричат и пьют в Риме, — сказал Скарпа. — Так ведь?
Я спросил, неужели он всегда угадывает чужие мысли. Скарпа ответил, что так бывает, когда твой друг влюбляется. Заранее знаешь, что он скажет. Все мы бывали влюблены.
— Пабло вовсе об этом не думает, — проговорила Джина.
Голос, каким она это произнесла, рассмешил нас.
— Это пустяки, — успокоил ее Скарпа. — Пабло хороший товарищ.
Потом он рассказал, что сидел в Риме в тюрьме.
— Десять лет назад. Мне было тогда двадцать. В то время я ходил в анархистах. Фашисты сказали: «Да он просто болван», — и выпустили меня.
— А как там с вами обращались? — спросил я.
— Да, в общем, терпимо. Конечно, поганые людишки всюду встречаются. Я тоже был тогда влюблен, но не прошло и месяца, как моя милая наставила мне рога.
Джина тихо спросила:
— Неужели это правда?
— Такова жизнь. В тюрьме, понятно, сладко не бывает. Но часто вот еще что происходит. Просидишь ты несколько лет, и людей начинаешь забывать. Потом выходишь оттуда и убеждаешься, что жизнь шла своим чередом. Тут только понимаешь, что значит быть заживо погребенным.
— Лучше уж умереть, — тихо сказала Джина.
Мы вышли на пустырь, оттуда видна была панорама Рима.
Я сказал Скарне:
— Значит, завтра уезжаешь.
— Вот дьявольщина, — задумчиво проговорил он. — Поживешь где-нибудь день-два — и снимайся с якоря, знаешь, что тебя ищут.
Мы повернули назад, а Джину я отправил ночевать к старой Марине. Мы со Скарпой расположились в мастерской и половину ночи провели в разговорах. Джино говорил, что прятаться или попасть в тюрьму — разницы большой нет. Главное, знать, что другие товарищи на свободе остались. Но бывают такие минуты, когда чувствуешь, что нет больше сил — пусть арестовывают.
— У вас еще тут ничего, — добавил Скарпа. Он рассказал мне о том, что творится в Германии, о застенках Испании. У меня от его рассказов кровь стыла в жилах. — Капиталистический мир ополчился на нас, — сказал он. — Не строй себе иллюзий. А именно этого вы здесь и не хотите понять. Буржуазия защищает свое сытое существование, свой карман. Она готова уничтожить полмира, убить миллионы детей, лишь бы у нее не вырвали из рук хлыст и не отняли кормушку. Можешь не сомневаться, они и в Италии будут совершать то же самое. И при этом поминать боженьку или свою любимую мамочку.
Мне припомнилось, что и Карлетто говорил примерно то же самое. Я сказал об этом Скарпе.
— Если бы ты всего этого не понял, — сказал Скарпа, — ты не мог бы быть коммунистом. Но одно дело просто понять, другое — понять правильно. Все мы превращаемся в обывателей, когда нас охватывает страх. Закрывать на все глаза и не видеть надвигающейся бури — это ведь тоже страх, подленький страх обывателя. Марксизм как раз и состоит в умении видеть вещи в их истинном свете и принимать необходимые меры.
Он объяснил мне, что в Италии буржуазия ведет хитрую игру. «Знаете, ребята, — убеждают нас буржуа, — нам тоже плохо. Давайте объединимся и скажем правительству: „Хватит“. Это и нас устроит, а вас тем более. Посмотрите, что происходит за границей, что там делают всякие мерзавцы. Поддерживайте нас, и мы сумеем вас спасти».
— На самом же деле, — сказал он поздней ночью, заканчивая разговор, — нам надо самим спасать себя или погибнуть всем вместе. А война в Испании проиграна.
Джина пришла утром и разбудила нас. Я принялся за работу. Скарпа вышел в сад постирать себе белье. Я спросил у Джины, что говорят Марина и остальные женщины. Она, смеясь, ответила:
— Удивляются, что ты предпочитаешь ночевать с ним.
— Приняли Карлетто в театр?
— Они пригласили нас сегодня на ужин.
Весь день я даже и не вспоминал об этом приглашении. Скарпа отсыпался на кровати или в саду на траве. Мы договорились было пойти вечером погулять и распить в остерии бутылку вина, как вдруг примчался велосипедист, привез покрышки. Я его хорошо знал, он работал на заводе в Аурелии.
— Хозяин все выболтал, — сказал он. — Кое-кого уже арестовали. Товарищи решили, что Скарпа должен немедленно уехать. Я отвезу его на станцию Трастевере.
Скарпа спокойно сказал:
— Хорошо еще, что я белье успел выстирать.
Он снял комбинезон, быстро оделся, поцеловал меня и Джину.
— Не забывай о товарище из Испании, — сказал он мне на прощание и уехал.
XX
Все мы все-таки трусы. Когда Скарпа ушел, я вздохнул с облегчением. Я был уверен, что хозяин кабачка не знает моего адреса, и даже предложил Джипе:
— Хочешь, пойдем в театр?
Она обрадованно поглядела на меня.
Карлетто, Дорина, Лучано и другие артисты ужинали в остерии неподалеку от «Арджентины». Я отправился туда кружным путем и нарочно прошел мимо того кабачка, где мы собирались ночью. Он был закрыт, и на двери висел замок. Люди шли, не обращая на это никакого внимания. Я думал о том, что столько есть мест, где с нами расправляются, и никто не знает об этом. «Но может, в один прекрасный день люди услышат слова правды», — подумал я.
В «Арджентине» шло знакомое мне еще по Турину ревю, а ведь я так давно не был в варьете. В Турине я перестал туда ходить после ссоры с Линдой, а в Риме мне не до того было. Мне казалось, что здесь варьете никому не нужно. Не знаю уж почему, но я решил, что в Риме, где кругом фашисты, где живет папа и где в Палаццо Венеция восседает дуче, такое ревю вообще запрещено. «Другие люди, другие нравы», — думал я. Но потом на Лидо я увидел женщин в довольно нескромных купальных костюмах, которые лежали на пляже рядом с мужчинами. Оказывается, в таких вещах люди как две капли воды похожи друг на друга.
В тот вечер на сцену вышла танцевать негритянка. Одежда почти не прикрывала ее пухленькое тело, и она скакала, точно кузнечик. «Вот она подходит Лубрани, — сразу же подумал я, — может, Лубрани ее и выкопал». Но для публики негритянки никогда не бывают достаточно голыми, поэтому в угоду зрителям они так взвизгивают и подпрыгивают. Голос у них такой, что страх нагоняет и будоражит кровь. Римлянам негритянка понравилась, и они вызывали ее на «бис».
Потом к нам в партер пришел Карлетто. Джина сказала ему, что ждет не дождется его номера. Он уныло посмотрел на нас и объяснил, что по контракту его выступления начнутся только через шесть дней. «Похоже, тот, с Торре Литториа, опять надует его», — мелькнула у меня мысль.
Подошли другие артисты, посыпались приветствия, веселые шуточки, остроты. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Мне все казалось, что рядом со мной Джино Скарпа, что я слышу его голос, его смех, вижу, как он выглядывает из толпы.
— Пойдем поужинаем? — донесся до меня голос Дорины.
Ресторан, куда мы вошли, славился жареными поросятами и молодым сыром — моццареллой. Карлетто спел нам несколько песенок: пел он еще лучше прежнего, но обстановка была не та: нам прислуживал официант в белом фраке, и впечатление создавалось совсем иное. И только Джина хохотала как сумасшедшая, прикрывая рот рукой. Я понимал, что она, бедняжка, душою изболелась за меня и Скарпу и поэтому смеялась так, словно вдруг опьянела. За те два дня, что Скарпа пробыл у нас, я не слышал от нее ни единой жалобы.
Мы просидели в ресторане целый вечер и потом всей компанией пошли к мосту Мильвио. Мне было как-то странно, что я снова иду с Карлетто и его друзьями и, как прежде, слушаю их разговоры. За эти два дня произошло столько событий, что мне даже казалось, будто все это случилось не со мной, а с кем-то другим. Дорогой мы болтали, шутили и смеялись, я вспомнил даже, что и они тоже кое-что сделали, и если верить Лучано, то и сейчас не сидят сложа руки. Но я понимал, что между нами выросла стена или, скорее, колючая изгородь. Теперь мы могли лишь болтать о пустяках или подшучивать с Джулианеллой над моими любовными похождениями. Потом я стал подсмеиваться над Карлетто, сказал, что он сам мог прийти в мастерскую, но нечего было приводить туда Линду, да его за это надо отлупить!
— Во всей этой истории почти ни одна ссора без тебя, Карлетто, не обошлась, — сказал я. — Они хоть уехали из Рима? — Карлетто кивнул головой. И мне стало немного грустно.
Некоторое время от моих товарищей не было никаких вестей. Я не знал, что стало с хозяином кабачка и с другими. Вот если бы Скарпа не уехал из Рима, мы могли бы случайно повстречаться с ним. В иные дни я чувствовал особое беспокойство. Наконец я послал Пиппо на завод с починенными камерами и велел осторожно разузнать, нет ли чего нового. Товарищи просили передать мне, чтобы я держался в тени. Ничего не поделаешь, опасность еще не миновала.
Потекли однообразные дни, и я старался ни о чем не думать. Джина почувствовала, что надвигается гроза. Порой она говорила:
— Неужто ты работать собираешься? Закрывай мастерскую, и пойдем к Дорине. В такие дни отдыхать надо.
Мы опять стали с ней ездить в Остию, в сосновую рощу, иногда уезжали совсем далеко. Нам и вдвоем было весело. Стояли погожие сентябрьские дни, и воздух был прозрачен, как хрусталь.
Я снова стал играть на гитаре, а вечером, когда мы выходили погулять, мне, как и прежде, хотелось веселиться и дурачиться. Точно вернулось то время, когда я пировал на холме с Ларио и Келино, когда все еще было впереди и Амелио носился на своем мотоцикле. А ведь прошел всего год. Неужели только год?
— Ну, нравится тебе Рим? — приставал ко мне Карлетто, семеня сзади. — Черт побери, все-таки мир хорош.
Джулианелла сказала:
— Ты, Пабло, можно сказать, женат. Смотри не обмани Джину.
Я же думал о своих товарищах. О тех, кто сидит в тюрьмах, о всех погибших и умирающих от голода на этой земле. Интересно, каким станет мир, когда мы победим. Но кто знает, может, и хорошо, что на нашу долю выпали эти трудности. И что иначе и не бывает.
Однажды ночью нас застиг проливной дождь, когда мы вышли из театра, и нам пришлось спасаться в первой попавшейся остерии. Обычно в такую непогоду особенно хочется веселиться, и как хорошо, что на пути так кстати попадается остерия или кабачок. Мы словно снова превратились в мальчишек. В небе над Римом гремел гром, хлестал дождь, ветер срывал листья с деревьев, кроме нас, в этой захудалой остерии не было ни души. Мы потребовали вина. Джина и та пригубила рюмку. Карлетто произнес громовую речь против фашистов, хозяин остерии плотно закрыл дверь и откупорил бутылку, которую он хранил на тот день, когда им придет конец, и тоже стал разглагольствовать.
— Когда ревет буря, — кричал он в запале, — мне кажется, что это трубный глас. Вот увидите, грянет гром, молния поразит Палаццо Венеция, и в тот день мы увидим, как сдохнет жирная крыса…
Наконец он совсем опьянел, но не отпускал никого, умоляя молчать, не губить его и забыть про бутылку вина и глупые речи. Он клялся и божился, что, когда начинается ураган, на него находит затмение, а вообще он политикой не интересуется. Чтобы успокоить его, Лучано сказал:
— Да мы толком и не знаем, где твоя остерия находится.
Испуганное лицо хозяина долго еще стояло у нас перед глазами, а Джулианелла все ворчала: «Ну и дурень!» На Карлетто мы тоже нагнали страху. Сказали ему, что хозяин остерии, конечно, видел его в театре. Карлетто сначала задумался, но потом возразил:
— Нет, он говорил искренне. Ведь за бутылки, которые он ради нас откупорил, никто ему не заплатит.
Но тут в разговор вмешалась Джина:
— Все вы были искренни. Но он со страху может первый донести на вас.
— До чего довели Италию, — мрачно сказал мне Лучано, — люди торопятся донести первыми, чтобы самим не пострадать.
У самого дома они снова завели разговор о политике и настойчиво уговаривали меня действовать с ними заодно.
— Он в любой день может сдохнуть, — доказывали они. — Он же сифилитик и вообще развалина. Мы должны быть готовы к решающей схватке. Нам надо поддерживать связь друг с другом. Если в нужную минуту мы не удержим массы, начнется побоище.
— Допустим, — спокойно сказал я, — ну и что?
— Но это еще не самое страшное, — не сдавались они. — Главное, не дать разгореться войне. А то у нас повторится то, что было в Испании.
Я видел их насквозь, точно они были из стекла. В каждом их слове звучали страх и тайное желание навязать свою волю другим. Когда человек спасает свою шкуру, свой покой, это можно понять — такое со всяким случается. Но я никак не мог взять в толк, почему оба они защищают капиталы буржуев, те самые капиталы, которые привели фашистов к власти. Я, смеясь, высказал им это. Карлетто сказал, что, возможно, кое в чем я и прав. Но основное — быть готовым к решительному сражению.
— Однажды уже было так, — доказывал он мне, — мы упустили благоприятный момент. Если не удержать массы в руках, начнется поголовная резня. История знает немало примеров кровавых побоищ.
Короче говоря, они хотели встретиться с нашими руководителями. Я ответил, что наши руководители не очень словоохотливы и все эти вещи им давным-давно известны.
— Тогда идем с нами, — предложил Лучано. — Мы тебя кое с кем познакомим.
Этот «кое-кто» оказался синьором в белом жилете и очках в золотой оправе; встретились мы у театра. Он стоял у входа вместе с Джулианеллой, и вид у него был самый благодушный. Он предложил нам зайти в остерию выпить по чашечке кофе. Понемногу завязался общий разговор.
— Майор, — сказал Лучано, — большой любитель музыки. Он с удовольствием послушал бы твою игру, Пабло.
— Да это дело нетрудное, — ответил я. — Приходите в любой вечер в остерию.
— Пойдемте к Беппе, — предложил майор, — там и побеседуем.
Майор оказался человеком осторожным. Он завел по дороге разговор о гитарах и виолончелях. То и дело останавливался и высказывал свои суждения. А мы молча ждали, когда он наконец выговорится. Он держал Джулианеллу под руку и вполне мог сойти за ее дедушку.
В ресторане мы сели за отдельный столик в углу. На столиках были скатерти и стояли вазы с цветами. Я не понимал, зачем нужно было идти в ресторан, чтобы выпить стаканчик вина. Но как ни странно, Карлетто, Джулианелла и Лучано чувствовали себя здесь великолепно. Разговор по-прежнему шел о музыке. Майор говорил какие-то мудреные вещи. И все поглядывал на меня. А я вопросительно смотрел на Лучано. Наконец Карлетто прервал майора и сказал:
— Давайте перейдем к делу. Пабло знает, кто мы такие. Мы просим вас, майор, изложить ему наши взгляды.
Старик откинулся в кресле. Протер очки и внимательно поглядел на меня. Начал он с комплиментов. Сказал, что именно такие люди и нужны для борьбы. Пока их очень немного. Потом сравнил нас со святыми. Плохо только, что мы действуем обособленно. Почему бы нам не объединиться с другими честными итальянцами? Ведь чего хотят эти итальянцы? Покончить с насильниками, скотами и ворами, восстановить законность и уважение к гражданам, возродить Италию, вернуть утраченные свободы.
— Свергнуть фашизм без тяжелых потерь, — прервал его Карлетто.
Майор усмехнулся одними глазами и продолжал говорить. Однажды, сказал он, мы уже предоставили массам свободу действий. А каков результат? Я ему ответил, что такие, как я, и составляют массу, а результат известен и буржуазии, и ему самому.
Майор снова снисходительно улыбнулся. Конечно, сказал он, фашизм пустил довольно глубокие корни, а такие, как мы, внушаем людям страх и тем лишь способствуем укреплению фашизма. Нам надо встретиться и все обсудить. Пусть каждая сторона изложит свои взгляды. Необходимо выработать общую программу. Все это он хотел бы высказать нашим руководителям при встрече.
Это была старая песня. Я начинал понимать. Теперь уже они напряженно ждали, что я скажу. Джулианелла нервным движением потушила сигарету. Стараясь сохранять спокойствие, я ответил, что мы уже давно кое-что делаем. И конечно, не я, мелкая сошка, а наши руководители обсуждают подобные вопросы. И что мы все должны выполнять наш общий долг. Но строить иллюзии, будто вернется старое, мирное время, бесполезно, и если мы нагоняем страх, то кое-кто вызывает жалость. Надо было видеть, как у них вытянулись лица, когда я сказал, что переговоры уже ведутся. Однако майор недоверчиво улыбнулся. Он сказал, что каждому овощу свое время и что в таких делах нужно проявлять особенное благоразумие. Вообще же он очень рад нашей беседе и просит меня подумать и поговорить с кем надо. Потом предложил выпить за осуществление наших надежд.
Через несколько дней он пригласил меня поиграть на гитаре.
На этот раз мы встретились не у Беппе, а в доме Лучано. Раньше я у него никогда не бывал. Джулианелла пригласила нас взглянуть с балкона на расстилающуюся внизу панораму Рима. Майор послушал мою игру, поспорил со мной о политике и сказал, что партии подобны струнам гитары. Но ведь когда играют, струн не рвут, а лишь слегка их касаются.
Мы встречались еще несколько раз, вместе бродили по Риму. Однажды Джина спросила меня, куда девались мои товарищи, они словно в воду канули. При этом лицо у нее было даже довольное. Я и сам не прочь был немного отдохнуть. Но томительная неизвестность становилась невыносимой. Я нарочно прошел мимо того кабачка, он все еще был закрыт. Было это в воскресенье. «Завтра утром, — решил я, — съезжу на завод». К счастью, поехать туда я не успел. Меня арестовали на рассвете, когда все еще спали.
XXI
Меня взяли прямо с постели и за полчаса все в доме перевернули вверх дном. Марина смотрела на меня испуганными глазами. Я решил, что они узнали про Скарпу, и представлял себе, как сейчас они шарят по всем углам в мастерской, и мне даже весело стало. «Хорошо, что Скарна успел удрать», — подумал я. Потом меня увели. Дверь в квартире Карлетто была заперта.
«Этот хитрец Карлетто спит себе, наверно, — неожиданно подумал я. — Вот напугается, когда узнает. Опять умчится в деревню». Я был счастлив, что Скарпе удалось скрыться из Рима. Машина остановилась у тюрьмы на Лунгаре, меня высадили и отвели в камеру, и я даже не успел взглянуть в последний раз на улицу и на небо. Уже потом, в камере, я припомнил, что на мосту промелькнула передо мной девушка с развевающимися на ветру волосами. А из окошка камеры видны были лишь стены да клочок неба.
Когда стражники наконец ушли, я почувствовал, что рот у меня точно судорогой свело. Я вспомнил, что по дороге и в тюремной канцелярии я не переставал презрительно усмехаться, желая показать, будто все это мне не в новинку. Я ждал, что меня начнут бить, станут всячески издеваться. Но тюремщики, окинув меня скучающим взглядом, какой бывает у завсегдатаев бара, равнодушно отворачивались.
В камере я был один, потом вдруг открылось окошечко в двери и меня окликнули. «Ну вот, теперь начнут бить», — решил я. Но оказалось, это надзиратель принес бачок, полотенце, тарелку, ложку. У меня хватило глупости спросить, за что меня взяли. Надзиратель ничего не ответил, окошечко захлопнулось.
День прошел тихо, без всяких событий. Я прилег на стоявшую в углу койку. Лежа я мог видеть краешек неба. На окне была частая решетка, и через мутные бугристые стекла, как ни пытайся, ничего нельзя было разглядеть. «Это не так уж страшно», — решил я. Время от времени надзиратель стучал в дверь, передавал мне хлеб и котелок с похлебкой. «Лишь бы дальше не было хуже», — думал я. Здесь можно было даже сигарет купить.
С самого утра меня не покидала мысль, что во время допроса я не сумею хорошенько обдумать свои ответы, и мне хотелось осторожно выведать, что им известно. «Если они взяли и Пиппо, я пропал, — думал я. Потом решил: — Раз они меня схватили, значит, они все знают».
В тюрьме страшнее всего даже не одиночество, а неизвестность. Я шагал взад и вперед по камере. Вспоминал товарищей, майора, наши беседы со Скарпой, его слова: «Это все равно что быть заживо погребенным… Фашисты сказали: „Да он просто болван“, — и выпустили меня». Потом опять ложился на койку и в который раз начинал обдумывать все по порядку. Итак, Скарпа успел уехать. А если не успел? Кто, кроме Джузеппе, знает, где я живу? Я вспомнил ту дождливую ночь и опьяневшего хозяина остерии. Лицо у него было подленькое. Но ведь он знал только Карлетто, а не меня. Майор? Но он, конечно, зря рисковать не станет. Мне даже холодно стало при мысли, что я сам во всем виноват. Если проговорился кто-нибудь из группы майора и арестовали моих товарищей, мне остается только броситься в реку.
Тут я вспомнил, что однажды действительно готов был утопиться. Совсем недавно, в марте, потрясенный подлостью Линды. Перед глазами встала она в тот последний раз, когда зло и безжалостно рассказывала мне об Амелио. Внезапно я подумал, что Амелио сейчас тоже в тюрьме. Теперь совесть моя перед ним чиста. Я вытянулся на койке. Закрыл глаза и повторил про себя: «Амелио».
Вечером я услышал лязг и грохот. Сначала в дальних камерах, потом все ближе и ближе. Кто-то, словно обезумев, стучал по решетке железным прутом, потом раздался легкий, мелодичный звук, снова грохот, позвякивание ключей. Ближе, еще ближе, наконец дверь моей камеры растворилась. Вошли двое надзирателей, один из них весело сказал мне «добрый вечер», другой подошел к окну и стал яростно стучать по прутьям решетки. Потом они ушли, с шумом захлопнув дверь. Я понял, что наступила ночь.
Мне не верилось, что кому-нибудь может прийти в голову мысль бежать отсюда. Просто фашисты вместо вечерней молитвы решили перед сном угостить нас концертом. Я подошел к окну выкурить последнюю сигарету и сквозь мутное стекло глядел на клочок неба. И мне казалось, что я вижу Рим, его улицы. В этот поздний час я обычно выходил из дому и отправлялся с друзьями в центр города. Улицы были залиты огнями, в остериях люди ужинали, пили, танцевали, я играл на гитаре. Интересно, повидала ли Джина Карлетто, Лучано и Дорину? Только бы Джина была осторожной. Я даже не успел с ней попрощаться. Но постепенно мысли мои стали путаться: слишком уж много я пережил за этот день. На потолке зажглась лампочка, она горела тускло, слабо, как ночью в больничной палате. Через закрытое окошечко в двери до меня донесся голос надзирателя: «Спишь?»
Не знаю, спал ли я или только дремал. Я ждал, что вот-вот придут чернорубашечники и поведут меня на допрос. Я почему-то думал, что заключенных избивают именно ночью, и был готов к самому худшему. В памяти всплыли рассказы Скарны о застенках Германии и Италии, и я твердил себе: «С красными они не церемонятся». В полночь я проснулся: кто-то приоткрыл дверь. Не успел я подняться с койки, как надзиратель уже захлопнул дверь — это был ночной обход.
Наступило утро, через окно пробился тусклый свет. Всю ночь я проворочался на жесткой койке, и теперь у меня болели бока, а голова была точно свинцом налита. Едва протерев глаза, я стал обдумывать, что отвечать на допросе.
Зазвенел звонок, возвещая подъем. Принесли кофе: котелок желтой, мутной водички. Потом снова грохот отворяемых дверей. Надзиратель сказал: «Тебе передача». Протянул мне сверток: в нем было белье и листок бумаги, на котором рукой Джины были написаны мое имя и фамилия.
Как это придает мужества — точно ты с близким человеком поговорил. Довольный, я закурил и стал шагать по камере. Пять шагов туда, пять обратно; я подумал, что Амелио двигаться не может и в тюрьму его отвезли на носилках. Мысль о нем вселяла в меня бодрость, и теперь я уже спокойно смотрел на решетку. «Ты в тюрьме, потому что сам этого захотел», — твердил я себе.
Мне сказали, что я могу пойти справить свою нужду. Я спустился по лестнице, меня повели по бесконечным коридорам. Мы вышли во двор, и там меня заперли на ключ в уборной с цементным полом. Через узенькое отверстие высоко-высоко виднелся крохотный клочок неба.
Прошел второй день, и ничего не случилось. Ночью на меня напали клопы. Потом снова наступило утро, и снова «прогулка». Я все обдумывал, как отвечать на допросе, и томился неизвестностью. Ночью я вспомнил о спрятанных книгах. «Неужели меня из-за этого и схватили? Быть не может». Я получил еще одну передачу. Меня спросили, не хочу ли я написать домой.
— У меня нет дома.
— Можешь написать другу.
— Я надеюсь скоро выйти.
— А любовницы у тебя нет?
— А разве разрешается писать любовницам?
— Можешь подать просьбу начальнику тюрьмы.
— Я надеюсь скоро выйти.
Каждый вечер я ждал этого дня. Чтобы очутиться на свободе, надо пройти пять наглухо закрытых ворот. Тюремщики должны одни за другими отворить их. Иногда я представлял себе, что произошла ошибка: спутали меня с другим, ну, может, с Карлетто. И вот в один прекрасный день меня вызывают, распахивают ворота, и я на свободе.
Какие-то пустяки лезли в голову: хорошо было бы зайти во фруктовый магазин или выпить кружку пива. Я готов был выполнять самую тяжелую работу: носильщика, доменщика, моряка на застигнутом бурей корабле — лишь бы иметь возможность свободно двигаться и болтать с друзьями, а не думать беспрестанно о том, что отвечать на допросе. Вспомнил девушку на мосту и пытался представить себе, что она сейчас делает, о чем мечтает и откуда она родом. Потом воображал, что гуляю по улицам, стою перед фонтаном Тритоне, сижу с друзьями в «Фламинио», мимо проходят люди, среди них много знакомых. Мне казалось, что я раньше попусту растрачивал самые лучшие часы. «Надо же было угодить в тюрьму именно в Риме». И вот уже я представлял себя больным: я жду врача и не могу подняться с койки. Мысленно играл на гитаре, придумывая всякие мелодии. Порой мне начинало казаться, что я просто мальчишка, наделавший уйму глупостей, над которым все смеются. Но ведь Джина наверняка не смеется. Я думал о мастерской, о Солино, о рабочих, строящих мост. «Какой же я все-таки дурак, — говорил я себе, — лучше было бы играть на гитаре и сидеть дома».
Однако в тот день, когда меня повезли в квестуру на допрос, я с тоской поглядел на свою койку. Сердце мое бешено колотилось. Сильнее страха было во мне желание не видеть эти рожи, остаться одному. Мы прошли через ворота, на минуту задержались в тюремной канцелярии, в окна видны были деревья и берег Тибра. На улице оба моих ангела-хранителя схватили меня за руки. Я заметил, что опять скорчил презрительную гримасу.
В квестуре меня уже ждали, сидевшие за столом чернорубашечники сразу приступили к допросу. Сначала спросили имя и фамилию, имя отца, год рождения и нет ли у меня судимости. Потом откуда я и давно ли в Риме, чем занимаюсь, с кем провожу вечера и чья это книга. Следователь протянул мне ее. Это была книга арестованного мужа Дорины. «Значит, и Джину взяли», — подумал я. И я уже хотел сказать, что книга эта принадлежала покойному мужу Джины, но в последний момент передумал. Потом перелистал несколько страниц и, делая вид, будто читаю, стал лихорадочно соображать: «Нет, Джина не арестована, иначе она не могла бы носить мне передачи, и вообще она не замешана в этом деле. Скоты, — думал я, — значит, они и у нее были с обыском».
— Откуда взялась эта книжка? — тихо спросил я.
— Тебе лучше знать.
Я мысленно проклинал этого горбуна Карлетто. С каким удовольствием я отколотил бы его.
— Я не читаю книг, — ответил я. — Мне и газет-то читать почти не приходится.
Тогда один из них спросил:
— А в театре бываешь?
— Случается иногда.
— Джулианеллу знаешь?
— Я знаю Карлетто. Горбатый такой. Одно время он пел, а я аккомпанировал ему на гитаре.
— Где и когда?
Тут я стал рассказывать о Лубрани, о своей жизни в Турине и столько всякой чепухи наплел, что они велели мне замолчать.
— А с майором ты знаком?
— С каким майором?
Я стал объяснять, что часто бывал в «Арджентине» и ужинал с Карлетто и Дориной. Иногда брал с собой гитару. Днем работал, а по вечерам ужинал в кафе. А имен людей, которые там бывали, не знаю.
— Майор? Это, наверно, тот самый, что живет в каморке при театре.
— Отвечай честно, не хитри, — сказали они, — зачем ты приехал в Рим? Ты связной?
Я сделал недоумевающее лицо и вопросительно посмотрел на них.
— Тебе что, в Турине плохо жилось?
Я снова удивленно посмотрел на них.
— Кто дал тебе эту книгу?
— Да не моя она.
— Тебе ее дал майор?
— Ума не приложу, как она ко мне попала.
Тут один из них схватил меня за плечо. Другой ударил по уху. Тот, что сидел за столом, невозмутимо продолжал допрос.
— Так откуда эта книга?
— Впервые вижу, — ответил я и посмотрел ему прямо в лицо. Плечо ныло под тяжестью чужой руки. Следователь открыл ящик и сказал:
— Тут для тебя письмо. — Протянул мне смятый листок бумаги. Письмо было от Джины. — Можешь его прочесть.
— Она здесь ни при чем, — сказал я.
Джина писала, что надеется на скорую встречу, и спрашивала, нужны ли мне белье и деньги. В мастерской все в порядке. «Я молюсь и все время думаю о тебе», — заканчивала она.
Рука все сильнее сжимала мне плечо. Один из допрашивающих сказал:
— Хочешь закурить?
— Ты нам должен рассказать все без утайки, — продолжал следователь, — чем занимались майор и его люди. Они тебе никогда не предлагали встретиться с ними, отнести книги, поехать вместе за город?
— Нет.
— Все твои друзья — враги государства. Ты знал это?
— Нет.
— О чем ты с ними говорил?
— Так, о пустяках всяких.
— А вот Джулианелла призналась, что ты им помогал. Ты состоишь в фашистской партии?
— Нет, не состою.
Он громко расхохотался. Рука с силой сжала мое плечо.
— Первый раз сказал правду. Мы тебя вовремя взяли. Ты с одной Джулианеллой спал или с Джиной тоже? — Он снова ударил меня. — А что Джулианелла и с майором путалась, ты знал? Деньги, чтобы приехать в Рим, она тебе дала?
— При чем тут Джулианелла? — сказал я.
— Тебе лучше знать.
Потом, совсем выбившись из сил, они составили протокол допроса, прочли мне его и сказали: «Подпиши». Я пробежал глазами протокол: там было лишь написано, где я познакомился с тем-то и тем-то. О моих товарищах-коммунистах ни слова. Я подписал.
Меня отвезли на машине обратно в тюрьму. Спускаясь вниз, я решил: «Дорогой буду смотреть на прохожих, на римские улицы и кафе, — но вспомнил об этом только в камере. — Хорошо еще, что эти скоты не взяли никого из товарищей», — подумал я.
XXII
Я написал Джине, чтобы она не волновалась, что все скоро уладится. Потом добавил, что наши бедные друзья тоже не виноваты и пусть Дорина не тревожится понапрасну. Никто не будет держать в тюрьме невинных людей.
Вечером загромыхали двери, и я вспомнил о Карлетто и его друзьях. Кто знает, может, и они сейчас думают, сидя в своих камерах: «Наверно, Пабло ведут на допрос». Когда начинался грохот, я подходил к решетке и прислушивался: шаги надзирателей все ближе и ближе, они идут, шагают от камеры к камере. Я говорил себе: «Сейчас они вошли в камеру Карлетто, а сейчас — к Джулианелле». Трудно мне было представить, что ее тоже возили в квестуру и там били. «Воображаю, что бы они сделали со Скарпой», — шептал я про себя. Я вспомнил, как Лучано не хотел говорить, что его били. Я понял: о таких вещах никому не рассказывают.
Бедный Лучано, каково ему снова очутиться за решеткой. Теперь я знал, что значит сидеть в тюрьме. Все время о чем-то раздумываешь и не смеешь об этом думать. На допросе я уже побывал, свою порцию побоев получил, что еще ожидает меня?
Утром и вечером я подолгу стоял у решетки. Вспоминал Мило, как мы ездили с ним на грузовике. Мчаться по дорогам, останавливаться, где тебе вздумается, как это чудесно. Мне же из всего необъятного мира был виден через окошко лишь клочок неба. Иной раз я думал: «Отпустите меня хоть на время. Я дойду до Тибра и вернусь. Честное слово, вернусь». Я и правда вернулся бы. Какие мы все эгоисты, говорил я себе. Ведь я знаю, что товарищи на свободе, так нет, этого мало. А сижу я всего месяц. По вечерам мне бывало особенно тяжело. Каждое утро я твердил себе: «Сегодня меня выпустят».
Но это случилось вечером, когда снова загрохотали двери. Вошли надзиратели, сыграли, как обычно, свою оглушительную сонату, стуча прутом по решетке, потом старший сказал:
— Соберите вещи.
Я ничего не понял.
— Говорю, вещи сложите. Вас выпускают на свободу.
В тюремной канцелярии меня подвели к чиновнику в штатском — по лицу его было видно, что он неаполитанец, — он мне сказал: «Идемте». Мы поехали в квестуру.
Когда я наконец вышел один на площадь, было еще светло. Я медленно шел, сторонясь прохожих, прислушивался к людскому гомону, жадно вдыхал прозрачный воздух, смотрел на золотистый закат. Потом перечитал препроводительный лист. Через два дня я должен был явиться в туринскую квестуру. Проезд до Турина полагался бесплатный. Итак, я теперь поднадзорный. После захода солнца я не имел права выходить из дому. Тогда я решил, пока есть время, зайти со своим узелком в остерию, выпить пива. Когда я выходил оттуда, меня окликнули: я забыл расплатиться.
На мосту Мильвио я остановился, чтобы взглянуть на холмы. Нет, Рим ни чуточки не изменился. Медленно несла река свои воды, все так же голубело небо. Сразу за Тибром вставали холмы, так похожие на склоны Сасси, рядом возвышались опоры строящегося моста, воздух был теплый, чистый-чистый. «В Турине в эти вечерние часы туман, окутав холмы и ближние горы, спускается на город», — подумал я. Потом неторопливо пошел дальше. Я хорошо знал, что радость длится недолго.
Войдя в мастерскую, я сказал:
— Здравствуйте, хозяйка.
Джина мгновенно обернулась. Она была не в комбинезоне, а в платье. Словно молоденькая девушка, бросилась она мне навстречу.
Стемнело, мне надо было уходить. Мы вместе отправились ко мне домой. Высунувшись из окна, меня окликнула старая Марина. Они с Дориной в страшном волнении выбежали на лестницу встречать нас. Потом мы с ними ужинали. Я рассказал Дорине все, что знал. В глазах у нее стояли слезы, но она не плакала, только повторяла, что Карлетто должны освободить.
— Увидишь, горб принесет ему счастье, — успокаивала ее Марина, — ведь один раз он уже выкарабкался из беды.
— Но в чем все-таки обвиняют Карлетто и его друзей? — спросил я.
Однако добиться от Дорины вразумительного ответа мне не удалось. Она так хотела, чтобы Карлетто признали невиновным, что даже меня уверяла, будто он никогда не встречался с майором. Ночью Джина рассказала мне, что у Карлетто нашли подпольные газеты и что майор в одном белье выпрыгнул с балкона.
— Это тебе Фабрицио рассказал?
Она засмеялась.
— Нет, Джузеппе. Он приходил узнавать о тебе. Твои друзья-коммунисты все знают.
Товарищи ей уже два дня назад сказали, что, когда я выйду, меня вышлют в Турин под надзор полиции.
— Но мне не хотелось этому верить, — сказала она, — неужели тебя в самом деле отправят домой, в Турин?
Утром Марина в последний раз приготовила нам кофе. Она вспомнила об образке и в присутствии Джины сказала:
— Мадонна смилостивилась над тобой, грешником.
— Какую же она ему милость оказала? — спросила Джина.
Марина подняла глаза к небу.
— Молчи, — сказала она, — ты тоже нуждаешься в ее милосердии.
Мы с Джиной наспех уложили мои вещи. Дорина пошла нас проводить.
— Как мне тяжело, — сказала она, — ты вот уедешь, а мы совсем одни останемся.
— Мне самому жаль с вами расставаться, но я уверен, что еще в этом году увижусь со всеми вами в «Маскерино».
— Нет, не со всеми, — грустно проговорила она. — С Джулианеллой они наверняка расправятся.
Мы с Джиной вернулись в мастерскую. Поезд уходил вечером. Я стоял в дверях, курил и вдруг увидел, как Пиппо стремглав выбежал из мастерской.
— Куда это он?
— Позвать Джузеппе, — ответила Джина. — Он хотел с тобой поговорить. — Она сказала это спокойно, точно речь шла о простой встрече друзей.
— Да ты с ума сошла!
Джина только пожала плечами.
— Это ведь нужно для вашего дела.
— Раньше ты иначе думала.
— Видно, такова уж моя судьба, — сказала она.
Потом, когда Пиппо вернулся, мы пошли с ней в остерию.
— Приедешь ко мне в Турин? — спросил я.
Она ответила, не поднимая глаз:
— Приеду.
За обедом мы обсудили, как быть с мастерской.
— Попроси Джузеппе помочь тебе. Продашь мастерскую и сразу приезжай ко мне.
Джузеппе пришел в час дня. Он не стал меня расспрашивать о тюрьме.
— Мы боялись, что тебя выследили тогда в кабачке. Хорошо, если бы всегда так кончалось. — Потом он назвал мне товарища, который вел работу в Турине. — Тебе надо будет встретиться с ними, но прежде мы направим туда кого-нибудь для проверки. Осторожность никогда не помешает.
Я сказал, что мы хотим продать мастерскую, и он ответил:
— Ладно, я помогу.
Он спросил только, вся ли группа майора арестована или нет.
— Майор с кем-то еще был связан, — сказал Джузеппе. — С ними неплохо было бы установить контакт.
— Толку от этого мало.
— Как знать, — возразил он, — все-таки они определенная сила.
Уже прощаясь, он сказал, что Скарна сейчас в Тоскане, и поспешно ушел.
В тот день Джина решила пораньше закрыть мастерскую. Я поиграл немного на гитаре. Джина слушала, потом сказала:
— Пойдем в наш ресторан.
Это она про тот загородный ресторан говорила, в который мы однажды вечером отправились в компании Карлетто и его друзей. Я взял ее под руку, и мы пошли с ней через весь Рим. С каким-то особым чувством разглядывал я сейчас его улицы и площади. Месяц я просидел в тюрьме, а этим вечером уже должен был уехать; сегодня город казался мне новым, самым прекрасным в мире городом, люди живут и даже не подозревают, как здесь хорошо. Так бывает, когда мы вдруг с сожалением вспоминаем, что не умели по-настоящему насладиться молодостью, и говорим себе: «Если бы я только знал! Поступил бы по-другому». А скажи нам кто-нибудь: «Вот тебе молодость, живи по-иному», — мы бы не знали даже, с чего начать. Да, теперь я стал другим и уже смотрел на Рим как бы со стороны. И все-таки на душе у меня было радостно. Я глядел на рестораны, на темные деревья, на дворцы, на древние камни и новые дома этого города и чувствовал, что такое не повторяется. Сколько всяких фруктов продают в Риме! Зеленые, красные, желтые — они лежат на лотках, облитые солнцем. Я подумал, что и в Турине буду есть фрукты и их аромат всегда будет напоминать мне о Риме.
Наконец мы добрались до ресторана. Джина тихо проговорила:
— Сколько бы мне всего хотелось сделать.
— Знаешь, как оно бывает, — сказал я. — Нам вечно не хватает времени. Вот когда сидишь в камере, говоришь себе: «Как выйду на свободу, удержу мне не будет. Чего я только не натворю». И наконец выходишь, можешь делать все, что тебе на ум взбредет, а поступаешь опять по-старому.
— Я бы хотела, чтобы это был наш самый первый день, когда ты еще только должен был прийти в мастерскую.
— Завтра и будет такой день.
— Страх-то какой. Ведь ты в Рим случайно попал.
— Не в этом дело. Всего наперед не угадаешь. Главное, знать, чего ты хочешь.
Мы сидели в саду, залитом яркими лучами солнца.
— А хочу я сейчас совсем немного, — добавил я. — Меньше даже, чем прежде.
— Скарпа говорил, что тюрьма хуже смерти, — сказала Джина. — Даже подумать об этом страшно.
— А ты не думай.
Помолчав немного, я заметил:
— Некоторые даже погибают. Но главное, держаться твердо и знать, ради чего все это.
Мы еще долго сидели в ресторане и не спеша попивали вино. Джина водила пальцем по металлической решетке изгороди и, щуря глаза, смотрела на солнце. Низко над землей летали птицы. Жирный кот, незаметно подкравшись, прыгнул на стол. Джина сидела чуть сгорбившись, задумчивая, притихшая. Потом мы снова заговорили с ней о Турине, о моем доме. Она стала расспрашивать меня о Карлоттине, о матери.
— Ты ведь меня с ними познакомишь, когда я приеду? — спросила она.
Вернулись мы уже к вечеру и всю дорогу шли пешком. Солнце золотило цветы, деревья, камни. В этот час в тюрьме начинается вечерняя проверка. Я рассказал Джине про Амелио. Она напряженно слушала, крепко сжимая мою руку.
— И он скоро попадет в Рим, — сказал я ей, — тем же путем, что и другие товарищи.
Мы расстались у двери мастерской. На Рим медленно опускалась ночь.
ЛУНА И КОСТРЫ ПОВЕСТЬ © Перевод Г. Брейтбурд
For С.
Ripeness is all[30]
I
Должна же быть причина тому, что вернулся я в эту деревню — сюда вернулся, а, скажем, не в Канелли, в Барбареско или в Альбу. Бог знает где я родился, но почти наверняка не здесь: нет в этих местах ни родного мне дома, ни родного клочка земли, ни родной могилы — ничего такого, что позволило бы мне сказать: «Я отсюда». Кто его знает, где я на свет появился — в горах, в долине, в лесу или в господском доме. Может, женщина, бросившая меня на ступеньках собора в Альбе, и не была деревенской, может, она дочь владельца замка: может, меня притащили в корзинке для винограда две бедные старухи из Монтичелло, или из Нейве, или, почем знать, даже из Краванцаны. Кто может сказать, чья во мне кровь? Я немало бродил по свету и знаю, что люди везде хороши, везде стоят друг друга, где бы ни родились, но рано или поздно устаешь мыкаться как неприкаянный и тянет пустить корни, смешаться с деревней, с землей, чтобы жизнь твоя обрела смысл и память о тебе не исчезла с приходом новой весны.
А вот рос я здесь, в этой деревне, и за это спасибо Виржилии и Крестному, которых уже нет на свете, хоть они меня взяли и вырастили лишь потому, что приют в Алессандрии платил им за это помесячно. Здесь, на этих холмах, сорок лет назад жили бедолаги, которые за пять золотых лир готовы были растить, кроме своих ребятишек, пащенка из городского приюта. Иные брали девочек — вырастет, глядишь, у тебя и прислуга послушная, — а Виржилия решила взять меня: у них и так были две девчонки, и они мечтали, когда я подрасту, обзавестись большой сыроварней, работать всем вместе и жить в достатке. Крестный в то время имел в Гаминелле домишко и хлев, козу и орешник над самым берегом реки. Я подрастал вместе с девчонками, мы воровали друг у друга лепешки, спали на одном мешке с сеном; старшей, Анжолине, было на год больше, чем мне; лишь в ту зиму, когда умерла Виржилия — мне тогда было десять, — я случайно узнал, что не брат им. После этой зимы рассудительная Анжолина уже не бегала с нами в лес, не слонялась по берегу, а хозяйничала в доме, пекла хлеб, делала козий сыр, сама ходила в мэрию получать за меня деньги; а я хвастался перед Джулией, что мне цена пять лир, а от нее никакого доходу, и спрашивал у Крестного, почему он не берет в дом других сирот.
Теперь-то я знаю, что мы были нищими, потому что только нищие берут из приюта детей. Но в те времена, когда я бегал в школу и меня дразнили ублюдком, я думал, что это просто ругательство вроде подлеца или бродяги, и не оставался в долгу. Но я подрос, мэрия перестала платить за меня пять лир в месяц, а я все еще не понимал, что, раз я не сын Крестного и Виржилии, значит, и родился я не в Гаминелле, появился на свет не в орешнике, не из уха нашей козы, как обе девчонки.
В прошлом году, впервые возвратившись сюда, я чуть ли не тайком отправился взглянуть на орешник. Вьется река по холму Гаминелла, тянутся по склонам виноградники, вершина плавно уходит вдаль, и там, на самом верху, снова виноградники, леса, тропы. Зима в тот год словно ободрала склоны, обнажила корни деревьев. В ясном и ровном свете хорошо виден протянувшийся до самого Канелли холм — там кончается наша долина.
По тропке вдоль берега Бельбо добрался я до мостка у камышей. Отсюда видать сложенную из больших почерневших камней стену домишка, искривленный ствол инжирного дерева, окна. Я вглядывался и вспоминал: до чего же суровы здесь зимы. Но поля и деревья вокруг переменились: там, где прежде темнел орешник, теперь — по стерне видать — сеяли сорго. Из хлева донеслось мычание вола, в холодном вечернем воздухе запахло навозом. Значит, те, кто живет здесь теперь, были уже не такими голодранцами, как мы. Я всегда боялся, что здесь все переменится, думал, может, и дом уже развалился. Сколько раз я представлял себе, как буду стоять здесь, на мостике, и спрашивать себя: неужели я мог столько лет прожить в этой дыре, шагать по этим тропкам вслед за козой, подбирать скатившиеся к берегу яблоки и верить, что мир кончается за крутым поворотом дороги к реке Бельбо? Но мог ли я подумать, что не застану орешника? Раз его нет, значит, всему конец. Это так меня огорчило, что я никого не окликнул, даже не заглянул на ток. Вот тут-то я понял, что значит родиться не здесь, не знать, покоится ли в здешних могилах родной тебе прах, не быть кровно связанным с этими местами, не врасти в эту землю корнями так прочно, чтобы тебя не могли смутить любые перемены.
На склонах холма темнели пятна других орешников, и там я снова мог бы обрести себя. Да будь я хозяином на этом клочке земли у берега, я, может, и сам выкорчевал бы лощину и посеял сорго. Все так, но вот не стало орешника, и я почувствовал себя здесь неприютно, как в комнате, что снимаешь в городе; жил человек в ней то ли день, то ли годы, а уехал — остались голые стены, мертвая, пустая скорлупа.
Хорошо еще, что в тот вечер, став спиной к Гаминелле, я увидел прямо перед собой, по ту сторону реки, холм Сальто — большие зеленые луга тянулись до самой вершины. А ниже — сплошь виноградники, и вьется меж ними река, и темнеют купы деревьев, и любая тропинка, любая из разбросанных по холму усадеб точь-в-точь такие, какими я видел их изо дня в день, из года в год, сидя на бревнышке у дома или на перилах мостка. И когда Крестный, продав дом в Гаминелле, отправился с дочками в Коссано, а я до самого призыва батрачил на ферме в Море, по ту сторону Бельбо, где такая добрая земля, — все эти годы, стоило мне оторвать глаза от пашни, я видел, как сверкают в лучах солнца виноградники Сальто на спуске к Канелли, у железной дороги, где вечером и утром мчались вдоль Бельбо поезда и паровозный гудок говорил мне о чудесах, о городах и вокзалах.
Хотя и не здесь я родился, а эта деревня долго была для меня всем миром. Теперь, когда я на самом деле повидал свет и знаю, что весь он из маленьких деревень, выходит, что мальчишкой я не так уж ошибался. Я вдоволь шатался по чужим морям и землям, которые манили меня к себе, как праздники в окрестных деревнях манили парней — они выпивали, плясали, дрались и героями возвращались домой в ссадинах и синяках.
Здесь, в наших местах, выращивают виноград и продают его в Канелли, собирают трюфели и относят в Альбу. А Нуто, мой друг из Сальто, снабжает давильными прессами и чанами всю долину до самого Камо. Что я хочу этим сказать? Значит, деревня нужна — хотя бы для того, чтобы тебе захотелось из нее уйти. Есть деревня — значит, ты не один, значит, в людях, в растениях, в самой почве есть что-то твое, и оно остается и ждет тебя, даже когда ты далеко. Но как трудно обрести покой. Вот уже год, как я приглядываюсь к деревне, удираю сюда из Генуи при первой возможности, но она все ускользает от меня. Многое начинаешь понимать с годами, с опытом. Неужели же в сорок лет, объездив весь свет, я не пойму, что такое моя деревня?
Кое-что мне мешает. Здесь все вбили себе в голову, что я приехал купить дом, зовут меня Американцем, выставляют напоказ своих дочерей. Такому человеку, как я, который, когда уезжал отсюда, даже имени своего не имел, это должно бы нравиться, да мне и на самом деле приятно. Но мало этого. Мне и Генуя нравится, нравится знать, что земля круглая и что я всегда одной ногой на палубе.
С тех пор как я, еще мальчишкой, опираясь на мотыгу у изгороди в Море, прислушивался к болтовне проходивших по дороге бездельников, с тех самых пор холмы Канелли стали для меня воротами в мир. Нуто, который не в пример мне никуда не уходит из Сальто, говорит, что жить в этой долине может лишь тот, кто отсюда не уезжал. Это говорит Нуто, который молодым парнем играл на кларнете и бывал со своим оркестром далеко за Канелли, в той стороне, где всходит солнце, — даже в Спиньо, даже в Оваде. Мы порой вспоминаем об этом, и он смеется.
II
В это лето я остановился в гостинице «Анжело», что на площади; тут, в деревне, меня не знают, да кто и знал, не узнал бы. И я никого здесь не знаю, в свое время редко сюда заглядывал — бывало, день-деньской проводил у реки, на току, на дороге. Деревня забралась высоко в горы, отсюда быстрым водам Бельбо, обогнув сельскую церковь, не меньше получаса бежать до моих холмов.
Приехал я сюда отдохнуть на полмесяца, а тут как раз храмовой праздник, Успение богородицы. Тем лучше — в деревне полно пришлого народа. Тут и негра за местного примут. Шум, гам, песни, где-то гоняют мяч, а стемнеет — фейерверк, хлопушки. Но вот кончилось шествие, все выпили — ночь и еще три ночи кряду танцует вся площадь; гудки машин, веселые рожки, трескотня выстрелов в тире. И все как было когда-то: гомон тот же, и то же вино, и лица те же. И мальчишки, что снуют под ногами у взрослых, и упряжки волов, и запах духов и пота, и пестрые платки, и чулки на дочерна загорелых ногах женщин — все как было когда-то. И чья-то беда и чье-то веселье, и обещания на берегу Бельбо. Все как было когда-то. Разве что тогда, зажав в кулак два сольдо из первого своего заработка, я ринулся в гущу праздничной толпы, пробился к тиру, к качелям, вместе с другими ребятами дразнил девчонок с косичками, доводя их до слез, и никто из нас не знал еще, почему мужчины и женщины, напомаженные парни и разодетые девушки тянулись друг к другу, брались за руки, смеялись и танцевали, прижавшись один к другому.
Новым было лишь то, что теперь я знал все, а те времена прошли. Я ушел из этой долины, когда только начал кое в чем разбираться. А Нуто остался. Нуто — плотник из Сальто, мой старый приятель, с которым мы вместе удирали в Канелли, потом он еще десять лет играл на кларнете; без него здесь, в долине, ни один праздник не обходился, мир был для него постоянным праздником, он знал всех выпивох, всех циркачей, всех заводил на деревенских гулянках…
Вот уж год, как я стал ездить в эту деревню, и каждый раз захожу к нему. Дом его на склоне Сальто, окна выходят прямо на дорогу; пахнет свежей древесиной, цветами, стружками; когда я прибегал сюда в первое время из Моры, мне, вырвавшемуся из хлева или с гумна, казалось, что здесь другой мир; здесь веяло дорогой, музыкой, виллами Канелли, городом, где я тогда еще ни разу не был.
Нуто теперь женат, и кларнет он повесил за шкаф. Он теперь человек самостоятельный, работает, дает работу другим, но живет все в том же доме; здесь в разогретом солнцем воздухе пахнет геранью и олеандрами — горшки с цветами и перед домом, и на подоконниках. Шагаешь по стружкам, их корзинами сваливают на берегу пересыхающей летом речки, где растут акации, бузина, папоротник.
Нуто сказал мне, что ему пришлось выбирать — музыкант или плотник, и вот после смерти отца кончился десятилетний праздник, и кларнет был отложен в сторону.
Я рассказал ему, где побывал, и он мне ответил, что кое о чем уже слышал от людей из Генуи и что в деревне поговаривали, будто перед отъездом я нашел горшок с золотыми монетами под сваей моста. Мы посмеялись.
Может, теперь у меня и отец объявится, — сказал я.
— Ты сам себе отец, — сказал он.
— Вот уж чем хороша Америка — все там пащенки, — ответил я.
— И с этим тоже пора кончать, — заметил Нуто. — Не должно быть таких, у кого ни имени нет, ни дома. Разве они не люди?
— Брось… Я вот и без имени пробился.
— Ты пробился, — сказал Нуто, — с тобой об этом никто и заговорить не посмеет; а как с теми, кто так и не вышел в люди? Ты не знаешь, сколько еще в наших местах несчастных. Ходишь, бывало, с оркестром из деревни в деревню — у каждой кухни ждет подачки то придурок, то и впрямь идиот или просто калека. Отец алкоголик, мать неграмотная, в прислугах, дети растут на сухарях да на капустной кочерыжке. А другие еще над ними подшучивают. Ты пробился оттого, что хоть в чей-то дом попал; как ни плохо кормил тебя Крестный, а все же кормил. Нельзя говорить: пусть и другие пробиваются, — помочь им надо.
Мне нравится беседовать с Нуто, теперь мы взрослые и друг с другом на равной ноге; а прежде, когда я жил на Море, работал в усадьбе, Нуто — он старше меня на три года — уже играл на кларнете и на гитаре, ему каждый был рад, каждый готов был его послушать, он и со взрослыми толковал, и женщинам подмигивал. Я еще в ту пору за ним следом ходил и не раз удирал из поместья побродить с ним по берегу Бельбо — мы всё птичьи гнезда искали. Он учил меня, как добиться, чтоб меня уважали на Море, а вечерами приходил к нам во двор, сидел с нашими.
Теперь он рассказывал мне о своей музыкантской жизни. Деревни, где он побывал, — вокруг нас; днем они сверкают на солнце, зеленеют, а ночами — как звездные россыпи на черном небе.
Субботними вечерами он под навесом на станции обучал других музыкантов из оркестра. Веселые и бодрые, они отправлялись на праздник, ну а там уж дня два-три ни рта, ни глаз не закроешь; отложишь кларнет — бери стакан, осушил стакан — вилку бери, потом снова кларнет, рожок, трубу, потом снова ешь, знай себе ешь да пей; днем перекусишь, вечером ужин, потом гуляй до зари. Праздники, церковные шествия, свадьбы, состязания с другими оркестрами… Утром на второй, на третий день в глазах мутится; хорошо тогда окунуть голову в ведро с водой и повалиться на траву посреди повозок, пролеток, конского помета. А платил кто? — спрашивал я. Мэрии, семьи, те, кто желал прослыть щедрым, когда как. За едой, говорил он, собирались всегда одни и те же.
Стоило послушать, что они ели. Я припоминал, что рассказывали на Море про такие ужины в других деревнях и в другие времена. И сейчас еда была та же, и, когда доносились запахи кухни, мне казалось, что я снова на Море, снова вижу, как женщины трут сыр, месят тесто, фаршируют, поднимают крышки кастрюль, подбавляют огня, и я ощущал во рту тот же вкус и слышал треск сухих сучьев.
— Ты тогда пристрастился к этой жизни, — сказал я как-то Нуто, — отчего же бросил? Оттого что отец умер?
И Нуто отвечал, что, во-первых, музыкой на жизнь не заработаешь, в дом мало что принесешь, а во-вторых, все это одно расточительство и неразбериха, даже толком не знаешь, кто платит. А потом война началась. Может, у девчонок и тогда пятки чесались, но кому было с ними плясать? В войну люди развлекались по-другому.
— И все ж я музыку люблю, — продолжал Нуто, подумав, — беда только в том, что музыка — плохой хозяин… Как дурная привычка — бросать ее нужно. Отец мой говорил: лучше уж за юбками гоняться.
— Да, — вспомнил я, — а как у тебя по этой части? В свое время ты женщин не обходил. На танцах только выбирай…
Нуто посвистывает, смеется.
— Ты-то приют в Алессандрии не пополнил?
— Надеюсь, нет, — говорит он. — Но там и без меня бедняг хватает.
А потом добавил, что если уж выбирать из двух зол, так он выберет музыку, и вспомнил, как, бывало, соберутся они вместе, идут ночью по дороге, играют: кто на рожке, кто на мандолине. Идут в темноте, подальше от домов, от баб, от собак, что откликаются заливистым лаем, и всё играют.
— Вот серенадами не занимался, — сказал он. — Если девушка собой хороша, ей не музыка нужна. Ей бы перед подругами покрасоваться, мужчину найти. Не встречалась мне ни разу девушка, которая знала бы толк в музыке. — Нуто увидел, что я смеюсь, и тут же добавил: — Вот я тебе расскажу. Был у нас один музыкант, Арборето. Играл на бомбардоне. Он столько серенад сыграл, что люди говорили: «Да он с девушкой как немой, только знай играет…»
Так мы с ним беседовали, то гуляя по дороге, то сидя у окошка за стаканом вина, а внизу расстилалась долина Бельбо, где деревья пунктиром обозначили путь реки, и холм Гаминелла поднимался перед нами весь в виноградниках. Сколько лет прошло, как не пил я этого вина?
— Я уж говорил тебе, — роняю я, — что Кола хочет землю продать?
— Только землю? — спрашивает Нуто. — Смотри, как бы он тебе в придачу постель не продал.
— Из пуха или соломы? Ведь я уже старик, — цежу я сквозь зубы.
— Постель из пуха со временем тоже станет жесткой, — отвечает Нуто. — Ты ходил взглянуть на Мору?
А в самом деле, не был я там. Мора в двух шагах отсюда, а я не зашел. Знал, что нет ни старика, ни дочерей, ни ребят, ни прислуги — всех разогнало, разбросало по свету, кто умер, а кто далеко. Остался один Николетто, полоумный племянник хозяина, который столько раз орал на меня, топоча ногами, и обзывал ублюдком. Знал я и то, что половина усадьбы уже продана.
Я ответил:
— Схожу как-нибудь. Я ведь вернулся.
Ill
Свежие новости о Нуто-музыканте дошли до меня даже в Америке. Когда это было? Я в то время еще не думал возвращаться, бросил работу на железной дороге и, пересаживаясь с поезда на поезд, добрался до Калифорнии. Увидел: солнца много, холмы тянутся длинной грядой — и сказал себе: «Тут мой дом». Америка тоже кончалась у моря, но теперь уж не к чему было снова искать пароход, и я остался там, среди сосен и виноградников.
«Вот бы дома посмеялись, — говорил я про себя, — если бы узнали, что и здесь я землю мотыжу». Но в Калифорнии обходятся без мотыг. Работа как у садовника. Встретил там наших, из Пьемонта, и взяла меня тоска — стоило забираться на край света, чтобы повстречать таких же, как я, бедолаг, которые еще вдобавок на меня косятся. Бросил я батрачить и стал работать молочником в Окленде. Вечерами по ту сторону залива сверкали огни Сан-Франциско. Отправился я туда, поголодал с месяц, в тюрьму попал, а когда вышел оттуда, до того мне туго пришлось, что даже китайцам завидовал. Я спрашивал себя, стоило ли ради этого объехать полсвета. Потом я вернулся на холмы.
Прожил там немало, завел себе девушку, но она мне разонравилась, с тех пор как стала работать со мной в баре, что по дороге в Черрито. Поначалу она каждый вечер поджидала меня у выхода, а потом уговорила взять ее кассиршей и теперь целый день глядела, как я за стойкой жарю сало и наполняю стаканы. Вечером я уходил, и она бежала вслед за мной, постукивая каблуками по асфальту, брала меня под руку и требовала, чтобы мы остановили машину, спустились к морю, пошли в кино. Стоило только выйти из ярко освещенного бара, и мы оставались одни под звездами, среди оголтелого стрекота цикад и кваканья лягушек. Мне хотелось увести ее к яблоням, или в лесок, или просто на луг с невысокой травой, хотелось повалить ее на землю, чтоб был хоть какой-то смысл во всей этой сумятице под звездным небом. Но об этом она и слышать не желала. Орет на меня, требует, чтобы мы зашли в первый попавшийся бар. Была у нас комната в одном из переулков Окленда, но Нора, пока не напьется, не давала до себя дотронуться.
В один из таких вечеров я и услышал рассказ о Нуто. От земляка из Буббио. Я распознал его по походке, по стати, прежде чем он рот открыл. Он вел грузовик с тесом и спросил кружку пива, пока ему заправляли машину.
— Лучше бы взяли бутылку, — сказал я на нашем диалекте, почти не разжимая губ. Глаза у него засияли от радости. Мы с ним проговорили весь вечер, пока на шоссе не стали сигналить.
Нора, сидя за кассой, нервничала, прислушивалась, но она никогда не бывала в деревнях под Алессандрией и ничего понять не могла. Я даже налил другу в чашку запретного виски. Он рассказал мне, что дома был возчиком, рассказал о деревнях, которые объездил, рассказал, почему приехал в Америку.
— Знал бы я, что здесь пьют это дерьмо… Ничего не скажешь — согревает, только стоящего вина здесь нет.
— Ничего здесь нет, — сказал я ему, — здесь как на луне.
Нора раздраженно поправляла прическу. Повернув свое вращающееся кресло, она включила радио — передавали танцевальную музыку. Мой приятель пожал плечами, наклонился к стойке и сказал мне, показывая рукой в ее сторону:
— А тебе эти женщины нравятся?
Я провел по стойке тряпкой и ответил:
— Мы сами виноваты, что приехали. Для них эта страна — родной дом.
Он стоял и молча слушал радио. Мне в этой музыке слышалось все то же кваканье лягушек. Нора, надувшись, с презрением разглядывала его спину.
— Все здесь как эта музыка, — сказал он. — Разве с нашей сравнится? Совсем они не умеют играть.
И он рассказал мне о прошлогоднем состязании в Ницце-Монферрато, когда собрались оркестры отовсюду: из Кортемилии, из Сан-Марцано, из Канелли, из Нейве. Играли без конца, а народ не расходился, пришлось перенести на другой день скачки, даже приходский священник слушал, как играли танцы; вино пили, только чтоб силы поддержать, в полночь еще продолжали играть, а победителем вышел Тиберио, из оркестра в Нейве. Но прежде немало поспорили, поругались, кое-кому попало бутылкой по голове. Сам-то он считал, что премию заслужил другой, Нуто из Сальто…
— Нуто? Да я его знаю!
И тогда земляк рассказал мне, каким стал Нуто и чем занимается. Он рассказал, что в ту самую ночь, чтобы показать невеждам, что такое настоящая музыка, Нуто вышел на дорогу со своим оркестром и играл, не умолкая, до самой Каламандраны. Мой приятель ехал за музыкантами на своем велосипеде, ночь была лунная, а играли так, что женщины в домах вскакивали с постелей, подходили к окнам, хлопали в ладоши, и тогда оркестр останавливался, исполнял новую мелодию. Нуто шагал посредине, его кларнет задавал тон.
Нора потребовала, чтобы машина перестала сигналить. Я налил приятелю еще стопку и спросил, когда он вернется в Буббио.
— Я бы хоть завтра вернулся, — сказал он. — Если бы только мог…
В ту ночь, прежде чем спуститься в Окленд, я присел на траве, подальше от дороги, по которой мчались машины, и закурил сигарету. Ночь была безлунная, но в небе пропасть звезд, не меньше, чем лягушек и цикад, не умолкавших ни на миг. Если бы Нора в ту ночь дала повалить себя на траву, мне и этого было бы мало. Все равно не умолкли бы лягушки, все равно доносился бы скрежет машин, переключавших скорость перед спуском, все равно не кончилась бы Америка, все равно гудели бы ее дороги, все равно сверкали бы огнями города ее побережья.
Сидя там, на траве, я вдыхал в темноте ночи запах садов и сосен и отдавал себе отчет в том, что эти звезды в небе мне чужды, что я боюсь их, как боюсь Нору и посетителей бара. Яичница на сале, хороший заработок, огромные, с арбуз, апельсины — все это ничего не значило, все было как те цикады и лягушки. Стоило ли сюда забираться? Куда мне податься еще? Вниз головой с мола?
Теперь я понимал, почему то и дело в машине на автостраде, или в доме, или в глухом переулке находили задушенных девушек. Им, этим людям, тоже хотелось повалиться на траву, хотелось, чтобы их не раздражали лягушки, хотелось владеть тем клочком земли, на котором уместилась бы женщина, хотелось спать настоящим, крепким сном, без тревоги и страха. Ведь страна большая, и земли хватает для всех. И все у них есть — женщины, земля, деньги. Но им всего этого мало, и никто из них, как бы ни разбогател, не остановится, все здесь будто проездом, и даже поля, даже виноградники — и те у них как городской сквер. Повсюду клумбы, как у наших вокзалов, или выжженная целина да груды искореженного металла. Нет, не та это страна, где человек может успокоиться, преклонить голову, сказать другим людям: «Вы меня знаете. Дайте мне спокойно пожить». Вот что пугало. Они и меж собой живут чужаками: едешь через горы, как через пустыню — видно, никто из них здесь никогда не остановится, никогда не коснется земли теплыми руками. Вот отчего пьяного здесь пинают ногами и сажают за решетку. И пьют они злобно, и женщин любят со злобой. Чтобы хоть как-то себя утвердить, душат женщин, стреляют в них, когда они спят, бьют по голове гаечным ключом…
Нора, выйдя на шоссе, позвала меня. Пора в город. На расстоянии ее голос походил на стрекот цикады. Я рассмеялся, подумав, что было бы, если бы она разгадала мои мысли. Но о таком ни с кем не говорят, это ни к чему. Как-нибудь утром она просто не застанет меня на месте, вот и все. Но куда направиться? Я забрался на край света, дошел до последнего берега, и с меня, пожалуй, хватит. Тогда-то я и стал подумывать, не вернуться ли назад, в наши края.
IV
Нуто не пожелал взять в руки кларнет даже в храмовый праздник Успения. Он сказал: «Это что курево — хочешь бросить, значит, бросай по-настоящему». Вечерами он приходит ко мне в гостиницу, и мы сидим с ним у меня на балкончике, дышим свежим воздухом. Балкон выходит на площадь — там столпотворение, но мы глядим поверх крыш на побеленные луной виноградники на холме.
Нуто, которому во всем надо разобраться, сидит, опершись локтями о перила, слушает, хочет узнать от меня, что творится на свете, о чем люди говорят, и сам объясняет мне что к чему, рассуждает о жизни.
— Умей я играть, как ты, не поехал бы в Америку, — говорю я. — Знаешь, как в таком возрасте бывает… Стоит увидеть девушку, подраться с кем-нибудь, вернуться домой под утро… Хочешь что-нибудь сделать, стать человеком, на что-то решиться. Чтоб все по-другому пошло. И кажется, что для этого лучше всего уехать. Вдобавок наслушаешься россказней. В молодости такая площадь для тебя — целый мир. Думаешь, что весь мир вроде нее…
Нуто молча разглядывает крыши.
— Сколько тут на площади парней, — говорю я, — которые охотно ушли бы сначала в Канелли, а потом…
— Но они не уходят, — ответил Нуто. — А ты вот ушел. Почему?
Разве на это ответишь? Может, я ушел оттого, что на Море меня прозвали Угрем? Может, оттого, что однажды утром я видел, как на мосту в Канелли машина сшибла быка? Может, оттого, что я даже на гитаре играть не умел?
Я ответил:
— Мне на Море слишком хорошо жилось. Вот я и поверил, что на свете везде хорошо.
— Нет, — сказал Нуто, — живут здесь плохо. Но никто не уходит. Значит, у тебя судьба такая. Должно быть, в Генуе, в Америке, бог знает где тебе суждено было что-то сделать, понять что-то важное.
— Мне? Для этого не стоило так далеко забираться.
— Может, тебе выпала счастливая доля, — упорствует Нуто. — Разве ты не заработал денег? Может, ты и сам не заметил главного, что с тобой произошло за эти годы. Но с каждым в жизни что-нибудь случается. — Он говорил, потупившись, и голос его звучал глухо. Внезапно Нуто поднял голову. — Когда-нибудь расскажу тебе о здешних делах. Судьба каждому что-нибудь приберегла. Посмотри вон на тех парней, что толкутся на площади, — ничего в них нет особенного, ни хорошего, ни худого, но придет день, и настанет их черед.
Я понял, что ему трудно говорить. Он проглотил слюну. С тех пор как мы снова свиделись, я все никак не могу привыкнуть к мысли, что передо мной не прежний Нуто — сорвиголова, который учил нас всему и за которым всегда оставалось последнее слово. Я ни разу не подумал, что теперь догнал его и что у нас за спиной равный опыт. Мне даже казалось, что он не изменился, разве что раздался в плечах, сделался степеннее, а лицо его с кошачьими глазами стало спокойней и строже. Я ждал, что он наберется духу и выговорится. Если к человеку не приставать, он рано или поздно сам выложит, что у него накипело на сердце.
Но в этот вечер Нуто не стал откровенничать. Он заговорил о другом:
— Ну и праздник — там драка, там ругань. Священник дает им душу отвести — лишь бы пришли потом помолиться. А они, чтоб только душу отвести, готовы зажечь свечу перед мадонной. Кто же кого за нос водит?
— Друг друга по очереди надувают.
— Нет, нет, — ответил Нуто. — Тут священник всегда в выигрыше. Кто платит за иллюминацию, за фейерверк, за музыку? А кто посмеивается на другой день после праздника? Бедняки как проклятые гнут спину на двух вершках земли, а в праздник просаживают весь свой заработок.
— Разве ты не говорил, что большая доля расходов падает на тех, кто побогаче, кто хочет пустить пыль в глаза?
— А те откуда деньги берут? Заставляют работать прислугу, батрака, батрачку! А земля? Где они взяли землю? Почему у одних ее много, а у других совсем нет?
— Ты что, коммунист?
Нуто насмешливо посмотрел на меня. Дал оркестру доиграть, а потом, не сводя с меня глаз, заговорил:
— В этой деревне все мы слишком большие невежды. Не каждый, кто захочет, может стать коммунистом. Был тут у нас один, по прозвищу Образина, торговал на базаре зеленым перцем, он тоже себя за коммуниста выдавал. А сам умел только напиваться да орать по ночам. От таких больше вреда, чем пользы. Коммунисты должны многое знать и имени своего не марать. От Образины здесь быстро избавились — перестали у него покупать перец. Этой зимой пришлось ему уйти отсюда.
Я сказал, что он прав, но им надо было браться за дело в сорок пятом, ковать железо, пока горячо. Тогда и такие, как Образина, могли бы сгодиться.
— Думал, вернусь в Италию, а здесь уже что-то сделано. Ведь оружие было в ваших руках.
— Оружие? Стамеска да рубанок! — ответил Нуто.
— Нищету я повсюду видал, — сказал я. — Есть страны, где мухи живут лучше людей. Но для восстания этого мало. Людям нужен толчок. В то время у вас был толчок и сила была… Ты тоже ушел в горы?
До тех пор я его об этом не спрашивал. Я знал, что на этих дорогах, в этих лесах погибло немало парней из нашей деревни, тех, кто на свет появился, когда нам уже было лет по двадцать. Я о многом знал, о многом от него же и слышал, не знал только, носил ли он красный платок на шее да ружье на плече. Тогда в здешних лесах полно было пришлых, тех, кто скрывался от призыва, бежал из города, словом, горячих голов, но Нуто был не из таких. Однако Нуто — это Нуто, и он лучше меня понимал, что ему делать.
— Нет, — сказал Нуто, — уйди я, они подожгли бы мой дом.
В яме на берегу Сальто Нуто скрывал раненого партизана и по ночам носил ему еду. Это мне его мать рассказала. Я поверил. Уж такой он человек. Вчера нам на дороге попались двое мальчишек, мучивших ящерицу. Он у них отобрал ее. Двадцать лет ни для кого не проходят бесследно.
— Если б дядюшка Маттео так поступил с нами, когда мы бродили по берегу, что бы ты ему тогда ответил? — спросил я. — Сколько ты гнезд разорил в те времена?
— Это все от невежества, — сказал он. — Мы оба вели себя скверно. Дай им пожить. Разве мало зверье страдает зимой?
— Ничего не скажешь. Ты прав.
— И потом, — продолжал Нуто, — тут дело такое — стоит только начать, пойдут друг друга резать, деревни жечь.
V
Тепло здесь, на этих камнях; я уже позабыл, как отдают тепло туф и стены лачуг. Здесь не солнце, здесь сама земля греет — тепло идет от земли, от корневищ, вобравших в себя все соки, чтоб повыше тянулась лоза. Мне нравится это тепло, у него свой запах: в нем часть меня самого, в нем вкус жизни, оно пробуждает во мне давно позабытые желания. Мне теперь по душе, покинув гостиницу, пойти взглянуть на поля; мне жаль, что прожита жизнь. Хорошо бы ее изменить, всерьез потолковать с теми, кто гадает, приехал ли я закупать виноград или за чем другим. Здесь, в деревне, меня никто не помнит, не знает, что я рос без матери и отца, был батраком. Им известно, что в Генуе у меня есть деньги. Может, какой-нибудь парень, который батрачит, как я когда-то, или женщина, глядящая на меня сквозь щель в затворенных ставнях, думают обо мне то же, что я когда-то думал о людях с холмов Канелли, о тех, кто зарабатывает деньги, наслаждается жизнью и ездит к морю и в дальние края.
Уже многие, кто в шутку, а кто и всерьез, предлагали продать мне землю. Я слушаю, заложив руки за спину. Не все здесь знают, что я кое в чем разбираюсь. Говорят, что в последние годы урожай был хороший, но теперь настало время для глубокой вспашки, нужно построить ограду, пересадить лозу, а это им не под силу.
— Где же эти урожаи? — спрашиваю. — Где же ваши доходы? Почему вы не вложите деньги в усадьбу?
— Удобрения…
Тут и толковать больше не о чем, удобрения я продавал оптом. Но мне нравятся эти беседы. Я люблю походить с хозяевами по усадьбе, побывать на току, заглянуть на конюшню, выпить у них стакан вина.
Я был уже знаком со старым Валино к тому времени, когда пошел взглянуть на домишко в Гаминелле. Нуто остановил его как-то на площади и спросил, знает ли он, кто я такой. Высохший, с почерневшим лицом и глазами крота человек взглянул на меня с опаской. Когда Нуто, смеясь, сказал ему, что я ел тот же хлеб и пил то же вино, что и он, Валино смешался и насупился. Тогда я спросил у него, не он ли вырубил орешник и висит ли по шпалерам у хлева вяленый виноград? Мы рассказали ему, кто я такой и откуда взялся, но он глядел на меня все так же мрачно и только сказал, что земля у берега плохая, а во́ды реки с каждым годом ее размывают. Он взглянул на меня, взглянул на Нуто и, перед тем как уйти, сказал ему:
— Зашел бы как-нибудь. Хочу тебе показать… У меня чан протекает…
Нуто потом сказал мне:
— В Гаминелле ты не каждый день ел досыта… — Сейчас он не шутил. — Но вам-то хоть не приходилось отрывать кусок от себя. А теперь ферму купила хозяйка виллы, она привозит с собой весы и забирает половину урожая… У нее две усадьбы и лавка. И такие, как она, еще говорят, что крестьяне воруют, что народ здесь испорчен.
Я пошел туда один и по пути думал о жизни, прожитой Валино. Ему лет шестьдесят, а может, и того нет… И всю жизнь был испольщиком. Сколько домов, сколько земель пришлось ему покинуть — домов, где он спал и ел, земель, которые он мотыжил и в зной и в холод. Он уходил, погрузив свой скарб на чужую тележку, и уже не возвращался назад. Я знал, что он овдовел, жена его умерла еще на той ферме, где он работал до Гаминеллы, а старшие сыновья погибли на войне, теперь он остался с мальчишкой и двумя женщинами: тещей и свояченицей. Что еще видел он в этом мире, кроме горя и нищеты?
Он ни разу не покидал долину Бельбо. Я невольно остановился посреди тропинки и подумал: не удери я отсюда двадцать лет тому назад, такой же была бы и моя судьба. Впрочем, он бродил по этим холмам, я бродил по свету, но ни он, ни я ни разу не могли сказать: «Вот это мое. Вот на этом бревнышке я состарюсь. В этой комнате умру».
Я добрался до инжирного дерева перед самым током и вновь увидел тропинку, вьющуюся меж двух поросших травой пригорков. Теперь перед домом сложили ступеньки из камней. Граница, отделявшая луг от дороги, была все та же — груды хвороста на жухлой траве, дырявая корзина, раздавленные гнилые яблоки. Слышно было, как пес мечется на железной цепи, скользящей по проволоке.
Стоило мне показаться на ступеньках, и пес словно обезумел. Встал на задние лапы, завыл: его душил ошейник. Я продолжал подниматься. Вот и портик, вот инжирное дерево, вот грабли, прислоненные к двери. Те же пятна от медного купороса на стене. Тот же куст розмарина за углом дома. И тот же запах — запах дома, реки, гнилых яблок, сухой травы и розмарина. Мальчик в рваной рубашонке и штанишках с одной уцелевшей бретелькой сидит на поваленном колесе, неестественно поджав под себя ногу. Что ж, может, это такая игра? Он взглянул на меня, подняв глаза к солнцу, и сразу же опустил тонкие веки, как бы желая протянуть время. В руках он держал высушенную шкурку кролика.
Я остановился, мальчик продолжал моргать глазами, пес выл и рвался с цепи. А мальчишка босой, на веках засохшая корка, костлявые плечи, нога лежит неподвижно. Я внезапно вспомнил, сколько раз у меня лопалась кожа на ногах, появлялась короста на коленях, трескались губы, вспомнил, что лишь зимой надевал башмаки на деревянной подошве. Вспомнил, как мама Виржилия потрошила кролика, обдирала с него шкурку. Я помахал мальчишке рукой.
На пороге показались женщины — сначала одна, потом другая. Обе в черных юбках. Одна старая, скрюченная, другая помоложе, худая — кожа да кости. Я крикнул им, что ищу Валино. Его не было — он ушел на берег.
Та, что помоложе, прикрикнула на пса, взяла цепь и так рванула ее, что пес захрипел. Мальчик с трудом поднялся с колеса — у него подвертывалась нога. Встал и потянулся к псу. Хромой, рахитичный, ноги как спички, больную волочит. Должно быть, лет десяти. Встретить его здесь, на току, было все равно что встретить собственное детство. Я даже обвел взглядом навес, фиговое дерево, полоску сорго: уж не появятся ли Анжолина и Джулия? Кто знает, где они. Если живы, им должно быть теперь столько же, сколько этой женщине.
Пес успокоился, а они не сказали мне ни слова, только глядели на меня.
VI
Тогда я сказал, что подожду Валино, раз он должен вернуться. Они мне в один голос ответили, что он возвращается поздно.
Та, что успокоила пса, — босая, почерневшая от солнца, с пушком над верхней губой, — глядела на меня с такой же мрачной опаской, что и Валино. Это была его свояченица, с которой он теперь жил; они так долго прожили вместе, что она стала походить на Валино.
Я зашел на ток (пес снова заметался), сказал им, что здесь прошло мое детство. Спросил, на прежнем ли месте колодец. Старуха, которая теперь уселась на пороге, что-то встревоженно пробормотала; свояченица нагнулась и подобрала упавшие грабли, потом крикнула мальчишке, чтоб он сбегал на берег, посмотрел, нет ли там отца. Тогда я сказал, что в этом нет нужды, просто я проходил мимо и мне захотелось снова взглянуть на дом, где я вырос, что я все здесь знаю, помню весь берег до самого орехового дерева, могу и один пройти и найду, кого мне нужно.
Потом я спросил:
— А что с этим мальчиком? Поранил ногу мотыгой?
Женщина взглянула на меня, потом на мальчишку, а тот засмеялся — засмеялся беззвучно и тотчас закрыл глаза. Эту игру я тоже знал.
Я спросил:
— Что с тобой? Как тебя звать?
Мне ответила худая свояченица Валино. Сказала, что врач осмотрел ногу Чинто в тот год, когда умерла Ментина, — они тогда еще жили на Орто. Ментина слегла, худо ей было, все стонала, а за день до того, как она умерла, доктор сказал ей, что по ее вине у мальчишки плохая кость. Ментина ему на это ответила, что другие ее сыновья, те, что сгинули на войне, росли здоровыми, а этот таким родился, верно, оттого, что она испугалась бешеного пса, который хотел ее укусить, и у нее пропало молоко. Доктор отмахнулся, сказал, что тут молоко ни при чем, а немочь у мальчишки из-за того, что она таскала тяжелые вязанки дров, ходила босой под дождем, ела одну чечевицу да поленту[31], носила корзины на голове. Раньше надо было думать, сказал доктор, теперь уж ничего не поправишь. А Ментина опять свое: другие-то сыновья выросли здоровыми. На следующий день ее не стало.
Мальчик слушал, прислонившись к стене, и тут я обнаружил, что он не смеется; торчащие скулы, редкие зубы, засохшая ссадина под глазом — вот отчего казалось, будто он смеется, а на самом деле он внимательно слушал.
Я сказал женщинам:
— Пойду поищу Валино. — Мне хотелось побыть одному. Но женщины закричали на мальчишку:
— Что же ты стоишь! Пойди и ты взгляни.
Я зашагал по лугу, прошел мимо виноградника; меж рядами лоз сеяли пшеницу — теперь осталась лишь выжженная солнцем стерня. За виноградником, где раньше стояла густая тень ореховых деревьев, теперь тянулась полоса чахлого сорго. Поле было крохотное, хоть платком накрой.
Чинто ковылял за мной; не прошло и минуты, как мы были у орехового дерева. Неужто на этом клочке земли, отсюда до дороги, могло уместиться все мое детство? Здесь я играл, бродил по берегу, подбирал опавшие яблоки и орехи, до самого вечера вместе с девчонками вертелся возле козы, пощипывавшей траву, а в зимнее ненастье ждал — хоть бы скорей распогодилось, хоть бы скорей вернуться на берег. Неужто это был для меня целый мир? Не уйди я отсюда в тринадцать лет, когда Крестный перебрался в Коссано, я и сейчас бы жил той же жизнью, что Валино и Чинто. Прокормиться нам удавалось чудом. Мы тогда грызли яблоки, ели тыкву и чечевицу. Виржилия уберегала нас от голода. Теперь я понимал, отчего так мрачен Валино — работает как вол и еще должен делить урожай с хозяйкой. И вот что получается: ожесточившиеся женщины, мальчишка растет калекой.
Я спросил у Чинто, помнит ли он орешник. Припав на здоровую ногу, он взглянул на меня недоверчиво и сказал, что у самого берега еще есть два-три дерева. Я обернулся и увидел, что на току, за виноградником, стоит черная женщина и подглядывает за нами. Мне стало стыдно за свой костюм, за свою рубашку, за свои туфли. Как давно я уже не ходил босиком!
Разве могли все мои воспоминания о Гаминелле убедить Чинто, что и я был когда-то таким же, как он. Для него Гаминелла — весь мир, и он только такие рассказы и слышал. А что бы я в свое время сказал, появись передо мной богатый дяденька, которому надо показать усадьбу? На какое-то мгновение мне почудилось, что в доме меня ждут девчонки, коза — вот им уж я поведаю про свои славные похождения.
Теперь Чинто брел за мной, явно заинтересованный. Я довел его до конца виноградника: ряды теперь не узнать. Я спросил у Чинто, кто пересаживал лозу. Он хромал, но старался держать фасон и сказал мне, что вчера хозяйка виллы приходила за помидорами.
— А вам оставила? — спросил я.
— Мы свои уж собрали, — ответил он.
В лощинке за виноградником, где мы теперь стояли, еще была трава, свежая трава для козы, а за нами возвышался холм. Я спросил у него, кто живет в дальних домах, рассказал ему, кто там жил прежде, какие у них были собаки, сказал, что тогда все мы были ребятами. Он выслушал и ответил, что кое-кто из прежних и сейчас тут живет. Потом я спросил у него, сохранилось ли гнездо зябликов на том дереве, что у самого берега. И еще я спросил у него, ходит ли он к реке ловить рыбу переметом.
Странно, все переменилось и все осталось, как прежде. Здесь нет ни одной старой лозы, ни прежнего пса и козы тоже нет; там, где были луга, теперь пашня; где была пашня, растет виноград; сколько людей прошло по этой земле, сколько их выросло, поумирало; даже деревья с корнями выворочены и унесены водами Бельбо, — а стоит оглядеться по сторонам, и понимаешь: тучные земли Гаминеллы, и дорожки на холме Сальто, и ток, и колодцы, и людские голоса, и мотыги — все осталось таким же, как прежде, и такие же, как прежде, запахи и вкус этой земли, ее краски.
Я спросил у него, что он знает об окрестных деревнях. Бывал ли он когда-нибудь в Канелли? Да, отец взял его, когда повез продавать виноград фирме «Ганча». Иногда он с мальчишками с усадьбы Пиолы переплывал на другой берег Бельбо, и они добирались до железной дороги, чтобы взглянуть на поезд.
Я ему рассказал, что в мое время эта долина казалась просторнее, были здесь люди, которые разъезжали в колясках, мужчины носили золотую цепь на жилете, женщины, гуляя, закрывались от солнца зонтиками. Я рассказал ему, какие тут бывали праздники — свадьбы, крестины, храмовые дни, — как народ съезжался издалека, с самых вершин холмов, как приезжали музыканты, охотники, мэры деревень. Были тут домищи — целые палаты, как замок Нидо на холме Канелли, там были комнаты, в которых собиралось человек пятнадцать-двадцать, как в гостинице «Анжело», и весь день они ели, слушали музыку. И мы, ребята, в такие дни тоже устраивали праздники на току, летом играли в «неделю», зимой запускали волчок на льду. В «неделю» играли, перепрыгивая на одной ноге, вот как он сейчас стоит, через ряды камешков, но так, чтобы ни один не задеть. После сбора винограда охотники бродили по холмам и лесам, поднимались на Гаминеллу, Сан-Грато, Камо; возвращались они забрызганные грязью, едва живые от усталости, но приносили куропаток, зайцев, другую дичь. Мы из дома видели, как они идут по дороге; потом в деревенских домах до поздней ночи шумел праздник, а в большом замке Нидо, что там, внизу — тогда его еще видно было отсюда, тогда еще не мешали эти деревья, — во всех окнах горели огни, казалось, пожар начался, и до самого рассвета мелькали тени веселящихся гостей. Чинто сидел, опершись руками о землю, и слушал, раскрыв рот.
— Я был таким же мальчишкой, как ты, — сказал я ему, — и жил здесь с Крестным. У нас была коза, я ее пас. Зимой, когда здесь и охотники не появлялись, жилось скверно, потому что до берега нельзя было добраться из-за луж и грязи, а как-то раз — теперь-то их больше нет — с Гаминеллы спустились волки, видно, мало им было добычи в лесу, и утром мы обнаружили их следы на снегу. Следы как собачьи, только поглубже. Я спал вместе с девочками в задней комнате, и ночью мы слышали, как волк завыл на берегу от холода…
— На берегу в прошлом году нашли покойника, — сказал Чинто.
Я остановился. Спросил, какого покойника.
— Немца, — сказал он. — Партизаны его в Гаминелле закопали. Страшный…
— Так близко от дороги? — сказал я.
— Нет, его вода принесла, и папа нашел его под илом и камнями.
VII
Тем временем с берега послышались удары топора по дереву. При каждом ударе Чинто моргал глазами.
— Это папа, — сказал он. — Он тут, внизу.
Я спросил у него, почему он закрыл глаза, когда я разговаривал с женщинами и глядел на него. Он снова невольно опустил веки, но сказал мне, что этого не было. Я рассмеялся и рассказал ему, что мальчишкой тоже любил эту игру — видишь только то, что хочешь, а когда потом снова откроешь глаза, занятно, что все на прежнем месте.
Тогда он осклабился и сказал, что кролики тоже так делают.
— Должно быть, этого немца муравьи обглодали? — спросил я.
Вдруг с гумна донесся крик женщины. Она звала Чинто, требовала Чинто, проклинала Чинто. Мы с ним оба рассмеялись. Такие крики часто слышны на здешних холмах.
— И не поймешь, как его убили, две зимы в земле пролежал…
Мы спустились вниз, продираясь сквозь густую листву и кусты ежевики, топча мяту. Увидев нас, Валино едва поднял голову. Он обрубал топором красные ветви ивы. Стоял август, а здесь, внизу, было холодно и почти темно. Река заливала эти места, и даже летом здесь обычно стояла вода.
Я спросил у него, где он будет хранить ивовые прутья в такое сухое лето. Он нагнулся и стал было собирать вязанку, а потом передумал. Стоял и глядел на меня, прижимая ветки ногой, за поясом торчал нож. Штаны и шляпа у него выцвели, были в пятнах от купороса, которым опрыскивают лозу.
— Виноград в нынешнем году хорош, — сказал я ему, — только воды не хватает.
— Всегда чего-нибудь не хватает, — сказал Валино. — Я ждал Нуто, хотел, чтоб он чан посмотрел. Он не придет?
Тогда я объяснил ему, что случайно заглянул в Гаминеллу: захотелось мне снова увидеть усадьбу. Я и не узнал ее, столько тут поработали. Наверно, лозу пересадили года три назад? А в доме, спросил я, в доме у вас тоже перестройка? Когда я жил здесь, в печи не было тяги. Ну а стену пришлось поломать? — все расспрашивал я.
Валино мне ответил, что в доме управляются женщины. Дом — это их забота. Он посмотрел вверх сквозь зеленую листву деревьев. Потом сказал мне:
— Поле как поле, только руки нужны, чтоб здесь что-нибудь иметь, а рук-то и нет.
Тогда мы поговорили о войне и о тех, кого на войне убили. О своих сыновьях он ничего толком не рассказал, так, пробормотал что-то. Я заговорил о партизанах, о немцах — он только плечами пожал. Сказал, что жил тогда в Орто, видел, как сожгли дом Чьора. Целый год никто на полях не работал. Разойдись они все по домам — немцы, значит, к себе домой, а наши парни по усадьбам, — всем бы лучше было. Кого здесь только повидать не пришлось, какие только рожи не попадались, столько пришлого народа в здешних местах никогда и не было, даже на ярмарках в те годы, когда он был молод.
Чинто стоял и слушал с открытым ртом.
— Сколько еще мертвецов в здешних лесах зарыто! — сказал я.
Валино повернул ко мне свое почерневшее лицо, глаза у него были мутные, злые.
— Да, немало, — сказал он, на мгновение оживившись, — немало. Время только нужно, чтоб найти. — В его голосе не слышалось ни отвращения, ни жалости. Казалось, речь шла о том, чтоб пойти по грибы или за хворостом. Помолчав, он добавил: — При жизни от них толку не было. Нет толку и после смерти.
Вот, подумал я, Нуто обозвал бы его невеждой, кротом, сказал бы ему: что же, он считает, все в мире должно оставаться по-старому — как было, так тому и быть?
Нуто побывал чуть не во всех деревнях нашей округи и знал, сколько горя принесла людям эта война, но никогда он не спросил бы, на что она была нужна. Раз уж выпала такая судьба, надо было воевать. Нуто крепко вбил себе в голову, что никто не должен держаться в стороне: мир устроен плохо, и надо его переделать.
Валино не предложил мне зайти к нему и выпить стаканчик. Он подобрал вязанку и спросил у Чинто, нарвал ли тот травы. Чинто отступил в сторонку и молча уставился в землю. Тогда Валино сделал шаг вперед и свободной рукой хлестнул его ивовым прутом. Чинто убежал; Валино, выпрямившись, застыл на месте. Чинто теперь глядел на него, стоя внизу, у самого берега.
Валино молча зашагал, придерживая рукой вязанку. Он не обернулся, даже добравшись доверху. Мне вдруг почудилось, что я — мальчишка, который пришел поиграть с Чинто, и старик потому и хлестнул его, что не мог выместить свою злость на мне. Мы с Чинто глядели друг на друга и смеялись.
Потом мы спустились вниз по берегу; под тенистым сводом листвы было прохладно, но стоило выйти на прогалину, сделать несколько шагов по солнцепеку, и сразу становилось душно, выступал пот.
Я разглядел стенку из туфа, которая подпирала виноградник Мороне, напротив нашего луга. Повыше, над кустами, виднелись первые зеленые лозы и прекрасное персиковое дерево, на нем уже были красные листья, которые я запомнил с детских лет, когда мы на берегу подбирали персики с этого дерева и они казались нам вкусней наших собственных. У меня и теперь слюнки текут, когда вижу летом красно-желтые листья яблони или персикового дерева, потому что они похожи на спелые плоды и так и манят тебя. Пусть бы все деревья приносили плоды, как виноградная лоза.
С Чинто мы потолковали о футболистах, а потом о картежниках; так мы, шагая вдоль ограды, вышли на дорогу и очутились среди акаций. Чинто уже видел у кого-то на базаре колоду карт в руках и рассказал мне, что дома у него есть двойка пик и бубновый король, нашел на дороге. Карты немножко испачканы, но еще совсем хорошие. Если б удалось найти остальные, можно было бы играть. Я ему рассказал о людях, которые в погоне за выигрышем играют на большие деньги, ставят на карту дома и земли. Был я в одном поселке, рассказал я, где играли на золотые, лежавшие посреди стола, а у каждого из игроков за жилетом был пистолет. Да и у нас когда-то, когда я еще был мальчишкой, владельцы поместий, распродав виноград или зерно, запрягали коней и отправлялись кто в Ниццу, кто в Акви, захватив с собой мешочки с золотыми монетами. Играли всю ночь напролет, проигрывали сначала золото, потом леса, луга, сыроварни, а утром на постели в постоялом дворе, под изображением мадонны с оливковой ветвью, находили их трупы. А другие запрягали коляску и уезжали бог весть куда. Бывало, и жен проигрывали в карты, дети тогда оставались одни, и их выгоняли из дому, дразнили ублюдками.
— Сын Маурино, — сказал мне Чинто, — ублюдок.
— Бывает, таких берут в дом, — сказал я. — Таких всегда берут в дом бедняки. Значит, Маурино понадобился мальчик…
— А напомнишь ему, он еще злится, — сказал Чинто.
— Ты ему этого не должен говорить. Разве твоя вина, если тебя отец прогонит? Важно, чтоб ты хотел работать. Я знал таких, что потом купили поместья.
Мы отошли от берега, и Чинто, семенивший впереди меня, присел у ограды. За деревьями, по ту сторону дороги, была река Бельбо. Сюда мы выходили играть, пробегав весь полдень за козой по склонам и берегу. Камешки на дороге были все те же, стволы деревьев пахли проточной водой.
— Что ж ты не пойдешь нарвать травы для кроликов? — спросил я.
Чинто сказал, что сейчас пойдет. Тогда и я пошел: до самого поворота дороги я чувствовал, что он смотрит на меня сквозь камыши.
VIII
Я решил, что вернусь в Гаминеллу только вместе с Нуто и тогда Валино пустит меня в дом. Но Нуто сюда не по пути. А я частенько бывал в этих местах, и случалось, Чинто поджидал меня на тропинке или внезапно появлялся, раздвинув тростники. Он стоял, прислонившись к ограде, и, неловко отставив ногу, молча слушал меня.
Прошли первые дни, кончился праздник, кончилось футбольное первенство, и в гостинице «Анжело» снова все затихло.
Я садился у окна, пил кофе в тишине, которую нарушали только мухи, разглядывал пустую площадь, как мэр с балкона свою деревню. Мог ли я в молодости представить себе хоть что-нибудь подобное? Вдали от дома работаешь, наживаешь деньги, думаешь: нажить деньги — и значит вернуться из дальних странствий домой, вернуться разбогатевшим, свободным, сильным и сытым. Конечно, в молодости я этого не понимал, но и тогда поглядывал на дорогу, на прохожих, на виллы в Канелли и холмы, тянувшиеся к небу.
«Значит, судьба такая», — говорит Нуто, который в отличие от меня не тронулся с места. Он не бродил по свету, не разбогател. Жизнь его могла сложиться, как у многих здесь, в долине, — он мог бы расти, как дерево, стареть, как женщина или коза, даже не зная о том, что происходит по ту сторону холма, мог бы ни разу не выйти из круга домашних дел, сбора винограда, поездок на ярмарки. Но и его, просидевшего здесь всю жизнь, за живое задела мысль, что все на свете надо понять, исправить, что мир устроен скверно и каждый должен стремиться его изменить. Теперь мне ясно, что когда я мальчишкой бегал за козой, со злостью ломал зимой хворост, играл с ребятами, жмурил глаза, чтоб проверить, останется ли холм на месте, — что и тогда я готовился к своей судьбе, к тому, что буду жить без собственного дома, что где-то по ту сторону холмов есть страна, которая богаче и прекраснее здешних мест. Должно быть, и эта комната в гостинице «Анжело» — в те времена я тут не бывал — всегда знала, что синьор с полными карманами, хозяин сыроварни, выехав на двуколке, чтоб взглянуть на свет, однажды поутру окажется здесь, вот в такой комнате, умоется над белым тазом, сядет за старый полированный стол, напишет письма, которые уйдут в далекий город, и письма эти будут читать мэры селений, охотники, дамы с зонтиками. Сейчас все сбывалось. Я пил здесь по утрам кофе, писал письма в Геную, в Америку, распоряжался своими деньгами, содержал людей. Может, и месяца не пройдет, и снова я буду в море, полечу вдогонку за своими письмами.
Однажды я пил кофе с Кавалером, сидя за столиком перед раскаленной от зноя площадью. Кавалер был сыном Старого Кавалера, того, что в мои времена владел землями, замком, множеством мельниц и еще до моего рождения перегородил плотиной Бельбо. Он разъезжал в пароконной коляске с кучером. В деревне у них была своя вилла, сад с оградой, где росли диковинные деревья, названий которых никто не знал. Когда зимой я бегал в школу и останавливался у изгороди, жалюзи на окнах виллы всегда были закрыты.
Теперь Старый Кавалер мертв, а нынешний Кавалер был маленьким облысевшим адвокатом без клиентов; землю, лошадей, мельницы и все прочее он спустил за годы холостяцкой жизни в городе; в живых не осталось ни одного из обитателей замка, да и замка не было; Кавалер теперь владел лишь маленьким виноградником да поношенной одеждой и расхаживал по деревне, держа в руке трость с серебряным набалдашником. Он заговорил со мной вежливо, видно, знал, откуда я, спросил, побывал ли я во Франции; кофе он пил, изящно держа чашку и слегка подавшись вперед.
Каждый день он останавливался у гостиницы и заводил разговоры с постояльцами. Он многое знал, знал больше молодых, больше доктора, больше меня, но все, что он знал, никак не вязалось с его нынешней жизнью — стоило ему заговорить, и сразу становилось ясно, что Старый Кавалер умер вовремя. Я подумал, что сам он как тот сад при доме — пальмы, диковинный тростник, цветы с табличками. Кавалер тоже бежал из деревни, бродил по свету, но ему не повезло. Родные его бросили, жена (графиня из Турина) умерла, сын, единственный сын, будущий Кавалер, застрелился из-за женщин и карт, даже не успев поступить на военную службу. И все же этот убогий, жалкий старик, живший в старом доме вместе с испольщиками, которые работали на его последнем винограднике, был неизменно вежлив, изящен, оставался барином и при встрече со мной каждый раз снимал шляпу.
С площади, за крышей мэрии, виднелся холм, где был его запущенный, заросший сорняками виноградник, а выше по холму уходили в небо стволы сосен и высокий тростник.
В полдень бездельники, пившие кофе у гостиницы, нередко подшучивали над ним и над тем, что испольщики, которые теперь владели доброй половиной его земель, и не думают о прополке хозяйского виноградника, а просто живут в его доме — оттуда ближе к деревне. Но он убежденно отвечал, что им, испольщикам, лучше знать, что нужно винограднику; впрочем, вспоминал он, в свое время господа, владевшие землями, сами оставляли часть поместий без ухода — из прихоти или увлекшись охотой. Мысль о том, что Кавалер может отправиться на охоту, вызывала всеобщий смех; кто-то советовал ему лучше засеять эти земли чечевицей.
— Я посадил там деревья, — однажды сказал он с внезапным порывом и теплотой, и голос у него задрожал. Он был так хорошо воспитан, так беззащитен, что я решил вмешаться, переменить разговор. Заговорили о другом, но, должно быть, Старый Кавалер не ушел из жизни бесследно: этот жалкий старик меня понял. Когда я встал, он попросил меня на два слова, и, провожаемые взглядами посетителей кафе, мы зашагали по площади.
Он сказал мне, что стар и слишком одинок, что у него не такой дом, где он мог бы кого-нибудь принять, но если бы я поднялся к нему, нанес бы ему визит, когда мне это удобно, он был бы очень рад. Он знает, что я уже смотрел другие усадьбы… Если у меня выберется свободная минутка… Я снова ошибся (вот увидишь, сказал я себе, и этот хочет продать землю!) и ответил, что приехал в деревню не ради дел.
— Нет-нет, — торопливо возразил он, — я не об этом. Просто визит… Я хочу, если позволите, показать вам эти деревья…
Я пошел к нему тотчас же, чтобы не заставлять его готовиться к приему. Мы поднялись на холм по узкой дорожке, мимо темных крыш и двориков, он рассказал мне, что по многим причинам не может продать виноградник — это последний клочок земли, носящий его имя; продав его, он вдобавок вынужден был бы жить в чужом доме; да и испольщикам тут удобней, а он ведь один…
— Вы не поймете, — сказал он мне, — что значит жить в этих местах, не имея ни клочка земли. Где похоронены ваши близкие?
Я сказал, что не знаю. Он удивился, покачал головой.
— Понимаю, — сказал он тихо. — Такова жизнь.
У него на деревенском кладбище совсем недавняя могила. Двенадцать лет прошло, а все как вчера. Не такая это была смерть, чтобы с ней примириться, как обычно бывает, не такая, чтоб сохранить надежду.
— Я наделал много глупостей, много было ошибок, — сказал он мне. — В жизни всякое случается. Угрызения — старческая болезнь. Но одного я себе не прощу: сын…
Мы дошли до поворота дороги, до тростников. Он остановился и пробормотал:
— Вы знаете, как он умер?
Я кивнул. Он крепко стиснул рукой серебряный набалдашник трости.
— Вот я и посадил эти деревья, — сказал он. За тростником виднелись сосны. — Хотел, чтобы земля на вершине холма принадлежала ему, была такой, какую он любил, — свободной, дикой, как сад, в котором он рос…
Хорошо здесь. Пятно тростника и дальше красноватые сосны, густая трава — как все это напомнило мне лощину у виноградника в Гаминелле! Особенно хорошо, что здесь самая вершина и дальше все уходит в небытие, в пустоту.
— В каждой усадьбе бы так, — сказал я ему, — оставить часть земли нетронутой… А виноградник надо обрабатывать.
У наших ног видны были эти четыре несчастных ряда лоз. Кавалер заставил себя усмехнуться.
— Стар я, — сказал он. — А мужичье…
IX
Теперь надо было доставить ему удовольствие — спуститься во дворик дома. Но я знал, что ему придется откупорить бутылку вина и потом платить за нее испольщикам. Сказал ему, что уже поздно, что меня ждут в деревне, что в эти часы дня я никогда ничего не пью. Оставил его у сосен.
Эту историю я вспоминал каждый раз по дороге в Гаминеллу, у самого мостка. Здесь я играл с Анжолиной и Джулией, здесь рвал траву для кроликов. Я часто заставал здесь Чинто, потому что подарил ему крючки и леску; я ему рассказывал, как ловят рыбу в открытом море, как стреляют по чайкам. Отсюда не видать ни холма Сан-Грато, ни деревни. На склонах Гаминеллы и Сальто и на дальних холмах по ту сторону Канелли темные пятна лесов, тростников, кустарника — всюду они одинаковы, всюду похожи на те, что у Кавалера. Мальчишкой я так высоко на эти холмы не забирался, стал постарше — работал, тогда хватало с меня ярмарки и танцев. Теперь, еще ни на что не решившись, я стоял и думал: что же там, за этими тростниками, за последними затерянными в горах усадьбами? Ну а что там могло быть? Пустошь, выжженная солнцем.
— В этом году жгли костры? — спросил я у Чинто. — Их у нас всегда зажигали. В ночь на Ивана Купалу на всех холмах горели костры.
— Жгли, да не везде, — ответил он. — На станции был большой костер, только отсюда не видать. Пиола говорит, что когда-то жгли целые вязанки хвороста.
Пиола — это его Нуто, рослый и ловкий паренек. Я видел, как Чинто, прихрамывая, старался не отстать от него на берегу.
— А знаешь, зачем зажигают костры? — спросил я.
Чинто слушал внимательно.
— В мое время старики говорили, чтобы были дожди… Твой отец жег костер? В этом году дождь нужен. Повсюду жгут костры.
— Значит, польза урожаю, — сказал Чинто. — Значит, земля лучше становится.
Мне кажется, я стал другим. Толкую с ним, как когда-то Нуто со мной.
— Но тогда почему костры всегда зажигают подальше от нолей? — спросил я. — На другой день находишь золу да головешки на дороге, у берега, в сорняках.
— Разве можно виноградник жечь? — ответил он, смеясь.
— Да, но вот навоз же кладут на поля…
Этим разговорам конца не было, разве что раздастся злой голос женщины или пройдет мальчишка с усадеб Пиола или Мороне — тогда Чинто встанет, скажет, как сказал бы его отец: «Ну, я пойду взгляну», — и пойдет.
Никогда я не мог понять, хочет он сам со мной побыть или только из вежливости не уходит. Конечно, когда я ему рассказывал, какой в Генуе порт, как грузят суда, какие голоса у пароходных гудков, какая у матросов татуировка, сколько дней длится плавание, он слушал меня затаив дыхание.
А мальчишка хромой, думал я, и суждено ему всю жизнь впроголодь жить в деревне. Не сможет он ни в поле работать, ни корзины носить. Его и в солдаты не возьмут, значит, города ему не видать. Мне бы в нем хоть какое желание пробудить…
— А этот гудок на пароходе, — спросил он в тот день, — как сирена, что выла в Канелли, когда война была?
— А слышно было?
— Еще бы. Говорят, сирена сильней паровозного гудка. Ее все слышали. По ночам выходили смотреть, как бомбят Канелли. И я сирену слышал, видел самолеты…
— Да тебя тогда еще в люльке качали…
— Честное слово, помню.
Нуто, узнав, о чем я рассказываю мальчишке, вытянул губы так, словно сейчас кларнет приложит, и покачал головой.
— Это ты зря, — сказал он. — Это ты напрасно. Что ты ему в голову вбиваешь? Если ничего не переменится, жизнь у него будет собачья…
— Пусть хоть знает, что теряет.
— А зачем? Что ему за польза? Ну, будет знать, что на свете одним хорошо, а другим худо. Если у него голова на плечах, это он и так поймет. Пусть на своего отца поглядит да сходит на площадь в воскресенье, здесь у церкви такие, как он, хромые всегда попрошайничают. А внутри скамьи для богатых, на латунных дощечках их имена.
— Сильнее расшевелишь — лучше поймет, — сказал я.
— Только незачем слать его в Америку. Америка уже сюда пришла. Здесь у нас и нищие и миллионеры.
Я сказал, что Чинто надо бы обучить ремеслу, а для этого нужно, чтоб он вырвался из отцовских лап.
— Лучше бы он отца не знал, — сказал я. — Лучше уйти и самому искать выход. Если не будет жить среди людей, станет таким же, как его отец.
— Многое тут надо менять, — сказал Нуто.
Тогда я сказал ему, что Чинто — мальчик сообразительный, ему бы хорошо попасть в такое место, каким Мора была для нас.
— Мора была целым светом, — сказал я, — морским портом, Америкой. Всегда полно людей — кто работает, кто рассказывает… Сейчас Чинто ребенок, но он подрастет, станет думать о девушках. А знаешь, как много значит, когда встречаешь умных женщин? Таких, как Ирена или Сильвия?
Нуто промолчал. Я уже убедился, что он неохотно вспоминал те времена в усадьбе Мора. Сколько он мне рассказал о своих музыкантских годах, а разговор о тех годах, когда мы были мальчишками, он всегда стороной обходил. Или все по-своему поворачивал, начинал спорить. Теперь он молчал, выпятив губы, и поднял голову, лишь когда я заговорил об этих кострах на стерне.
— Конечно, от них польза, — сказал он резко. — Они пробуждают землю.
— Да что ты, Нуто, — сказал я, — даже Чинто в это не верит.
— А все же, — возразил он, — верно, что участки, где по краям жгли костры, приносят лучший урожай, и плоды там сочней и растут быстрей. Кто знает, может, жар пробуждает соки земли.
— Ну и ну! — сказал я. — Может, ты и в россказни про луну веришь?
— В луну, — ответил Нуто, — и не хочешь, а поверишь. Попробуй спили в полнолуние сосну — и в ней заведутся черви. Чан нужно замачивать, когда луна молодая. А возьми пересадку лозы: ни за что не привьется, если приняться за дело не в первые лунные ночи.
— Много мне довелось разных историй слышать, — сказал я, — а глупей этих не слыхал. К чему тогда ругать правительство и попов, если сам веришь в предрассудки, как наши бабушки?
Тогда Нуто очень спокойно объяснил мне, что предрассудком он считает только то, от чего людям вред. Если б кто-нибудь пользовался этой верой в костры и луну, чтоб обворовывать, держать в темноте крестьян, то такого негодяя надо бы расстрелять на площади. А прежде чем судить, мне надо опять стать крестьянином. Пусть такой старик, как Валино, и не слышал ни о чем другом, но уж в земле-то он знает толк.
Мы с ним долго и зло ругались, потом его позвали на лесопилку, а я спустился вниз, посмеиваясь. Чуть было не соблазнился и не повернул к Море, но жара показалась слишком сильной. Если взглянуть в сторону Канелли — ясный день сверкал всеми красками, — то увидишь все: и русло Бельбо, и холм Гаминелла напротив, и холм Сальто совсем под боком, и замок Нидо, краснеющий среди платанов на дальнем склоне. А кругом виноградники, выжженные, почти белесые склоны, река. Так мне вдруг захотелось снова на виноградник в Мору, к самому сбору урожая, и чтоб пришли дочери дядюшки Маттео с корзинами. Мора там, за теми деревьями по дороге в Канелли, на том же склоне, где усадьба Нидо.
Но я по мостику перешел на другой берег Бельбо и, шагая, думал о том, что нет на свете ничего лучше ухоженного виноградника, хорошо прополотого, с хорошо подвязанной, правильно повернутой лозой; и нет ничего лучше этого запаха разогретой августовским солнцем земли. Хорошо ухоженный виноградник — все равно что крепкое здоровье, что живое тело человека со своим дыханием и потом. И, еще раз вглядевшись в эти рощи, в эти заросли тростника, я припомнил названия всех здешних деревень и поселков, все, пусть бесполезные, пусть не дающие урожая места, у которых тоже есть своя красота. Лесок при винограднике — как хорошо на такой лесок взглянуть, знать, на каком дереве гнезда.
Есть, подумал я, что-то схожее с этим в радости, которую дают нам женщины… «Ну и дурак же ты, — сказал я себе, — двадцать лет как ждут тебя эти деревни». Тут я вспомнил, с какой досадой шагал я впервые по улицам Генуи, весь город обошел — хоть бы травинка где. Порт был, ничего не скажешь, были лица девушек, были магазины и банки, а вот камыши, а вот запах сухого хвороста, а виноградник — где они? Рассказы о луне и кострах я тоже когда-то знал. Только, видать, позабыл их.
X
Стоит мне только призадуматься — и вот уж нет конца-краю воспоминаниям, череде несбывшихся желаний, ошибок прошлого. Сколько раз мне казалось, что я уже прибился к берегу, что есть и друзья, и дом — стоит только назвать его моим именем и садик посадить. Я даже как-то решил: вот соберу деньжонок, женюсь и отошлю жену с сыном в деревню. Пусть там растет, как я рос. Но сына не было, о жене лучше вообще не говорить — что могут значить эти холмы для тех, кто вырос на побережье, кто ничего не знает ни про луну, ни про костры? Надо, чтоб все это было у тебя в крови, надо впитать это вместе с вином и полентой, и тогда ты сразу узнаешь свою землю и все, что ты, сам того не ведая, столько лет носил в себе, внезапно пробудится от скрипа телег, от взмаха бычьего хвоста, от вкуса похлебки, от голоса, который ночью раздастся на деревенской площади.
Чинто об этом не знает, как не знал об этом и я, когда был мальчишкой, и никто здесь, в деревне, об этом не знает, кроме, может, тех, кто уезжал, как я. Если уж я хочу, чтобы Чинто меня понял, хочу, чтобы в деревне все поняли меня, нужно говорить с ними о том, что творится на свете, говорить о своем или, может, лучше вообще ни о чем не говорить, носить в себе свою Америку, Геную, деньги, чтобы только на лице у меня было написано, что я человек бывалый и приехал не с пустыми карманами. Это нравится. Разумеется, только не Нуто — ему самому хочется понять меня.
Я встречал людей в гостинице, на рынке, по усадьбам. Ко мне приходили, про меня, как прежде, говорили: «тот, с Моры». Они хотели знать, что за дела я веду, не куплю ли гостиницу «Анжело», не куплю ли почтовый автобус. На площади меня представили приходскому священнику, который потолковал со мной об одной разваливающейся часовенке, секретарю мэрии, который отвел меня в сторонку и сказал, что у них еще должны храниться документы о моем рождении — можно бы поискать, если я хочу. Я ответил, что уже справлялся в Алессандрии, в приюте. Самым неназойливым был Кавалер, хоть он и знал все, что касалось прежнего расположения деревни и злодеяний бывшего подесты[32].
На дороге и в усадьбах я чувствовал себя лучше, но и там мне не верили. Как я мог кому-нибудь втолковать, что мне просто хотелось увидеть то, что я видел прежде: повозки, сеновал, чан для винограда, решетку, на которой жарят мясо, цветок цикория, платочек в синюю клетку, тыкву, из которой пьют, рукоять мотыги. И лица мне нравились такие, какие помнились всегда: цветущие девушки, старухи в морщинах; мне по душе были упрямые морды быков и голубятни на крышах.
Для меня не годы прошли, а просто лето сменялось осенью, зима — весной. И все, что я видел и слышал, нравилось мне тем больше, чем больше походило на прежнее, будь то рассказы о засухе, ярмарках, урожаях прежних времен, каких больше не бывает; мне хотелось, чтобы все было как прежде: бутыли с вином, похлебка, садовый инструмент, бревно на дворе усадьбы.
Тут Нуто говорил, что я не прав, что мне бы возмутиться тем, что здесь, на холмах, люди по-прежнему живут как скот, что война ни к чему не привела, что все осталось как было, только покойников прибавилось.
Говорили мы с ним и насчет Валино и его свояченицы. Спал он с ней — а что ему было делать? — но, впрочем, не в этом беда: в доме у них вообще творилось неладное. Нуто рассказал, что до самой реки слышны крики женщин, которых Валино почем зря хлещет ремнем, как хлестал он и Чинто. Нет, не из-за вина, вина у них мало; вся причина в нищете, в ярости от безысходной жизни.
Узнал я и о том, что сталось с Крестным и всей его родней. Мне рассказала об этом невестка некоего Кола, который хотел продать мне дом. Крестный скончался в Коссано, где они кое-как устроились на деньги, вырученные от продажи усадьбы, совсем уже стареньким, всего несколько лет тому назад. Умер на большой дороге, из дому его выбросили зятья. Младшая дочь вышла замуж почти девочкой, старшая, Анжолина, на год позже; взяли их два брата из Мадонна-делла-Ровере — лесной усадьбы. Там они и жили со стариком и детьми, выращивали виноград, ели поленту — больше у них ничего не было, — раз в месяц спускались в деревню хлеб испечь, уж очень далеко было ходить. Мужчины работали вовсю, доводили до изнеможения и волов и женщин; младшую в поле убило молнией; Анжолина родила семерых, а потом свалилась с опухолью под ребрами, три месяца мучилась, стонала — врач туда поднимался не чаще чем раз в год; умерла она даже без попа. Не стало дочерей, и некому в доме было кормить старика. Он стал бродяжничать, по ярмаркам ходить; еще за год до войны повстречал его Кола — борода белая, из нее солома торчит. Наконец и он умер где-то на току в усадьбе, куда зашел просить подаяние.
Значит, незачем мне ходить в Коссано, искать своих сестер неродных, спрашивать, помнят ли они меня. И теперь, вспоминая Анжолину, я вижу ее с перекошенным ртом, такой, какой мне запомнилась ее мать в свой смертный час.
Но однажды утром я пошел в Канелли — шагал вдоль полотна железной дороги. Сколько раз проделывал я этот путь, когда жил на Море! Миновал Сальто, миновал Нидо, увидел Мору, увидел почти доросшие до самой крыши липы, балкон барышень, застекленную веранду, нижний этаж дома, где жили мы. Услышал незнакомые голоса и побыстрей зашагал мимо.
В Канелли я пошел по длинной улице, которой не было в мои времена, и тотчас же узнал запахи — запах вермута, реки, виноградных выжимок. Улочки были все те же, все те же цветы на окнах, все те же лица, и те же вывески фотографов, и те же дома; оживленней всего на площади — новый бар, бензозаправочная колонка, мотоциклы, взметающие облака пыли. Но большой платан остался на месте. И видать, деньги здесь по-прежнему не переводились. Утро я провел в банке и на почте. Городишко маленький, но зато сколько вилл и замков на окрестных холмах. Я был прав: в мире знают про Канелли, здесь в мир распахнуто широкое окно. Стоя на мосту, я оглядел долину и низкие холмы, тянувшиеся в сторону Ниццы. Ничего не изменилось. Разве что еще один мальчик в прошлом году приехал сюда с отцом на тележке продавать виноград. Как знать, может, и для Чинто Канелли станет воротами в мир?
И все же здесь все переменилось. Мне Канелли нравится — люблю эту долину, холмы, берег реки. Мне нравится, что здесь конец всего, последнее прибежище, где еще сменяют друг друга не просто годы, а лето, осень, зима, весна. Пусть здешние промышленники производят шампанское разных сортов, возводят здания контор, строят машины, вагоны, склады — я и сам занимаюсь всем этим, — но дорога отсюда по-прежнему ведет во все концы земли. Я прошел этот путь, начав с Гаминеллы. Будь я мальчишкой, прошел бы его еще раз. Ну а дальше что? Нуто, который так никуда отсюда и не уходил, все еще хочет понять мир, все изменить, нарушить чередование времен года. А может, и нет: он верит россказням про луну. А я, не поверивший в луну, знаю, что в конечном счете нет ничего важнее смены времен года. Знаю, что Канелли и есть весь мир. Канелли и долина реки Бельбо. И время не властно над здешними холмами.
Под вечер я вышел на шоссе, которое проложили рядом с железной дорогой, потом по дороге прошел мимо Нидо, мимо Моры. В доме на Сальто я застал Нуто в фартуке, он строгал, посвистывая, но глядел хмуро.
— Что случилось?
— Дело такое — в Гаминелле кто-то обрабатывал новую делянку и нашел трупы двух шпионов фашистской республики, с раздавленными черепами, босые. Врач, следователь, мэр прибыли, чтоб опознать трупы, но кого там опознаешь через три года? Конечно, это были фашистские шпионы: партизан убивали в долине, расстреливали на площадях, вешали на балконах домов, вывозили в Германию.
— Чего ж тут расстраиваться? Дело известное, — сказал я.
XI
Несколько лет назад — здесь, у нас, уже шла война — мне пришлось пережить ночь, о которой я всегда вспоминаю, шагая вдоль колеи железной дороги. Я нюхом чуял все, что должно было случиться — войну, интернирование, секвестр имущества, — и старался все распродать, переехать в Мексику. Во Фресно я повидал достаточно нищих мексиканцев, чтобы знать, куда отправляюсь. Но то была самая близкая граница. Потом я передумал, поняв, что мексиканцам ни к чему мои ящики с бутылками спиртного. Тут началась война. Я дал захватить себя врасплох — наскучило все предугадывать, за всем гнаться, все начинать заново. А в прошлом году все равно пришлось все начать заново, но уже в Генуе…
Я знал тогда, что такая жизнь долго не продлится, и у меня пропала охота делать что-либо, работать, рисковать. Люди, к которым я было привык за десять лет, снова внушали мне страх и раздражение. Я разъезжал на грузовичке по федеральным дорогам, добирался до пустыни, до самой Юмы, до дремучих лесов. Мной владело страстное желание быть подальше от примелькавшихся лиц, подальше от всего, что я видел в долине Сан-Хоакин. Я уже знал — кончится война, и я непременно вернусь домой, жизнь, которую я вел, была временной и скверной.
Потом я бросил и свои разъезды по этой южной дороге. Страна оказалась слишком большой, здесь никогда никуда не доберешься. Да и я уж был не тот парень, который когда-то вместе с бригадой железнодорожников восемь месяцев добирался до Калифорнии. Слишком много ездить — все равно что на одном месте сидеть.
В тот вечер в открытом поле что-то стряслось с мотором. Я рассчитывал до темноты добраться к станции 37 и заночевать там. Было холодно, воздух был сух и пылен, поля пустынны. И то сказать — поля! Не поля — серая, поросшая колючим кактусом пустыня, не холмы — пригорки да столбы вдоль железной дороги, вот и все, куда глазом ни кинь. Повозился с мотором, вижу, ничего не поделаешь, нет у меня запасных частей.
Тут мне стало жутковато. За целый день повстречались лишь две машины: шли к побережью. В ту сторону, куда я направлялся, — ни одной. Я хотел пересечь земли графства не по федеральной дороге. Что ж, сказал я себе, теперь жди… Кто-нибудь да проедет. Но никто не проехал до следующего утра. Хорошо еще, были у меня с собой одеяла, чтоб укутаться. Ну а завтра что? — спрашивал я себя.
Времени не занимать, и я разглядел все камни вокруг, шпалы, сухой репейник, мясистые стебли двух кактусов в придорожном кювете. Щебень темнел от угольной пыли, как и все на свете камни, лежащие вблизи от железной дороги. Шуршал песок под порывами ветра, доносившего привкус соли. Холодно было, как зимой. Солнце уже зашло, равнина исчезла в сумерках.
Я знал, что здесь в норах таятся ядовитые ящерицы и сколопендры, знал, что здесь повсюду змеи. Завыли дикие собаки. Не в них опасность, но этот вой мне напомнил, что я на самом краю Америки, посреди пустыни, в трех часах езды на машине от ближайшей станции. И ночь впереди. Единственная примета цивилизации — железная дорога и столбы. Пусть бы хоть поезд прошел. Я уж не раз прислонялся к телеграфному столбу, словно мальчишка, слушал, как гудят провода, что тянулись с севера к побережью. Я взял карту, стал ее изучать.
Собаки по-прежнему выли, в сером море этой равнины звук, раздиравший воздух, как петушиный крик, внушал отвращение, и от него становилось еще тоскливее и холодней. К счастью, я захватил с собой бутылку виски. И курил, курил, только бы успокоиться. Когда совсем стемнело, я осветил приборы, фары включить я боялся. Хоть бы поезд прошел…
Мне приходили в голову различные истории, рассказы о людях, которые забирались в эти места, когда и дорог еще не было, а потом их находили где-нибудь в овраге — скелет да одежда, только и всего. Бандиты, жажда, солнечный удар, змеи. Легко было представить себе те времена, когда люди здесь убивали друг друга, когда люди падали на землю, чтоб уже не подняться. Тоненькая змейка железнодорожного полотна и шоссе — вот все, что было здесь от рук человеческих. Уйти в сторону от дороги, забраться в овраги, продираться сквозь кактусы под этим звездным небом — да возможно ли это?
Я вздрогнул и вскочил на ноги, когда неподалеку от меня чихнул пес, а где-то вдали покатился камень. Выключил свет, потом тотчас же снова включил его. Чтоб прогнать страх, вспомнил наваленный на повозку скарб, узлы, тюки, кастрюли; вспомнил лица мексиканцев. Должно быть, семья отправлялась на сезонные работы в Сан-Бернардино или еще выше, в горы. Я разглядел худенькие ноги детей, копыта мула, который едва плелся. Ветер трепал грязно-белые брюки шагавшего за повозкой мексиканца, мул вытягивал шею, с трудом тащил повозку. Проезжая мимо, я подумал, что эти бедняки, должно быть, заночуют в каком-нибудь овраге — конечно, им не добраться до станции 37, прежде чем стемнеет.
Вот взять хотя бы их, подумал я. Где у них дом? Ну как можно родиться и жить в такой стране, как эта? А все же люди приспосабливались, тянулись куда-то в поисках сезонной работы, жили жизнью, не дававшей им передышки, — полгода в подвалах, полгода в открытом поле. Этим даже не пришлось пройти через приют в Алессандрии, жизнь сама выкурила их из нор, бичевала то голодом, то постройкой железной дороги, то переворотами и войнами из-за нефти, и теперь они едва тащились вслед за своим мулом. Еще счастье, что мул есть. Были и такие, что из дому уходили босиком, даже без женщины. Я вышел из кабины на дорогу и застучал каблуками, только бы согреться. Равнину поглотила ночь, по ней скользили тени, дорога едва виднелась. А ледяной ветер все шуршал и шуршал, взметая песок; собаки умолкли; отовсюду доносились вздохи, отзвуки чьих-то голосов. Я достаточно выпил, чтобы больше ничего не бояться. Стоял, вдыхал в себя запахи высохшей травы, соленого ветра и вспоминал холмы Фресно.
Потом послышался шум поезда. Сначала будто конь тащил по ровным камешкам дороги повозку, но вот показались огни. Я понадеялся, что это чья-нибудь машина или, может, та самая повозка мексиканцев. Вскоре грохот заполнил равнину, засверкали искры. Что думают об этом змеи и скорпионы? Поезд словно навалился на меня, осветив огнями вагонных окон мой грузовичок, кактусы, какого-то перепуганного и прыжками спасавшегося зверька; поезд помчался дальше, грохоча, рассекая воздух, нанося мне пощечины. Я так его ждал, но теперь, когда снова стало темно, снова заскрипел песок, я сказал себе, что от этих людей нет покоя и в пустыне. Если завтра мне придется удирать, смываться, чтоб не попасть в лагерь для интернированных, рука полицейского обрушится на меня, как толчок паровоза. Это и была Америка.
Я вернулся в кабину, укрылся одеялом. Попытался задремать — так, словно я находился на углу виа Беллависта. Про себя я подумал: как бы ни были хитры калифорнийцы, а никто из них не смог бы сделать того, что сделали эти четверо мексиканцев в лохмотьях. Устроиться на ночлег с детьми и женщинами в этой пустыне, ставшей для них домом, где они, может, и со змеями умели разговаривать, — нет, калифорнийцам это не под силу. Нужно мне поехать в эту Мексику, говорил я себе, готов поспорить, мне эта страна подойдет.
Посреди ночи я внезапно проснулся от громкого лая. Вся равнина теперь походила на поле боя. Небо казалось кроваво-красным; дрожа от холода, весь разбитый, вылез я из кабины; из-за низких облаков выглянула полоска луны, совсем как ножевая рана, из которой на равнину сочилась кровь. Я долго стоял и глядел на нее. На этот раз мной овладел настоящий страх.
XII
Нуто не ошибся. С этими покойниками из Гаминеллы и впрямь беда. Поначалу врач, кассир, трое-четверо парней спортивного вида, потягивавших вермут в баре, стали говорить, что это настоящий скандал; стали спрашивать, скольких бедных итальянцев, честно исполнявших свой долг, зверски погубили красные. Потому что, вполголоса говорили на площади, именно красные без суда стреляют в затылок. Потом взялась за дело учительница — маленькая женщина в очках, сестра секретаря мэрии, владелица виноградников. Она повсюду кричала, что готова сама обшарить весь берег, найти других мертвецов, найти всех мертвецов, разрыть мотыгой могилы, где похоронены несчастные мальчики, только бы после этого засадили в тюрьму, а лучше всего повесили кого-нибудь из мерзавцев коммунистов, хоть того же Валерио[33], хоть того же Пайетту[34], хоть того же партийного секретаря из Канелли.
Кое-кто возражал:
— Трудно обвинять коммунистов. Здесь партизанили автономные отряды.
— А что из того, — отвечали ему, — разве ты не помнишь того хромого, с шарфом, который реквизировал одеяла?
— А когда подожгли склад…
— Да какие там автономные отряды, кто тут только не перебывал… Помнишь того немца?..
Сынок хозяйки виллы завизжал:
— Это ровно ничего не значит, что автономные! Все партизаны — убийцы!
— А по-моему, — спокойно глядя на нас, сказал доктор, — виноват не тот или другой в отдельности. Вся обстановка была такая — партизанская война, полное беззаконие, кровопролитие. Эти двое, по всей вероятности, действительно шпионили… Но, — снова начал он, громко отчеканивая слова, чтобы пробиться сквозь спор, — кто создал первые отряды? Кто хотел гражданской войны? Кто провоцировал немцев и наших фашистов? Коммунисты. Всегда они. Они и должны отвечать. Они убийцы. Эту честь мы, итальянцы, им охотно уступаем…
Вывод доктора всем пришелся по душе. Тогда я сказал, что не согласен. Меня спросили почему.
— В тот год, — сказал я, — был я еще в Америке (ни слова в ответ). И в Америке был интернирован (ни слова в ответ). И в самой что ни на есть Америке газеты напечатали воззвание короля и Бадольо, которые велели итальянцам уходить в горы, начинать партизанскую войну, нападать на немцев и фашистов с тыла.
Усмешечки. Об этом никто не помнил. Спор разгорелся снова.
Когда я уходил, учительница кричала:
— Все они ублюдки! Им деньги наши нужны! Земля и деньги, как в России. А недовольных — в расход.
Нуто тоже спустился в деревню, чтоб послушать. Слушал и все больше мрачнел.
— Неужели, — спросил я его, — никто из парней не был в партизанах? Отчего они все словно воды в рот набрали? В Генуе партизаны даже газету издают…
— Из этих никто не партизанил, — сказал Нуто. — Все они повязали себе на шею трехцветный платок наутро после победы. Кое-кто служил в Ницце… А те, кто своей шкуры не жалел, не любят болтать.
Покойников опознать не удалось. Их на повозке отвезли в старую больницу; многие ходили на них взглянуть и возвращались, скривив рот. «Что ж, — говорили женщины в переулках, сидя у порога своего дома, — этого никому не миновать. Но хуже нет такой смерти». Малый рост и медальон со святым Януарием на шее у одного из них навели следователя на мысль, что это были южане. Их записали как «неизвестных» и на том закрыли следствие.
Но приходский священник ничего не закрыл и лишь теперь принялся за дело по-настоящему. Он тотчас призвал к себе мэра, старшину карабинеров, комитет глав семейств и настоятельниц монастырей. Мне обо всем рассказал Кавалер, он был не в ладах со священником, который, ничего ему не сказав, велел снять со скамьи латунную дощечку с его фамилией.
— Скамья, у которой, стоя на коленях, молилась моя мать! — рассказывал он. — Моя мать, принесшая церкви больше добра, чем десять таких, как он!..
Кавалер не осуждал партизан.
— Мальчики, — сказал он. — Мальчики, которым пришлось воевать. Когда я думаю, сколько их погибло…
Словом, поп решил лить воду на свою мельницу. Он еще не оправился как следует с того дня, когда поставили плиту в память партизан, повешенных перед казармой чернорубашечников. Для этого два года назад из Асти приезжал депутат-социалист. Попа на церемонии не было.
Зато теперь, на собрании в своем доме, он отвел душу. Все они отвели душу и обо всем договорились. За давностью нельзя было привлечь к суду никого из бывших партизан: «подрывных элементов» в деревне вообще не было, но они решили дать политический бой, да такой, чтоб до самой Альбы молва прокатилась. Сначала большая служба в церкви, потом торжественные похороны жертв, митинг и публичная анафема красным. Каяться и молиться. Мобилизовать всех.
— Не мне радоваться, — сказал Кавалер, вспоминая те времена. — Война, как говорят французы, — sale métier[35]. Но этот священник спекулирует на мертвых, он бы и мать родную не пощадил.
Я зашел к Нуто, чтоб рассказать ему и об этом. Он почесал в затылке, уставился в землю и зло сплюнул.
— Так я и знал, — сказал он потом, — он уже раз попытался устроить такой спектакль с цыганами…
— Что за цыгане?
И он рассказал мне, что в сорок пятом отряд молодых партизан взял в плен двух цыган, которые много месяцев вели двойную игру: ходили в горы, выдавали расположение партизанских отрядов.
— Знаешь, в отрядах разный был народ, со всей Италии, иностранцы тоже. Были среди партизан и темные люди. Словом, в те времена все перемешалось. Ну вот, вместо того чтобы отвести их в штаб, они цыган схватили, посадили в колодец и заставили отвечать, сколько раз те наведывались в казарму к чернорубашечникам. А одному из них, у которого голос хороший, велели петь, чтобы спасти жизнь. Тот сидит в колодце связанный, поет как сумасшедший, изо всех сил поет. Он поет, а они их мотыгой по голове — так и прикончили обоих… Их трупы откопали два года тому назад, и поп тотчас же закатил молебен в церкви. По тем, кого чернорубашечники повесили, небось молебен не служил.
— По-моему, — сказал я, — лучше всего потребовать, чтобы он отслужил мессу за упокой души повешенных партизан. Откажется — осрамите его перед всем селением.
Нуто невесело усмехнулся: поп у нас такой, что согласится. А потом все равно все себе на пользу повернет.
Итак, в воскресенье устроили похороны. Местные власти, карабинеры, дамы с вуалями. Этот черт позвал и монахов в желтых капюшонах — глядеть жутко… А цветов нанесли!.. Учительница, та самая, у которой свои виноградники, разослала девочек рвать цветы по чужим садам. Священник в праздничном облачении, поблескивая очками, держал речь с паперти. Чего только не говорил! Времена, мол, дьявольские, душам угрожает опасность. Слишком много пролито крови, слишком много молодых людей еще прислушиваются к словам ненависти. Родина, семья, религия — все в опасности. Красный цвет, чудотворный цвет мучеников, стал знаменем антихриста, и во имя его вершилось и вершится множество преступлении. Надо и нам покаяться, очиститься, искупить содеянное зло — предать христианскому погребению этих двух неизвестных юношей, убитых столь зверски и покинувших земную юдоль, видит бог, без утешительного причастия. Каяться, молиться за них, воздвигнуть преграду из сердец. Он произнес какое-то слово по-латыни. Проучить этих людей без родины, этих насильников, этих безбожников. И не думайте, будто враг повержен: над многими итальянскими городами еще упорно развевается красное знамя…
Нельзя сказать, чтоб мне его речь слушать было так уж неприятно: сколько лет уже я не слушал, как священник, стоя на солнце посреди площади, с паперти доказывает свое. Подумать только, когда Виржилия брала нас к мессе, я верил, что голос священника все равно что гром, что безоблачное небо, что смена времен года. Что от этого голоса зависит урожай на полях, здоровье живых, спасение душ умерших. Теперь я убедился, что священник сам использует мертвых. Нет, лучше не стареть, лучше не знать мир.
Но вот уж Нуто эта речь крепко пришлась не по душе. На площади кое-кто из его друзей подмигивал ему, перекидывался с ним словечком. А Нуто переминался с ноги на ногу, страдал. Речь шла о покойниках, пусть фашистах, пусть давно скончавшихся, но тут уж ничего не попишешь — когда речь идет о покойниках, поп всегда возьмет верх. Я это знал, но знал это и Нуто.
XIII
В селении снова заговорили об этой истории. Поп-ловкач ковал железо, пока горячо: на следующий день после похорон отслужил мессу за упокой души этих умерших, за живущих, которым угрожала опасность, за тех, кто еще не появился на божий свет. Он советовал не записываться в политические партии, преследующие подрывные цели, не читать антихристианских непристойных газет, ездить в Канелли разве что по делам, а лучше и вовсе там не бывать, не засиживаться по трактирам; девушкам советовал удлинить платья. Послушать разговоры здешних бабенок и лавочников — выйдет, что кровь тут лилась, как сусло в давильне. Всех ограбили, у всех дома сожгли, у всех бабы понесли. А бывший фашистский подеста, сидя за столиком у гостиницы «Анжело», прямо сказал, что в прежние времена такого не бывало. Тогда вскочил с места шофер грузовика из Калоссо — парень решительный и твердый — и спросил у него, кто в эти прежние времена воровал удобрения и, к слову, куда делось краденое?
Я снова пошел к Нуто, увидел, как он, по-прежнему хмурясь, измеряет тележные оси. Жена в доме кормила грудью ребенка. Я в окно крикнул ему, что глупо все это принимать так близко к сердцу, сказал, что на политике никогда ничего не выгадаешь. Я всю дорогу это себе втолковывал, не знал только, как бы его получше вразумить. Нуто взглянул на меня, стукнул линейкой и резко спросил, а не хватит ли с меня. Чего я тут околачиваюсь, в этакой глуши?
— Вам в ту пору надо было дело доводить до конца, — сказал я ему, — умный не станет зря ос дразнить.
Тут я услышал, как он крикнул жене:
— Комина, я пошел! — Схватил пиджак и спросил меня: — Выпить хочешь?
Я ждал. Он еще что-то сказал подмастерьям, работавшим под навесом, потом повернулся ко мне:
— Не могу больше. Уйдем-ка отсюда подальше.
Мы стали подниматься по склону Сальто. Поначалу молчали или говорили о том, какой в нынешнем году чудесный виноград. Шли между берегом и виноградником Нуто. Потом свернули с дороги и зашагали по крутой тропке. На повороте у виноградника нам повстречался Берта, старый Берта, который больше не выходил из своей усадьбы. Я остановился, хотел перекинуться с ним словечком, напомнить о себе — ни за что бы не поверил, что еще застану его в живых, таким вот беззубым, — но Нуто зашагал мимо, только сказал:
— Привет.
А меня Берта, конечно, не узнал.
Сюда, до усадьбы Спирита, я когда-то добирался. В ноябре мы приходили сюда воровать мушмулу. Я стал глядеть вниз — сохнущие без дождя виноградники, обрыв, красная крыша дома Нуто, река и лес. Нуто теперь шагал медленней, мы упрямо молчали.
— Плохо, — сказал наконец Нуто, — что все мы здесь невежды. Вся деревня в руках у этого попа.
— Ну и что? Почему ты ему не отвечаешь?
— Что мне ему, посреди церкви, что ли, отвечать? У нас речи произносят только в церкви. В другом месте станешь говорить, тебе не поверят… Непристойная, антихристианская печать. А они и в календарь не заглядывают…
— Да вырвись ты отсюда, — сказал я. — Послушай, что другие говорят, подыши другим воздухом. В Канелли все по-другому. Ты слышал, он и сам сказал, что в Канелли ад.
— Если бы за этим дело…
— А ты начни… Канелли — ворота в мир. За Канелли — Ницца-Монферрато. За Ниццей — Алессандрия. Одни вы никогда ничего не сделаете.
Нуто вздохнул и остановился. Я стоял рядом и глядел на долину.
— Если хочешь чего-нибудь добиться, — сказал я, — держи связь с миром. Разве нет партий, которые за вас, разве нет депутатов, которые вас защитят? Встречайтесь друг с другом, беседуйте. В Америке так и делают. Сила партий — в тысячах таких маленьких деревень, как ваша. Попы не действуют в одиночку, за ними целая армия других попов. Хорошо бы сюда еще разок заглянул тот депутат, что выступал у казармы чернорубашечников…
Мы сели на жухлую траву в тени высокого тростника, и Нуто объяснил мне, почему не едет депутат. Со дня освобождения, с радостного дня 25 апреля, дела здесь шли все хуже и хуже. В те дни, конечно, кое-что было сделано. Испольщики и сельские бедняки раньше и людей-то не видали, но в тот год партизанской войны мир сам пришел к ним, разбудил их. Здесь были люди отовсюду — южане, тосканцы, горожане, студенты, беженцы, рабочие. Даже немцы, даже фашисты кое на что сгодились — открыли глаза самым темным; каждый показал, кто он на самом деле: вот я, а вот ты, ты за то, чтоб с крестьянина шкуру драть, а я за то, чтобы и крестьянину улыбнулась судьба. А те, кто бросил оружие или не явился на призыв, показали правительству господ, что мало одного желания начать войну. Понятное дело, в такой буче и дурное было: и воровали, и убивали без причины, но это редко случалось, гораздо реже, чем в те времена, когда прежние насильники сами заставляли грабить на большой дороге или подыхать с голоду.
— Ну а потом? Как все пошло потом?
— Мы успокоились, поверили союзникам, поверили прежним насильникам, которые, переждав бурю, вынырнули из погребов, из вилл, из церквей и монастырей. Вот и дожили, — сказал Нуто. — Поп и в колокола-то звонит только потому, что партизаны их спасли, а вот выступает за фашистскую республику и ее шпионов. Да пусть их даже без вины расстреляли — не ему все это вешать на шею партизанам: они тысячами шли на гибель, чтобы спасти страну.
Покуда он говорил, я разглядывал холм Гаминелла; он был весь передо мной и казался огромным — не холм, а целая планета. Отсюда можно было различить овраги, леса, тропы, которых я никогда не замечал. Надо будет нам туда подняться как-нибудь. Это тоже часть мира. Я спросил у Нуто:
— Там, наверху, партизаны были?
— Партизаны были повсюду, — ответил он. — За ними охотились, как за дичью. А сколько их гибло! То стреляют на мосту, а через день они уже по ту сторону Бормиды. Ни минуты покоя, повсюду ловушки, шпионы…
— А ты партизанил? Был с ними?
Нуто проглотил слюну и покачал головой:
— Каждый что-нибудь делал. Только я сделал мало… Боялся, что выдаст шпион, и тогда дом сожгут…
Я разглядывал отсюда долину Бельбо. Липы, низкие строения Моры, поля — все казалось маленьким и чуждым. Я никогда не видел Мору отсюда, никогда не думал, что она такая неприметная.
— Вчера проходил мимо Моры, — сказал я. — Нет больше сосны у ворот…
— Ее велел срубить бухгалтер Николетто. Что за невежда!.. Велел срубить, чтобы нищие не останавливались в ее тени просить милостыню. Понимаешь? Мало ему, что он полдома проел, не хочет, чтоб бедняк мог постоять в тени с немым упреком…
— Как же они дошли до такого? У них ведь свой выезд был! Старик бы не допустил этого.
Нуто молчал, обрывая сухую траву.
— Да что Николетто! — сказал я. — А девушки? Стоит мне вспомнить, вся кровь закипает. Верно, они любили поразвлечься, а Сильвия как дура шла за первым встречным, но, покуда был жив старик, всегда все улаживалось. Хоть бы мачеха жива была… А младшая, Сантина, что с ней стало?
Нуто, должно быть, все еще думал о попе и шпионах, он снова скривил рот и проглотил слюну.
— Она жила в Канелли. Они с Николетто друг друга терпеть не могли. Там она фашистов развлекала. Это всякий знает. А потом в один прекрасный день ее не стало.
— Неужто? — спросил я. — А что она натворила? Санта, Тантина… Помню, шестилетней девочкой она была такая красивая.
— Видел бы ты ее, когда ей было двадцать. Сестры ей и в подметки не годились. Избаловали ее, дядюшка Маттео только ею и жил… Помнишь, как Ирена и Сильвия не хотели с мачехой выезжать, чтобы не стушеваться? А Санта была красивей их и мачехи.
— Но как же так? Что с ней стряслось? Известно, что она натворила?
Нуто ответил:
— Известно. Сучкой была.
— Да что ты?!
— Сучкой и шпионкой.
— Ее прикончили?
— Пойдем-ка лучше домой, — сказал Нуто. — Хотел я отвлечься, но и с тобой не вышло.
XIV
Должно быть, судьба такая. Я часто думал — сколько там людей было, а теперь в живых остались только я и Нуто, только мы уцелели. Как долго вынашивал я эту мечту (однажды утром в баре Сан-Дьего это желание овладело мной с такой силой, что я чуть не лишился рассудка!): выйду на дорогу, потом пойду мимо ограды, мимо сосны, пройду под сводом лип, услышу голоса, смех, кудахтанье кур, отворю калитку: «Вот я и здесь, вот я и вернулся». И сразу все ошалеют от изумления — и батраки, и женщины, и пес, и сам старик. И глаза дочерей — голубые и черные глаза — узнают меня с веранды. Не сбыться мечте. Я вернулся, появился здесь, я богат, живу теперь в гостинице «Анжело», беседую с Кавалером. Но где же лица, где голоса и руки тех, кто должен был коснуться меня, узнать? Их нет. Их давно уж нет. А то, что осталось, — все равно что сельская площадь на другой день после ярмарки, что виноградник после сбора урожая, что возвращение в трактир после того, как проводишь друга, который больше не хочет с тобой пить. Нуто — один он уцелел, но и он изменился, он, как и я, уже в годах. Чтоб уж все сразу выложить, скажу, что и я теперь другой — застань я на Море все, как было в ту первую зиму, в то первое лето, и во второе лето и зиму, день за днем все те годы, может, я бы и не знал, к чему все это теперь. Я слишком издалека пришел — я больше не принадлежал этому дому, я был уже не такой, как Чинто, мир меня изменил.
Летними вечерами мы допоздна сидели под сосной или во дворе на бревне и болтали — у изгороди останавливались прохожие, смеялись женщины, кто-нибудь выходил из хлева. Старики — управляющий Ланцоне, Серафина, а порой и сам дядюшка Маттео — обращались к нам с такой речью: «Да-да, ребята, да-да, девушки… растите быстрей, как наши деды говорили… Посмотрим, как вы управляться будете». В то время я даже не понимал, что это значит — расти, думал: расти — значит только набираться ума-разума, чтобы делать трудные дела, как, например, покупать быков, назначать цену за виноград, работать на молотилке. Я не знал, что расти — значит уходить, стареть, видеть, как люди умирают, застать Мору такой, какой я ее застал теперь. Про себя же я думал: «Да провалиться мне, если не уйду в Канелли. Если не выиграю на состязаниях. Если не куплю усадьбу. Если не стану ловчей Нуто». Потом я думал о коляске дядюшки Маттео и его дочерях. Думал о хозяйской веранде. О пианино в гостиной. О празднике святого Роха. Думал о чанах с вином и об амбарах, полных зерна. Словом, я подрастал.
В тот год, когда выпал град и Крестному пришлось продать дом и отправиться батрачить в Коссано, в тот год меня уже не раз посылали в Мору на поденную работу. Мне было тринадцать, и кое с чем я все же справлялся, даже немного денег приносил. Утром переходил на другой берег Бельбо, помогал женщинам и батракам — Чирино, Серафине — собирать орехи, помогал при сборе винограда, кукурузы, помогал управляться со скотиной. Мне нравилось, что двор здесь такой большой, и народу столько, и никто тебя не ищет. Еще хорошо, что усадьба у самой дороги, под холмом Сальто. Сколько новых лиц, а коляска какая, а лошадь, а занавески на окнах! В первый раз я увидел цветы, настоящие цветы, такие, как в церкви. У изгороди под липами был цветник — росли циннии, лилии, лесной чай, георгины; я понял, что цветы — все равно что плодовые деревья, только на стебле цветок вместо плода; цветы собирают, они нужны синьоре, дочерям, которые прогуливаются под зонтиками; в доме цветы ставят в вазы. Ирене тогда было около двадцати, а Сильвии — лет восемнадцать, изредка мне удавалось их видеть. Потом была еще Сантина, их сводная сестра, она родилась недавно. Эмилия, как услышит крик, бежала наверх качать ее люльку.
Вечером, вернувшись в Гаминеллу, я рассказывал всякую всячину Анжолине, Крестному, Джулии, если в тот день ее со мной не было. Крестный говорил: этот человек нас всех вместе может купить. Ланцоне у него хорошо живется. Дядюшка Маттео никогда не помрет на большой дороге. Тут уж можно поручиться. Даже град, опустошивший наш виноградник, пощадил другой берег Бельбо, и все усадьбы в долине и усадьба у Сальто лоснились, как гладкая спина вола.
— Мы разорены, — говорил Крестный, — как я теперь погашу ссуду?
Он был уже в преклонных годах и все боялся остаться без земли, без крыши над головой.
— А ты все продай, — говорила ему Анжолина, стиснув зубы, — где-нибудь пристроимся.
— Была бы твоя мать жива, — бормотал Крестный.
Я понимал, что то была последняя осень. Уходил на виноградник или к берегу и все боялся, что сейчас меня позовут, что кто-нибудь придет и выгонит меня. Потому что знал — я им никто.
Потом в это дело вмешался приходский священник — тот, что был здесь в те годы, старик с костлявыми пальцами. Он купил наш дом для кого-то, переговорил насчет ссуды, сам отправился в Коссано, пристроил девочек и Крестного. Когда приехала повозка за шкафом и тюфяками, я отправился в хлев отвязать козу. Но козы уже не было, ее тоже продали. Я плакал из-за того, что не было козы, а тут как раз приехал священник — большой серый зонт, ботинки заляпаны грязью. Он покосился на меня. Крестный ходил по двору, крутил усы.
— А ты, — сказал мне священник, — не будь девчонкой. Что для тебя этот дом? Ты молод, у тебя еще все впереди. Лучше расти на здоровье, чтоб отплатить этим людям за добро, которое они тебе сделали…
А я уже все знал. Знал и плакал. Девчонки сидели в доме и боялись выйти из-за священника. Мне он сказал:
— В усадьбе, куда пойдет Крестный, лишними будут и твои сестры. Тебе мы подыскали хороший дом. Скажи мне спасибо. Там ты получишь работу.
С первыми холодами я появился на Море. В последний раз переходя через Бельбо, я даже не оглянулся назад. На Мору я пришел, закинув за спину деревянные башмаки и свой узелок; в платке нес четыре гриба, которые Анжолина послала Серафине. Мы нашли их с Джулией на холме.
На Море меня с разрешения управляющего и Серафины принял батрак Чирино. Он тотчас же отвел меня в хлев, где стояли волы, корова, выездная лошадь за деревянной загородкой. Под навесом — заново покрытая лаком коляска. По стенам развешаны упряжь, хлыстики с кисточками. Чирино сказал, что я покуда буду спать на сеновале, а потом он положит мне тюфяк в амбаре, где мы будем жить с ним вместе. Там, в амбаре, в большой давильне и на кухне пол был не земляной, а цементный. На кухне стоял застекленный шкаф и в нем множество чашек, а над камином висели фестоны из глянцевой красной бумаги; Эмилия сказала, чтобы я их, упаси боже, не трогал. Серафина взглянула на мои вещи, спросила, собираюсь ли я еще расти, и сказала Эмилии, чтоб та на зиму подыскала мне пиджак. Первая моя работа была такая — наломать хворосту и кофе смолоть.
Это Эмилия сказала мне, что я похож на угря. В тот вечер мы сели к столу, когда уже было темно, при свете керосиновой лампы. На кухне собрались все — обе женщины, Чирино, управляющий Ланцоне, который сказал мне, что за столом застенчивость к месту, а вот за работой стесняться не к чему. Расспросили меня о Виржилии, Анжолине, о том, что их ждет в Коссано. Потом Эмилию позвали наверх, управляющий пошел в хлев, а я остался один с Чирино перед столом, на котором был хлеб, сыр, вино. Тогда я набрался смелости, а Чирино сказал мне, что на Море харчей на всех хватает.
Пришла зима, выпало много снега, замерзла речка, а мы жили в тепле, на кухне или в хлеву; очистить от снега двор или дорожку перед усадьбой, притащить вязанку дров, вымочить ивовые прутья для Чирино, воду принести — вот и все мои дела. А там играй с ребятами в шарики. Настало рождество, настал Новый год, настало крещенье. У нас жарили каштаны, открывали бочки с вином, два раза мы ели индейку, а один раз гуся. Синьора, дочери, дядюшка Маттео часто приказывали запрягать, ездили в Канелли, однажды они привезли оттуда миндальных пряников и дали попробовать Эмилии. По воскресеньям я с мальчиками из Сальто и с женщинами шел в церковь к мессе. Печь хлеб мы тоже ходили в деревню. Холм Гаминелла был весь в белом снегу. Я глядел на него сквозь сухие ветки деревьев на берегу Бельбо.
XV
Не знаю, куплю ли я здесь землю, буду ли говорить с дочерью Кола? Вряд ли. Другими стали теперь мои дни — телефон, отправка грузов, асфальт городских улиц. Но и до возвращения, бывало, выйдешь из бара, или сядешь в поезд, или просто вечером вернешься к себе, и вдруг воздух донесет до тебя знакомые запахи, и вспомнишь, какое сейчас время года, подумаешь — сейчас самая пора косить, подрезать лозу и обсыпать ее серой, мыть чаны, рубить тростник.
В Гаминелле я был никем, на Море обучился делу. Здесь никто и не вспоминал о пяти лирах из мэрии; через год я уже перестал думать о Коссано и зарабатывал свой хлеб. Поначалу было нелегко, земли Моры протянулись от долины Бельбо почти до самой середины холма, и я, привыкший к винограднику Гаминеллы, с которым Крестный управлялся один, терялся — столько здесь было скота, столько всего росло, столько встречалось новых лиц. Прежде мне не приходилось бывать в усадьбах, где работают батраки, я никогда не видывал столько возов зерна и кукурузы, столько корзин винограда. Мешками тут мерили только бобы и чечевицу, которые сеяли у дороги. Вместе с хозяевами нас было больше десяти едоков; виноград, зерно, орехи и на продажу возили, и оставляли про запас; у дядюшки Маттео был выезд; дочери играли на фортепьяно, то и дело ездили к портнихам в Канелли; к столу им подавала Эмилия.
Чирино научил меня, как обращаться с волами, как менять им подстилку.
— Ланцоне хочет, чтоб за волами ухаживали, как за невестами, — сказал он мне.
Он научил меня чистить волов скребницей, готовить для них пойло и корм, не жалеть сена. В день святого Роха их отводили на ярмарку, и управляющий не жаловался на выручку. Весной, когда на поля вывозили навоз, я шагал за телегой. В теплое время года на поле выходили до рассвета, а заводили скот в хлев, когда уже стемнеет и звезды покажутся на небе. У меня теперь был пиджак до колен; я не мерз. Когда солнце выглянет, приходили на поле Серафина, Эмилия, приносили вино, а то я и сам удирал в дом; управляющий распределял работу на день; в этот час на дороге появлялись первые прохожие, а в восемь утра раздавался первый гудок паровоза. Я косил траву, ворошил сено, таскал воду, готовил купорос, поливал огород. Когда работали поденщики, управляющий посылал меня приглядеть за ними: пусть не выпускают из рук мотыгу, пусть хорошенько обсыпают листья серой или купоросом, пусть не болтают, забравшись в глубь виноградника. А батраки просили меня, такого же, как они, батрака, чтоб я дал им спокойно покурить.
— Смотри, как надо делать, — говорил мне Чирино и, поплевав себе на руки, брался за мотыгу. — На тот год будешь и ты работать.
Покуда я еще не работал по-настоящему; женщины то и дело звали меня во двор, посылали за чем-нибудь, требовали на кухню, когда месили тесто или разжигали плиту, а я ко всему прислушивался, приглядывался к каждому входящему и уходящему. Чирино, такой же батрак, как я, принимал во внимание, что я еще мальчишка, и давал мне такие поручения, чтобы за мной могли присмотреть женщины. Сам он их обходил стороной — состарился, а семьи так и не завел; по воскресеньям закуривал крепкую тосканскую сигару; говорил, что ему и в деревню ходить неохота, лучше посидеть у изгороди, послушать, о чем толкуют прохожие. Иногда я удирал и подымался до дома Нуто на Сальто, где у его отца была мастерская. Здесь и тогда было полным-полно герани и, как теперь, повсюду лежали груды стружек. Кто бы ни проходил мимо, по пути в Канелли или обратно, останавливался в мастерской поболтать, а плотник тем временем орудовал рубанком, стамеской и толковал со всеми обо всем на свете: о Канелли, о прежних временах, о политике, о музыке, о деревенских сумасшедших или о том, что где творится. Когда меня за чем-нибудь посылали, я мог здесь побыть подольше и тогда, играя с ребятами, жадно слушал все разговоры, впитывал их в себя, словно взрослые и вели-то их меня ради. Отец Нуто выписывал газету.
В доме у Нуто дядюшку Маттео тоже хвалили; рассказывали о том времени, когда он был солдатом в Африке и все уже считали, что он убит, — и священник, и мать, и невеста, и пес, который день и ночь выл во дворе. Но однажды за деревьями пронесся вечерний поезд из Канелли, и пес вдруг бешено залаял, а мать сразу поняла, что возвращается Маттео. Давно это было — Мора тогда была еще простым крестьянским двором, девочки еще не родились. Дядюшка Маттео то пропадал в Канелли, то разъезжал по округе на двуколке, то шел на охоту. Был он озорной, но договориться с ним можно было всегда. Дела любил вести с прибаутками и не где-нибудь, а за обеденным столом. Он и сейчас по утрам съедал целый перец и запивал его добрым вином. Жену, родившую ему двух дочерей, он давно похоронил; вторая женщина пришла к нему в дом, родила ему еще дочь, а он хоть и состарился, а всегда шутил и всем заправлял.
Сам дядюшка Маттео никогда на земле не работал, дядюшка Маттео стал синьором, хоть и не учился и никогда не путешествовал. Если не считать Африки, то дальше Акви не забирался. Он был жаден до женщин — это и Чирино говорил, — как его дед и отец были жадны до земли и добра. Такая у них была кровь: в ней бродили соки земли и жадность ко всему земному — к вину, к зерну, к еде, к женщинам, к богатству. Дед еще сам землю мотыжил, а сыновья уже стали другими, хотели наслаждаться жизнью. Но и теперь дядюшка Маттео мог на глазок определить, сколько корзин даст виноградник, сколько мешков зерна соберут с поля, сколько удобрений нужно для луга.
Управляющий приносил ему счета, и они вдвоем запирались наверху, а Эмилия, подававшая им кофе, говорила, что дядюшка Маттео все счета знает на память и не позабудет ни одной тележки с зерном, ни одной корзины винограда, ни одного потерянного рабочего дня.
Я долго боялся подниматься по лестнице, ведущей на второй этаж. Эмилия то и дело туда ходила, она была племянницей управляющего и могла мне приказывать; когда в доме бывали гости, она прислуживала им в переднике. Порой Эмилия звала меня с веранды, кричала в окно, чтоб я поднялся, принес ей то или другое, сделал что-нибудь. Я норовил спрятаться подальше. Однажды мне велели принести в хозяйский дом ведро воды, так я его оставил у двери и удрал. Помню, утром нужно было что-то починить на веранде и меня позвали держать лестницу, на которой стоял рабочий. Я поднялся, прошел через полутемные комнаты, в которых было полным-полно мебели, журналов, цветов и все сверкало, как зеркало. Я ступал босиком по красным каменным плитам, а навстречу мне показалась синьора, черноволосая, с медальоном на шее. Она несла простыню и посмотрела на мои ноги.
Эмилия с террасы кричала:
— Эй, Угорь, иди сюда, Угорь!
— Милия меня зовет, — пробормотал я.
— Ну, ступай, ступай же быстрей, — ответила синьора.
На террасе сохли выстиранные простыни, здесь было много солнца, отсюда, если взглянуть в сторону Капелли, виден был замок Нидо. У перил стояла Ирена, она сушила свои золотые волосы, накинув на плечи полотенце. Эмилия, державшая лестницу, крикнула мне:
— Давай пошевеливайся!
Ирена ей что-то сказала, они рассмеялись. Я придерживал лестницу, но упорно глядел лишь на стенку и на каменный пол и, чтоб душу отвести, припоминал, что мы, мальчишки, рассказывали друг другу, прячась в тростнике.
XVI
От дома в Море к речке добраться легче, чем из Гаминеллы — там спуск к воде круче, да и пробираться нужно через заросли ежевики, сквозь кустарники и акации, растущие на берегу. А здесь берег песчаный, низкий зеленый камыш, а дальше, до самых пашен Моры, — лес. Случалось, в жаркие летние дни Чирино посылал меня обрезать виноградную лозу или за ивовыми прутьями. Тогда я давал знать своим приятелям, и они приходили к берегу кто с дырявой корзиной, кто с мешком; мы раздевались и ловили рыбу, играли, бегали по раскаленному солнцем песку. Здесь я хвастался тем, что меня прозвали Угрем. Николетто из зависти грозился обо всем рассказать Чирино и дразнил меня ублюдком. Николетто — сын одной из теток синьоры, зимой он жил в Альбе. Мы кидались камнями, но мне надо было остерегаться, чтобы не попасть в него, не то он вечером станет показывать на Море свои синяки. Бывало, управляющий или женщины, работая в поле, увидят нас, и тогда я должен был прятаться в кусты, бежать к усадьбе, на ходу подтягивая штаны. Ну что ж, отругает управляющий или даст подзатыльник — только и всего.
Все это не шло ни в какое сравнение с теперешней жизнью Чинто. Отец не спускал с него глаз, наблюдал за ним из виноградника, женщины то и дело звали его, ругались, что он торчит у Пиолы, посылали в дом — то отнести траву, то початки кукурузы, то шкурки кроликов.
В этом доме всегда во всем была нехватка. Хлеба они не ели, пили не вино, а водичку. Полента и чечевица, и чечевицы тоже не вдоволь. Я-то знаю, что значит работать мотыгой, разбрасывать удобрения в самые знойные часы, да еще голодным, да еще без питья. Знаю, что и нам не хватало этого виноградника, а мы ведь не отдавали половины урожая.
Валино ни с кем не разговаривал. Все надрывался, мотыжил, подрезал и подвязывал лозу, что-то чинил; чуть не с кулаками набрасывался на скотину, на ходу жевал поленту; приказания отдавал почти без слов — только глаза поднимет. Женщины все исполняли мигом, Чинто старался удрать. Вечер, время спать, а Чинто все нет — бродит где-то у реки; Валино хватал его за шиворот, а не его, так одну из женщин — кто первым под руку подвернется — и тут же, на пороге дома, хлестал ремнем. Достаточно было скупых рассказов Нуто, достаточно было взглянуть на всегда настороженное лицо Чинто, когда я встречал его на дороге, чтоб понять, какой теперь стала Гаминелла.
Да и пса он держал на цепи, а есть ему не давал, и пес по ночам чуял ежей, чуял летучих мышей и куниц, рвался, обезумев, с цепи и лаял, лаял на луну, которая, видно, казалась ему лепешкой поленты. Тогда Валино вставал с постели, яростно хлестал пса ремнем, пинал его ногами.
Однажды я уговорил Нуто отправиться в Гаминеллу, чтобы взглянуть на этот чан. Он поначалу и слышать не хотел:
— Я знаю, стоит мне с ним заговорить, и я его обзову голодранцем, скажу, что живет он хуже скота. А вправе я с ним так говорить? Польза-то какая? Пусть правительство прежде покончит с деньгами и с богатыми…
По дороге я спросил его, действительно ли он верит, что люди звереют от нищеты:
— Разве ты никогда не читал в газетах о миллионерах, которые пускают себе пулю в лоб или глушат тоску наркотиками? Есть пороки, на которые деньги нужны…
Он ответил мне: вот опять деньги, всегда деньги… Иметь или не иметь… Покуда существуют деньги, никто не спасется.
Когда мы подошли к дому, на порог вышла свояченица Розина, та, что с усиками, и сказала, что Валино пошел к колодцу. На этот раз он не заставил себя ждать, сам пришел, сказал женщине:
— Придержи-ка пса, — и ни на минуту не задержал нас во дворе. — Значит, — сказал он Нуто, — ты взглянешь на этот чан?
Я знал место, где стоял чан, помнил низкие своды давильни, трещины в кладке и паутину. Я сказал:
— Подожду вас в доме, — и наконец перешагнул этот порог.
Но и оглядеться не успел, как услышал плач и слабые стоны — так тихо стонут, когда уже нет сил кричать.
На дворе рвался с цепи пес. Лай, брань, глухой удар, пес завыл, получив свое.
Тем временем я все разглядел. Старуха в одной сорочке, из-под которой торчали грязные ноги, скособочившись, сидела в углу на тюфячке, уставившись на голую стену.
Тюфяк был весь в дырах, из них повылезала солома. Сморщенная старушка, лицо не больше кулака — как у плачущего в люльке младенца, над которым мать поет песни. Воняет затхлым, кислым, воняет мочой. Я понял, что стонет она день и ночь непрестанно, может, сама уже не понимая, что делает. Неподвижно глядела она на стену, стонала на одной ноте, не произнося ни слова.
Я услышал у себя за спиной шаги Розины, отступил немного, посмотрел на нее с немым вопросом: умирает, мол, старуха? Что с ней? Но она оставила без ответа мой вопрос, только сказала:
— Садитесь, если не боитесь запачкаться, — и поставила передо мной стул.
Старуха стонала, жалкая, как воробей с перебитым крылом. Я оглядел комнату — какой она показалась маленькой, незнакомой! Прежними были только что оконце, да жужжание мух, да трещина на печке.
На ящике у стены — тыква, два стакана, связка чесноку. Я почти сразу вышел, а Розина, как собака, пошла за мной следом. Когда мы дошли до смоковницы, я спросил у нее, что со старухой. Она ответила:
— Годы — заговаривается, молитвы бормочет.
— Что вы?! Разве она не жалуется на боль?
— В ее годы, — ответила женщина, — кругом одна боль. Что человек ни скажет — все одна жалоба. — Она взглянула на меня косо. — Старость каждого ждет. — Потом подошла к краю луга и завопила: «Чинто! Чинто!» — да так, словно ее режут, словно она помрет без него.
Чинто не появлялся.
Из хлева вышли Нуто и Валино.
— Скотина у вас хорошая, — сказал Нуто. — А своих кормов хватает?
— Да что ты, корма дает хозяйка.
— Значит, так, — сказал Нуто, — хозяева усадьбы кормят скотину, а не людей, которые работают на их земле.
Валино ждал.
— Ну, пошли, пошли, — сказал Нуто. — Мы торопимся. Значит, я пришлю вам смолы.
Спускаясь по тропке, он пробормотал, что найдутся и такие, кто готов угоститься вином даже у Валино.
— При такой жизни, как у него, — сказал он с яростью.
Мы помолчали. Я думал о старухе. Из тростника показался Чинто с пучком травы. Он шел нам навстречу, волоча ногу, и Нуто сказал:
— Надо уж совсем стыд потерять, чтобы такому мальчишке рассказывать всякие бредни, звать его куда-то.
— Ты говоришь — звать? Да ему где хочешь будет лучше, чем здесь.
Каждый раз, когда я встречал Чинто, мне хотелось подарить ему несколько лир, но я подавлял в себе этот порыв. Они бы его не порадовали, да и на что бы он их потратил? Мы остановились, и Нуто спросил его:
— Ты что, гадюку нашел?
Чинто вздохнул и сказал:
— Если найду, отрублю ей голову!
— Даже гадюка тебя не укусит, если не станешь ее дразнить, — сказал Нуто.
Тогда я вспомнил свое детство и сказал Чинто:
— Зайдешь в воскресенье в гостиницу «Анжело», и я подарю тебе хороший складной нож с пружинкой, чтоб лезвие выскакивало.
— Да? — сказал Чинто, широко раскрыв глаза.
— Уж раз говорю, значит, так. Ты никогда не бывал у Нуто в Сальто? Там бы тебе понравилось. Верстаки, рубанки, отвертки… Если тебя отец отпустит, я пристрою тебя учиться ремеслу.
Чинто пожал плечами.
— Что отец? — пробормотал он. — Я ему не скажу…
Когда Чинто ушел, Нуто сказал:
— Все я могу понять, но вот мальчишка родился калекой… Как ему жить?
XVII
Нуто припоминает, как впервые увидел меня на Море — тогда кололи кабана, женщины все разбежались, и только Сантина, которая недавно ходить научилась, появилась в ту самую минуту, когда кровь хлынула ручьем.
— Уведите девчонку! — крикнул управляющий, и мы с Нуто схватили ее и уволокли, хоть и досталось нам, она здорово нас ногами колотила. Раз к тому времени Сантина сама по двору бегала, значит, я уже провел на Море больше года и, конечно же, видел Нуто и прежде. Мне даже кажется, что впервые я повстречал его в ту осень, когда выпал большой град, в дни сбора кукурузы. Темнело, во дворе было много народу — батраки, мальчишки, соседи, женщины, — все пели, смеялись; сидя на кукурузной листве, сваленной в большую кучу, очищали желтые початки и кидали их под навес. Пахло сухостью и пылью. В тот вечер там был и Нуто. Когда Чирино и Серафина обходили всех со стаканами вина, он пил, как взрослый. Ему тогда было, должно быть, лет пятнадцать, по мне он казался мужчиной. В тот вечер все болтали, рассказывали разные истории, парни старались рассмешить девчонок. Нуто принес с собой гитару и играл на ней, вместо того чтоб очищать початки. Он и тогда уже хорошо играл. Под конец все стали танцевать и хвалили Нуто: «Вот молодец».
Но такое бывало каждый год, и, может, Нуто прав, когда говорит, что мы впервые повстречались при других обстоятельствах. Он уже помогал отцу в работе, я видел его за верстаком, только без передника. Правда, недолго он за этим верстаком простаивал. Чуть что, готов был удрать, а я уже знал: с ним пойдешь — время зря не потеряешь, каждый раз что-нибудь да приключится, или зайдет интересный разговор, или встретим кого-нибудь, а не то он отыщет диковинное гнездо, или покажет тебе зверька, какого ты никогда не видывал, или приведет в совсем новые места. Словом, с ним ты всегда в выигрыше, всегда будет о чем вспомнить. И нравилось мне бывать с Нуто еще и оттого, что мы с ним не ссорились и он со мной обращался как с другом. У него и тогда уже были цепкие круглые кошачьи глазища. Стоило ему про что рассказать, и под конец он всегда добавит: «Битый буду, если вру».
Так я начал понимать, что люди не просто попусту болтают языком: «Я сделал то или это, попил или поел», а говорят для того, чтобы в чем-то разобраться, понять, как устроен мир. Прежде я об этом никогда и не думал. А Нуто много знал, он был как взрослый. Летом, бывало, мы с ним ночи напролет просиживали под сосной. На веранде — Ирена и Сильвия с мачехой, а он со всеми шутит, всех передразнивает, рассказывает, что в других усадьбах приключилось, про хитрецов и простаков, про музыкантов, про то, кто о чем с попом договорился, обо всем он судил, как большой.
Дядюшка Маттео ему говорил:
— Вот я погляжу, что будет, когда тебя в солдаты возьмут, что ты тогда запоешь! В полку из тебя живо всю дурь выбьют.
А Нуто ему в ответ:
— Всю не выбьют. Тут, на наших виноградниках, всегда вдоволь дури останется.
Слушать эти речи, быть другом Нуто, знать его близко — для меня было все равно что пить вино или музыке радоваться. Только стыдился я того, что был еще мальчишкой, батрачил, не умел разговаривать, как Нуто, и мне казалось, что сам я никогда ничего не добьюсь. Но он доверял мне, говорил, что хочет научить меня играть на трубе, обещал взять с собой на праздник в Канелли и дать мне десять раз сряду выстрелить по мишени. Говорил, что о людях судят не по их ремеслу, а по тому, как они работают, рассказывал, как его по утрам иногда так и тянет стать за верстак, так и хочется сделать столик покрасивей.
— Чего ты боишься? — говорил он. — Дело всему научит. Нужно только захотеть. Битый буду, если вру…
С годами я многому у Нуто научился или, может, просто подрастал и сам начинал понимать, что к чему. Но это он объяснил мне, почему Николетто такая сволочь.
— Он невежда, — сказал мне Нуто. — Думает, раз живет в Альбе, ботинки каждый день носит и никто его работать не заставляет, значит, он лучше нас с тобой — крестьян. Родители его в школу посылают, а на самом деле ты его содержишь, потому что работаешь на землях их семьи. Но этого ему и не понять.
И конечно, Нуто, а не кто другой объяснил мне, что на поезде можно в любое место добраться, а кончится железная дорога — будет порт, откуда уходят корабли; весь мир опутан дорогами, повсюду порты, везде путешествуют люди, и в назначенный час уходят поезда и корабли. Но везде кто-нибудь да командует, и везде есть люди поумней и есть убогая бестолочь. Он научил меня названиям многих стран, объяснил, что стоит почитать газету, из нее чего только не узнаешь! Пришло такое время, когда, работая в поле, пропалывая под яркими лучами солнца виноградник, нависший над дорогой, я стал вслушиваться в грохот, наполнявший всю долину, — поезд шел в Канелли или обратно, я останавливался и, опершись на мотыгу, провожал взглядом вагоны и таявшие в воздухе клочья дыма, глядел на Гаминеллу, на замок Нидо, глядел в сторону Канелли и Каламандрана, в сторону Калоссо, и мне казалось, будто я хлебнул вина, стал другим человеком, стал таким же взрослым, как Нуто, ничуть не хуже его, и придет день, когда и я сяду в поезд, уеду куда глаза глядят.
Я и в Канелли не раз уже ездил на велосипеде и останавливался на мосту через Бельбо, но тот день, когда меня там встретил Нуто, стал для меня словно днем первого приезда. Он отправился туда за каким-то инструментом для своего отца и заметил меня у киоска — я стоял и разглядывал открытки.
— Значит, тебе уже продают сигареты? — вдруг услышал я у себя за спиной его голос. Я застыдился. На самом деле меня занимал другой вопрос: сколько цветных шариков можно купить на два сольдо. И с того самого дня я бросил играть в шарики. Потом мы вместе с ним погуляли, поглядели, как люди входят и выходят из кафе. Кафе в Канелли не то что наши сельские остерии, и пьют там не просто вино, а разные напитки. На улице мы прислушивались к разговорам парней — те спокойно обсуждали свои дела и столь же спокойно произносили такие непристойности, от которых, казалось, горы должны сдвинуться с места. В одной из витрин красовался плакат — корабль и белые птицы: даже не спрашивая у Нуто, я понял, что он для тех, кто хочет путешествовать, видеть мир. Мы потом поговорили с Нуто об этом плакате, и он сказал мне, что один из тех парней, которых мы видели — блондин при галстуке, в отутюженных брюках, — служил в конторе, где договаривались о путешествиях те, кто хотел отправиться на таком корабле. И еще в тот день я узнал, что есть в Канелли коляска, в которой катаются по городу три, а то и четыре женщины, проезжают по улицам мимо вокзала, до самой церкви св. Анны, ездят взад и вперед по шоссе, а потом заходят в кафе, пьют там всякие напитки — и все для того, чтоб себя показать, привлечь клиентов.
— Это их хозяин такое придумал. А потом те, у кого есть деньги, ну и, конечно, кому возраст позволяет, заходят в дом у Вилланова и спят с одной из них.
— И в Канелли все женщины такие? — спросил я у Нуто, когда понял что к чему.
— Жаль, но не все, — ответил он. — Не все разъезжают в колясках.
Когда мне было уже шестнадцать-семнадцать, а Нуто вот-вот должны были взять в солдаты, мы по очереди таскали вино из погреба, уходили к реке, днем забирались в камыши, в лунные ночи садились на краю виноградника, потягивали вино прямо из горлышка и говорили о девушках.
В то время мне не верилось, что все женщины скроены на один лад, все ищут мужчин. Видно, так уж должно быть, говорил я, подумав, но меня удивляло, что у всех одно на уме, даже у самых красивых, самых знатных. Я в ту пору был не так уж глуп, о многом наслышан, да и знал и видел, как Ирена и Сильвия гоняются то за тем, то за другим. И все же это меня поражало. Нуто сказал мне тогда:
— А ты что думаешь? Луна для всех светит, дождь идет для каждого, от болезней никому не уберечься. Живи хоть в хлеву, хоть во дворце, а кровь у всех красная.
— Отчего же тогда священник говорит, что это грех?
— По пятницам — грех, — отвечал Нуто, обтирая губы. — Но остается еще шесть дней.
XVIII
Пришло время, и теперь я уже работал, как все, и даже Чирино иной раз прислушивался к моим словам. С дядюшкой Маттео потолковал он сам — сказал, что тот должен назначить мне плату, если хочет, чтоб я оставался в усадьбе и думал об урожае, а не бегал с ребятами разорять гнезда.
Я теперь мотыжил, умел обращаться с серой, ходил за плугом, знал, как управляться со скотиной. Работал старательно. Научился прививать деревья — от того абрикосового дерева, что и теперь еще в саду растет, я сам привил черенок сливе. Однажды дядюшка Маттео позвал меня на веранду, когда там были Сильвия и синьора, и спросил, что сталось с моим Крестным. Сильвия сидела в шезлонге и разглядывала верхушки лип, синьора вязала. Платье на Сильвии красное, сама она черноволосая, чуть пониже Ирены, обе они куда красивей мачехи. Было им тогда лет под двадцать, не меньше. Стоишь, бывало, посреди виноградника, а они разгуливают под зонтиками, и ты глядишь на них, как на два персика, до которых не дотянуться — слишком ветка высока. Когда они приходили собирать вместе с нами виноград, я забирался в ряд к Эмилии и посвистывал, словно мне до них дела нет.
Я ответил, что Крестного с тех самых пор не видел, и спросил у дядюшки Маттео, зачем он меня позвал. Досадно мне было, что у меня и штаны забрызганы медным купоросом, и лицо грязное, — я не ожидал, что застану здесь женщин. Теперь-то мне ясно, что он нарочно меня при них позвал, хотел смутить. Но в ту минуту, чтобы подбодрить себя, я только вспоминал, как Эмилия говорила нам про Сильвию: «Ну, эта! Она без сорочки спит».
— Ты на работу не ленив, — сказал мне в тот день дядюшка Маттео, — как же ты допустил, чтоб Крестный остался без виноградника? Не обидно тебе?
— Ну и мальчики теперь, — сказала синьора, — молоко на губах не обсохло, а уже требуют поденной платы.
Мне хотелось сквозь землю провалиться. Сильвия, сидя в шезлонге, повела глазами и что-то сказала отцу. Потом спросила:
— Поехал кто-нибудь в Канелли за семенами? В Нидо гвоздика уже расцвела.
И никто не сказал ей: «Вот бы сама и поехала». А дядюшка Маттео поглядел на меня и пробормотал:
— Как виноградник? Кончили?
— К вечеру кончим.
— Завтра надо повозки грузить…
— Управляющий сказал, что позаботится…
Дядюшка Маттео снова взглянул на меня и сказал, что я за свою работу получаю еду и кров, с меня и этого хватит.
— Конь доволен, — сказал он мне, — а конь больше тебя работает. Волы и те довольны. Помнишь, Эльвира, каким к нам пришел этот паренек? Ну, воробышек и только. А теперь вон как вытянулся, раздобрел, словно монах. Ты смотри, берегись, — сказал он мне, — не то к рождеству тебя прирежем.
Сильвия спросила:
— Так никто не едет в Канелли?
— Вот его и пошли, — сказала мачеха.
На веранду вбежала Сантина, а следом за ней Эмилия. Сантина была в красных туфельках, у нее были тоненькие светлые волосы. Она не хотела есть кашу. Эмилия пыталась увести ее обратно в дом.
Дядюшка Маттео встал.
— Ну-ка, Санта, Сантина, иди ко мне, я тебя съем.
Я не знал, оставаться мне или уйти, покуда он забавлялся с девочкой. Стекла сверкали чистотой, и вдали, по ту сторону Бельбо, можно было разглядеть Гаминеллу, заросли камыша, берег у нашего дома. Я вспомнил про пять лир, которые выплачивались в мэрии.
И тогда я сказал дядюшке Маттео, который подбрасывал на руках ребенка:
— Так ехать мне завтра в Канелли?
— У нее спроси.
Но Сильвия, перегнувшись через перила, кричала, чтобы ее подождали. У сосны показалась коляска с Иреной и другой девушкой. Какой-то молодой человек вез их на вокзал.
— Возьмите меня в Канелли! — крикнула Сильвия.
Через минуту всех их не стало. Синьора Эльвира ушла в дом с девочкой, а остальные уже хохотали где-то на дороге.
Я сказал дядюшке Маттео:
— Когда-то приют платил за меня пять лир. Только я их не вижу, не знаю, кому они достаются. Но работаю я больше, чем на пять лир… Мне ботинки надо купить.
В тот вечер ко мне счастье пришло, и я рассказал о нем Чирино, Нуто, Эмилии, коню: дядюшка Маттео обещал платить мне в месяц пятьдесят лир и все только мне достанутся. Серафина сказала, что у нее я могу хранить деньги, как в банке:
— Будешь в кармане носить — потеряешь.
Нуто был при этом; он присвистнул и сказал, что лучше два сольдо в кулаке, чем миллион в банке. Потом Эмилия заявила, что ждет от меня подарка, — словом, целый вечер только и разговору было что про мои деньги.
Но Чирино сказал, что теперь, когда я деньги получаю, мне уже придется работать как мужчине. Я не понимал, что изменилось: те же руки, та же спина, по-прежнему Угрем дразнят. Нуто посоветовал мне не слишком задумываться: раз уж мне дают пятьдесят, то, должно быть, работаю я на все сто лир, и еще он спросил, отчего бы мне не купить себе кларнет.
— Нет, играть я не научусь, — ответил я. — Даже пробовать не стоит. Таким уж я на свет родился.
— А ведь так легко, — возразил он.
У меня другое было на уме: мне бы денег накопить и уехать! Но летом я растратил все деньги на празднике, все ушло на ерунду вроде стрельбы в тире. Тогда я купил себе складной нож; он мне нужен был, чтобы стращать ребят из Канелли, которые вечерами поджидали меня на дороге у Сан-Антонио. В те времена стоило парню зачастить на площадь и начать поглядывать на девушек, и местные ребята, обернув кулак платком, уже поджидали его вечером на дороге. А старики рассказывали, что в их времена бывало еще хуже — убивали друг друга, ножами кололи. На дороге у Камо по сей день у обрыва крест — там сбросили в пропасть двоих вместе с повозкой. Но потом обо всем позаботилось правительство, парней примирила политика: в те времена фашисты в сговоре с полицией избивали кого хотели, и тогда все притихли. Старики говорили, что стало спокойнее.
Нуто и в этом разбирался получше меня. Он и тогда везде бывал, с каждым умел поговорить. В ту зиму, когда он нашел себе девчонку в Санта-Анна и стал к ней ходить по ночам, ему никто и слова не сказал, должно быть, оттого, что он в те годы уже начал играть на кларнете, ни с кем не спорил насчет футбола, да и отца его знали повсюду — вот никто его и не трогал, и он знай себе гулял да пошучивал. В Канелли он со многими был знаком, и, стоило ему прослышать, что парни кого-нибудь надумали проучить, он сам к ним шел, ругался, обзывал дурачьем, невеждами, говорил: пусть таким делом занимаются те, кому за это платят. Словом, стыдил их. Говорил, что только собаки кидаются на пришлых собак и хозяин нарочно их стравливает — на то он и хозяин. Не будь они животными, они сговорились бы меж собой и стали бы на хозяина кидаться. Откуда у него такие мысли были, не знаю, должно быть, от отца или от захожих людей. Он говорил: это как война в восемнадцатом — хозяин псов натравил, чтоб глотку друг другу перегрызли, а сам и другие хозяева по-прежнему над всеми командовали. Он говорил: стоит только почитать газеты — не нынешние, а газеты тех лет, — и поймешь, что мир полон хозяев, которые натравливают друг на друга собак.
Помню, Нуто часто говорил про это в ту пору. Тогда, бывало, и не хочешь ни о чем знать, а выйдешь на улицу и видишь в руках у людей газеты с заголовками, которые черней тучи перед бурей.
Теперь, когда у меня завелись первые деньги, мне захотелось узнать, как живут Анжолина, Джулия, Крестный. Только все не удавалось выбраться к ним. Когда в дни сбора урожая люди из Коссано отвозили виноград в Канелли и проходили мимо нас по дороге, я останавливал их, расспрашивал. Как-то мне один из них сказал, что там меня ждут, ждет меня Джулия, помнят там обо мне. Тогда я спросил, как поживают девочки. «Какие девочки, — ответил мне прохожий. — Они уже взрослые. Батрачат, как и ты». Тогда я подумал, что надо непременно сходить в Коссано, но летом все времени не было, а зимой туда нелегко добраться — уж больно дорога плоха.
XIX
В первый же базарный день Чинто пришел в гостиницу «Анжело» за обещанным ножом. Мне сказали, что у входа меня дожидается мальчишка, и я увидел Чинто в праздничном костюме, в башмаках на деревянной подошве. Он стоял и глядел на четверых парней, которые играли в карты.
— Отец на базаре, — сказал он, — пошел мотыгу покупать.
— Тебе денег или нож? — спросил я.
Он пожелал нож. Тогда мы вышли на залитую солнцем площадь, прошли меж рядов с тканями, с арбузами, потолкались среди людей, поглядели на разложенные прямо на земле дерюги с разным инструментом, с крюками, гвоздями, лемехами.
— Увидит твой отец нож, — сказал я, — и отберет. Ты его где спрячешь?
Чинто смеялся, смеялись его безбровые глаза.
— Об отце не беспокойтесь, — сказал он. — Пусть только попробует, я его заколю.
В ряду, где торговали ножами, я сказал ему, чтоб он сам выбрал. Чинто не поверил.
— Давай не тяни, — сказал я. Выбрал он такой ножик, что меня самого зависть взяла: красивый, большой, цвета каштана, с двумя лезвиями на пружинах и штопором.
Потом мы с ним вернулись в гостиницу, и я спросил, не нашел ли он еще карты во рву. Он не выпускал ножа из рук, открывал его, закрывал, проводил лезвием по ладони. Он ответил мне, что не нашел.
Я ему рассказал, как в свое время купил себе такой вот ножик на рынке в Канелли и как он мне пригодился, когда надо было резать прутья. Я заказал ему мятной настойки и, покуда он пил, спросил у него, ездил ли он хоть раз на поезде или в автобусе.
— Что поезд, — ответил он, — мне бы вот на велосипеде прокатиться, только Госто из Мороне говорит, что на велосипеде нельзя из-за ноги, что нужен мотоцикл.
Я стал ему рассказывать, как разъезжал на грузовичке по Калифорнии, и он слушал меня, уже не поглядывая на тех четверых, что играли в карты.
Потом он сказал мне, широко раскрыв глаза:
— А сегодня футбол!
Я хотел было спросить: «И ты не пойдешь?» — но у дверей гостиницы появился совсем почерневший Валино. Чинто услышал его шаги, ощутил его приход еще прежде, чем его увидел, поставил стакан и побежал к отцу. Оба они словно растворились в знойном мареве, нависшем над площадью.
Чего бы я только не отдал, чтобы еще раз увидеть мир глазами Чинто; начать, как он, все сначала, от самой Гаминеллы, пусть даже с таким отцом, пусть даже с такой ногой — только зная все, что я знаю теперь, только умея защищаться.
Во мне не было сострадания, порой я ему даже завидовал. Мне казалось, будто я знаю, какие сны ему снятся по ночам, о чем он думает, когда ковыляет по площади. Я в детстве не хромал, не волочил ногу, но все же с какой тоской я глядел, как по дороге в Кастильоне, в Коссано, в Кампетто на праздник, на ярмарку, в цирк едут шумные повозки с женщинами и детьми, а я оставался с Джулией и Анжолиной в орешнике, в тени смоковницы, у перил мостика, и меня ждал долгий летний вечер, и все то же небо, и все те же виноградники. И ночь напролет я слышал, как по дороге возвращаются люди с песнями, со смехом, как весело окликают они друг друга, переезжая через Бельбо. В такие вечера, глядя на зажженные вдали огни, видя костры на далеких холмах, я готов был в ярости кататься по земле, кричать от боли, от злости, оттого, что я беден, ничтожен, мал. Я ликовал, когда летняя гроза портила людям праздник.
Но, вспоминая об этом теперь, я жалею о тех временах и хотел бы снова стать таким, как тогда.
Я снова хотел бы очутиться на дворе в Море в тот августовский вечер, когда все отправились на праздник в Канелли, когда все уехали, даже Чирино, даже соседи, а мне, у которого были башмаки на деревянной подошве, сказали: «Не идти же тебе босым. Останешься дом сторожить». То был мой первый год на Море, и я не посмел бунтовать. Этого праздника ждали давно: Канелли всегда славился своими праздниками, там ставили намыленный столб с призом на верхушке, бегали наперегонки в мешках, да еще ожидался футбол.
И хозяева с дочерьми поехали, и Эмилия с девочкой; все они отправились в большой коляске; дом был заперт. Я остался один, с собакой и волами. Сначала все стоял у садовой изгороди, глядел, кто проходит по дороге. Все направлялись в Канелли. Завидовал даже нищим и калекам. Потом стал швырять камнями по голубятне, чтоб разбить черепицу, слышал, как осколки ударялись о цементный пол веранды. Потом, желая хоть как-то всем им досадить, я схватил садовый нож и удрал в виноградник. «Вот не буду дом сторожить. Пусть сгорит, пусть его обворуют». Сюда не доносились голоса прохожих, а я чуть не плакал от страха и злости. Гонялся за кузнечиками, ловил их, отрывал им лапки. «Так вам и надо, — говорил я кузнечикам. — Что же вы не отправились на праздник в Канелли?» И во весь голос ругался, перебирая все известные мне бранные слова.
Будь я посмелей, истоптал бы в саду цветы. И все видел перед собой лица Ирены и Сильвии и говорил себе: «Чем они лучше меня?..»
Перед воротами остановилась коляска.
— Есть кто дома? — раздался чей-то голос. В коляске были два офицера из Ниццы-Монферрато, их я уже видел вместе с девушками на веранде. Я затаился под навесом.
— Есть здесь кто? Синьорины! — кричали они. — Синьорина Ирена!
Пес залаял, а я все молчал.
Они уехали, и я испытал чувство облегчения. Тоже хороши, ублюдки, подумал я. Потом зашел в дом, съел кусок хлеба. Погреб был заперт, но на шкафу среди луковиц стояла бутылка доброго вина, я взял ее и выпил до дна, усевшись за клумбой георгин. Голова закружилась, загудела, будто в ней мухи жужжали. Я вернулся в комнату, швырнул бутылку об пол, поближе к шкафу, так, словно бы кот ее уронил, на пол налил воду и отправился спать на сеновал.
Пьян я был до самого вечера; так, пьяный, и волов напоил, сменил им подстилку, сена подбросил. На дороге снова стали появляться люди; стоя за изгородью, я расспрашивал, какой приз был привязан к столбу, был ли и впрямь бег в мешках, кто победил. Люди охотно останавливались — никто со мной прежде не вел таких долгих разговоров. Теперь я и самому себе казался другим и даже жалел, что не поговорил с теми двумя офицерами, не спросил, что им нужно от наших девушек, не узнал, считают ли они их такими, как тех женщин в Канелли.
К тому времени, когда Мора наполнилась народом, я уже знал о празднике столько, что мог поговорить о нем с Чирино, с Эмилией, с кем угодно, словно я и сам там побывал. А за ужином я снова выпил. Большая коляска воротилась поздней ночью, я давно уже спал, и мне снилось, будто я карабкаюсь вверх по голой спине Сильвии, словно по столбу с призом. Я услышал, как Чирино поднялся и пошел отпирать ворота, услышал голоса, хлопанье дверей, тяжелое дыхание коня. Я повернулся на другой бок и подумал: как хорошо, что теперь все на месте. Завтра проснемся, выйдем во двор, и я еще долго буду всех расспрашивать, буду слушать разговоры о празднике.
XX
Прошлые времена хороши были уж тем, что все совершалось в свой черед и у каждого времени года были свои обычаи, свои радости. Все зависело от работ на полях, от урожая, от того, дождь на дворе или солнце. Осенью мы возвращались на кухню в деревянных башмаках с прилипшими комьями грязи; походишь с рассвета за плугом, а к вечеру спина гудит и руки в ссадинах. Но вот со вспашкой покончено, тут и до снега недолго. И настает сплошное воскресенье — мы часами жуем жареные каштаны, ходим на посиделки, болтаем о всякой всячине, а работа — разве что в хлев иной раз приходится заглянуть. Помню последние дни зимних работ, помню «собачьи дни» — так называют в наших местах холодную январскую пору. Мы жгли на полях кучи черной, отсыревшей листвы и очистки кукурузы; их дым предвещал посиделки, веселые ночи, хорошую погоду.
Зима была лучшим временем моей дружбы с Нуто. Он стал уже совсем взрослым парнем. Он играл на кларнете: летом шатался повсюду, его взяли в оркестр на вокзале; только зимой он всегда был поблизости, и я с ним встречался у него дома, на Море, на дворах соседних усадеб. Он приходил в светло-зеленой фуфайке, надвинув на лоб кепку велосипедиста, и рассказывал всякие истории: то где-то придумали машину, чтобы подсчитывать, сколько на дереве груш, то в Канелли объявились воры и ночью утащили будку общественной уборной, а вот один крестьянин из Калоссо, уходя из дому, надевал своим детям намордники, чтоб те не перекусали друг друга. Чего он только не знал! Что в Кассинаско живет человек, который, распродав виноград, раскладывает банкноты по сто лир на коврике из камыша, а по утрам просушивает их на солнце, чтобы не испортились. А другой чудак, из Кумини, у которого грыжа величиной с тыкву, решил, что это вымя выросло, и попросил жену его подоить. Или вот что приключилось с двумя обжорами: объелись козлятиной и на тебе — один потом скакал и блеял, а второй бодался, словно у него рога выросли. Нуто рассказывал о невестах, о расстроившихся свадьбах, о крестьянских домах, где в подвале находили покойника.
С осени по январь детишки играют в шарики, а взрослые в карты. Нуто знал все игры, по больше всего любил показывать фокусы, вытаскивать загаданную карту из колоды или находить ее у кролика за ухом. Он приходил утром, заставал меня на току, где я грелся на солнышке, ломал надвое сигарету, мы с ним закуривали, и он говорил:
— Пойдем взглянем, что там у вас на чердаке.
Мы забирались в башенку голубятни, что под самой крышей, поднимались туда по крутой лесенке и сидели согнувшись в три погибели. Там стоял старый сундук, валялись пришедшие в негодность рессоры, всяческое старье, пучки конского волоса; круглое оконце, глядевшее на холм Сальто, напоминало окошки нашего дома в Гаминелле. Нуто рылся в сундуке — в нем хранились истрепанные книги с пожелтевшими, точно покрытыми ржавчиной, страницами, тетради для записи расходов, порванные картинки. Он перебирал эти книги, стирал с них плесень, казалось, от одного прикосновения к ним стыли руки. Это все осталось от деда — отца дядюшки Маттео, который учился в Альбе. Были там и книги, написанные по-латыни, был молитвенник, книги про мавров, про диковинных зверей — из них я узнал о слонах, о львах и о китах. Нуто отбирал себе книжку и тащил домой, запрятав под фуфайку.
— Здесь они, — говорил он, — все равно никому не нужны.
— Зачем они тебе? — спросил я как-то. — Ведь у вас и без того выписывают газету.
— То газета, а это — книги, — ответил он. — Читай сколько можешь. Не будешь читать — так и останешься нищим и темным.
Проходя по лестничной площадке, мы слышали игру Ирены; теплым солнечным утром она открывала застекленную дверь, и тогда музыка слышна была на веранде и под липами.
Меня поражало, как поет под ее белыми длинными тонкими пальцами эта большая черная штука, как она вдруг громыхает, да так, что стекла дрожат. Послушать Нуто — выходило, что играет она хорошо. Музыке ее с детских лет учили в Альбе. А вот Сильвия — та только и умела, что колотить по клавишам и петь фальшивым голосом. Сильвия была моложе сестры на год или на два, по лестнице они поднимались бегом, в тот год Сильвия каталась на велосипеде, и сын начальника станции поддерживал ее, когда она усаживалась в седло.
Стоило мне услышать пианино, и я принимался разглядывать свои руки. Ясно было, что от меня до господ и вообще до таких женщин дальше, чем до луны. Да и теперь, хоть я уже двадцать лет не занимаюсь грубой работой и ставлю свою подпись под важными письмами, стоит мне взглянуть на свои руки, и сразу видно, что я так и не стал синьором, каждый догадается, что я работал мотыгой. Но теперь я знаю, что даже женщины этому значения не придают.
Нуто сказал Ирене, что она играет, как настоящая артистка, и он готов ее слушать с утра до вечера. Тогда Ирена позвала его на веранду (я тоже отправился с ним) и, открыв стеклянную дверь, играла самые трудные, по-настоящему красивые вещи; звуки наполняли весь дом и, должно быть, доносились до самого дальнего виноградника, выходившего на дорогу. Нуто слушал, выпятив губы, словно готов был вот-вот заиграть на кларнете, а я заглядывал в комнату, видел цветы, зеркала, прямую спину Ирены, ее напряженные руки, ее светлую головку, склонившуюся к нотам. Ну и нравилась же она мне, черт возьми!.. И еще я видел перед собой холм, виноградники, берег. Да, это тебе не оркестр на ярмарке — эта музыка говорит о другом, она создана не для Гаминеллы, не для деревьев на берегу Бельбо, она не для нас. Вдали, по дороге из усадьбы Сальто в Канелли, краснел среди платанов замок Нидо. Вот для этого замка, для господ из Канелли музыка Ирены была в самый раз, им она подходила.
— Нет! — вдруг крикнул Нуто. — Ошибка!
Ирена быстро поправилась и продолжала играть, только, слегка покраснев, взглянула на него и засмеялась. Потом Нуто вошел в комнату, перевернул поты, заспорил с ней, и снова Ирена стала играть. Я сидел на веранде и все глядел в сторону замка Нидо, в сторону Канелли.
Нет, не для меня и даже не для Нуто эти дочери дядюшки Маттео. Они богаты, они слишком стройны и красивы. Им водиться с офицерами, с господами, с землемерами, да и вообще с теми, кто постарше нас. Когда вечерами мы сидели с Эмилией, с Чирино, с Серафиной, кто-нибудь из них рассказывал, с кем теперь прогуливается Сильвия, кому шлет записочки Ирена, кто провожал их вчера вечером. И еще поговаривали, что мачеха не хочет выдавать их замуж, не хочет, чтоб они растащили имение по частям, пусть у ее Сантины приданого будет побольше.
— Ну да, попробуй удержать дома двух таких девушек, — отвечал управляющий.
Я помалкивал; летними вечерами, сидя на берегу Бельбо, я думал о Сильвии. О белокурой красавице Ирене и мечтать не смел. Однажды Ирена привела Сантину поиграть на песочке у реки. Никого там, кроме меня, не было, и я увидел, как Ирена с девочкой подбежали к воде и остановились у самого края. Я укрылся за кустом бузины. Сантина кричала, показывая что-то на том берегу. Тогда Ирена положила под куст книгу, нагнулась, сняла туфли и чулки. Приподняв юбку до колен, она ступила в воду своими белыми ногами, ее золотые волосы падали на плечи. Медленно и осторожно шагая, переходила она реку вброд. Потом крикнула Сантине, чтобы она сидела спокойно, а сама стала рвать кувшинки. Я все отлично помню, словно вчера это было.
XXI
Через несколько лет в Генуе, где я служил в солдатах, мне повстречалась девушка, похожая на Сильвию, смуглая, как она, только чуть полнее и похитрей. Ей было тогда столько же, сколько Сильвин и Ирене в тот год, когда я пришел на Мору. Я служил денщиком у полковника, который жил в маленьком домике у моря. Он взял меня к себе, чтоб ухаживать за садом. Я работал в саду, топил печи, подогревал воду для ванной, помогал на кухне. Тереза служила у него горничной и все дразнила меня за мой деревенский говор. А я и в денщики-то пошел, чтоб держаться подальше от сержантов, которые смеялись над каждым моим словом. Я глядел ей прямо в глаза — такая у меня была привычка, — глядел и молчал. А сам прислушивался к тому, что люди говорят, все больше помалкивал и что ни день чему-нибудь учился.
Тереза хохотала и спрашивала, не завел ли я девушку, чтобы стирать свои рубахи.
— Не в Генуе, — отвечал я. — Завел, да не здесь.
Тогда она решила выяснить: значит, я беру с собой сверток с бельем, когда получаю увольнение?.
— В деревню я не вернусь, — говорил я. — Хочу остаться здесь, в Генуе.
— А девушка?
— Наплевать, — говорю, — девушки и в Генуе есть.
А она хохочет, надо ей выяснить, какая она, эта девушка. Тут уж и я смеюсь, отвечаю, что, мол, сам пока не знаю.
Когда она стала моей и я по ночам поднимался в ее каморку, она часто спрашивала то в шутку, то всерьез, что я намерен делать в Генуе без ремесла и почему не хочу вернуться домой.
Потому что здесь ты, мог бы я ответить. Но врать было не к чему, мы и без того лежали с ней в обнимку. Я мог бы сказать ей, что и Генуи для меня мало, что в Генуе бывал и Нуто, что все здесь побывали, что Генуя мне осточертела и я хотел бы отправиться подальше. Но скажи я ей это, она бы разозлилась, стала бы ругаться, говорить, что я не лучше других. Другие, объяснил я ей как-то, в Генуе остаются охотно, нарочно сюда едут. У меня есть ремесло, только здесь, в Генуе, оно ни к чему. Мне нужно отправиться в такое место, где мое ремесло приносит доход. Только подальше, туда, где никто из моей деревни не побывал.
Тереза знала, что у меня нет ни отца, ни матери, и все спрашивала, почему я не пробую их разыскать, не хочу ли я хоть свою мать найти.
— Должно быть, кровь у тебя бродяжья, — говорила она. — Ты, должно быть, цыган, вот и волосы у тебя курчавые…
Эмилия — это она прозвала меня Угрем — всегда говорила, что отец у меня акробат с ярмарки, а мать — коза с горы Ланга. Я смеялся, отвечал, что родился от попа. А Нуто уже тогда спрашивал: «Зачем ты так говоришь?» — «Затем, что растет негодяем», — заявляла Эмилия. Тогда Нуто кричал, что никто не рождается негодным, злым, преступным; все люди рождаются равными; человек становится плохим только оттого, что с ним плохо обращаются. Я возражал: «Возьми дурачка Танолу — он таким и родился». — «Дурак — еще не значит злой, — отвечал Нуто. — Невежды его дразнят, оттого он и злится».
Обо всем этом я задумывался, лишь когда бывал с женщиной. Через несколько лет — уже в Америке — я убедился, что там все без роду, без племени. Я жил тогда в Фресно, и в моей постели перебывало немало женщин, а я так ни разу и не понял, где у них отец с матерью, где их земля. Они жили одиноко, работали кто на консервной фабрике, кто в конторе. Розанна была учительницей, хотя приехала в Фресно с рекомендательным письмом в киножурнал, приехала бог знает откуда, из какого-то штата, где выращивали пшеницу. Мне она так ничего и не рассказала про свою прежнюю жизнь. Только говорила, что пришлось ей трудно — a hell of a time[36]. Может, оттого и был у нее такой голос — хрипловатый, срывающийся на фальцет. Верно, и здесь, особенно на холме, где новые дома, люди жили большими семьями; летними вечерами перед фермами, перед заводами фруктовых соков слышен был шум и гам; в воздухе плыл тот же запах виноградника и винных ягод, мальчишки и девчонки шайками носились по улицам и аллеям, но все это были семейства армян, мексиканцев, итальянцев, казалось, они только что сюда прибыли, и на земле они работали равнодушно, как мусорщики на городской мостовой, ночевали и развлекались они в городе. И никто никогда не спрашивал, откуда ты родом, кто твой отец, кто дед. И настоящих деревенских девушек здесь не было. Даже те, что жили в долине, не понимали, что значит ходить за козой, не знали запахов реки. Они мчались в машинах, гоняли на велосипедах, ездили в поездах, на поля отправлялись, как в контору. Всю работу делали бригадами, даже праздничную повозку для шествия в день сбора винограда снаряжали бригадой.
В те месяцы, что Розанна была со мной, я понял, что она и впрямь без роду, без племени, что вся ее сила в длинных ногах, что ее старики могли жить где-то там в своем хлебном штате, но для нее лишь одно было важно — заставить меня поехать с ней на побережье, открыть там итальянский ресторанчик с беседкой, увитой виноградом, — a fancy place, you know [37], а там уж не зевать и добиться, чтоб ее фото попало в иллюстрированный журнал, — only gimme a break, baby[38]. Она готова была сниматься хоть голой, хоть ноги задрав, лишь бы добиться своего и стать известной. Не знаю, что ей в голову взбрело, отчего она решила, что я могу быть ей полезен; когда я спрашивал ее, почему она спит со мной, она смеялась и отвечала, что, в конце концов, я мужчина (Put it the other way round, you come with me because I’m a girl)[39]. И дурой ее не назовешь — знала она, что хотела, только в том беда ее, что хотела она невозможного. Она не брала в рот ни капли спиртного (your looks, you know, are your only free advertising agent[40]), но именно она, когда отменили сухой закон, посоветовала мне производить prohibition-time gin [41] — напиток подпольных времен для тех, кто не утратил к нему вкус, а таких было немало.
Высокая, стройная блондинка, она то и дело разглаживала свои морщины, без конца причесывалась.
Глядя, как она выходит из ворот школы, человек посторонний мог бы принять ее за беспечную школьницу. Не знаю, чему она там учила ребят, только они приветствовали ее свистом и подбрасывали в воздух кепки.
Поначалу я старался говорить с ней как можно тише и при этом прятал руки подальше. Она при первом же знакомстве спросила, почему я не принимаю американское гражданство. Я проворчал в ответ: оттого, что я не американец, because I’m a wop[42]; тогда она рассмеялась и ответила, что американцем человека делают доллары и голова на плечах. Чего тебе недостает? Долларов или головы? Я не раз задумывался, какие у нас могли бы быть дети. У нее гладкие, твердые бедра, живот с золотистым пушком, она вскормлена на молоке и апельсиновом соке, а у меня густая темная кровь. Оба мы бог знает откуда, только дети дали бы нам узнать, кто мы на самом деле, что у нас в крови. Хорошо бы, думал я, если б мой сын походил на моего отца, на моего деда, тогда бы я наконец увидел, каков я сам. Розанна согласна была и сына мне родить, если только я с ней поеду на побережье. Но я удержался, не захотел: от такой мамы и от меня родится разве что еще один ублюдок — американский парнишка. Я уж тогда знал, что вернусь домой.
Розанна, покуда жила со мной, ничего не добилась. Летом мы по воскресеньям ездили с ней на машине к морю купаться, она разгуливала по пляжу в сандалиях и в купальном костюме, потягивала напитки, сидя в кресле-качалке — она лежала в нем, как у меня в постели. Я смеялся, только уж не знаю над кем. И все же мне эта женщина нравилась, как порой по утрам нравится запах воздуха, как нравится трогать руками свежие фрукты на уличных лотках итальянцев.
Однажды вечером она сказала мне, что возвращается к своим. Я растерялся — никогда не думал, что она способна на такой поступок. Стал у нее расспрашивать, надолго ли, но она уставилась на свои колени — мы сидели рядом в машине — и сказала, что я не должен ей ничего говорить, что все уже решено и она возвращается к своим навсегда. Я спросил, когда она думает ехать.
— Хоть завтра. Any time[43].
По дороге к ее пансиону я сказал, что мы все еще можем поправить, можем пожениться. Она улыбнулась, не подымая глаз, сморщила лоб, но не мешала мне говорить.
— Я думала об этом, — сказала она мне своим хрипловатым голосом. — Бесполезно. Я проиграла. I’ve lost my battle[44].
Но к своим она не вернулась, отправилась снова на побережье. В иллюстрированных журналах так и не появилось ее фото. Через несколько месяцев она прислала мне открытку из Санта-Моники — просила денег. Деньги я послал, но она не ответила. Больше я о ней ничего не слышал.
XXII
В те годы, что я бродил по свету, немало у меня было женщин — и блондинок, и брюнеток; сам их повсюду искал, немало на них денег перевел. Теперь, когда молодость ушла, они меня ищут, но, впрочем, не в этом дело. Теперь я понял, что дочери дядюшки Маттео не такие уж были красавицы — разве что Сантина, но ту я взрослой не видел. Они расцветали, подобно георгинам, диким розам, подобно тем цветам, что растут в саду под фруктовыми деревьями. И не так уж умели они свою жизнь наладить — ни игра на фортепьяно, ни чтение романов, ни сервированный чай, ни прогулки под зонтиками не помогли им стать настоящими синьорами, подчинить себе мужчину и дом. Здесь, в нашей долине, немало крестьянок, которые лучше них управляются со своими делами и еще другими командуют. А Ирена и Сильвия были ни то ни се — ни крестьянки, ни синьоры, тяжко пришлось им, бедняжкам. И обе погибли.
Эту их слабость я понял, а лучше сказать — почувствовал в один из первых сборов винограда на Море. В то лето, где бы ты ни был, на дворе или на усадьбе, стоило поднять глаза, взглянуть на веранду, на застекленную дверь, на кувшины с вином — и сразу вспомнишь: они здесь хозяйки, они со своей мачехой и ее девчонкой; даже дядюшка Маттео не может войти в комнату, не вытерев ноги о коврик перед дверью. Потом, бывало, слышишь их голоса в верхних комнатах, запрягаешь для них, видишь, как они выходят из стеклянной двери, прогуливаются на солнце под зонтиками и так хорошо одеты, что даже Эмилия словечка дурного сказать не могла. По утрам Сильвия или Ирена спускались во двор, проходили между мотыг, повозок, мимо скотины и шли в сад за розами. А иногда они обе выходили в поле, гуляли по тропинкам в туфельках, о чем-то толковали с Серафиной, с управляющим, собирали в красивые корзиночки скороспелый виноград.
Помню вечер, помню ночь на Ивана Купалу — урожай был уж собран, повсюду горели костры. Тогда они вышли во двор подышать прохладой, послушать, как девушки поют. А потом и на кухне, и за работой в винограднике чего я только про них не наслушался — и на фортепьяно они играют, и книги читают, и подушечки вышивают, и в церкви у них своя скамья с именем на латунной дощечке. Но вот в дни, когда мы готовили корзины и чаны, убирали винный погреб и сам дядюшка Маттео расхаживал по винограднику, в те самые дни мы от Эмилии узнали, что в доме все пошло кувырком, что Сильвия хлопает дверьми, а Ирена садится к столу с красными от слез глазами и ничего не ест. Я не мог себе представить, что есть на свете что-либо, кроме сбора винограда и радостей, которые приносит урожай, — подумать только, все это для них, чтоб наполнить их винные погреба, набить для них же деньгами карманы дядюшки Маттео! Вечером, когда мы все сидели на бревнышке, Эмилия нам рассказала — вся кутерьма из-за замка Нидо.
Старуха — графиня из Генуи — вот уж недели две как вернулась в свой замок Нидо с морских купаний вместе со всеми невестками и внуками. Теперь она разослала приглашения в Канелли, на станцию — будет праздник под платанами, — а про усадьбу в Море, про наших девушек, про синьору Эльвиру графиня забыла.
Забыла? А может, нарочно не позвала? И теперь три женщины не давали дядюшке Маттео ни минуты покоя. Эмилия говорила, что в этом доме разумней всех вела себя девчонка Сантина.
— Я им ничего плохого не сделала, — добавляла Эмилия. — А тут то одна закричит, то другая вскочит, то третья хлопнет дверью. Словно их муха укусила.
Потом настали дни сбора винограда, и больше я про них не вспоминал. Но у меня на многое открылись глаза. Значит, Ирена и Сильвия такие же люди, как мы. Значит, стоит их только обидеть, и они сердятся, злятся, страдают, хотят того, чего у них нет. Значит, не всем господам одна цена, те, что поважней, побогаче, могут и не позвать к себе моих хозяек. Тут я призадумался: какие же в Нидо должны быть комнаты, какой сад подле этого старинного замка, раз уж Ирена и Сильвия умирают от желания туда попасть и ничего не могут добиться?
О Нидо мы знали только со слов Томмазино и кое-кого из прислуги, потому что весь тот склон холма был огорожен и река отделяла его от наших виноградников. Туда и охотникам ходу не было — висит дощечка с запретом. Если стать на дороге, пониже замка, и поднять голову, видны густые заросли диковинного бамбука. Томмазино рассказывал, что там парк, что аллеи вокруг дома усыпаны гравием, только помельче и побелей того, которым дорожный сторож весной посыпает шоссе. А угодья владельцев Нидо начинались сразу за замком, виноград и пшеница, пшеница и виноград, сыроварни, ореховые рощи, вишневые сады, миндаль, и так до самого Сан-Антонио и еще дальше, а в Канелли у них были свои рыбные садки с бетонными стенками, с цветниками по краям.
Какие в Нидо цветы, я понял в прошлом году, когда Ирена и синьора Эльвира отправились туда вдвоем и вернулись вот с такими букетами — они казались красивей церковных витражей и праздничного облачения священника. В тот год на дороге в Канелли кое-кто видел и коляску самой старухи — хозяйки замка. Нуто ее видел и говорил, что кучер Моретто ни дать ни взять карабинер, при белом галстуке и в блестящей шляпе. К нам эта коляска не заезжала никогда, только как-то раз проехала мимо, по дороге на станцию. К мессе старуха тоже ездила в Канелли. А наши старики говорили, что в прежние времена, когда старухи здесь еще и не было, господа из Нидо не ходили слушать мессу в церковь: у них служба была на дому, держали своего священника, и тот каждый день служил мессу в особой комнате. Но это все в те времена, когда старуха была никому неизвестной девчонкой и крутила в Генуе любовь с сыном графа. Потом она стала хозяйкой всего, сын графа умер, умер и тот красавчик офицер, которого старуха женила на себе во Франции, и бог знает где поумирали их сыновья, а теперь седая старуха, всегда с желтым зонтиком, ездила в коляске в Канелли, держала при себе внуков, кормила их и поила. Но в те времена, когда жив был сын графа, и потом, когда жив был французский офицер, в Нидо по ночам горели огни, в Нидо был бесконечный праздник, и графиня, тогда еще молодая и свежая как роза, закатывала обеды, балы, приглашала гостей из Ниццы, из Алессандрии. Приезжали красивые женщины, офицеры, депутаты в колясках, запряженных парой лошадей, со своими слугами. Приезжали, играли в карты, ели мороженое, наслаждались жизнью.
Ирена и Сильвия знали об этом. Для них обрести расположение старухи, получить от нее приглашение на праздник — все равно что для меня заглянуть на миг с веранды в комнату с фортепьяно или увидеть, как хозяйки сидят за столом на верхнем этаже, а Эмилия носится туда-обратно с кушаньями.
Только они женщины, потому и страдают. Да еще день-деньской торчат на веранде или слоняются по саду, а работы, дела настоящего у них нет, даже с Сантиной не поиграют. Понятно, они сходят с ума от желания уехать, погулять по парку с платанами, очутиться среди невесток и внуков графини. Для них это — что для меня увидеть костер на холме Кассинаско или ночью услышать гудок паровоза.
XXIII
Потом настала пора, когда с раннего утра среди рощ на берегу Бельбо и на каменистом плоскогорье звучали выстрелы и Чирино то и дело уверял, что видел, как по борозде пробежал заяц. Это лучшие дни в году. Сбор винограда, очистку кукурузы, выжимку сока даже за работу нельзя считать; жары больше нет, а холода еще не пришли; на небе разве что светлое облачко; к обеду дают крольчатину с полентой, и все мы ходим по грибы.
Мы собирали грибы недалеко от дома; Ирена и Сильвия со своими подружками из Канелли и знакомыми молодыми людьми сговорились отправиться по грибы к самому Альяно. Уехали они рано, когда на лугах еще стоял туман — я сам запрягал им лошадь, — с остальными они должны были встретиться на площади в Канелли. Правил сын доктора со станции, тот, что в тире всегда попадал в самое яблочко и ночи напролет играл в карты. В тот день была большая гроза, с громом и молнией, как в середине августа; Чирино и Серафина говорили: хорошо, что град теперь пошел, а не две недели назад, когда урожай был на полях, не беда, если грибы побьет. Проливной дождь не утих и к ночи. Дядюшка Маттео встревожился и, закутавшись в плащ, пришел к нам с фонарем в руке, разбудил, велел прислушиваться — не едет ли коляска. В верхних окнах горел свет: Эмилия бегала по дому, готовила кофе, Сантина ныла, что ее не взяли собирать грибы.
Коляска вернулась лишь на следующее утро, докторский сын размахивал кнутом и кричал: «Да здравствуют источники Альяно!» Он лихо соскочил с коляски, не коснувшись подножки. Потом помог выйти девушкам; они продрогли, обвязались платками, на коленях держали пустые корзинки. Все поднялись наверх; я слышал, как они забегали по дому, чтобы согреться, слышал их болтовню и смех.
После этой поездки в Альяно докторский сынок Артуро частенько проходил по дороге мимо веранды, здоровался с девушками, заводил с ними разговоры. В зимние дни его стали приглашать в дом, тогда он отряхивал хлыстиком свои охотничьи сапоги, оглядывался по сторонам, срывал цветок или ветку с дерева, а то и просто красный виноградный лист и быстро поднимался по застекленной лестнице. А наверху в камине весело пылал огонь, и до самого вечера оттуда доносился смех, игра на фортепьяно. Бывало, этот Артуро оставался обедать. Эмилия рассказывала, что его угощали и чаем с печеньем, подавала ему всегда Сильвия, ну а сам он все больше заглядывался на Ирену. А та, милая, светловолосая, садилась за фортепьяно, только чтоб с ним не разговаривать. Сильвия устраивалась поудобней на диване, и они болтали о всякой ерунде. Потом открывалась дверь, синьора Эльвира быстро загоняла в комнату Сантину. Артуро вскакивал, сдержанно здоровался, синьора говорила: «У нас есть еще одна ревнивая барышня, она тоже хочет, чтобы ее представили». Потом приходил дядюшка Маттео, который терпеть не мог Артуро, хотя синьора Эльвира его всячески обхаживала и считала, что для Ирены и такой сойдет. Но сама Ирена его не хотела, говорила, что он человек фальшивый — музыку он и не слушает, с Сантиной возится, лишь бы умаслить мачеху, да и за столом держать себя не умеет. А Сильвия вспыхивала и принималась его защищать; спорили они чуть не до крика, пока Ирена, взяв себя в руки, не говорила холодно;
— Я его тебе оставляю. Почему ты его не берешь?
— Вышвырните вы его из дому, — твердил дядюшка Маттео. — Мужчина, который играет в карты и не имеет ни клочка земли, — это вообще не мужчина.
К концу зимы Артуро стал таскать с собой приятеля, служащего со станции — высоченного парня, который тоже начал приударять за Иреной. По-французски он не говорил, зато в музыке толк понимал; этот верзила стал играть с Иреной в четыре руки, и раз уж так выходило, что они составляли пару, то Артуро и Сильвия танцевали в обнимку, хохотали, а когда приводили Сантину, они подбрасывали ее кверху, и верзиле приходилось ее ловить.
— Не будь он тосканец, — говорил дядюшка Маттео, — я бы сказал, что он просто невежа. И вид у него такой… Был с нами один тосканец в Триполи…
Я знал, как выглядит их комната: на фортепьяно два букета и красные листья винограда, на окнах занавески, вышитые Иреной, над столом лампа из прозрачного мрамора, льющая мягкий серебристый свет, точно лунные блики на воде. В иной вечер все они одевались потеплей и выходили на веранду. Мужчины курили сигары; укрывшись за кустом винограда, можно было слышать их разговоры.
Приходил послушать и Нуто. Забавно было, когда Артуро изображал из себя лихого молодца и рассказывал, скольких парней он накануне сбросил с поезда в Костильоле и как он проигрался в Акви и поставил на последнее — так, чтоб и домой не возвращаться, если проиграет, а на самом деле выиграл и даже заплатил за ужин для всех. Тосканец говорил:
— Помнишь, как ты его кулаком?..
И Артуро рассказывал про то, как он кого-то кулаком…
Девушки ахали. Тосканец стоял возле Ирены и рассказывал ей о своем доме, о том, как он играл на органе в церкви. Потом сигары вдруг падали в снег, прямо к нашим ногам, и тогда сверху доносился шепот, шорохи, глубокие вздохи. А поднимешь глаза — и видишь только высохшую лозу да холодные звездочки в небе. Нуто сквозь зубы цедил: «Бродяги…»
А я все думал о них, расспрашивал Эмилию и не мог понять, кто с кем крутит. Дядюшка Маттео ворчал только насчет Ирены и докторского сынка, обещал со дня на день все ему сказать напрямик. Синьора Эльвира дулась. Ирена пожимала плечами и говорила, что такого грубияна, как Артуро, она не взяла бы и в слуги, но только ничего не может поделать, раз уж он повадился их навещать. Тогда Сильвия заявляла, что тосканец просто дурак. И синьора Эльвира опять обижалась.
У Ирены с тосканцем выйти ничего не могло, потому что Артуро не сводил с нее глаз и командовал своим приятелем. Значит, Артуро ухаживал за обеими и рассчитывал на Ирену, но покуда развлекался с Сильвией. Надо было только дождаться лета и пойти за ними следом на луг — тогда все прояснится.
Но тут дядюшка Маттео взял за бока этого Артуро.
Мы обо всем узнали от Ланцоне, когда тот заглянул под навес. Дядюшка Маттео для начала сказал Артуро, что женщины есть женщины, а мужчины есть мужчины.
— Разве не так? — спросил он.
Артуро уже успел приготовить свой букетик, похлопывал хлыстиком по сапогу, нюхал цветочки и косо глядел на хозяина.
— Тем не менее, — продолжал дядюшка Маттео, — женщины, когда они хорошо воспитаны, знают, кто им подходит. А тебя, — сказал он, — тебя они не хотят. Понял?
Тут Артуро принялся что-то бормотать: дескать, его просто просили заходить, понятно, что мужчина…
— Ты не мужчина, — сказал тогда дядюшка Маттео, — ты — пачкун.
Так вроде и кончилась история с Артуро, а вместе с ней кончились и посещения тосканца. Но мачеха не успела как следует обидеться, потому что скоро появились другие, поопасней этих. Много их перебывало. Например, те два офицера, что приезжали, когда я один оставался на Море. В июне, кажется — да, в июне, тогда светлячки были, — они что ни вечер приходили из Канелли. Должно быть, по пути они заходили к другим женщинам, потому что никогда не появлялись прямо на дороге, а переходили Бельбо по мостику, потом шли кукурузным полем и лугом. Мне тогда было шестнадцать, и я кое в чем уже начинал разбираться. Этих невзлюбил Чирино, потому что они топтали люцерну, а еще потому, что он помнил, какими сволочами оказывались в войну такие офицерики. Однажды мы над ними зло подшутили — тайком натянули проволоку поперек тропинки на лугу. Они перескочили через канаву и мчались, предвкушая радость встречи с барышнями, но наткнулись на проволоку и полетели кувырком, прямо носом в землю. Лучше всего, конечно, было бы заставить их вываляться в навозе, но после того вечера они больше не ходили лугом.
Когда стало тепло, Сильвию уже ничто не могло удержать. Летними вечерами девушки уходили за ворота усадьбы и прогуливались со своими кавалерами по дороге. Мы напрягали слух, когда они проходили под липами. Выходили они вчетвером, а возвращались парами. Сначала Сильвия шла под руку с Иреной, и они смеялись, шутили с теми двумя. А когда шли назад, Сильвия прижималась к мужчине и о чем-то шепталась с ним под пахучими липами. Ирена со своим кавалером шли позади, они ничего такого себе не позволяли, не секретничали, даже время от времени окликали другую пару. Хорошо я запомнил эти вечера, и как все мы сидели на бревнышке, и как сильно пахли тогда липы.
XXIV
На маленькую Санту — ей тогда было годика три-четыре — любо было поглядеть. Волосики золотые, точь-в-точь как у Ирены, глаза черные, как у Сильвии, но стоило ей разозлиться — и она кусала себе пальцы с досады, ломала цветы, а не то вдруг требовала, чтобы ее во что бы то ни стало посадили на лошадь, да еще брыкалась. Вот мы и говорили — в мать пошла. Дядюшка Маттео и дочки его поспокойней, они так не командовали. Особенно спокойной казалась Ирена: высокая, всегда во всем белом, никогда не выходит из себя, не злится, всегда вежлива, даже Эмилии и всем нам говорит «пожалуйста» и глядит прямо в глаза, но взгляд у нее озорной, горячий. В последний свой год на Море я получал пятьдесят лир и по праздникам надевал галстук, но понимал, что мне за ними не поспеть и я ничего не смогу добиться.
Но и в те последние годы я бы и думать не посмел об Ирене. И Нуто о ней не думал, он в то время уже играл повсюду на кларнете и завел себе девушку в Канелли. Об Ирене поговаривали, что ей по душе пришелся кто-то из Канелли. Сестры часто туда ездили, делали покупки, потом дарили Эмилии свои старые платья. В замке Нидо начали принимать гостей, однажды туда позвали на ужин и синьору с дочерьми; в тот день к ним приезжала портниха из Канелли. Я довез их на коляске до последнего поворота и слышал их разговоры о том, какие в Генуе дворцы. Мне они велели вернуться за ними в полночь, сказали, чтоб я въехал прямо во двор — в темноте гости не разглядят, как потрескалась кожа на подушках коляски. Еще велели мне для приличия надеть галстук.
Но в полночь, когда я подъехал к замку и поставил коляску рядом с другими, они не появились, и я долго ждал под платанами. Отсюда замок казался огромным, в распахнутых окнах мелькали тени гостей. Когда мне наскучили сверчки — здесь, в горах, оказывается, тоже были сверчки, — я слез с коляски и подошел к двери. В первом зале я увидел девушку в белом переднике, она только взглянула на меня и куда-то убежала. Потом вернулась и спросила, чего мне надобно. Тогда я сказал, что коляска из Моры подана.
Дверь распахнулась, и я услышал смех. В этом зале двери были расписаны цветами, пол выложен мозаикой.
Снова вошла девушка и сказала, что я могу ехать обратно — моих хозяек отвезут.
Вышел я, и стало мне досадно, что не разглядел как следует зал, где было красивей, чем в церкви. Я взял под уздцы коня и повел его по хрустящему гравию дороги, что вилась среди платанов. По пути разглядывал деревья — роща вроде небольшая, но каждый платан как большой шатер. У самой ограды я закурил, а потом коляска медленно покатила вниз, мимо бамбука вперемежку с акацией, мимо совсем незнакомых мне деревьев. Я думал о том, как все на земле любопытно устроено и сколько на свете разных растений.
Должно быть, Ирена завела себе в замке кавалера — сколько раз я слышал, как Сильвия ее дразнила «госпожой графиней». Вскоре Эмилия узнала, что кавалер ей попался совсем никудышный — один из тех внуков, которых старуха нарочно держала от себя подальше, чтоб они не проели все ее добро. Этот внучек, этот графчик никчемушный, так и не удостоил Мору своим посещением, лишь изредка босоногий мальчишка с фермы Берта таскал от него записки к Ирене — дескать, ждет он ее на прогулку. Ирена шла.
Я поливал фасоль в огороде, подвязывал растения и слушал, о чем толковали Сильвия с Иреной, сидя под магнолией.
Ирена говорила:
— Что же ты хочешь? Графиня к нему очень привязана… Не может же молодой человек из такой семьи ходить на танцы к вокзалу, встречаться с собственными слугами…
— Что ж тут дурного?.. Ведь дома он с ними что ни день встречается…
— Она его и на охоту не пускает. Довольно, что его отец умер такой трагической смертью…
— И все же к тебе он мог бы прийти. Почему он не приходит? — спрашивала Сильвия.
— Твой тоже сюда не приходит. Почему?.. Берегись, Сильвия. Ты уверена, что он тебе не лжет?
— А кто правду говорит? Рехнешься, если станешь о правде думать. Только смотри не говори с ним об этом…
— Дело твое, — отвечала Ирена, — ты ему веришь… Я только хотела бы, чтоб он не оказался таким грубияном, как тот…
Сильвия тихо смеялась. Я не мог все время неподвижно стоять за грядкой фасоли, они бы заметили. Я орудовал мотыгой, а потом снова прислушивался.
Как-то Ирена сказала:
— Ты думаешь, он нас не слышит?
— А пусть, это же батрак, — отвечала Сильвия.
Но однажды я увидел, как она рыдает, сидя в шезлонге. Чирино под портиком бил кувалдой о железо и мешал мне толком расслышать. Ирена утешала сестру, гладила ее по голове, а та кричала, вцепившись пальцами в волосы:
— Нет, нет, хочу уйти, хочу бежать!.. Не верю, не верю, не верю!..
Проклятая кувалда Чирино ничего не давала расслышать.
— Пойдем отсюда, — говорила Ирена, обнимая ее, — пойдем на веранду, успокойся…
— Ничего мне не надо! — кричала Сильвия. — Ничего не надо!..
Сильвия связалась с одним типом из семейки Кревалкуоре, которая владела землями в Калоссо, — с хозяином лесопилки. Он разъезжал на мотоцикле — Сильвию сажал на заднее сиденье, и они гоняли по дорогам. Вечерами раздавался треск мотора, мотоцикл останавливался, у ворот появлялась Сильвия с нависшей на глаза челкой. Дядюшка Маттео ничего не знал.
Эмилия уверяла, что этот у нее не первый, что докторский сынок уже переспал с ней у себя в доме, в кабинете отца. Но толком мы так ничего и не узнали; если и впрямь Артуро крутил с ней любовь, то почему они расстались посреди лета, когда начиналась самая хорошая пора и встречаться им было легче? Но тогда-то и появился мотоциклист, и теперь все знали, что Сильвия словно рехнулась, что она давала увозить себя к берегу, в камыши, — люди встречали их и в Камо, и в Санта-Либера, и в лесах Браво. Порой они ездили и в Ниццу, в отель.
Посмотришь на нее — она все та же, глаза такие же черные, жгучие. Не знаю, надеялась ли она, что он возьмет ее замуж. Но только этот Маттео из Кревалкуоре, этот хозяин лесопилки, был задира и драчун, и, хоть перепробовал уж не одну, ему еще ни разу не дали по рукам. «Вот, — думал я, — родится у Сильвии сын и будет, как я, без отца. Я вот так на свет появился».
Ирена тоже страдала от этого. Она, должно быть, пыталась помочь Сильвии и знала о ее делах больше нашего. Немыслимо было даже представить себе Ирену на этом мотоцикле или с кем-нибудь в камышах на берегу. Скорей уж Сантину, когда та подрастет… Про нее все говорили, что она пойдет по той же дорожке. Мачеха помалкивала, требовала только, чтоб сестры возвращались домой к определенному часу.
XXV
Ирена никогда не приходила в отчаяние, как сестра, но, если день-другой ее не звали в Нидо, она нервничала, ждала вестей у ограды сада, а не то возьмет книжку или вышивание и сидит вместе с Сантиной в винограднике, поглядывая на дорогу. Зато какой счастливой она бывала, когда отправлялась под зонтиком в Канелли. Не знаю, о чем она говорила с этой дохлятиной, с этим Чезарино; однажды я мчался в Канелли как сумасшедший, жал на все педали, и увидел их посреди акаций — мне показалось, что Ирена стоя читает какую-то книгу, а Чезарино сидит на земле и глядит на нее.
Как-то на Море вновь появился Артуро в своих высоких охотничьих сапогах; он остановился под верандой и заговорил с Сильвией, но она не пригласила его подняться, сказала только, что сегодня душно, да еще что туфли на низком каблуке — вот такие — теперь можно найти в Канелли.
Артуро, подмигнув ей, спросил, по-прежнему ли танцуют у них, играет ли Ирена на пианино.
— Ты у нее спроси, — сказала Сильвия и взглянула куда-то вдаль, за сосну.
Ирена теперь играла мало. Говорили, будто в Нидо нет фортепьяно и что старуха терпеть не может, чтобы девушка стучала пальцами по клавишам. Ирена, когда отправлялась к старухе в гости, брала с собой сумку с вышиванием, большую сумку, расшитую зелеными цветами, и в той же сумке приносила домой из Нидо какую-нибудь книжку, которую старуха давала ей почитать. То были старые книги в кожаных переплетах. А старухе она возила журнал с модами — нарочно велела каждую неделю покупать в Канелли.
Серафина с Эмилией говорили, что Ирена метит в графини. Но однажды дядюшка Маттео предупредил своих дочерей:
— Смотрите, девочки. Бывают такие старухи, которых смерть не берет.
Трудно было понять, сколько у графини родных в Генуе, — поговаривали, что среди ее родни есть даже епископ.
Я слышал, что старуха уже не держала в доме ни горничных, ни слуг, обходилась внучками и внуками. Если это верно, то на что же надеялась Ирена? Ну, пусть все хорошо обернется, так или иначе Чезарино придется разделить наследство со многими. Я окидывал взглядом нашу усадьбу, наши конюшни, луга, поля, виноградники и думал, что, может, Ирена богаче его, может, Чезарино за ней волочится, чтоб прибрать к рукам ее приданое. Хоть и злился я, но все же такое объяснение мне было больше по душе — тяжело было думать, будто Ирена сама его добивается: влюбилась или из тщеславия.
А может, говорил я, она и впрямь влюблена, может, нравится ей Чезарино, может, он и есть тот, за кого ей до смерти хочется замуж. Очень мне хотелось с ней поговорить, сказать ей, чтоб береглась, чтоб не губила себя ради этого недоноска, ради придурка, который даже из Нидо не выезжал и сидел на земле, покуда она читала книгу. Сильвия хоть времени даром не теряла, гуляла с кем хотела. Не будь я батраком, не будь мне всего восемнадцать, Сильвия, может, пошла бы и со мной.
Конечно же, Ирена страдала. Этот графчик был похуже невоспитанной девчонки: привередничал, заставлял за собою ухаживать, то и дело поминал старуху графиню и, что Ирена ни предложи, на все отвечал отказом: дескать, надо быть рассудительной, избегать ложных шагов, помнить, кто он, и какое у него здоровье, и какие у него вкусы. Теперь уж Сильвия в те редкие дни, когда не удирала и не запиралась в доме, выслушивала вздохи Ирены. За столом, рассказывала Эмилия, Ирена сидит, опустив глаза, а Сильвия прямо глядит на отца, и глаза у нее горят как в лихорадке. А говорит за столом одна синьора Эльвира, поджав губы, резко-резко. Оботрет Сантине подбородок и съязвит то насчет сына врача, то о тосканце вспомнит, об офицерах, да и других помянет, и тут же заговорит о девушках из Канелли, что помоложе, а уже замужем, уже детей крестят. Дядюшка Маттео что-то бормотал себе под нос, он никогда ни о чем не ведал.
А Сильвия удержу не знала, любо было поглядеть на нее, послушать ее в те минуты, когда ею не владели отчаяние и злость. Иной раз велит запрячь коляску и сама едет в Канелли — правила она не хуже мужчины. Однажды она спросила у Нуто, будет ли он играть в оркестре на бегах в Буон Консильо. А потом заявила, что ей во что бы то ни стало нужно купить себе в Канелли седло и научиться ездить верхом. Пришлось управляющему Ланцоне ей растолковывать, что лошадь, привычная к упряжке, для верховой езды не годится, потому что у нее свой норов. Потом мы узнали, что в Буон Консильо Сильвия хотела отправиться, чтоб встретить там своего Маттео и показать ему, что она тоже умеет скакать на коне.
Кончится тем, говорили мы все, что эта девушка станет одеваться, как мужчина, будет бегать по ярмаркам и вместе с парнями по канату ходить. Как раз в тот год появился в Канелли балаган — там по кругу мчались мотоциклы, и грохот стоял сильней, чем от молотилки. У входа продавала билеты худющая рыжая баба лет сорока, пальцы в кольцах и в зубах сигарета. Вот увидите, говорили мы, наскучит она Маттео из Кревалкуоре, и он приставит ее к такому балагану. Еще в Канелли рассказывали, что, покупая билет, нужно только по-особому положить руку у окошечка, и эта рыжая тотчас же скажет, в какое время можно прийти к фургону с занавесками и переспать с ней на соломе. Только Сильвия еще до этого не докатилась. Она, конечно, совсем голову потеряла из-за своего Маттео, но была такая красивая и свежая, что и теперь нашлось бы много охотников взять ее замуж. А тут совсем бог знает что началось. Теперь они с Маттео встречались в полуразрушенном домишке на виноградниках Серауди. Домишко стоял на самом обрыве над рекой, куда на мотоцикле не доберешься, и они отправлялись туда пешком, отнесли туда одеяло и подушки. Ни на Море, ни в Кревалкуоре этот Маттео с Сильвией вместе не показывался. Не ее девичью честь он берег, а просто не хотел попасться, связать себя не хотел. Он знал, что не женится, вот и заботился о том, чтобы выйти сухим из воды.
Я пытался обнаружить на лице у Сильвии следы того, что они проделывали с Маттео. В тот сентябрь, когда мы приступили к сбору винограда, она, как и в прежние годы, вместе с Иреной пришла к нам на виноградник; укрывшись за кустами, я разглядывал ее руки, тянувшиеся к гроздьям винограда, глядел на ее бедра, на талию, на челку, падавшую на глаза, глядел, как шагает она по тропинке, как вскидывает голову — я знал ее всю, от гребенки до ногтей на ногах, — и все же ни разу не смог бы сказать: «Вот в этом она изменилась, вот где след Маттео». Она была все той же Сильвией.
Этот сбор винограда был последним радостным временем на Море. В День Всех Святых Ирена слегла, позвали доктора со станции. У нее оказался тиф, умирала Ирена. Сантину с Сильвией отослали в Альбу к родным, чтоб уберечь от заразы. Сильвия ехать не хотела, по потом смирилась. Теперь пришлось побегать мачехе да Эмилии. В верхних комнатах беспрестанно топили печь, дважды в день меняли Ирене постель, она бредила, ей делали уколы, у нее стали выпадать волосы. Мы то и дело ездили в Капелли за лекарствами. Однажды во дворе появилась монахиня. Чирино сказал: «Не протянет она до рождества», — а на следующий день послали за священником.
XXVI
Что осталось теперь от Моры, от всего этого, от нашей прежней жизни?
Сколько лет прошло, но стоило мне услышать, как ветер шевелит листвой липы, и я чувствовал себя другим человеком, становился самим собой, не зная даже толком отчего. Я думал о том, сколько людей, должно быть, живет в этой долине и вообще на свете, — людей, с которыми как раз теперь-то и происходит то, что было с нами, только они не знают об этом, не думают. Может, и теперь есть такой дом, есть девушки, старик, ребенок, есть такой вот Нуто, есть Канелли, есть железнодорожная станция и есть такой парень, как я, которому не терпится уехать, разбогатеть. Летом там молотят зерно, потом убирают виноград, зимой ходят на охоту, и дом у них с верандой — словом, все у них точь-в-точь как было у нас. Так непременно и должно быть. Ребята, женщины, мир не изменились. Теперь уже не в моде зонтики от солнца, но воскресеньям люди ходят в кино, а не на площадь, зерно сдают на элеватор, девушки курят — а жизнь осталась все той же, и молодежь не знает, что настанет день, когда придется оглянуться и тоже все окажется позади.
Когда я сошел на берег в Генуе и очутился посреди разбитых войной домов, мне прежде всего подумалось, что здесь каждый дом, каждый двор, каждый балкон был чем-то для кого-нибудь. И тут не только ущерб, не только жертвы — тут жаль прожитых лет, что ушли в небытие за одну ночь, не оставив даже следа. Может, я не прав, может, так лучше? Может, лучше, чтобы все сгорело, как сухая трава в костре. И чтобы люди все начали заново. Так поступали в Америке. Надоест что-нибудь, наскучит работа, приестся место — и люди все меняют. Там можно встретить целые селения — ресторан, мэрия, лавки, — и никого не осталось, пусто, как на кладбище.
Нуто неохотно говорил о Море, но все расспрашивал меня, кого я встретил из тех мест. Он имел в виду парней, с которыми мы сиживали в трактире, окрестных ребят, с которыми мы играли в кегли и в мяч, девушек, с которыми мы танцевали. Он знал обо всех: где кто теперь, что с кем случилось. Когда мы сидели у него на Сальто и кто-нибудь из них проходил по дороге, он подмигивал и спрашивал, по-кошачьи прищурив глаза: «Ну, а этого ты еще помнишь?» Потом он наслаждался удивлением, написанным на лице прохожего, и наливал вина нам обоим. Начинался разговор. Кое-кто обращался ко мне на «вы». «Я Угорь, — прерывал я, — так что ты брось эти церемонии!.. Ну, а что сталось с твоим братом, с твоим отцом, с твоей бабушкой? А собака-то ваша подохла?»
Мои старые приятели не слишком изменились; если кто изменился, так это я. Они вспоминали, какую штуку я выкинул когда-то и что сказанул, вспоминали и разные истории, о которых я позабыл. «А Бьянкетта? — спрашивал меня кто-нибудь. — Ты Бьянкетту помнишь?» Еще бы не помнить! «Вышла замуж за Робини, — говорили мне, — и живется ей хорошо».
Что ни вечер Нуто приходил за мной в «Анжело», вызволял меня от врача, секретаря мэрии, старшины карабинеров, от засевших там землемеров и заводил со мной разговор. Как два монаха на свободе, прогуливались мы вокруг деревни, вслушивались в стрекот цикад, в шум реки; в прежние времена мы никогда не приходили сюда в такой поздний час: жили другой жизнью.
Однажды вечером, когда над окутанными тьмой холмами поднялась луна, Нуто спросил меня, как это вышло, что я отправился в Америку. Он хотел знать, решился ли бы я на это еще раз, если бы снова представился случай и было бы мне, как тогда, двадцать лет. Я ответил, что уехал не потому, что меня тянуло в Америку, а со зла — потому, что здесь не мог выбиться в люди. Мне не уехать хотелось, а вернуться сюда в один прекрасный день после того, как все давно решат, что я с голоду подох. В деревне я обречен был остаться батраком, как старик Чирино. (Он тоже давно умер — сломал спину, свалившись с сеновала, и потом еще больше года промучился.) Значит, стоило попытать счастья, стоило переправиться через Бормиду, а потом пересечь океан.
— Но нелегко вот так сразу решиться и сесть на корабль, — сказал Нуто. — Ты оказался смельчаком.
— Никакой тут храбрости не было, — сказал я, — просто удрал. — Теперь уже имело смысл рассказать ему все. — Помнишь, о чем мы толковали с твоим отцом в мастерской? Он уже тогда говорил, что невежды всегда будут невеждами, потому что сила в руках у тех, кто не хочет, чтобы люди во всем разбирались, — в руках у правительства, у чернорубашечников, у капиталистов… Здесь, на Море, все было еще ничего, но вот в солдатах, когда я шатался по улочкам Генуи, я разобрался, какие они — хозяева, капиталисты, офицеры… В те времена правили фашисты, ни о чем говорить нельзя было… Но были и другие люди…
Я никогда ничего ему обо всем этом не рассказывал, чтобы не заставлять и его говорить — теперь уж все равно ни к чему, да и сам я через двадцать лет, после всего, что было, не знаю, во что и верить. Но в ту зиму в Генуе я поверил… Сколько ночей провели мы в спорах с Гвидо, с Ремо, с Черрети в теплице при доме моего полковника. Потом Тереза испугалась, больше не хотела нас пускать, и тогда я сказал ей — пусть так и остается в прислугах, значит, она того заслуживает, а мы хотим твердо стоять на своем, хотим бороться. Мы продолжали свое дело в казармах, в трактирах, а отслужив в армии — на судоверфях, где находили работу, и в вечерних технических школах. Тереза теперь слушала меня терпеливо и одобряла за то, что я учусь, за то, что хочу своего добиться, и кормила меня на кухне. К разговору о политике мы с ней больше не возвращались. Но однажды ночью пришел Черрети и предупредил, что Гвидо и Ремо арестованы, а остальных ищут. Тогда Тереза, ни в чем меня не упрекнув, поговорила уж не знаю с кем — то ли с родственником, то ли с прежним своим хозяином — и за два дня устроила меня палубным матросом на корабль, который отправлялся в Америку.
— Вот как это было, — сказал я Нуто.
— Видишь, как выходит, — ответил он. — Порой достаточно мальчишкой услышать словечко, пусть от старика, пусть от такого бедолаги, как мой отец, и у тебя откроются глаза… Я рад, что ты думал не только о том, как нажить деньги… А что сталось с твоими товарищами?
Так мы с ним разгуливали по дороге неподалеку от селения и толковали о нашей судьбе. Я поглядывал на луну и слушал, как вдали скрипят колеса телег — вот чего в Америке давно не слыхать. Я думал о Генуе, о своей конторе, о том, какой стала бы моя жизнь, если б схватили и меня в то утро на верфи, где работал Ремо. Через несколько дней я снова уеду в Геную, на виа Корсика. Все подходит к концу.
Кто-то бежал по дороге, вздымая пыль, я думал, собака, но это оказался мальчик, он, прихрамывая, бежал нам навстречу. Прежде чем я понял, что это Чинто, он уже прижался к моим ногам и завыл, как собачонка.
— Что случилось?
Мы ему не сразу поверили. Он твердил, что отец поджег дом.
— Не может быть! — сказал Нуто.
— Он дом поджег, — повторял Чинто. — Хотел меня убить… А сам повесился… Он дом поджег!
— Должно быть, лампу опрокинули, — сказал я.
— Нет, нет! — крикнул Чинто. — Он убил Розину и бабушку. Хотел и меня убить, но я не дался… Потом солому поджег и все меня искал. Но у меня был нож. Тогда он повесился посреди виноградника.
Чинто тяжело дышал, всхлипывал. Весь исцарапанный и перепачканный, он сидел в пыли, прижимаясь к моим ногам, и все повторял:
— Папа повесился в винограднике. Он дом поджег… И вол сгорел. Только кролики удрали. Но у меня был нож… Все сгорело. Пиола тоже видел.
XXVII
Нуто взял его за плечи и поднял, как козленка:
— Он убил Розину и бабушку?
Чинто только дрожал, он не мог говорить. Нуто встряхнул его за плечи:
— Он убил их?
— Оставь его, — сказал я. — Он едва жив. Пойдем сами, взглянем.
Тогда Чинто бросился к моим ногам. Он и слышать не хотел о возвращении.
— Встань, — сказал я ему. — Ты кого искал?
Он искал меня, но возвращаться на виноградник ни за что не хотел. Он позвал Мороне, позвал семью Пиолы, всех разбудил — они уже бегом спускались с холма. Он крикнул им, чтобы тушили пожар, он сделал все, что надо, только на виноградник возвращаться не хотел. И нож свой потерял.
— Мы не пойдем на виноградник, — сказал я ему, — дальше дороги не двинемся. Нуто один туда сходит. Чего ты боишься? Если правда, что туда побежали люди, значит, пожар уже погасили…
Мы пошли по дороге, держа его за руки. Отсюда холм Гаминелла не виден, он скрыт за отрогом. Нам надо свернуть с шоссе, спуститься по склону к Бельбо, и тогда сквозь деревья должен быть виден пожар. Но в лунном свете, прорывавшемся сквозь ночной туман, мы не увидели ничего.
Нуто молча дернул за руку Чинто, который споткнулся. Мы почти бежали. У камышей стало ясно, что здесь что-то случилось: сверху доносились крики, удары топора по дереву. Клубы вонючего дыма, врываясь в ночную прохладу, ползли к дороге.
Чинто не сопротивлялся, он старался поспеть за нами и только все крепче сжимал мою руку.
Наверху у смоковницы суетились люди, доносились громкие голоса. Еще шагая по тропе, я при свете луны разглядел пустое место там, где прежде были сеновал и хлев, и заметил черные дыры в догоравших стенах дома. Красные отблески пламени угасали у подножия стены, оттуда и валил черный дым. Нестерпимо воняло горелой шерстью, мясом, навозом. Между ног у меня прошмыгнул кролик.
Нуто остановился возле тока, лицо его исказила гримаса, и он схватился за голову.
— О, этот запах! — пробормотал он. — Этот запах…
Пожар уже стих. Тушить сбежались все соседи; рассказывали, что на какой-то миг пламя осветило даже берег и видно было, как оно отражалось в водах Бельбо. Спасти ничего не удалось, даже сухой навоз за домом сгорел.
Кто-то побежал за старшиной карабинеров. На ферму Мороне послали женщину за вином. Мы дали Чинто выпить немного. Он спрашивал, где собака, сгорела ли собака. Каждый говорил свое. Мы усадили Чинто посреди луга, и он, то и дело умолкая, начал свой сбивчивый рассказ. Он ничего не знал, шел к речке, потом услышал, как залаял пес, как отец стал загонять вола. Явилась хозяйка виллы со своим сыном — делить фасоль и картошку. Мадам сказала, что два ряда картофеля уже вырыты, пусть половину возместят, а Розина стала кричать, и Валино ругался. Тогда хозяйка вошла в дом, чтобы и бабушке свое доказать, а сын остался на дворе стеречь корзины. Потом хозяйка с сыном взвесили картошку и фасоль и о чем-то договорились, но глядели друг на друга со злобой. Они все погрузили на тележку, а Валино отправился в селение. Вечером вернулся мрачный и принялся кричать на Розину, на бабушку, ругал их за то, что они не собрали фасоль раньше, когда она была зеленая, говорил, что теперь хозяйка будет есть фасоль, которая могла бы достаться им. Старуха плакала, лежа на тюфяке. Он, Чинто, сидел у двери, готовый удрать в любую минуту. Тогда Валино снял с себя ремень и принялся хлестать Розину, бил ее, словно зерно молотил. Розина ударилась об стол и выла, закрывая руками шею. Потом она закричала сильней, упала на пол бутылка, и Розина бросилась к бабушке и стала ее обнимать. Тогда Валино принялся бить ее ногой, слышны были удары — он пинал ее под ребра, топтал тяжелыми башмаками. Розина свалилась на пол, а Валино все пинал ее в лицо, в живот.
— Розина умерла, — сказал Чинто, — у нее пошла кровь изо рта. «Ну, встань, — говорил отец, — ну, не дури». Но Розина умерла, и даже старуха умолкла.
Тогда Валино стал искать его, а он удрал в виноградник, оттуда слышно было только, как пес метался на цепи.
Немного погодя Валино стал звать Чинто. Чинто по голосу понял: отец просто зовет и не собирается бить. Тогда он открыл нож и показался во дворе. Отец, мрачнее тучи, ждал его на пороге. Увидев у него в руках нож, отец сказал «сволочь» и попытался его схватить. Чинто опять удрал. Потом он услышал, как отец стал ломать все, что под руки попадет, как он ругался, как поносил священника. Потом вдруг увидел пламя.
Отец вышел во двор, в руках у него была зажженная лампа, только без стекла. Он обежал вокруг дома, поджег сеновал, солому и швырнул горящую лампу в окно. Комната наполнилась огнем. Никто не вышел на порог, казалось, что женщины в доме все еще плачут и зовут на помощь.
Теперь горел весь дом, и Чинто не мог спуститься к лугу, потому что отец заметил бы его — стало светло как днем. Пес совсем обезумел, лаял и рвался с цепи. Кролики разбежались, вол горел в хлеву. Валино побежал за Чинто в виноградник с веревкой в руках. Чинто, не выпуская из рук ножа, удрал на берег. Там он спрятался и глядел оттуда сквозь кусты на пылающий дом. Даже отсюда было слышно, как бушует пожар, — словно сухие дрова пылали в печи. Пес все лаял и выл. На берегу тоже стало светло как днем. Когда смолкло все — и лай собаки, и голос отца, — Чинто показалось, что он только что проснулся, и он не мог даже припомнить, что делал здесь, на берегу. Тогда он тихонько подобрался к большому ореховому дереву, по-прежнему сжимая в руке нож, настороженно вслушиваясь и вглядываясь в зарево пожара. В отсветах огня он увидел ноги отца, висевшего на ореховом дереве, и упавшую на землю лестницу…
Ему пришлось повторить весь этот рассказ старшине карабинеров, потом ему показали лежавшего на мешковине мертвого отца, спросили, узнает ли он его. На лугу свалили в кучу все, что удалось найти, — серпы, тележку, лестницу, намордник вола и решето. Чинто все искал свой нож, расспрашивал о нем и кашлял, задыхаясь от дыма и гари. Ему говорили, что нож найдут и что можно будет забрать железные части мотыг и лопат, когда зола остынет. Мы отвели Чинто в усадьбу Мороне, когда уже светало. Остальные отыскивали на месте сгоревшего дома останки женщин.
У Мороне никто не спал, в кухне топили печь. Женщины предложили нам вина. Мужчины садились завтракать. Было прохладно, почти холодно. Я устал от споров и слов; все повторяли одно и то же. Мы с Нуто прогуливались по двору; на небе угасали звезды, перед нами в холодном, почти фиолетовом воздухе раскинулись леса в долине, засверкали воды реки. Я и позабыл эти краски рассвета! Нуто ходил сгорбись, опустив голову. Я сразу сказал ему, что о Чинто должны позаботиться мы, что надо было нам раньше об этом подумать. Он поднял опухшие веки и взглянул на меня, словно не мог очнуться.
На другой день нас ждало известие, от которого кровь могла закипеть. Я услышал, как в селении говорили, что хозяйка виллы вне себя от ярости из-за того, что погибла ее собственность; Чинто изо всей семьи единственный остался в живых, и она требовала, чтобы именно Чинто возместил ей потери, уплатил ей за все, а не то пусть его сажают в тюрьму. Я узнал, что она пошла советоваться к нотариусу и тому пришлось целый час ее вразумлять, но потом она побежала к попу.
Ну а поп выкинул номер еще похлеще! Раз Валино умер в смертном грехе, он и слышать не хотел о том, чтобы отпеть его в церкви. Гроб оставили снаружи, на ступеньках, покуда священник внутри бормотал свои молитвы над обгоревшими костями женщин, сложенными в мешок. Хоронили вечером, тайком от всех. Старухи с усадьбы Мороне в черных платках пошли проводить покойников на кладбище и по дороге собирали маргаритки и клевер. Священник на кладбище не пошел, видно, потому, что если поразмыслить, то и Розина жила в смертном грехе. Но об этом болтала лишь портниха, которая славилась своим злословием.
XXVIII
Ирена в ту зиму не умерла от тифа. Покуда жизнь ее была в опасности, я старался не ругаться, не думать ни о ком дурно — помню, как мне хотелось помочь ей. Так велела Серафина, и я не забывал ее наставлений, даже когда убирал за скотиной или шагал под дождем за плугом. Только не знаю, может, зря я старался, может, лучше бы ей умереть в тот день, когда посылали за священником. В январе она наконец вышла из дому, и ее, бледную и исхудавшую, в коляске отвезли к мессе в Канелли. Чезарино давно уже удрал в Геную, не навестив ее, даже ни разу не прислав кого-нибудь узнать, что с ней, как она себя чувствует. А в замке Нидо все двери были наглухо заколочены.
И Сильвию по возвращении не ждало ничего хорошего, хотя, как все говорили, она не так страдала. Сильвия уже привыкла к своей злой судьбе, выучилась принимать ее удары, подыматься после них на ноги.
Ее Маттео тем временем спутался с другой. Сильвия не скоро вернулась из Альбы. И на Море стали поговаривать, что есть тому причина — ясное дело, забеременела. Те, кто ездил в Альбу на рынок, рассказывали, что Маттео из Кревалкуоре целыми днями гонял по площади на своем мотоцикле — шуму-то, как при стрельбе, — а остальное время торчал в кафе. Никто никогда не видел, как они миловались, никто их даже вместе не встречал. Значит, Сильвия не выходила из дому, значит, она была беременна. Как бы там ни было, только к лету, когда Сильвия вернулась, Маттео уже нашел себе другую — дочь владельца кафе из Санто-Стефано — и проводил с ней ночи. Сильвию, когда она возвратилась, увидели уже на шоссе, они с Сантиной шли, взявшись за руки: никто даже не поехал встретить их к поезду. Проходя по саду, они остановились, чтобы понюхать первые розы. Они с Сантиной, раскрасневшиеся от ходьбы, стояли и перешептывались, как мать с дочерью.
А Ирена стала теперь хрупкой и бледной, она почти не поднимала глаз от земли и походила на блеклый цветок, что безо времени появляется на лугу после сбора винограда, или на травинку, что тянется кверху из-под придавившего ее камня. Покуда у нее отрастали волосы, она носила красный платок, из-под него виднелись лишь шея и уши. Эмилия говорила, что она уже никогда не будет прежней красавицей. А вот Сантина росла, хорошела, и локоны у нее были еще красивей, чем когда-то у Ирены. Сантина уже знала себе цену и порой останавливалась у изгороди, чтобы дать на себя полюбоваться, или выходила к нам, во двор, на дорожку, и болтала с женщинами. Я расспрашивал ее о том, как им жилось в Альбе, что там поделывала Сильвия. И она, если была охота, рассказывала мне, что они жили напротив церкви, в прекрасном доме с коврами в каждой комнате, к ним там заходили дамы, мальчики, девочки — все такие нарядные; они вместе играли, ели пирожные, а как-то вечером пошли в театр с теткой и с Николетто, девочки ходили в школу к монахиням; на следующий год она тоже пойдет в школу. Мне так и не удалось разузнать, как проводила свои дни Сильвия, но, должно быть, она там не болела, а танцевала с офицерами.
Снова в Мору зачастили молодые люди и прежние подруги. Нуто ушел в солдаты. Я теперь уже был совсем взрослый; позади остались те времена, когда управляющий мог хлестнуть меня ремнем и любой встречный обозвать ублюдком. Меня знали на многих усадьбах в округе, я уходил иной раз на всю ночь, ухаживал за Бьянкеттой. Я начинал во многом разбираться; запах лип, запах цветущих акаций приобрел свой смысл и для меня. Теперь я знал, что такое женщина, почему иной раз после музыки и танцев одиноко, как пес, бродишь по полям. Из моего окна были видны холмы по ту сторону Канелли, оттуда к нам приходили грозы и ясная погода, там начиналось утро, оттуда доносились гудки паровозов, там проходила дорога, ведущая в Геную. Я знал, что и я через два года, как Нуто, сяду в поезд. На праздниках я старался поближе держаться к тем, кого призовут вместе со мной. Мы пили, пели песни, толковали о наших делах.
Сильвия опять взбесилась. На Море появился Артуро со своим тосканцем, но она на них даже не взглянула. Теперь она сошлась с бухгалтером из Канелли, казалось, они вот-вот поженятся. Дядюшка Маттео был согласен. Бухгалтер, блондинчик из Сан-Марцано, приезжал на велосипеде и всегда привозил конфеты Сантине. Но однажды вечером Сильвия исчезла. Вернулась только на следующий день с охапкой цветов в руках. Оказалось, что в Канелли у нее, кроме этого бухгалтера, был еще какой-то ухажер из Милана, который умел говорить по-английски и по-французски. Седоватый, высокий, настоящий господин; шли толки, будто он скупает земли. Сильвия встречалась с ним на вилле у знакомых, там их хорошо принимали. После одного ужина она вернулась лишь под утро. Об этом узнал бухгалтер и даже возжаждал крови, но этот господин, этот Лульи, отправился к нему сам, отчитал его как мальчишку, и на том дело кончилось. Лульи было, должно быть, за пятьдесят, и у него уже были взрослые дети. Я видел его только издали. Но у Сильвии с ним все обернулось похуже, чем с Маттео из Кревалкуоре. И Маттео, и Артуро, да и все прочие не были для меня загадкой — росли они в наших местах, может, и ломаного гроша не стоили, но были своими, пили, смеялись, разговаривали, как мы. Другое дело Лульи из Милана — никто не мог сказать, чем же он занят в Канелли. Он устраивал обеды в гостинице «Белый крест», был на приятельской ноге с мэром и с фашистскими заправилами. Сильвии он обещал, должно быть, забрать ее в Милан или бог знает куда, только подальше от Моры и от дома.
Сильвия потеряла голову; она поджидала его в кафе «Спорт», разъезжала по виллам и замкам в машине фашистского секретаря, добиралась до самого Акви. Должно быть, Лульи был для нее тем, чем для меня могла бы стать она сама и ее сестра, чем для меня потом стала Генуя или Америка. В то время я уже достаточно разбирался в таких вещах, чтобы представить их себе вместе и вообразить, о чем они говорили. Он, должно быть, рассказывал ей о Милане, о бегах, о театре и о богачах, а она жадно слушала, и глаза у нее блестели, хоть она и притворялась, что все это ей знакомо. Этот Лульи всегда был одет с иголочки, во рту у него торчала трубка, а зубы и кольцо на руке были из чистого золота.
Однажды Сильвия сказала Ирене — Эмилия сама слышала, — что Лульи приехал из Англии и должен туда вернуться.
Но настал день, когда дядюшка Маттео в ярости набросился на жену и дочерей. Он кричал, что ему опротивели их постные лица, что он больше не желает терпеть их ночные похождения, что ему надоели ухажеры, которые крутятся вокруг них, что он больше не хочет так жить, он должен знать, с кем он породнился, а то над ним смеются. Он винил мачеху, всех бездельников и всю распутную женскую породу. Он заявил, что Санту будет воспитывать сам, и сказал дочерям — пусть выходят замуж, если кто их возьмет, пусть хоть в Альбу едут, но только чтоб не путались у него под ногами. Бедняга состарился, он больше не владел собой и не мог командовать другими. В этом в конце концов убедился даже Ланцоне, в этом убедились все.
Кончилось тем, что Ирена с красными от слез глазами слегла в постель, синьора Эльвира обняла Сантину и велела не слушать таких речей. А Сильвия пожала плечами, ушла и вернулась домой только через день.
Потом настал конец истории с Лульи; стало известно, что он удрал, не заплатив большие долги. Сильвия на этот раз повела себя, как взбесившаяся кошка; она отправилась в Канелли, пошла к фашистам в их здание, пошла к фашистскому секретарю, стала разъезжать по виллам, где они прежде развлекались и спали с Лульи, словом, не успокоилась, пока не выпытала, что Лульи в Генуе. Тогда она села на поезд и отправилась в Геную, увезя с собой золотые вещи и немного денег, которые ей удалось собрать. Месяц спустя дядюшка Маттео поехал за ней в Геную, узнав через полицию, где она находится. Сильвия уже была совершеннолетняя, ее не могли насильно вернуть домой. Она голодала, проводила дни на скамьях парка Бриньоле, Лульи она не нашла, никого больше не нашла и хотела было броситься под поезд. Дядюшка Маттео ее успокоил, сказал, что это как болезнь или несчастье, все равно что тиф, которым переболела Ирена, и что все ее ждут на Море. Сильвия вернулась, но на этот раз на самом деле беременная.
XXIX
В те дни пришла и другая весть: умерла старуха из Нидо. Ирена ни слова не сказала, но ее прямо в жар бросило, кровь прилила к лицу. Теперь, когда Чезарино мог сам решать свои дела, ясно будет, что он за человек. Ходили разные слухи: одни говорили, что он единственный наследник, другие — что наследников целая куча, третьи — что старуха все завещала епископу и монастырям.
В Нидо приехал нотариус, чтобы осмотреть замок и земли. Он ни с кем и разговаривать не стал, даже с Томмазино. Распорядился насчет работ, насчет сбора урожая. В замке сделал опись. Нуто, который тогда получил увольнительную на время жатвы, разузнал обо всем в Канелли. Старуха все завещала сыновьям одной из своих племянниц, которые даже графами не были, и назначила нотариуса опекуном. Потом в замке Нидо наглухо закрыли все двери, а Чезарино так и не вернулся.
В те дни я не отходил от Нуто, и мы с ним о многом говорили — о Генуе, о военной службе, о музыке, о Бьянкетте. Он курил и меня угощал, спрашивал, не наскучило ли мне батрачить на Море, говорил, что мир велик и в нем каждому найдется место. Услышав про Сильвию и Ирену, он только плечами пожал и не стал особенно расспрашивать.
Ирена словечком не обмолвилась насчет вестей из Нидо. По-прежнему худая, бледная, она часто выходила вместе с Сантиной к реке и сидела с ней на берегу. Раскроет на коленях книгу, а сама глядит на деревья. По воскресеньям они в черных платках отправлялись к мессе — ездили с мачехой, с Сильвией, словом, все вместе. Как-то в воскресенье после долгого перерыва я снова услышал игру на пианино.
Не в эту, а в прошлую зиму Эмилия дала мне почитать одну из тех книжек, которые Ирена брала у знакомой девушки из Канелли. Я давно хотел последовать совету Нуто и хоть чему-то поучиться. Я был уже не тот мальчишка, что, сидя после ужина на бревнышке, заслушивался рассказами о звездах и храмовых праздниках. Заняв местечко поближе к огню, я читал эти романы, чтобы хоть что-нибудь узнать. В них говорилось о девушках, которые жили вместе с опекунами или со своими тетками, с врагами, державшими их взаперти в прекрасных виллах, окруженных садами. Горничные приносили им записочки, давали, когда требовалось, яд, воровали завещания. Потом на коне появлялся красавец, он целовал девушку; ночью девушке не спалось, и она выходила в сад, ее похищали разбойники, утром она просыпалась в хижине дровосека, и тогда появлялся тот самый красавчик, чтоб спасти ее.
Иногда это была история какого-нибудь сорвиголовы, жившего в дремучем лесу; выяснялось, что он незаконный сын владельца замка, а в замке то и дело совершались преступления, то и дело кого-нибудь отравляли; во всем винили юношу, и он попадал в тюрьму, но туда к нему приходил седовласый священник, спасал его, и тогда он женился на наследнице из какого-нибудь другого замка. Я убедился, что давно уже знал эти истории — в Гаминелле Виржилия рассказывала их мне и Джулии. Помню ее рассказ о златокудрой Спящей Красавице, которая спала мертвым сном в лесу — разбудил ее поцелуй охотника; помню рассказ о Волшебнике с семью головами — его полюбила прекрасная девушка, и он превратился в прекрасного юношу, в королевского сына.
Мне эти книжки нравились, но как они могли прийтись по вкусу Ирене и Сильвии — ведь они барышни, они никогда не слушали Виржилию, никогда не убирали навоз в хлеву? Я понял, что Нуто прав, когда говорит, что все равно, где живет человек: в лачуге или в замке, что кровь у всех красная и все хотят быть богатыми, хотят любви и счастья. Вечерами, возвращаясь от Бьянкетты, я шагал, посвистывая, под акациями. Я был счастлив и даже не думал о том, как сяду в поезд.
Синьора Эльвира снова стала звать к ужину Артуро, но он теперь повел себя хитрей и не брал с собой своего друга-тосканца. Дядюшка Маттео больше не противился. Тогда еще никто не знал, что произошло с Сильвией, и казалось, что жизнь на Море хоть течет и не совсем гладко, по все же становится похожей на прежнюю.
Артуро тотчас же стал ухаживать за Препон; Сильвия насмешливо поглядывала на него из-под низкой челки. Но стоило Ирене сесть за пианино, и она сразу же уходила на веранду или отправлялась гулять. Зонтик она с собой не брала, теперь женщины и на солнце появлялись с непокрытой головой.
А Ирена об Артуро и слышать не хотела. Держала себя с ним спокойно, холодно, провожала его до калитки, но они почти не разговаривали друг с другом. Артуро совсем не переменился, по-прежнему проедал отцовские деньги, подмигивал даже Эмилии, но ясно было, что сам он гроша ломаного не стоит, если, конечно, говорить не о картежной игре и стрельбе в тире.
О том, что Сильвия беременна, нам рассказала Эмилия. Она узнала об этом прежде отца, прежде всех остальных. В тот вечер, когда дядюшка Маттео узнал эту новость — ему рассказали Ирена и синьора Эльвира, — он даже не поднял крика, а как-то странно засмеялся и поднес руку ко рту.
— Ну а теперь, — зло усмехнулся он, не отнимая от рта ладонь, — теперь найдите ему отца.
Он попробовал было встать, дойти до комнаты Сильвии, но тут у него закружилась голова и ноги подкосились. С того дня он слег в постель, полуживой, с перекошенным ртом.
К тому времени, когда дядюшка Маттео поднялся и мог уже немного ходить, Сильвия сама обо всем позаботилась. Сама отправилась к акушерке в Костильоле и сделала себе выкидыш. Никому ни слова не сказала. О том, где она побывала, узнали лишь через два дня, потому что в кармане у нее нашли железнодорожный билет. Она вернулась с синими кругами под глазами, лицо как у покойницы; вернулась и залила кровью свою постель. Умерла она, не сказав ни слова ни священнику, ни кому другому, только все тихонько звала: «Папа, папа».
К похоронам мы оборвали в саду и на усадьбе все цветы. В июне цветов много. Отец не знал, что ее хоронили, но услышал заупокойную молитву в соседней комнате, испугался и все пытался сказать, что он еще жив. Когда ему наконец разрешили выйти на веранду, он появился, поддерживаемый с двух сторон — синьорой Эльвирой и отцом Артуро. Берет у него был надвинут на самые глаза, и он молча сидел, грелся на солнышке. Артуро со своим отцом от него не отходили и сменяли друг друга.
Теперь на Артуро косо поглядывала мать Сантины. После того как старик заболел, она не хотела, чтоб Ирена вышла замуж и унесла с собой приданое. Пусть лучше сидит дома старой девой, пусть лучше приглядывает за Сантиной — придет день, когда девочка станет хозяйкой. Дядюшка Маттео уже не мог говорить, хорошо еще, что подносил ложку ко рту. Расчеты с управляющим и нами теперь вела синьора, которая повсюду совала свой нос.
Но Артуро оказался ловкачом и сумел себя поставить. Теперь он готов был жениться на Ирене как бы из одолжения, потому что после истории с Сильвией все поговаривали, что девушки на Море распутные. Он ничего такого не говорил, приходил на Мору с серьезным видом, проводил время со стариком, ездил на нашей лошади в Канелли с разными поручениями, а по воскресеньям в церкви сидел рядом с Иреной, подавал ей святую воду. Он теперь ходил в темных костюмах, заботился о лекарствах для старика. Еще не женившись, он уже проводил все время с утра до вечера в доме и на полях. Ирена согласилась пойти за него, лишь бы уехать, лишь бы не видеть больше замок Нидо на холме, не слышать ворчания мачехи, не видеть ее козней. Она вышла за него в ноябре, через год после смерти Сильвии; свадьбу отпраздновали скромно, потому что траур еще не кончился, а дядюшка Маттео был совсем плох. Они уехали в Турин; синьора Эльвира изливала душу Эмилии и Серафине: никогда бы она не поверила в такую неблагодарность, она же Ирену за родную дочь считала! На свадьбе всех красивей и нарядней была одетая в шелковое платье Сантина, хотя ей было всего шесть лет.
В ту весну я уходил в солдаты, и меня уже не особенно интересовало, что происходит на Море. Вернулись из Турина Ирена с Артуро, и он принялся командовать. Пианино он продал, продал и лошадь, продал часть еще не скошенного сена. Ирена, поверившая было, что будет жить в новом доме, теперь потянулась к отцу, стала за ним ухаживать, хлопотать вокруг него. Артуро дома почти не бывал. Снова начал играть, ходить на охоту, закатывать ужины для приятелей. Когда я через год в первый и в последний раз приехал на Мору, от приданого — половины всего хозяйства — уже ничего не осталось, а Ирена жила с Артуро в Ницце, и у них была всего одна комната; Артуро ее бил.
XXX
Помню летнее воскресенье — в то время еще была жива Сильвия, а Ирена еще была молодой. Мне тогда, должно быть, было лет семнадцать-восемнадцать, и я уже начал гулять по окрестным деревням. Первого сентября в Буон Консильо был праздник. Сильвия с Иреной решили на него не ехать; знакомых у них было немало — все чаи да визиты, — но то ли поссорились они со своими ухажерами, то ли наряды не были готовы. Они лежали в креслах-качалках, поглядывая на небо над голубятней. В то утро я хорошенько вымыл шею, надел новую рубашку, новые башмаки, сходил в селение и теперь бодро возвращался, чтобы перекусить и поскорей сесть на велосипед. Нуто еще накануне отправился в Буон Консильо — он играл на танцах.
Сильвия с веранды спросила, куда я собираюсь. Казалось, она хотела со мной поболтать. Она иной раз говорила со мной, кокетливо улыбаясь, как улыбаются красивые девушки, зная, что они красивы, и тогда я забывал, что я только батрак. Но в тот день я торопился, был как на иголках.
— Чего ты коляску не запряжешь? — спрашивала Сильвия. — Быстрей доедешь. — Потом она крикнула Ирене: — А может, поедем в Буон Консильо? Угорь нас отвезет и за лошадью присмотрит.
Мне все это пришлось не по душе, но делать было нечего. Они спустились вниз с корзинкой закусок, с зонтиками, с пледом. Сильвия была в цветастом платье, Ирена оделась во все белое, и обе вышли в туфлях на высоких каблуках. Они сели в коляску и раскрыли зонтики.
Я радовался, что так хорошо умылся: Сильвия со своим зонтиком сидела рядом со мной, от нее пахло цветами. Я видел ее маленькое розовое ушко с дырочкой для серег, видел ее белую шею и знал, что за мной сидит золотоволосая Ирена. Они разговаривали друг с другом: речь шла о тех молодых людях, что их посещали; они смеялись над ними, выискивали у них недостатки; вспомнив обо мне, говорили, чтобы я не прислушивался. Потом стали гадать, кто приедет в Буон Консильо. Когда начался подъем, я, чтоб не утомлять коня, сошел и зашагал рядом с коляской, а Сильвия взяла в руки вожжи.
В пути они расспрашивали меня, кому принадлежит дом, часовня, усадьба, мимо которых мы проезжали, по я знал только о том, какой в этих местах виноград, а о хозяевах никогда ничего не слыхал. Мы обернулись, чтоб взглянуть на колокольню в Калоссо, и я показал им, в какой стороне осталась Мора.
Потом Ирена спросила у меня, неужели это правда, что я не знаю своих родителей. Я ей ответил, что мне и без них спокойно живется, и тогда Сильвия оглядела меня с головы до ног и вдруг совсем серьезно сказала Ирене, что я красивый парень, не поверишь, что я из здешних мест. Ирена, чтоб меня не обидеть, сказала, что руки у меня красивые, и я их тотчас же спрятал. Тогда и она засмеялась, как Сильвия.
Потом они опять принялись толковать о своих обидах и о нарядах, и так мы добрались до Буон Консильо.
Чего там только не было — и лотки с миндальными сластями, и флажки повсюду, и повозок полно, и тиры открыты — то и дело слышны хлопки выстрелов. Я отвел лошадь под платаны, где была коновязь, распряг ее и бросил ей сена. Ирена с Сильвией все спрашивали: «Где будут скачки?» Но до скачек времени еще было вдоволь, и они стали разыскивать своих друзей. Я приглядывал за конем, но и о празднике не забывал.
Мы приехали рано. Нуто еще не начал играть, но слышно было, как настраивали инструменты, как музыканты не в лад трубили, свистели, пыхтели, дурачились, как могли. Нуто я увидел, когда он пил сельтерскую с братьями Серауди. Они стояли на площадке за церковью, откуда был виден холм напротив, и виноградники, и берег реки до самого леса. Сюда, в Буон Консильо, люди стекались отовсюду, со всех окрестных холмов, с самых дальних усадеб, из горных деревушек по ту сторону Манго, куда никто не заглядывал, — там и дорог-то нет, одни только козьи тропы. Они добирались сюда на телегах, в повозках, на велосипедах, а кто и пешком. На площади толпились девушки, старухи шли в храм помолиться, мужчины глазели по сторонам. Господа, нарядно одетые барышни, мальчики в галстуках ждали начала мессы у входа в церковь. Я сказал Нуто, что приехал с Иреной и Сильвией, и вскоре мы увидели, как они хохочут со своими приятелями. Платье Сильвии, в цветах, оказалось самым нарядным.
Вместе с Нуто мы отправились взглянуть на лошадей в конюшне при траттории. Один парень со станции, звали его Биццарро, задержал нас у входа и велел постоять на стреме. Вместе с другими ребятами они откупорили бутылку с вином, половину пролили на землю. Но они не собирались пить. Остаток шипучего вина налили в миску и дали полакать черному, как спелая тутовая ягода, коню Лайоло, а потом стукнули его раза четыре рукояткой кнута по задним ногам, чтоб хорошенько взбудоражить. Лайоло стал брыкаться, выгибая хвост, как кот. «Молчок, — сказали они, — вот увидишь, приз теперь за нами».
Но тут у порога показалась Сильвия со своими ухажерами.
— Уже пить начали, — сказал нам пришедший с ней веселый толстяк. — Потом вместо лошадей побежите.
Биццарро расхохотался, отер пот красным платком и сказал:
— Пусть девушки побегают, они легче нас.
Нуто отправился к церкви славить богоматерь. Перед церковью все выстроились в два ряда, оттуда выносили статую мадонны. Нуто подмигнул нам, сплюнул, обтер рот рукой и взялся за кларнет. Играли они так, что, должно быть, даже в Манго было слышно.
Мне нравилось стоять на площади, в тени платанов, слушать голоса труб и кларнетов, видеть, как люди то становились на колени, то бежали, а мадонна, покачиваясь, возвышалась над толпой — статую несли на плечах. Потом показались священники, мальчики в длинных белых одеяниях, старухи, господа. Мне нравились запах ладана, зажженные свечи в ярком солнечном дне, цветастые платья, девушки, лоточники, продавцы миндаля в сахаре, хозяева тиров и балагана — все, кто стоял под платанами и глазел на процессию.
Мадонну обнесли вокруг площади; кто-то пустил шутихи. Я увидел, как Ирена заткнула себе уши. Смотрю на нее: не волосы — чистое золото. Я был рад, что привез их сюда в коляске, что я вместе с ними на празднике. Я отошел на минутку к нашей коляске, чтоб подобрать раскиданное сено, и заглянул в коляску, чтобы проверить, на месте ли плед, шарфы, корзинка с едой.
Потом начались скачки, и музыка снова заиграла, когда выводили лошадей. Я глаз не спускал с платья в цветах и с белого платья, видел, как обе они болтают, смеются; чего бы я только не отдал, чтоб быть одним из этих молодых людей и танцевать с ними!
Лошади дважды, на спуске и на подъеме, промчались мимо платанов — такой стоял топот, будто на Бельбо начался паводок. На Лайоло скакал незнакомый мне парень, он согнулся в три погибели и что есть мочи нахлестывал коня.
Биццарро стоял рядом со мной и ругался, потом закричал «ура», когда другая лошадь споткнулась и упала; Лайоло вскинул морду и рванулся вперед. Биццарро снова выругался, сорвал с шеи платок, обозвал меня ублюдком, а братья Серауди пустились в пляс и стали лягаться, как козы; потом поднялся шум в другой стороне; Биццарро бросился ничком на траву и покатился по ней, невзирая на свой вес, боднул головой землю; тут снова все закричали — победила чья-то лошадь из Нейве, а ребята с фермы Серауди все резвились.
Потом я потерял из виду Ирену и Сильвию. Я обошел все тиры, все места, где играли в карты, посидел в траттории, послушал, как ругаются между собой владельцы лошадей, которые пили одну бутылку за другой, а приходский священник пытается их помирить. Тут кто пел, кто сквернословил, а кто уже закусывал колбасой и сыром. Девушки в такое место наверняка не заглянут.
Тем временем Нуто и другие музыканты уже заняли свои места на площадке для танцев и заиграли. Ясный, чистый, прозрачный вечер наполнился музыкой и смехом. Я бродил вокруг балаганов, смотрел, как ветер полощет холстину, прикрывавшую вход; вокруг выпивали и курили парни, кое-кто уже приставал к лоточницам. Перекликались мальчишки, вырывали друг у друга сласти, галдели.
Я пошел взглянуть, как танцуют на площадке под полотняным навесом. Братья Серауди уже плясали. Они пришли со своими сестрами, но я на них и не взглянул — искал платье в цветах, искал белое платье. Вдруг я увидел их в свете газового фонаря, они прижимались к своим кавалерам, танцевали, положив им голову на плечо, плыли куда-то под музыку. Будь я таким, как Нуто, подумал я… Я подошел к Нуто, и он велел налить мне полный стакан — как музыканту.
Потом Сильвия нашла меня на лугу, я лежал возле жевавшего сено коня. Лежал и смотрел, как зажигаются в небе звезды. Вдруг я увидел ее веселое лицо, платье в цветах — она заслонила мне небо.
— Да он тут спит! — крикнула Сильвия.
Тогда я вскочил на ноги, но их ухажеры подняли шум, хотели, чтобы девушки остались подольше. Вдали, где-то за церковью, запели песню. Один из кавалеров вызвался проводить туда Сильвию с Иреной. Но другие барышни говорили:
— А как же мы?
Мы выехали, когда еще горели газовые фонари: медленно, в кромешной тьме спускались с горы, прислушиваясь к стуку подков. А хор за церковью все пел. Ирена укуталась в шарф, а Сильвия говорила без устали — о людях, которых они повстречали, о танцорах, о том, какое в этом году лето. Она у всех находила недостатки и не переставала смеяться. Потом они спросили меня, была ли там моя девушка. Я ответил, что был все время с Нуто, смотрел, как играют музыканты.
Сильвия понемногу притихла и положила мне голову на плечо, потом улыбнулась и спросила, не мешает ли она мне править. Я крепко держал в руках вожжи и смотрел прямо перед собой, на уши коня.
XXXI
Нуто взял к себе в дом Чинто, чтоб обучить его столярному делу и музыке. Мы с Нуто договорились — если мальчишка окажется толковым, я со временем подыщу ему работу в Генуе. И еще договорились отправить его в Алессандрию, в больницу, пусть врач посмотрит ногу. Жена Нуто возражала, говорила, что в доме у них и без того много народу, одних работников сколько, да еще верстаки повсюду расставлены, одним словом, некогда ей с Чинто возиться. Мы ей объяснили, какой Чинто смышленый. Я отозвал его в сторонку, сказал, что здесь не то что в Гаминелле — перед столярной мастерской дорога, полно машин, грузовиков, мотоциклов, гоняют в Канелли и обратно, — пусть глядит в оба, когда дорогу переходит.
Значит, Чинто мы пристроили, а на другой день я должен был уехать в Геную. Утро я провел в доме на Сальто. Нуто от меня ни на шаг.
— Значит, уезжаешь, — говорил он. — Не вернешься к сбору винограда?
— Может, снова двину за океан, — сказал я ему. — На тот год вернусь к празднику.
Нуто по своему обыкновению сложил губы трубочкой.
— Мало ты побыл, — сказал он мне. — Так мы толком и не поговорили..
А я смеялся?
— Успел тебе нового сынишку подыскать!
Когда встали из-за стола, Нуто схватил пиджак и взглянул на вершину холма:
— Заберемся повыше. Там твои места.
Мы прошли через рощу, по мостику через Бельбо и очутились среди акаций на дороге, ведущей в Гаминеллу.
— Может, взглянем на дом? — спросил я. — Валино, как-никак, тоже был человек.
Мы поднялись по тропе. Увидели черный остов сгоревшего дома и за шпалерами винограда — ореховое дерево, теперь оно казалось огромным.
— Только виноградник и сохранился, — сказал я. — Стоило Валино стараться, подрезать лозу… Река, с которой Валино воевал за каждый клочок земли, возьмет теперь свое.
Нуто молчал и разглядывал двор, заваленный камнями, весь в пепле. Я побродил среди развалин, даже вход в винный погреб не найти, везде обломки. У берега чирикали воробьи, безнаказанно клевавшие виноград.
— Съем-ка я инжир, теперь все равно никому убытка не будет.
Сорвал и почувствовал давно мне знакомый аромат.
— Хозяйка виллы вырвала бы у меня этот инжир изо рта, — сказал я.
Нуто молча глядел на холм.
— Теперь и эти мертвы, — сказал он. — Сколько народу перемерло с тех пор, как ты покинул Мору.
Тогда я уселся на бревнышке, все на том же бревнышке, и сказал ему, что все покойники на свете не заставят меня позабыть о дочерях дядюшки Маттео.
— Ну, пусть Сильвия, она хоть дома умерла. Но Ирена? Связаться с этим негодяем… Испытать такое… И кто знает, как умерла Сантина?..
Нуто подкидывал на ладони камешки и поглядывал на вершину холма.
— Хочешь, заберемся на самую вершину Гаминеллы? — сказал он. — Пошли, отсюда недалеко.
Мы двинулись; Нуто шагал впереди меня между рядами лоз.
Я узнавал эту иссохшую, побелевшую от зноя землю; ноги скользили по траве, в воздухе стоял терпкий запах трав, цветов и зреющего на солнце винограда. Небо прорезали длинные полосы, ветер гнал белесую пену облаков, будто в небе лился расплавленный металл, прочерчивая Млечный Путь к звездам. Я думал о том, что завтра буду на виа Корсика, и вспомнил в эту минуту, что море тоже бороздят полосы течений и что еще мальчишкой, вглядываясь в облака и в звезды на небе, я, сам того не зная, уже начал свои странствия.
Нуто подождал меня на гребне холма и, когда я подошел, сказал:
— Ты Санту не видел, когда ей исполнилось двадцать. А стоило, право же, стоило поглядеть. Она была красивей Ирены, глаза как два темных цветка… Но оказалась сукон, подлой сукой…
— Неужто и вправду так? — Я остановился и взглянул на долину. В молодости я сюда ни разу не забирался. Вдали можно было разглядеть даже дома Канелли и вокзал, а справа темнела роща Каламандрана. Я понимал, что Нуто вот-вот все мне расскажет, и почему-то вспомнил о празднике в Буон Консильо.
— Был я там однажды с Иреной и Сильвией, — начал я. — Запрягли коляску. Я совсем еще был молодым. Оттуда видны были самые дальние деревни, усадьбы, дворики, каждое пятнышко. Были скачки, и все мы словно помешались… Теперь я даже не помню, кто победил, помню только усадьбы по склонам и платье Сильвии, розово-фиолетовое, в цветах…
— Санта тоже, — сказал мне Нуто, — однажды поехала со мной на праздник в Буббио. Был такой год, когда она ходила на танцы, только когда я играл в оркестре… Тогда еще была жива ее мать… Тогда они еще не покинули Мору… — Он обернулся ко мне. — Пойдем? — И снова повел меня вверх. Временами он оглядывался по сторонам, искал дорогу. Я думал о том, что все повторяется — перед глазами у меня был Нуто, который правил коляской, отвозил Санту на праздник. Как я когда-то возил сестер.
Среди туфа над виноградниками показался первый грот — один из тех, где обычно хранят мотыги, а если там родник, то в тени над водой растут бледные цветы. Мы прошли мимо худосочного виноградника, заросшего папоротником и маленькими желтыми цветками с жестким стеблем — растут они в горах, и я знал, что стоит их только хорошенько разжевать и приложить к ссадине, сразу заживет. А тропа вела все выше и выше по склону холма: мы миновали уже одну усадьбу, ушли далеко от жилья.
— Ну что же, — вдруг сказал Нуто, не поднимая глаз, — отчего же не рассказать тебе, как ее прикончили? Ведь я знаю, я был при этом.
Он зашагал почти ровной дорожкой, огибавшей гребень холма. Я ничего ему не ответил, ждал, что он сам скажет, глядел себе под ноги и поднимал голову, только когда вспархивала птица или пролетал майский жук.
Было время, начал Нуто, когда он приходил в Канелли, шел по ее улице и глядел вверх — занавешены окна или нет. Люди многое болтали. На Море тогда уже жил Николетто, Санта его терпеть не могла и тотчас же после смерти матери сбежала в Канелли, сняла себе комнату, стала учительствовать. Но такой уж была Санта — вскоре она нашла себе работенку в фашио[45], и пошел слух, что она путается то с майором чернорубашечников, то с фашистским подестой, то с секретарем фашио, словом, со всей этой сволочью — все они у нее перебывали. Ей бы, такой красивой и ладной, разъезжать на машине, блистать на ужинах в виллах, в господских домах, отдыхать на водах в Акви, а она окружила себя этими мерзавцами.
На улице Нуто старался ее обходить, но всегда поднимал глаза к занавескам, когда проходил под ее окнами. Потом настало лето сорок третьего, сладкая жизнь кончилась и для Санты. Нуто по-прежнему бывал в Канелли, разведывал и передавал партизанам сведения, но больше не поднимал кверху глаз, проходя мимо ее дома. Говорили, что Санта сбежала в Алессандрию с офицером-чернорубашечником.
Потом пришел сентябрь, вернулись немцы, вернулась война. Солдаты, переодетые в гражданское, босые, голодные, расходились по домам, чтобы скрыться. По ночам фашисты не переставали стрелять, люди говорили: «Так и знали, что этим кончится». Однажды Нуто услышал, что Санта вернулась в Канелли, что она снова работает в фашио, пьянствует и спит с чернорубашечниками.
XXXII
Нет, он не поверил. Он не верил до самого конца. Однажды он встретил ее на мосту, она возвращалась со станции. Санта была в серой шубке, раскрасневшаяся от мороза, в ботиках на меху, глаза ее весело искрились. Она его остановила:
— Как дела в Сальто? Ты по-прежнему играешь в оркестре?.. О Нуто, я боялась, что и тебя отправили в Германию… Им там, должно быть, скверно приходится… Твоих не трогают?
В те времена пройти по улицам Канелли было делом опасным. Повсюду патрули, немцы. Да и такой девушке, как Санта, не стоило заговаривать на улице с простым деревенским парнем. У Нуто в тот день было неспокойно на душе, и он отвечал ей только «да» и «нет».
Потом он снова встретился с ней в кафе «Спорт», она сама вышла на улицу и пригласила его войти. Нуто пристально вглядывался в лицо каждого нового посетителя, но то было спокойное солнечное воскресное утро — в такое утро люди ходят в церковь.
— Ты меня знал, когда я была вот такой, — говорила Санта, — ты мне должен верить. В Канелли есть скверные люди. Будь их воля, они бы меня на костре сожгли… Им по душе, если девушка коротает свой век как дура. Они бы хотели, чтоб я, как Ирена, целовала руку, которая меня бьет. Но я не из таких, я горло перегрызу тому, кто на меня руку поднимет. Ох, уж эти людишки, из них и негодяев-то настоящих не выйдет.
Санта курила сигареты, которых в Канелли нельзя было достать, она и его угостила.
— Бери, — сказала она, — возьми себе все, у вас там, в горах, должно быть, много курильщиков без табака… Сам видишь, что получилось, — говорила Санта, — оттого что я сдуру кое с кем здесь водилась, даже ты отводишь глаза, когда встречаешь меня на улице. А ведь ты знал мою маму, знаешь меня… Ты меня на праздник возил… Думаешь, мало мне зла причинили подлецы, которые здесь раньше хозяйничали? Но я должна жить среди них, есть их хлеб, потому что я всегда жила своим трудом, меня никто не содержал… Если б я только могла сказать все, что думаю, что у меня накипело на сердце!..
Санта говорила ему это за мраморным столиком в кафе; она глядела на Нуто без улыбки, у нее, как у сестер, были влажные, обиженные глаза, нежные, зовущие губы. Нуто с ней долго говорил, чтоб понять, лжет она или нет, даже сказал ей, что в такие времена надо на что-то решаться, быть по одну или по другую сторону и что он, Нуто, сделал свой выбор: он с теми, кто бросил фашистскую армию, он с патриотами, он с коммунистами. Ему бы сказать ей, чтоб она вела для них разведку в штабах, но он не посмел подвергать опасности женщину, да еще такую, как Санта, об этом он и подумать не мог.
А вот Санта подумала и передала Нуто уйму сведений — о переброске войск, о штабных инструкциях, о разговорах, которые вели фашисты. Как-то раз она дала ему знать, чтобы он не приходил в Канелли — опасно! И на самом деле, немцы в тот день устроили облаву на площадях и по кафе. Санта говорила, что ей ничто не угрожает, что ее прежние знакомые, всякая сволочь, сами приходят, чтоб излить ей душу; ей было бы тошно их слушать, если бы она не думала о том, какую пользу полученные от них сведения могут принести патриотам. В то утро, когда чернорубашечники расстреляли под платаном двоих ребят и бросили их там как собак, Санта на велосипеде добралась до Моры, а потом наведалась на Сальто, чтобы поговорить с матерью Нуто. Она сказала ей, что, если у них хранится ружье или пистолет, лучше зарыть их в песок у реки. Через два дня пришли чернорубашечники и перевернули вверх дном все в доме.
Настал день, когда Санта взяла Нуто под руку и сказала ему, что больше так жить не может. На Мору вернуться нельзя: жить в одном доме с Николетто невыносимо, а продолжать работу в Канелли после этих расстрелов опасно. Она просто боится потерять рассудок: если тотчас же не кончится эта жизнь, она сама возьмет пистолет и кого-нибудь застрелит. Ей лучше знать кого — может, и себя.
— Я бы тоже ушла в горы, — сказала она Нуто. — Но как быть — меня пристрелят в первую же минуту. Все знают, что я водилась с фашио.
Тогда Нуто устроил ей встречу с Бараккой. Ему он рассказал обо всем, что она для них сделала. Баракка слушал, глядя себе под ноги. Ей он сказал только одно:
— Возвращайся в Канелли.
— Да нет же… — возразила Санта.
— Возвращайся в Канелли и жди приказаний. Мы передадим их.
Через два месяца — это было в конце мая — Санта бежала из Канелли: ее предупредили, что ее вот-вот схватят. Хозяин кинотеатра рассказал, что немецкий патруль устроил у нее обыск. В Канелли об этом все говорили. Санта удрала в горы к партизанам. Нуто теперь от случая к случаю узнавал о ней от тех, кто ночью приходил к нему, чтоб передать новое задание. Все говорили, что она управляется с оружием не хуже мужчины и заставила себя уважать. Не будь старушки мамы и дома, который могли поджечь, Нуто сам отправился бы в отряд, чтоб помочь ей.
Но Санта в помощи не нуждалась. Когда в июне фашисты прочесывали горы и на этих тропах погибло много партизан, Санта всю ночь оборонялась вместе с Бараккой в одной усадьбе за Сулергой. Она сама вышла из укрытия и крикнула фашистам, что знает их всех как облупленных и никого не боится. Наутро ей вместе с Бараккой удалось бежать.
Нуто рассказывал тихим голосом, то и дело останавливаясь, озираясь по сторонам. Он глядел на стерню, на опустевшие виноградники, на склон холма.
— Вот здесь пройдем, — говорил он.
Место, куда мы с ним сейчас забрались, из долины даже не разглядеть; отсюда в дымке тумана все кажется маленьким и далеким. А вокруг лишь крутые склоны, вершины.
— Ну, мог бы ты подумать, что холм Гаминелла такой большой? — спросил он.
Мы остановились у какого-то виноградника, в ложбинке, защищенной от ветра акациями. Здесь стоял полуразрушенный дом с почерневшими стенами. Нуто отрывисто сказал:
— Тут были партизаны. Усадьбу сожгли немцы. Однажды вечером за мной в Сальто пришли двое вооруженных ребят, я знал обоих. Мы прошли той же дорогой, что сегодня. Добрались сюда уже ночью; они сами не знали, чего от меня хочет Баракка. Когда мы проходили мимо усадеб, слышен был только лай собак, люди не показывались, огня не зажигали — знаешь, как бывало в те времена. Неспокойно было у меня на душе.
В одной усадьбе под портиком горел огонь. Во дворе стоял мотоцикл, прямо на земле лежали одеяла. Ребят там было немного. Лагерь у них был вон в том лесу, пониже.
Баракка сказал, что позвал его, чтоб сообщить дурные вести. Есть доказательства, что Санта шпионка, что она руководила июньской облавой, что она выдала Национальный комитет освобождения в Ницце, раскрыла немцам, где партизанские склады, что ее записки передавали в фашио. Баракка, бухгалтер из Кунео, человек решительный, побывавший и в Африке, понапрасну слов не тратил… Его потом чернорубашечники все-таки схватили и повесили у своей казармы… Он сказал Нуто, что только одного не понимает — отчего Санта оборонялась вместе с ним до конца в ту ночь, когда была облава. «Должно быть, оттого, что ты уж очень ей по вкусу пришелся», — ответил Нуто, но сам он был в отчаянии, и голос у него дрожал. Баракка ему сказал, что Санта с кем только не путалась. Значит, и это было. Почуяв опасность, она нанесла свой последний удар — удрала и увела с собой двух лучших ребят. Теперь речь шла о том, чтоб схватить ее в Канелли. Был уже письменный приказ.
— Баракка продержал меня здесь, в горах, трое суток — то ли хотел мне душу излить в разговорах о Санте, то ли опасался, как бы я не встрял в это дело. Однажды утром Санту привели партизаны. Теперь на ней не было куртки и брюк, которые она носила все эти месяцы. Из Канелли она выбралась в светлом летнем платье. Когда партизаны задержали ее на холме Гаминелла, Санта сделала вид, будто с луны свалилась. Она, мол, принесла с собой сведения о новых фашистских приказах. Но ей ничто не помогло. Баракка при всех предъявил ей счет — сколько дезертировало по ее наущению, сколько складов мы потеряли, сколько ребят из-за нее погибло. Санта слушала, сидя на стуле, — отвечать ей было нечего. Она глядела на меня своими обиженными глазами, старалась встретиться со мной взглядом… Тогда Баракка объявил ей приговор и велел двоим вывести ее. Казалось, ребята были поражены больше самой Санты. Они всегда видели ее в перетянутой ремнем куртке и не могли привыкнуть к тому, что теперь у них в руках женщина в светлом платье. Они вывели ее из дому. На пороге она обернулась, пристально взглянула на меня и скорчила гримасу, как девочка… Но со двора попыталась бежать. Мы услышали крик, топот ног и очередь из автомата, которая, казалось, никогда не кончится. Вышли и мы — она лежала на траве под акациями.
У меня перед глазами в ту минуту был Баракка, один из многих повешенных. Глядя на растрескавшуюся черную стену, я спросил у Нуто, здесь ли похоронена Санта.
— Может, и ее когда-нибудь найдут, как тех двоих?.. Нуто сел на каменную изгородь и покачал головой:
— Нет, Санту не найдут. Такую женщину, — он пристально взглянул на меня, — нельзя было зарыть в землю и бросить. Ее слишком многие помнили. Баракка обо всем позаботился. Он велел нарубить сухой лозы и завалить ее тело сучьями. Потом мы облили сучья бензином и подожгли. К полудню остался один пепел. Еще в прошлом году был виден давний след костра.
Примечания
1
Д. Лайола, Абсурдный порок, Милан, изд-во «Саджаторе», 1960.
(обратно)2
Ч. Павезе, Письма, т. II, Турин, изд-во «Эйнауди», 1966.
(обратно)3
Ч. Павезе, Работа утомляет, Флоренция, изд-во «Солариа», 1936.
(обратно)4
Ч. Павезе, Письма, т. II, Турин, изд-во «Эйнауди», 1966.
(обратно)5
Дж. Контини, Литература объединенной Италии, 1861–1968, Флоренция, изд-во «Сансони», 1970.
(обратно)6
А. Моравиа, Человек как цель и другие очерки, Милан, изд-во «Бомпиани», 1964.
(обратно)7
Ч. Павезе, Письма, т. II, Турин, изд-во «Эйнауди», 1966.
(обратно)8
К. Салинари, Прелюдия и конец реализма в Италии, Неаполь, изд-во «Морано», 1967.
(обратно)9
Д. Лайола, Абсурдный порок, Милан, изд-во «Саджаторе», 1960.
(обратно)10
Статья Л. Пиччони в «Пополо» от 19 января 1950 г.
(обратно)11
Ч. Павезе, Письма, т. II, Турин, изд-во «Эйнауди», 1966.
(обратно)12
Там же.
(обратно)13
Ч. Павезе, Письма, т. II, Турин, изд-во «Эйнауди», 1966.
(обратно)14
Д. Лайола, Абсурдный порок, Милан, изд-во «Саджаторе», 1960.
(обратно)15
К. Салинари, Прелюдия и конец реализма в Италии, Неаполь, изд-во «Морано», 1967.
(обратно)16
Д. Лайола, Абсурдный порок, Милан, изд-во «Саджаторе», 1960.
(обратно)17
«Летучка» — летучая бригада, мобильный отряд полиции.
(обратно)18
Сангоне — приток По.
(обратно)19
Фрагола — вино, выделываемое из американского сорта винограда, имеющего земляничный привкус.
(обратно)20
Кого бог хочет погубить (подразумевается — лишает разума) (лат.).
(обратно)21
Окаянные женщины (франц.).
(обратно)22
В монастырях (франц.).
(обратно)23
Балилла — детская фашистская организация, существовавшая в период диктатуры Муссолини.
(обратно)24
Финоккьо — съедобный корень тмина.
(обратно)25
Палаццо Венеция — резиденция Муссолини.
(обратно)26
Бьонда — по-итальянски блондинка.
(обратно)27
Сторнели — народные песни.
(обратно)28
«Народные смельчаки» — рабочие дружины, организованные в Италии для боевого отпора фашистским налетам и насилиям.
(обратно)29
Сквадристы — члены фашистских боевых отрядов.
(обратно)30
Посвящается К. В зрелости — всё (англ.).
(обратно)31
Полента — кукурузная каша или лепешки.
(обратно)32
Подеста — мэр во времена фашизма.
(обратно)33
Валерио — партизанский полковник, казнивший Муссолини в апреле 1945 года.
(обратно)34
Джанкарло Пайетта — член руководства ИКП.
(обратно)35
Грязное ремесло (франц.).
(обратно)36
Ад, а не жизнь (англ.).
(обратно)37
Знаешь, такое милое местечко (англ.).
(обратно)38
Лови свой случай, беби (англ.).
(обратно)39
А может, наоборот: это ты со мной, потому что я женщина (англ.).
(обратно)40
Понимаешь, внешность — твой единственный бесплатный агент по рекламе (англ.).
(обратно)41
Джин времен сухого закона (англ.).
(обратно)42
Оттого что я «уоп» (англ.). «Уоп» — презрительная кличка итальянцев в США.
(обратно)43
В любое время (англ.).
(обратно)44
Я проиграла битву (англ.).
(обратно)45
Фашио — местная организация фашистской партии.
(обратно)





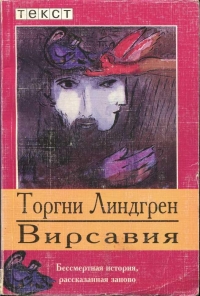

Комментарии к книге «Избранное», Чезаре Павезе
Всего 0 комментариев