В. П. Боткин Русский в Париже. Из путевых записок
Давно сбираюсь я писать к вам о Париже. Сколько раз брался я за перо с намерением сказать что-нибудь о картине Парижа, о знаменитом его Пале-Рояле, о его веселых бульварах; и всякий раз, когда принимаюсь за перо, каждый из этих предметов влечет за собой столько воспоминаний. Эти кривые, запачканные улицы Парижа имеют на себе так много великих, вековых следов, что в голове подымается целый хаос событий. Во Франции настоящее так тесно слито с сорокалетними событиями, [1] что даже одно название улиц Парижа приведет вас в недоумение, если станете читать надписи их, не зная истории Парижа. Вся история Франции девятнадцатого столетия сосредоточена здесь. Так, начиная говорить о Пале-Рояле, невольно думаю я о том времени, когда Камилл Демулен, заткнув себе в шляпу ветку липы, заговорил народу на широком дворе его; стул, на который стал он тогда, был родоначальником трибюны. [2] И потом воображаю я бал, блестевший в июле 1830 в этом дворце, бал светлый, беззаботный, и мрачную толпу народа, глухо волнующуюся перед окнами дворца и разражающуюся в дикий напев национальной песни, заглушившей оркестр, смутившей ясные лица веселых гостей. А сколько грустных и вместе важных мыслей возбуждает эта обширная площадь, обставленная прекрасными зданиями, с которой так красуется величественная палата депутатов и мост с колоссальными статуями знаменитых людей старой Франции; [3] сколько крови разбрызгано по ней, сколько немых раскаяний некогда приняла она, увенчанная гильотиною! Париж надувал наших добрых стариков, прикидываясь гулякою, беззаботным весельчаком; смотря в тусклые очки, старики наши не замечали под напудренным париком красного колпака, [4] не разглядели лица, скрытого под маскою. Теперь Париж ходит с открытым лицом, и если еще шутлив и весел, то только из добродушия…
Однако ж, я постараюсь сбросить с себя тяжесть минувшего; может быть, мне удастся дать вам некоторое понятие о Париже, если поведу вас на бульвары, кругом опоясывающие его: там потерял он запачканную свою физиономию; там он чист и свеж. Ступайте по этим бульварам в летний вечер; что это за прелесть! Под густыми, высокими вязами, отеняющими обе стороны улицы, бесконечною, светлою цепью тянутся магазины, лавки, кофейные, ресторации, театры: и все это полно народом, кипит жизнию. Зелень, освещенная ярким газом, переливается какими-то серебристыми отливами; местами цепь магазинов и кофейных прерывается, но прелесть картины увеличивается тогда: в этой тени все веселее, смех громче, остроты вольнее, эта тень придает колориту картины еще больше жизни. Подите на загородные балы Парижа, посмотрите на это милое, умное веселье, посмотрите на благопристойность, там царствующую, посмотрите, как работники веселятся с своими гризетками. Или пойдемте в ясный, теплый воскресный день в заветные Елисейские Поля: там под высокими вязами настроено множество лавочек, лавок, комедий. Сколько артистов показывают искусство свое на чистом воздухе: барабан, скамейка, стол, принадлежности бродячего гения. Около нас оркестры, танцы, фигляры. Здесь рыцарь мелкой промышленности вооружился огромными весами: не угодно ли вам узнать, сколько в вас пуд? Возле него другой предлагает вам пробовать силу руки Вашей. А вот лотереи, страсть парижан: в одной разыгрываются пряники, в другой картинки, в той стаканы, рюмки, бутылки – все, что пригодно для домашнего обихода; можете выиграть в лотерею, заплатя безделицу – одно или два су. Вот стрельба в цель из ружей и пистолетов; а этот добыл толстую доску, пробил в ней дыр с большое яблоко, сзади вставил стекла и предлагает вам деревянным шаром разбивать их. Вот физические и химические опыты: «Тут, – возвещает химик, – можете вы в несколько минут постигнуть все таинства природы, и все это только за два су!». Вот академия собак, и ученый член ее говорит длинную речь о трудности, системе и пользе образования собак; а вот пение, скрыпка и бубен: трое артистов поют куплеты из новых водевилей, романсы и даже номера из опер. Там дородная дама показывает образованность удава, обвивает его около шеи, берет в рот его голову и рекомендует, что он по своему уму годится в любые министры. Подойдемте к этой толпе – что тут? Человек с рыжими усами, в изношенном сюртуке, с огромною медалью стоит на столе; возле него на стуле лежит ящик с пакетцами и скляночками. Рекомендую вам: это зубной доктор. В длинной речи повествует он о своих всемирных путешествиях и открытиях на пользу зуб человечества. Этот порошок вывез он из южной Америки; он имеет свойство исцелять самую жестокую зубную боль, предохранять зубы от гниения; эликсир в скляночках их крепит и делает белыми, от Прикосновения порошка этого никакой червяк не усидит в зубу. Не верите? Погодите. Пышную речь свою доктор оканчивает словами: «Messieurs et mesdames, спешите исцелять зубы свои! Нет ли у кого больного зуба? Вы на опыте увидите искусство мое, исцеление будет не на час, а на целую жизнь!». Все молчат. Вот выходит из толпы мальчик лет тринадцати, он давно страдает зубами. Доктор, с приличною важностию осмотревши рот его, кладет на больной зуб порошок свой. – «Сожмите рот и садитесь». Снова распространяется доктор о чудных действиях порошка. – «Покажите мне зуб! – Messieurs et mesdames, смотрите, как ползет червяк из зуба: он не снес сокрушительного действия порошка моего». – Ив самом деле вынимает червяка изо рта бедного малого. Кто же после такого опыта не поверит искусству доктора! Посмотрите, сколько тянется к нему рук за зубными его порошками. А между тем уж и вечер: везде блестят огни, все весело; это прежние французы, без политики и революции; это все еще водевиль, полный жизни и народных типов, но в котором, если вы пристально вглядитесь, уже проглядывает важное лицо драмы и игривые куплеты оканчиваются задумчивою мечтою о будущности общественной.
Пойдемте по Парижу, посмотрите, какая во всем жизнь, приемлемость впечатлений, понятий. Француз умрет без публичных мест своих: посмотрите на эти тысячи кофейных, они все полны; там увидите вы семейства целые, женщин, детей. Парижанин мало живет дома: ему необходимо это множество литературных кабинетов, кофейных, рестораций. Ступайте в Пале-Рояль, под прохладную тень лип и каштанов; там во всякое время найдете вы сотни людей за журналами. Смышленая, мелкая промышленность построила тут несколько избушек, запаслась журналистикой Парижа, накупила стульев и за два су предлагает вам то и другое. Но я в жаркий день лучше люблю рощу Тюльери: там блеск и шум Парижа исчезает, взор встречает только темную зелень вязов, народу мало, тихо; там любил я в знойный полдень читать остроумного «Корсера» и «Шаривари». [5] Посмотрите общественные заведения Парижа: в Париже все публично, все открыто. Тогда как в Лондоне англичанин с угрюмым, холодным лицом требует с вас шиллинг за взгляд на всякую безделицу, принадлежащую государству, француз с радостию отворяет вам двери, узнавши, что вы иностранец; он горд и доволен тем, что вы приехали посмотреть на его belle France. [6] Ступайте в какое хотите общественное заведение: с вас не потребуют ни одного су. А эти курсы наук, открытые для всякого, эти тысячи средств научиться, образоваться, узнать, что и как делается на этом свете!.. Скажите, дивиться ли после того разливу идей в массе парижского народа, этому тревожному состоянию, недовольному настоящим, этому юношеству, преданному идеям отвлеченным, стремящемуся в действительности проявить фантастические мечты свои? Нет, вы ничему не подивитесь, смотря, как жадно читает эта толпа, как алчно пожирает все, что выбрасывают ей типографии. Париж – это жизнь народа, трепещущая всеми своими нервами, прорывающаяся из каждого отверстия своего; но этих отверстий ей недостаточно, и она работает, рвется, борется, отыскивая себе новые; это юность, кипучая, страстная, бешеная, увлекающаяся, вся преданная первому впечатлению… Нет, я не променяю этих кривых, запачканных улиц, этих разноцветных, закопченных порохом домов, усеянных балконами, на опрятный, просторный Лондон, с его угрюмою, деловою физиогномиею и рассудительным народом!
Погруженные в безмерную коммерческую деятельность, обязанные работать ежеминутно или преданные позорной праздности, размежеванные по количеству богатства, подверженные самовластию господствующей церкви или следующие мелочным и тесным правилам множества разнородных сект, англичане мало ощущают потребности в идеях общих. Каждый англичанин существо сложное: религия лежит у него на одной стороне, политические мнения – на другой, правила нравственности и поведения – на третьей. Заговорите с англичанином о религии: он неохотно станет отвечать вам. Его правила веры решены с детства, и он крепко держится за них. Может быть, он и атеист в глубине души, но по привычке, по какому-то чувству почтения к всемощному влиянию, какое воспитание и нравы целого народа имеют на отдельного члена общества, он притворится или станет молчать. Он не чувствует связи, соединяющей идеи религиозные с политическими. В этом народе чего-то не достает. Его построение велико, огромно, но темно. Не таков француз, не такова Франция, страна жизни бушующей, с страстями и мнениями напряженными, которая, кажется, чем больше тратит себя в отчаянных схватках своих с понятиями и предрассудками веков, тем больше снова вбирает в себя жизни и снова бьет и кипит пеною страстей и мыслей. Какой город, кроме Парижа, представляет вам больше жизни, идей, сект, мнений, этого стремления проявить их в действительности, стремления, выражающего преимущественно характер Франции! Давно ли видели мы, как учение политической экономии преобразовалось в религию, изрекавшую обществу новые законы нравственности и гражданственности; давно ли видели, как сектаторы публично, с увлекательным энтузиазмом, проповедовали свое учение, безденежно раздавали свои книги и журналы, и, теснимые правительством, избрали страну, которой не коснулась еще европейская цивилизация, и отправились сеять учение свое на девственной почве ее? [7] А эта фантастическая странность костюмов Парижа, эти прихоти самого расстроенного и мечтательного воображения, все наяву в лицах, этот хаос мнений, партий, сект, надежд, опасений… прислушайтесь к шуму его, у вас закружится голова, отупеет ум, не достанет воображения. В Германии разлито и более идей; но она спокойна; для нее идеи покуда существа отвлеченные, принадлежащие только книгам: о приложений их к быту общественному там покуда не думают. Далеко еще не разрешила Франция вопросы, ее обременяющие; она исполнена семян растения огромного: богу известно, когда возрастет оно! Приезжайте в Париж как человек, желающий только пожить весело, бросить несколько тысяч рублей на его удовольствия и забавы, и вы уедете из Парижа, имея о нем самое ложное понятие. Тогда вы будете похожи на стариков наших, которые толковали нам о забавах Парижа, не обращая внимание на. внутреннюю жизнь его. Париж обманчив для поверхностного наблюдения. Видали ли вы русского человека, у которого в разгульную минуту становится последняя копейка ребром, душа дешевле гроша, и через час после он удивляет вас самою тонкою расчетливостию, хладнокровием, скупостию на необходимые удобства жизни. Париж тоже имеет эти противоположные стороны. Он весел, разгулен, беззаботен, если хотите, по-прежнему; иногда для него вся политика заключается в модной идее общественной; он, словно за женщиной, волочится за нею, льстит ей, дерется за нее и после бросается за другою. Париж иногда надоест вам своими вздорными новостями, пустым болтовством, странною поверхно<стно>стью; но не спешите изрекать ему приговор, вглядитесь пристальнее. Париж шалит по добродушию, потому что уверен в себе: это Генрих IV, дающий ездить детям на спине своей; [8] это Гёте, который фанфаронит в гостиной. Для того чтоб понять Париж, надобно нам, людям Севера, медленным, хладнокровным, привыкшим и думать и говорить: «время не ушло еще» – нам, которых торопит жить только отдаленный гул движения европейского, – надобно запасаться особенною деятельностию души. Там прости наше dolce far niente! [9] Париж охватит вас своими бурными стихиями, втянет в свой гражданский омут; держитесь крепко: вы закружитесь; запаситесь деятельностию души и ума; вас окружат мнения страстные, страсти метафизические, вас увлекать станут сотни партий, к вам пристанет статья каждого журнала, не. отвяжется до тех пор, пока вы ле определите ее значения; вас изумит откровенное, громкое слово ума и страстей, вы услышите явственно шелест крыльев всемогущей современности, около вас заструится эфир девятнадцатого века; не дремлите: мимо вас полетят имена, идеи, мнения, знаменитости; если вы проспали вчера, для вас непонятно будет завтра. Франция и Париж мучатся, бессознательно очищающие себя для будущего; чтоб понять их, надобно вам самим измучиться. Тяжко лежишь ты, таинственное будущее, над скептическим Парижем. Париж не верит ни во что и ничему. Страшное состояние! Разрушить старое и не мочь ничего создать нового! Смотреть на одни развалины, развалины и развалины! Чувствовать потребность верить, и не находить, во что верить! Не дивитесь ужасному множеству самоубийств, случающихся в Париже: это непременное следствие ужасного состояния его. Париж стоит на рубеже между прошедшим и будущим, между верою и безверьем, смотрит с тоскливою задумчивостью вперед, не зная, утро ли теперь или уже вечер настоящей гражданственности? Грустно видеть, как этот скептицизм, которым дышит Париж, овладевает и могучими организациями, талантами генияльными. Прочтите последние сочинения Гюго, вникните в эту душу, размученную окружающими ее развалинами, сомнением во всем: вы поймете тяжкое состояние современной Франции.
К слову о Гюго; я расскажу вам о моем свидании с ним.
Уже с лишком месяц жил я в Париже, а мне не удалось еще видеть ни одного из известных писателей. Дюма уезжал осматривать берега Средиземного моря, Бальзак в Австрию, Ламартина и де-Виньи не было в Париже; тут оставался только Виктор Гюго. Но что за вести рассказывали о нем! На литературном вечере у *** [10] люди, по-видимому, образованные и занимающиеся литературою, уверяли меня, что Гюго помешался, не выходит из комнаты, не принимает никого к себе. Общее мнение всего литературного круга, сбиравшегося у ***, было то, что Гюго писатель с некоторым дарованием, но уклонившийся в дурную сторону и теперь уже потерявший всякое влияние на современную литературу. Тут же, я помню, один прекрасно разодетый молодой поэт с жаром доказывал, что «Notre-Dame de Paris» [11] может нравиться одним женщинам и им одним одолжен успехом своим. На меня, начавшего с глубоким уважением говорить о Гюго, смотрели как на северного варвара, спрашивающего о предмете давно решенном и несколько пошлом. Такие резкие, окончательные суждения посыпались на вопросы мои о Гюго, что я не осмелился даже возражать и замолчал с грустию и недовольством на душе. У *** сбиралось аристократическое общество известнейших светских литераторов; тут читались разные сонеты, послания к тому, к тому… Я был знаком с несколькими молодыми людьми мнений противоположных обществу, сбиравшемуся у ***. Это были пламенные последователи новых идей, пылкие энтузиасты, самоотверженные преобразователи настоящей цивилизации; тут обвиняли Гюго в недостатке положительных политических мнений, называли его поэтом, но поэтом слишком материяльным; тут сказывали мне, что Гюго ведет развратную жизнь, что ожесточенный критиками и ядовитыми статьями журналов, он отказался от своего поэтического призвания, впал в совершенную материяльность, забыл даже о семействе своем, живет с одною актрисою театра St.-Martin [12] и никого к себе не принимает. Что мне было делать? Несмотря на все это, желание видеть Гюго превозмогло, и я отыскал в парижском всеобщем адрес-календаре квартиру его, решился по русской пословице «спрос не беда» написать к нему письмо, в котором просил у него позволения быть у него и назначить мне время. Письмо повез я сам. В одной из отдаленных частей Парижа живет Гюго: Place Royale, No б. [13] Приезжаю, вхожу на лестницу во второй этаж, звоню, мне отпирает служанка, чрезвычайно дурная собою. На вопрос мой, дома ли Гюго, она самым гнусливым, едва понятным голосом отвечает, что Гюго нет, а что он будет дома в седьмом часу. Я отдал ей письмо, прося передать Гюго. В этот день на театре St.-Martin давали «Marie Tudor»: я не мог отказать себе в удовольствии видеть ее и не поехал вечером к Гюго. На другой день после обеда, в восьмом часу, порядочно приодевшись, взял я кабриолет и с трепещущим сердцем проговорил кучеру: «Place Royale, № 6». Приезжаю. Знакомая безобразная служанка, отворившая мне дверь, говорит, что Гюго обедает. Опять неудача. Спрашивают, как сказать обо мне. – Русский путешественник. – Жду. Не прошло минуты, входит в переднюю человек невысокого роста, с полным, здоровым лицом, волосами почти белокурыми, лежащими просто. Он стал извиняться, просить меня войти в гостиную и подождать, пока кончится обед. «Monsieur Hugo…», – пробормотал я – и уставился на него. За несколько дней ходил я с «Notre-Dame de Paris» в руке на башню собора: признаюсь, мне хотелось отыскать какой-нибудь затерявшийся след великой драмы, и я еще раз, но с каким новым, живым наслаждением читал дивный роман. Сколько раз проникнутый огневыми описаниями, подходил я к собору, смотрел на его угрюмую форму, vaste symphonie en pierre, [14] взбирался на широкую его платформу; тут Квазимодо, Эсмеральда, Фролдо – вся эта драма принимала объем огромный, охватывала собой все общество человеческое, неразгаданно, мрачно кипела в нем под тысячью форм; тогда роман этот представлялся мне не столько созданием искусства, сколько теориею автора, взглядом его на жизнь – и какою грустною, скептическою теориею!
Еще полный впечатлений «Notre-Dame de Paris», увидал я перед собою Гюго, и вы поймете причину, отчего я уставился на него с глупым любопытством, рассматривая это полное, свежее лицо, это чело, ознаменованное печатию гения. Смейтесь надо мною – но когда я увидел перед собой великий талант, первого поэта современной Франции, неопределенное, доселе незнакомое мне чувство наполнило меня. Долго б простоял я молча, если б Гюго, улыбнувшись, не вошел первый в комнату, пригласивши меня движением головы следовать за ним, и указал мне дверь прямо, прося подождать там. В комнате, куда мы вошли из передней, за круглым столом обедали две дамы, мужчина и двое детей. Гюго проводил меня в гостиную, извиняясь в беспорядке ее; тому причиною приготовление его к отъезду: он завтра утром едет на два месяца из Парижа. Гюго вышел, дверь в столовую затворилась, и я остался на свободе рассматривать жилье знаменитого писателя. Везде видны были следы страсти к зодчеству средних времен. На стене висели прекрасные рисунки собора Антверпенского, отдаленного вида Страсбургской колокольни, вид части Парижа с готическою башнею St.-Jaques de Boucherie, портрет генерала в мундире времен революции, вероятно, портрет его отца. Прямо у стены стоял диван с прекрасною резьбою a jour, [15] произведение шестнадцатого или семнадцатого века; налево софа с штофным малиновым балдахином, времен Людовика XIII или XIV; перед ней фортепияно. Комната вся оклеена малиновыми обоями и очень высока; дверь в кабинет была отворена; кабинет не велик, весь увешан картинами; на столе, стоящем посереди, много книг и бумаг. Я смотрел в кабинет издали, считая неучтивостью войти туда. Немного спустя вбежал в комнату мальчик лет семи; [16] я спросил его, не сын ли он Гюго. – «Oui [17] », – отвечал он и начал разбирать географические карты Франции. У мальчика лицо очень смышленое. Минут через пять вошел Гюго, извиняясь. Сели. Первым вопросом его было, дозволены ли сочинения его в России. Потом интересовался он знать, с какой точки смотрят у нас на «Notre-Dame de Paris», спрашивал о народной нашей поэзии. Я говорил ему о народных песнях наших, старался объяснить характер их, о бродячих семьях наших цыган, их странном быте. Последнее, казалось, очень занимало его. Вообще он дает России высокую поэтическую будущность. Не более получаса длился наш разговор, как вошла г-жа Гюго в шляпке и, казалось, ожидала его окончания. Я видел, что я гость не вовремя, встал и с замешательством попросил Гюго написать мне на память свое имя. «Eh, avec un grand plaisir, M-r [18] », – отвечал он, вошел в кабинет и через минуту вынес бумажку, на которой было написано: «Qui sperat vivit – Victor Hugo [19] ». [20]
«Через месяц я возвращусь и с удовольствием увижу вас у себя; мне очень интересно послушать о России», – сказал он мне, когда я стал откланиваться, и проводил меня до дверей крыльца. Г-жа Гюго выше его ростом, с прекрасным, выразительным лицом. У Гюго лоб более широкий, нежели выпуклый; нижняя часть лба показалась мне развитою больше верхней. Лицо очень приятное, благородное, без резкого выражения, но с большим оттенком меланхолии и задумчивости. Общий характер лица преимущественно материяльный, и это чувственное выражение, подернутое какою-то грустию и задумчивостию, делает лицо Гюго одним из самых необыкновенных. Виктору Гюго лет тридцать пять. Отец его, отличный генерал, брал его еще ребенком с собой в походы. Воображение поэта должно было сохранить впечатления этой кочевой, бурной, военной жизни. Воспитываясь в Мадрите, он почерпнул под небом этой Испании, по нравам своим более близкой к Африке, нежели к Европе, вдохновения, каких не может внушить ни одна из стран Европы. Этот народ, еще верный старинным обычаям своим, эта земля природы роскошной и живописной, эта отчизна архитектуры готической, усеянная ее величественными памятниками, – все должно было энергически действовать на поэта, быстро развивать его способности… Но жизнь поэта – поэма великая; ее борьба, ее муки, ее торжества исполнены значения глубочайшего и обширнейшего, нежели все поэмы Индии и греков. Мне ли рассказать вам внутреннюю жизнь Гюго? А начатая биография не удовлетворит вас. Лучше кончить…
Сноски
1
сорокалетними событиями – здесь в смысле: событиями сорокалетней давности, т. е. времен Великой французской революции 1789–1794 гг.
2
Демулен Камилл (1760–1794) – один из вождей Великой французской революции; 12 июля 1789 г. во дворе Пале-Рояля он призвал народ к восстанию; зелень на шляпе – символ надежды.
3
Имеются в виду площадь Согласия, где в 1793–1795 гг. было гильотинировано свыше 1300 человек, и мост Согласия.
4
красный колпак – имеется в виду фригийский колпак – головной убор фригийских пастухов, чаще всего – красного цвета, который в Древней Греции и Риме носили освобожденные рабы; поэтому красный колпак стал символом свободы; таковым же он был и в этой французской революции.
5
«Корсер» (1823–1852), «Шаривари» (выходит с 1832 г.) – парижские сатирические газеты.
6
прекрасную Францию (франц.).
7
Имеются в виду сен-симонисты, общество которых было разгромлено французским правительством в 1832 г., а вожди посажены в тюрьму; один из руководителей движения Анфантен по выходе из заключения с группой соратников отправился в Египет для организации социалистической общины; Боткин не мог предвидеть, что и это мероприятие кончится крахом и что в 1837 г. Анфантен вернется во Францию.
8
Генрих IV (1553–1610) – французский король с 1589 г., выдающийся государственный деятель, отличался большой любовью к своим детям.
9
сладкое ничегонеделание (итал.).
10
Речь идет, вероятно, о салоне мадам Ансело, который в 1830-х годах посещало много русских (П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, С. А. Соболевский и др.). См.: An се lot Virginie. Un salon de Paris 1824–1864 Paris, 1866, p. 95–98.
11
«Собор Парижской богоматери» (франц.).
12
Действительно, Гюго был несколько лет близок к актрисе театра Сен-Мартен Жюльетте Друз (Drouet).
13
Королевская площадь (площадь Вожей), 6 – квартира, которую Гюго занимал в 1832–1848 гг. (ныне – квартира-музей В. Гюго).
14
обширную симфонию в камне (франц.).
15
ажурной (франц.).
16
Видимо, младший сын писателя, Франсуа Виктор (род. 1828).
17
Да (франц.).
18
О, с большим удовольствием, сударь (франц.).
19
«Кто надеется – живет. Виктор Гюго» (лат.).
20
Далее в журнальном тексте «Телескопа» факсимильно воспроизводится подпись: «Victor Hugo».
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


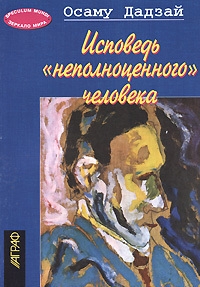

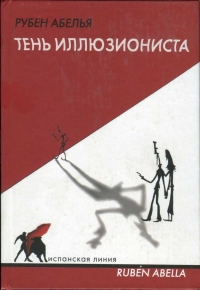
Комментарии к книге «Русский в Париже», Василий Петрович Боткин
Всего 0 комментариев