Брет Гарт. Собрание сочинений в 6 томах Том 5. Рассказы 1885-1897
САРА УОКЕР
День выдался жаркий. Ни малейшее дуновение не колышет душный воздух, и в западном крыле отеля «Грейпорт»[*] жизнь четырехсот его обитателей, всегда бурная, замерла от зноя. Огромная веранда пустынна, в коридорах — ни души, не слышно шагов, а от ленивого шуршания развевающейся юбки, от случайного вздоха — вернее, одышки — словно еще сильней гнетет знойная тишина. Одурманенная жарой пчела, которую явно не держали ни крылья, ни лапки, долго спьяну бормотала что-то про себя в уголке моего окна и наконец уснула — и теперь похрапывает. Если бы в это сонное царство забрел сказочный принц, он мог бы свободно войти в любую полутемную комнату со спущенными шторами — все двери настежь, все жаждут воздуха — и своим нежным приветствием не разбудил бы даже самую отчаянную ветреницу «Грейпорта». Изредка тишину нарушит дремотный голос, лениво оброненное слово, бессвязное возражение, и тягучая, липкая фраза оборвется судорожным вздохом, точно напоминая, что где-то все же существует жизнь, хоть и не настолько явная, чтобы все это можно было считать разговором. И вот в этой тишине вдруг раздался детский плач.
[Название для отеля «Грейпорт» Брет Гарт позаимствовал из собственного стихотворения «Грейпортская легенда», написанного четырнадцатью годами раньше рассказа и повествующего о детях, игравших в руинах старого корабля на берегу и унесённых в море вместе с ним.]
Я поднял голову от работы. Сквозь щелку в ставнях, охраняющих от солнца мое окно, виднелся клочок ярко-голубого в дрожащем мареве неба, густая сверкающая синева океана, продолговатые недвижные листья каштана у дороги, и все это никак не вязалось с разорвавшим тишину жалобным плачем. Я встал и вышел в безмолвный коридор.
Плач, видно, привлек не только мое внимание. Из других комнат послышалось на разные голоса досадливое и беспомощное: «Ох, Господи! Опять эта девчонка!» или просто: «Сара Уокер!» Плач приближался, все двери по очереди захлопывались, ближе и ближе слышались быстрые шаги, и мимо моей открытой двери мелькнула встрепанная, раскрасневшаяся нянька, а на руках у нее сумятица оборок, взлетающие ленты пояса, брыкающиеся туфельки и вихрь кудрей; перед дверью напротив завязалась на миг отчаянная борьба; потом дверь распахнулась и тотчас захлопнулась, видение исчезло. Это и была Сара Уокер.
Ее знали все, но почти всем являлся лишь такой мимолетный образ. Всюду — в большом вестибюле, в столовой, в просторных гостиных, в саду, на улице и на пляже — вслед за взрывом плача всегда мелькало это видение. Если танцующие пары вдруг останавливались, если притихали самые громкие фаготы в начале танцевального вечера, причина всегда была одна и та же — Сара Уокер. Если спозаранку нарушался мир и покой на пляже, купальщики шептали: «Сара Уокер». Если среди лакеев за обедом поднималась суматоха, если что-то мешало чинному порядку воскресного концерта, если хаос врывался в послеобеденную прогулку по веранде, объяснение всегда было одно: Сара Уокер. Впрочем, ее деятельность протекала не только в широком свете. По укромным уголкам и уютным закоулкам обрывались любовные излияния, и губы кривились под усами, и сквозь яростно стиснутые зубы раздавались все те же слова: «Сара Уокер»; даже воплощенная застенчивость и скромность обретала дар речи и торопливо шептала выразительную формулу: «Сара Уокер». Никому и на ум не приходило назвать ее уменьшительным именем. Двое обитателей отеля, у которых, несомненно, были и свои имена, но которых все называли не «мистер и миссис Уокер», а только «отец Сары Уокер» и «мать Сары Уокер», сами звали ее не иначе, как «Сара Уокер»; два представителя животного мира, которые порой составляли часть описанной ранее процессии, известны были как «собака Сары Уокер» и «кот Сары Уокер», а позже я и сам гордился тем, что имя мое забылось и все величают меня «этот приятель Сары Уокер».
Не думайте, однако, что недобрая слава досталась ей легко и просто; нет, ее путь был тернист. Каждый родитель и родительница в отеле «Грейпорт» создали свою теорию о недостатках воспитания Сары Уокер; каждый холостяк и каждая девица открыто предлагали меры наказания, которые уж непременно ее урезонят. Если бы эти меры были приняты, Саре пришлось бы провести едва ли не все свои девять лет в темном чулане, на хлебе и воде, а если бы верх одержали теории воспитания, которые предлагали люди семейные, Сару давно бы уже взяли живой на небо. В любом случае она перестала бы «всех беспокоить», а в этом-то и заключалось, на взгляд обитателей «Грейпорта», идеальное воспитание. Прочитанный в нашем обществе любителей изящной словесности доклад на тему «Сара Уокер и другие детские болезни» значился в каталогах под титулом «Уокер, Сара, предупреждение и лечение», а обычное наше летнее шуточное законодательство увенчано было установлением, которое именовалось так: «Акт во исправление Акта, вводящего в действие Акт по укрощению Сары Уокер». Как там говорилось, кормить ее надлежало исключительно «предписаниями настоящего Акта», так что можно себе представить его дух и стиль. И вот что примечательно в ее истории: родители не только не оспаривали сомнительную репутацию своего детища, но покорно с нею мирились, всячески показывая, что они просто жертвы собственной дочери. Все знали, что мистер и миссис Уокер — люди состоятельные, уважаемые и очень любят свою единственную дочь. Предыдущее поколение, когда наживало богатство, было не слишком разборчиво в средствах, но его наследники мирно почивали на лаврах фамильного состояния; Сара же, как признавали все вокруг, пошла в предков: в ней возродился некий бродяга с палубы иммигрантского корабля.
Такова была девочка, отделенная от меня целой исторической эпохой, узким коридором и плотно закрытой дверью детской.
Впрочем, скоро дверь приоткрылась: вероятно, в комнате было душно. Плач утих, но теперь слышался монотонный голос Совести (ее в этот час олицетворяла нянька), и голос этот никому не давал забыть о прегрешениях Сары Уокер.
— Вот видите, — говорил Голос, — как худо, когда девочка так плохо себя ведет. Я на вас прямо удивляюсь, Сара Уокер. И все удивляются: и милые дамы из соседнего номера, и добрый господин из номера напротив — все-все! До чего вы эдак дойдете, одному Богу известно! И как вы надеетесь заслужить себе прощенье, знают одни только ангелы небесные! Всегда одно и то же, и вы никак не хотите исправиться. Неужто вам не хочется, чтоб все стало по-другому, Сара Уокер? Неужто вам не хочется, чтоб все вас любили? Неужто вам не хочется, чтоб милые дамы из соседнего номера, и добрый господин из номера напротив, и все-все встали бы и сказали в один голос: «Ах, какая хорошая, милая девочка эта Сара Уокер! (Тут раздалось аппетитное причмокивание, точно в сладком предвкушении добродетелей Сары Уокер.) Ах, какая хорошая, милая, добрая и послушная девочка эта Сара Уокер!»
Наступила мертвая тишина. Может быть, это мне только почудилось, но я слышал, как осторожно скрипнули двери, словно весь коридор прислушивался: что же дальше? Потом тишину нарушил вздох. Неужели Сара Уокер бесславно покорилась?
Скоропалительное и наивное суждение!
— Не хо-чу! — сказала Сара Уокер. Голос ее все набирал силу и наконец оборвался громким рыданием. — Не-хочу-чтоб-они-меня-любили! Не-хочу-чтоб-говорили-какая-хорошая-девочка-Сара-Уокер! — Тут она перевела дух. — Хочу-чтоб-говорили-какая-скверная-ужасная-отвратительная-мерзкая-девчонка-эта-Сара-Уокер! Вот!
Все двери захлопнулись. В роковом споре противник взял верх. Я осторожно пересек коридор и заглянул в комнату Сары Уокер.
Ставни были полуоткрыты, и свет падал прямо на маленькую мятежницу. Она сидела, откинувшись, в большом кресле — видно, как ее усадила, внеся в детскую, няня, так она и застыла, — и в руке все еще сжимала трофей — нянькин фартук. Она вытянула перед собой стройные ножки в крохотных башмачках, и они торчали прямо, как палки, будто совсем не умели сгибаться, и в точности так же сидела на полу французская кукла, преданно подражая хозяйке. Сидеть так было, наверно, очень неудобно, но Сара Уокер не шевелилась — должно быть, назло няньке, и по той же причине выставляла напоказ шелковые чулочки, прекрасно зная, что это неприлично. В знак того же упрямого вызова она зажала под мышкой своего верного спутника — котенка, и он озадаченно оттуда выглядывал. Сама она откинулась в кресле, почти лежала в самой неловкой, деревянной позе, а голова была неожиданно высоко поднята — и только она одна была в движении. Ослепительное сияние шелковых кудрей цвета начищенной меди почти скрывало шею и плечи девочки и спинку кресла. Глаза были того же цвета, только чуть темнее и словно бы ушли вглубь оттого, что привычные кулачки целыми днями стирали слезы с длинных мокрых ресниц. Казалось, ничто в облике Сары Уокер не противоречит ее дурной славе; но, странное дело, черты ее лица были изящны и тонки, и рот ее — шумный, крикливый рот, гроза всего «Грейпорта», — был мал и прелестного рисунка, хотя углы его немного опустились.
Мое внезапное появление подействовало только на няню. Она кинулась к Саре Уокер и пыталась хоть как-то оправить на ней сбившееся платье, но тщетно: поняв причину ее смущения, девочка лишь косилась на меня и, словно одеревенев, не поддавалась никаким усилиям.
— Как вам не стыдно, Сара Уокер!
— Это не его комната! — сказала Сара, глядя на меня злыми глазами. — Зачем он сюда пришел?
Она была права, и я сконфуженно попятился.
— Сара! — с бессильной укоризной вымолвила няня и возвела глаза к небу.
— И если это он к тебе пришел, все равно нельзя, — продолжала Сара и лениво потерлась затылком о спинку кресла. — Мой папа не велит. Он тебя тогда ругал из-за того джентльмена, помнишь?
— Сара Уокер!!
Надо было хоть что-нибудь сказать.
— Хочешь, пойдем погуляем, поглядим на море? — неуверенно предложил я.
Но — о чудо! — Сара Уокер не возмутилась, не накинулась на меня, напротив, встала, тряхнула головой, так что волосы рассыпались по плечам, и взяла меня за руку.
— Разве можно идти такой растрепанной?! — чуть не взвизгнула нянька.
Но Сара Уокер уже тянула меня в коридор. Сколь оскорбительным для властей предержащих было с ее стороны поспешное согласие на мою просьбу, об этом я мог лишь смутно догадываться. Меня-то она, конечно, сочла просто жалким обманщиком. Да и что в нем, в море, какой интерес Саре Уокер на него смотреть? О Господи, мысленно взмолился я, ниспошли нам смерч, кораблекрушение, живого кита или иное морское чудо, чтобы поразить Сару Уокер и обелить меня в ее глазах. Виновато плелся я по коридору, робко держа Сару Уокер за руку. Она судорожно вздохнула. Ну, как заплачет? Тогда и мне только и остается, что в слезы! В унылом молчании мы вышли на веранду. Как я и опасался, море раскинулось перед нами, сверкая на солнце, пустынное, слепящее, гладкое, безнадежно обыденное.
— Так я и знала, — сказала Сара Уокер, и уголки ее рта поползли книзу. — Не на что тут смотреть. Знаю я, зачем ты меня сюда притащил. Сейчас скажешь: если я буду послушная, ты меня когда-нибудь покатаешь на лодке. А если буду непослушная, море меня проглотит. Знаю я, все знаю, а ты противный, противный.
— Тс-с, — шепнул я и показал в угол веранды.
Отчаянная и спасительная мысль мелькнула у меня. В углу, прямая как палка, с закрытыми глазами сидела нянька, сон сморил ее, как и ее подопечного в стоявшей рядом коляске. Младенца я мигом узнал, да и кто его не знал — то был Крошка Бакли, любимчик отеля «Грейпорт», баловень всех здешних восторженных обитательниц. Пухлый, розовый, с лицом невыразительным, как подушечка для булавок, он вечно переходил с рук на руки, от восхищенно ахающих девиц к безмозглым мамашам, весь замаслился и распух от бесконечных поцелуев и объятий. Даже сейчас, во сне, он казался влажным и лоснящимся, оттого что его лобызали все кому не лень.
— Давай утащим Крошку Бакли, — храбро сказал я.
Сара Уокер тотчас перестала плакать. Уж не знаю, как это у нее так мгновенно получалось, будто она завернула какой-то кран.
— И подложим его в постель к мистеру Питерсу, — продолжал я.
Это была с моей стороны возмутительная дерзость: все знали, что Питерс — угрюмый старый холостяк. Глаза Сары Уокер сверкнули.
— Ну да! Это ты понарошку говоришь, — сказала она с притворным испугом.
— Нет, не понарошку! Идем!
Общими усилиями мы бесшумно извлекли младенца из коляски — вернее, это с истинно женской ловкостью проделала Сара Уокер, — незаметно пронесли по коридору к номеру 27, водрузили на кровать мистера Питерса и оставили там розового, словно только что открытая устрица. Потом, взявшись за руки, пошли ко мне, сели у окна и стали глядеть на море. Сразу видно было, что Саре Уокер теперь ничуть не скучно на него смотреть.
Не прошло и пяти минут, как кто-то пробежал мимо моей отворенной двери, а мы всё не сводили глаз с морских просторов. Потом быстрые шаги застучали в обратном направлении, снова и снова торопливо шуршали юбки — похоже, что все женщины, сколько их было в нашем крыле, продефилировали мимо моей комнаты, и в окно видно было, как, покидая благодатную тень деревьев, беседок и тентов, стекались к отелю нянюшки и мамаши. Мы всё еще любовались морским видом, когда явилась няня Сары Уокер и сообщила, что «по справедливости» и мистера Питерса и няньку Крошки Бакли — обоих надо бы нынче же выгнать на улицу. Сара Уокер, не сопротивляясь, дала себя увести, ее глаза были сухи, но взгляд говорил о многом. В тот вечер она не плакала. И когда за озорство ее по обыкновению заперли, она была вся красная от еле сдерживаемого смеха.
Так я подружился с Сарой Уокер. Ясно, что если я и завоевал какой-то авторитет, то лишь как соучастник преступления; но ведь систематически похищать младенцев не только небезопасно, это может и наскучить. А потому ей довольно было знать, что я уже не могу по обычаю взрослых выставлять перед нею свое нравственное превосходство — это было бы с моей стороны самым наглым, вопиющим лицемерием! Не думаю, чтобы она могла меня выдать и обвинить во всеуслышание, но я не слишком полагался на бескорыстное дружелюбие Сары Уокер. Несколько дней она довольствовалась тем, что при встречах со мною украдкой, шепотком блаженно вспоминала о нашем общем преступлении, но повторить его не предлагала. Наша дружба была сама по себе и ничего не меняла в отношениях Сары с ее сверстниками. Наверно, мне надо было раньше упомянуть о том, что дурная слава Сары Уокер ничуть не роняла ее в глазах других детей. Все они втайне восхищались ею, но лишь немногие открыто стали ее последователями, а постоянных союзников у нее и вовсе не было. Не знаю, куда девались ее немногие избранники: то ли их спешили с нею разлучить их перепуганные родители, то ли, последовав какому-нибудь ее опасному совету, они попадали в беду, а быть может, она попросту ими не дорожила. Она приближала их к себе лишь на самый короткий срок и расставалась с ними без сожаления. Но однажды счастливый случай как будто объяснил мне, отчего она так необщительна.
День стоял особенно знойный и душный, земля, море и небо словно были в глубоком обмороке. Альпийски белоснежные вершины, к которым вновь и вновь обращались завистливые взоры жителей «Грейпорта», стали темнеть, будто над ними раскрывалось какое-то огромное, черного бархата крыло. Все гуще становилась тень, все тягостней духота; ленивая пыль, поднятая быстрыми шагами ищущих укрытия пешеходов, недвижно стояла в воздухе. И вдруг ее закружило неистовым вихрем, и все, кто, изнемогая от зноя, полулежал в креслах под деревьями, кинулись врассыпную. На несколько секунд длинная аллея скрылась в тучах пыли, потом все замерло и опустело. На дорожках, как по волшебству, неслышно возникли звезды и венчики — неизвестно откуда упали эти большие и редкие капли дождя. И вновь настало зловещее затишье.
В тот час я оказался среди скал в миле от отеля и укрылся под нависшим утесом в узком проходе, откуда видно было, как разыгрывается шторм. Вскоре до меня донеслись приглушенные голоса. Тут я заметил, что проход ведет к неглубокой пещере, и смутно разглядел нескольких детишек: внезапно налетевшая буря застигла их вдали от нянек и взрослых, и они нашли здесь прибежище. Стало еще темней, и они снова примолкли, а потом в тишине раздался хорошо знакомый голос. Конечно же, это был голос Сары Уокер! Но звучал он не жалобно, а словно продолжая прерванный рассказ.
— Ее звали Криблс, — сумрачно говорила Сара Уокер. — Она была единственная дочка... дочка-сирота, и лицом красивая, только она была плохая, и Бог ее не любил. Один раз она потеряла свою няню и очутилась на необитаемом острове, вот как тут. И вдруг налетела страшная буря. И откуда ни возьмись большая-пребольшая молния ка-ак прыгнет на нее! Поймала ее и завертелась по ней — вот так! А потом за ней пришли, а там ничего и нету, ни вот столечко не осталось! Потому что она вся сгорела!
— И даже полтуфельки не осталось? — спросил какой-то скептик.
— Ни кусочка! — решительно заявила Сара Уокер.
— Ни кусочка! — эхом откликнулись остальные, явно оскорбленные недоверием и ничуть не сомневаясь, что Криблс погибла окончательно и бесповоротно.
И тут окружающий мрак разорвала ослепительная вспышка. Синеватое неземное сияние на миг озарило грозно катящиеся черные валы, траурную кайму горизонта, влажно блестящий песок и каждый уголок и закоулок пещеры, где всюду струилась и капала вода, и перепуганные лица сбившихся в кучу детей, а потом оглушительно грянул гром, и все вновь кануло во тьму.
Кто-то жалобно всхлипнул. Сара Уокер, судя по всему, пустила в ход кулаки, и преступник затих.
— Кто хнычет, притягивает электричество, — нравоучительно заявила она.
— А ты шкажала, это Бог, — прошепелявил семилетний любитель рассуждать логически.
— Это все равно, — отрезала Сара. — И кто спрашивает вопросы, тоже притягивает.
Это невразумительное заявление тоже, видно, оказалось понятно — любитель логики почел за благо замолчать.
— Его много чего притягивает, — продолжала Сара Уокер. — Золото, и серебро, и металл, и ножи, и кольца тоже.
— И монетки?
— Монетки хуже всего! Эта Криблс была гордячка, она всегда ходила в разных бусах и кольцах и искушала судьбу!
— А ты шкажала...
— Ах, ты так?.. Ну вот! Слышишь? — Снова слепящая вспышка, и по всему берегу тяжко прокатился гром. — Уж не знаю, как тебя не убило. И убило бы, да скажи спасибо, что я тут.
Все снова стихло, только по некоторым признакам я понял, что идет сбор опасных предметов, которые сгубили бедняжку Криблс. Звенели монетки, позвякивали какие-то украшения. Вскоре стало ясно, что все это отдано на хранение не кому-нибудь, а Саре.
— А тебя молния не убьет? — робко осведомился кто-то.
— Нет! — без запинки ответила она. — Потому что я не боюсь. Глядите!
Дети в страхе запротестовали, но Сара Уокер сейчас же мелькнула у выхода из пещеры и по скалистому откосу побежала к морю. Перепрыгивая с камня на камень, она добралась до самого края мыска, который уже захлестывало прибоем, и с торжеством, с вызовом повернулась к пещере. Гроза зловеще и таинственно освещала ее решительную фигурку, а она стояла прямая, горделивая, блестя цепочками, кольцами и побрякушками, собранными со всей честной компании. Она словно бы доверчиво прислонилась к широкой, тяжко дышащей груди шторма, платьишко ее трепетало на ветру, кудри развевались, маленькая, высоко вскинутая рука бросала дерзкий вызов стихиям. А потом черный свод позади нее раскололся, на нем сверкнули три иззубренные огненные расщелины, зловещее пламя запрыгало по песку, в пещере раздался вопль ужаса и в ответ — отчаянные крики столпившихся наверху обрыва нянек, внезапный ливень, бешеный рев урагана... и... Сара Уокер исчезла? Ничуть не бывало! Когда я, изо всех сил борясь с ветром, добрался до края мыска, я нашел ее с подветренной стороны каменного выступа, — она промокла до нитки, но ликовала. Крепко прижав ее к себе, я ждал минуты затишья, чтобы взобраться по откосу, а пока решил воспользоваться случаем.
— А все-таки, по совести, ты испугалась? — шепнул я. — Признайся, ты думала о том, что случилось с бедняжкой Криблс.
— А знаешь, кто такая Криблс? — доверчиво спросила она.
— Нет, не знаю.
— Так вот, — зашептала Сара Уокер, — я ее выдумала. И страшную бурю, и молнию, и что она сгорела! Все-все сочинила из головы!
Поначалу дерзкая выходка Сары Уокер прямых последствий не имела, если не считать одного: внезапно обнаружились нежные чувства одного ее скромного поклонника, о которых прежде никто и не подозревал. То был тихий, безобидный мальчик лет двенадцати, примечательный разве что неслыханным множеством бородавок: его так и звали Бородавка. В день Сариного подвига страсть его нежданно вспыхнула, и дело кончилось взрывом; услыхав, как родители и нянька Сары Уокер оплакивают ее поведение, он вдруг набросился на них с кулаками, стал брыкаться и лягаться. То ли ему почудилось, что это по их вине она едва не погибла, то ли просто он хотел покорить ее, весьма трогательно подражая ее же стилю, — право, не знаю. У него была престранная манера выражать свою любовь. Дня два спустя он подошел к моей приотворенной двери и некоторое время стоял и застенчиво глядел на меня. На другой день он вдруг возник подле моего кресла на веранде и пристыженно потупился, начисто не умея объяснить свое появление. Однажды утром я для моциона шагал по берегу, как вдруг сзади послышалось частое сопение; в испуге я обернулся — за мною, чуть живой, едва поспевая на коротких ногах, плелся Бородавка. Так он ходил и ходил за мною, как тень, и наконец я заподозрил горькую истину: да ведь он расточает знаки внимания мне только из любви к Саре Уокер! Трудно было себе представить, однако, как это немое обожание могло бы его к ней приблизить.
Однажды он положил мне на стол какие-то на редкость неприглядные ракушки, очень схожие с бородавками, что покрывали его руки.
— Ты, наверно, хочешь, чтоб я отдал их Саре Уокер? — весело сказал я.
Он энергично замотал головой. Нет, он вовсе этого не хочет.
— Понимаю, — доверительно продолжал я. — Ты хочешь, чтоб я сохранил их для нее?
— Не хочу, — упрямо сказал он.
— Так что ж, просто сказать ей, какие они красивые?
Да, видно, такова была истина во всей своей бесстыдной наготе, потому что Бородавка залился краской и его будто ветром сдуло; больше я даров не получал. Мои робкие попытки привести этого преданного раба пред ясные очи самой Сары Уокер, естественно, потерпели крах. Как бы хитроумно я ни заманивал его к себе, когда она меня навещала, все было тщетно. Но, очевидно, хоть раз да упал на него ее разящий взор.
— Нравится тебе Бородавка? — однажды напрямик спросил я Сару Уокер.
— Да! — с веселой откровенностью ответила она. — Бородавок у него ужас сколько, правда? А было еще больше. — Она призадумалась, потом спросила: — А ты знаешь мальчика Илси?
Пришлось мне признаться в своем невежестве.
— Ну вот, — сказала она и удовлетворенно вздохнула при одном воспоминании. — У него на левой ноге только два пальца, он мне сам показывал. Это у него сроду так.
Надо ли говорить, что в этих немногих словах я прочел горестную развязку несчастной Бородавкиной любви? Его оригинальность была преходящей и уже утратила прелесть новизны. Велика ли цена его жалким бородавкам, которые можно и свести, по сравнению с врожденным и непоправимым уродством его соперника!
Один только раз за время этой краткой летней эпопеи Сара Уокер вызвала горячее сочувствие всего «Грейпорта». Справедливости ради должен сказать: случилось это не по ее вине, если, конечно, не считать, что вечным непослушанием, презрением к непогоде и иным опасностям она сама навлекла на себя простуду и дифтерию. Словом, был уже исход лета, когда в самый погожий день, Бог весть почему, вдруг повеет дыханием осени и даже возвращение летнего тепла встречаешь с опаской, словно приступ лихорадки; и вот в эту пору вдруг оказалось, что исчезли не только пчелы и мотыльки, но и Сара Уокер. Два дня в коридорах и в вестибюле не слышно было ее голоса и не мелькали привычно тут и там огненные кудри, точно цветущие настурции. В эти два дня «Грейпорт» вздохнул с облегчением, однако на душе у всех было неспокойно: ведь Сара Уокер может и возвратиться, или же — страшно подумать! — возродится самая стихия Сары Уокер, да еще в более грозном обличье! Так силен был этот страх, что какой-то злосчастный младенец, однажды позволивший себе ревом нарушить тишину, хотя прежде за ним ничего такого не замечалось, еле избежал суда Линча.
— Уж у тебя-то этот номер не пройдет! — выразил общие чувства некий свирепый холостяк.
Оказалось, что «Грейпорт» успел привыкнуть к повадкам Сары Уокер. И тут-то пронесся слух, что она тяжело больна и, возможно, уже не встанет.
И тогда произошел своеобразный переворот в чувствах. Так бывает с людьми, и порой такое преображение можно принять за первые проблески золотого века воспетой поэтами справедливости; но на сей раз все свелось к тому, что ленивая кровь Грейпортского общества побежала по жилам быстрей, словно подогретая лихорадкой, и сочувствие Саре Уокер оказалось какой-то неискренней, преувеличенной модой. Пошли ежеутренние и ежедневные визиты de rigueur[*], самые неожиданные дары и подношения, трижды в день сообщалось о ее здоровье, не упомянув о нем, нельзя было начать ни один разговор; со всех сторон сыпались советы, подсказки, просьбы — все только и думали, как бы спасти маленького тирана, от которого еще недавно не знали, как избавиться; наконец, однажды грозная тень придвинулась столь близко, что уж всякому безрассудству впору было дрогнуть и отступить, сложив на пороге свой пестрый колпак с позвякивающими бубенцами. Но мне не хватает красок, чтобы описать дальнейшее, тут нужна речь поживее.
[de rigueur (франц.) — обязательный, диктуемый нормами приличия.]
— Гляжу, лежит наш ангелочек, — повествовала няня Сары Уокер. — Сама вся белая, в лице ни кровиночки, одни волосы так и горят, так и светятся, и ни словечка вымолвить не может, ан видно по глазам: чего-то хочет. А маменька ей и говорит дрожащим голосом: «Деточка, — говорит, — может, ты чего желаешь, прежде чем нас покинуть? Может, — говорит, — изволишь священника, он уж дожидается?» А она, душенька моя, поглядела на меня — и вот провалиться мне на этом месте — тихонько так шепчет: «Скотти»!
«Ай-ай, — говорит ее маменька, — наша душечка бредит!» Потому что Скотти, сами знаете, в нашей гостинице главный буфетчик.
А я и говорю: не в обиду вам будь сказано, мэм, и нашему дитятке тоже, уж она одной ногой в ангельском чине, — ан ведь и вправду зовет-то она Скотти. И тут она, деточка, заморгала своими черными глазками — дескать, того мне и надо.
Тут доктор и говорит: зовите его сей же час!
Привели Скотти, а он такой усатый да кудрявый, булавки да кольца на нем брильянтовые так и блестят! Поглядел на нашу страдалицу — и глаза тоже заблестели, от слез то есть.
«Чего ты, — говорит, — хочешь, Сара, милочка?» — А у самого голос дрожит.
Поглядела она на него, потом на стол, а там стоит стакан.
Скотти и говорит: «Верно, тебе хочется капельку коктейля, каким я тебя потихоньку в воскресенье угощал?» А сам озирается на ее отца с матерью, видно, напугался — вот они ему сейчас покажут коктейль! А Сара Уокер опять глазами моргает — верно, мол, угадал. Священник даже застонал, а доктор как вскочит:
«Тащи, — говорит, — сюда свой коктейль, а язык держи за зубами, если есть в тебе совесть».
Принес он коктейль. Деточка наша отхлебнула глоток, приподнялась на локте, вся заулыбалась и говорит:
«Твое здоровье, Скотти!»
И поднимает стакан. А он отвечает, будто тоже с ней пьет:
«Спасибо за честь, мисс, и вам того же».
Она подмигнула и говорит:
«Чтоб тебе ни дна ни покрышки, старина!»
А он ей в ответ:
«Чтоб вам оплешиветь и запаршиветь, мисс!»
На этом выпила она коктейль, легла и заснула сном праведницы, а как проснулась, глядим: щечки у ней порозовели и страшной хвори как не бывало!
Так Сара Уокер оправилась от опасной болезни. Предоставляю читателю судить, насколько это существенно для морали, заключенной в моем рассказе.
Однажды в жаркий летний день я сидел на террасе «Кронпринц-отеля» в Роландсеке[*] и от нечего делать смотрел на публику, что прогуливалась по дороге между отелем и набережной Рейна. Ничто на этом модном курорте не напоминало о днях моей жизни в «Грейпорте» двадцать лет тому назад, как вдруг я подскочил от неожиданности — до меня донеслись слова: «Сара Уокер».
[Роландсек — курортный городок в среднем течении Рейна.]
Мимо по дороге шли трое — господин, дама и девочка. Девочка обернулась на зов, и я тотчас узнал неповторимые медно-рыжие локоны, стройную фигурку, нежный румянец и тонкие черты подружки моей юности! Я схватился за шляпу, но, пока выбежал на дорогу, семейство уже скрылось.
Признаюсь, меня сразу смутила мысль, что ведь это никак не может быть та самая Сара Уокер, и при таком совпадении имени и фамилии девочка никак не может быть той, настоящей Сары Уокер законной дочерью. Однако я заглянул в книги приезжающих в нашем и соседних отелях и расспросил нашего швейцара. В Роландсеке нет ни одной «мадам Воки», заверил он меня. Но, может быть, мсье не расслышал? Цара Волка — похоже, что это имя русское, а в Роландсеке полно русских князей. Ах, вот как! Мсье имеет в виду вон ту молодую особу, что идет по дорожке? Тогда другое дело. Это дочка итальянского принца и принцессы Монте Кастелло, они остановились в нашем отеле. Дама, которая сейчас идет с девочкой, не принцесса, а добрая знакомая их семейства, тоже иностранка. А господин, что идет с ними, сам принц Монте Кастелло. Если мсье угодно, можно передать принцу визитную карточку мсье.
Все трое вошли в вестибюль. Принц был маленький, с виду безобидный человечек, дама — вне всякого сомнения, моя соотечественница, а девочка... вылитая Сара Уокер и в то же время нет — не она! Те же черты, та же фигурка — но где та живость, пыл, отвага? Я не вытерпел:
— Простите соотечественнику бесцеремонное любопытство, сударыня, — сказал я, — но, я слышал, вы только что назвали эту юную особу именем очень дорогой мне маленькой приятельницы, с которой я был знаком двадцать лет тому назад, — Сара Уокер. Я не ошибся?
Принц остановился и со страхом поглядел на нас обоих; потом, очевидно, усмотрел в моей вольности чисто американское пренебрежение приличиями, вызванное, конечно, тем, что тут оказалась еще одна представительница моего племени, — и, никак не желая поощрять подобное, укрылся за спиной швейцара. Это отнюдь не расположило даму в мою пользу, и она ответила надменно:
— Принчипессу назвали Сара Уокер потому, что таково было девичье имя ее матери.
— Значит, это в самом деле дочь Сары Уокер! — обрадовался я.
— Это дочь принца и принцессы Монте Кастелло, — ледяным тоном поправила дама.
— Я имел удовольствие хорошо знать ее матушку.
Тут я запнулся и покраснел. Так ли уж хорошо я знал Сару Уокер? Признала бы она меня сейчас? Пожалуй, задрала бы носик и прошла мимо — это больше на нее похоже. Судя по этой ее жалкой, бледной копии, тут надеяться не на что. И все же я колебался, как вдруг принц, вероятно, выслушав от швейцара какие-то успокоительные заверения, выступил вперед, пробормотал, что принцесса, без сомнения, будет счастлива немного позже меня принять, и кинулся вверх по лестнице; мне показалось, что он готов сию минуту потребовать счет и отбыть в неизвестном направлении. У меня больше не было предлога затягивать разговор.
— Попрощайся с джентльменом, Сара, — чопорно сказала девочке ее спутница.
Я посмотрел на девочку, в душе моей вспыхнула страстная надежда уловить хоть проблеск непослушания, тот дух противоречия, что роднил бы ее с прежней, утраченной подружкой моей юности... но тщетно!
— Прощайте, сэр, — сказала маленькая лицемерка и сделала реверанс, точно заводная кукла. — Вы очень любезны, что вспомнили мою маму.
— Прощай, Сара!
И это действительно было прощание навеки. Я пошел к себе и в коридоре наверху чуть не налетел на принца: он разговаривал с кем-то через открытую дверь, в голосе его звучала брюзгливая жалоба; слова, полные негодования, никак не вязались с его хилым обликом и робкими манерами.
— Это в высшей степени серьезно! — говорил он. — Всякие социалисты, агенты беззаконных государств и каких-то диких стран сотнями съезжаются сюда, Бог весть из какой дали, шпионят за нами, стараются захватить врасплох, набрасываются с объятиями и поцелуями. Нас выслеживают, толпами бегают за нами по пятам, рыщут стаями, проходу не дают, один Бог ведает, как еще нас не начали публично лобызать! Открыто заявляют, что когда-то качали нас на коленях, умывали и одевали и готовы впредь заниматься тем же. Наше счастье, наша безопасность висят на волоске...
— Хватит, принц! Уши вянут!
Принц весь съежился и словно стал еще меньше ростом, а я ускорил шаги. За раскрытой дверью стояла перед зеркалом рослая, величественная красавица и укладывала пышные медно-рыжие волосы. Она раздраженно посмотрела на дверь и тут же отвернулась, но и в профиль заметна была сердитая морщинка меж бровей. Когда я проходил мимо, наши взгляды на миг встретились. Дверь тотчас захлопнулась, и больше я уже никогда не встречал Сару Уокер.
МИЛЛИОНЕР ИЗ СКОРОСПЕЛКИ
Пролог
На этот раз ошибки быть не могло: он нашел золото. Сейчас только оно лежало перед ним: крупицы тусклого желтого металла, вкрапленные в бесформенный кусок кварца; кварц был мягкий, и кирка легко вошла в его ноздреватую поверхность, но в то же время он был достаточно тяжелый: при попытке поднять его с красноватой земли он осыпался с кирки.
Он ясно видел все это, хотя теперь, сам не зная почему, оказался далеко от своей находки; сердце у него учащенно билось, дыхание в груди перехватило. Он брел куда глаза глядят, временами останавливаясь и окидывая взглядом окружающую местность, которая теперь казалась ему совсем незнакомой. Он надеялся, что врожденный инстинкт или сила привычки помогут ему прийти в себя; однако, увидав соседа, работающего на смежном участке, он задумался, но подойти к нему не решился, а потом и вовсе отвернулся от него. А ведь за минуту до этого он был готов подбежать к нему и крикнуть: «Нашел, ей-богу!» или «Черт побери, приятель, мне повезло!» Но минута прошла, и теперь ему казалось, что и голос ему не повинуется, и если он даже сумеет крикнуть, восклицание выйдет натянутым и искусственным. А просто подойти к соседу и хладнокровно сообщить ему о своей удаче он стеснялся. Отчасти из-за этой странной застенчивости, отчасти в надежде, что вторичный осмотр находки поможет ему овладеть собой, он вернулся к своей шахте.
Да, это было золото! И не просто «карман» или «россыпь», а настоящая жила, которую он так долго искал. Вот оно тут, перед ним, рядом с киркой, и, придя в себя после первого потрясения при виде золота, он ловко раскрыл наносную породу, покрывающую жилу, и еще раз убедился в неоспоримости и прочности своей удачи. Вот оно лежит. Оно опровергло насмешки врагов, оправдало веру друзей, оно подтвердило на практике правильность его теорий и вознаградило его за упорный труд. Оно тут, тут. Но теперь находка не доставляла ему прежней радости. Напротив, им овладело смутное чувство тревоги и ответственности. Для человека в его положении жила, конечно, составляла огромное богатство; возможно, что она таила в себе несколько сот тысяч долларов или даже больше — если судить по ценности прииска старого Мартина, несомненно, менее золотоносного, — но прежде всего нужно было умело и выгодно разработать ее. Это чувство явного беспокойства не оставляло его и тогда, когда он снова увидел яркий солнечный свет на склоне холма. Сосед, очевидно, уже закончил работу, но со своего участка не уходил, и, сидя под большой сосной, задумчиво курил трубку. На мгновение он позавидовал его явному довольству. В нем внезапно проснулось необъяснимо жестокое желание подойти к соседу и смутить его беспечную бедность, сказав о своей находке. Но и это чувство быстро прошло. Он все стоял, бессмысленно поглядывая кругом.
Как только он объявит о своей находке и будет определена ее ценность, он сразу же пошлет за женой и детьми. Он выстроит красивый дом на противоположном склоне холма, если жена будет согласна и если не предпочтет ради детей жить в Сан-Франциско. Сознание потери своей независимости — обстоятельства изменились, и он больше не принадлежит самому себе, — стало тяготить его в самом разгаре радужных планов. Придется возобновить отношения с другими членами семьи — они были прерваны разлукой и не налаживались, пока он был беден. Придется помочь сестре Джейн, брату Вильяму, бедным родственникам жены. Было бы несправедливо утверждать, что им руководило не великодушие, а какое-то иное чувство; однако он уже испытывал растерянность и озабоченность.
Тем временем сосед, по-видимому, докурил трубку и, вытряхнув из нее пепел, вдруг встал и, покончив с неопределенностью положения, направился прямо к нему. Владелец золота тоже сделал несколько шагов вперед, но затем остановится в нерешительности.
— Здорово, Слинн! — бодро крикнул сосед.
— Здравствуй, Мастерс, — негромко ответил Слинн. Если судить только по этим словам, можно было совсем неправильно истолковать их взаимоотношения.
— Да что ты тут бродишь как потерянный? В чем дело?
Затем, увидев бледное и озабоченное лицо Слинна, он быстро добавил:
— Ты что, болен?
Слинн был уже готов рассказать ему о своей находке, но удержался. Неудачный вопрос убедил его в собственном недомогании, и физическом и духовном, и он боялся показаться смешным в глазах товарища. Он расскажет ему после; Мастерсу незачем знать, когда он нашел золото. Кроме того, то состояние неопределенности, в котором он находился, не позволяло ему вынести грубый деловой допрос, — а такой допрос неизбежно последовал бы, если бы он признался человеку с темпераментом Мастерса.
— У меня немножко голова кружится, — ответил он, прикладывая руку ко лбу, — надо мне, пожалуй, отдохнуть, пока не полегчает.
— Я вот что скажу тебе, старина: если ты не бросишь свою дурацкую затею с этой забытой богом шахтой, то просто спятишь! Ты столько раз запутывался, следуя за слепой жилой, что, наверно, уже потерял рассудок.
Вот теперь представлялся удобный случай рассказать Мастерсу все и отстоять справедливость своих теорий, но у него снова не хватило духу на это, а к смущению прибавилось еще и своеобразное чувство страха перед умственным напряжением, связанным с подобным разговором. Он только болезненно улыбнулся и повернулся, собираясь уйти.
Серые глаза Мастерса испытующе оглядели его.
— Послушай! — властным тоном, не допускающим возражений, сказал Мастерс, — для бодрости тебе надо пропустить рюмочки три виски. Пойдем со мной. Черт возьми, приятель, может быть мы в последний раз пьем вместе. Да что это ты смотришь так испуганно? Я хочу сказать... десять минут назад я решил бросить все и искать счастья где-нибудь в другом месте. Мне надоело вытягивать гроши из этого холма. Потому-то я и говорю: может быть, мы в последний раз пьем вместе. Ты меня знаешь: раз я сказал, значит так и сделаю.
Это была правда. Слинн часто завидовал той быстроте, с какой Мастере принимал решения. Но теперь он с чувством облегчения взглянул в мрачное лицо своего собеседника. Он уходит! Значит, ничего не нужно рассказывать.
Он невнятно пробормотал, что должен пойти по делу в поселок. Он боялся, что Мастерс захочет посмотреть его шахту.
— Ты, я вижу, торопишься отправить это письмо, — сухо сказал Мастерс. — Почта отходит только завтра — успеешь дописать и вложить в конверт.
Следуя за взглядом Мастерса, Слинн, к своему крайнему удивлению, увидел, что держит в руке незаконченную, написанную карандашом записку. Как она очутилась у него в руках, когда он ее писал, он сказать не мог; он смутно помнил, что первой мыслью его было известить жену, но он уже забыл, что успел ей написать. Бессмысленно улыбаясь, он поспешно спрятал записку в нагрудный карман. Мастерс смотрел на него с презрением и жалостью.
— Смотри, не опусти его по рассеянности в какое-нибудь дупло вместо почтового ящика, — сказал он. — Ну что ж, если не хочешь выпить со мной, прощай. Счастливо оставаться, — добавил Мастерс и, повернувшись на каблуках, пошел прочь.
Слинн смотрел, как он вернулся к своему заброшенному участку, собрал инструменты, привязал ремнем одеяло к спине, поднял шляпу на длинной рукоятке лопаты в знак прощания и с легким сердцем зашагал через борозды.
Теперь он остался наедине со своей тайной и своей находкой. Единственный человек в мире, знавший точное расположение его шахты,- ушел навсегда. Вряд ли, конечно, этот случайный товарищ последних недель когда-либо снова вспомнит о нем или об участке; теперь он оставит здесь свое богатство, может быть на целый день, а сам тем временем обдумает план действий и разыщет надежного человека, которому можно довериться. В жизни он был одинок: своеобразные методы поисков богатой руды, которые, наконец, оправдали себя, создали вокруг него пустыню. А все его продуманные планы и терпеливо разработанные теории поисков золота не включали в себя способы добычи и применения.
И вот теперь, в тот час, когда его мозг должен был работать особенно напряженно, откуда такое странное бессилие!
Терпение! Ему нужно только немножко отдохнуть, чтобы прийти в себя. Под деревом на дороге к поселку лежал большой валун — тенистое место, где он частенько ожидал прибытия дилижанса. Он пойдет туда, а когда совсем отдохнет и успокоится, отправится дальше.
Однако по пути он свернул с тропинки и углубился в лес с единственной целью найти дуплистое дерево. «Какое-нибудь дупло». Да! Именно так сказал Мастерс; он это хорошо помнил, но что надо сделать с дуплом, он никак не мог припомнить. Тем не менее он исполнил все: положил туда письмо — как раз во-время, так как ноги уже отказывались нести его дальше, и, дойдя до валуна, рухнул на него как пласт.
И теперь, как ни странно, беспокойство и смущение, овладевшие им с той самой минуты, когда он нашел золото, покинули его, точно он сбросил с плеч груз на обочину дороги. Им овладел безграничный покой. Он мысленно видел свое обретенное богатство; оно уже не вызывает беспокойства и смущения, а приносит ему благословение и счастье. Эти мечты приняли размеры, далеко превосходящие его нерешительные и эгоистические планы. Благодеяния распространяются на жену и детей, друзей и родных, и даже на этого собеседника на склоне холма. Могучее влияние богатства приносит лишь добрые плоды. И естественно, что его бедный, ограниченный разум не мог постигнуть всего значения этого богатства, а когда сделал такую попытку, дрогнул и пошатнулся. Довольно и того, что в течение нескольких минут он испытал такое глубокое удовлетворение, какого не могли бы принести и годы обладания богатством.
Пока он размышлял, солнце, казалось, заходило в розовых лучах его счастья. Затем тени деревьев сгустились и окружили его ночным мраком, а еще позже воцарилась тишина мирного вечернего неба с далекими бесстрастными звездами. То, что они видели, трогало их, наверно, не больше, чем бесшумное движение жизни в траве и кустарнике у его ног. Глухой шорох маленьких лапок в мягком песке дороги, еле уловимое мерцание влажных и недоумевающих глаз на ветвях и мшистых скатах валуна не беспокоили его. Он все еще терпеливо сидел, как будто не обдумал своих дальнейших действий.
Но когда наутро при ярком свете солнца, неся с собой неудержимый гомон жизни и деятельности, подкатил дилижанс, кучер внезапно резко остановил своих четырех резвых лошадей у этого укромного уголка. Кондуктор слез с козел и подошел к бесформенной, как ему показалось, груде брошенной одежды.
— Он, видимо, не пьян, — ответил кондуктор на раздраженные вопросы пассажиров. — Я что-то не разберу. Глаза открыты, но он не шевелится и не говорит. Посмотрите, доктор.
Из дилижанса вылез грубый человек, совсем не похожий на врача, и, небрежно растолкав любопытных пассажиров, быстро, с профессиональной ловкостью нагнулся над кучей платья.
— Умер, — сказал один из пассажиров.
Доктор тихо опустил на камень неподвижную голову.
— Нет, это было бы еще хорошо, — сказал он отрывисто, но мягко. — У него паралич, удар был очень сильный. Неизвестно, сможет ли он когда-нибудь говорить или двигаться.
Глава I
Когда Элвин Малрэди объявил о своем намерении выращивать на зеленых склонах Лос Гатос картофель и овощи, золотоискатели этой местности и соседнего поселка Скороспелки встретили его заявление презрительным равнодушием, которое обычно проявляют искатели легкого заработка ко всякого рода буколическим занятиям. Конечно, никто серьезно не возражал против того, чтобы он приступил к обработке этих двух склонов, которые обещали золотоискателям так мало, что, если верить рассказам, один из старателей, по фамилии Слинн, работавший там, не то сошел с ума, не то впал в идиотизм от постоянных неудач. Возражал только один человек — первоначальный владелец этой земли, дон Рамон Альварадо, — но его притязания на двадцать миль долины и холмов, включая и процветающие поселки — Скороспелку и Рыжую Собаку, были встречены хохотом горняков и переселенцев.
— Посмотрите-ка, можно подумать, что мы проехали три тысячи миль только для того, чтобы отыскать эту чертову пустыню и заплатить ему! Как же, держи карман шире! — насмешливо заявляли они.
Малрэди было бы простительно примкнуть к этому общему мнению, но, подчиняясь какому-то странному чувству, которое, однако, было ему свойственно, он пошел к дон Району и в самом деле предложил купить у него землю или платить за аренду продуктами. Говорят, дон Рамон был так потрясен этим предложением, что не только отдал Малрэди землю, но и подружился с простодушным земледельцем и его семьей. Едва ли нужно добавлять, что золотоискатели смотрели на эту дружбу с тем презрением, какого она заслуживала. А узнай они мнение дон Района об их собственной профессии, которое вскоре стало известно Малрэди, их презрению не было бы конца.
— Это дикари — они хотят снять урожай там, где не сеяли, получить от земли, не давая ей взамен ничего, кроме своих драгоценных костей; это язычники — они поклоняются камням, которые выкапывают из земли.
— А среди них разве не было испанцев? — простодушно спросил Малрэди.
— Есть и испанцы и мавры, — глубокомысленно ответил дон Рамон, — И кабальеро ищут золото, но из этого еще ничего путного не выходило. В Соноре, например, жили Альварадо, владельцы серебряных рудников, которые они разрабатывали с помощью батраков и мулов, но когда они разорились, — золотой рудник выгоднее, чем серебряный, — они вели себя как истинные джентльмены. Не пристало кабальеро рыться пальцами в грязи в надежде, что к ним пристанет золото. Я уже не говорю о проклятии.
— О проклятии? — повторила Мэри Малрэди с девичьим суеверием. — Это что такое?
— Вы, наверно, не знаете, друг Малрэди, что, когда Карл Пятый* пожаловал эти земли моим предкам, монтерейский епископ наложил проклятие на тех, кто их осквернит. Ладно. Слушайте дальше! Из трех американцев, которые основали вон тот город, один был убит, второй умер от лихорадки — отравился, понимаете, землей, а третий сошел с ума от пьянства. Даже ученый*, который много лет назад приезжал сюда и изучал деревья и травы, был тоже наказан за богохульство и погиб от несчастного случая где-то в чужих краях. Но, — добавил дон Рамон серьезным и учтивым тоном, — вас это не касается. При моем посредстве вы тоже становитесь владельцами этой земли.
В самом деле, казалось, что результатом покровительства дон Района было верное, хоть и не скорое, благосостояние. Картофельный участок и огород процветали; богатая почва давала пышный рост овощей, а обилие солнечного света во все времена года обеспечивало большой и ранний урожай. Жители, сидевшие на соленой свинине и сухарях, хоть и презирали труд Малрэди, не упускали возможности изменить свое меню. Золото, которое они добывали из земли, потекло в его карманы в обмен на более скромные сокровища. Маленькая хижина, едва укрывавшая его семью — жену, сына и дочь — была перестроена, увеличена, отделана заново, но потом они покинули ее и переехали в более удобный и просторный дом на противоположном склоне холма. Белая изгородь сменила грубо сколоченный забор, отделявший дом от пустыни. Постепенно появились первые ростки культуры: комья красноватой земли, кучи хвороста, голая пашня и груды камней исчезли, уступив место светло-зеленому ковру, который представлялся оазисом среди рыжевато-коричневого дикого овса на склонах холмов. Только воды не было в этом раю; для его орошения приходилось доставлять воду из горного котлована, а это обходилось очень дорого, да и там ее было недостаточно. Поэтому Малрэди решил вырыть на солнечном склоне холма около дома артезианский колодец. Однако это вызвало серьезные разговоры и возражения со стороны его патрона. Дон Рамон строго заявил, что шутки с недрами земли являются не только оскорблением природы, но и нарушением законных прав соседей.
— Я и мои предки, — да упокоит Сан-Диего их души! — сказал дон Рамон, осеняя себя крестом, — довольствовались колодцами и водоемами, которые небо наполняло в определенные времена года; даже бессловесный скот умел находить воду, когда она была ему нужна. Но ты говоришь правду, — добавил он со вздохом, — все это было до того, как дьявольские машины засорили ручьи и дождевые воды и отравили их своей пеной. Ступай, друг Малрэди, рой, если хочешь, но только тихо и осторожно, без нечестивых землетрясений от дьявольского пороха.
Получив согласие, Элвин Малрэди принялся рыть свой первый артезианский колодец. Но работа, без помощи пара и пороха, двигалась медленно. Тем временем огород не страдал, так как Малрэди нанял двух китайцев ухаживать за землей, а сам занимался рытьем колодца. Это пустяковое событие составило целую эпоху в общественном положении семьи. Миссис Малрэди сразу стала держать себя надменно перед соседями. Она говорила о «рабочих» своего мужа, называла рытье колодца «предприятием» и протестовала против грубоватой, отличающей пограничные нравы, фамильярности клиентов с хорошенькой Мэри Малрэди, своей семнадцатилетней дочерью. Простодушный Элвин Малрэди с удивлением наблюдал внезапный рост зародыша, который живет в любой женской натуре и расцветает при малейшем проблеске благосостояния.
— Послушай-ка, Мальвина, чего это ты так важничаешь с молодцами, которые хотят поухаживать за Мэми? Точно она им уж и не пара, а?
— Уж не хочешь ли ты сказать, Элвин Малрэди, — с неожиданной строгостью возразила миссис Малрэди, — что собираешься выдать свою дочь за простого рудокопа, или ты думаешь, что я позволю ей выйти за человека не из нашего общества?
— Из нашего общества? — тихо повторил Малрэди, замигав от удивления, а затем перевел взгляд на своего веснушчатого сына и двух китайцев, работавших на грядах капусты.
— Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, — резко заявила миссис Малрэди, — из общества, в котором мы вращаемся. Семья Альварадо и их друзья! Разве старый дон не заходит к нам каждый день? А сын его по возрасту разве не подходит для Мэми? И разве это не первая семья в округе — все равно что аристократы? Нет, предоставь Мэми мне и занимайся своим колодцем; еще не родился такой мужчина, который что-нибудь понимал бы в этих делах или знал бы свои обязанности перед семьей.
Малрэди, как и большинство мужчин (ум у них шире, а практические возможности меньше), охотно согласился с последним замечанием, которое отдавало мелочи жизни целиком в женские руки, и отправился к колодцу на склоне холма. Но в течение дня его не покидали смущение и тревога. Он был преданным мужем и обрадовался этому доказательству неожиданной предусмотрительности своей жены, хотя, подобно всем мужьям, был несколько озадачен. Он старался не вспоминать ее слова. Но, глядя вниз с холма на свою небольшую усадьбу, которая постепенно росла и процветала под его руководством, он поймал себя на том, что его преследуют честолюбивые мечты его супруги. Зная людей, он сомневался в том, что дон Рамон когда-нибудь задумывался над возможностью брака между их детьми. Он не верил в согласие дон Района. И именно это злополучное сомнение, задев гордость человека, который сам создал себе положение в жизни, заставило его впервые серьезно задуматься над планом жены. В один прекрасный день он станет равным дон Району! Отравленный искусным ядом, который жена по каплям впустила ему в вены, и увлеченный логикой ее нелогичных предположений, он почти возненавидел своего прежнего благодетеля. И, глядя вниз на маленький рай, где Ева только что соблазнила его роковым плодом, он почувствовал, что навсегда утратил простодушную и невинную радость жизни.
К счастью, вскоре дон Рамон умер. Вероятно, он ничего не знал о матримониальных планах миссис Малрэди насчет его сына, теперь унаследовавшего отцовское состояние, которое жестоко обкорнали родственники и кредиторы. Миссис и мисс Малрэди надели на похороны дорогие траурные платья, присланные из Сакраменто; даже кроткого Элвина облекли в костюм из тонкого сукна, подчеркивавший несомненную простоватость его добродушной натуры. Миссис Малрэди рассказывала всем о своей «утрате», говорила о том, что старинные семейства вымирают, и упорно внушала женам новых жителей Рыжей Собаки, что ее род такой же древний, как род Альварадо, и что здоровье ее мужа тоже оставляет желать лучшего. Она выказывала поистине материнское участие к осиротевшему дон Сезару. Сдержанный по характеру, как и его отец, от горя он стал еще более церемонным и, по-видимому стесняясь своей очевидной склонности к Мэми Малрэди, редко пользовался сочувственным гостеприимством ее матери. Но он выполнил намерения своего отца, продав Малрэди за незначительную сумму участок земли, который тот прежде арендовал. Мысль о покупке земли исходила от миссис Малрэди.
— Она останется у нас навсегда, — заявила эта проницательная особа, — да и для дела лучше, если мы не будем арендаторами.
А спустя несколько недель ее удивил голос мужа, бежавшего домой. Мэми была в своей комнате; она надевала новое розовое ситцевое платье в честь ожидаемого визита дон Сезара, а миссис Малрэди прибирала в доме по случаю того же события. Что-то особенное в голосе мужа и его возвращение домой в столь необычный час поразили ее: она бросила пыльную тряпку и побежала ему навстречу. Она видела, как он бежал через гряды капусты, взволнованный, с вспотевшим лицом и такими горящими глазами, каких она не видела уже много лет. Ей вспомнилось — впрочем, без всякой сентиментальности, — что именно так он выглядел, когда она позвала его, бедного батрака ее отца, из кустарника во дворе их дома в Иллинойсе, чтобы получить согласие родителей.
Воспоминание перешло в замешательство, когда он обнял ее и звучно поцеловал в увядшую щеку.
— Ради бога, Малрэди! — сказала она, прикрывая фартуком тень румянца, который тоже напоминал прошлое. — Что ты делаешь, когда гости могут прийти с минуты на минуту?
— Мальвина, я нашел золото, уйму золота!
Она спокойно высвободилась из его объятий и посмотрела на него блестящими, но проницательными глазами.
— Я нашел его в колодце... обыкновенная жила, такая, какую ищут все ребята. Там целое богатство для тебя и для Мэми — тысячи, десятки тысяч!
— Погоди минутку.
Она быстро отошла от него и направилась к лестнице. И он с удивлением услышал, как она отчетливо сказала:
— Мэми, можешь снять новое платье.
Было слышно, как Мэми пыталась разубедить мать.
— Тебе говорят! — настойчиво произнесла миссис Малрэди.
Ропот прекратился. Миссис Малрэди снова подошла к мужу. Казалось, эта небольшая заминка испортила его настроение. Находка уже не доставляла ему удовольствия. Он ждал, пока заговорит жена.
— Ты еще никому не рассказывал?
— Нет. В шахте я был один. Понимаешь, Мальвина, это вышло совсем неожиданно, — снова оживился он, — я уже собирался уходить и ни на что не рассчитывал.
— Вот видишь, как я была права, когда посоветовала тебе купить землю, — сказала она, не слушая его.
Лицо Малрэди омрачилось.
— Надеюсь, дон Сезар не подумает... — начал он, запинаясь. — Я ведь, наверно, должен некоторым образом возместить, понимаешь?
— Глупости! — решительно заявила миссис Малрэди. — Не будь дураком! Как бы там ни было, а золото твое — таков закон. Ведь ты купил землю без всяких оговорок. Кроме того, ты ничего не знал! — закончила она и вдруг внезапно взглянула на него. — Или знал?
Малрэди широко раскрыл свои честные светло-серые глаза.
— Ну что ты, Мальвина, ведь ты же прекрасно знаешь, что я и понятия не имел. Я могу поклясться!
— Не клянись и не проговорись никому о том, что ты знал. А теперь, Элвин Малрэди, выслушай меня! — Ее голос стал резким и энергичным. — Сейчас же бросай работу в шахте и отошли своего помощника. Одевайся и с четырехчасовым дилижансом отправляйся в Сакраменто. Возьми с собой Мэми.
— Мэми? — тихо повторил Малрэди.
— Ты должен немедленно повидать адвоката Коула и моего брата Джима, — продолжала она, не слушая его, — а Мэми нужно переменить обстановку и купить приличные платья. Оставь хозяйство на меня и Эбнера. Я сама все объясню Мэми и соберу ее в дорогу.
Малрэди провел рукой по взлохмаченной и мокрой от пота голове. Он гордился энергией жены; он и не собирался протестовать, но все же был разочарован. Радость и веселье рассеялись, прежде чем он успел ослепить ее блеском своей находки; собственно говоря, она совсем не была ослеплена. Все получилось так практично и деловито, а выражение «объясню Мэми» даже неприятно задело его. Ему было бы приятнее самому рассказать дочери, увидеть, как зальется румянцем ее нежное личико, уловить в кротких глазах тот невинный восторг, которого он не увидел в глазах жены.
— Нечего время терять, — нетерпеливо сказала она, заметив его колебания.
Может быть, именно ее нетерпение больно задело его; если бы она не так самоуверенно отнеслась к своему счастью, он вряд ли заговорил бы о том, что его беспокоило:
— Подожди минутку, Мальвина, мне нужно тебе что-то сказать об этой находке.
— Говори, — быстро ответила она.
— Между кусками кварца лежала кирка, — сказал он в смущении, — видно, кто-то уже разрабатывал эту жилу. А у подошвы холма есть признаки, что там раньше была шахта, только она обвалилась и засыпана обломками.
— Ну и что же? — презрительно спросила миссис Малрэди/
— Ну, и вот, — несколько бессвязно ответил ее муж, — похоже, что кто-то нашел ее до меня.
— И ушел и оставил другим! Как бы не так! — прервала его жена с плохо скрытым раздражением. — Все знают, что на этом холме не было никакого смысла искать золото, его забросили еще до того, как мы приехали. Это твоя собственность — ты за нее заплатил. Элвин Малрэди, ты собираешься дать объявление о поисках владельца или едешь в четыре часа в Сакраменто? Малрэди вздрогнул. До этого он не верил всерьез, что кто-нибудь мог сделать эту находку до него, но его честная натура заставила принять во внимание все обстоятельства. Вероятно, жена права. Что бы он сказал, если бы она отнеслась к вопросу так же добросовестно, — об этом он не задумывался.
— Ладно, — сказал он просто, — я думаю, мы сейчас поедем.
— Когда ты будешь беседовать с адвокатом Коулом и с Джимом, ничего не говори об этой дурацкой кирке. Незачем внушать людям глупые мысли из-за того, что они лезут тебе в голову.
Когда, наконец, поспешные сборы были окончены, и мистер Малрэди и Мэми, сопровождаемые молчаливым китайцем, который нес их скудный багаж, шли к остановке дилижанса, отец с тревогой и нетерпением взглянул на дочь. Он ждал этих мгновений, предвкушая свежесть и наивность ее юного восторженного порыва, — это было бы облегчением после практического и дальновидного реализма жены. На нежных щеках девушки играл румянец, маленький полуоткрытый рот по-детски улыбался, а прелестная задумчивость ее больших серых глаз казалась ему хорошим предзнаменованием.
— Ну, Мэми, как тебе нравится быть наследницей? Как тебе нравится возможность стать богаче всех девушек отсюда до Фриско?
— А?
Она не слыхала его слов. Нежным прекрасным глазкам рисовались оставшиеся в памяти полки модного магазина в Сакраменто, они читали восхищение в глазах приказчиков, неодобрительно поглядывали на широкие башмаки из воловьей шкуры, шагавшие рядом, смотрели на дорогу в ожидании дилижанса, рассматривали новые перчатки, глядели повсюду, но только не в полные любви глаза ее спутника.
Однако, тронутый ее очаровательной рассеянностью, он повторил вопрос, обнимая рукой ее тонкую талию.
— Конечно, нравится, папа, ты же сам знаешь, — сказала она, освобождаясь из его объятий, и чуть пожала ему локоть, чтобы смягчить свое резкое движение. — Мне всегда казалось, что что-то должно случиться. Я, наверно, похожа на пугало, — добавила она, — мама все торопила, чтобы уехать, пока не пришел дон Сезар.
— А тебе не хотелось уезжать, не повидав его? — лукаво спросил отец.
— Я не хотела, чтобы он увидел меня в этом платье, — ответила Мэми просто. — Думаю, что поэтому мама и заставила меня переодеться, — добавила она с усмешкой.
— Ну, а я думаю, ты для него хороша в любом наряде, — возразил Малрэди, внимательно глядя на нее, — а теперь ты и богаче его, — торжествующе добавил он.
— Не знаю, — сказала Мэми. — Он все время был богат, как и его отец и дед, а мы были бедными и арендовали у них землю.
Он изменился в лице; замешательство, с которым он слушал ее слова, уступило место боли, а затем гневу.
— Это он наговорил тебе такой чепухи? — быстро спросил он.
— Нет. Пусть бы посмел! — немедленно ответила Мэми. — Теперь можно найти и получше его!
Несколько минут они шагали в горестном молчании, так что китаец мог бы подумать, что между ними произошла размолвка. Но зубы Мэми снова заблистали в полуоткрытых губах:
— Послушай, папа, ведь это все не то. Он любит меня, а я его. И если бы у мамы не было этих новых идей... — она внезапно умолкла.
— Новых идей? — тревожно спросил отец.
— Нет, ничего! Мне хотелось бы, папа, чтобы ты надел другие сапоги. Всякий видит, что эти для грязной работы. А ты теперь уже не огородник.
— А кто же я тогда? — спросил Малрэди с довольным, но принужденным смехом.
— Я бы сказала — капиталист, но мама говорит — землевладелец.
Однако новый землевладелец, подойдя к валуну на дороге, ведущей к Рыжей Собаке, сел на него и погрузился в угрюмое размышление, глядя на свои широкие, грубые башмаки из воловьей шкуры, на которые налипло достаточно земли, чтобы доказать его право на это звание. Мэми опять повеселела, хоть и казалась озабоченной. Она одна гуляла по лугу, предаваясь своим честолюбивым мечтам, или поднималась на склон холма взглянуть, не идет ли дилижанс. Она забрела так далеко, что дилижансу, когда он, наконец, появился, пришлось немного подождать ее.
Когда она уселась на свое место, а Малрэди влез на козлы, кучер коротко заметил:
— Вы меня сейчас порядком напугали, приятель.
— Как так?
— Года три назад я проезжал здесь как раз в это время. На этом самом камне, вот так как вы, сидел человек ваших лет, и фигура как у вас. Я остановился, чтобы дать ему войти, как вдруг, чтоб мне провалиться, увидел, что он не шевелится, а только смотрит на меня и ничего не говорит. Окликаю его — он молчит и только смотрит на меня все тем же идиотским взглядом. Тогда я, как следует, по-английски, выложил ему свое мнение и уехал, а его оставил там. На следующее утро, когда я ехал обратно, вот провалиться мне, он лежал на валуне. Джим соскочил и поднял его. Доктор Дюшен, который был с нами, сказал, что это золотоискатель и его разбил паралич, и мы отвезли его в больницу. С тех пор я всегда боюсь этого места и когда увидел сейчас, что вы там сидите, задумавшись и свесив голову, как и тот парень, мне стало что-то не по себе.
Непонятная и полусуеверная тревога, которую это совпадение пробудило в душе Малрэди, не склонного к игре воображения, чуть было не побудила его рассказать кучеру о своей удаче, чтобы доказать, как нелепо это сравнение, но он во-время удержался.
— Вы узнали, кто это был? — быстро вмешался один из пассажиров.
— Еще что-нибудь слышали о нем? — полюбопытствовал другой.
Кучер ответил на это вмешательство презрительным молчанием, а затем продолжал, обращаясь только к Малрэди:
— Ведь я обругал тогда беззащитного человека; он не мог ни выругаться в ответ, ни выстрелить, и вот теперь я подумал, что вы — его призрак и пришли свести со мной счеты.
Он снова помолчал, а затем небрежно добавил:
— Говорят, от него так и не удалось узнать, кто он и откуда. Его, конечно, взяли в больницу для слабоумных и идиотов в Сакраменто. Я слышал, что это первоклассное заведение, и не только для тех, кто парализован и не может говорить, но и для тех, кто слишком много говорит. Ну, — добавил он, впервые медленно поворачиваясь к пассажирам, задававшим вопросы, — а вам — как вам это понравилось?
Глава II
Когда известие о находке Малрэди, наконец, облетело оба поселка, оно вызвало волнение, небывалое в истории тех мест. Половина населения Рыжей Собаки и все жители Скороспелки собрались на желтых холмах, окружающих холм Малрэди. Глядя на их лагерные костры, можно было подумать, что целая армия осаждает его мирный сельский дом и готовится взять его приступом. К своему огорчению, они увидели, что на лучших участках уже красуются объявления о преимущественном праве на покупку их для разработки от имени различных членов семейства Альварадо. Это было делом рук миссис Малрэди: она хотела успокоить совесть мужа и на всякий случай задобрить семейство Альварадо. Справедливость требует, однако, заметить, что такое унижение кастильских принципов покойного отца дон Сезара встретило сопротивление с его стороны.
— А зачем вам самому обрабатывать землю? Продайте эти участки. Только так можно обезопасить себя от аферистов, которые вообще могут завладеть ими бесплатно, — убеждала его миссис Малрэди.
Дон Сезар в конце концов согласился; возможно, не столько из-за деловых соображений жены Малрэди, сколько из простого желания угодить матери Мэми. Сумма, которую он получил за несколько акров земли, превзошла доход, полученный дон Районом со всех двадцати миль за последнее десятилетие.
Такой же невиданной и неслыханной была реализация руды, найденной в шахте Малрэди. Утверждали, что компания, спешно созданная в Сакраменто, выплатила ему миллион долларов, оставив за ним право на две трети дохода. Но с упрямством, почти равносильным внутреннему убеждению, он отказался включить в продажу дом и картофельный участок. Когда компания пошла и на эту уступку, он с такой же настойчивостью отказался продать их посторонним спекулянтам даже на самых выгодных условиях. Тщетно протестовала миссис Малрэди; тщетно она указывала ему, что если они оставят за собой это свидетельство их прежнего скромного занятия, оно будет позорным пятном на их репутации.
— Если ты хочешь оставить за собой землю, застрой ее, а огород уничтожь, — говорила она.
Но Малрэди был непоколебим.
— Это единственное, что я в своей жизни создал сам и выходил собственными руками; это начало моего счастья и, может быть, его конец. Может быть, в один прекрасный день я буду рад, что у меня есть куда вернуться, и благодарен за то, что смогу добывать себе пропитание на этом клочке земли.
При дальнейшем нажиме Малрэди, однако, согласился, чтобы часть огорода была превращена в виноградник и цветник, внешний вид которых отвлекал бы внимание от вульгарной части имения. Меньшего успеха добилась эта энергичная женщина, когда пыталась смягчить аскетизм их прежнего состояния. Ей пришло в голову использовать мягкое произношение дон Сезаром их фамилии и изменить в своих визитных карточках слово «Малрэди» на «Мальред».
— Может быть, у нас испанская фамилия, — доказывала она мужу. — Адвокат Коул говорит, что большинство американских фамилий искажено, а почем ты знаешь, может быть с нашей произошло то же самое?
Малрэди, который мог бы поклясться, что его предки 1798 году переселились в Каролину из Ирландии, не в силах был опровергнуть это утверждение. Но грозная Немезида* американского произношения сейчас же разразилась орфографическим гневом. Когда миссис Малрэди устно и в письмах начали называть «миссис Мальред», стихотворные излияния к ее дочери стали рифмоваться со словами «любовный бред», и ей пришлось немедленно восстановить в фамилии прежние гласные. Однако она не могла отказаться от испанской учтивости, которая преобразовала имя ее мужа, и в его отсутствие обычно называла его «дон Альвино». Но в присутствии мужа, с его низенькой, коренастой фигурой, рыжеватыми волосами, мигающими серыми глазками и вздернутым носом, эта властолюбивая женщина воздерживалась от употребления указанного титула. В Рыжей Собаке рассказывали, что когда один знатный иностранец как-то обратился к Малрэди: «Кажется, я имею честь беседовать с доном Альвино Малрэди?», простодушный гидальго ответил: «Можешь биться об заклад на свои сапоги, братец, не прогадаешь, он самый и есть».
Хотя миссис Малрэди предпочитала, чтобы Мэми оставалась в Сакраменто до тех пор, пока она сама туда не приедет перед поездкой в восточные штаты и в Европу, ей пришлось по душе желание дочери ослепить Скороспелку перед отъездом новыми туалетами и расправить в родном гнезде изящные и яркие крылышки, на которых она собиралась улететь из него навсегда.
— Я не хочу, мама, чтобы меня потом вспоминали в ситцевых платьях с крапинками и говорили, что мне здесь и одеться было не во что.
Эта тонкая предусмотрительность так характеризовала дочь своей матери, что тронутая и благодарная родительница расцеловала ее и дала согласие. Результат превзошел все ожидания. За несколько недель пребывания в Сакраменто девушка переняла и усвоила все последние моды, а ее такт и вкус оставили далеко позади обычное изящество молодых американок. Кроме того, ко всем особенностям покроя и материала она, казалось, добавляла из какого-то неведомого источника грацию и манеры, соответствующие каждому туалету. Не связанная традициями и воспитанием, она еще не утратила присущую девушкам Запада веру в возможность исполнения своих желаний — веру, которая и в самом деле облегчала их осуществление. Мистер Малрэди смотрел на дочь со смешанным чувством гордости и благоговения. Возможно ли, что это нежное существо, казавшееся бесконечно выше его, точно потомок какой-то неведомой и далекой расы, — его плоть и кровь? Разве она дочь своей матери, которая даже в молодости никогда не была так нарядна? И если эта мысль не доставила удовольствия его простому, любящему сердцу, она по крайней мере избавила его от боли видеть неблагодарность в родном создании. «Наверно, мы не вполне подходим к ее стилю», — вот как он все объяснял и извинял. Неясная вера в то, что в ином, лучшем мире он сможет понять ее и подняться до подобного совершенства, успокаивала и подбадривала его.
Поэтому вполне естественно, что батистовое платье с вышивкой, в котором Мэми Малрэди в один прекрасный летний день появилась на склонах холмов в Лос Гатос, — платье, которое для придирчивых женских взоров казалось слишком художественным и дорогим, по общему мнению, вполне гармонировало с ее окружением, и было ей удивительно к лицу. Таким же оно представлялось и откровенным и насмешливым глазам молодого человека лет двадцати пяти, который шел рядом с ней. Это был новый редактор газеты «Новости»; он познакомился с Мэми на обратном пути из Сакраменто. Малрэди пригласил его в дом, и молодой человек уже дважды воспользовался приглашением. Миссис Малрэди не возражала против его ухаживания за Мэми. Неизвестно, хотела ли она ради какой-то тайной цели смутить покой дон Сезара, или, как и некоторые другие женщины, слишком верила в тихий, скромный, чисто платонический характер мужского юмора.
— Если я скажу, что сожалею о вашем отъезде, мисс Малрэди, — небрежно говорил молодой человек, — вы должны будете оценить мою самоотверженность: я откровенно сознаюсь, что ваш отъезд для меня, как редактора и человека, будет значительным облегчением. Приток материала в отдел поэзии «Новостей», с тех пор как по ошибке решили, что ваша фамилия рифмуется со словами «бред», «свет», «привет», «ответ» и «завет», прямо колоссальный, и, к несчастью, я даже не имею права отвергать эти перлы, ибо я сам — ваш поклонник.
— Правда, это ужасно, когда ваша фамилия рекламируется по всей стране? — сказала Мэми, но лицо ее не выражало особенного ужаса.
— Они считают, что это гораздо более почтительно, чем называть вас Мэми, — ответил он небрежно, — ведь среди ваших поклонников много пожилых людей, которые говорят любезности в средневековом стиле. Любовными стихами, оказывается, грешит не одна молодежь. Полковник Кэш так же убийственно владеет рифмой, как и двустволкой. Судья Баттс и доктор Вильсон решили, что вы похожи на Венеру, а они на Аполлона. Оцените их подношения, мисс Малрэди, — добавил он более серьезным тоном. — Там, куда вы едете, у вас будут тысячи поклонников, но в конце концов вам придется признать, что самые искренние и почтительные были здесь, в Скороспелке и в Рыжей Собаке. — Он умолк, а затем добавил еще более серьезно: — А дон Сезар пишет стихи?
— У него есть занятия куда интереснее, — бойко ответила девушка.
— Могу себе представить, — лукаво заметил он, — что стихи были бы для него бледной заменой других возможностей.
— Зачем вы приехали сюда? — внезапно спросила она.
— Чтобы увидеть вас.
— Глупости! Вы знаете, о чем я спрашиваю. Зачем вы переехали сюда из Сакраменто? Мне кажется, там вам было лучше.
— Меня вдохновил пример вашего отца, и я решил искать здесь золото.
— Такие люди, как вы, этим не занимаются, — сказала она просто.
— Это комплимент, мисс Малрэди?
— Не знаю. Но думаю, что вы можете принять за комплимент.
Он с удовольствием взглянул на нее, как будто не ожидал встретить такое понимание.
— В самом деле? Это интересно. Давайте-ка сядем.
Так они гуляли, пока незаметно не дошли до большого валуна на обочине дороги. Мэми с минуту колебалась, поглядывая то в одну, то в другую сторону, а затем с привычным равнодушием к тому, что может испачкать платье, села на камень и положила ногу на ногу, придерживая на коленях обеими руками свернутый зонтик. Молодой редактор, прислонившись к валуну, принялся чертить тростью на песке какие-то цифры.
— Напротив, мисс Малрэди, я надеюсь нажить здесь деньги. Вы уезжаете из Скороспелки, потому что вы богаты. А мы переезжаем сюда, потому что мы бедны.
— Мы? — лениво повторила Мэми, глядя на дорогу.
— Да. Мой отец и две сестры.
— Очень жаль. Я могла бы познакомиться с ними, если бы не уезжала.
Вдруг ей пришло в голову, что, если они похожи на того, кто стоял перед ней, то, может быть, они тоже вызывающе независимы и насмешливы.
— Ваш отец работает?
Он покачал головой, и, помолчав, сказал, ударяя тростью по мягкому песку:
— Он парализован и не в своем уме, мисс Малрэди. Я приехал в Калифорнию, чтобы разыскать его. Три года мы не имели о нем никаких известий, и всего лишь две недели назад я нашел его, одинокого, беспомощного, никому не известного нищего, в окружной больнице.
— Две недели назад? То есть как раз в то время, когда я ездила в Сакраменто?
— Очень может быть.
— Должно быть, вы пережили тяжелые минуты?
— Да, конечно.
— Наверно, вам было очень неприятно?
— Да, и сейчас бывает по временам. — Он улыбнулся и положил трость на камень. — Теперь вы понимаете, мисс Малрэди, как мне необходимо богатство, которого я, по вашему мнению, не заслуживаю. А пока надо постараться устроиться здесь, в Скороспелке.
Мисс Малрэди опустила зонтик.
— Знаете что, пора идти.
— Почему?
— В это время здесь проходит дилижанс.
— И вы думаете, пассажиры заметят, что мы здесь сидим?
— Конечно, заметят.
— Мисс Малрэди, умоляю вас остаться.
В его голосе слышалась такая серьезная мольба, а жесты были так убедительны, что она покраснела. С минуту она не решалась взглянуть на него. А когда взглянула, в ее глазах вспыхнул гнев. Она отвела взгляд. Он смеялся.
— Если у вас есть жалость ко мне, не уходите, — повторил он. — Останьтесь еще на минутку, и карьера моя обеспечена. Пассажиры разнесут по всей Рыжей Собаке, что мы помолвлены. Все будут считать, что я посвящен в секреты вашего отца, и новые компании наперебой будут предлагать мне пост директора. «Новости» удвоят свой тираж; стихи исчезнут с их полос, а их место займут объявления, и я буду получать в неделю на пять долларов, а то и на все семь с половиной больше. В такой момент не думайте, какие могут быть последствия для вас. Уверяю вас, ничего не будет. Ла другой же день можете все отрицать, я и сам буду отрицать, «Новости» даже поместят опровержение в экстренном выпуске — тысяча экземпляров по десять центов за штуку. Еще минутку, мисс Малрэди! Не уходите, не уходите! Вот они едут! Эх! Да это только дон Сезар!
В самом деле, лишь юный отпрыск дома Альварадо, голубоглазый, смуглый, широкоплечий, приближался к ним на горячем, диком мустанге. Необузданные и порывистые движения коня лишь подчеркивали и выдавали степенную, величавую и непринужденную осанку всадника. Даже редактор «Новостей» в своем озорном настроении не мог сдержать восхищения при виде этого безупречного искусства верховой езды. Самолюбие Мэми было задето до такой степени, что она с наслаждением подразнила бы своего собеседника, но ей пришлось воздержаться от комплиментов.
С любезным и серьезным видом дон Сезар приподнял шляпу перед девушкой и с солидным и учтивым — перед ее спутником. В то время как нижняя часть этого кентавра, по-видимому, дрожала от ярости и била копытами по земле, очевидно желая растоптать юную пару, верхняя со спокойным достоинством поглядывала то на одного, то на другого, как бы предоставляя им право объясниться. Но Мэми прекрасно понимала, что объяснять ничего не: надо, а у ее спутника выражение лица было совершенно безразличное. Легкая тень скользнула по лицу дон Сезара. В этот момент, еще более усложнив положение, с грохотом проехал дилижанс. С женской проницательностью Мэми успела заметить взгляды кучера и кондуктора, отраженные в насмешливых глазах ее спутника. Они, очевидно, по-своему поняли эту встречу. Мэми не могла отделаться от этого впечатления, хотя редактор шепнул ей на ухо, что пассажиры оглядываются, чтобы посмотреть «поединок».
Молодой испанец, утратив чувство юмора и любопытство, оставался невозмутимым.
— Вы ведь знакомы с мистером Слинном из «Новостей»? — спросила Мэми.
Дон Сезару не приходилось раньше встречаться с сеньором Эсслинном*. Ему казалось, что газету редактирует сеньор Робинсон.
— А! Его убили, — объяснил Слинн. — Теперь я занял это место.
— Bueno*! Чтобы вас тоже убили? Надеюсь, что нет.
Слинн быстро взглянул на спокойное лицо дон Сезара. Непохоже, чтобы испанец умел говорить экивоками. И Слинн, не собираясь возбуждать ревность в дон Сезаре, а еще менее желая оказаться помехой в их беседе, может быть даже в тягость девушке, предпочел откланяться.
Повинуясь внезапному женскому капризу, или какому-то непонятному дипломатическому инстинкту, Мэми сказала, протягивая руку:
— Надеюсь, вам удастся устроить здесь свою семью. Мама уговаривает папу сдать внаймы наш старый дом. Может быть, он подойдет вам, ведь это недалеко от вашей работы. Поговорите с мамой.
— Спасибо. Непременно, — ответил молодой человек, сердечно пожимая ей руку.
Дон Сезар не сводил с него глаз, пока он не скрылся в тени придорожных каштанов.
— Он из хорошей семьи, этот ваш соотечественник?
Мэми показалось странным, что просто знакомого человека называют «ее соотечественником» — не в первый и не в последний раз в ее жизни. Так как в поведении ее собеседника не было и следа ревности, она ответила кратко, но неопределенно:
— Да, это грустная история. Его отец исчез несколько лет назад, а недавно он нашел его, беспомощного и разбитого параличом, в больнице в Сакраменто. Ему придется содержать отца, а они очень бедны.
— Значит, у американцев отцы и дети не всегда бывают независимы друг от друга?
— Нет, — сказала Мэми.
Что-то в манере дон Сезара ей не понравилось. Его серьезная степенность, которая, несомненно, была результатом благородного происхождения и хорошего воспитания, подчас утомляла ее и раздражала еще больше, чем непочтительный юмор Слинна. Она быстро схватила зонтик, как бы собираясь уйти.
Но дон Сезар уже сошел с лошади и крепким лассо, которое висело у луки седла, привязал ее к дереву.
— Пойдемте через лес к вашему дому. Я вернусь сюда за лошадью, когда вы меня прогоните.
Они шли мимо сосен, которые заполняли всю лощину, и поднялись по склону холма, где находилась шахта Малрэди. Забытая тропа, почти неразличимая в желтой траве, вела от дороги в сторону и терялась в кустарнике. Это была прогулка влюбленных; они, очевидно, и были влюблены друг в друга, но юноша казался слишком сдержанным и серьезным, а девушка слишком рассудительной и разборчивой; на захватывающую, всепоглощающую страсть это было что-то не похоже.
— Я не был бы так назойлив сегодня в присутствии вашего друга, — с гордым смирением говорил дон Сезар, — но из слов вашей матери я не мог понять, одни ли вы ушли на прогулку и желательно ли вам мое общество. Именно об этом я и должен поговорить с вами, Мэми. В последнее время ваша мать стала вести себя со мной очень странно: она избегает говорить о нашей с вами взаимной привязанности, относится к ней несерьезно и даже, вот как, например, сегодня, мне кажется, мешает нам встречаться наедине. Она была разочарована тем, что вы вернулись из Сакраменто; говорят, ей хотелось, чтобы вы оставались там до самого отъезда в Европу; а после того, как вы вернулись, я видел вас всего лишь два раза. Быть может, я ошибаюсь или не понимаю американских матерей; или я — кто знает? — нарушил этикет или не соблюдал должных церемоний. Но вы сказали, Мэми, что с ней предварительно говорить не нужно, что в Америке так не делают...
Мэми вздрогнула и слегка покраснела.
— Да, — сказала она быстро, — конечно; но мама в последнее время стала сама не своя. Может быть, она считает... знаете... что... раз у нас теперь такое большое состояние, надо все-таки поговорить с ней.
— Тогда давайте сейчас же и сделаем это, дорогая. А состоянием, ради всего святого, пусть она сама распоряжается, как хочет. Боже избави, чтобы потомок рода Альварадо когда-либо вмешивался в такие дела. Да и что нам за дело до этих денег, моя малютка? Достаточно и того, что донья Мэмита Альварадо не уступит в знатности самой богатой невесте в Лос Гатос.
Мэми не забыла, что еще месяц назад, хотя у нее тогда было не больше чувства к этому человеку, чем теперь, она вся затрепетала бы от радости, услышав подобные слова. Даже сейчас она была тронута, но сознавала, что положение невесты в семействе Альварадо — это еще не предел ее мечтаний и что простой саманный двор в Лос Гатос открыт небесам и придиркам богачей из Сакраменто.
— Да, дорогой, — прошептала она с детской радостью. Глядя на очаровательное выражение ее лица, он не стал вдумываться в истинный смысл и значение этой радости. — Да, дорогой; но нам незачем торопиться, а то мы можем настроить маму против себя. Ведь сейчас она даже слушать не станет о нашем браке. Она может даже запретить помолвку.
— Но вы уезжаете!
— Вы же знаете, что сначала мне надо съездить в Нью-Йорк и в Европу, — ответила она наивно, — даже если бы мы были помолвлены. Мне нужно купить много разных вещей. Ведь здесь ничего приличного не найдешь.
Вспомнив розовое ситцевое платье, в котором она впервые дала обещание стать его женой, он сказал:
— Но вы и сейчас прелестны. Мне лучшего и не надо. А если для меня, малютка, вы хороши, как вы есть, поедемте вместе, и тогда вы закажете себе туалеты, чтобы понравиться другим.
Такой навязчивости она совсем не ожидала. В самом деле, если уж дошло до этого, то лучше быть помолвленной с человеком вроде Слинна; он по крайней мере понимал бы ее. Он гораздо умнее и, конечно, более светский человек, чем дон Сезар. Когда Слинн обращался с ней как с ребенком, в этом обращении чувствовалась насмешливая снисходительность восхищенного превосходства, а не поучительный пыл наставника. Но она промолчала, и хорошенькие глазки тоже не выдали ее, как в разговоре со Слинном. Она только мягко заметила:
— А я думала, именно вы будете заботиться о том, чтобы ваша жена поступала так, как требуют приличия. Но все равно! Не будем больше говорить об этом. Если вам все это кажется таким трудным, то, может быть, лучше совсем отказаться?
Не думаю, чтобы девушка намеренно сделала из речи дон Сезара такой очаровательно нелогичный вывод или предвидела, какое действие произведут ее слова. Но для нее было естественно сказать именно так и извлечь из этого пользу. Несправедливая насмешка задела его гордость.
— Разве вы не понимаете, почему я хочу ехать с вами? — начал он с внезапно вспыхнувшей страстью. — Вы прекрасны, вы добры, небу угодно было дать вам богатство, но вы еще ребенок и не знаете собственного сердца. При вашей красоте, доброте и богатстве к вам потянутся все, как это было и здесь; вы с этим ничего не сможете поделать. Но вы будете беспомощны, малютка, если они вас закружат и вам не на кого будет опереться.
Это было сказано неудачно. Слова принадлежали дон Сезару, но мысль она уже слышала от матери, хотя вывод тогда был совсем другой. Она смотрела на молодого человека горящим, но мечтательным взором. Во всем этом, должно быть, есть доля правды. Так говорила мать; то же шутливо признал и мистер Слинн. Перед ней блестящее будущее! Вправе ли она разрушить его опрометчивым и глупым браком? Он сам сказал, что она не опытна. Она это знала. Но разве сейчас он не пытался воспользоваться ее неопытностью? Если он по-настоящему любит ее, он пойдет на испытание. Она ничего не требует и готова выйти за него, если сохранит свою свободу. В этой мысли было столько благородства, что в порыве сострадательного самоотвержения она нежно улыбнулась, глядя на него.
— Значит, вы согласны, Мэми? — нетерпеливо спросил он, обнимая ее.
— Не сейчас, Сезар, — сказала она, мягко освобождаясь из его объятий. — Я должна подумать. Мы еще молоды, не надо спешить. Это было бы нехорошо по отношению к вам: вы такой скромный и видели так мало девушек — я хочу сказать, американок, — чтобы связать себя браком с первой встречной. Когда я уеду, вы должны больше бывать в обществе. Сюда приехали две сестры мистера Слинна — они, наверно, умнее меня и говорить умеют гораздо лучше, — подумайте, как бы я себя чувствовала, если бы узнала, что только несчастное обещание, которое вы дали мне, помешало вам полюбить их!
Она опустила глаза и замолчала.
Это была ее первая попытка кокетства; несмотря на свой очаровательный эгоизм, она была прямодушна и откровенна. Эта первая попытка могла быть и не последней, но она зашла слишком далеко и не заметила, что ее рассуждение может обратиться против нее самой.
— Если вы признаете, что это возможно, — значит, возможно и для вас! — быстро сказал он.
Она поняла свою ошибку.
— Может быть, у нас будет немного случаев видеться наедине, — ответила она спокойно, — так не стоит тратить время на взаимные обвинения. Давайте лучше подумаем, как мы сможем дать знать друг другу, если что-нибудь помешает нам встретиться. Вспомните, ведь уже сегодня только случай помог вам повидать меня. Если мама решила, что сначала нужно поговорить с ней, наши тайные встречи могут только испортить дело. Она и сейчас беспокоится, где я, и может кое-что заподозрить. Мне надо сейчас же вернуться домой. Каждую минуту сюда могут прийти за мной.
— Но мне нужно так много сказать вам, — молил он. — У нас было так мало времени.
— Вы можете написать письмо.
— Но что подумает ваша мать? — спросил он с удивлением.
Она снова покраснела, но быстро ответила:
— Конечно, не надо писать ко мне домой. Можете оставлять для меня письма... ну, где-нибудь здесь. Постойте! — добавила она с внезапным оживлением, — вот как раз подходящее место. Взгляните!
Она показала на гнилой ствол платана в нескольких шагах от тропы. На высоте человеческого роста было дупло, полное сухих листьев и сосновых орехов. Должно быть, здесь раньше был продовольственный склад белки, ныне неизвестно почему заброшенный.
— Посмотрите! Ведь это настоящий почтовый ящик, — весело продолжала она, приподнимаясь на цыпочки, чтобы заглянуть в дупло.
Дон Сезар смотрел на нее с восхищением; ему казалось, что вернулись прежние дни их идиллических отношений, когда она в коричневом полотняном фартуке и чепчике пробиралась через грядки капусты, чтобы погулять с ним по лесу. Он напомнил ей об этом, как влюбленный, который в картинах прошлого стремится воскресить то, чего ему недостает теперь. Она выслушала его с нетерпением юности, для которой достаточно и настоящего.
— Не понимаю, почему я вам нравилась в этом полотняном фартуке, — сказала она, глядя на свое новое платье.
— Сказать вам, почему? — нежно спросил он, обнимая ее и привлекая хорошенькую головку на свое плечо.
— Нет, не сейчас! — ответила она со смехом, освобождаясь из его объятий. — Сейчас некогда. Напишите и положите в дупло. Постойте, — добавила она поспешно, — послушайте! Что это?
— Это только белка, — успокаивающе прошептал он ей на ухо.
— Нет, кто-то идет! Надо уйти! Пожалуйста, Сезар, дорогой! Постойте, тогда...
Она ответила на его поцелуй, высвободилась гибким движением, скользнула в лес и исчезла.
Дон Сезар со вздохом слушал, как затих шорох, еще раз взглянул на гнилое дерево, как бы стараясь запомнить его, и медленно направился к своему мустангу.
А между тем он правильно объяснил причину шороха, помешавшего их свиданию. С ветки соседнего дерева за ними следила пара блестящих глаз. Это была белка, у нее и прежде были серьезные намерения занять это дупло, но она отложила осмотр из деликатности к влюбленным, которые вторглись в ее владения. А теперь, когда они ушли, белка спрыгнула с ветки и побежала к гнилому дереву.
Глава III
Осмотр дупла явно разочаровал осторожную белку. Дупло в его нынешнем виде непригодно было для хранения запасов, хотя оно могло таить в себе любовные послания неосторожных людей. Белка тотчас же принялась наводить порядок. Прежде всего она вышвырнула огромное количество сухих листьев, разрушила убежище семьи пауков, разогнала колонию терпеливых тлей, вместе с муравьями объедавших кору, — иначе говоря, действовала захватнически, с полным пренебрежением к прежним владельцам дупла. Не следует, однако,- думать, что ее поступки нашли всеобщее одобрение. Сидевшая на ветке почтенная ворона проявляла большой интерес к ее занятиям. Через минуту она слетела вниз и с томным видом, презрев предрассудки, полакомилась червивыми орешками и съела несколько личинок да пару насекомых. Некоторые обитатели дупла продолжали сопротивляться принудительному выселению; среди них была сложенная вчетверо бумажка с острыми краями, которая не поддавалась исследованию и, благодаря исходившему от нее тошнотворному табачному запаху, уцелела от зубов белки, подобно тому как прежде не пострадала от агрессивных действий насекомых. Белке надоело бороться с острыми углами бумажки, упорно цеплявшимися за гнилое дерево, и она милостиво позволила ей остаться. Подготовившись к наступающей зиме и довольный собою, маленький грызун перестал думать об этой бумажке.
Но какова же была его ярость и возмущение, когда, вернувшись через несколько дней в свое новое жилище, он нашел там другую бумажку, сложенную вчетверо, как и первая, но гораздо новее и белее. Она лежала внутри, поверх мха, который, очевидно, специально для нее положили. Этого белка уже решительно не могла вынести. Благодаря тому, что вторая бумажка была меньше первой, несколькими энергичными ударами и взмахами хвоста ей удалось, наконец, вышвырнуть ее из дупла, и бумажка свалилась на землю. Ее сразу заметили зоркие глаза вездесущей вороны; она слетела на землю и, перевернув бумажку, мрачно оглядела ее. Конечно, бумажка была несъедобная, но такие находки — большая редкость, и старая любительница коллекций почувствовала, что не в силах пройти мимо. Она взяла письмо в клюв и, после отчаянных усилий в полете, возвратилась с трофеем на свою ветку и уселась на ней. Но тут сказались особенности птичьей природы: ворона, очевидно, забыла, в чем дело, равнодушно выронила бумажку и, не обращая на нее никакого внимания, в конце концов улетела, как будто все это ее совершенно не касалось. Письмо упало на соседний куст дикой яблони, где оно и пролежало до вечера, когда дикая кошка, мчавшаяся в курятник Малрэди, толкнув куст, свалила бумажку; грабительница сама так перепугалась, что удрала в соседний округ.
Но треволнения белки еще не кончились. На следующий день молодой человек, который тогда сопровождал девушку, вернулся к дуплу один. Едва белка успела из него выскользнуть, как нетерпеливый посетитель подошел к дереву, заглянул в дупло и даже засунул туда руку. Выражение удовольствия, мелькнувшее на его озабоченном, серьезном лице при мысли, что исчезнувшее письмо, очевидно, получено адресатом, ясно доказывало, что именно он положил его, и, вероятно, пробудило раскаяние в мрачном сердце вездесущей вороны, которая, сидя на суку, виновато каркала. Но молодой человек вскоре ушел, и белка снова безраздельно завладела дуплом.
Прошла неделя — утомительная, полная тревоги неделя для дон Сезара, который со времени той встречи ни разу не видел Мэми и не получал от нее известий. Он слишком дорожил собственным достоинством, чтобы прийти к ним в дом после двусмысленного поведения миссис Малрэди, и был слишком горд, чтобы бродить вдоль заборов и изгородей в надежде встретить ее дочь, как поступил бы обычный влюбленный. Он скрывал свои мрачные мысли в монастырской тени усадьбы в Лос Гатос или искал забвения в бешеной скачке по ночам и на рассвете. Иной раз этот мчащийся всадник, мрачный как призрак, обгонял дилижанс, и только горящий, как звездочка, кончик сигары напоминал, что это человек, а не привидение. Однажды ранним утром во время такого безумного развлечения ему пришлось остановиться около кузницы в Скороспелке, чтобы сменить ослабевшую подкову. Сам он тем временем решил посмотреть газету. Дон Сезар редко читал газеты, но заметив, что перед ним «Новости», начал проглядывать ее столбцы. Внезапно среди черных строк, подобно искре с наковальни, сверкнула знакомая фамилия. Мозг и сердце его, казалось, забились в унисон с кузнечным молотом, когда он прочитал следующее:
«Известный житель нашего города Элвин Малрэди, эсквайр, отбыл позавчера в Сан-Франциско для участия в важном заседании директоров компании «Прииски Рыжей Собаки». Общество с сожалением узнает, что миссис Малрэди и ее очаровательная и высокообразованная дочь, предполагавшие отправиться в Европу в конце месяца, ускорили это событие почти на две недели, воспользовавшись случаем сопровождать м-ра Малрэди до Сан-Франциско по пути на восток. Миссис и мисс Малрэди намерены посетить Лондон, Париж и Берлин; они пробудут в отъезде три года. Возможно, что позже м-р Малрэди присоединится к ним в одной из вышеназванных столиц. Весь город очень сожалеет, что при столь неожиданном отъезде не мог устроить проводы, достойные этой уважаемой семьи и тех симпатий, какие к ним питают в Скороспелке».
Газета выпала из рук дон Сезара. Уехала! Не сказав ни слова! Нет, это невозможно! Здесь какая-то ошибка; наверно, она написала, но письмо не дошло; наверно, она написала в Лос-Гатос, а олух посыльный отнес его не туда; может быть, она назначила свидание или ожидала, что он поедет за ней в Сан-Франциско. «Позавчера»! Это была утренняя газета... Только два дня, как она уехала... Еще не поздно получить письмо, задержанное на почте чьей-то забывчивой рукой, или... дерево!
Конечно, письмо лежало в дупле, а он не ходил туда уже целую неделю. Почему он не вспомнил об этом раньше? Виноват он, а не она. Она уехала, считая его, наверно, изменником или деревенским невеждой.
— Черт тебя дери, ты что, вечно собираешься держать меня здесь?
Кузнец вытаращил на него глаза. Дон Сезар внезапно опомнился и заметил, что не только думает, но и говорит по-испански.
— Десять долларов, мой друг, если вы отпустите меня через пять минут!
Кузнец засмеялся.
— Вот это по-американски, — сказал он и живее принялся за работу.
Дон Сезар снова взял газету. Там была другая заметка, напомнившая ему о последнем свидании с Мэми.
«М-р Гарри Слинн младший, редактор нашей газеты, только что переехал в дом, прежде занимаемый Элвином Малрэди, эсквайром, и ставший историческим в анналах нашего округа. М-р Слинн привез с собой отца, X. Дж. Слинна, эсквайра, и двух сестер. М-р Слинн старший, который в течение многих лет страдал от полного паралича, сейчас, как нам стало известно, понемногу поправляется и по совету врачей предпочел живительный воздух здешних холмов расслабляющему зною Сакраменто».
«Живо наладили дело», — подумал дон Сезар с легким уколом ревности, вспомнив об интересе, который проявляла Мэми к молодому редактору. Но через минуту он выбросил из головы все, кроме неясного сознания, что если Мэми действительно любит его, дон Сезара, так же, как он любит ее, она не стала бы содействовать его знакомству с двумя молодыми сестрами редактора, которые, по ее мнению, могли быть весьма привлекательны.
Через пять минут все было готово, и дон Сезар снова сидел в седле. Не прошло и получаса, как он доехал до придорожного валуна. Там он привязал лошадь и по узкой тропинке спустился в лощину. Через несколько минут он был на месте их последней встречи. С замирающим сердцем подошел он к гнилому дереву и заглянул в дупло. Письма не было!
Несколько почерневших орехов и сухой мох, который он туда положил, валялись на земле у корней дерева. Но он не мог припомнить, было ли там все это, когда он приходил в последний раз. Он начал шарить в дупле. Его пальцы натолкнулись на острые углы плоского бумажного пакета. Руки у него задрожали от радости, дыхание остановилось. Он вытащил пакет из дупла — и радость сменилась разочарованием.
Это был обычный конверт из желтовато-коричневой бумаги, на котором рядом со штемпелем виднелась печать почтовой компании. Этот признак устаревшего способа пересылки корреспонденции и выцветшая бумага доказывали, что письмо пролежало здесь довольно долго. Его тяжесть, превышающая вес обычного письма того же размера, объяснялась, по-видимому, тем, что в нем находилось еще что-то, шелестевшее и перекатывавшееся под пальцами, как мельчайшие крупинки металла или песка. Дон Сезар знал, что так часто посылают образчики золота. Конверт хорошо сохранился, кроме адреса, написанного карандашом и теперь едва различимого. Даже когда адрес удалось расшифровать, он все-таки оказался бессвязным и незаконченным. Неразборчивыми каракулями неизвестный корреспондент нацарапал: «Дорогой Мэри», а потом «Миссис Мэри Слинн». Если бы мысли дон Сезара не были в последнее время заняты фамилией редактора, он вряд ли разобрал бы эту надпись.
Жестоко разочарованный и возмущенный, он сразу стал восстанавливать в уме связь обстоятельств, которые в другое время показались бы ему чисто случайными или которых он, возможно, и совсем бы не заметил. Это дупло, по-видимому, и раньше использовалось в качестве потайного почтового ящика. Знала ли это Мэми и как она об этом узнала? Основывая догадки только на этом старом письме, нелепо было бы думать, что она вела тайную переписку с молодым Слинном, да и адрес был написан не ее рукой. Однако не существовало ли прежде какой-нибудь тайной близости между этими семьями? Только одна мысль могла связать это письмо с вероломством Мэми. То была позорная, чудовищная мысль, порожденная его незнанием жизни и обычной подозрительностью ко всякому проявлению юмора, как и ко всему остальному. Эта мысль сводилась к тому, что письмо — грубая шутка Слинна, может быть придуманная совместно с Мэми, — прощальное оскорбление, которое должно было в последний момент обнаружить их вероломство и его доверчивость. Оно несомненно доказывало их недостойное поведение и объясняло, почему Мэми тайно бежала от него. А в конверте, конечно, окажется какое-нибудь убедительное и позорное подтверждение ее измены. Эти американцы всегда отличаются низкими выдумками; это вульгарность, свойственная их нации.
Дон Сезар держал письмо в дрожащих от гнева руках. Он мог его вскрыть, если бы пожелал, и ознакомиться с содержанием, но оно было адресовано не ему, а в инстинкте чести, еще более сильном от ярости, сказывался и инстинкт соперничества. Нет, пусть Слинн первый вскроет это письмо. Пусть Слинн все объяснит и за все ответит. Если письмо окажется простой случайностью, то недоразумение разъяснится, и, может быть, он узнает новости о Мэми. Но так или иначе он потребует у Слинна объяснений, и немедленно. Он положил письмо в карман, быстро вернулся к лошади и, вонзив шпоры в ее бока, поскакал по дороге, ведущей к воротам старой хижины Малрэди.
Он хорошо ее помнил. Утонченный вкус предпочел бы эту хижину претенциозному новому дому. В течение первого года аренды Малрэди добавил к плоскому квадратному бревенчатому срубу такие пристройки и украшения, которые может придумать только арендатор, умудренный опытом; грубые прямые углы смягчались сараями и навесами, а неправильность очертаний сглаживалась определенной колоритностью, и теснившиеся друг к другу строения приобрели домовитую уютность. Хижина олицетворяла собою прежнюю жизнь этого крупного капиталиста, подобно тому как большой новый дом говорил об одиночестве и изолированности, которые пришли к нему с богатством. Но главное преимущество усадьбы было создано за годы возделывания почвы; здесь росли виноград и розы; они скрыли голые бревна дома, округлили его суровые очертания и обеспечили ему тень от беспощадного зноя долгого летнего солнца и защиту от зимних ливней. С одной стороны дом обвивали стебли гороха и бобов, и единственный путь к нему проходил через грядки капусты — когда-то гордость и средство к существованию семейства Малрэди. Именно это главным образом и побудило миссис Малрэди покинуть старый дом. Ей не нравилось читать историю их плебейского происхождения на лицах входивших посетителей.
Дон Сезар привязал лошадь к ограде и быстро пошел к дому. Дверь гостеприимно открылась, когда он был еще в нескольких шагах от нее, а переступив порог, он неожиданно очутился в обществе двух хорошеньких девушек. Очевидно, это были сестры Слинна, о которых он совсем забыл и никак не ожидал встретить. Несмотря на свою озабоченность, он при виде их внезапно смутился, не столько от несомненной красоты девушек, сколько потому, что заметил в них какое-то неуловимое сходство с Мэми.
— Мы видели, как вы подъехали, — непринужденно сказала старшая. — Вы дон Сезар Альварадо. Брат говорил о вас.
Эти слова привели дон Сезара в себя и напомнили ему о вежливости. Он пришел сюда не для того, чтобы ссориться с этими хорошенькими незнакомками при первой встрече; он объяснится со Слинном в другом месте и в другое время. Искренность их приема и упоминание о брате показывали, что они не разделяют его разочарования или даже вовсе его не замечают. Его волнение улеглось под влиянием мечтательного покоя, который, казалось, навевало девушкам сознание своей красоты. Он задал им несколько учтивых вопросов и, вспомнив заметку в «Новостях», поздравил их с улучшением здоровья отца.
— Да, папе гораздо лучше. За последние дни он заметно окреп, а теперь уже ходит на костылях, — сказала старшая сестра. — На него замечательно действует здешний воздух.
— Знаешь, Эстер, — заметила младшая, — мне кажется, папа стал больше замечать, что делается кругом, особенно когда он выходит из дому. Он смотрит вокруг, и глаза у него блестят так, как будто он все понимает; а иногда он хмурит брови и смотрит на землю, точно старается что-то вспомнить.
— Вы, наверно, знаете, — объяснила Эстер, — что после того, как с ним был удар, он ничего не помнит, то есть три-четыре года жизни выпали из его памяти.
— Иногда это, может быть, счастье, сеньора, — печально вздохнув, заметил дон Сезар и взглянул на нежное личико, которое напоминало ему лицо Мэми.
— Но не для нас, — засмеявшись, сказала младшая сестра, — ведь папа нас не узнал и считает, что мы все еще маленькие девочки.
— Вэшти! — с упреком перебила Эстер; затем, повернувшись к дон Сезару, добавила: — Моя сестра Вэшти хочет сказать, что папа больше помнит то, что было до его отъезда в Калифорнию, когда мы были совсем маленькие, чем то, что случилось потом. Доктор Дюшен говорит, что это очень, странный случай. Он считает, что если состояние папиного здоровья будет улучшаться, он сможет владеть руками и ногами, но память, может быть, и не восстановится.
— Если только... Ты забываешь, что сказал доктор сегодня утром, — быстро прервала Вэшти.
— Это я и хочу сказать, — резко ответила Эстер. — Если только с ним не случится второй удар. Тогда он или умрет, или память полностью вернется к нему.
Дон Сезар смотрел на их веселые лица, чуть порозовевшие от того, что они нетерпеливо перебивали друг друга, и выражение его лица становилось все более мрачным. Его коробило их отношение к несчастному отцу, — у них не чувствовалось к нему ни жалости, ни нежности. Ему казалось, что они не только заразились сухим равнодушием к беспомощности, которое распространяется даже на родственные отношения при уходе за хроническим больным, но, сами того не замечая, привыкли использовать его болезнь в своих интересах. В его взволнованном состоянии ему даже показалось, что они немножко кокетничают немощью своего отца.
— Наш брат Гарри уехал в Рыжую Собаку, — продолжала Эстер. — Он будет очень огорчен, что вы его не застали. Миссис Малрэди рассказывала ему о вас; вы, кажется, были их близким другом. Наверно, вы хорошо знали ее дочь Мэри; говорят, она очень хорошенькая.
Хотя дон Сезар теперь не сомневался в том, что Слинны ничего не знают о странном поведении Мэми по отношению к нему, его все-таки смущал этот разговор.
— Мисс Малрэди хороша собой, — сказал он серьезно и вежливо, — как и все ее соотечественницы. Она уехала неожиданно, — добавил он с притворным спокойствием.
— Она, кажется, рассчитывала пробыть здесь дольше — так говорила ее мать, но на той неделе все изменилось. Я знаю, что брат очень удивился, когда мистер Малрэди сказал ему, что если мы собираемся что-то решать насчет дома, то должны решать немедленно; ведь он сам хотел переехать из большого дома в этот после отъезда семьи.
— А зачем Мэми с такими деньгами и с такой внешностью сидеть здесь? — сказала Вэшти. — Это не такая девушка, чтобы жить в пустыне, она могла бы задавать тон в любом городе. Я не понимаю, зачем она вернулась из Сакраменто. Говорят, они поспешили уехать из-за каких-то дел Малрэди в Сан-Франциско. Будьте покойны: эти «дела» — сама Мэми. Ее желание для них закон. Если бы она хотела задержаться и устроить прощальный вечер, дела старого Малрэди могли бы подождать.
— Ты несправедлива к Мэми, — сказала Эстер и большими томными глазами спокойно взглянула на молодого человека. — Ведь мы с ней незнакомы, мы даже не можем осуждать ее как друзья.
— Почему это несправедлива? — ответила Вэшти. — Будь я на ее месте, я поступила бы точно так же. Будь у меня ее внешность и ее деньги (ведь Гарри про нее рассказывал), я бы не стала болтаться здесь, у этих приисков. Стала бы я ходить по субботам на хоровое пение, по воскресеньям в церковь да раз в месяц кататься в кабриолете! Нет, будьте покойны, Мэми рассудила правильно.
Дон Сезар поспешно встал. Пусть они передадут поклон отцу, а он постарается повидаться с их братом в Рыжей Собаке. У него самого, увы, нет ни отца, ни матери, ни сестер, но если они согласны принять в воскресенье его тетку, донью Инесу Сепульвида, когда она вернется от обедни, она сочтет это за честь, и он будет очень рад. Ему пришлось призвать на помощь все самообладание, чтобы соблюсти эту формальную вежливость перед уходом, и не терпелось сесть на мустанга, чтобы дать свободу наполнявшим его сердце ярости, отвращению и ненависти ко всему, что было связано с Мэми.
Чувствуя, что он взволнован, но не вполне понимая свою собственную роль в этом, девушки не без лукавства затянули беседу и пошли провожать его по саду.
— Ну, если вам непременно надо ехать, — томно сказала, наконец, Эстер, — может быть, вас не затруднит пройти через сад и взглянуть по дороге на папу? Он где-то там, около леса, а нам не хотелось бы, чтобы он долго оставался один. Вы можете побыть с ним; посмотрите, как он там. У нас с Вэшти еще куча дел по хозяйству, но если бы с ним что-нибудь случилось, позовите нас. До свидания.
Дон Сезар хотел было извиниться и отказаться, но его остановило то внезапное и острое сочувствие к чужой беде, которое сопровождает всякое истинное горе. Его тронуло одиночество беспомощного старика в этой атмосфере молодого эгоизма. Он поклонился в знак согласия и свернул в одну из длинных аллей, заросших бобовой повителью. Девушки смотрели ему вслед, пока он не скрылся из виду.
— Ну, — сказала Вэшти, — ты со мной, пожалуйста, не спорь. Если у него с этой Мэми Малрэди ничего не было, значит я не узнаю по лицу отвергнутых поклонников.
— Все равно, незачем было показывать, что ты это поняла. Теперь простая вежливость с нашей стороны будет выглядеть так, как будто мы хотим стать ее наследницами, — лукаво заметила Эстер, когда девушки вошли в дом.
Тем временем ничего не ведающий предмет их разговора печально брел мимо бывшего огорода, грубые очертания и низменные детали которого он когда-то облекал в поэтические грезы своей первой любви. Да, теперь это были обычные грядки капусты и участок, засаженный картофелем. В своем отвращении он заметил, что потерял даже то чувство покровительства и превосходства, которое сопровождало его привязанность к девушке более скромного общественного положения. Вместе с любовью пострадало и его чувство собственного достоинства. Земля и грязь злополучной капусты прилипли к нему, а не к ней. Это она возвысилась, а он остался среди жалких развалин своей неудачной любви.
Он дошел до конца сада, не заметив никаких следов одинокого инвалида. Он оглядел гряды капусты и заросли повители, но безрезультатно. Из прохода среди сосен к заросшей лощине вела новая дорожка, несомненно, пересекавшая ту тропу, по которой они с Мэми когда-то шли с большой дороги. Если старик пошел по этой дорожке, он, возможно, переоценил свои силы. Тем более надо продолжать поиски и оказать ему необходимую помощь. Внезапно другая мысль пришла ему в голову и побудила его идти дальше. Обе дорожки вели к гнилому платану, а старый Слинн мог кое-что знать о таинственном письме. Прибавив шагу, он вошел в лощину и вышел, как и ожидал, на поперечную тропу. Справа она терялась в густом лесу по направлению к роковому дереву, а слева спускалась почти по прямой линии к дороге. Теперь она была ясно видна, как и валун, на котором сидели Мэми с молодым Слинном, когда он встретил ее в последний раз. Если он не ошибается, там и сейчас кто-то сидит; это несомненно человек. И, судя по его согбенному, беспомощному положению, — это предмет его поисков!
Он быстро спустился по тропе к дороге и подошел к незнакомцу. Тот сидел, сложив руки на коленях, и смотрел неопределенным отсутствующим взглядом на склон холма, теперь увенчанный мастерской и трубой, которые показывали расположение шахты Малрэди. Когда дон Сезар остановился перед ним, больной чуть вздрогнул и поднял на него глаза. Молодой человек удивился, заметив, что несчастный не так уж стар, как он думал, и что выражение лица у него спокойное и счастливое.
— Ваши дочери сказали мне, что вы здесь; — обратился к нему дон Сезар любезно и почтительно. — Я Сезар Альварадо, ваш близкий сосед; счастлив познакомиться с вами и с вашим семейством.
— Мои дочери? — неопределенно повторил старик. — Ах, да, славные девочки! А мой мальчик Гарри? Вы видели Гарри? Славный парнишка Гарри.
— Рад слышать, что вам лучше, — быстро сказал дон Сезар, — и что воздух в наших местах пошел вам на пользу. Да поможет вам бог, сеньор, — добавил он с почтительным поклоном, невольно повторяя религиозный обычай своего детства. — Да сохранит он вас и вернет вам здоровье и счастье!
— Счастье? — с удивлением спросил Слинн. — Я счастлив, очень счастлив! У меня есть все, что нужно: хороший воздух, вкусная пища, теплая одежда, славные детки, добрые друзья... — Он приветливо улыбнулся дон Сезару. — Бог очень милостив ко мне!
И в самом деле казалось, что он вполне счастлив; на его лице, хоть и увенчанном седыми волосами, не было следов заботы и волнения; оно так напоминало удовлетворенную юность, что молодой человек со своим печальным выражением лица казался старше его. Однако дон Сезар заметил, что глаза старика, отворачиваясь от него, с тем же выражением, отрешенным от всего земного, неудержимо обращались к склону холма.
— Чудесный вид, сеньор Эсслинн, — сказал дон Сезар.
— Прекрасный вид, сэр, — ответил Слинн, окинув своего собеседника счастливым взглядом. Через мгновение он снова остановил свой взор на зеленых склонах холма.
— Я живу недалеко отсюда, за холмом, на который вы смотрите, сеньор Эсслинн. Приезжайте навестить меня вместе с вашим семейством.
— Вы... вы там живете? — заикаясь, спросил больной, и выражение беспокойства впервые сменило безмятежность, сиявшую на его лице. — Вы... и ваша фамилия... Ма...?
— Альварадо, — тихо повторил дон Сезар. — Сезар Альварадо.
— Вы сказали Мастерс, — сказал старик с внезапным раздражением.
— Нет, дорогой друг. Я сказал Альварадо, — серьезно ответил дон Сезар.
— Если вы не сказали Мастерс, так почему же я сказал? Я не знаю никакого Мастерса.
Дон Сезар молчал. Через секунду выражение безмятежного спокойствия снова появилось на лице Слинна, и дон Сезар продолжал:
— По дороге идти далеко, а через холм не очень. Когда вам станет лучше, милости прошу ко мне. Вон та маленькая тропинка ведет к вершине холма, а потом...
Он замолк, потому что лицо больного снова выразило смятение. Отчасти стремясь отвлечь его, отчасти под влиянием какой-то необъяснимой мысли дон Сезар продолжал:
— Около тропы есть странное старое дерево, а в нем дупло. В дупле я нашел это письмо.
Он снова умолк, на этот раз в тревоге. Слинн, шатаясь, поднялся и с мертвенно-бледным, искаженным лицом смотрел на письмо, которое дон Сезар вынул из кармана. Мускулы его шеи напряглись, точно он хотел что-то: проглотить, губы шевелились, но из них не вырывалось ни звука. Наконец с судорожным усилием он пролепетал чуть слышным голосом:
— Мое письмо! Мое письмо! Оно мое! Дайте его мне! Это мое богатство! Вся шахта! В шахте на холме! Мастерс украл его, украл мое богатство! Украл все! Смотрите, смотрите!
Дрожащей рукой он выхватил письмо у дон Сезара и с силой разорвал конверт. Несколько золотых песчинок, величиной с дробь, тяжело упали на землю.
— Видите, это правда! Мое письмо! Мое золото! Моя находка! Мой... мой бог!
Дрожь пробежала по его лицу. Рука, державшая письмо, внезапно тяжело упала, как только что упало золото. Так же внезапно, казалось, поникла сторона его тела и лица, обращенная к дон Сезару. И в тот же момент, не сказав ни слова, он покачнулся и, выскользнув из рук дон Сезара, упал на землю. Дон Сезар поспешно нагнулся над ним и убедился, что он хотя и недвижим, но еще жив и дышит. Тогда дон Сезар схватил упавшее письмо и, взглянув на него сверкающими глазами, сунул в карман вместе с несколькими образчиками золота. Затем он поднялся на ноги, полный такой энергии и проницательности, что, казалось, вся жизненная сила больного перешла к нему, и быстро огляделся. Теперь ему было дорого каждое мгновение; но он не мог бросить больного в пыли дороги; не мог он и донести его до дома или, напугав его дочерей, оставить в их слабых руках беспомощного старика. Он вспомнил, что его лошадь привязана к изгороди сада. Нужно на ее спине довезти несчастного, до ворот. Он с трудом уложил старика на валун и быстро побежал по дороге к лошади. Не прошло и нескольких минут, как он услышал позади себя шум колес. Это несся дилижанс. Дон Сезар хотел было позвать на помощь, но даже сквозь вихрь движения и пыли было видно, что кучер, забыв все на свете, кроме мчащегося дилижанса, ничего не видит и не слышит и даже привстал на козлах, чтобы еще ожесточеннее погонять разъяренных и напуганных коней.
Часом позже, когда дилижанс подъехал к гостинице в Рыжей Собаке, кучер спустился с козел, бледный и молчаливый. Только проглотив залпом стакан виски, он повернулся к удивленному кондуктору, который вошел вслед за ним.
— Одно из двух, Джим, — сказал он хриплым голосом. — Либо этот камень стащат с дороги, либо меня стащат на кладбище. Ведь он там опять сидел!
Глава IV
Кроме краткого сообщения дон Сезара о том, что он нашел больного лежащим без сознания на камне, о втором ударе у Слинна не было известно никаких подробностей. Все, казалось, вполне соответствовало теории доктора Дюшена; и так как молодой испанец уехал из Лос Гатоса на следующий же день, ему так и не довелось повидать энергичного корреспондента «Новостей» и прочесть благодарственную статью, отмечавшую его доброту и учтивость. Однако прогноз доктора Дюшена не оправдался: Слинн-старший не умер от второго удара, но и память к нему не вернулась. Он, по-видимому, снова очень ослабел; улучшение в его состоянии, наступившее за последний месяц, было утрачено, а перемены в умственных способностях не произошло никакой, если не считать благоприятным тот факт, что он ничего не помнил о своем ударе и о присутствии дон Сезара. По крайней мере доктор Дюшен, по-видимому, придавал особое значение этому симптому, и его расспросы были более настойчивы, чем обычно.
— Вы уверены, что не помните, как гуляли в саду, прежде чем вам стало плохо? — спросил он. — Ну-ка, подумайте хорошенько. Наверное помните.
Глаза старика беспокойно забегали по комнате, но он отрицательно покачал головой.
— И не помните, как сели на камень у дороги?
Старик не отрывал глаз от постели.
— Нет! — сказал он с твердостью, которая была для него необычна.
Глаза у доктора блеснули.
— Ладно, приятель, нет — так нет.
Уходя, он отвел в сторону старшую дочь Слинна.
— Он поправится, — сказал он серьезно, — он уже начинает лгать.
— Но ведь он сказал только, что не помнит, — возразила Эстер.
— Потому что не хотел вспомнить, — авторитетно заявил доктор. — Мозг у него действует под впечатлением или болезненным и неприятным, или настолько неопределенным, что он не может его сформулировать; он это понимает и не хочет пробовать. Это куда лучше, чем его прежние самодовольные бессвязные речи.
Через несколько дней, когда всем стало известно, что кучер дилижанса опознал в Слинне паралитика, с которым случился удар три года назад, доктор явился в полном восторге.
— Теперь все ясно, — решительно произнес он. — Второй удар произошел от нервного потрясения, потому что больной внезапно очутился на том же месте, где был первый. Это доказывает, что у него в мозгу еще сохраняются прежние впечатления, но первый проблеск памяти вызвал болезненное чувство, и напряжение оказалось не под силу. Конечно, все это очень неудачно, но все-таки это хороший признак.
— Значит, вы считаете... — нерешительно начал Гарри Слинн.
— Я считаю, — сказал доктор Дюшен, — что память у него все же сохранилась — это видно, как я уже говорил, из того, что он сейчас старается забыть неприятные воспоминания и не хочет думать о них. Вот увидите, он будет избегать любого намека и хитрить, чтобы увильнуть от нежелательных расспросов.
Так и случилось. Была ли гипотеза доктора правильной или нет, но когда он впервые повез пациента на прогулку, тот явно не обратил внимания на камень, который, вопреки предсказанию кучера, по-прежнему лежал у дороги, и наотрез отказался говорить о нем. Но более многозначительными для Дюшена и, возможно, даже несколько загадочными были угрюмая рассеянность пациента, сменившая бессмысленное самодовольство, и недоверие к окружающим, уступившее место прежней доверчивости, которая лишь изредка нарушалась раздражительностью, как обычно у больного. Дочери иногда чувствовали, что он смотрит на них пристально, почти подозрительно, и даже сын замечал скрытую антипатию отца в беседах с ним.
Приписывая это болезни, дети отчасти оправдывали отчуждение отца: они обращали мало внимания на его здоровье. У них были более приятные дела. Девушки заняли в обществе положение, которое прежде занимала Мэми Малрэди, и обе пользовались вниманием жителей Скороспелки. Молодой редактор «Новостей», благодаря предполагаемой близости к семейству Малрэди, действительно добился большой удачи, которую он когда-то себе шутливо предсказал. Исчезновение дон Сезара рассматривали как фактическую уступку поля битвы счастливому сопернику; все думали, что Гарри помолвлен с дочерью миллионера и стал доверенным лицом своего будущего тестя.
Результатом магического действия имени Малрэди были две-три удачные спекуляции. По мнению суеверных золотоискателей, главное дело было в том, что Гарри поселился в старом доме Малрэди.
— Подумать только, — заметил один из прорицателей Рыжей Собаки, болтливый шутник француз Пит, — в то время, как дураки отправились делать заявки на участки, где золото уже было найдено, никому и в голову не пришло занять хижину старика в огороде.
Последние сомнения в союзе этих двух семейств были рассеяны близостью, которая возникла между Слинном старшим и миллионером, когда тот вернулся из Сан-Франциско.
Она началась со странного чувства жалости к физической слабости Слинна. Эта слабость вызвала сочувствие Малрэди, огромная сила которого отнюдь не была подорвана привычкой к роскоши и который по-прежнему мог показать своим рабочим пример тяжелого труда. Эта дружба поддерживалась странным и суеверным уважением к умственному состоянию Слинна; Малрэди казалось, что в этом состоянии проявляется та духовная глубина, какой невежественные люди наделяют умалишенных.
— Значит, вы хотите сказать, что в течение этих трех лет жила вашего разума, так сказать, была затеряна и до нее нельзя было докопаться? — спрашивал Малрэди с глубочайшей серьезностью.
— Да, — отвечал Слинн, выказывая меньшее нетерпение, чем он обычно проявлял при расспросах.
— И за это время, когда вы сохли и ждали дождя, у вас, наверно, тоже были видения?
Облако прошло по лицу Слинна.
— Ладно, ладно, — сказал Малрэди, немного испуганный своим собственным настойчивым допросом. — Конечно, это ваше личное дело, и об этом не нужно говорить. Я хочу сказать, что у вас, наверно, хватало на них времени; вот когда вам станет получше, расскажите мне что-нибудь по своему выбору.
— Может быть, когда-нибудь и расскажу, — мрачно сказал больной, поглядывая на занятых чем-то дочерей, — когда мы будем одни.
Когда он физически окреп, а левая рука и левая сторона тела понемногу возобновили свои функции, Элвин Малрэди однажды удивил все семейство; он принес выздоравливающему целую кипу писем и счетов и разложил их на столе перед креслом Слинна, предложив ему просмотреть и разобраться в них. Эта мысль казалась нелепой до тех пор, пока не выяснилось, что старик действительно в состоянии разбирать бумаги и проявляет такую умственную активность и способность к этим занятиям, каких у него и не подозревали. Доктор Дюшен восхищался улучшением состояния пациента и проницательностью миллионера.
— А ведь есть завистливые люди, — восторженно говорил он, — которые полагают, что человек, сообразивший, чем занять слабоумное существо, не утруждая его памяти и рассудка, просто удачливый дурак! Послушайте! Может быть, для того, чтобы наткнуться на золотую шахту, и не нужно ума, это дар провидения. Но по моему опыту провидение не ищет дураков и не награждает бездельников.
Когда, наконец, мистер Слинн смог с помощью костылей доходить каждый день до внушительной конторы Малрэди, которая теперь занимала нижний этаж нового дома и была обставлена роскошной мебелью, ему, как доверенному клерку и личному секретарю, отвели место за конторкой палисандрового дерева позади кресла мистера Малрэди. Удивлению жителей Рыжей Собаки и Скороспелки не было границ, но смелость и новизна этой мысли покорили всех. Судья Баттс, оракул Скороспелки, высказал общее мнение в следующих словах:
— Он нашел человека, который физически не в состоянии удрать с его деньгами и лишен памяти, так что не может украсть его идеи. Что может быть лучше?
Даже собственный сын Слинна Гарри, застав отца на посту, на минуту проникся к нему явным сыновним почтением и в течение двух-трех дней удостаивал его своим покровительством.
В этой должности Слинн стал доверенным лицом Малрэди не только в деловых тайнах, но и в семейной жизни. Он знал, что Малрэди младший из веснушчатого медлительного деревенского мальчишки превратился в веснушчатого городского прощелыгу с порочными склонностями к пьянству и картам. Через руки старика проходили1 огромные счета и скандальные векселя, прежде чем их оплачивал Малрэди. Именно он однажды показал отцу его подпись, искусно подделанную сыном.
— Знаете, Слинн, глаза у вас хуже моих, — мрачно сказал Малрэди. — Здесь все в порядке. Я иногда пишу так букву «и». Совсем забыл про этот чек. Не думайте, что только вы можете забывать, — добавил он с усмешкой.
Через руки Слинна проходили отчеты о широких тратах миссис Малрэди и хорошенькой Мэми, равно как и хроника их переездов и светских успехов. Малрэди уже заметил, что Слинн не доверяет своей семье, и не пытался скрывать от него эти семейные подробности. Может быть, он находил в этом возмещение тоскливому каталогу проступков сына, но еще чаще он надеялся услышать от молчаливого старика какое-нибудь замечание, которое удовлетворило бы его невинное тщеславие как отца и как мужа, а может быть, просто чтобы рассеять сомнения, которые его одолевали.
— Тысяча двести долларов — неплохой куш за одно платье, а? Но Мальвина-то уж знает, что носят в Тюильри, и не захочет, чтобы наша Мэми одевалась хуже разных иностранных принцесс и герцогинь. Там, наверно, здорово шикарно... Не помню, кто там сейчас правит: император или король. Но он должен быть первый сорт: Мальвина не из тех женщин, которые выбрасывают двенадцать сотен ради завалящего деспота. Она пишет, что Мэми говорит по-французски, как настоящая француженка. Не пойму только, о чем она тут пишет. В Париже она встретила дон Сезара, и вот говорит: «Мэми, кажется, почти порвала с дон Сезаром, который ее преследовал. Мне не хочется, чтобы она бросила его так вдруг, причину я объясню тебе позже. Я думаю, что этот человек может быть опасным врагом». Ну, что можно из этого понять? Я всегда считал, что Мэми здорово влюблена в него, а именно старуха была против — надеялась, что Мэми найдет и получше. По-моему, пусть девочка выходит за того, кто ей нравится, будь то герцог или бедняк, лишь бы был честный человек. Я был готов принять дон Сезара, но теперь похоже на то, что все переменилось. Правда, мне не верится, чтобы дон Сезар стал опасным врагом, если Мэми ему откажет. Удивляюсь, как это старуха не заставила его сбавить форсу. А вы как думаете?
— Кто это дон Сезар? — спросил Слинн.
— Человек, который подобрал вас в тот день. Знаете, — продолжал Малрэди, заметив на лице старика признаки явного непонимания, — знаете, это печальный благородный молодой человек, нечто среднее между священником и цирковым наездником. Он тут ходил вокруг дома, когда разговаривал с вашими девушками.
Но Слинн не помнил дон Сезара. Несмотря на внезапный проблеск памяти, который уцелел у него во время удара, он, очевидно, совершенно забыл, что вызвало удар. За исключением этих редких бесед со своим личным секретарем Малрэди все время посвящал только добыванию денег, хотя особых способностей к этому у него не было, и, вступая в сделки с неразборчивыми в средствах дельцами, он часто попадал впросак; однако счастье его неизменно выручало, а потом стало даже казаться, что все ошибки лишь способствуют большой и важной цели. Затратив большие деньги, он, вопреки мнению лучших горных инженеров, вырыл еще одну шахту с целью проследить жилу, которую нашел раньше, и вдруг наткнулся на артезианский родник, который тщетно искал до этого, и притом с огромным количеством воды. Этот родник позволил ему не только промывать собственную руду, но и снабжать водой менее удачливых соседей, получая при этом большой доход. Густой лес и глубокое ущелье, за которые он заплатил наследникам дон Района колоссальную сумму, надеясь, что найдет там золото, с избытком вернули ему затраченные средства: он продавал строевой материал для расширения города. Практические планы опытных людей, сумасбродные замыслы дерзких мечтателей, не приведенные в исполнение из-за отсутствия денег, в конце концов попадали в его руки. Люди смеялись над его методами, но покупали его акции. Те, которые утверждали, что смотрят на него прежде всего как на человека с деньгами, были счастливы заручиться его именем для своих предприятий. Стоящие выше его относились к нему с уважением, равные преклонялись перед ним, а стоящие ниже восхищались им, но он не стал заносчивым и кичливым. В качестве директора и председателя ему приходилось принимать участие в роскошных пиршествах, свойственных цивилизации того времени, но он продолжал довольствоваться самой простой пищей и сохранил привычку выпивать после обеда чашку кофе с молоком и с сахаром. Не считая себя трезвенником, он, однако, пил весьма умеренно в обществе, где было принято возбуждать себя спиртными напитками. Не обладая ни изысканностью манер, ни обширным запасом слов, он, однако, редко сквернословил и всегда был тактичен. Не будучи пуританином ни в обращении с людьми, ни в разговоре, он, казалось, был так же далек от пороков цивилизации, как и от ее добродетелей. Нетрудно понять, что такой человек мог мало предложить и мало получить от женского общества. А потому, не испытывая чувства одиночества, он в то же время был трогательно одинок.
Между тем дни летели. Первые полгода обладания богатством подходили к концу, и за этот период Малрэди увеличил свое состояние больше чем вдвое. Дождливый сезон наступил рано. Хотя дождь и рассеял тучи пыли, угрожавшие похоронить под собой природу и искусство, но он не придал красоты ландшафту и только подчеркнул грубость цивилизации. Некрашеные деревянные здания Скороспелки, промокшие насквозь от дождя, казались прилизанными, лоснящимися уродами в поношенной одежде. Из-за отсутствия карнизов и выступов, которые нарушали бы однообразие длинных прямых потоков дождя, казалось, что город был недавно затоплен, что всякое подобие украшений смыто и остались одни голые контуры зданий. Грязь проникала всюду; казалось, верхний слой почвы поднялся и вторгся даже в самые отдаленные уголки домов, как будто оскорбленная природа хотела отомстить за себя. Грязь забиралась в салуны, бары и почтовые конторы, налипала на сапоги, на одежду, на багаж, а иногда таинственно появлялась в виде красных пятен на внутренних стенах домов. Шестимесячная пыль, обильно покрывавшая резное дерево, под непрерывным дождем превратилась в тонкую желтую краску, капавшую на пешеходов или неожиданно стекавшую с потолков и стен на несчастных жителей. Окраинам Скороспелки и высохшим холмам вокруг Лос Гатоса, по-видимому, доставалось не меньше. Свежая растительность еще не успела занять место выгоревшей травы; сосны в лощине угрюмо роняли слезы в ручеек, внезапно появившийся около старой тропы; отовсюду доносился шум капающих, журчащих, булькающих и ревущих вод.
Более уродливый, чем когда-либо, новый дом Малрэди поднимался в свинцовое небо и равнодушно смотрел на горизонт своими широкими окнами без ставней. Прохожему казалось, что это зеркала, вставленные в стены и отражающие только пронизанный влагой ландшафт; они не допускали даже мысли, что внутри может быть свет и тепло. Но однажды в декабре в конторе Малрэди топился камин, в котором не горел, а лишь дымился изредка вспыхивающий огонь; он свидетельствовал больше о дефектах поспешной постройки, чем об удобствах для миллионера и его личного секретаря, которые задержались в кабинете, когда служащие уже ушли. Это было в сочельник, по случаю наступающего праздника служащих отпустили после полудня. «Некоторые, наверно, захотят потратиться сегодня же, а другие не прочь встать и опохмелиться в рождественское утро», — сказал управляющий. Мистер Малрэди спокойно, с обычным деловым видом, только что подписал несколько чеков в качестве праздничных наград своим преданным сотрудникам. Служащие приняли эти подарки столь же просто. Полунасмешливое «благодарю, сэр», выражавшее одновременно и чувство благодарности и чувство независимости, должно было доказать, что, поступая так, служащие следуют обычаю, но в то же время несколько тяготятся им.
— Моя старуха с Мэми, наверно, веселятся в раззолоченных дворцах в Петербурге или в Берлине. Брильянты, которые я заказал у Тиффани, они, наверно, уже получили, и у Мэми есть в чем показаться на рождество. За границей ведь, наверно, тоже принято делать рождественские подарки. Я и написал старухе — пусть заказывает вещи подороже, как принято в Калифорнии: никаких долларовых камней да позолоченных часов. Если ей вздумается сделать подарок кому-нибудь из тамошних господ, кто поучтивее, пусть выберет что-нибудь такое, чтобы Скороспелка не ударила лицом в грязь. Ведь я вам показывал булавку, которую Мэми купила мне в Париже? Я получил ее как раз к рождеству. Нет, кажется, я положил ее в сейф — такие вещи не для меня, — может быть, я ее завтра обновлю. Мэми — заботливая дочка, и булавка, должно быть, стоит кучу денег: там ведь жемчуг. Интересно, сколько она за нее заплатила?
— Вам легко это узнать: счет здесь. Вы его сами вчера оплатили, — сказал Слинн.
В его тоне не было и тени иронии, а в ответе Малрэди не было ни малейшего признака понимания насмешки, когда он спокойно сказал:
— Верно, что-то около тысячи франков, но когда французские деньги пересчитываешь на доллары и центы, выходит не так уж много.
Наступило молчание, а затем он тем же тоном продолжал:
— Кстати о подарках, Слинн; у меня есть кое-что и для вас.
Он внезапно умолк. Малрэди всегда зорко следил за тем, чтобы больной не волновался. Теперь он увидел на его лице легкую тень тревоги.
— Но мы поговорим завтра, — небрежно продолжал он, — день-другой, знаете, ничего не изменит ни для вас, ни для меня. Может быть, я загляну к вам. Контору-то ведь запрут.
— Значит, вы куда-нибудь собираетесь? — машинально спросил Слинн.
— Нет, — нерешительно ответил Малрэди.
Он вдруг вспомнил, что ему некуда пойти, если бы он даже и захотел, и продолжал, как бы объясняя:
— Я что-то не думал сам о празднике. Эбнер в Источниках. Ему незачем приезжать сюда на день, даже если бы ему и хотелось кого-нибудь повидать. Я думаю, что побуду дома и присмотрю за хозяйством. Я еще ни разу не был наверху. Надо взглянуть, все ли там на месте. Но вам незачем приходить, не к чему беспокоиться.
Он помог старику подняться и надеть пальто и подал трость, которой тот с недавнего времени заменил костыли.
— До свидания, приятель! Не трудитесь сейчас поздравлять меня с праздником. Успеете в следующий раз. Будьте здоровы.
Он легонько похлопал старика по плечу и вернулся в свой кабинет. Он поработал за письменным столом, затем отложил перо и бумаги в сторону и положил на стол своего личного секретаря большой конверт. Потом открыл дверь и стал подниматься по лестнице. На первой площадке он остановился, услышав стук дождя по застекленной крыше. Этот стук, казалось, разносился по пустому залу, как мрачная барабанная дробь. Он заметил, что вода, проникшая в дом, обнаружила скрытые погрешности постройки; в углах на белых с золотом обоях появились длинные подтеки. В сверкающей зеркалами гостиной чувствовался странный запах сырого леса, как будто дождь вытеснил наружу соки, таившиеся в непросохшем дереве. От голубой атласной мебели веяло холодом, а мраморные камины и столики казались склизкими, как надгробные памятники. Мистер Малрэди, сохранивший фермерскую привычку снимать при входе в собственный дом сюртук вместе с шапкой (это как бы символизировало домашний покой и уют), снова надел сюртук: ему стало холодно. В этой комнате он никогда не чувствовал себя дома. Эта отчужденность еще усилилась с тех пор, как миссис Малрэди приобрела портрет, изображавший неизвестного господина, который, по ее словам, напоминал «дядюшку Боба». Он висел на стене среди других картин в массивных рамах. Мистер Малрэди бросил быстрый взгляд на портрет, в котором выделялись одинакового цвета и закрученные с одинаковой точностью высокий ворот сюртука и высокий кок. Портрет всегда смотрел на него с таким видом, как будто перед ним стоял человек, незаконно присвоивший чужие права. Пройдя роскошную спальню жены, он вошел в неблагоустроенную комнатку, где он, как простой управляющий, спал на узкой койке. Здесь он ненадолго задержался и, взяв из ящика ключ, пошел дальше вверх по лестнице, навстречу зловещему похоронному маршу дождя, барабанившего по застекленной крыше. Он снова остановился на площадке, чтобы заглянуть в спальни сына и дочери, отделанные с той же причудливой пышностью, как и комнаты внизу. Если бы он искал характерных признаков своей отсутствующей семьи, то, конечно, не нашел бы их здесь, в свежевыкрашенной комнате, олицетворявшей их последние успехи. Он поднялся на следующий этаж и, пройдя в боковой флигель дома, остановился перед маленькой запертой дверцей. Показные украшения комнат и коридоров остались позади, перед ним была голая оштукатуренная стена чердака. Он отпер дверь и распахнул ее.
Глава V
Помещение, в которое вошел Малрэди, представляло собой кладовую или чердак над той частью дома, которая осталась неоштукатуренной и которая своим ветхим остовом стропил и балок свидетельствовала о неосновательности всей постройки. Но еще более резкий контраст к великолепию остальной части дома составляли вещи — разнородная коллекция старой мебели, старых чемоданов, старой одежды, сохранившихся от прежней жизни в старой хижине. Миссис Малрэди совсем не хотелось оставлять на виду явное свидетельство того, что семейство начинало с малого. Поэтому все старые вещи перенесли в укромный тайник нового дома в надежде на то, что там они будут хорошо скрыты от посторонних глаз. Тут стояли старые детские кроватки, в которых когда-то резвились ручки и ножки Мэми и Эбнера; старые зеркала, которые когда-то отражали их сияющие намыленные личики; нарядная соломенная шляпка Мэми, которую она носила только по воскресеньям; старая; швейная машина, отслужившая свой век; старые одеяла, сшитые из лоскутьев; старая гармоника, под сиплые звуки которой Мэми пела церковные гимны; старые картины, книги и игрушки. Тут же валялись несколько старых литографий и цветная гравюра из «Иллюстрейтед Лондон ньюс» в потрескавшейся рамке, изображавшая празднование рождества в старинном английском сельском доме. Малрэди остановился, поднял картинку, так примелькавшуюся ему в прежнее время, и взглянул на нее с новым и особенным интересом. Видела ли Мэми что-нибудь подобное в Англии, подумал он, и почему бы ему не устроить такой же праздник в своем собственном великолепном доме и не провести рождество в кругу, семьи и друзей? Он припомнил один из рождественских праздников, когда на несколько монет, оставшихся после скромного рождественского обеда, он купил Мэми вон ту, теперь уже безголовую, куклу. Там же стояла и старая пегая игрушечная лошадка, подаренная им на рождество Эбнеру — Эбнеру, который завтра в Источниках будет гарцевать на чистокровном рысаке. Как все изменилось! Как они все поднялись в этом мире и как далеко они теперь от этих вещей — и все; же было бы приятно опять собраться здесь всем вместе. А им это было бы приятно? Вряд ли! Однако тогда у него появились бы какие-то заботы, и он не чувствовал бы себя завтра одиноким. Но что из этого? У него и так есть чем заняться: надо присматривать за своим огромным богатством. Что еще нужно человеку? Грешно ему мечтать еще о чем-то, если он и сейчас может удовлетворить любое желание жены и детей. Смахнув пыль со стекла и рамы шелковым носовым платком, он осторожно положил гравюру на стол и медленно вышел из комнаты.
Барабанная дробь дождя преследовала его на лестнице, но когда он закрыл за собой дверь конторы, другие мысли захватили его и заставили забыть о дожде. Он сел за работу и усердно занимался при слабом свете догорающего зимнего дня, пока вошедший слуга-китаец не доложил, что ужин, которым Малрэди неукоснительно заменял фешенебельный поздний обед, ждет его в столовой. Он машинально последовал за слугой, но, войдя в комнату, невольно остановился при виде оазиса из нескольких тарелок, ожидавших его на пустыне белой скатерти. Даже в лучшие времена высокий темный буфет красного дерева в церковном готическом стиле и такие же стулья, похожие на обстановку погребальной часовни, мало способствовали веселому расположению духа, а сегодня при свете залитых дождем окон и слабых лучей лампы, поглощаемых темными полированными стенами, столовая производила гнетущее впечатление.
— Отнесите ужин в контору, — сказал Малрэди, обрадованный пришедшей ему на ум мыслью, — я поем там.
Он поужинал с аппетитом здорового человека, который не нуждается ни в какой компании. Когда он поел, вошла кухарка-ирландка, единственная служанка в доме, и попросила отпустить ее на вечер и на весь следующий день.
— Ведь ваша милость, наверно, не останется дома на рождество? А меня пригласили мои двоюродные сестры из Скороспелки.
— А почему бы не позвать их сюда? — спросил Малрэди, ухватившись и за эту мысль. — Я их угощу.
— Да хранит вас бог за ваше великодушие. Но только нам не хотелось бы сидеть в этом доме в такой день.
В ее словах было так много правды, что Малрэди подавил вздох, когда разрешил ей уйти, не упомянув даже о том, что собирался остаться дома. Он сумеет сам приготовить завтрак — ведь это не первый раз; вот у него и будет занятие. А обедать он, может быть, пойдет в гостиницу в Скороспелке. Он работал, пока не наступила ночь. Затем его охватило какое-то беспокойство, и он отложил книги и бумаги. Слышались порывы ветра, и дождь временами мягко стучал по стеклам, напоминая стук детских пальчиков. Этот шум беспокоил его больше, чем гнетущая тишина, хотя он не давал воли своим нервам. Он редко читал книги, а в местной газете его интересовали лишь финансовые и коммерческие известия, касавшиеся его дел. Он знал, что если и ляжет в постель, то не сможет заснуть. Наконец он встал и, чтобы занять себя чем-нибудь, выглянул в окно. С отдаленной дороги донеслось хлюпанье колес по грязи и отголоски песни пьяного прохожего, загулявшего спозаранку. В закрытых мастерских не видно было ни единого огонька. Глубокая тьма окружала дом, как будто сосны из далекой лощины придвинулись и обступили его. Тишина нарушалась только налетавшими по временам порывами ветра и дождя. Едва ли такая ночь могла соблазнить на прогулку, но Малрэди вдруг решил пойти к Слинну и пригласить его на следующий день. У них, наверно, гости, и они будут рады его видеть. Он расскажет девушкам про Мэми и про ее успехи. Раньше он об этом не подумал. Это было свидетельство его обычной замкнутости, а теперь — он об этом вспомнил. Это доказывало, что он начинает, наконец, чувствовать свое одиночество. Он сердился на самого себя за эту, как ему казалось, эгоистическую слабость.
Малрэди вернулся в контору и, взяв конверт со стола : Слинна, положил его в карман, накинул плащ и запер за собой парадную дверь. Хорошо, что дорога была ему знакома и ноги инстинктивно нашли тропинку: ночь была очень темная. Временами его предостерегало только журчание ручейков, которые, сбегая с холма, пересекали дорогу. Без малейшей боязни и не испытывая никаких предчувствий, он вспомнил, как прошлой зимой один из пастухов дон Сезара, переходя ночью через этот холм, упал в глубокое ущелье, образовавшееся после обвала, вызванного дождем, и только на следующее утро его нашли с разбитой головой. Дон Сезару пришлось позаботиться о семье покойного. Что, если такой случай произойдет и с ним? Ну и что ж, ведь завещание он уже составил. Жена и дети обеспечены, а дело поставлено так, что не погибнет с его смертью. Это он все предусмотрел. Будет ли кто-нибудь оплакивать его? Жена, сын или дочь? Нет. Вдруг он почувствовал такое глубокое убеждение в правильности этой мысли, что внезапно остановился, словно перед ним разверзлась пропасть. Нет! Это правда! Если бы он исчез навсегда во мраке рождественской ночи, никто бы о нем не пожалел. О Мэми позаботится жена, а сын сам позаботится о себе, как прежде, и даже будет рад избавиться от последних следов отцовской власти, против которой он восставал. Человек с более развитым, чем у Малрэди, воображением постарался бы побороть свои мысли либо сделал бы из них окончательный вывод и на том бы и покончил, а для лишенного фантазии ума миллионера это умозаключение, однажды возникнув, превратилось уже в неопровержимый факт. Впервые за всю свою жизнь он почувствовал нечто вроде отвращения к собственной семье, чувство, которого не могли пробудить в нем даже беспутный образ жизни сына и его расточительность. Он сердито прибавил шагу в темноте.
Странное дело: старый дом должен быть уже перед ним, за лощиной, однако никаких признаков света не было видно. И только подойдя к решетке сада, когда перед ним на фоне неба выросла черная масса, он увидел слабый луч света в одном из окон пристройки. Он подошел к парадной двери и постучал. Не дождавшись ответа, он постучал снова. И так как повторный стук оказался столь же напрасным, он тронул дверь; она была не заперта; он открыл ее и вошел. В узком коридоре было совсем темно, но, помня хорошо расположение дома, он знал, что пристройка находится рядом с кухней, и, пройдя туда через столовую, распахнул дверь комнатки, в которой светился огонек. То был свет одинокой свечи на столике, перед которым, угрюмо глядя на тлеющие угли очага, сидел старый Слинн. Во всем доме не было ни другого огня, ни другого живого существа.
При виде безмолвной картины полной заброшенности беспомощного человека Малрэди, забыв на мгновение свои собственные чувства, застыл на пороге. Затем, опомнившись, он шагнул вперед и весело положил руку на сгорбленные плечи старика.
— Очнитесь, приятель! Поднимайтесь! Так не годится! Послушайте! Я прибежал сюда под дождем только для того, чтобы провести время со всеми вами.
— Я знал, — сказал старик, не поднимая глаз, — я знал, что вы придете.
— Вы знали, что я приду? — повторил Малрэди, и в нем с новой силой пробудилось чувство благоговейного страха, которое ему всегда внушал недуг Слинна.
— Да. Вы одиноки, как я, — совсем одиноки.
— Тогда почему, черт побери, вы сейчас не открыли дверь и не окликнули меня? — спросил Малрэди с нарочитой грубостью, чтобы скрыть свое беспокойство. — А где ваши дочери?
— Уехали в гости в Скороспелку.
— А сын?
— Он никогда не приходит сюда, если может повеселиться в другом месте.
— В сочельник ваши дети могли бы побыть дома.
— И ваши тоже.
Он сказал это без раздражения, тоном глубокого убеждения, вовсе не имея в виду опровергнуть слова собеседника. Малрэди, казалось, не заметил этого.
— Ну, я думаю, что мы, старики, могли бы развлечься сами, без них, — сказал Малрэди с напускной веселостью. — Повеселимся вдвоем. У вас здесь есть кого послать ко мне?
— Они забрали прислугу с собой, — коротко ответил Слинн. — Здесь никого нет.
— Ладно, — оживленно сказал миллионер, — я схожу сам. Вы не смогли бы зажечь побольше света и развести огонь в кухне, пока я вернусь? Прежде там бывало очень уютно.
Он помог старику подняться и, казалось, вдохнул в него часть своей энергии.
— Теперь, пока я не вернусь, не садитесь снова в кресло, — добавил он и скрылся в темноте.
Через четверть часа он вернулся. На широких плечах он нес мешок, который ни одному из его слуг не хватило бы сил поднять, и положил его перед ярко растопленной плитой в освещенной кухне.
— Это моя старуха приготовила к празднику, который так и не состоялся, — сказал он, словно извиняясь. — Тут на нас двоих, пожалуй, хватит. Этот китаец не захотел идти со мной, — добавил он, смеясь, — потому что, говорит, кончил работу, «как и амеликанси»! Послушайте, Слинн, — сказал он с внезапной решительностью, — я плачу одного жалованья своим работникам почти сто пятьдесят долларов в день, и все-таки не нашел никого, чтобы принести сюда этот мешок с рождественским обедом.
— Конечно, — мрачно сказал Слинн.
— Конечно, так и должно быть, — кратко подтвердил Малрэди. — Ведь для них это единственный день из трехсот шестидесяти четырех; а я могу быть свободен триста шестьдесят три дня, потому что я их хозяин. Я не против того, чтобы человек был независим, — продолжал он, снимая плащ и начиная раскрывать мешок — простой джутовый мешок из-под картофеля. — Мы сами независимые люди — ведь правда, Слинн?
Его хорошее настроение, которое сначала было напускным, стало естественным. Глядя на его сверкающие глаза и посвежевшее лицо, Слинн невольно подумал, что в этот момент он больше походил на самого себя, чем в своей конторе в роли капиталиста, несмотря на свою простоту. Будь Слинн менее рассеянным и более наблюдательным человеком, он увидел бы в этой настойчивой склонности к настоящей работе и уважении к мелочам превосходство прежнего скромного огородника над более поздними честолюбивыми достижениями.
— Сохрани бог зависеть от детей! — мрачно сказал Слинн.
— Не будем говорить сегодня о молодежи; мы можем обойтись без них так же, как и они без нас, — сказал Малрэди. Его передернуло, когда он вспомнил свои размышления на склоне холма. — Посмотрите-ка, вот шампанское и сладкие наливки, которые так любят женщины, вот студень и прочее, все первый сорт! Вот консервы, язык и тушеное мясо — выбирайте, что вам нравится. Стоп, давайте сначала вытащим все.
Он выдвинул стол на середину комнаты и выложил на него провизию.
— Теперь, Слинн, за дело!
— Мне не хочется есть, — сказал больной, снова усевшись в кресло перед огнем.
— Мне тоже, — сказал Малрэди, — но я думаю, в такое время полагается покушать. Некоторые только тогда и счастливы, когда сядут за стол, а мои директора во Фриско не могут и за дело взяться, не пообедав. Выпейте для начала шампанского.
Он откупорил бутылку и наполнил два бокала.
— Теперь уже первый час, старина, так что желаю счастливого рождества вам и обоим нам, здесь присутствующим. А вот второй бокал за наши семьи, здесь отсутствующие.
Они выпили вино без особого удовольствия. Дождь сильно стучал по окнам, но не было слышно глухого: шума, как в доме на холме.
— Надо написать старухе и Мэми, рассказать, как мы хорошо провели время в сочельник.
— Вдвоем, — добавил больной. Мистер Малрэди откашлялся.
— Конечно, вдвоем. И с ее продуктами, — добавил он, смеясь. — Мы ей за это весьма признательны. И если бы она их не припасла...
— Для других вы бы их не нашли, так ведь? — медленно добавил Слинн, глядя на огонь.
— Да, — нерешительно проговорил Малрэди.
Помолчав, он продолжал более оживленно, как бы отгоняя какую-то неприятную мысль, которая угнетала| его.
— Не забыть бы отдать вам рождественский подарок, приятель; он у меня тут с собой.
Малрэди вытащил из кармана сложенный конверт и, облокотившись на стол, продолжал:
— Мне хотелось бы объяснить, почему я решил подарить вам то, что сейчас подарю. Я думал об этом дня два. Такому человеку, как вы, не нужны деньги — вы не будете их тратить. Такому человеку, как вы, не нужны акции или дутые вклады — вы не смогли бы присматривать за ними. Такому человеку, как вы, не нужны брильянты и драгоценности, не нужна трость с золотым набалдашником, чтобы служить костылем. Нет, сэр. Вам нужно то, что от вас не уйдет; то, что всегда будет с вами, не износится и останется даже тогда, когда вас не будет. Это земля! И если бы я не дал клятву никогда не расставаться с этим домом и с этим садом, если бы я не переспорил старуху и Мэми, вы получили бы именно этот дом и этот сад. Но, может быть, именно поэтому я хочу сохранить эту землю для себя. Для вас я выбрал четыре акра земли по эту сторону от шахты. Вот документы на них. Как только вы согласитесь, я выстрою вам такой же дом, как этот, и он будет ваш вместе с землей, пока вы живы, приятель, а потом перейдет к вашим детям.
— Нет, не к ним! — в волнении прервал старик. — Никогда!
Встревоженный внезапной и неожиданной страстностью Слинна, Малрэди на мгновение отступил.
— Успокойтесь, приятель, успокойтесь, — сказал он мягко. — Конечно, вы можете поступить с вашей собственностью, как вам захочется. — Затем, как бы меняя тему разговора, он весело продолжал: — Может быть, вам интересно знать, почему я выбрал именно этот участок земли на склоне холма?_ Ну, во-первых, потому, что после моей находки я оставил его за собой на случай, если жила пойдет в том направлении, но так не случилось. Во-вторых, потому, что, когда вы приехали сюда, вам как будто понравился этот вид. Вы все сидели там и смотрели на него, как будто он вам что-то напоминал. Правда, вы об этом никогда не говорили. Знаете, рассказывают, что вы сидели там на валуне, когда с вами случился второй удар. Но, — добавил он осторожно, — вы ведь все забыли.
— Я ничего не забыл, — задыхаясь и вставая с места, ответил Слинн. — Видит бог, я бы хотел забыть, если бы мог!
Он стоял, опираясь на стол. Тонкое, выдержанное вино, по-видимому, пошатнуло его самообладание и разорвало те добровольные оковы, которые он носил последние полгода; коварный возбудитель влил странную силу в его кровь и нервы. Его лицо пылало, но не было искажено; глаза сверкали, но не смотрели в одну точку; казалось, он был сейчас в полном расцвете сил, как три года назад при последней встрече с Мастерсом на том самом склоне холма.
— Выслушайте меня, Элвин Малрэди, — сказал он, глядя на него горящими глазами. — Слушайте, пока я в здравом уме и способен говорить, слушайте, почему я научился не доверять им, бояться и ненавидеть их! Вы думаете, что знаете мою историю. Ну, так выслушайте от меня сегодня правду, Элвин Малрэди, и не удивляйтесь; у меня есть на то причина.
Он замолчал и с трогательной неловкостью провел по губам искривленными пальцами парализованной руки, точно хотел успокоиться.
— Три года назад я был золотоискателем, но не таким, как вы. У меня был опыт, у меня были научные знания, у меня была своя теория, было терпение и энергия, чтобы претворить ее в жизнь. Я выбрал определенное место. Все говорило, что там есть золото. Я вырыл шахту и без посторонней помощи и чужих советов копал там в течение шести месяцев без отдыха и остановки, с таким запасом продовольствия, которого мне едва хватило. И вот я нашел золото; нашел не так, как вы, Малрэди, мне помог не счастливый случай, не то, что называется «дуракам счастье», — нет, я вас за это не осуждаю, — а блестящее подтверждение моей теории, вознаграждение за упорный труд. Это был не «карман», а жила, которую я правильно выследил и нашел... целое состояние! До того утра я не сознавал, как много работал; до этого момента успеха я не знал, какие лишения переносил, и только тогда заметил, что едва могу мыслить и двигаться. Шатаясь, я вышел на свежий воздух. Поблизости была только одна живая душа — разочаровавшийся золотоискатель по имени Мастерс. Его шахта была недалеко от моей. Мне удалось скрыть от него мою находку и мое болезненное состояние. Я не доверял ему — я никому не доверял. И так как он в этот день собирался уйти из наших мест, я решил хранить свой секрет, пока он не уйдет. Я был ошеломлен и взбудоражен, но, помню, мне удалось написать письмо жене. Я сообщал ей о своей счастливой находке и просил приехать ко мне; помню еще, что я видел, как ушел Мастерс. Больше я ничего не помню. Меня, как вы знаете, подобрали на дороге около того камня.
— Да, знаю, — сказал Малрэди, сразу вспомнив рассказ кучера.
— Говорят, — продолжал Слинн, дрожа, — почти три года ко мне не возвращались ни здравый смысл, ни сознание; говорят, во время болезни я полностью потерял память и, благодаря господу богу, когда я лежал в той больнице, знал не больше, чем грудной младенец; говорят, что меня считали идиотом, потому что я не мог говорить и двигаться и только принимал пищу, так как этого требовала природа, и пришел в себя только после того, как сын разыскал меня в больнице. Говорят... Но сегодня я говорю вам, Элвин Малрэди, — сказал он, и голос его перешел в хриплый крик, — я говорю вам, это ложь! Я пришел в себя через неделю после того, как меня положили на больничную койку; я был в здравом уме и доброй памяти все три года, которые провел там, до того самого дня, когда увидел у своего изголовья холодное, лицемерное лицо Гарри, и он меня узнал. Вы понимаете? Я, обладатель миллионов, лежал там как нищий! Покинутый женой и детьми, зрелище для любопытных, развлечение для врачей — и я это знал! Я слышал их разговоры о моей беспомощности, слышал, как они толковали об излишествах и распутстве, — а я не знал ни вина, ни женщин! Я слышал, как священник говорил о персте господнем и указывал при этом на меня. Будь он проклят!
— Успокойтесь, приятель, успокойтесь, — мягко сказал Малрэди.
— Я слышал, как меня называли отверженным, бездомным, преступником, человеком, которого не будут разыскивать. Это была правда — никто меня не разыскивал. К другим больным приходили друзья; приезжали родственники и увозили своих близких; немногие счастливцы выздоравливали; другие, столь же счастливые, умирали. Один я, заброшенный, всеми покинутый, продолжал жить. Первый год я молил бога, чтобы они пришли. Я ждал их каждый день. Я никогда не терял надежды. Я утешал себя: «Жена не получила моего письма, но пройдет время, мое молчание встревожит ее, и тогда она приедет сама или пошлет кого-нибудь разыекать меня». Один молодой студент заинтересовался моей болезнью, присмотрелся к моему взгляду и понял, что я не идиот и что-то соображаю. Он принес азбуку, и; я по буквам назвал свою фамилию и город в Иллинойсе. Он обещал написать моей семье. Но в недобрый час я поведал ему о моей проклятой находке, и в то же мгновение я понял, что он считает меня дураком и идиотом. Он ушел; больше я его не видел. И все же надежда меня не покидала. Я мечтал о том, как они будут рады, когда найдут меня, и какое удовольствие доставит им мое богатство. Может быть, я был еще слабоват или не в своем уме, но в тот год я был хоть и разочарован, но все-таки вполне счастлив, потому что не терял надежды!
Он замолчал и снова провел по лицу парализованной рукой. Но теперь его движения стали более спокойными, а голос окреп.
— Должно быть, на второй год со мной произошла какая-то перемена; я начал бояться, что вот они приедут и увидят меня таким жалким калекой. Страшная мысль, что они, как и студент, сочтут меня помешанным, если я заговорю о золоте, заставила меня молиться богу, чтобы они не добрались до меня прежде, чем я восстановлю свои силы и здоровье и снова обрету свое богатство. Когда и третий год застал меня в больнице, я перестал молиться, я их проклял! Я дал себе клятву, что они никогда не получат моего богатства, но я хотел жить, чтобы они узнали о нем. Я понял, что начал поправляться, но у меня не было ни денег, ни друзей, и некуда было идти — поэтому я скрыл от врачей правду, назвал только свою фамилию и старался найти легкую работу, чтобы уйти из больницы и разыскать потерянное богатство. И вот однажды я узнал, что мое золото нашел другой. Понимаете? Мое сокровище, которое стоило мне нескольких лет физического и умственного труда! Я снова оказался беспомощным, забытым нищим. Золото, которым я так и не успел воспользоваться, было обнаружено и стало собственностью другого!
Он жестом остановил восклицание, готовое сорваться с уст Малрэди.
— Говорят, меня нашли в бессознательном состоянии, на полу. Должно быть, я упал, когда услышал эту новость... Не помню... Не помню ничего до того момента, когда через три недели передо мной очутился мой сын — он зашел в больницу как репортер и случайно опознал меня по фамилии и по наружности. Он счел меня сумасшедшим и дурачком. Я не старался его разубедить. Я не рассказал ему о моей шахте, чтобы не возбуждать сомнений и насмешек и, самое главное (если бы я смог доказать свои права), чтобы не видеть, как она перейдет в его неблагодарные руки. Нет, я ничего не сказал. Я дал ему перевезти меня сюда. Это-то он уж должен был сделать, есть все-таки какое-то приличие.
— А как вы можете доказать свои права? — мрачно спросил Малрэди.
— Если бы у меня было то письмо... если бы я мог отыскать Мастерса, — неопределенно проговорил Слинн.
— А вы не знаете, где это письмо или что сталось с Мастерсом? — продолжал Малрэди сухо и сдержанно.
Слинн, казалось, сделался еще более рассеян, но в его тоне послышалось раздражение.
— Не знаю... иногда мне кажется... — он снова замолчал, сел и провел руками по лбу, — с тех пор я где-то видел это письмо. Да, — продолжал он с неожиданной силой, — знаю! видел! — Его брови нахмурились, а черты лица стали судорожно искажаться; вдруг он стукнул парализованной рукой по столу. — Я вспомню, где именно.
— Успокойтесь, приятель, успокойтесь.
— Раз вы спросили меня о моих видениях. Вот это и есть одно из них. Я помню человека, который показывал мне письмо. Я взял у него письмо, вскрыл и по образчикам золота, которые там были, понял, что оно мое. Но где это было, когда и что сталось с ним, я не знаю. Оно вернется ко мне... Оно должно скоро вернуться.
Он взглянул на Малрэди, смотревшего на него с выражением мрачного любопытства, и сказал горько:
— Теперь вы считаете меня сумасшедшим. Я знаю. Только этого не хватало.
— Где находится ваша шахта? — спросил Малрэди, не слушая его.
Старик быстро опустил глаза.
— Это что, тайна?
— Нет.
— Вы про нее кому-нибудь рассказывали?
— Нет.
— Даже человеку, который владеет этой шахтой?
— Нет.
— Почему?
— Потому что не хотел отнимать у него.
— Почему?
— Потому что это вы!
Наступила мертвая тишина. Монотонный стук дождя по крыше прекратился.
— Значит, все это было в моей шахте, и жила, которую я думал, что открыл, — это ваша жила, вы нашли ее три года назад в своей шахте. Вы это хотите сказать?
— Да.
— Тогда я не понимаю, почему вы не хотите заявить о своих правах?
— Я уже объяснял вам, почему: я не хочу, чтобы богатство досталось моим детям. Я скажу даже больше, Элвин Малрэди, пусть ваши дети его промотают, они ведь уже начали. Оно было проклятием для меня; оно могло бы стать только проклятием и для них. Но я думал, вы счастливы, когда видите, как это золото питает эгоизм и тщеславие. Вы считаете меня озлобленным и жестоким. Ну что ж, я мог бы оставить вас в слепом заблуждении, но сегодня, когда вы пришли ко мне, я убедился, что и у вас глаза открылись, как у меня. Вы, владелец моего состояния, моего богатства, не смогли купить на ваши миллионы любовь, заботу и общество своих детей, как и я, нищий, не смог сохранить любовь моих детей. Сегодня вы так же, как и я, одиноки и покинуты. Впервые в жизни мы стали равными. Если бы это проклятое золото, которое лежит между нами, сгинуло в ад, откуда оно явилось, мы могли бы над этой бездной протянуть друг другу руки, как братья.
Все это время Малрэди, в знак дружеского расположения к старику, сидел без сюртука; теперь он встал перед очагом, выпрямился во весь рост и оттянул обе стороны жилета сильными большими пальцами. С минуту он задумчиво разглядывал пол между собой и собеседником, потом поднял глаза на Слинна. Глаза у Малрэди были маленькие и бесцветные; низкий лоб увенчивался копной темно-рыжих волос, а грубая сила нижней части лица смягчалась длинной лохматой козлиной бородкой. Но впервые в жизни его лицо преобразилось; в нем проявилось сильное чувство собственного достоинства.
— Насколько я понимаю, Слинн, — сказал он мрачно, — не детям решать наше дело и не им осуждать наши поступки. Прежде чем ругать их за грязь, которой они себя замарали, может быть надо вспомнить, что эта грязь тянется из тех желобов, где мы промываем золото. Поэтому не стоит о них говорить, — продолжал он, небрежно взмахнув сильной рукой в сторону дымоходной трубы, — поговорим о другом. Вот что нам теперь надо обсудить, — это три года, которые вы провели в больнице, и то, что вы перенесли за это время. Я не говорю, что вам легко было пережить все это, знаю даже, что подчас вам было не под силу, но согласитесь, что для вас эти три года были бы такими же, если бы я и не нашел ваше золото, а значит, не будем об этом и говорить. Теперь остается только раскопать историю вашей находки. Что ж, рассмотрим ваши доводы. Мастерса здесь нет, а если бы он и был, то, судя по вашему рассказу, он ничего не знает о вашей находке и мог бы только подтвердить, что вы были золотоискателем-неудачником. Ваше письмо... то, которое не дошло по назначению, вы предъявить не можете, а если бы и предъявили, это была бы только ваша версия, ничем не подтвержденная. Ни один деловой человек не станет рассматривать ваш иск; ни один ваш друг не поверит, что вы не сумасшедший и не мечтатель; всякий ваш соперник скажет, что вы все выдумали. Слинн, я деловой человек, я ваш друг и ваш соперник, но я не думаю, что вы лжете, что вы сумасшедший, и я думаю, что, может быть, ваши претензии справедливы! Но если вы полагаете, что я собираюсь завтра же передать вам шахту, — продолжал он, помолчав, с предостерегающим жестом, — вы ошибаетесь. Ради вас самого и ради моей жены и детей вы должны дать мне более ясные доказательства. Но я обещаю вам, что впредь не буду жалеть ни времени, ни денег, чтобы помочь вам в этом. Я более чем удвоил сумму, которая была бы у вас, если бы вы приняли шахту в тот день, когда вышли из больницы. Когда вы докажете мне, что говорите правду — а мы обязательно найдем какой-нибудь способ доказать это, если это действительно правда, — эта сумма сейчас же станет вашей без всякого вмешательства закона и законников. Если вы хотите, чтобы я подписался под этим черным по белому, приходите завтра ко мне в контору, и вы получите расписку.
— А вы думаете, я ее теперь возьму? — с волнением спросил старик. — Вы думаете, ваша милостыня вернет мне умершую жену, три года загубленной жизни, любовь и уважение детей? Или вы думаете, что ваша жена и дети, которые покинули вас богачом, вернутся к вам нищему? Нет! Пусть эта проклятая шахта остается там, где она есть, мне ничего не нужно!
— Успокойтесь, приятель, успокойтесь, — тихо сказал Малрэди, надевая сюртук. — Если шахта ваша, вы возьмете ее себе, если она моя, я оставлю ее у себя. Если она ваша, вы дадите своим детям возможность показать, что они могут сделать для отца, когда внезапно разбогатеют, а я дам своим детям возможность показать, в силах ли они перенести нищету и разочарование. И если я в здравом уме (а думаю, что это так), и те и другие окажутся при промывке чистым золотом.
Он повернулся и открыл дверь. Повинуясь внезапно нахлынувшему чувству, Слинн вдруг схватил руку Малрэди и поднес ее к своим губам. Малрэди улыбнулся и осторожно высвободил руку.
— Успокойтесь, приятель, успокойтесь, — сказал он мягко и, закрыв за собой дверь, вышел в светлый рождественский рассвет. Звезды, кроме одной, ярко сверкавшей над шахтой — источником его былого богатства, медленно бледнели.
Тяжесть, казалось, спала с его крепких плеч, когда он вышел на свежий воздух. Он уже забыл одинокого человека, которого только что оставил, и думал о жене и дочери. А они в эту минуту думали о нем, сидя в роскошной вилле в Каннах* на берегу Средиземного моря и обсуждая возможность свадьбы Мэми с князем Россо-э-Негро, если только мистер Малрэди согласится заплатить двести пятьдесят тысяч долларов карточных долгов этого незадачливого, но глубоко честного дворянина.
Глава VI
Когда Элвин Малрэди вернулся домой, он уже не чувствовал прежнего одиночества; трудно решить, было ли это чувство вытеснено впечатлениями последних часов или его недавними мыслями о семье. Лишенный воображения и фантазии, он отнесся к этой новой перемене в жизни так же спокойно, как рассматривал любое деловое предложение. Хотя он и решил действовать исключительно из нравственных побуждений, он был готов терпеливо и старательно рассмотреть претензии Слинна своим практическим умом. Это самое меньшее, что он мог сделать, чтобы оправдать свое почти суеверное согласие с рассказом Слинна.
Поработав некоторое время за письменным столом, он снова взял ключ от кладовой и поднялся на чердак, где хранились реликвии его прежней жизни. Оставаясь все еще под впечатлением своих размышлений, он теперь смотрел на них совсем другими глазами. Неужели можно вновь разжечь разбросанные угли и согреть остывший пепел? Здравый смысл говорил «нет». Даже если он этого и пожелает. Его охватила внезапная дрожь: он начал сознавать ужас предстоящей перемены, сопряженной не столько с добровольным отречением от теперешнего порядка вещей, сколько с невозможностью восстановить старый. Жена и дети никогда не подчинятся. Они уедут далеко, где ничто не будет напоминать им о прежнем богатстве и прежней бедности. Мэми, его Мэми, никогда не вернется в хижину, оскверненную дочерьми Слинна, чтобы занять их место. Нет! Да и зачем ей возвращаться? Ради полуболезненных, полубезумных бредней мстительного старика?
Он внезапно остановился. Перебирая кучу шахтерской одежды, одеял и резиновых сапог, он наткнулся на старую кирку, которую когда-то нашел в шахте и бережно хранил целый год, но затем забыл! Почему он не вспомнил о ней раньше? Он был испуган не только этим внезапным появлением искомого доказательства, но и своей собственной роковой забывчивостью. Почему он не вспомнил о кирке, когда Слинн рассказывал свою историю? Его охватило чувство стыда, словно он намеренно обманул обиженного человека. Он уже собирался идти, как вновь остановился в испуге.
На этот раз его окликнул голос снизу, голос Слинна. Как мог калека так скоро добраться сюда и что ему нужно? Он поспешно отставил кирку, которую, повинуясь первому движению, захватил было с собой, и спустился вниз. Старик стоял у дверей, ожидая его.
Когда подошел Малрэди, Слинн задрожал всем телом и схватился за дверной косяк.
— Я должен был прийти, Малрэди, — сказал он, задыхаясь, — я не мог больше оставаться там. Я пришел просить вас выкинуть из головы все, что я сказал. Забудем навсегда то, что произошло между нами этой ночью! Я пришел просить вас дать вместе со мной клятву, что ни один из нас никогда больше не будет об этом говорить. Это не стоит того счастья, какое я нашел в вашей дружбе за последние полгода; это не стоит того страдания, которое я испытал за последние полчаса оттого, что лишился ее.
— Может быть, — сказал Малрэди, — нам и говорить ни о чем не придется, если вы сейчас ответите мне на один вопрос. Пойдемте со мной. Не беда, — добавил он, видя, что Слинн с трудом сделал шаг, — я вам помогу.
Приподняв и поддерживая парализованного, он втащил его на третий этаж и открыл дверь чердака. Кирка стояла у стены, где он ее оставил.
— Посмотрите вокруг: вы здесь ничего не узнаёте?
Старик с испугом взглянул на кирку, а затем вопросительно посмотрел в лицо Малрэди.
— Узнаёте эту кирку?
Слинн поднял ее дрожащими руками.
— Кажется, да, но...
— Слинн, это ваша кирка?
— Нет, — быстро ответил старик.
— Почему же вам кажется, что вы ее знаете?
— У нее короткая рукоять, кажется я такую видел.
— Но она не ваша?
— Нет. У моей рукоять была сломана и скреплена, мне не на что было купить новую.
— Значит, вы говорите, что эта кирка, которую я нашел в шахте, не ваша?
— Да.
— Слинн!
Старик провел рукой по лбу, взглянул на Малрэди и опустил глаза.
— Не моя, — просто сказал он.
— Ладно, — мрачно проговорил Малрэди.
— И вы больше не будете говорить об этом? — робко спросил старик.
— Обещаю вам не говорить до тех пор, пока не раздобуду других доказательств.
Он сдержал слово, но прежде выпытал у Слинна самое полное описание примет Мастерса, какое могли дать ослабевшая память старика и обрывки сведений, какие у него были о соседе. Все это вместе с большой суммой денег Малрэди передал в руки заслужившего доверие агента, обещая в случае успеха еще более щедрое вознаграждение. После этого он возобновил прежние отношения со Слинном с той разницей, что письма миссис Малрэди и Мэми перестали быть предметом совместного обсуждения, а их счета более не проходили через руки личного секретаря.
Прошло три месяца. Дождливый сезон кончился, и склоны холмов вокруг шахты Малрэди были похожи на убор новобрачной, усыпанный цветами. И в самом деле, в воздухе носились слухи о предстоящей фешенебельной свадьбе, а «Новости» тонко намекали, что присутствие известного капиталиста скоро понадобится за границей. Однако лицо этого знаменитого человека не отражало ни радостного цветения природы, ни предвкушения счастья. Наоборот, в последние недели он казался встревоженным, озабоченным и совсем утратил свое грубоватое спокойствие. Люди качали головой; некоторые подозревали какие-то спекуляции; все видели причину в расточительности.
Однажды в конторе, когда занятия кончились, Слинн, следивший за измученным лицом своего хозяина, внезапно встал и, прихрамывая, подошел к нему.
— Мы обещали друг другу, — сказал он голосом, дрожащим от волнения, — никогда не упоминать о нашем разговоре в сочельник, пока у нас не будет других доказательств того, о чем я вам рассказал. У нас их нет; и я не верю, что они когда-нибудь появятся. Да они мне и не нужны, и я нарушаю это обещание сейчас, потому что не могу видеть вас несчастным и знать, что все это из-за этого.
Малрэди сделал отрицательный жест рукой, но старик продолжал:
— Вы несчастны, Элвин Малрэди. Вы несчастны, потому что хотите дать дочери приданое в двести пятьдесят тысяч долларов и не хотите воспользоваться деньгами, которые считаете моей собственностью.
— Кто говорит о приданом? — спросил Малрэди, вспыхнув от гнева.
— Дон Сезар Альварадо сказал моей дочери.
— Значит, вот почему он сторонится меня с тех пор, как вернулся, — произнес Малрэди с внезапным мелочным злорадством, — для того чтобы сплетничать, так как Мэми его отвергла. Старуха была права, когда предостерегала меня против него.
Эта вспышка была так несвойственна ему и так унижала его широкую, хотя и грубоватую натуру своей мелочностью, что легко было заметить ее женское происхождение; однако она вызвала у Слинна смутную тревогу.
— Бог с ним, — быстро заговорил старик. — Я хотел сказать, что отказываюсь от всего в пользу вас и ваших близких. Доказательств нет и не будет больше того, что мы знаем, что мы проверили и признали негодным. Если бы я не хотел доказать вам, что я не лгун и не сумасшедший, клянусь, я бы уничтожил эти доказательства прежде, чем они попадут в ваши руки. Оставьте деньги у себя и тратьте их, как вам захочется. Сделайте вашу дочь счастливой, а это принесет счастье и вам. Вы осчастливили меня своей щедростью; не заставляйте меня страдать из-за вашей нужды.
— Вот что я вам скажу, приятель, — ответил Малрэди, вставая (в его тоне и движениях чувствовалось странное сочетание откровенности и стыда), — мне хотелось бы дать эти деньги Мэми, и пусть она будет княгиней, если это принесет ей счастье. Мне хотелось бы заткнуть глотку дон Сезару, который будет рад, если что-нибудь помешает Мэми выйти замуж. Но я не трону этих денег, если вы мне их не одолжите. Примите от меня расписку в том, что я верну эти деньги, если имущество перейдет к вам, и я буду вам очень благодарен.
Гарантией будет закладная на старый дом и сад и земля вокруг шахты, которую я купил у дон Сезара.
— Если это вас обрадует, — сказал старик, улыбаясь, — так и поступим; а если я разорву расписку, это уж не ваше дело.
Это действительно обрадовало известного капиталиста Скороспелки; в течение следующих дней его лицо сияло, и казалось, к нему вернулось прежнее спокойствие. И вот однажды утром, когда ему доложили, что дон Сезар в конторе и желает видеть его, Малрэди впервые за всю жизнь обнаружил легкую тень заносчивости.
— Просите, — сказал он кратко.
Дверь отворилась, и вошел дон Сезар, стройный, смуглый и серьезный. Малрэди не видел его с тех пор, как он вернулся из Европы, и даже его неопытный глаз не мог не заметить, с какой легкостью и изяществом молодой испано-американец усвоил нравы и манеры более древней цивилизации. Казалось, будто он скорее вернулся к привычному состоянию, чем усвоил новое.
— Садитесь, — сказал Малрэди.
Молодой человек бросил спокойный, но настойчивый многозначительный взгляд на Слинна.
— Можете говорить при нем, — сказал Малрэди, понимая значение его взгляда. — Он мой личный секретарь.
— Именно по этой причине, мне кажется, нам следует выбрать другое место для разговора, — надменно ответил дон Сезар. — Насколько я понимаю, вы не можете принять меня сейчас?
Малрэди был в нерешительности. Он всегда уважал дон Района Альварадо и признавал его высокое общественное положение. Теперь, очевидно, этого признания требовал и сын — молодой человек вдвое моложе его самого и в свое время претендент на руку его дочери. Малрэди встал и, не сказав ни слова, прошел впереди дон Сезара наверх в гостиную. Чужой портрет, висевший на стене, казалось, явно был на стороне дон Сезара, против чуждого им обоим выскочки Малрэди.
— Я надеялся, что сеньора Малрэди избавит меня от этого разговора, — холодно сказал молодой человек, — или по крайней мере уведомит вас о причине, по которой я ищу его. Так как вы только что предложили мне вести разговор в присутствии несчастного сеньора Эсслинна, я полагаю, что она этого не сделала.
— Не пойму, к чему вы клоните и что общего у миссис Малрэди с вами и Слинном? — сердито спросил Малрэди. Ему было не по себе.
— Насколько я понимаю, — сурово ответил дон Сезар, — сеньора Малрэди не известила вас о том, что я доверил ей важное письмо, принадлежащее сеньору Эсслинну, которое я имел честь найти в лесу шесть месяцев назад, и которое она обещала переслать вам.
— Письмо? — медленно повторил Малрэди. — У моей жены было письмо, принадлежащее Слинну?
Дон Сезар пристально посмотрел на миллионера.
— Случилось то, чего я опасался, — мрачно сказал он. — Вам, по-видимому, ничего не известно, иначе вы бы не стали молчать.
Затем он кратко изложил историю находки письма Слинна, рассказал, как он показал его больному, как пагубно оно подействовало на старика, и как он случайно узнал его содержание.
— В то время я полагал, что скоро вступлю в союз с вашей семьей, сеньор Малрэди, — надменно заявил он, — и когда я оказался владельцем тайны, которая затрагивала ее честь и доброе имя, я не мог оставить это письмо в руках идиота или его глупых детей, а доверил его попечению сеньоры, чтобы вы с ней могли распорядиться им так, как этого требует ваша и моя честь. Я последовал за нею в Париж и там вручил ей письмо. Она посмеялась над претензиями автора письма и требованиями, которые он мог бы предъявить к вашему великодушию, но оставила письмо у себя и, боюсь, уничтожила его. Вы поймете, сеньор Малрэди, что я, лишившись расположения вашей дочери, потерял право обращаться к вам по этому вопросу и не мог, не вызвав недоразумений, просить вашу жену вернуть мне письмо. Я и не нарушил бы эту тайну, если бы, возвратившись сюда, не познакомился ближе с дочерьми сеньора Эсслинна. Я не могу представиться в его доме в качестве искателя руки сеньориты Вэшти, не получив от него прощения за мое соучастие в той обиде, которая была ему причинена. Как кабальеро, я не могу также сделать это без вашего разрешения. Именно за этим я и пришел сюда.
Недоставало только этого последнего удара, чтобы завершить унижение, которое заставило Малрэди побледнеть. Но его глаза были ясны, как прежде, а голос столь же тверд, когда он повернулся к дон Сезару:
— Вы хорошо знаете содержание этого письма?
— У меня есть копия.
— Пойдемте со мной.
Он пошел впереди посетителя вниз по лестнице обратно в контору. Слинн взглянул в лицо хозяина с нескрываемой тревогой. Малрэди сел за стол, быстро написал несколько строк и позвонил. Вошел управляющий.
— Отправьте это в банк.
Он спокойно и тщательно вытер перо и повернулся к Слинну; трудно было представить, что сейчас он отменил приказание выплатить приданое своей дочери.
— Дон Сезар Альварадо нашел письмо, которое вы написали жене в тот день, когда нашли золото в шахте, теперь принадлежащей мне. Письмо он отдал миссис Малрэди, но у него сохранилась копия.
Не обращая внимания на испуганный, умоляющий жест Слинна и на непритворное удивление дон Сезара, который был совершенно не подготовлен к тому, что Малрэди и Слинн находятся в близких отношениях, он продолжал:
— Он захватил копию с собой. Я думаю, ее надо сравнить с тем, что вы помните из подлинника.
Подчиняясь жесту Малрэди, дон Сезар машинально вынул из кармана сложенный листок и вручил его паралитику. Но дрожащие пальцы Слинна едва могли развернуть бумагу, а когда он увидел текст письма, его судорожно дергающиеся губы не могли произнести ни слова.
— Дайте я вам прочту, — мягко сказал Малрэди. — Вы можете следить и остановить меня, если я ошибусь.
Он взял бумагу и в мертвой тишине прочитал следующее:
«Дорогая жена! Я только что нашел в моей шахте золото. Сейчас же приезжай ко мне с детьми. Шесть месяцев я очень много работал и теперь ослабел... Это счастье для всех нас. Мы были бы богаты, даже если бы это была только боковая жила и если бы она шла на запад к соседней шахте, а не сворачивала на восток по моей теории...»
— Стойте! — закричал Слинн голосом, потрясшим всю комнату.
Малрэди взглянул на него.
— Ведь это ошибка? — спросил он тревожно. — Тут должно быть написано: «на восток к соседней шахте».
— Нет! Правильно! Я ошибся! Мы все ошиблись!
Слинн поднялся и выпрямился во вдохновенном порыве.
— Разве вы не понимаете? — почти закричал он горячо и страстно. — Вы нашли заброшенную шахту Мастерса! Не мою! Вы нашли кирку Мастерса! Теперь я в этом уверен!
— А ваша собственная шахта? — в волнении поднимаясь на ноги, спросил Малрэди. — А ваше золото?
— Оно еще там!
В следующее мгновение, прежде чем они успели вымолвить хоть одно слово, Слинн ринулся из комнаты. Восторг, вызванный последним открытием, вернул ему полную власть над умом и телом. Малрэди и дон Сезар, не менее взволнованные, с трудом поспевали за ним. Они бежали вдоль основания холма под шахтой Малрэди, параллельно заброшенному туннелю Мастерса. Только раз Слинн остановился, чтобы вырвать кирку из рук удивленного китайца, работавшего в канаве, и бросился бежать дальше, пока не очутился за четверть, мили от шахты Малрэди. Он остановился перед отверстием в склоне холма. Шахта была открыта небу и воздуху, совсем заброшена, неудобно расположена и отдалена от шахты Малрэди. Это, несомненно, сохранило ее в неприкосновенности от прохожих и золотоискателей.
— Вам нельзя входить туда одному, да еще без огня, — сказал Малрэди, кладя руку на плечо взволнованного Слинна. — Дайте я позову на помощь и принесу инструменты.
— Я знаю там каждую ступеньку в темноте, как и при свете, — ответил Слинн, вырываясь. — Пустите, пока у меня еще есть силы и я что-то соображаю. Отойдите!
Он вырвался из рук и через мгновение исчез в темноте зияющей шахты. Они ждали, затаив дыхание, и вот, когда, казалось, прошла целая вечность мрака и тишины, услышали шаги и бросились к нему навстречу. Он нес какой-то предмет, прижимая его к груди. Они поспешили поддержать его. Но в тот же момент он сам и то, что он искал, его ноша — бесформенная глыба золота и кварца, рухнули на землю и застыли в неподвижности. У него еще хватило сил обратить потухающий взор на другого миллионера из Скороспелки, склонившегося над ним.
— Вы... видите, — задыхаясь, шепнул он, — я не был... сумасшедшим!
Нет. Он был мертв!
ДРУГ КАПИТАНА ДЖИМА
I
Едва ли кто‑нибудь из нас искренне верил в золотоносные возможности ущелья Эврика. Мы оказались там в один прекрасный день, спускаясь по течению небольшой реки, и фантазия рисовала нам, что то же самое произошло в отдаленные времена с золотым песком — с той, однако, разницей, что мы здесь осели, тогда как золото, по всей вероятности, нет. Вначале, молчаливо согласившись не придавать этому факту значения, мы изо всех сил восхищались волшебным пейзажем: серебристые воды струились сквозь густые заросли мансаниты и ольшаника, вверх меж лавровых кустов уходила к перевалу узкая тропа, а склоны горы пестрели цветами, и темные сосны колыхались на ее вершине.
— Вы понимаете, — сказал оптимист Роули, — главное‑то— вода. Если найдем золотоносный песок, тут же можно его и промывать, а если наткнемся на кварцы — почему им не быть в той вон скале, — то правый берег самой природой создан для дробилки, и воды хватит на пятьдесят толчей. Этот склон — естественный скат для отвалки пустой породы, он же готовый отлогий подъем для тележек с рудой прямехонько из рук провидения; ну, а дорогу к тракту легче легкого проложить по этому кряжу.
Позднее, когда нам пришлось признать, что первейшая цель золотоискателей — это все‑таки найти золото, мы так и не двинулись с места, оправдывая свою юношескую лень и беспечность забавными и меткими остротами по поводу бездоходных прелестей ущелья. Тем не менее когда однажды капитан Джим, вернувшись из ближайшего поселка в двадцати милях от нас, где была и почтовая контора, бросился к нам со словами: «Ну, ребята, теперь будет порядок, сюда придет Лейси Бассет, и все образуется», — мы почувствовали большое облегчение.
Однако радоваться у нас было так же мало причин, как и задерживаться здесь. Никаких оснований уповать на особое золотоискательское чутье неведомого нам Лейси Бассета у нас не было, если не считать безграничной веры капитана во всевозможные совершенства его друга, но и эта вера постоянно вызывала в лагере Ееселые насмешки. Нам уже давно приелись мнения этого отсутствующего оракула, — во всех речах капитана Джима он неизменно представал как благоуханное воспоминание или непререкаемый авторитет. Когда капитан Джим заводил: «Лейси мне однажды сказал», — или «Как считает Лейси Бассет», — или же более церемонно, если слушали посторонние: «Как говорит ближайший мой друг Лейси Бассет — вы, может, знаете его?» — младшие и легкомысленные члены золотоискательской компании «Эврика» начинали переглядываться, скрывая усмешку. Однако именно эти беззаботные скептики всего нетерпеливее ожидали прибытия апокрифического мудреца. Оно по крайней мере сулило развлечение; осудит он или одобрит выбранное нами место, его решение мы готовы были принять без спора.
И вот он прибыл. Члены компании «Эврика» встретили его, лежа на травке как раз там, где предполагалось построить дробилку для кварца, в непосредственной близости от столь же гипотетического «ската». Он пришел по будущему почтовому тракту, на месте которого ныне простирались непролазные заросли дуба и папоротника. Его сопровождал капитан Джим, который вышел встречать его на тропу, и в первые мгновения магическое воздействие, явно оказываемое им на капитана Джима, полностью завладело нашим вниманием, и на него самого мы поначалу даже не посмотрели толком.
Капитан Джим был до того поглощен приезжим, что мы просто диву дались. Он то забегал вперед своего гостя, то снова возвращался и шел с ним рядом, всем своим видом напоминая преданную собаку ньюфаундленда, на которую и без того походил своей лохматостью. Но и потом, уже после того как знакомство состоялось и он топтался с напускной небрежностью в стороне, засунув руки в карманы, его притворство было настолько очевидно и он так был поглощен и очарован своим другом, что мы обрадовались, когда втянули его в разговор.
Что же касается первого впечатления, которое произвел на нас пришелец, то, пожалуй, оно не обмануло нас. Он никому не понравился, показался нам человеком тщеславным, самодовольным, высокомерным и не внушающим доверия. Однако потом, поразмыслив, мы пришли к выводу, что такое наше суждение могло быть вызвано преувеличенными похвалами капитана Джима, и, поскольку отрицательные качества Лейси Бассета еще не пришли в прямое столкновение с нашим собственным эгоизмом и самомнением, мы, как водится, быстро забыли свое первое впечатление. Нам не трудно было бы поставить его на место, вздумай он оседлать нас, как, несомненно, оседлал капитана Джима. Будучи уверены, подобно многим другим людям, что в нас есть нечто внушающее почтение и дающее острастку чужим порокам и всяческим слабостям, мы добродушно снизошли к дешевому блеску этого самовлюбленного, напыщенного, франтоватого и худосочного пришельца. Даже прозвище «Свистун», которым наградил его Роули, некоторые из нас считали слишком резким: в этом обществе мужественных людей задира не обязательно трус и краснобайство не всегда прикрывает скудоумие.
Приговор, который он вынес нашему ущелью, был ошеломляющим, оригинальным и окончательным. Незнакомец с презрением осмеял и для нас самих не очень убедительное предположение, что в русле и отмелях полюбившейся нам речки залегает золото. Наносные образования следует искать не в русле теперешних потоков, а в цементе или же высохшем русле доисторических, первоначальных рек, воды которых текли когда‑то параллельно нынешним и которые можно найти — он чертил на красном песке чубуком трубки, — если рыть шахты под прямым углом к речке. Такая теория была для нас в то время новой и привлекательной. Правда, ее научное толкование, хоть оно преподносилось многословно и безвозмездно, показалось нам несколько туманным и непоследовательным. Правда и то, что геологические термины порой были неточными и произносил он их небезупречно, однако мы принимали на веру такие необычайные открытия, как скала «породис вулканис», «неиссякаемая жила», «слюдистая крутка» (что напоминало распространенный сорт табака), «железистые пириты» и «кварцевый распад», составлявшие то, что он довольно удачно назвал «тавтологическую формацию», и нам это пришлось по душе. Нашу радость не омрачило и то обстоятельство, что широкоизвестный ученый, с которым Лейси Бассет был на дружеской ноге — даже «спали вместе» при одной разведке — и который, по его описаниям, был согбенным старцем в очках, наверное, заметно состарился с тех пор, как один из членов нашей компании видел его двадцатилетним здоровяком три года назад. Но подобные неточности были лишь результатом рассеянности гения.
— Таково мое мнение, джентльмены, — закончил он, лениво вставая и с нарочитой старательностью стряхивая носовым платком пыль ущелья Эврика со своей одежды. — И сами понимаете, мое дело сторона.
Капитан Джим, с верой и глубоким вниманием прислушивавшийся к каждому его слову, повторил:
— Его дело сторона, ребята, — доверительно намекая на то, что нам бесплатно оказано такое благодеяние. Потом, как бы подбадривая своего друга, добавил: — Разумеется, тебе‑то в чем интерес, Лейси, — и с невыразимой нежностью положил руку ему на плечо.
Мы, однако, постарались, чтобы у мистера Лейси Бассета был в этом деле интерес. Ему, не долго думая, предложили пай в компании и место в палатке капитана Джима. Сперва он отнекивался, но принял и то и другое, пробормотав что‑то капитану Джиму, который пояснил нам потом, что ради нас его друг отказался от нескольких весьма выгодных предприятий. А когда он наконец вместе с Роули отправился посмотреть ущелье, капитан Джим с трудом оторвался от своего друга, да и то лишь ради удовольствия опять расхваливать его нам, и при этом в самом доверительном тоне, словно сообщал нечто новое и крайне важное.
— Понимаете, ребята, мне не хотелось говорить при нем, потому что мы старые друзья, но скажу по секрету: этот малый стоит тысяч для нашего стана. Быть может, — продолжал он с простодушной наивностью, — я мало вам рассказывал про него, потому, может, что он старый мой друг, и я привык к нему — сами знаете, ребята, что такое привычка, — и я не оценивал его по достоинству, как вы оценили. Сказать по совести, я так и не припомню, как это я догадался позвать его к нам. Пришло мне это на ум совсем невзначай в пятницу на той неделе здесь вон, под этими кусточками. Я обдумывал какие‑то его слова и вдруг говорю себе: да ведь есть же Лейси, уж он не сплоховал бы, будь он тут! У меня и в мыслях не было, что он окажется свободен, но вот повезло. Теперь он тут, и дело на мази! Вы заметили, как быстро он перевернул все наши планы? Заметили его насмешливую улыбочку? А то как же, в ней весь Лейси! Я сам видел, как он переворачивал целый ворох всяких дел, не говоря ни слова, только своей усмешечкой.
Мы подумали, что нам в нашем положении нелегко будет извлечь пользу из этой его улыбочки и что, пожалуй, мы предпочли бы нечто более существенное, но вера капитана Джима была заразительной.
— А кто он, собственно, такой? — беспечно спросил Джо Уокер.
— Как! — воскликнул изумленный капитан Джим. — Кто Лейси Бассет?
— Ну да, кто он такой? — повторил Уокер.
— Кто такой он?
— Да.
— Я с ним встретился тому будет скоро четыре года, — сказал капитан Джим, погружаясь в приятные воспоминания. — Да, именно так. Я познакомился с ним в конце пятьдесят четвертого, и всегда он был такой, как теперь.
— Но чем он занимается, какое у него ремесло? Что он делает?
Капитан Джим с укором взглянул на вопрошавшего.
— Делает? — повторил он, обернувшись к остальным, словно возмущенный этим вопросом. — Да то же, что и теперь! Он всегда такой же, всегда Лейси Бассет,
Как бы там ни было, но на следующий день мы с увлечением и юношеским азартом приступили к работе под руководством нашего нового товарища и тут же начали рыть шахту. Нельзя не отдать справедливости другу капитана Джима: в течение первых нескольких недель он не отлынивал от настоящей работы, сменив свой никчемный щегольской наряд на удобный рабочий костюм, который по частям собрал и пожертвовал ему лагерь (впоследствии нам пришлось об этом вспомнить: он действительно «ничего, кроме себя, не принес ущелью Эврика»). Могу добавить, что денег в компанию он, во всяком случае, не вложил, ибо капитан Джим даже ссужал ему мелкие суммы для его личных покупок в поселке и еще более мелкие — для уплаты карточных долгов, а играл он в карты с присущей ему самоуверенностью.
Между тем работа в шахте подвигалась хотя и медленно, зато бесперебойно. Даже когда отпал интерес новизны, умерились наше нетерпение и возбуждение, боюсь, мы цеплялись за это свое занятие потому, что оно оправдывало дальнейшее наше пребывание здесь, ибо прелесть бродяжнической, лишенной всяких условностей жизни властвовала над нами сильнее, чем мы могли сообразить. Нас незаметно сковывала столь дорогая нам свобода; удивительные чары ее безграничности отняли у нас желание какой‑либо перемены; сама Природа держала нас в своих жарких, беззаконных объятиях так же цепко и неумолимо, как и цивилизация, от которой мы бежали. После нескольких часов работы в шахте мы блаженно лежали на склоне холма, глядя в немигающее небо, или же бродили с ружьем по девственному лесу в поисках дичи, наверное, такой же беззаботной, как и мы. Мы предавались самым несбыточным, нелепым надеждам на то, что в конце концов найдем в шахте богатство, и считали Себя практичными. Мы уминали свой непропеченный хлеб и не портили себе аппетита какими‑либо страхами или тревогами; ночью нас охраняли степенные, молчаливые звезды, и мы засыпали в полной уверенности, что честно заработали себе отдых; а проснувшись утром, были по–прежнему полны надежд, позабыв даже о тех воображаемых суммах; которые накануне, может быть, выиграли или проиграли в карты. Нас не беспокоило и то обстоятельство, что по мере углубления шахты таял наш маленький капитал и что сезон дождей, когда немыслимы не только настоящие работы, но даже такая забава, как наша, неотвратимо приближался.
И вот однажды, еще до окончания своей «рабочей смены», Лейси Бассет выскочил из шахты; лицо его выражало негодование и гнев, от избытка чувств он даже потерял дар речи. Тщетно мы толпились возле него, выказывая участие; тщетно капитан Джим взирал на него с почти женской нежностью, — Лейси отшвырнул кирку и бросил оземь шляпу.
— В чем дело, друг? Что с тобой стряслось, Лейси? — ласково спросил его капитан Джим.
— Посмотрите! — задыхаясь произнес наконец Лейси, когда на него были устремлены все взоры, и показал нам обломок камня, который тут же кинул на землю и растоптал каблуком. — Смотрите! Подумать только, опять я влопался с этим проклятым фоссилиферическим траппом, провались он! Подумать только, и это после того, как мы с профессором Паркером уже попались на такую чертовщину в Станисло, в шахте на сто футов под землей! И вот, извольте, опять меня подцепила!
Воцарилось гробовое молчание; мы тупо смотрели друг на друга.
— Однако, Бассет, за последние две недели мы не раз находили такую штуку, — сказал Уокер, подняв осколок этого камня.
— Но как? —свирепо взглянув на него, возразил Лейси. — Находили наслоенным на кварц или же не наслоенным на кварц? Находили в вулканической жиле, в рыхлом песчанике или находили в твердом пласте? Ответьте мне, и тогда потолкуем. Но этот… так его и так, фоссилиферический трапп, вместо того чтобы налегать сверху, налегает снизу. А это означает…
— Что? — нетерпеливо спросили мы.
— А то, что ему… то, что колебание почвы, это доисторическое вулканическое землетрясение, вместо того чтобы напирать на реку сбоку и сдвинуть ее в сторону, сделало полный оборот и переворотило старое русло вверх дном, и цемент, будь он неладен, очутился на другой половине земного шара! Ищите теперь его в Китае, не иначе.
Мы продолжали смотреть друг на друга, старшие — нахмурившись, молодые — с трудом сдерживая смех. Капитан Джим, озабоченный только волнением своего приятеля и следивший за этим последним доказательством его несравненных геологических познаний с нескрываемым удовольствием, прошептал одобрительно и с твердой уверенностью:
— Так оно и есть, ребята! Еще не родился человек, который сумел бы растолковать вам всю сущую правду! Можете положиться на него. Таков уж Лейси.
Прошло две недели. Грустные, промокшие, мы сгрудились в единственной в лагере непротекающей палатке. Долгое лето кончилось совершенно для нас неожиданно; мы вдруг оказались в положении непредусмотрительной стрекозы из детской басни, жалкого насекомого с прозрачными, никчемными сейчас крылышками, которые испачкались и отсырели при первых же дождях; у нас не было крыши над головой и никаких надежд на будущее. Многоученый Лейси, последнее время околачивавшийся в поселке, пророчествуя в салуне, был в отсутствии, и мы увидели из нашей промокшей палатки капитана Джима, медленно пробиравшегося к нам по тропинке после визита к своему другу.
— Ничего не поделаешь, ребята, —сказал Роули, подводя итог нашему совещанию, — надо выложить ему все начистоту, и, если никто не решается, это сделаю я. Почему мы должны церемониться с Бассетом больше, чем люди в поселке? Они не стеснялись назвать его пустомелей, что бы ни говорил капитан Джим в его защиту.
Капитан Джим нерешительно остановился перед угрюмыми лицами, смотревшими на него из палатки. Возможно, он почувствовал, что ему готовится неприятность. В глазах появилось настороженное собачье выражение, и он покосился назад, словно все еще надеялся, что следом за ним идет Лейси. Дождь несколько пригладил его космы, вид у него был жалкий, и он с каким‑то безнадежным отчаянием присел на корточки у костра из зеленых веток, курившегося у входа в палатку.
И все же Роули напустился на капитана Джима с удивившей нас резкостью и жаром. Роули коротко указал на то, что мы познакомились с Лейси Бассетом через него, капитана Джима, что он по собственному усмотрению ввел к нам Лейси Бассета, и мы приняли его в компанию, полагаясь только на слова капитана Джима, что Бассет, вместо того чтобы оказывать нам помощь словом и делом, дурачил. нас и своими нелепыми теориями и дутой ученостью вовлек в разорительное, безрассудное предприятие. А в довершение теперь обнаружилось, что, пока мы рыли его идиотскую шахту, он пользовался нашим кредитом в поселка для своих личных нужд. Все это довело нас почти д. о банкротства, вследствие чего мы вынуждены требовать исключения Лейси Бассета не только ради нас самих, но и ради капитана Джима, будучи глубоко уверены, что он столь же горько ошибался в своей дружбе к Лейси Бассету, как обманулись мы в наших деловых с ним отношениях.
Но капитан Джим, вместо того чтобы смягчиться при этих словах, к величайшему нашему изумлению, взъелся на говорившего, как бывало, по–собачьи ощетинившись.
— Вот оно что! Я так и думал! Ты еще рта не разинул, я уже знал все, что ты скажешь. Знал в тот день, когда ты начал подличать и допытываться, какое у него занятие! Я сразу себе сказал: гляди в оба, капитан, за этим подлым псом Роули, он враг Лейси! А в тот самый день, когда Лейси поступился своим достоинством и так толково объяснил вам всю суть дела, я за тобой приглядывал — тебе‑то было невдомек, но я приглядывал. Меня не проведешь! Видал я, как ты посмотрел на Уокера, и говорю про себя: что тебе за охота, Лейси, что за. охота тратить на них слова? Что они смыслят! В них только зависть да невежество. Приди ты сюда, лодырничай, как они, да води с ними дружбу, был бы ты хорош для них, как всякий другой. Но нет, ты им не ровня, Лейси, ты привык к высокопоставленным особам, вон как профессор Паркер, и это сразу видно. Не удивительно, что ты стал нас чураться; не удивительно, что мне надо ходить на перекресток Погорелый Лес, чтоб тебя повидать. Теперь мне все ясно: тебе стало невмоготу терпеть общество, с которым я тебя свел! Ты должен был смыть со своих рук грязь этой помойной ямы в ущелье Эврика. — Он замолчал, перевел дыхание, потом продолжал еще более свирепо: — А это что еще за новость? Откуда такой наговор? Это ваш поклеп, будто он забирал себе вещи в кредит компании! Ну, вы что, все онемели?
Мы были так поражены и огорошены этой внезапной унизительной вспышкой человека, .обычно благородного, кроткого и уступчивого, что забыли все свои упреки и только молча смотрели друг на друга. Какое нам было дело до жалкого чужака с его мелким мошенничеством и надувательством, — нас потрясла позорная перемена, происшедшая под его влиянием с человеком, стоявшим перед нами. Роули и Уокер, оба бесстрашные драчуны, не привыкшие спускать обиду, отвернулись и с грустью отошли в сторону, не проронив ни слова.
— Ага, молчите! Ну так слушайте, что я скажу, — продолжал капитан Джим. Губы его побелели и дрожали. — Это я уговорил его не церемониться. Я велел ему пользоваться кредитом компании. Можете поставить это в счет мне. Вы тут заговорили о том, чтоб его исключать. Так знайте: я выхожу из этой вашей компании и его беру с собой. Да будь эта ваша шахта вся от преисподней и доверху полна золота, я и тогда бы не остался с вами и не бросил его! Забирайте себе мою долю, все мои права на то, что на земле и что под землею, все мое имущество, — он швырнул к нашим ногам кожаный кошелек и револьвер, — и возместите себе, что, по вашему разумению, вы через него потеряли. Теперь я с вами в расчете!
И он ушел прочь, и никто не успел его окликнуть или задержать. Промокшая его фигура словно растаяла под дождем в сгущавшихся тенях сосен; еще миг — и он скрылся из виду. С этого дня он навсегда исчез из ущелья Эврика. Но и сам наш лагерь, подобно ему, вскоре тоже как‑то растаял под струями дождей.
II
Прошло три года. Дилижанс недавно открывшейся линии катился по длинному спуску к идиллической Гилиадской долине, и я смотрел в сторону городка с вполне извинительным интересом и волнением. В кармане у меня лежали документы о моем продвижении с козел дилижанса, где я исполнял обязанности почтового курьера компании «Эксельсиор», на место служащего в конторе этой компании, расположенной в раскинувшемся передо мною буколическом селении. Его пыльные прямые улицы, новые, с иголочки унылые дома и магазины, строгие, похожие на обелиски шпили его двух–трех общественных зданий, безграничные окрестные поля пшеницы и овса, монотонность которых лишь изредка оживляли решетчатые изгороди, загоны для скота и барачного вида фермерские строения, — все это, конечно, не походило на дикое приволье горных теснин, среди которых я не так давно жил и работал. Юба Билл, наш возница, на лице которого иронически–насмешливое выражение сменилось крайним неуважением, подобрал вожжи, словно намереваясь налететь на город и отважно смести его с дороги, и, пренебрежительно ткнув через плечо рукоятью бича, когда мы проезжали мимо, указал на огромный, беспорядочно выстроенный дом с нелепыми окнами и прописными буквами на вывеске.
— Если ты думаешь, что тут мы получим свою порцию выпивки, так ты ошибаешься. Это по–ихнему называется «Отель Трезвости» — такое место, где из‑под прилавка продают питье еще тошнотворнее, чем та бурда, что подается у них открыто. Я вижу перст судьбы в том, что, когда попадешь к такую вот пыльную яму и, значит, испытываешь жажду, так натыкаешься на отель трезвости. Но ты не горюй! Вот увидишь, у тебя в чулане позади конторы найдется бутыль виски, припасенная молодцом, которого ты приехал сменить. Это был белый человек и знал, где можно достать спиртное.
Через несколько минут, покончив с моим недолгим водворением, мы действительно нашли бутыль в указанном месте. Юба Билл вытер рот тыльной стороной своей кожаной рукавицы и очень милостиво обратился ко мне с такой речью:
— Не хочется мне восстанавливать тебя против Ги- ли–ада, — местечко это названо по священному писанию, богобоязненное место, и сухо тут, такой славный городишко, где, говорят, бобы растут, и картофель, и прочая овощ. Только и трех недель не пройдет, как ты взвоешь и запросишься как миленький обратно на козлы рядом со мною, где ты привык сидеть, захочешь снова изведать опасность, рискуя получить заряд в спину от промышляющих на большой дороге. Уж поверь мне! Три недели сроку, сынок, ровно черев три недели тебе в сапоги набьется сенная труха, а в кудри солома, и ты в половодье готов будешь Северную протоку вброд перейти, лишь бы выбраться отсюда.
Он стащил кожаную рукавицу — редкая милость! — и с угрюмой нежностью, ласково и покровительственно пожал мне руку своей громадной лапой и ушел. Еще минута, и колеса его кареты с презрением стряхивали с себя белую гилиадскую пыль.
Чтобы ознакомиться с интересами здешнего общества, я взял экземпляр «Гилиадского стража», лежавший у меня на письменном столе, забыв о том, что провинциальная печать имеет обыкновение пренебрегать местными новостями в пользу длинных передовиц на темы международных событий и национальной политики. С досадой я увидел, что «Страж» избегал внутренних сообщений даже старательнее, чем другие газеты такого рода, и при этом весьма пространно разглагольствовал о «положении в Европе» и «Джефферсоновской демократии». Какая‑то пошлая самоуверенность, прописной догматизм, фамильярность тона даже в обращении от безличного «мы», то и дело попадавшиеся неточности и ошибки зацепили что‑то уже заглохшее в моей памяти. Я силился вспомнить, где и когда мне доводилось внимать подобной риторике, как вдруг отворилась дверь и вошел какой‑то человек. С удивлением я узнал в нем капитана Джима.
Я не видел его с тех пор, как он с таким негодованием покинул нас три года назад в ущелье Эврика. Обстоятельства его бегства ни у него, ни у меня, разумеется, не могли бы вызвать особой охоты возобновить старую дружбу; как бывший член золотоискательской компании «Эврика» я, правда, не питал к капитану Джиму враждебных чувств, но последнее событие воскресло в моей памяти со всей его неприглядностью. Однако, к моему удовольствию, он поздоровался с прежней своей сердечностью, при этом забавно дав мне понять, что прощает то, что было, с любезной снисходительностью и сознанием своей правоты. Однако во взгляде, брошенном на газету, которую я все еще держал в руке, и снова обращенном на меня, я заметил, казалось мне, его былое неспокойное собачье выражение. Он мало изменился внешне, разве что немного потолстел, стал солиднее и медлительнее в движениях. Если мне дозволено вернуться к моим собачьим сравнениям, я сказал бы, что некие пасторальные и сельские условия жизни видоизменили его породу, и теперь он походил больше на овчарку, в карих глазах которой отражалось постоянное беспокойство об овцах, отбившихся от стада, а возможно, только об одной овце — паршивой.
Он рассказал мне, что бросил горное дело и занялся фермерством на весьма широкую ногу. Дела его идут успешно. Он вложил капитал и в другие предприятия… «мельницу с кое–какими нововведениями… и… и…». Тут глаза его снова остановились на «Страже», и он вдруг спросил, что я думаю об этой газете. Что‑то удержало меня от подробного изложения моего критического взгляда, и я лишь коротко заметил, что нахожу ее, пожалуй, слишком высокопарной для этих мест.
— Вы метко выразились, — сказал он с радостным облегчением, — «высокопарной», вот именно. А что тут дурного? Не может же человек возвышенный писать, потрафляя вкусам всякой гавкающей собаки, как вы полагаете? Так он и говорит мне… — Он запнулся в смущении, затем поспешно добавил: — Это — одно из моих предприятий.
— Вот уж никак не подозревал, капитан Джим, что вы…
— О, сам‑то я не пишу, — прервал он меня. — Я только вкладываю деньги, занимаюсь объявлениями, ну, так сказать, хозяйствую; я за нее в ответе, и редактор по моему выбору… и, — продолжал он, посмотрев на меня тем же Неспокойным, тоскливым взглядом, — это ведь как‑никак немало, а?
Мне становилось неловко. Слог редакционных статей, пробудивший во мне смутное воспоминание, как‑то подозрительно связывался с присутствием здесь капитана Джима.
— А кто ваш редактор? — спросил я.
— Да в. от… один… э… Лейси Бассет, — ответил он, моргая глазами, тщетно стараясь говорить непринужденно. — Позвольте! Так оно и есть! Вы ведь знали Лейси, там, в Эврике? Начисто выскочило из головы. Да, сэр! — тут же почти грубо добавил он, словно для того, чтобы пресечь всякие критические замечания. — Редактор — он!
К моему удивлению, он весь побелел и дрожал от волнения. Мне было жаль его, а так как полузабытая выходка его приятеля задевала меня теперь лишь постольку, поскольку она отразилась на душевном состоянии самого капитана Джима, я еще раз дружески пожал ему руку и завел разговор о нашей жизни в ущелье, всячески избегая упоминаний о Лейси Бассете. Лицо его прояснилось, к нему вернулись былая простота и задушевность, но, к сожалению, вместе с прежней его привычкой ссылаться на Бассета.
— Да, славное было тогда житье, и я говорил Лейси не дальше как вчера, с таким привольем трудно тягаться цивилизации и газетам, даже самым возвышенным. Но прав и Лейси, — быстро добавил он, —когда говорит, что тут на «Страж» ополчаются всякие неучи из захудалых становьев, неспособные распознать джентльмена, человека ученого, настоящего знатока. Да! И я отвечаю Лейси: «Ты не тревожься, время свое возьмет, они образумятся и примирятся с нашим «Стражем», хотя бы мне пришлось просадить на него вдвое больше денег, чем я уже просадил».
Вскоре я узнал из других источников, что «Страж» не пользуется расположением интеллигентных читателей Гилиада и что в городке отнюдь не разделяют непомерно высокого мнения капитана Джима о его друге. Однако критическое к нему отношение принимало юмористический характер, даже в этом деловитом местечке, так что тщеславие, самомнение и невежество Лейси Бассета служили неисчерпаемым источником шуток для местных остряков, хотя у менее умудренных читателей они вызывали смутное раздражение, и лишь небольшое меньшинство тупо защищало газету за солидный вид и обилие в ней объявлений. Однако я с прискорбием обнаружил, что слава никудышного человека распространялась с Лейси Бассета и на капитана Джима и некоторые самые вопиющие несуразности в газете приписывались уже прямо ему. Но чего уж я никак не ожидал, так это что Лейси прямо или косвенно поддерживает в публике такое мнение.
Было это случайно или умышленно, только сам Лейси Бассет целый месяц не попадался мне на глаза. И вот в один жаркий полдень, когда зной и пыль загнали цвет мужского населения Гилиада в укромный полумрак заднего помещения «Отеля Трезвости» и даже очистили от зевак контору дилижансов, оставив меня наслаждаться одиночеством за спущенными шторами, дверь в мою комнату вдруг отворилась, и на пороге показался друг капитана Джима, словно частица того ослепительного сияния, от которого я так старательно отгородился. Надо отдать негодяю справедливость: с тех пор, как я видел его в последний раз, его манеры и костюм стали поскромнее, и, возможно, под благотворным воздействием издевок и револьверного дула с него отчасти сошли заносчивость и надменность. Судя по распространившемуся в комнате специфическому аромату и сильно возбужденному виду моего гостя, не вязавшемуся с явным отсутствием внутренней уверенности, я мог догадываться, что он подготовился к свиданию со мною, посетив предварительно таинственные источники «Отеля Трезвости».
— Мы с вами вроде не встречались с тех пор, как вы здесь, — сказал он с развязностью, впрочем, несколько нарочитой, — мы ведь с вами люди оба занятые и очень уж много суеты здесь, в Гилиаде. Капитан Джим говорил, что виделся с вами в день вашего приезда, сказал, что вам сразу же полюбился «Страж» и вы считаете его слишком хорошим для Гилиада. Это верно? Не то, чтобы он именно так выразился, но примерно таков был смысл. Потешный он человечек, этот капитан Джим!
Я заметил довольно резко, что считаю его человеком честным, прямодушным и весьма благородным.
— Все это превосходно, — снисходительно улыбаясь и размахивая тростью, отозвался Бассет, — но, будучи с ним в дружбе и зная его близко, не находите ли вы, что он набитый дурак?
Я не удержался и отпарировал, что для себя он, однако, не видит в этом препятствия.
— Вы так полагаете? —возразил он раздраженно, ухватившись только за прямой смысл моих слов. — Может, и не вы один, но тут вы ошибаетесь. Для меня невелика выгода. Капитану Джиму, может, и выгодно выставлять себя моим лучшим другом, по всякому поводу и без повода ссылаться на меня и козырять знакомством со мною и с моими друзьями, черт побери! А какая от этого польза мне, по–вашему? Возьмите хотя бы историю с ущельем Эврика. Разве не для того он послал за мною, чтобы хвастать перед вами, ребятами? Я, что ли, нуждался в компании «Эврика»? А для чего он заставил меня высказывать мнение насчет шахты, если не для того, чтобы показать, как я понимаю в науке и во всяких таких делах? И зачем он втиснул меня в компанию? Ради вас, думаете? Нет. Ради меня? Тоже нет. Он хотел держать меня там себе на пользу, чтобы поставить меня над вами и задирать перед вами нос. Только не в моем это обычае! В его, может быть. Может, это и честно, и прямодушно, и благородно, как вы изволили выразиться, может, он и справедливо поступил, когда велел мне пользоваться в поселке кредитом компании, а потом подвел меня, только не в моем это обычае. Это он, наверное, на меня нажаловался? Нет? Не жаловался? Так зачем он заставил меня удирать вместе с собой, проделал все это за моей спиной и испортил мне репутацию, ну? А я ведь ни слова не говорил об этом раньше, разве говорил? Не в моем это характере. Я бы и теперь смолчал, не скажи вы, что мне есть выгода от этого простофили. Многим я через него попользовался!
Как ни презренно, лживо и бесчестно было это откровение, однако вершина подлости заключалась в том, что его пороки оказывались как бы отражением слабостей его покровителя и каким‑то странным образом принижали капитана Джима не меньше, чем его друга Бассета. Наивное тщеславие и самовлюбленность Бассета могли сравниться лишь с наивным восторгом капитана Джима перед этими его качествами. А я по своей юношеской неопытности верил в справедливость общепринятой пословицы: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты» — и также в то, что человек некоторым образом ответствен за грехи своих друзей; и по той же человеческой слабости я склонен был скорее посмеяться, чем возмутиться предательством Бассета. Потеха, право, с этим капитаном Джимом, ха–ха!
— Вам‑то смешна его непроходимая глупость, а мне, черт побери, не до смеха!
— Однако он дал вам хорошее место в газете, — настаивал я, — это он, во всяком случае, сделал бескорыстно.
— Вы так полагаете? А по–моему, это величайший подвох. Когда он убедился, что в частной жизни с меня много не возьмешь, он выпихнул меня на люди, как своего редактора, человека, который занимается его газетой! А заодно и свое имя печатает — владелец газеты. Другой‑то возможности получить известность у него нет. А того не знает, что над ним весь город смеется!
— Может быть, смеются потому, что ему приписывают некоторые ваши статьи, — заметил я.
И опять этот прямой намек отскочил, не задев его самодовольства.
— Нет, такого не может быть, работаю я один, и слог у нас разный, — возразил он с наивной убежденностью. — И пишу‑то я самым возвышенным слогом, совсем, как в газете Сан–Франциско, в угоду ему, хотя, говоря между нами, это все равно что метать бисер перед свиньями… Публика переварит любую мою болтовню, было бы только забористо‑что–нибудь пикантное или затрагивающее личности. Мне что, я бы на это пошел, ведь я человек не заносчивый, сами знаете, да только этот простофиля, капитан Джим, уж больно гордится своей газетой, и я уверен, черт побери, боится, что если мы немного сбавим тон, подумают, писал он! Как бы не так! Да вы сами знаете, мне ничего не стоит сделать, чтобы сразу было видно, что писал я, а не какой‑нибудь пентюх.
Я сильно сомневался насчет изящества и остроумия писаний мистера Бассета, но несколько статеек, появившихся в следующем же номере «Стража», показали мне, что ему удалось убедить капитана Джима, — если только вообще его сопротивление не было плодом фантазии самого Бассета. Заметки на местные темы отличались пошлостью и бестактностью. Тяжеловесное остроумие в описании приема для избранных у Парсона Бак- стера и бесцеремонные комплименты дочери Бакстера Полли могли бы вызвать краску стыда на ее щечках, если бы не ее явное благоволение к этому лицемерному, бессовестному писаке. И все же его грубые шуточки показались мне естественнее и потому безобиднее немыслимо напыщенных передовиц с их мишурным блеском и дешевой эрудицией.
К сожалению, относительно их безобидности я ошибся. Однажды к вечеру, когда я возвращался из предместья, куда ходил по делам, я с изумлением увидел на главной улице толпу людей, глазевших на разбитые окна редакции «Стража» и раскиданный по земле типографский шрифт. Естественно, что мое внимание прежде всего привлекла отдельная кучка людей, собравшихся напротив, возле моей конторы, которые, впрочем, держались более робко и даже близко не подходили к двери. Я бросился к ним, раздались голоса: «Поберегитесь — он там!» — н. о все расступились и меня пропустили в контору. Я распахнул дверь и ступил на порог, вообразив, что там пожар или грабитель, но увидел всего только Юбу Билла, который спокойно, положив ноги на спинку соседнего стула, развалился в кресле, со стаканом виски «из моей бутылки в руке и огромной сигарой в зубах. На коленях у него лежал короткий дробовик, хорошо известный мне «козырный валет», во время поездок хранившийся всегда под козлами у его ног. Вид у Юбы Билла был спокойный, бесстрастный, хотя на штанах и рубахе виднелись брызги от типографской краски, и судя по умывальнику и полотенцу, он смывал такие же пятна и с рук. Отложив дробовик в сторону, Юба Билл, не вставая, горячо пожал мне руку и еще невозмутимее, чем обычно, спросил:
— Ну, каково тут у вас нынче в Гилиаде?
Я мог бы сказать, что нынче в Гилиаде весьма неспокойно, но я не успел еще прийти в себя и не мог выговорить ни слова. Юба Билл продолжал:
— Так как ты не являлся, я и подумал, уж не закис ли ты тут, не выдохся ли, и решил приехать, позабавиться малость и тебе доставить развлечение. Я только что разнес там напротив одну редакцию. «Страж» называется эта газета, да только от такого стража мало проку было тем молодцам, что там сидели. Впрочем, эту канитель и дракой не назовешь. Мне было скучновато.
— Но из‑за чего ты с ними сцепился? Что случилось, Билл? — спросил я с тревогой.
— И рассказывать‑то не о чем, — ответил Юба Билл раздумчиво. — Забрел я в ту лавочку и говорю: «Где тут хозяин фабрики литературы и прогресса?» Двое сопляков сидели на высоких табуретах и играли в какую‑то невинную игру — выуживали кусочки свинца по коробочкам из‑под пилюль, но как только они увидали меня, один залез под стол, а другой шмыгнул в заднюю дверь. Потом дверь снова отворилась, входит лохматый, похожий на койота тип и заявляет, что он ответственный за газету. Когда я разобрался, что это за зверюшка, и увидел, что при нем нет оружия, я положил свой «козырный валет» на пол и говорю: «Вы писали в вашем листке, что не мешало бы вколотить в меня немного вежливости, так не угодно ли? Можете приступать». Тут я ухватил его, и мы провальсировали разочка два или три вокруг комнаты, потом я посадил его на каминную доску, оттуда на стол и на эти самые коробочки, потом повозил его немного по полу, всю пыль подтер и как‑то недосмотрел: он у меня вылетел в окно прямо на тротуар. Досадно, что я не догадался открыть окно. Все обошлось бы тихо–мирно, и никто бы ничего не узнал. А так подвернулось ему это стекло, вот и вышли неприятности и нарушение тишины на улице.
— Но из‑за чего все произошло? — повторил я. — Чем он вам досадил?
— Про это можешь узнать из газеты, — ответил он, небрежно мотнув головой в сторону лежавшего на моем столе номера «Стража». — Может, ты ее не читаешь? И я не читаю. Но Джон Билсон говорит мне вчера: «Билл, они тебя подковырнули в «Страже». «Что такое?» — спрашиваю я. «А вот слушай», — говорит он и читает мне то, что ты сейчас там увидишь.
Я развернул газету, и Билл указал мне статейку.
— Тут оно. Славно, правда?
С удивлением я прочел такие строки.
«Если компания дилижансов «Пионер» желает идти в ногу со временем и не хочёт возвратиться к отжившим средствам передвижения — фургону с одной клячей, не мешало бы ввести кое–какие реформы на линии. Для начала хорошо бы избавиться от некоторых засидевшихся кучеров–пьянчужек, которые до того зазнались, что считают своей обязанностью только вожжи держать, и не удостаивают пассажира разговором, если он не из их любимчиков или не принадлежит к их шайке. Непомерные хвалы за какую‑нибудь случайную перестрелку с несколькими грабителями и лесть новичков, прибывших к нам с Востока, совсем вскружили им головы. Не худо бы выпустить на линию укротителя дураков с большой дубинкой, чтобы он вколотил немного вежливости в их башки, что особенно порадовало бы гили- адских пассажиров, отбывающих с дилижансом из Симпсон–Бара».
— Это мой дилижанс, — спокойно заметил Юба Билл, когда я дочитал до конца, — и разговор про меня.
— Но это невозможно, — возразил я с жаром. — Капитан Джим не мог написать таких оскорбительных слов.
— Капитан Джим, — повторил в раздумье Юба Билл. — Капитан Джим… верно, так звали человека, с которым я возился. Невысокий такой, волосатый парень, помесь крупного койота и старинного сундучка, обитого шкурой. Дрался он очень даже неплохо для видного гилиадца.
— Но вы поколотили не того, кого следует, Билл, — сказал я. — Подумайте хорошенько! Не поссорились ли вы с кем‑нибудь на этих днях? Не было ли у вас стычки с человеком, пишущим в газетах?
Я вдруг вспомнил, что Лейси Бассет совсем недавно возвратился из поездки в Стоктон.
Юба Билл в глубокой задумчивости уставился на свои сапоги, упиравшиеся в спинку стула.
— Встретилось мне на той неделе одно пестрое насекомое, не то шершень, не то песья муха, — начал он, — вползло ко мне на козлы и давай жужжать! Теперь припоминаю, он разливался насчет влияния печати и всякого такого. Может, я и цыкнул на него, когда он уж слишком разжужжался. Может, отмахнулся от него разочка два бичом. Должно быть, он и есть. Фу ты, черт! — воскликнул он вдруг, вскочил с места и потер лоб своей огромной ручищей. — Теперь‑то я знаю, ведь это тот молодец, что подлез под стол, когда начался у нас бой, и просидел там до самого конца. Да, сэр, он и есть. Лицо его показалось мне знакомым, но спесь‑то он сбавил, и я не признал его. — Юба Билл повернулся ко мне, такой обескураженный и озабоченный, каким я никогда прежде его не видел. — Да, сэр, это он. И я, Юба Билл, кинулся сюда за двадцать миль, приволок ружье… фу ты, черт! ружье… чтобы драться с этакой козявкой! — Он подошел к окну, вернулся, снова подошел, потом залпом допил виски и с унылым видом положил мне руку на плечо. — Послушай, старина, мы с тобой давнишние друзья. Не выдавай меня. Сделай милость, никому ни слова про то, что тут было! Говори, что я приперся вдрызг пьяный, хотел все разнести! Говори, не знал, что это редакция, думал — табачная лавочка и… и хозяин меня отдубасил! Ври, что хочешь, только не говори, что я. объявился с ружьем, чтоб разделаться с мухой, которая села на меня. Припрячь «козырный валет» у себя в чулане, пока я пришлю за ним. А если тут найдется другая дверь и ты можешь выпустить меня незаметно, буду очень даже тебе благодарен.
Это неблаговидное решение показалось мне самым разумным из всего, что мог сделать Юба Билл при столь угрожающем настроении улицы — если бы он подозревал об опасности, то встретил бы ее лицом к лицу, — и я немедля открыл дверь во двор, ворота которого выходили в глухой переулок. Мы пожали друг другу руки и расстались. Напоследок он снова удрученно воскликнул: «Этакая козявка!» Позднее я узнал, что капитан Джим отбыл на свое ранчо, находившееся в четырех милях от города. Он не очень пострадал, но, выражаясь словами человека, доставившего мне эти сведения, вид у него был такой, «будто ему помял бока резвившийся медведь». Так как в очередном номере «Стража» не было и намека на происшедший скандал, я не счел нужным разглашать истинные обстоятельства дела. А когда я пришел к капитану Джиму справиться о его здоровье по собственному почину, он так объяснил мне случившееся:
— Вы старый друг мне и Лейси, потому я не стану утаивать от вас, что нападение на меня и газету имело политическую подоплеку. Да, сэр! Тут действует мощная организация, добивающаяся избрания Голкинса в законодательное собрание, и этим людям не нравятся наши возвышенные передовицы насчет закулисных махинаций, вот они и наняли громилу, чтоб с нами разделаться. Лейси тотчас сообразил, в чем тут суть; вы же знаете, какой он проницательный.
— А Лейси был при этом? — спросил я как мог бесстрастно.
На лице капитана Джима появилось былое собачье выражение, он опасливо взглянул через плечо, потом быстро замигал и посмотрел на меня.
— Был, как же! Если бы не его мужество, его ловкость м сила, уж не знаю, что сталось бы со мною! Теперь‑то все утряслось. Мне предложили выгодно продать «Страж» в Симпсон–Бар, да и пора уже такого человека, как Лейси Бассет, освободить от этой никчемной работы. К тому же, между нами говоря, я придумал кое‑что более достойное его талантов.
III
Очень скоро стало известно, что помянутые капитаном Джимом «таланты» мистера Лейси Бассета были направлены на то, чтобы захватить место в законодательном собрании штата. Передовица в «Глашатае Симпсон- Бара» бесстыдно поддерживала его притязания на это место. У нас сначала подумали, что статья написана бойким пером самого Лейси, но стиль так явно обличал авторство полковника Старботтла, известного в округе политического «боевого коня», что тут же явилась и более веская догадка: просто «Страж» перекочевал в Симпсон–Бар и на условии, что Бассету будет оказана всяческая поддержка, слился с «Глашатаем». Во всяком случае, было ясно, что редакторские пальцы полковника подчинялись руке капитана Джима, и от его денег разбухли карманы этого доблестного политического лидера.
Однако Лейси Бассет не был избран и даже в кандидатах продержался очень недолго. Рассказывали, что, когда он в первый раз взошел на помост в Симпсон–Баре, голос из толпы спокойно произнес: «Слазь!» То был голос Юбы Билла. Последовало небольшое замешательство, во время которого Юба Билл прошептал несколько слов на ухо полковнику. После минутного колебания «боевой конь» вышел вперед и чрезвычайно высокопарно выразил сожаление о том, что Бассет снимает свою кандидатуру. Следующий номер «Глашатая» весьма недвусмысленно сообщил, что разоблачен низкий заговор, подготовленный бывшим владельцем «Стража» с целью подорвать престиж нашей славной компании дилижансов «Эксельсиор»; кандидат сам об этом узнал только что и, будучи человеком возвышенных взглядов, снял свое имя из списков. Публика тут же забыла о Лейси Бассете и без колебаний осудила капитана Джима.
В течение этого времени мне не пришлось наблюдать поведения Лейси Бассета в обществе, и я не интересовался успехом, которым подобный тип, несомненно, должен был пользоваться у чувствительного пола. Мне говорили, что он был обручен с Полли Бакстер, но они поссорились, потому что он увивался за другими, главным образом за некоей миссис Свини, расфуфыренной вдовушкой сомнительной репутации. Капитан Джим частенько намекал мне деликатно и с какой‑то почтительной гордостью на пылкое восхищение Полли его другом и почти так же благоговейно и таинственно давал мне понять, что брак вскоре состоится, и он, капитан Джим, намерен «устроить судьбу» молодой парочки. Но вследствие любовных уклонений Лейси такие намеки слышались все реже, и я заметил в капитане Джиме несвойственную ему молчаливость и растерянность, когда при нем затрагивался этот предмет. Было похоже, что он пытается как‑то загладить недостойное поведение своего друга собственным вниманием к Полли, — он часто провожал ее в церковь или на уроки пения. Мне живо помнится встреча с ними однажды под вечер в поле; он глядел ей в лицо с такой же тревожной, бесконечно собачьей преданностью, с какой до этих пор взирал на одного только Лейси. Не могу сказать, относилась ли Полли благосклонно к безмолвному тоскливому обожанию в его карих глазах; она показалась мне возбужденной, и щечки ее пылали, и, когда я проходил мимо них, меня вдруг осенило: да ведь капитан Джим любит ее! К моему удивлению, догадку эту подтвердил знакомый, с которым я столкнулся в пути; выразился он так: «Теперь, когда Бассет вышел из игры, похоже, что капитан Джим хочет наверстать потерянное время!» Неужели капитан Джим и прежде любил эту девушку? Сперва я не знал, радоваться мне за него или печалиться. Ведь кто бы ни был торжествующим соперником недостойного Бассета, капитан Джим или Полли, все равно капитану Джиму это было во благо. Но я уехал на месяц из Гилиада в Сан–Франциско по делам службы, и от него самого мне не довелось услышать каких‑либо признаний.
Однажды в дождливые сумерки, когда я поднимался по главной лестнице отеля в Сан–Франциско, мне вдруг отчетливо вспомнился Гилиад, потому что перед глазами у меня промелькнула в блеске драгоценностей ослепительная миссис Свини, а за ее спиной явно спрятался какой‑то господин, по–видимому, ее сопровождавший. Через несколько минут после того, как я вошел к себе в номер, ко мне постучали, я отворил дверь, и появился Лейси Бассет. Вид у него был взволнованный и немного смущенный. Однако он с напускной развязностью и непринужденностью сказал:
— Мы с вами как будто соседи. Моя комната рядом. — Он указал на дверь, которая соединяла мою комнату с соседней, но, впрочем, была наглухо заперта. До последнего времени никто эту комнату не занимал. Так как мое лицо не выразило особого восторга, когда я узнал о таком соседстве, Бассет быстро добавил: — Тут над дверью отдушина, и я подумал, следует вас предупредить, что из одной комнаты в другую все слышно.
Я поблагодарил его, сухо заметив, что для меня это не имеет значения, ибо мне нечего утаивать, а чужие секреты меня не интересуют. Его смущение, казалось, усилилось, и он нерешительно продолжал стоять возле двери; тогда я спросил, не приехал ли вместе с ним капитан Джим.
— Нет, — ответил он сразу. — Я не видал его месяц и не желаю видеть. Послушайте, я хотел бы с вами немного потолковать о нем. —Он вошел в комнату и плотно закрыл дверь. — Я считаю нужным сказать вам, что между мной и капитаном Джимом все кончено! Конец этой вечной слежке за мною и вмешательству в мои дела! Мне это надоело! Можете ему это сказать от моего имени.
— Вы что, поссорились?
— Окончательно. Если можно поссориться с набитым дураком, не способным понимать намеков.
— Позвольте, вы поссорились из‑за Полли Бакстер?
— Вот именно, — ответил он с раздражением. — Так и есть. Ему‑то зачем вмешиваться?
— Послушайте, мистер Бассет, — прервал я. — Меня не касаются ваши отношения с капитаном Джимом, но уж раз вы втянули меня в разговор, позвольте высказаться начистоту. Насколько мне известно, у вас нет серьезных намерений жениться на Полли Бакстер. Вы уехали из Гилиада, следуя за миссис Свини, — я видел вас с нею несколько минут назад. Так почему бы вам честно не уступить мисс Бакстер капитану Джиму, который был бы ей хорошим мужем, и устраивать свои дела с миссис Свини? Если вы действительно желаете порвать с капитаном Джимом, то сделать это вы должны только так.
Жалкое, виноватое выражение, появившееся на его лице при упоминании миссис Свини, сменилось к концу моей речи величайшим недоумением.
— Что за чепуху вы городите? — произнес он наконец грубо.
— Я хочу сказать, — резко возразил я, — что вы ведете бесчестную двойную игру. Поскольку вы связаны с миссис Свини, вы должны немедленно отказаться от всяких посягательств на мисс Бакстер. Если вы не уважаете дружеских чувств капитана Джима, то обязаны по крайней мере щадить самолюбие девушки.
Он облегченно засмеялся каким‑то истерическим смехом.
— Вы что, рехнулись? — проговорил он. — Ведь капитан Джим гоняется за мною, требуя, чтобы я женился на Полли. Из‑за этого‑то и вся кутерьма. Потому он и вмешивается… только для того, чтобы осуществить свою идиотскую выдумку и женить меня; чтобы потом хвастать, что это он устроил свадьбу. Он хочет окрутить меня с этой девицей Бакстер, а не сам жениться на ней. Такой уж он эгоист проклятый.
Видно, я ничем не отличаюсь от прочих обыкновенных смертных, ибо, услышав это, я почувствовал к капитану Джиму не меньшее презрение, чем к стоявшему передо мною человеку. Повторив свои слова, что не желаю больше вникать в причины их размолвок, я выпроводил его самым решительным образом. Спустя несколько минут, когда я понял, сколь смехотворна эта драма, я немного успокоился, однако уважения ни к одному из действующих лиц у меня не прибавилось. История приняла пошлый оборот, показалась мне просто забавной, я даже с удовольствием предвкушал встречу с капитаном Джимом и его собственное объяснение— я знал, что без этого не обойдется. Но предвкушения мои были напрасны.
Как‑то под вечер, наблюдая в читальне за потоками дождя, под напором сильного юго–западного ветра заливавшими окна, я увидел насквозь промокшую фигуру, в нерешительности топтавшуюся у входа в отель. Человек этот, крадучись, проскальзывал в подъезд, входил в вестибюль, но тут же робко отступал назад; его движения напоминали повадки какого‑то пугливого зверька, и мне вдруг представился капитан Джим в тот па[мят- ный вечер, когда он бежал из ущелья Эврика. Незнакомец случайно повернулся лицом к окну, у которого я стоял, и, к своему удивлению, я увидел, что это и был капитан Джим, но настолько изменившийся, такой осунувшийся, что его с трудом можно было узнать. Я мигом выбежал в коридор, оттуда в вестибюль и к подъезду, но его уже не было. Возможно, он заметил меня и не хотел встречаться, а может быть, нашел того, кого искал, — Лейси Бассета, разумеется. Я был так потрясен и опечален видом и поведением капитана Джима, что, преодолев свое нежелание сталкиваться с Бассетом, стал искать его в зале и коридорах отеля в надежде найти в его обществе капитана Джима. Но тщетно: вероятно, он успел скрыться от своего непреклонного друга.
К ночи дождь и ветер усилились, разыгралась буря, канавы превратились в потоки, улицы обезлюдели, я рано лег спать, и все мне мерещилось осунувшееся, обеспокоенное лицо капитана Джима. Даже во сне он преследовал меня, похожий на озабоченную, настороженную собаку, которая, когда я пытался дружески погладить ее, злобно рычала на меня, обернувшись вдруг остервенелым, бешеным зверем. В конце концов меня разбудил звук его голоса. Сначала я думал, что все еще сплю. Но нет, я лежал с открытыми глазами, а голос доносился из соседней комнаты, через отдушину над дверью, отчетливо и ясно.
— Я сыт по горло, — говорил капитан Джим, — и сегодняшняя ночь — тебе последняя моя отсрочка. Уезжай из отеля, бросай эту женщину, воротись в Гилиад и женись на Полли. А не поедешь, так я убью тебя; это верно, как то, что ты сидишь тут на стуле и выпучил на меня глаза. Если ты не будешь драться со мною как мужчина, — а я плюну тебе в лицо или как‑нибудь еще опозорю тебя перед этой женщиной, перед всеми, последний трус не стерпит такого, — но если ты не выйдешь против меня, так я подстерегу тебя и застрелю.
Его прервал раздраженный шепот Лейси, но я не мог разобрать, нападал ли он или оправдывался. И снова раздался голос капитана Джима, суровый и четкий:
— Если ты убьешь меня, так это все равно, может, я даже буду доволен. Нам вдвоем тесно на этом свете, Лейси Бассет. Я верил в тебя, полагался на тебя, ради тебя врал и за тебя дрался. С того дня, как я встретил тебя, когда мы оба ехали в Сан–Франциско, и поверил, что ты станешь человеком, и до сей поры ты делал из меня посмешище, выставляя дураком перед ребятами в Эврике, в Гилиаде, выставляя дураком перед нею, перед самим богом! А теперь довольно. Тебе придется снять с меня клеймо олуха! Ты сделаешь то, что достойно человека, каким я тебя воображал, или ты умрешь. Было время, когда я хотел этого ради твоего блага, но то время миновало, Лейси Бассет! Теперь ты это сделаешь для меня. Ты обязан сделать, чтобы я больше не читал слов «отпетый дурак» в глазах у всякого, кто на меня взглянет.
Он. по–видимому, встал и отошел к двери. Голос его доносился из другого конца комнаты.
— Даю тебе срок до утра. Если ты не снимешь с меня этого клейма, клянусь богом, я при всех дам тебе пощечину в столовой или же в конторе! Понял?
Стало очень тихо, потом раздался резкий, короткий звук выстрела, от которого, казалось, раздвинулись стены между нашими комнатами и окна сорвались с места, нечленораздельно вскрикнул Лейси, с размаху отворилась дверь, послышались взволнованные голоса, топот ног в коридоре. Я вскочил с постели и полуодетый бросился в переднюю. У входа в соседний номер толпились постояльцы и слуги, кто‑то вцепился в Бассета, дрожащего, белого, как мел, другие стояли на коленях вокруг капитана Джима, полулежавшего у стены на пороге.
— Он все слышал, — истерически выговорил Бассет, указывая на меня. — Он подтвердит, что этот человек хотел меня убить.
Прежде чем я успел сказать что‑нибудь, капитан Джим судорожным усилием приподнялся. Вытирая кровь, сочившуюся с губ, — признак того, что рана его была смертельна, — он произнес хриплым, торопливым голосом:
— Так и есть, ребята! Моя вина. Я во всем виноват. Напал на него тут исподтишка, на безоружного. Мы схватились. Он вырвал у меня пистолет—это мой пистолет, клянусь вам, — и выстрелил, обороняясь. И поделом мне! Клянусь перед господом, что так оно и было, джентльмены.
Заметив меня, капитан Джим посмотрел мне в лицо не то с мольбой, не то с торжеством и добавил: — А чего еще можно было ожидать! Лейси Бассет всегда был смельчаком… именно смельчаком! Это мое последнее слово, джентльмены, — молодчина он!
С этой самоотверженной ложью на устах и с былой собачьей преданностью в слабеющем сердце, он, падая на пол, повернул голову в сторону Бассета, как будто хотел улечься у его ног. Свет погас в его обращенном кверху взоре, и клеймо глупости было смыто с него навсегда.
Факты были настолько убедительны, что, когда окончилось следствие, мистера Бассета не сочли нужным ни на минуту задерживать. Он вскоре вернулся в Ги- лиад, женился на Полли Бакстер, а в следующем году, возможно, потому, что «сразил противника», одержал на выборах полную победу и был торжественно избран в законодательное собрание!
ДЕДЛОУСКОЕ НАСЛЕДСТВО
I
Простившись с Дедлоуским болотом, солнце уходило за горизонт. Волны отлива устремились вслед, словно силясь догнать багряную полосу на западе, а на оставленной ими с каждым мгновением все гуще черневшей авансцене блеснули вдруг два–три озерца, полуозаренные, полузаполненные водой, брошенные, позабытые. Резкое дыхание Тихого океана колебало их гладь и порою раздувало в ней тусклый пламень, как в гаснущих угольях. Кулики поднялись белой стаей с одной из ближних лагун, вытянутым взвихренным овалом пронеслись на фоне заката и пролились в море черным дождем. Долгая извилистая полоса протоки — угасающая вместе со светом и убывающая с отливом — стала вдруг испускать серокрылых птиц, словно дымки или внезапные испарения. Высоко в темнеющем небе пролетели к нагорью выстроенные клином гуси и черные казарки. Сгущающиеся сумерки были заполнены трепетом невидимых унылых крыл, отдаленными воплями и жалобами. А когда Болото совсем почернело, редкие султаны болотных трав и кочки на ровной низине приняли фантастически преувеличенные размеры и две человеческие фигуры, вдруг поднявшиёся в рост над краем невидимой протоки, показались сущими исполинами.
Уже после того, как они пришвартовали свое невидимое суденышко, некоторое время казалось, что они нерешительно и бесцельно бродят возле того места, где причалили. Потом стало видно, что они продвигаются в глубь берега, но медленно и странным зигзагом, которого отдаленному зрителю было никак не понять. Впрочем, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что казавшееся ровным огромное темное пространство было иссечено во всех направлениях крохотными протоками и чернильно–черными заводями, которые делали путь трудным и опасным. Когда двое подошли поближе и фигуры их приобрели более реальные очертания, обнаружилось, что у обоих ружья и что впереди идет юная девушка, хоть и одетая почти по–мужски, так что ее нелегко было по виду отличить от ее спутника; на ней был матросский бушлат и зюйдвестка, короткая юбка лишь до половины закрывала высокие резиновые рыбацкие сапоги. Когда, выбравшись на более твердую почву, юноша и девушка обернулись, чтобы поглядеть на закат, стало видно и то, что они необыкновенно схожи. Волосы у обоих были черные, жесткие, в крутых завитках. У обоих были темные глаза и густые брови. У обоих ярко–румяные щеки, сейчас разгоревшиеся от ветра и морской прогулки. Но еще более, чем эта схожесть в цвете щек, волос, глаз, поражало одинаковое выражение лиц и одинаковая осанка. В обоих была живописно выраженная сила, оба держались независимо, с непринужденной дерзостью.
Юноша двинулся дальше. Девушка задержалась на миг, глядя в море и прикрыв от света глаза загорелой ручкой — предосторожность излишняя: у нее были густые брови и длинные ресницы.
— Пошли, Мэг. Чего ты там ждешь? — нетерпеливо сказал юноша.
— Ничего не жду. Гляжу на лодку из Форта. — Она смотрела на шлюпку в самом устье протоки, которой никогда не приметил бы менее зоркий глаз. — Славная у них будет охота; лодка застряла в песке, а вода ушла с отливом.
— Не жалей солдат, — зло отозвался ее спутник. — Они сами о себе позаботятся. А случится беда —- дядя Сэм прибежит на выручку. Будь спокойна, Мэг, уж так положено, что народ — ты да я — должен платить за их дурость. Для того их сюда и прислали. Так что радуйся, — добавил он с горечью и насмешкой.
— Их готовят для суши, а к воде они не приучены, — ответила юная девушка, словно желая соблюсти справедливость.
— Тогда пусть не ездят на охоту, пусть берегут казенный порох для индейцев, а про уток забудут.
— Верно, — задумчиво сказала девушка. — Хотела бы я знать, полковничьи дочки тоже покупают свои платья на казенный счет, когда франтят в Логпорте? В воскресенье они вырядились, словно циркачки.
— Уж будь спокойна, старый полковник наживается на контрактах. Мы оплачиваем все его расходы, — добавил он сумрачно.
— Значит, выходит, что их платья — мои, — сказала девушка с коротким гневным смешком. — Так или нет? А если я напрямик скажу им про это, когда они снова выйдут пофрантить? Что они ответят мне, а, Джим?
Как видно, ее спутник был не подготовлен к подобным, по–женски стремительным вопросам и пресек их решительно, на мужской манер:
— Поменьше думай о том, во что наряжаются девушки из Форта, и быстрее шагай. Уже поздно.
— Проклятые сапоги натерли мне ноги, — сказала девушка, ковыляя за ним. — Пока я шла вброд, вода набралась за голенища и теперь плещется, как в маслобойке.
— Держись за меня, крошка, — сказал он, обняв ее за талию и склоняя ее головку к своему плечу. — Вот так!
Помощь была предложена по–братски, чуть небрежно, но тотчас восстановила их родственное согласие.
Так они брели некоторое время в молчании; девушка, по всегдашнему обычаю слабого пола, охотно принимала сентиментальную и ласковую помощь брата. Они огибали сейчас Болото, идя параллельно быстро гаснущей линии горизонта, по тропе, приметной лишь их острому юному взору. Тьма сгущалась, не стало слышно морских птиц, плач запоздалого зуйка замер где‑то вдали; молчание смерти воцарилось над черным саваном Болота. Отлив окончился со светом дня. В этот мертвый час между отливом и приливом даже неугомонный морской ветер стихал вместе со всей природой и ждал теперь за отмелью позволения явиться вновь — со звездами сумрака и водами океана.
Вдруг девушка остановилась и придержала своего спутника. Дальний негромкий зов трубы нарушил тишину; если только можно назвать зовом два–три трепещущих звука, рожденные, казалось, самой тишиной и поглощенные ею вновь. То была вечерняя зоря, сигнал «тушить огни», долетевший из Форта в двух милях от них, скрытого сейчас во тьме.
Лицо молодой девушки просияло; она внимала игре рожка, чуть приоткрыв свой маленький ротик.
— Знаешь, Джим, — сказала она доверительно, — я положила на слова этот сигнал. Он такой красивый. Слушай, как я пою: «Ночь и тень — Гонят день — Он уйдет — Пропадет — Вдаль уйдет — Вдаль уйдет — Вдаль уйдет — Словно пе–е-есня!»
Она громко запела таким чарующим сильным мальчишеским контральто и так точно вторя напеву трубы, что ее брат, как это случается и с более искушенными меломанами, на миг поддался иллюзии, что ее слова имеют какой‑то смысл. Тем не менее по долгу старшего он подавил эту непростительную слабость.
— А я так пою: «Полно врать — Время спать!» — сказал он сурово. — Если ты будешь стоять на месте, мы останемся без ужина. Желтый Боб давно ушел с дичью вперед.
Девушка взглянула на сгорбленную под тяжестью ноши фигуру, маячившую впереди, потом вдруг выпрямилась и обратила внимательный взор в сторону Болота.
— Что, опять солдаты? — нетерпеливо спросил брат.
— Нет, — быстро возразила девушка. — Но я ничего не понимаю. Бьюсь об заклад, что Желтый Боб шел позади. Когда играли «тушить огни», я его видела вой там.
С недоумением она указала пальцем через плечо назад.
— Когда ты сочиняешь песни, Мэг, в голове у тебя немножко путается. Желтый Боб идет впереди; и пора бы тебе уже знать, что индеец всегда окажется там, где ты меньше всего его ждешь. А вот и «кусты». Пошли!
«Кусты» на самом деле были чахлым ивняком и ольшаником, который здесь словно ушел в землю; но чем Далее от берега, тем деревья становились выше, образуя под конец лесную чащу. С главной протоки «кусты» казались зеленым выступом или мысом, обращенным острием к Болоту. Безошибочно находя верный путь сквозь переплетение кустарника, брат и сестра выбрались снова к равнине, казавшейся бескрайней, как сам залив. Могучее дыхание океана, который лежал за отмелью и устьем реки, было соленым и влажным, словно брызги прилива. Видимая часть водного пространства отражала последний отблеск вечерней зари и освещала открывшийся пейзаж. А навстречу путникам, закрывая от них горизонт, сумрачно и пугающе вставали причудливые очертания их дома.
На первый взгляд могло показаться, что перед вами огромная полуразрушенная колоннада, ушедшая основанием в землю и несущая один лишь антаблемент и карнизы в виде вытянутого параллелограмма. Но, приглядевшись, вы различали одноэтажное здание, вознесенное над Дедлоуским болотом на множестве врытых через правильные промежутки свай; некоторые из свай перекосились или вовсе потонули, что и служило поводом для первого обманчивого впечатления. В просветы между свай, где свободно гулял ветер, а в особенно сильный прилив — и морская волна, можно было разглядеть пустынную болотную гладь, бухту, прибой за отмелью и далее — красную полосу на горизонте. Прямо с Болота, по лестнице, вы взбирались на огражденную перилами платформу или галерею, тоже на сваях, шедшую вокруг всего дома; с галереи открывался вход в комнаты и другие внутренние помещения.
Но если внешность этого земноводного, свайного обиталища не была лишена некоторого грубого тяжеловесного величия, то окрестность его, через которую брат и сестра сейчас пролагали себе путь, должна была показаться каждому еще более фантастической и небывалой. На пространстве шести или более акров были собраны и даже сложены в определенном порядке обломки морских крушений и иной плавучий мусор, вынесенный волнами прилива за годы и годы. Почернелые стволы вырванных с корнем деревьев, трудно отличимые от доподлинных корабельных обломков, были надежно прикованы к столбам и кольям, врытым в болотную землю, а закрепленные пеньковыми канатами горы поломанных, разлезающихся на части бамбуковых корзин, в каких возят апельсины, блестели, словно груды выбеленных костей в долине смерти. Мачты, реи, инкрустированные раковинами днища шлюпок, нактоузы, и даже цельная кормовая палуба какой‑то каботажной шхуны закончили свои странствия и нашли последний покой на этом гигантском морском кладбище. Надпись на рулевой рубке, доска корабельной обшивки с именем судна служили здесь эпитафией погибшим. Их оплакивали пассатные ветры, над ними стенали морские птицы, и раз в году море посещало своих мертвецов и орошало их слезами.
И дом и окрестность были овеяны преданием и тайной. Шесть лет назад Бун Кульпеппер построил этот дом и привез сюда свою жену; о ней болтали, что она цыганка, или мексиканка, или светлая мулатка, или индианка из племени диггеров, или таитянская принцесса из Южных морей, или просто чья‑то выкраденная чужая жена; на самом деле то была миниатюрная креолочка из Нью–Орлеана, брак с которой вместе с другими неосмотрительными поступками и карточными долгами был печальным итогом той зимы, что Кульпеппер прогулял, бежавши из родительского дома в Виргинии. Через два года после приезда она умерла — от вечной сырости, как полагали одни, или же, как считали другие, из‑за мизантропических чудачеств супруга, и оставила шестнадцатилетнего сына и двенадцатилетнюю дочь ему в утешение. Однако даже из самого краткого перечня странностей мистера Кульпеппера будет видно, что его нелегко было утешить. Странности эти проистекали из его чрезвычайной мизантропии, сопряженной с манией величия Приехавши в Логпорт, он откупил у правительства часть никудышного Дедлоуского болота, уплатив менее доллара за акр, и потом год за годом расширял это странное имение, пока не стал наконец суверенным владетелем трех лиг земноводного царства. К тому времени выяснилось, что он прихватил и все побережье, изобилующее удобнейшими местами для лесопилок, для коммерческих гаваней в бухте и естественными пристанями для окрестных поселков, промышлявших заготовкой леса.
Бун Кульпеппер отказался продать свою землю. Бун Кульпеппер не сдал ее ни внаем, ни в аренду. Бун Куль- пеппер преградил все пути своим соседям, а заодно прогрессу и усовершенствованиям, которые он глубоко презирал; лишь изредка, на королевский манер, он разрешал временное пользование своей собственностью, с правом прогнать пришельца, когда ему заблагорассудится, и взимал за то денежные сборы, которые совокупно с дичью, настрелянной в болоте, полностью обеспечивали его домашние нужды. Под конец правительство, которое само сделало его всевластным, нашло необходимым изъять за справедливую цену часть его собственности для постройки Редвудского форта и прилегающего городка Логпорта. Бун Кульпеппер не препятствовал действиям правительства, но он не взял предложенных ему денег и не отступился от своих прав на землю. В нечастых разговорах с соседями он называл городок своим и показывал его детям, как часть их будущего наследства; поднятый над Фортом звездный флаг с детских лет был в их юных глазах оскорбительным вызовом их семье. Ненавидимый всеми, колдун для одних, безумец, по мнению других, широко известный округе под именем Дедлоуского Зимородка, Бун Кульпеппер был найден раз поутру мертвым в своем челноке с полным зарядом дроби в пробитом черепе. Дробовик, лежавший на дне челнока, у самых его ног, свидетельствовал о несчастном случае; так и признал следственный суд, но не признал народ. Иные считали, что он убит, другие — что он покончил с собой, но все сошлись на одном: «Туда ему и дорога!» Столь непреоборимым было это чувство, что мало кто прибыл на погребальную церемонию, которая состоялась во время прилива. Из‑за опоздания священника отлив был упущен, скромный катафалк — собственный ялик покойного — застрял в болоте; сопровождавшие покинули его; остались лишь сын и дочь. Никто никогда не узнал, что внушал своим детям покойный словом и личным примером, пока оставался жив; никто не узнал и того, что пережили они в ту ночь вдвоем у гроба отца в черном болоте; достоверно лишь одно, что все, кто ждал перемен в управлении Дедлоуским болотом, жестоко просчитались. Старый Зимородок был мертв, но он оставил в гнезде двух юных птенцов, красивых и грациозных, однако не уступавших ему ни в силе клюва, ни в ярости крыл.
II
Подойдя к дому, молодые люди поднялись по деревянной лестнице, до странности походившей на корабельный трап, и попали на галерею — или «палубу», как она у них называлась, — где на перилах были развешаны буйки, поплавки и сети, усугублявшие сходство дома с кораблем. Эта сторона дома была, как видно, отведена под кухню, столовую и другие хозяйственные помещения; в глубине была главная комната, гостиная или холл, к которой примыкали две спальни, выходившие на противоположную сторону дома. Эта гостиная с пересекающимися тяжелыми бимсами на потолке была вместительна, отстроена, как и весь дом, с корабельной добротностью и могла бы легко сойти за кают–компанию. Огромная, размерами с добрый камин железная печь без дверцы, установленная меж окон, пылала вовсю, освещала и согревала комнату и бросала трепещущий отблеск на обшитые досками стены, увешанные трофеями лесной и морской охоты и сверкающим оружием. Охотничьи ружья всех систем, от долгоствольного дробовика на вертлюге, который берут, охотясь с лодки, до легкой одностволки, называемой также карабином, стояли в козлах у самой стены; над ними висели на крюках ягдташи, револьверы в кобуре, ножи на зверя и на рыбу, каждый в особых ножнах. В одном углу стоял гарпун, в другом две или три индейские остроги на семгу. Деревянный пол, грубо сбитые стулья и лари были устланы мехом бобра, норки, выдры и ценного котика; лосиные и медвежьи шкуры выделялись своими размерами. Украшением в комнате служили распластанные и прибитые гвоздями по стенам крылья и грудки шилохвостки и кряквы, бекаса, большого баклана, чайки, глупыша и женственно–нежное полутраурное одеяние зуйка и буревестника. Море, впрочем, главенствовало над всем; даже сквозь заволокший сейчас потолок пряно пахучий дым от горевшего плавника прорывалось его крепко просоленное дыхание.
Индианка цвета вяленой семги, с глазами, как бусины; ее дочь с такими же бусинами–глазами и с лицом, точно вылепленным из одной широкой улыбки; Желтый Боб, индеец–диггер, получивший свое прозвище из‑за охряной татуировки на скулах; и Уошо, бывший вождь индейского племени, — укутанная в одеяло неописуемая личность, больше всего походившая на дешевую грязную куклу с худо прилаженными к деревянной голове вычерненными волосами, — таков был домашний штат Кульпепперов. Пока индианки собирали ужин в столовой, Желтый Боб, разгруженный от дичи, вдруг появился на галерее и подал через окно своему хозяину какой‑то таинственный знак. Джемс Кульпеппер вышел, тотчас вернулся, помедлил с минуту, поглядывая на сестру, которая, как была в куртке и лишь сдвинув зюйдвестку на затылок, сидела перед огнем на стуле спиной к нему; потом потихоньку вынул ружье из козел и, кинув небрежно, что скоро вернется, исчез.
Оставшись одна, Мэгги сняла сапоги, стянула чулки и с наслаждением вытянула к огню прехорошенькие ножки, нежно–белые, но сейчас, после длительного купания в согретой морской воде, как бы слегка подсиненные. Белизна ее ног забавно контрастировала с синей шерстяной юбкой и с загорелыми руками, и девушка, заглядевшись, просидела несколько минут, подобрав юбку, упершись локтями в колени и с видимым удовольствием шевеля пальцами ног. Огонь освещал ее румяные щеки; локоны, черные как смоль, почти соприкасались с густыми бровями, оставляя открытой лишь узкую белую полоску на лбу; чуть приподнятая верхняя губа и маленький подбородок, округлый, но волевой, завершали пикантный и удивительный облик юной девушки. Густые коричневые тени на потолке и закопченных стенах, птичьи перья, внезапно выхватываемые пламенем из тьмы, подобные неким геральдическим изображениям, и переблеск стальных стволов — таков был фантастический фон этого чарующего портрета. Сидя сейчас перед огнем и раздумывая о чем‑то запомнившемся ей из путешествия по Болоту, она запела полюбившуюся ей мелодию трубы, сперва потихоньку, а потом полным голосом.
Вдруг она смолкла.
Сомнения не было, кто‑то тихо стучался в заднюю дверь. Стук был отчетливым, но осторожным, словно предназначался для нее одной. С минуту она помешкала, выпрямившись во весь рост, стоя босыми, сияющими белизной ногами на выдровой шкуре, заменявшей ковер. В комнате были две двери: одна, через которую ушел ее брат, выходила на лестницу, другая, глядевшая в сторону нагорья, вела на заднюю галерею. Не колеблясь ни секунды, она схватила ружье и бросилась к задней двери; но раньше чем она добежала, послышался скрип перил на галерее, дверь слегка приоткрылась, и показалась рука в голубом рукаве форменной армейской шинели. Девушка навалилась на дверь всем телом, не впуская незваного гостя.
— Каплю виски, мисс, ради господа бога!
Она отпустила дверь, взвела курок и сделала шаг назад. За синим рукавом последовала вся шинель, а за ней и синее кепи с пехотной кокардой и с буквой «Г» на козырьке. Шинель и кепи сильнее бросались в глаза, чем сам солдат, перемазанный, почти черный от болотного ила. Но заляпанная физиономия, сколько можно было разобрать сквозь маску грязи, скорее смешила, чем пугала. В ней соседствовали слабость и дерзость, робость и нахальство. Маленькие голубые глаза не были злыми, и даже вторгшаяся рука дрожала скорей от бессилия, чем от ярости.
— Одну только капельку, мисс, — повторил он жалобно, — и, если уж будет на то ваша милость, поскорее. Не то я подохну от холода.
Она всматривалась в него, не опуская ружья.
— Откуда ты ?
— Если уж говорить всю правду, мисс, — сказал он громким шепотом, — я дезертир.
— Так это ты шел за нами по Болоту?
— Я спасался от сержанта, мисс.
Взгляд ее чуть смягчился.
— Выйди вон! Шаг в комнату — и я пристрелю тебя на месте!
Он отступил на галерею. Захлопнув дверь, она заперла ее на засов, потом, не выпуская ружья из рук, подошла к буфету, налила стакан виски, вернулась, отперла дверь и протянула ему стакан.
Она глядела, как он с жадностью пил; увидела, как алкоголь вселил силу в его иззябшее тело и дрожащие руки, зажег огонь в потускневшем взоре; и не спеша она снова взяла его на мушку.
— Да опустите вы ружье, мисс, опустите его! Что толку в ружье? Клянусь, ваши глазки стреляют сильнее!
Если вы не опустите глаз, бог свидетель, я простою здесь всю ночь напролет, пока не придет сержант и не арестует меня. Да поглядите вы на нее, люди добрые! Чистый Янус, богиня войны! И стоит, словно статуя, ишь, как выставила мраморную ножку.
Уверенная в себе, скромная и гордая, она не испытывала и тени смущения от того, что стояла с голыми ногами перед этим мужланом и попрошайкой; стояла спокойно, словно королева или богиня войны, с которой он только что сравнил ее. Ни взгляд его, ни комплименты не достигали цели. И злосчастный бродяга вынужден был признать себя побитым; природная дерзость его отступила перед благоговейным чувством; он поднес перемазанную руку к кепи, отдал девушке честь и остался стоять навытяжку.
-— Так вот, значит, за кем охотились солдаты? — задумчиво спросила она, опуская ружье.
— Так точно, мисс, искали меня, а я лежал ничком в канаве, отпечатывал в грязи свою личность — это вам и сейчас, я думаю, видно, — а сержант с патрулем знай рыщет вокруг. Вот тогда и пробрал меня смертный холод, и я понял, что без виски совсем пропаду.
— А почему ты решил дезертировать?
— Послушайте ее, добрые люди! Почему я решил дезертировать?! Да если бы пришлось воевать с врагом, я дрался бы в первых рядах! Но эти письма от моей старой матушки, мисс!.. Старушка смертельно больна, она в графстве Клер, в Ирландии, пошли ей господь долгую жизнь! А уж сестры мои на Девятой авеню в Нью–Йорке, они выплакали себе глаза, раздумывая, каково мне здесь в Четвертом пехотном… в дикой пустыне, среди язычников. Если бы я был в кавалерийском полку — мой отец был драгуном, мисс! — я бы и горюшка не видел. Ноги в стремена — и скакал бы сейчас на параде, мисс, а не скитался бы по болоту, изнывая от холода, голода и жажды, весь в грязи и в иле, не стоял бы таким перед юной леди, которой нужно бы родиться дочерью фельдмаршала — помолчу лучше о дочках полковника Престона, которые не годятся ей и в служанки.
Выросшая на границе испанских поселений, Мэгги Кульпеппер, наверно, была одной из немногих американских девушек, не встречавшихся в своей жизни с ирландцем. Вспыхнувшая на мгновение улыбка, редкая гостья на капризных губах, казалось, подтверждала хвалы незнакомца. Но улыбка так же быстро ушла, и девушка сухо сказала:
— Значит, ты хочешь выпить, поесть и переодеться. А что, если вернется мой брат и захватит тебя здесь?
— Верное слово, мисс, он ищет меня сейчас у лагуны с двумя язычниками–индейцами. Тот желтый индеец и почуял меня, когда я валялся в канаве. Но только ваши светлые глазки, мисс, — пусть сияют они тысячу лет! — усмотрели, как я прокрался за ним и сбил его с толку.
С минуту девушка, раздумывая, молчала.
— Мы не дружим с Фортом, — сказала она наконец, — но это не повод, чтобы мой брат стал нянчиться с тобой. Обожди меня здесь. Если я запою, значит, он вернулся; тогда беги с тем, что получил, и радуйся, что остался цел.
Она захлопнула дверь, заперла ее, прошла в столовую, вернулась с завернутой в бумагу едой, сняла со стены оплетённую флягу, потом пошла в спальню брата, взяла там фланелевую рубашку, рабочий комбинезон и грубошерстное индейское одеяло и, открыв снова дверь, положила все это перед изумленным и восхищенным бродягой. Глаза у него заблестели, и он уже завел было: «Слава господу богу!» — но на сей раз дар шутовства изменил ему. Победившее искреннее чувство выразилось в молчании более красноречивом, чем его слова. Торопливо вытер он рубахой перемазанное лицо и глаза и, ухватив грязными пальцами рукав ее куртки, поднес его к губам.
— Иди! — властно сказала она. — Уходи, или будет поздно.
— Хоть режьте меня!.. Языка лишился! — пробормотал он, исчезая за перилами.
Она постояла еще немного, держа дверь полуотворенной и глядя во тьму, казалось, лившуюся в комнату, как волны прилива. Потом закрыла дверь и направилась к себе в спальню, чтобы заняться туалетом. Когда она появилась вновь, то была в чулочках и туфельках; вместо саржевой юбки она надела яркое ситцевое платье, а на шею повязала кружевную косынку. Она расправилась со своими непокорными локонами, соорудив над самым лбом подобие норманнской арки, в которой отдельные завитки выполняли роль контрфорсов. Когда, немного погодя, вошел ее брат, она не подняла взора и продолжала глядеть в огонь, хоть это и было чуточку странным.
— Боб решил, что солдаты в лодке охотятся на людей, ищут дезертиров, — сказал Джим с досадой. — Хотел уверить меня, что один из них прячется в Болоте. Обычные индейские выдумки. Решил, наверное, что заработает лишний стакан огненной воды, если погоняет меня, как дурака, по зарослям.
— Ах, вот где ты был! —сказала Мэгги, не отрываясь от огня. — С каких это пор ты стал дружить с правительством и с полковником Престоном, охотиться с ними заодно и спасать их имущество?
— Я не хочу, чтобы бродяги, которых они набрали в армию, скитались по нашему Болоту, Мэг, — решительно возразил Джим.
— А что бы ты сделал, если бы нашел его? —спросила Мэг, устремив взгляд на брата.
— Угостил бы зарядом бекасинника, чтобы долго помнил меня и благодарил бога, что я не стреляю картечью. — Заметив, что сестра отнеслась к его словам с чрезмерной серьезностью, Джим добавил: — А что ты думаешь? В военное время солдаты пристрелили бы его на месте.
— Пусть так, но тебе незачем в этом участвовать.
— Почему? Он все равно, что беглый преступник. Кто поручится, что он не промышляет убийством и грабежом?
— На него не похоже, — сказала Мэг, не подумавши.
— На кого не похоже?! —быстро переспросил брат, глядя на нее в упор.
— Не похоже на человека, — сказала Мэгги, с женским проворством заглаживая свою опрометчивость, — который мог бы преспокойно столкнуть нас в воду в темноте и отобрать у нас ружья и не сделал этого.
— Попробовал бы только! — заявил ее брат, усмехнувшись высокомерно и заливаясь гневным румянцем. — За кого ты меня принимаешь?!
Мэгги увидела, что взяла неверный тон, и впервые в жизни решила скрыть от брата свою тайну — до утра.
— Как бы ужин не остыл, — сказала она, поднимаясь.
Они перешли в столовую, скудно обставленную, как и гостиная, но хранившую в ловко пригнанной деревянной обшивке, в настенных полках и шкафах все то же родство дома с кораблем, и уселись за небольшой стол, где был приготовлен им скромный ужин. Джим сел напротив сестры, но вдруг положил нож и вилку и уставился на нее.
— Послушай!..
— Что такое? — спросила Мэгги, слегка вздрагивая. — Ты всегда меня пугаешь…
— Почему ты вырядилась?
— Просто волосы у меня растрепались под зюйдвесткой, — сказала Мэгги, краснея, — и мне пришлось причесаться. Зюйдвестка не женский убор.
— А косынка, а платье? А все эти штучки–оборочки? — продолжал Джим, быстрым движением указательных пальцев суммируя свои наблюдения. — Уж не ждешь ли ты в гости судью Мартина или почтового курьера?
Судья Мартин, юрист из Логпорта, который ввел их в право наследства, до сих пор не пришел в себя от восторга после первого и единственного свидания с прекрасной дочерью Зимородка. А юный курьер привез однажды адресованную Мэгги посылку, но оставил взамен свое сердце и с тех пор, как считалось в округе, не ведал ни сна, ни покоя.
Это была уже поднадоевшая шутка Джима, которая не раз помогала им коротать длинные зимние вечера и счастливо сочетала в себе веселость с элементами морального воспитания. Мэгги обычно откликалась смешком и старалась в ответ ущипнуть брата, но сегодня осталась холодна.
— Джим, милый, — сказала она, когда, завершив свою спартанскую трапезу, они снова уселись в гостиной перед огнем. — Сколько давала тебе лесопильная компания за тот участок возле Трясины Мертвеца?
Джим вынул трубку изо рта, сказал:
— Десять тысяч долларов, — и затянулся вновь.
— А сколько стоит все наше имение, не считая дома и береговых топей?
— Вместе с тем, что должно нам правительство? Ты ведь знаешь, что все это наше? — быстро спросил Джим.
— Нет, только то, что у нас теперь, — сказала Мэгги.
— Примерно сто семьдесят пять тысяч долларов, так я считаю.
— Это куча денег, Джим! Старый полковник Престол не накопит столько и за сто лет, — сказала Мэгги, грея коленки у огня.
— И за пять миллионов лет, — безапелляционно подтвердил Джим. Помолчав, он добавил: — Кто бы ни хвалился своим богатством, Мэг, мы всегда ответим, что у нас на пятьдесят тысяч больше.
Несколько минут они сидели молча: Мэгги поглаживала себе коленки, а трубка Джима, словно разжиревшая на богатстве своего владельца, похрапывала апоплексически.
— Милый Джим, а что, если б мы — это просто фантазия моя, ты понимаешь, — если бы мы продали Компании один участок, а на эти деньги удивили бы весь Логпорт! Подразнили бы их, взяли бы лучшие номера в новой гостинице, купили кабриолет, разоделись бы в пух и прах и заставили этих людишек из Форта раз навсегда понять, кто они и кто мы. Ты понимаешь, конечно, Джим, чего я хочу! —торопливо продолжала она, в то время как брат ее, заразившийся, как видно, апоплексией от собственной трубки, глядел на нее, словно сраженный параличом. — Показать, что мы все можем, все, стоит нам захотеть. Господи! Да когда мы вдоволь пофорсим, поистратим все денежки, мы просто щелкнем пальцами под самым их носом и укатим назад, словно нас там и не было. Ты ведь не думаешь, Джим, — сказала она, вдруг оборачиваясь к нему почти яростно, — что я предлагаю остаться жить с ними — хоть одну минуту!
Джим отложил трубку и воззрился на сестру испытующим холодным взглядом.
— И чего же ты думаешь этим достичь? — спросил он, презрительно отчеканивая слова.
— Да просто показать им, что у нас хватит денег, чтобы купить их с потрохами, — ответила Мэгги, не сдавая своих позиций, но чувствуя, что противник обходит ее с флангов и уже нацелил ответный удар.
— Ты думаешь, они без тебя не знают этого? — спросил он все с той же насмешкой.
— Не знают! — сказала Мэгги. — Или ты забыл новую учительницу из Логпорта, которая хотела рисовать тебя в лодке, Джим, чтобы ты изображал контрабандиста, или пирата, или итальянского рыбака, говорила, что ты хорош собой, и обещала платить за каждый сеанс? Уж наверное, она не знает, что ее школа стоит на твоей земле. Нет! Многие не знают. Одни считают, что мы бедняки, беднее их, а другие…
— Что же считают другие? — грозно спросил Джим.
— Что мы с тобой скряги.
Джим залился злым румянцем.
— Так, значит, — сказал он, метнув на сестру быстрый взгляд, — ради какого‑то сброда, чтобы покрасоваться перед всякой дрянью, ты будешь якшаться со всеми, кто звал твою мать испанской негритянкой и канакой, а твоего отца — пиратом и захватчиком чужой земли, кто болтал, будто он был убит или покончил с собой, кто называл тебя язычницей и сумасшедшей потому, что ты не ходишь в церковь и не пошла в школу с их ублюдками, кто отказался помочь нашей больной маме, словно у нее была оспа, и не пришел хоронить отца, словно он был конокрад, кто покинул нас ночью в Болоте сторожить отцовский гроб до самого прилива. А ты! Разве в ту ночь в лодке мы не соединили с тобой руки над телом отца, когда он лежал там хладный, отверженный людьми, словно сдохший пес, вынесенный волнами прилива, и не поклялись, что, сколько ни пробегут волны туда и назад, никогда они не сблизят нас с этими людьми? И что же я слышу? Ты хочешь пойти к ним сама, связать с ними нашу судьбу, жить их проклятой идиотской жизнью… ты хочешь…
— Замолчи! Это ложь! Я и не думала! Как ты смеешь! — сказала девушка, вставая на ноги и, в свою очередь, устремляя на брата горящий взор.
С минуту они простояли, как бы глядясь в зеркало — так похоже гнев одного в каждой черточке, вспышке румянца, игре светотени отразился в лице другого. Каждый увидел в другом свою собственную пылкую и своевольную душу, и оба были напуганы. Это случалось уже не раз и кончалось всегда одинаково. Юноша первым опустил взгляд. Глаза девушки наполнились слезами.
— Хорошо, ты не думала этого. Тогда что же ты хотела сказать? —спросил Джим, откидываясь на спинку стула с извиняющимся видом.
— Я… хотела… отомстить им! —сказала, всхлипывая, Мэгги.
— Ах, вот что?! —смягчился Джим, как бы тронутый благородным замыслом сестры. — Но я не вижу, в чем тут будет месть.
— Не видишь? И что же? —сказала Мэгги, по обыкновению всех женщин на свете делая вид, что не она вовсе была виной случившейся размолвки. — Но как ты мог подумать про меня… — (речь заглушается рыданиями).
— Я и не думал, Мэг… — (в голосе нежные нотки).
Завершив спор этим сомнительным путем, Мэгги позволила Джиму обнять себя, и некоторое время оба чистили друг другу клювиками взъерошенные перышки и приглаживали вздыбленные хохолки, словно и впрямь были не людьми, а — как то гласила молва — двумя великолепными пернатыми существами из породы зимородков. По прошествии получаса Джим поднялся и сказал небрежно, слегка позевывая:
— А где же книга?
Речь шла о Библии. Молодые люди взяли себе за правило ежевечерне читать вслух главу из Библии; то была смутно осознанная ими дань религии и литературе. Когда книга нашлась, Мэгги, играя на ласковом и покаянном настроении брата, предложила выбрать для чтения «что‑нибудь поинтересней». Но Джим отверг ее нечестивую вольность. В виде компромисса он предложил «кинуть жребий», иными словами, раскрыть Библию наугад.
Так он и сделал. Приступая к чтению, Джим обычно проглядывал библейский текст, чтобы решить, годится ли он для юной девушки. Сегодня он пренебрег этой разумной предосторожностью и стал читать своим приятным голосом:
— «Прокляните Мероз, говорит ангел господень, прокляните, прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь господу, на помощь господу с храбрыми.
— Ты нарочно это выбрал, — сказала Мэгги.
— Само вышло. Провалиться мне на этом месте!
— Хорошо. Читай дальше, — сказала Мэгги, подтолкнув брата в бок и заглядывая ему через плечо.
И Джим прочитал вдохновенную песнь Деворы об Иаили и Сисаре вплоть до горького конца ее, выраженного с библейской краткостью и силой.
— Вот, — сказал он, закрывая книгу, — какова настоящая месть. Это — святое писание, а не какие‑нибудь финтифлюшки.
— Все так, милый Джим, но разве ты не заметил, что она сперва приветила его, угостила молоком и маслом, в общем, обласкала? — возразила Мэгги самым серьезным тоном.
Но Джим не принял эту женскую точку зрения и вообще не захотел пускаться в дальнейшие споры; а потому, поцеловав друг друга на ночь, они отправились спать. Джим чуть помешкал, проверяя засовы на дверях и на окнах, а Мэгги постояла у окна, устремив взгляд на галерею и далее в сторону Болота.
В небе светила луна, начался новый прилив. Если и сохранились где следы чужого человека, вода их смыла начисто. Переменился и облик Болота. Черного мыса как не бывало. Ровная береговая линия была вся изгрызена зубами из сверкающего серебра. Огромное темное тело Болота засветилось тонкими жилками, по которым в него, должно быть, вливалась новая жизнь. А воды залива, отделявшие их от Форта, словно вторглись на сушу и сейчас в лунном свете казались белой рукой, протянутой к самому гнезду Зимородков.
III
Труба в Редвудском форте сыграла подъем, но потребовались еще пятиминутные уговоры денщика, чтобы поднять с койки лейтенанта Джорджа Кальверта. Голова у лейтенанта раскалывалась, язык не ворочался, губы пересохли, глаза не глядели на белый свет; прошлая ночь путалась с наступившим утром; карты и бутылки наползали на безупречную фигуру ординарца, стоявшего в дверях с бумагами и приказами в руке.
Лейтенант Кальверт участвовал этой ночью в очередной дружеской попойке с собратьями–офицерами, известной в их среде под названием «холостяцкой закуски» и «бурной переправы»; от одной лишь мысли, что это не первая подобная пирушка и, конечно, не последняя, его сейчас мутило. Он преисполнился было презрения к себе, но тут же, по обычаю всех гуляк, стал клясть судьбу, которая забросила его после выпуска в этот захолустный форт на границе, где нет другого спасения от скуки, как виски и пьяный разгул. Он уже так низко пал, что завидовал тем из сверстников и старших офицеров, которые могли выпить больше него. «Если бы я мог пить, как Кэрби или Крауниншилд! Если бы в этой дыре была хоть что‑нибудь, чем себя занять!» — раздумывал он в отчаянии после каждой попойки и с нетерпением ждал новой, чтобы снова явиться по долгу младшего по чину и вновь испытать свои силы в дружеском соревновании. Юнкером в Вест–Пойнте он мечтал отличиться в обществе на иной манер, но мечты его пошли прахом. Да и где тут общество, если не считать семейства полковника Престона и еще двух офицерских жен! Всегдашнее недоброжелательство и недоверие к военным, с которыми федеральным властям постоянно приходится считаться в поселениях на границе, здесь еще усугублялись твердостью, с которой командование пресекало зверское обращение местных жителей с индейцами. Жители Логпорта не водились с гарнизоном. Напрасно полковой оркестр наигрывал им по субботам, они не желали плясать под эту музыку.
Как бы там ни было, лейтенант Кальверт свершал свой туалет хотя и не твердыми руками, но с вошедшей в привычку педантичностью и аккуратностью. Повинуясь автоматически действующему духу воинской дисциплины, он подавил свои чувства, как только застегнул последнюю пуговицу на мундире, взял себя в руки, когда затянул ремень на еще тонкой по–юнкерски талии, и в конце концов добился того трудно определимого сочетания подтянутости и лихости, которое у иных из его сослуживцев, увы, столь легко переходило в провинциальную развязность. Окунув голову в ледяную воду, он пригладил свои светлые волосы щеткой, с воинским
тщанием расчесал их на пробор, и, после того, как надел кепи и с продуманным щегольством слегка надвинул козырек на глаза, одна только бледность лица, при которой его маленькие белокурые усики казались сейчас темнее щек, выдавала его ночное времяпрепровождение. Недоуменно поглядев на бумаги, лежавшие на столе, он уже рассеянно потянулся было за саблей, когда денщик прервал его мысли.
— По приказанию майора Бромли, поскольку вы нездоровы, сэр, дежурить будет сегодня лейтенант Кэрби. А вам, — добавил денщик, почтительно указывая на конверт, — приказано явиться к полковнику для особого поручения.
Тронутый заботливостью своего начальника майора Бромли, непременного участника всех ночных пирушек, Кальверт изучил приказ и, воздержавшись на сей раз от проклятий, которыми полагалось встречать каждое особое поручение, сказал: «Спасибо, Парке!» —и вышел на веранду.
Учебный плац, залитый солнцем, пустынный, чистый, как подметенный пол, свежевыбеленные стены и галереи стоящих за плацем казарм, белые и зеленые офицерские коттеджи по сторонам, сверкающий штык часового — все это в первую минуту резало глаз. И, однако же, по некоей странной игре судьбы никогда еще дух и суть избранной им профессии не представали перед лейтенантом столь красноречиво, как в этой утренней сцене. Уединенность, дисциплина, чистота и порядок, уравновешенность, атмосфера здоровья, строгая воздержанность монастырской жизни, но без ее мистического самоуглубления — не об этом ли всем он мечтал? И вот, словно сам себе назло, он ищет дурацких развлечений, после которых просыпается наутро с издерганными нервами и с ноющей болью в глазах.
Через час лейтенант Кальверт дослушивал последние инструкции полковника Престона. Согласно полученному приказу, ему надлежало выступить с небольшим подразделением, разыскать и доставить в Форт нескольких дезертиров, и в первую очередь Денниса Мак–Кафри, рядового роты «Г», повинного, помимо дезертирства, еще в мятежном подстрекательстве. Кальверт стоял перед своим начальником, и этот заслуженный офицер, природный ораторский талант которого значительно усовершенствовался за долгие годы заздравных тостов во славу и процветание армии, слегка выпятив грудь, внушал ему отеческим тоном:
— Отлично знаю, мистер Кальверт, что молодые офицеры не жалуют поручений такого рода, считают их чем‑то вроде полицейской службы, но я хочу напомнить вам, что в армии все важно и все почетно и любое, даже малейшее, поручение начальника требует от каждого уважающего себя офицера напряжения всех сил и неусыпной заботы о подчиненных. Чтобы справиться с этим делом, хватило бы сержанта со взводом солдат, но мне нужен человек, хорошо воспитанный, осторожный, с чувством такта, джентльмен, способный пробудить почтение у всякого, с кем столкнет его долг службы. Достойные сожаления предрассудки, препятствующие местному населению разумно относиться к мероприятиям военных властей, как вы сами понимаете, могут осложнить вашу задачу, но я надеюсь, что вам удастся, не роняя достоинства офицера и представленной в вашем лице центральной власти, избежать в то же время излишне суровых мер, которые могли бы лишь разжечь имеющееся чувство недоброжелательства и вовлечь нас в конфликт с гражданскими лицами. Во врученном вам письменном приказе точно обозначено, где кончаются их права и начинаются наши, но вы скорее заслужите их доверие, если скажете, что единственное наше желание — содействовать им в интересах общего блага; вы, конечно, понимаете, что я хочу этим сказать. В случае, если вам не удастся изловить дезертиров, ваш долг выяснить, не был ли их побег следствием подстрекательства и молчаливого потворства со стороны местных жителей. Быть может, они не знают, что подстрекательство военнослужащих к побегу есть уголовно наказуемое деяние; если обстоятельства потребуют, вы можете предупредить их об этом. В заключение хочу напомнить вам, что воды залива и низменный берег в тот час, когда он залит водой, целиком и полностью принадлежат нам, так что, действуя в этих границах, вы ответственны только лишь перед старшим по службе. До свидания, мистер Кальверт. Желаю успеха!
Растроганный наставлениями полковника Престона, которые, несмотря на цветистость его речи, действительно шли от души, Кальверт почти что позабыл о своих личных огорчениях. Но, покинув веранду начальника, он тотчас столкнулся с несколькими офицерами, уже поджидавшими его.
— Счастливо, Кальверт, — сказал майор Бромли, — денек–другой на травке тебе не повредят; интендантское виски надо пить с оглядкой. Кстати, если разыщешь в Вестпорте что‑нибудь сортом повыше, отведай и дай нам знать. Следи за здоровьем, Кальверт. Потолкуй со своими людьми, они тебя кой–чему научат, в особенности Донован. С Рамона не спускай глаз. Капрал—надежный парень, можешь на него положиться.
— Счастливо, Джордж, — сказал Кэрби, — надеюсь, старик не забыл тебе сказать, что на военной службе все важно и все почетно и что такое ответственное, щекотливое поручение он в жизни не решился бы доверить никому, кроме тебя. Он всегда говорит это, когда навалит на человека какую‑нибудь чертовщину. А не забыл он напомнить тебе, что, пока ты сидишь в шлюпке или в восьмивесельной гичке и не можешь построить людей и развернуть их в боевой порядок, до тех пор ты непобедим?
— Что‑то в этом роде он говорил, — улыбнулся в ответ Кальверт, смущенно припоминая, что как раз эти рассуждения полковника произвели на него особенно сильное впечатление.
— И не вздумай сомневаться, — с важностью добавил Кэрби, — что ты выполняешь прямой долг пехотного офицера.
— И помни, Джордж, — добавил Роллинс еще более торжественным тоном, — что бы ни приключилось с тобой, ты офицер хоть и не очень многочисленной, зато бесконечно пестрой Американской армии. Помни, что в грозный час ты можешь обратиться к солдатам на любом языке, на каком тебе вздумается, и они поймут твою команду. И помни, что когда ты ведешь их в бой, не только твоя родная страна, но, за малым вычетом, и все прочие не сводят с вас глаз. Прощай, Джордж! Майор упомянул тут насчет напитков. Говорят, что Зимородок Кульпеппер, этот старый пират, завез перед смертью в свою нору на Болоте целую партию отличнейшего робертсоновского виски. Жаль, мы не ладим с птенчиками; они не пьют и могут распродать его в любой момент. Нисколько не удивлюсь, если твой приятель Мак–Кафри торчит где‑нибудь в тех местах; он чует виски за милю. Послушай меня, конфискуй весь склад; скажешь: за укрывательство дезертиров. Девчонка всегда была недурна, а сейчас, наверное, совсем взрослая.
Сержант, подошедший доложить, что люди готовы, спас своего начальника от дальнейших веселых насмешек. Кальверт обнажил саблю и с не прояснившейся еще головой и покаянной душой, но твердо печатая шаг, повел своих солдат выполнять вверенное ему щекотливое поручение.
К четырем часам дня он был в Джонсвилле. Руководясь элементарным здравым смыслом, лейтенант не захотел переправляться морем в битком набитой шлюпке (это значило бы известить о предпринятой экспедиции всех заинтересованных лиц на взморье и на Болоте), а повел людей кружным путем, по лесной дороге. Переправившись через отделявшую его от Дедлоуского болота реку на общественном пароме, он подошел к поселку незамеченным и тотчас оседлал обе дороги, ведшие из Джонсвилла к нагорью. После недавнего визита сержанта — так рассуждал лейтенант Кальверт — спрятавшиеся дезертиры могли вернуться в поселок, рассчитывая, что второй раз он так скоро сюда не придет. Оставив часть своей крохотной армии патрулировать дороги, а другую рассыпав цепью в долине, он отправился в поселок. С помощью незатейливой дипломатии, а также и личных чар, которыми он весьма искусно пользовался, лейтенант выяснил, что если даже жители и знают кое‑что о дезертирах, в поселке их сейчас нет. Заново поделив свой отряд и забрав с собой капрала и нескольких солдат, он решил лично обследовать нижнюю часть Болота.
Занятость порученным делом, прогулка по лесу, а вернее всего, живительное действие насыщенного солью и йодистыми испарениями морского воздуха прояснили голову лейтенанта и словно укрепили его физически. Он впервые попал в Дедлоуское болото и сейчас от души наслаждался невиданной красотой береговых топей. Наступал тот час дня, когда птицы ведут себя шумнее всего; утки и чирки тучами летели от пресных речных вод к соленым озерцам на Болоте, и трепещущие тени их безостановочно пересекали тропу, по которой шагал лейтенант. Порою казалось: то зыбкая почва Болота поднялась к небу и поспешает прочь на темных крылах. Внезапные всплески сообщали о скрытых вблизи бочагах и топях; вот из‑под самых ног лейтенанта взметнулся вверх сверкающий на солнце лебедь. Неумолчный крик и щебет царили вокруг. В этом птичьем гомоне он не сразу расслышал окликавшего его правофлангового.
Находка была немаловажной. В кустарнике, спускавшемся узкой грядою до самой трясины, солдаты нашли заляпанную грязью форменную одежду дезертира, вплоть до кепи с литерой роты на козырьке.
— Скажи, Шмидт, есть здесь поблизости дом или еще какое жилище? — спросил Кальверт.
— Фот именно так, лейтенант, — отвечал капрал. — Том симородка, старого Кульпеппера. Пьюсь оп саклад на толлар, что парень где‑то стесь.
Сквозь переплетение кустарника он указал на длинное низкое строение, белое сейчас на солнце, стоявшее на черных сваях. Наметанным глазом разведчика Кальверт увидел, что единственный вход в дом — по лестнице с Болота. Приказав солдатам укрыться в кустах и там ждать его, он быстро пересек открытое пространство и поднялся по ступеням. Пройдя по галерее, он постучался в дверь. Никакого ответа. Он постучал еще раз. Ближнее окно с маху растворилось? и навстречу ему высунулось двуствольное дробовое ружье. Машинально пробежав взглядом по стволу, он увидел в окне на редкость красивую девушку: глаза ее сверкали, щеки горели, маленький рот был крепко сжат. Упомянем, отдавая дань воинской выдержке лейтенанта, что глаза девушки произвели на него большее впечатление, чем направленные ему в грудь два сверкающих ствола.
— Ни с места! Понятно? — грозно сказала девушка.
На лице Кальверта не выразилось ни страха, ни
удивления. Вытянувшись, как на параде, он поднес руку в белой перчатке к козырьку и негромко сказал:
— Рад служить!
— Ах, вот как! — живо откликнулась девушка. — Еще одно движение, и я отправлю вас вместе с перчатками вниз, в болото.
— Надеюсь, вы этого не сделаете, — улыбаясь, сказал Кальверт.
— А почему?
— Потому что это лишит меня удовольствия побеседовать с вами. Кроме того, я не захватил второй пары перчаток.
Он не сводил взгляда с очаровательных глаз девушки, глядел почтительно, восхищенно, но в то же время с воинским расчетом; он понимал, что действительно стоит ему сейчас шевельнуться, и она всадит в него разом два заряда.
— Где остальные? — так же резко спросила она.
— В трехстах ярдах отсюда, в укрытии. Вам не будет от них беспокойства.
— Они придут сюда?
— Полагаю, что нет.
— Полагаете? — повторила она презрительно. — Почему же вы полагаете?
— Потому что им приказано оставаться на месте.
Она чуть опустила дробовик, но ее черные брови целили ему в лоб.
— Думаю, вы не сильнее меня, — сказала она, оглянув не без некоторого пренебрежения его хрупкую фигуру, и отперла дверь.
С минуту они стояли, озирая друг друга. Он увидел красивое личико и очаровавшие его глаза; девушка была высока и тонка в талии; распахнутая матросская куртка делала ее широкой в плечах; под курткой на ней была перетянутая поясом красная фланелевая рубаха навыпуск и синяя юбка; воротник, стянутый черным матросским платком, полузакрывал прелестную, хоть и тронутую загаром шею. Она увидела невысокого молодого человека в скромной походной форме без галунов (если не считать наплечной золотой тесемки, указывающей его чин), но необычайно опрятного, даже щеголеватого. Коротко подстриженные светлые волосы, крохотные светлые усики, ясные внимательные синие глаза и веснушки на лице довершали его портрет, произведший на нее в целом неважное впечатление. Тем более ее раздражала уверенность и непринужденность, с которой незнакомец демонстрировал свои очевидные недостатки. Отставив ружье, глубоко засунув руки в карманы куртки и слегка расправив плечи, она отрывисто спросила:
— Зачем вы пришли?
— За пустячными сведениями, которые, я думаю, вас не затруднят. Мои люди только что нашли в кустах мундир и кепи дезертира, бежавшего из Форта. Не скажете ли вы, как они туда попали?
— А кто вам дал право рыскать по нашей земле? — спросила она, резко поворачиваясь к нему и слегка бледнея.
— Никто.
— Так зачем вы пришли?
— Чтобы просить у вас права на это, если вы не дадите нам нужных сведений.
— Почему вы пришли ко мне, а не к брату? Боитесь его?
— Едва ли он сумел бы встретить меня более воинственно, чем вы, — возразил, улыбаясь, Кальверт. — Имею ли я честь беседовать с мисс Кульпеппер?
— Я сестра Джима Кульпеппера.
— Значит, вы тоже имеете право согласиться на мою просьбу или ответить отказом.
— А что если я отвечу отказом?
— Что ж, я попрошу прощения за беспокойство, уеду и вернусь с приливом. Тогда, надеюсь, вы уже не будете целиться в меня из окна, — добавил он весело.
Мэгги Кульпеппер слышала об этой теории, по которой вода принадлежала федеральному правительству. Она отвернулась от собеседника, отчасти чтобы выразить тем пренебрежение к нему, отчасти чтобы избежать настойчивого взгляда маленьких доброжелательных, уверенных в себе ясных глаз.
— Ничего не знаю ни о ваших дезертирах, ни об их лохмотьях, приплывших невесть откуда, — сказала она в сердцах. — И знать не желаю. Делайте, что хотите.
— Будь моя воля, мисс Кульпеппер, я побыл бы еще в вашем обществе, но, увы, служебный долг…
— Что такое? — надменно прервала она его.
— Я действительно наскучил вам, — сказал он, усмехаясь, — но порученное мне дело…
— Какое еще дело? Искать подыхающих с голоду бродяг?
— И находить милых друзей, так я полагай), — возразил он со степенным поклоном.
— Вы полагаете?! Послушайте, молодой человек, — сказала она со своим быстрым яростным смешком. — Не слишком ли много вы полагаете?
«Вы с вашими веснушками, рыжими волосами и маленькими глазками», — хотела она добавить, но промолчала, потому что ей пришлось бы снова встретиться с ним взглядом, а ей не хотелось этого.
Кальверт отступил, все еще улыбаясь, поднес руку к козырьку и зашагал прочь, сперва по галерее, потом вниз по лестнице и дальше по направлению к кустарнику. Став у окна так, чтобы ее не было видно, она смотрела, как он, невысокий и складный, пошел самым прямым путем, не глядя ни вправо, ни влево и даже не подумав хоть раз обернуться, чтобы поглядеть на дом, который только что покинул. Потом она увидела, как солнце заиграло на поясных бляхах и ружейных стволах, как светло–голубая полоса выползла из темно–зеленых зарослей, обогнула их и пропала. И вдруг она ужаснулась тому, что наделала. Собственными руками она загубила свой план, заветный план, из‑за которого вчера поссорилась с братом, а сегодня ночью, лежа без Сна, все же решила осуществить, несмотря ни на что. Значит, так она намерена покорить, взять в полон Логпорт и крепость! Что с ней стряслось такое? Что же она, дурочка, что ли? Но кто мог думать, что за бродягой–дезертиром сюда заявится этот нахальный франтик? На минуту оба они, несчастный беглец и воинственный франтик, показались девушке одинаково мерзкими. Итак, с ее великой мечтой, с завоеванием, с победой все кончено! Он, разумеется, счел ее дурочкой! Вместо того, чтобы позвать его в дом, превзойти в светскости, наговорить невесть чего о дезертире, сбить с толку, запутать, а потом в Логпорте сразить наповал блеском, богатством и роскошью туалетов, она прогнала его прочь!
И теперь он расскажет дамам из Форта, что чуть живой вырвался из хищных когтей дочки Зимородка!
От этой мысли горькие слезы набежали ей на глаза, но она отерла их. Со слезами явилась пугающая мысль, что Джим был прав, когда сказал, что между ними и теми, кто предал их родителей, не может быть ничего, кроме открытой вражды, и ее нынешний безотчетный поступок лишь подтверждает его правоту. Но она отвергла эту мысль, как и давешние слезы.
Прошло полчаса, и Мэг увидела из окна разбросанные синие точки, которые, как ей казалось, двигались по диагонали, направляясь с нагорья к Болоту. Она не знала тогда, что это был второй патруль Кальверта, шедший с ним на соединение, но поняла, что лейтенант еще здесь, и эта мысль странным образом доставила ей облегчение. Немного погодя ее разволновал тревожный крик лысухи, цапли и болотных курочек, жаловавшихся на вторжение чужаков в их уединенное обиталище, и она, покраснев и чувствуя непривычную робость, прокралась на галерею и, стараясь остаться незамеченной, оглядела Болото. От того, что ей открылось, она застыла на месте.
Справа и слева вспархивали птицы и летели прочь в гневе и смятении, а за ними не спеша шествовал небольшой отряд в синих мундирах, направляясь к заросли, где недавно исчез молодой офицер. В центре отряда, под охраной двух солдат с примкнутыми штыками, шел человек, которого она легко признала даже на расстоянии: то был вчерашний дезертир, одетый в платье, которым она его снабдила. Что смутило ее еще сильнее, — справа от солдат шагал тот самый молодой офицер, а рядом, дружески с ним болтая, шел не кто иной, как ее собственный брат Джим!
В мгновение ока, не помня себя и не сознавая, что делает, она сбежала с лестницы и вихрем помчалась к кустам. Она достигла заросли, когда отряд был еще в двадцати шагах. Но тут ее снова охватили сомнение и робость, она спряталась в кустарнике, и невольный призыв, обращенный к брату, застыл у нее на губах. Вот они приближаются, вот шагают мимо; ее брат идет плечом к плечу с непрошеным гостем; они заняты разговором; она давно уже не видела брата таким оживленным; вот их уже нет. Ее заметил лишь один человек! Блуждающий взгляд дезертира разыскал в листве ее красивое лицо; оборотившись, он чуть подмигнул ей и в этом исполненном признательности, еле заметном движении излил свою душу.
Когда они ушли, Мэг прокралась назад, немного успокоившись, но все еще охваченная внутренней дрожью. Когда с наступлением темноты вернулся ее брат, он застал ее, как и прошлым вечером, задумчиво сидящей у огня.
— Ты видела, наверное, меня, когда я проходил с солдатами? —сказал он несколько смущенным тоном, усаживаясь рядом и глядя на нее с наигранной развязностью.
Не подымая глаз, она выразила легкое удивление. Проходил с солдатами? Куда же они шли?
— Часа два тому назад я встретил лейтенанта Кальверта, — сказал он с возрастающим смущением, — и… знаешь, Мэг, он уверял, что виделся с тобой… сказал, что ему было жаль тебя снова тревожить… Ты говорила с ним, не так ли?
Не отводя глаз от огня и словно вобрав в румянец на щеках весь его жар, Мэгги сказала равнодушно, что действительно к ней заходил какой‑то слизняк в мундире и о чем‑то ее спрашивал.
— Ты знаешь, он ничуть не задается, — сказал Джим. — И мне это в нем понравилось. Держится просто, взял меня под руку, мы так и шли вместе, посмеивается, словно приехал уток стрелять, а не с отрядом в сорок человек. Он мне ровесник, Мэг, на год или два старше, и вообще…
Тут он смешался и с опаской поглядел на сестру.
— Значит, ты решил на попятный?! — проговорила вдруг Мэгги на самых презрительных и низких нотах своего контральто.
— Кто это решил на попятный? — вспыхивая, возразил он.
— А разве ты не отступаешь от того, что говорил вчера? Хочешь подольститься к Форту?
— Ах вот как! Тогда слушай! — вскипел Джим, вскакивая в праведном гневе. — Будь я проклят, если не выложу все начистоту, хоть и обещал ему молчать. Он сказал, что ты испугаешься.
— Испугаюсь?! — вскричала Мэгги презрительно, но при том бледнея. — Чего же я испугаюсь?
— Так слушай, раз уж пристала ко мне. Нас обворовали!
— Обворовали? —повторила Мэгги, глядя брату прямо в лицо.
— Да, нас обворовал дезертир! Стащил мою одежду и флягу с виски. Его во всем моем и поймали, мерзавца. Если бы не Кальверт, если б я не попался ему на пути и не дал позволения обшарить болото, тот так и ушел бы.
— Нас обворовали? —еще раз спросила Мэгги, словно задумавшись.
— Конечно, обворовали. Вчера вечером, когда нас не было дома. Он залез, пока мы шли по болоту.
— Это что же… лейтенант тебе сказал? — запинаясь, спросила Мэгги.
— Ну да, он так считает, и я тоже, — нетерпеливо подтвердил Джим. — Я же сказал, он был во всем моем и даже не подумал отпираться. И если бы ты слушала внимательно вместо того, чтобы браниться, то поняла бы сразу, что мы на этом с лейтенантом и сошлись. Ведь я не дезертиров позволил ему искать, а воров. И не бежавшего солдата помог ему ловить, а обокравшего меня мерзавца. Как только лейтенант нашел в кустах его мундир, то сразу понял, что тот каким‑нибудь манером да раздобыл себе гражданскую одежду. Теперь тебе понятно, Мэг? Да что с тобой? Ты испугалась все‑таки? Ну кто бы мог подумать! Успокойся, присядь, милая! Да ты бела, словно чайка!
Он обнял ее, и она опустилась на стул, силясь улыбнуться.
— Ну, успокойся, — сказал он покровительственным тоном старшего. — Забудь об этом, Мэг. Все позади. Ручаюсь, он к нам больше не придет. Лейтенант сказал, что раз он вор, его передадут полицейским властям, и он непременно получит шесть месяцев тюрьмы за кражу со взломом. Постой, — сказал он вдруг, вглядываясь в переменившееся лицо сестры, — да ты, я вижу, больна. Нужно принять лекарство.
— Мне уже лучше, — сказала она, делая над собой усилие, — должно быть, опять лихорадка привязалась. Вчера меня продуло на Болоте. А что это?
Вскочив, она схватила брата за руку и обернулась к окну. Ставня загремела.
— Крепчает ветер. Когда я шел назад, вроде задул зюйд–вест. Гнал облака по небу. Прими хинину, Мэг. Только не запускай болезнь, не то сляжешь, как мама.
Наверное, от этого вполне естественного в его устах, но грустного напоминания ее темные глаза заволоклись слезами и губы на мгновение задрожали. Но тут же в ее лице снова возобладала решимость, и, глядя, как и прежде, в огонь, она сказала, медленно роняя слова:
— Если я лягу сейчас в постель, к утру само пройдет. Когда начнется отлив?
— Часам к трем, если только зюйд–вест не нагонит воды в Болото. А что тебе?
— Да так, подумала просто, чтобы не угнало наш ялик с причала, — сказала Мэгги, поднимаясь.
— Чем думать о ялике, прими‑ка лучше хинину, — сказал Джим, который на правах старшего брата любил прописывать лечение. Раз ты больна, читать сегодня не будем.
— Спокойной ночи, Джим, — сказала она, вдруг обернувшись к нему.
— Спокойной ночи, Мэг.
Он поцеловал ее покровительственно, со снисходительным видом: жар в ее руках и пылающие губы он отнес за счет необъяснимых странностей женской натуры, с которыми хочешь не хочешь, а надо мириться.
Они расстались. Памятуя о недавнем грабеже, Джим усердно проверял задвижки на окнах и дверях, громко приговаривая при этом, чтобы вселить спокойствие в потревоженное сердце Мэг. Потом он разделся и лег в постель. Он не сразу уснул и слышал, как свежий ветер, крепчая, перешел в штормовой; потом, убаюканный сладкой уверенностью, что ладно построенный, крепко сколоченный дом не более страшится бури, чем корабль, на который он так походил своим видом, Джим забылся сном. Буря ревела в сваях под ним и на галерее вкруг дома, словно в корабельных снастях, и на омываемых волнами палубах. Временами чудилось, будто дом, атакуемый разом снизу, с боков и сверху, взмывает в воздух. Раз или два треск стропил был совсем как скрип отворяемой двери, как стук шагов; потом стало тише, словно рвавшийся ветер сумел все же силой забраться в дом. А Джим почивал мирным сном, и его разбудило лишь солнце, ослепительно сиявшее на ясном, без единого облачка, синем небесном своде.
Лениво одевшись, он вышел в гостиную и собрался уже, как у них было принято, постучаться к сестре, когда с изумлением увидел, что дверь распахнута, и спальня ее пуста. Он подошел к постели, нетронутой, словно ее и не стелили на ночь, и совсем растерялся, увидев на подушке пришпиленную записку, на которой крупным почерком было написано: «ДЖИМУ».
Торопливо развернув записку, он с изумлением прочитал следующее:
«Не сердись на меня, милый Джим. Я не сказала тебе, что во всем виновата я одна. Я все знала про дезертира, ведь это я отдала ему твою одежду и вещи; он их не крал. Это случилось, когда тебя вечером не было дома; он постучался, просил ему помочь, он был жалок, на него было страшно глядеть. Я решила, что помогу ему и тем самым отомщу Форту. Не злись на меня, милый Джим, и не бойся за меня. Я еду туда, чтобы исправить свою ошибку. Чтобы сказать, что он не вор, чтобы сказать, что ты ничего не знал, чтобы принять всю вину на себя. Не беспокойся за меня. Я не боюсь моря и не боюсь бури. Я проскочу дельту, поверну к Индейскому острову, потом прижмусь к берегу у Мыса и — прямо к Логпорту. Милый Джим! Прошу тебя, не злись! Я не могу стерпеть, что подвела тебя и подвела его: ведь его будут судить за кражу. Твоя любящая сестра Мэгги».
Со смешанным чувством досады, стыда и вдруг охватившего его страха он выбежал на галерею. Шел прилив, половика Болота была под водой, и бухточка, где он держал свой ялик, уже превратилась в сверкающую водную пустыню. Повсюду царила вода прилива; она обвела торчащие метелки солончаковых трав концентрическими кругами из пены и сора; она же буйно гнала увенчанные белыми гребнями волны по громадному простору залива. Ровный шум бурунов в дальнем устье отдавался в ушах. Но взгляд Джима был прикован к туманной переменчивой полоске на горизонте, которая вдруг у него на глазах дрогнула, побелела от края до края и вновь сделалась призрачно серой. Там лежал океан.
IV
— Не вижу в том ни капельки геройства, — безапелляционно заявила Сесили Престон, дочь начальника гарнизона, отодвигаясь от стола, за которым она только что позавтракала в обществе своего отца, — сперва натворила глупостей, всех переполошила и напугала, а потом, изволите видеть, раскаялась и во искупление грехов поплыла невесть куда, в бурю, в утлой лодчонке. Разумеется, она хороша собой, на ней мужская рубашка и мужская куртка, и вы все без ума. Но зачем на ней тогда сережки, и почему она в белых чулочках и в промокших насквозь туфельках? И эта высокая прическа и мужская шляпа… Вот что хотела бы я знать.
С этими словами младшая дочь полковника Престона поднялась из‑за стола, слегка отряхнула подол своего изящного утреннего платья и, презрительно засунув миниатюрные пальчики за пояс на тонкой талии, стала ждать ответа.
— Ты несправедлива к ней, дитя мое, — веско отозвался полковник Престон. — Она действительно накормила дезертира и дала ему одежду, но сделала это, конечно, из жалости к изголодавшемуся и иззябшему человеку; не забудем также, что Мак–Кафри хоть кого сумеет провести. А ее решимость рискнуть жизнью, чтобы спасти его от несправедливого приговора и оберечь своего брата от сплетен и насмешек, заслуживает высокой похвалы. Заметь, моральное влияние ее доброго поступка было таково, что даже этот бездельник решил лучше промолчать и пойти в тюрьму, чем выдать ее и доставить ей неприятности.
— Он просто знал, что, если скажет, что ему подарили одежду, никто все равно не поверит, — возразила мисс Сесили, — и моральное влияние тут совершенно ни при чем. Ты говоришь, она рисковала жизнью, но ведь эти болотные жители, как мы знаем, относятся к классу земноводных, что, кстати, видно и по их манере одеваться. Что касается ее доброты, папа, то я хотела бы тебе напомнить, как однажды в этой самой комнате и еще раз потом, давая инструкции мистеру Кальверту, ты сам говорил, что Кульпепперы вполне способны сманивать у нас людей. А сколько причинил тебе хлопот юрист ее дикого брата, когда вы вели переговоры насчет береговой полосы? Ты сам говорил тогда, папа, что из‑за таких‑то людей и происходят конфликты между местным населением и федеральным правительством.
Полковник счел нужным откашляться. Даже величайшие деятели, как военные, так и гражданские, терпят порой поражения в домашнем кругу.
— Тем более наш долг, — сказал он примирительно, — отнестись критически к слишком резким и неосновательным суждениям. Не давай воли предрассудкам, дитя мое. И не забывай, что она сейчас у нас в гостях.
— Но предпочитает общество миссис Бромли! Я думаю, если вы втроем — ты, мама и еще Эмили, которой, кстати, пора бы узнать, чем, собственно, так пленился мистер Кальверт! — выполните свой долг гостеприимства, я могу остаться в стороне.
Полковник Престон укоризненно покачал головой, но вынужден был отступить и оставить поле боя противнику. Чуть раскрасневшаяся победительница слегка тряхнула белокурыми локонами и, расправив платье, присела к пианино. Капризно полистав ноты, мисс Престон поднялась и подошла к окну.
То, что она увидела, заставило ее разом позабыть обо всем на свете.
Не далее, как в десяти шагах, на чисто выметенном ветрами плацу часовой преградил путь прекрасному юноше, и тот стоял сейчас в позе, исполненной высокомерного удивления и досады. Фантазерке представилось на миг, что некий лесной бог в облике смертного пожаловал к ним в крепость. Из‑под откинутой со лба клеенчатой шляпы вились черные кудри, безбородое лицо было выточенным, как на камее. Синяя вязаная фуфайка под распахнутой курткой обрисовывала идеальную, скульптурно четкую фигуру юноши. Ноги его были упрятаны в высокие, до бедер, рыбацкие сапоги; но поскольку в описываемое время дамы еще не были приучены к мужским фигурам в коротких штанах до колен на крикетном поле и в теннисных брюках на корте, то Сесили Престон, знавшая одну лишь строгую элегантность военного мундира, была восхищена непринужденной грацией незнакомца.
Часовой повторил оклик; незнакомец залился злым румянцем. В этот критический момент Сесили распахнула дверь и выбежала на веранду.
Заметив хорошо знакомую миниатюрную фигурку, часовой отдал честь дочери полковника, указывая ей в то же время взглядом на пришельца. Лесной бог тоже оглянулся и разом стал простым смертным.
— Я пришел за сестрой, — пояснил он смущенно, однако с ноткой вызова в голосе, — она где‑то здесь.
— Она здесь и в полной безопасности, мистер Кульпеппер, — заявила эта великая лицемерка, ослепительно улыбаясь, — и мы счастливы ее видеть. Мы в восторге от ее мореходного искусства и отваги; какой смелой надо быть, чтобы приплыть сюда, рискуя жизнью ради другого.
— Значит… Значит, вы все знаете… — запинаясь, сказал Джим, испытывая огромное облегчение. — И про то, что она…
— …не сказала вам ничего о своей помощи дезертиру, — мгновенно продолжила его фразу Сесили. — Конечно, мы знаем. Ведь девушки легкомысленны, мистер Кульпеппер. Поверьте, будь я на ее месте, и я поступила бы точно так же; только потом мне, увы, не хватило бы храбрости так искупить вину, как искупила она. Вы должны простить ее, мистер Кульпеппер. Но почему же вы там стоите? Прошу вас, — она отступила на шаг, держа дверь открытой и глядя на него с требовательностью избалованного ребенка, — прямо сюда. Это самый короткий путь. Пожалуйста! —Видя, что он колеблется, оглядывая дом и ее самое, она добавила с притворно застенчивым смешком: — Совсем забыла вам представиться — вы в доме полковника Престона, а я его дочь.
Так, значит, эта прелестная юная фея, такая милая в обращении, так изящно одетая, — из тех самых офицерских дочек, которых Мэгги осуждала за важничанье и безвкусный наряд. Можно ли вообще верить суждениям Мэгги? В особенности после истории с дезертиром! Джим усомнился в сестре. Все еще борясь со смущением, он по–мальчишески застенчиво встретил опасный взгляд Сесили.
— Значит… моя сестра… у вас?
— Я жду их с минуты на минуту, — любезно улыбнулась юная, но изобретательная дипломатка, — им пора уже быть.
Впрочем, — добавила она, обнаруживая вдруг глубокую душевную проницательность, — вам надо увидеться с нею немедленно. Я отведу вас сама. Одну минутку. — Она, конечно, не упустит случая провести этого великолепного варвара в цепях за своей колесницей. Пусть видят все ее триумф: ее родители, ее сестра, его сестра. Она побежала к себе в комнату, вернулась в очаровательнейшей, чуть сдвинутой набок соломенной шляпке и смиренно подошла к нему. — Они совсем рядом, у майора Бромли, — сказала она, указывая на увитый диким виноградом коттедж по соседству, — но вы здесь гость, и я боюсь, что вы заблудитесь и пропадете.
Увы, он уже пропал. Стараясь сейчас ступать в ногу с этими волшебными туфельками, невзначай задевая рукою волан на пышных свежеотглаженных юбках, ласково шуршащих подле него, поглядывая сверху на поля обвитой лентами шляпки, а в особенности встречаясь со взглядом затененных шляпкой синих глаз, Джим с ужасом чувствовал, сколь безнадежно он неловок и груб. Как страшен он в своих холщовых промасленных рыбацких штанах и в куртке из синего сукна рядом с этой девушкой, так изящно, со вкусом одетой. Он презирал себя за свой шейный платок, за фуфайку, за сдвинутую на затылок зюйдвестку, за непомерно высокий рост — словом, за все, что приводило в восторг эту девушку. Когда они подошли к коттеджу майора Бромли, Джим был уже настолько пленен прелестной чаровницей и так подчинился ее власти, что, когда мисс Сесили подвела его к группе дам и джентльменов, он едва признал среди них собственную сестру, не понял, что она здесь центр всеобщего восхищения, как не понял и того, что столь любезная сейчас Сесили, собственно говоря, совсем незнакома с его сестрой.
— После всего, что вы оба испытали, он умирает от желания видеть вас; я сразу повела его сюда, —заявила эта маленькая последовательница Макиавелли, встречая с совершенным спокойствием удивленную мину отца и испытующий взгляд сестры; а Мэгги, полная благодарных чувств и гордая за своего красавца брата, сердечно ответила на ее приветствие и не придала значения рассеянности Джима. Мужчины замялись было при виде этого загорелого Адониса, но тут выступил Кальверт, не отходивший ни на шаг от Мэгги, и преспокойно поздоровался с Джимом, как со старым другом и желанным гостем. С той подкупающей прямотой, которая была свойственна и ему и сестре и обеспечивала бы им почет в любом обществе, Джим рассказал, как, прочитав письмо Мэгги и боясь, что течение унесет ее в океан, он форсировал дельту вплавь, добрался до острова, а оттуда в индейском каноэ проделал по бурному морю тот же путь, что и она. Сесили слушала его, затаив дыхание, и старалась показать всем своим видом, что иного от него и не ждала.
— Если бы она его не опередила, он приплыл бы сюда и сам, — шепнула она своей сестре Эмили.
— Он гораздо красивее сестры, — ответствовала эта юная леди.
— Еще бы! —сказала Сесили. — И, заметь, она ему во всем подражает…
Этот тайный обмен мнениями не помешал обеим сестрам наперебой с молодыми офицерами ухаживать за Мэгги и вдобавок в укор тем же офицерам открыто восхвалять красоту Джима.
— Он так силен и изящен потому, что всегда в движении, всегда на лоне природы, —- сказала Эмилп, саркастически поглядывая на затянутого в рюмочку Кальверта.
— К тому ж не пьет, не полуночничает, — подхватила Сесили. — Его сестра сказала мне, что в десять вечера они уже спят; и хотя у них остался от отца запас старого виски, Джим почти не прикоснулся к нему.
— Вот в чем наше спасение! —торжественно заключил капитан Керби. — Если Кальверт после этого не подружится с молодым Кульпеппером и не выманит у него весь запас виски, значит, я не знаю Кальверта.
И действительно, Кальверта было не узнать. Все три или четыре дня, что гости по настоянию полковника Престона провели в Форте, Кальверт не прикоснулся к спиртному; он не играл по вечерам в покер и даже отговаривал других офицеров, утверждая, что их долг— развлекать дам. Смелый поступок Мэгги стал широко известен, и полковник Престон, будучи тонким политиком, пригласил в Форт по этому случаю кое–кого из обитателей Логпорта для общей дружеской встречи. Так Мэгги положила начало мирным отношениям армии с местным населением. Более того, прославившись как заступница за простых солдат, она способствовала поднятию воинского духа в самой армии. Трудно сказать, какие именно небылицы плел о ней Деннис МакКафри, отделавшийся, кстати сказать, легчайшим дисциплинарным взысканием, но называл он ее не иначе, как «царица Дедлоуских болот. Солдаты боготворили Мэгги, и в последний вечер перед ее отъездом полковые музыканты покорнейше испросили разрешения устроить в ее честь прощальный концерт.
Наконец, провожаемые офицерами вплоть до самой пристани, получив тысячу приглашений, дав тысячу согласий, обменявшись заверениями в вечной дружбе и бесчисленными рукопожатиями, Мэгги и Джим пустились в обратное плавание. По пути они были молчаливы, словно сговорившись, ни словом не касались полученных приглашений и только вспоминали своих хозяев. Ко времени, когда ялик вошел в их бухту, они совсем поддались той неясной грусти, которая так часто у молодых людей идет вслед за шумными радостями. И только после того, как, завершив скромный ужин, оба тихо уселись у огня, Джим бросил нерешительный взор на строгое, задумчивое лицо сестры.
— Ты помнишь, Мэг, мы говорили, что неплохо бы продать часть земли и прселиться в Логпорте?
Мэгги подняла на него глаза.
— Тот разговор? —тихо спросила она.
— Да.
— К чему ты его вспомнил?
— К тому, — сказал Джим, преодолевая смущение, — что можно так и сделать. Я согласен.
Поскольку сестра ничего не возразила, он продолжал все так же смущенно:
— Мисс Престон сказала, что возле Форта есть славный домик; мы можем там жить, пока не построимся сами…
— Значит, ты говорил с ней об этом?
— Ну да.., говорил… К чему ты клонишь, Мэг? Ведь ты сама все это придумала!
Он поднял на нее недоуменный и негодующий взгляд. Они сидели вдвоем в обычной вечерней позе, подобные профильным изображениям на ассирийском фризе, но схожие между собой еще сильнее ассирийских ликов.
— Ты прав, милый Джим! Но уверен ли ты, что нам следует так поступить? —спросила она тревожно и печально.
От столь разительного примера женского непостоянства и женской непоследовательности Джим на минуту просто остолбенел. Потом он вскочил с места, обиженный и многоречивый. Что Мэгги хочет этим сказать? Он совсем перестает понимать женщин! Уж не задалась ли она целью идти ему во всем наперекор, чтобы окончательно сбить его с толку? Значит, после всего, что она ему наговорила в тот вечер, после того, как они чуть не поссорились, после того, как ему пришлось прочитать ей эту дурацкую историю про Иаиль и Сисару — и все попусту! — после того, как по её же милости он разболтал всем офицерам об их планах переезда, после того, как она сама — он лично слышал это — то же самое сказала Кальверту, теперь, извольте видеть, она его спрашивает, следует ли им так поступить!
Он сперва уставился на пол, потом воззрился вверх, на потолок, словно искал поддержки и сочувствия у задымленных балок.
Между тем вызвавшая всю эту бурю девушка продолжала грустно глядеть в огонь. Потом, не поворачивая головы, она подняла красивую руку и, обняв брата за шею, притянула его поближе к себе, пока они оба, прижавшись щека к щеке, не стали походить на парный портрет в медальоне. Обращаясь, как видно, к огню в печке, она спросила:
— Ты находишь ее красивой, Джим?
— Кого? —спросил Джим, хотя румянец, вспыхнувший на его лице, уже служил ответом.
— Ты знаешь. Она тебе нравится?
Джим невнятно пробормотал, обращаясь к огню, что она «недурна собой» и одета «отлично».
— Знаешь, Мэг, — добавил он покровительственно, — и тебе не худо было бы завести такие платья, как у нее.
— Все равно я не стану такой, как она, — грустно ответила Мэгги.
— Ты так думаешь? — возразил Джим любезно, но с ноткой безнадежности в голосе. Помолчав, он добавил не без хитрости: — Если я не ошибаюсь, еще кому‑то приглянулась там одна девушка…
Но она ничего не сообщила ему на сей счет. Разочарованный, он спросил еще более лукаво:
— А тебе он понравился, Мэг?
— Он вел себя как джентльмен, — спокойно ответила она.
Оторвав взгляд от огня, Джим поглядел на сестру. Ее щека, прижатая к его щеке, была прохладной, как вечерний ветер, веявший сквозь открытую дверь, и выражение лица было мирным и тихим, как звезды в ночи.
V
Целый год каждодневно прилив и отлив сменяли друг друга на Дедлоуском болоте, но из гнезда Зимородка на них взирали одни лишь слепые, забитые ставнями окна. Когда молодые птенцы улетели в Лог- порт, то и служившие им индейцы покинули свайное жилище и вернулись к кочевой жизни в «кустах». Весенняя большая волна прибыла с традиционным визитом на кладбище морских обломков и, как видно, сочтя на сей раз обломком крушения и старый, покинутый дом, оставила несколько погребальных приношений на почерневших сваях, раскинула перед домом гирлянду из сероватого плавучего мусора и, всхлипывая, откатилась прочь, в болотные травы.
По временам к обитателям нагорья приходили вести о жизни Кульпепперов в Логпорте, и те, кто знал ранее сестру и брата по рассказам, теперь качали головами, дивясь их расточительству и сумасбродству, о которых тоже знали лишь по слухам. Но в серую предутреннюю пору, в час, когда волна прилива сменяет уходящую волну, пернатые жильцы Дедлоуского болота зловеще пророчествовали о горькой судьбе своих прежних хозяев и предавались ужасным стенаниям и необузданным жалобам. Не знаю, то ли птичка из поговорки принесла на хвосте тайные вести своим крылатым друзьям, то ли дело тут в пессимизме всей птичьей породы, но голоса Болота в эти ранние часы были исполнены горя и отчаяния. Обращая свой вопль к компании смешливых куликов на плавучем бревне, безутешная ржанка оплакивала богатство, потраченное Джимом на карты и пьяный разгул. Ворчливый журавль, вытянув длинную шею, решительно возражал против близкой продажи его любимейших убежищ на песчаной косе; после шестимесячных кутежей Джиму иного не оставалось, как продать эти земли. А сумрачный кроншнеп, предварив свою речь уверением, что всегда того ждал, теперь повторял свой унылый рассказ, как видели Джима, когда он нетвердой походкой, с распухшим от пьянства лицом брел домой с офицерской пирушки. Эта же мрачная птица каким‑то путем прознала, что Мэгги льет слезы, горюя об участи брата, что глазки ее запали от бессонных ночей, когда она ждет–поджидает его с попойки. А стайка болтливых чирков горланила вовсю, без стеснения о сплетнях, злословии, о завистливой клевете, которые шли по пятам за Мэгги с самого начала ее светской жизни. А черная казарка, горестно всхлипнув, твердила собратьям, что бедная девушка, быстро поняв, как мало подходит она к этой жизни — дикая, бесхитростная, необразованная, — не раз провожала тоскующим взором их стаю, когда они вечером высоко в небе летели домой. Казалось, настал тот предопределенный день и час, когда привычные смутные жалобы Болота обрели наконец оправдание и смысл. И в этот самый час, когда гаснет день и отступает вода и тьма в который уже раз овладевает Болотом, крохотный ялик тихо скользил по извилистой протоке, припадая временами к берегу, словно подбитая птица. Чем глубже заплывал он в Болото, тем яснее становилось, что движется он без какой- либо цели и что человек на веслах не столько стремится куда‑то приплыть, сколько остаться невидимым. Подгребя наконец к поросшей камышом отмели, неизвестный поднялся, сутулясь, и вытащил из‑под ног лежавшее на дне лодки ружье. Свет упал ему прямо в лицо; то был Джим Кульпеппер. Джим Кульпеппер! Как признать его в этом опустившемся человеке с распухшим лицом, налитыми кровью глазами, с трясущимися руками? Джим Кульпеппер! Прежним остался лишь страстный взгляд, исполненный неколебимой решимости! Он решил покончить с собой, застрелиться, чтобы его нашли мертвым, как когда‑то отца, плывущим в челноке по болотной протоке.
Это не было внезапной игрой фантазии. Эту мысль подсказал ему в пьяной перепалке посмеявшийся над ним грубый собутыльник, и Джим тотчас сбил обидчика с ног. Но с того самого дня, пробуждаясь от пьяного забытья в тоске и раскаянии, он не мог уже думать ни о чем ином. Он умрет и избавит от горя любимую сестру, искупит свою вину перед ней. И еще — так казалось злосчастному юноше — отомстит бездушной кокетке, которая год уже дразнит его и гонит искать забвения в вине и в картах. Сегодня утром полковник Престон отказал ему от дома; сейчас он разом покончит со всем. Он поднял искаженное страданием лицо, чтобы проститься с природой полуиспуганным, трепетным взглядом, когда последний луч в закатном небе открыл перед ним его старый дом; он подплыл к нему, сам не зная того, следуя извивам протоки. Вглядевшись, Джим вздрогнул и невольно присел, охваченный вдруг суеверным страхом. Забитые окна старого дома были распахнуты, на стеклах играли отблески заката; на галерее, как в старое время, стояла его сестра, поджидая его домой. Он, должно быть, лишился рассудка; или в смертный час ему даровано это прощальное видение юности?
Не прошло и минуты, как явление новой фигуры подтвердило ему, что он в здравом уме, и тотчас отвлекло его мысли от всего прочего. С нагорья к дому скакал всадник; он узнал его издалека; то был Кальверт! Предатель Кальверт! Джим давно уже заподозрил, что Кальверт был тайным возлюбленным Сесили Престон и готовился стать ее мужем. Невозмутимый, расчетливый Кальверт, пытавшийся скрыть свой сговор с Сесили притворным ухаживанием за Мэгги. Что ему надобно здесь? Или он замыслил двойную измену и решил обмануть ее, как уже обманул его? И Мэгги ждет его. Так вот почему она здесь, ждет его на свидание. Какой позор!
Он не сразу пришел в себя. Потом безотчетным движением опустил лицо в тихо струящуюся воду и поднялся обновленный, с прояснившейся головой. Полубезумная мысль о самоубийстве отступила; ее сменила новая отчаянная решимость. Так вот для чего он вернулся сюда, вот для чего захватил ружье, вот для чего приплыл к дому!
Он лег на дно челнока и стал отрывать от зыбкого берега крупные комья земли, пока не заполнил ими суденышко и не погрузил его в воду почти по самые борта. Потом, загребая руками, как веслами, он бесшумно угнал его с открытого места, словно плавучее бревно, и укрыл за грядою кустарника. Быстро оглядев черневшую низину, он схватил ружье, выбрался на оседавший под ногой берег и, пригнувшись, а кое–где и ползком стал пробираться сквозь камыш и болотные травы вперед по направлению к «кустам». Всякий другой, незнакомый, как он, с Болотом, конечно, ушел бы по плечи в черную жижу. Справа в зарослях затрещали сухие сучья под конским копытом. Значит, Кальверт оставил коня, привязал его к крайней ольхе.
Подойдя к дому, он не стал подниматься по скрипучим ступеням, а обежал кругом и по сваям, поддерживавшим заднюю часть галереи, бесшумно забрался наверх. Этим самым путем год назад взбирался и дезертир, и, подобно ему, Джим увидел теперь и услышал все, что происходило на галерее и в комнате. Кальверт стоял у распахнутой двери, как бы прощаясь. Мэгги стояла напротив, заслоняя шедший из комнаты свет; лицо ее оставалось в тени, крепко стиснутые руки она спрятала за спиной. А вокруг, во всем, как и в них самих, была печаль угасшего дня и глубокая сердечная скорбь. Непонятная дрожь охватила Джеймса Кульпеппера, его яростная решимость пропала, и влага затуманила ему глаза.
— Если я скажу вам, почему так уверен, что все это пройдет и ваш брат станет прежним, — сказал Кальверт грустно, но с обычным спокойствием речи, — то открою тем самым и долю того, о чем вы приказываете мне молчать. Когда я впервые увидел вас, то и сам вел беспутную жизнь, еще менее простительную для меня, ибо я был уже искушен и знал цену порока. Когда я лучше узнал вас и подпал под влияние вашего здорового, ясного, чистого взгляда на жизнь, когда я увидел, что одиночество, однообразие дней, людское недоверие, даже тяжкое чувство, что ты достоин иной, лучшей жизни, — все это можно побороть, победить в душе без жалких мечтаний, без недостойных забав, я полюбил вас — умоляю, услышьте меня, мисс Кульпеппер, — и вы спасли меня от гибели, меня, человека, ничего для вас не значащего, так же как спасете теперь — я глубоко в это верю — своего собственного брата, которого любите так преданно.
— Но ведь я погубила его, — возразила она с горечью. — Чтобы спастись от однообразия наших дней, от нашего одиночества, я заставила его искать этих недостойных забав, отдаться жалким — вы правы! — жалким мечтаниям.
— Нет, не вы тому виной, не такова ваша природа, — сказал он тихо.
— Моя природа! — вскричала она отчаянно, почти бешено, и в том был, казалось, отклик на нежность, прозвучавшую в его словах. — Моя природа! Что знаете вы о ней, что знает он?! Моя природа! Я скажу вам, чего требовала моя природа, — страстно продолжала она. — Отомстить вам всем за жестокость, за подлость и зло, причиненное мне и моим близким в прошлом и теперь. Расплатиться сполна за оклеветанного отца, за ту ночь, что мы с Джимом провели на Болоте одни у его мертвого тела. Вот что гнало меня в Логпорт… желание поквитаться с вами… подразнить вас всех и… да… одурачить. Вот, вы знаете все. И что же теперь, когда бог покарал меня за мой замысел, погубив моего брата, вы хотите, чтобы я… чтобы я позволила вам погубить и меня?
— Нет, — пылко сказал он, подавшись вперед, — вы жестоки ко мне… И еще более жестоки к себе.
— Ни шагу! — приказала она, отступая и по–прежнему пряча крепко стиснутые руки за спиной. — Стойте на месте. Вот так! — Она выпрямилась и уронила руки. — Поговорим о Джиме, — сказала она холодно.
Он глядел на нее, словно не слышал ее слов, и во взгляде его была грусть и безнадежность.
— Зачем вы внушили моему брату, будто вы влюблены в Сесили Престон?.. — нетерпеливо спросила она.
— Иначе мне пришлось бы признаться ему в безнадежной страсти к его сестре. Вы горды, мисс Кульпеппер, — добавил он, и в его голосе впервые послышалась горечь. — Почему вы отказываете в гордости другим?
— Нет, — коротко возразила она. — Это не гордость, а малодушие. Вы могли сказать ему правду. Сказать, что нет и не будет ничего общего между семейством этой девушки и такими дикарями по природе и по привычкам, как мы, что между нами пропасть такая же бескрайняя и черная, как это Болото; а если они, ища забавы, придут однажды к нам, как приходит прилив, Болото не отпустит их назад, поглотит их навсегда. А если бы Джим не поверил вам, вы могли рассказать ему о себе. Сказать ему все то, что сказали мне. Что вы, офицер и светский человек, вообразили вдруг, что любите меня — необузданную и темную дикарку, и я, не столь беспощадная к вам, как вы ко мне и к Джиму, отвергла ваши признания, чтобы не связать вас навеки с собой и не увлечь в Болото.
— Вы могли не говорить этого, мисс Кульпеппер, — сказал Кальверт все с той же тихой улыбкой, — я и так знаю, что ниже вас во всем, кроме одного…
— Кроме чего? — быстро спросила она.
— Моей любви.
Сейчас его лицо напряглось и застыло, как у нее; он медленно повернулся к двери, потом остановился.
— Вы хотите, чтобы я говорил о Джиме и ни о чем больше. Так вот, послушайте. Я думаю, мисс Престон любит его в той мере, в какой любовь вообще доступна ее юной ветреной натуре. Так что, лишая его надежды, я обманул бы его, а обман всегда жесток, толкает ли нас к нему любовь, или то, что мы зовем рассудком. Если мои слова могут спасти его, молю вас, будьте милосерднее к нему, чем были ко мне и — смею ли сказать? — к себе самой.
Все еще держа кепи в руке, он медленно перешагнул порог.
— Я уезжаю завтра в бессрочный отпуск и, наверное, никогда более не встречу вас. Потому не поймите меня превратно, если я повторю вам то, что твердят все ваши друзья в Логпорте. Они просят вас еще подумать, вернуться к ним, не оставаться здесь. Они любят вас и ценят вас, поверьте, невзирая на вашу гордость, или нет, вернее сказать, благодаря вашей гордости. Доброй ночи и до свидания.
Обернув застывшее лицо к окну, она сделала легкое внезапное движение, словно хотела вернуть его, но дверь напротив скрипнула, и в комнату неслышным шагом вошел ее брат. Мелькнуло ли у нее воспоминание о дезертире, который год тому назад вошел в эту самую дверь, или что‑то в тот миг странным образом поразило ее в заляпанной грязью одежде и в несмелой, молящей улыбке брата, или то был отблеск отчаянной борьбы в ее душе, но едва он взглянул ей в глаза, как улыбка его погасла и, моля о прощении, испуганный, он рухнул к ее ногам. Суровость ее пропала, она обняла его, и слезы их смешались…
— Я все слышал, милая Мэг! До единого слова! Прости меня! Я был безумен… Не ведал, что творю… Но я исправлюсь… Я стану лучше! Ты не будешь краснеть за меня. Никогда! Я клянусь!
Склонившись, она поцеловала его. Еще минута, и несмелая мальчишеская улыбка заиграла на его лице.
— Ты слышала, что он сказал о ней, Мэг? Ты думаешь, это правда?
Улыбнувшись грустной, почти материнской улыбкой, она пригладила влажные кудри, упавшие ему на лоб, но ничего не сказала.
— И еще, милая Мэг, не кажется ли тебе, что ты была… самую малость… суровой с ним? О, нет, ради бога, не гляди на меня так! Я сказал, не подумав. Тебе лучше знать… Подними головку, милая Мэг. Прислушайся, Мэг! Ты помнишь?
Оба подняли взор, и перед ними за распахнутой дверью открылась смутная даль. Казалось, рожденные гаснущим днем, готовые стихнуть, умереть вместе с ним, над рекой и Болотом донеслись прощальные звуки игравшей в Форте трубы.
— А ну, вспомни, как ты любила напевать, Мэг! — Ничто в ее взгляде более не пугало его.
— Да, — улыбнулась она, нежно прижавшись к его щеке холодной щекой. — О да! Это было, и это ушло. «Словно песня»… Да… «Словно песня».
ПОЧТМЕЙСТЕРША ИЗ ЛОРЕЛ-РЭНА
Глава I
Дилижанс только что миновал на полном ходу Лорел-Рэн. Облако пыли, которое протянулось за ним вдоль крутого склона, еще долго висело над землей, когда дилижанс уже скрылся из виду, а затем постепенно рассеялось, оставив красный осадок на раскаленной платформе почтовой конторы в Лорел-Рэне.
Из этого облака возникла стройная фигура почтмейстерши, стоявшей рядом с почтовым мешком, который был ловко сброшен на ходу к ее ногам с крыши дилижанса. Несколько зевак торопливо протянули было руки, чтобы помочь молодой женщине, но кто-то из публики удержал их словами: «Нет, это против правил, ребята, — кроме нее, никто не должен трогать мешок», а сама почтмейстерша кокетливо покачала головой — это было более действенно, чем любое официальное запрещение.
Мешок был не очень тяжелый — Лорел-Рэн был совсем новый поселок и не мог еще привлекать много корреспонденции, — и молодая женщина, ухватив его инстинктивным кошачьим движением, не без усилий потащила его в контору, за перегородку, и заперла за собой дверь. Ее хорошенькое личико, на мгновение мелькнувшее в окне, слегка раскраснелось от напряжения, а растрепавшиеся пряди светлых волос, влажных от пота, завились на лбу в соблазнительные колечки. Но окошко быстро захлопнулось, и мимолетное пленительное видение исчезло из глаз ожидающих зрителей.
— Правительство могло бы быть поумнее и не заставлять женщину подхватывать почтовые мешки посреди дороги, — сочувственно заметил Джо Симмонс. — Ведь это же не входит в ее обязанности. Правительство могло бы вручать ей почту как даме. Для этого оно достаточно богато и достаточно отвратительно.
— Дело тут не в правительстве. Это все штучки компании дилижансов, — перебил его один из подошедших людей. — Они думают, это очень красиво — проноситься мимо и заставлять всех нас глотать пыль, оттого что по их контракту здесь нет остановки. Если бы этот самый кондуктор, который швырнул сумку, если бы он чувствовал, что значит дама... — Но тут он умолк, заметив улыбки слушателей.
— Видать, что ты не очень-то знаешь чувства кондуктора, — мрачно сказал Симмонс. — Посмотрел бы ты, как он нянчится с этим мешком, точно с младенцем, когда несется с холма, а потом встанет и протягивает его миссис Бэйкер, как будто это пятидолларовый букет! Его чувства! Да он смертельно врезался, мы только того и ждем, что он вдруг забудет все на свете и сам свалится к ее ногам вместо мешка.
Тем временем за перегородкой миссис Бэйкер вытерла красноватую пыль с почтового мешка, запертого на висячий замок, и отцепила какой-то добавочный пакет, привязанный проволокой. Вскрыв его, она обнаружила изящный флакончик духов — очевидно, подарок от преданного кондуктора. Слегка улыбнувшись, она отложила его в сторону и пробормотала:
— Вот еще глупости!
Но когда она отперла мешок, оказалось, что даже его священное нутро тоже осквернено секретной посылкой от соседнего почтмейстера в Брэнт-Ридже — в ней были рекламная золотая брошка и билеты в цирк. Все это она отложила в сторону вместе с духами. Все это было суета сует и, очевидно, могло вызвать в ней только досаду.
Всего прибыло семнадцать писем, из них пять — ей лично; в этот день ее доля писем была меньше, чем обычно. Два конверта с пометкой «служебное» она быстро, чисто по-женски, отложила в сторону, но не туда, где лежали подарки, а в другой ящик. Затем она открыла окошко, и началась выдача корреспонденции. Выдача сопровождалась своеобразной церемонией, которая к этому времени прочно укоренилась в Лорел-Рэне. Выдавая письма мужчинам, которые терпеливо выстроились цепочкой, молодая женщина использовала этот простейший акт как способ для личной, хоть и короткой беседы на специальные или общие темы — для разговора шутливого или серьезного, смотря по характеру собеседника. Легко понять, что со стороны мужчин разговор почти всегда носил характер комплиментов. Но при этом неизменно соблюдалась тонкая сдержанность. Было ли тут дело в тактике или в личном благородстве, но разговор никогда не переходил границ вежливости и деликатного уважения.
В результате выдача писем более или менее затягивалась, хотя каждый, воспользовавшись своими тремя-четырьмя минутами для разговора с миловидной почтмейстершей (беседа иной раз тормозилась робостью или застенчивостью мужчин или же сводилась к неопределенным улыбкам), безропотно уступал место следующему. Это был настоящий «прием», смягченный деревенской простотой и тактом, добродушием и. бесконечным терпением, — со стороны он мог бы показаться смешным, если бы не был таким серьезным, а иногда и трогательным.
Все это было весьма характерно для места действия и для того времени и, разумеется, истинной подоплекой этого была история жизни миссис Бэйкер.
Она была женой Джона Бэйкера, десятника на прииске «Последний шанс», который год назад был погребен под .слоем обрушившейся породы у Бэрнт-Риджа в туннеле длиной в полмили.
Однажды в ясный знойный полдень из-под земли послышался внезапный крик, и Джон еле вырвался из своей хижины — молодая, легкомысленная и кокетливая жена цеплялась за него, — чтобы кинуться на помощь тем, кто в отчаянии взывал к нему. Там был еще один выход на поверхность, известный только ему, и, быть может, еще удастся отстоять этот выход в лабиринте рушащихся стен и шатающихся деревянных креплений, покуда люди не выйдут на свободу. Лишь на мгновение этот сильный человек заколебался между мольбами жены и отчаянными криками своих собратьев. Но вдруг она сама встала и сказала ему, побледнев:
— Иди, Джон. Я буду ждать тебя здесь.
Он пошел, люди были спасены, — но она не дождалась мужа!
И, однако, перенеся этот страшный удар и потом под гнетом нужды, в разоренном лагере, она почти не изменилась. Зато переменились мужчины. Казалось, что она все та же легкомысленная, хорошенькая Бетси Бэйкер, которая так сильно волновала сердца молодых старателей. Но, по-видимому, и они стали смотреть на нее другими глазами.
Казалось, всех охватило какое-то тайное благоговение и уважение, словно мученический призрак Джона Бэйкера все еще стоял рядом с ней. Затаив дыхание, смотрели они, когда мимо проходила эта красивая женщина, сохранившая после недолгого траура и веселость и живость ума. Единственная женщина среди сорока мужчин, она не покинула своей хижины и лагеря в самое тяжелое время. Она помогала им стирать и готовить. Входила во все их домашние нужды, причем неприкосновенность ее хижины свято соблюдалась, как будто здесь находилась его могила. Никто не знал, почему все происходило именно так, — это был молчаливый инстинкт. Но даже те двое или трое, которые не стеснялись ухаживать за Бетси Бэйкер при жизни Джона Бэйкера, теперь избегали и намека на какую-либо фамильярность в отношении женщины, которая сказала: «Я буду ждать тебя здесь».
Когда наступили более радостные дни и поселок увеличился на одну или две семьи, были собраны втуне лежавшие средства, чтобы проникнуть к все еще блокированным обвалом богатствам Бэрнт-Риджа. Нужды поселка и права вдовы Джона Бэйкера были так хорошо изложены в политических сферах штата, что специально для нее была учреждена почтовая контора в Лорел-Рэне. Каждый принимал участие в постройке красивого и вместе с тем прочного дома — единственного общественного здания в Лорел-Рэне; оно стояло возле пыльной большой дороги на расстоянии полумили от поселка. Здесь она находилась лишь в известные часы дня, ее так и не уговорили покинуть хижину Джона Бэйкера. Здесь вместе со всем уважением, подобающим государственному служащему, ей было обеспечено спокойствие и уединение.
Но слепая преданность Лорел-Рэна вдове Джона Бэйкера этим не ограничилась. Чтобы доказать властям необходимость почтовой конторы в Лорел-Рэне и обеспечить почтмейстерше постоянную штатную должность, люди совершали сумасбродные поступки. В течение первой недели продажа марок в почтовой конторе превзошла все, что значилось в анналах почтового ведомства. За марки новых выпусков платили фантастические суммы. Марки покупались дико, безрассудно, без нужды, по всякому поводу. Комплименты у маленького окошка почти неизменно заканчивались словами: «И еще на доллар марок, миссис Бэйкер».
Считалось особо деликатным приобретать самые дорогие марки, хотя бы и совершенно неподходящие. Стремились только к количеству: все исходящие письма были сверх-оплачены и обклеены марками в угрожающей пропорции к весу и даже к размеру конверта. Когда же миссис Бэйкер указала на нелепость такого поведения и на опасность его для репутации Лорел-Рэна в главной почтовой конторе, марками стали пользоваться как местной валютой и даже для украшения зеркал и стен в хижинах. Каждый писал письма, и в результате отправляемая корреспонденция самым нелепым и подозрительным образом превышала по количеству корреспонденцию получаемую.
Чтобы выправить положение, избранные специально для этой цели отряды совершали форсированные переходы в Хикори-Хилл, в ближайшую почтовую контору, и отправляли сами себе письма и рекламные проспекты в Лорел-Рэн.
Кто знает, как долго продолжались бы эти сумасбродства, но они сразу утихли, когда прошел слух, будто министерство почты решило, что при таком размахе операций для Лорел-Рэна больше подойдет почтмейстер-мужчина. В конце концов был достигнут компромисс с главной почтовой конторой — почтмейстерше назначили постоянный оклад.
Такова была история миссис Бэйкер, которая только что закончила дневной прием, с улыбкой попрощалась с последним клиентом и снова закрыла окошко. Оставшись одна, она взяла было свои личные письма, но, прежде чем прочесть их, бросила нетерпеливый взгляд на два официальных конверта, которые она отложила в особое отделение. Обычно она находила в них либо «кучу новых правил», либо уведомления, либо «нелепые вопросы», не имеющие никакого отношения к Лорел-Рэну, которые только раздражали ее и «вызывали головную боль». Все это она отсылала своему влюбленному коллеге в Хикори-Хилл, чтобы получить от него разъяснения, а тот обычно возвращал ей эти материалы с краткими замечаниями на обороте, вроде «Не стоит внимания, не беспокойтесь», или «Чепуха, пусть себе лежит». Сейчас она вспомнила, что два последних письма он ей не вернул. Нахмурив брови и слегка надув губки, она отложила в сторону свои частные письма и вскрыла одно из служебных. С официальной лаконичностью ей указывали, что она не ответила на сообщение, посланное ей на прошлой неделе, и напоминали о параграфе 47-м. Опять эти гадкие параграфы! Она вскрыла другой служебный конверт, и брови ее снова нахмурились.
Это был перечень каких-то денежных писем, пропавших в пути и о которых, оказывается, ей уже сообщалось. У нее вспыхнули щеки. Да как они смеют! Что они хотят сказать! Ее накладные и реестр всегда были в порядке. Она знала по фамилии каждого мужчину, каждую женщину и ребенка в своем районе. В Лорел-Рэне никогда не было тех фамилий, какие значились на пропавших письмах. Из Лорел-Рэна никогда не отправлялись письма по этим адресам. Что за низкая клевета! Да она сейчас же подаст в отставку! Она скажет «ребятам» — пусть напишут оскорбительное письмо самому сенатору Слокуму — у миссис Бэйкер было чисто женское представление о правительстве как о чисто личном учреждении. Она выяснит, кто именно подбил их на этакую сплетню, на это низкое бесстыдство. Не иначе, как та старая лупоглазая жена почтмейстера из Хэвитри-Кроссинга, которая к ней ревнует. «Напоминаем о нашем оставшемся без ответа уведомлении», — ах, неужели! Но куда же в самом деле девалось это уведомление? Она вспомнила, что отослала его своему поклоннику в Хикори-Хилл. Странно, что он не ответил. Ну, конечно же, он узнал об этой низости — неужели и он осмелился ее подозревать! От этой мысли она снова побагровела. Ведь он, Стентон Грин, был старый лорелрэнец, друг Джона Бэйкера, пусть чуточку «пустяковый» и «самонадеянный», но все же старый, верный пионер их лагеря. Так почему же он не высказался откровенно?
С дороги донесся мягкий, приглушенный густой пылью стук копыт, звон шпор, потом твердые шаги по платформе. Наверное, кто-нибудь из ребят вернулся, чтобы сказать ей еще несколько слов, под сомнительным предлогом, будто бы он забыл взять марки. Так случалось и раньше, и она негодовала и называла это «шакальством». Но сейчас ей не терпелось излить свою обиду первому встречному. Она стремительно взялась за ручку двери в перегородке и тут же остановилась с новым для нее ощущением, оскорбленного достоинства. Могла ли она открыться своим обожателям? Но тут дверь распахнулась прямо ей в лицо, и вошел какой-то незнакомец.
То был человек лет пятидесяти, плотного, сильного сложения. Прямоугольная, чуть тронутая сединой бородка начиналась у красивого рта с тонкими губами, глаза у него были темные, веселые и в то же время проницательные. Но отличительной чертой, поразившей миссис Бэйкер в незнакомце, была смесь городской непринужденности с откровенностью пограничника. Несомненно, перед ней был человек, повидавший свет. Одет он был удобно и просто, как любой путешествующий верхом калифорниец, но ее женский, хоть и неопытный глаз сразу же подметил секрет его респектабельности: тщательно завязанный узел галстука. Жители Сиерры предпочитали держать шею открытой, свободной, ничем не скованной.
— Здравствуйте, миссис Бэйкер, — сказал он, улыбаясь и тотчас сняв шляпу, — я — Гарри Хоум из Сан-Франциско.
При этом незнакомец одобрительно оглядывал добротную перегородку, разложенные в порядке бумаги, аккуратные гнезда для корреспонденции, цветочный горшок на письменном столе и кокетливую соломенную шляпку с лентами, висевшую на стене вместе с накидкой из китайского шелка. Затем он перевел взгляд на ее румяное, разгоревшееся лицо, ясные голубые глаза и тщательно приглаженные волосы и, наконец, заметил кожаный почтовый мешок, все еще лежавший на столе. Он так и впился глазами в злополучную проволоку, прицепленную влюбленным кондуктором, — она все еще висела на медных петлях замка. Незнакомец протянул к ней руку.
Но маленькая миссис Бэйкер опередила его и схватила мешок в свои объятия. Она так углубилась и запуталась в своих мыслях, что не обратила внимания на его вторжение за перегородку, но это вольное отношение к неприкосновенной государственной собственности — хоть и пустой — переполнило чашу ее обид.
— Как вы смеете трогать мешок! — воскликнула она с возмущением. — Как вы смели войти сюда? Кто вы собственно такой? Сейчас же выйдите вон!
Незнакомец отступил с жестом шутливого возмущения и беззвучно рассмеялся.
— Боюсь, что вы так-таки и не узнали меня! — сказал он весело. — Я Гарри Хоум, инспектор министерства почты в сан-францисской конторе. Мое уведомление № 201, с моей фамилией на конверте, должно быть, тоже пропало.
Несмотря на испуг и удивление, миссис Бэйкер мигом сообразила, что и это уведомление она отослала в Хикори-Хилл. Вместе с тем в ней пробудилась инстинктивная женская скрытность, и она промолчала.
— Я должен был все объяснить сразу, — продолжал он, улыбаясь, — и вы совершенно правы, миссис Бэйкер, — прибавил он, кивнув в сторону мешка. — Раз вы меня не знаете, я не имел права касаться мешка. Рад видеть, что вы умеете защищать имущество дядюшки Сэма. Я только заинтересовался (он указал на проволоку), была ли на мешке эта штука, когда вам его доставили.
Миссис Бэйкер не видела надобности скрывать правду. В конце концов этот чиновник такой же мужчина, как все прочие, пусть же он поймет, как она обаятельна.
— Все это глупости кондуктора, — сказала она, вздернув не без кокетства головку. — Он считает, что очень шикарно привязывать к почтовому мешку всякую чепуху, перед тем как его сбросить.
Должно быть, мистер Хоум, устремив взор на ее хорошенькое личико, находил подобное безрассудство весьма человечным и довольно простительным.
— Ну, раз этот кондуктор не суется в содержимое мешка, то, мне кажется, вам придется примириться с этим, — заметил он со смехом.
Она вздрогнула, припомнив, что почтмейстер из Хи-кори-Хилла использовал и внутренность почтовой сумки для пересылки своих «глупостей». Но сейчас в этом никак нельзя было признаваться. Вероятно, на ее лице отразилось волнение, так как чиновник продолжал успокоительным, почти отеческим тоном:
— Хватит об этом. Теперь, миссис Бэйкер, перейдем к делу. Так вот, вкратце: это дело вас совершенно не касается, — я только хочу снять с вас, как и с некоторых других служащих, тоже хорошо знакомых министерству, известную ответственность и, быть может, рассеять ваши опасения. Мы прекрасно осведомлены обо всем, что касается Лорел-Рэна, и я думаю (тут он слегка поклонился), достаточно знаем о вас и Джоне Бэйкере. Все, что мне нужно, это занять ваше место сегодня вечером для встречи дилижанса, который приходит, как вы знаете, в девять тридцать.
— Да, сэр, — поспешила ответить миссис Бэйкер, — но этот дилижанс нам никогда ничего не привозит (она запнулась, вспомнив некоторые подношения своего вздыхателя Грина), кроме уведомления из почтовой конторы в Хикори-Хилле. Дилижанс отходит оттуда, — продолжала она с подчеркнутой точностью, — ровно в половине девятого и идет около часу — семь миль пути.
— Правильно, — ответил мистер Хоум. — Так вот, я приму мешок, проверю его и отправлю дальше. А вы можете отдыхать, если вам угодно.
— Но как же быть, — возразила миссис Бэйкер, вспомнив, что в Лорел-Рэне особенно ценят ее вечерний прием, когда она всего свободнее, — ведь люди придут за письмами.
— Мне кажется, вы сами сказали, что в это время писем не бывает, — быстро откликнулся мистер Хоум.
— Нет... но... но... (она слегка заикалась) ребята все равно приходят.
— Вот как! — сухо сказал мистер Хоум.
— О господи!
Но тут она вообразила всеобщее разочарование лорелрэнцев, разглядывающих в окошке бородатую физиономию мистера Хоума вместо ее гладких щечек, и эта картина вместе с нервным возбуждением так на нее повлияла, что она закрылась своим маленьким, в оборочках, передником в приступе истерического смеха.
Мистер Хоум терпеливо ожидал, пока кончится этот приступ, и, когда она пришла в себя, спросил:
— Кстати, я хотел бы взглянуть на первое уведомление, которое я вам послал. Оно у вас под рукой?
Лицо миссис Бэйкер вытянулось:
— Нет. Я отослала его мистеру Грину в Хикори-Хилл, для сведения.
— Что такое??
Напуганная внезапной серьезностью мистера Хоума, она еле-еле вымолвила, что обычно не читает служебных писем, а сразу отсылает их своему более опытному коллеге, чтобы получить совет или информацию; что она сама никогда не могла понять их содержания — от них только голова болит и они мешают ей исполнять другие обязанности, — зато он в них прекрасно разбирался и писал ей, что надо сделать. Тут она снова покраснела, вспомнив обычный стиль его примечаний на обороте.
— Так что же он ответил?
— Ничего. Он их не вернул.
— Понятно, — заметил мистер Хоум с какой-то странной интонацией: Некоторое время он молча поглаживал свою бородку, а потом посмотрел на перепуганную женщину.
— Вы вынуждаете меня, миссис Бэйкер, говорить более откровенно, чем я собирался. Без умысла, как я надеюсь, вы дали сведения человеку, которого власти подозревают в казнокрадстве. Сами того не зная, вы предупредили почтмейстера в Хикори-Хилле о том, что он на подозрении. Возможно, что этим вы расстроили наш план раскрытия серии растрат и тем самым причинили большой вред себе самой как ближайшей соседке Хикори-Хилла, ответственной за это в следующую очередь. Короче говоря, мы установили путь пропавших ценных писем вплоть до пункта где-то между этими двумя почтовыми конторами. Скажу вам без колебаний, что мы не подозреваем Лорел-Рэн и никогда его не подозревали. Даже результат вашего необдуманного поступка подтверждает наши подозрения относительно этого почтмейстера. Предупреждение на него не подействовало, видно он стал безрассудным: с тех пор пропало еще одно ценное письмо. Во всяком случае сегодняшний вечер разрешит все сомнения. Если я при проверке почтового мешка в этой конторе не найду в нем определенное денежное письмо, уже зарегистрированное в Хэвитри-Кроссинге, я буду знать, что оно осталось у Грина в Хикори-Хилле.
Она побледнела, дух у нее захватило, и она откинулась назад на стуле. Хоум добродушно взглянул на нее и взялся за шляпу.
— Не волнуйтесь, миссис Бэйкер. Ведь я вам сказал с самого начала — вам нечего опасаться. Ваша необдуманность и незнание правил только подтверждают вашу невиновность. Никто об этом не узнает: в министерстве не принято разглашать наши дела. Кроме вас, ни одна душа не знает об истинной цели моего приезда. Сейчас я оставлю вас на некоторое время, чтобы не возбудить излишних подозрений. Вечером вы, как всегда, придете и встретитесь со своими друзьями. Я буду здесь только к приходу дилижанса, чтобы открыть мешок. До свидания, миссис Бэйкер; неприятное это дело, конечно, но такая уж наша служба! Я видел вещи похуже, и слава богу, что вы здесь ни при чем.
Она слышала его удаляющиеся шаги в приемной; потом они затихли на платформе. Звяканье шпор и глухой стук конских копыт отразились, словно эхо, в ее сердце. Она осталась одна.
В комнате было очень жарко и очень тихо; слышно было, как коробится и поскрипывает кровельная дранка, остывающая под слабеющими, почти горизонтальными лучами солнца. Конторские часы пробили семь. В наступившей снова мертвой тишине дятел принялся за свою прерванную работу на крыше, и казалось, что это он монотонно вдалбливает ей в ухо последние слова незнакомца: Стентон Грин — вор!
Стентон Грин, один из тех «ребят», которым Джон Бэйкер помог выбраться при обвале туннеля! Стентон Грин, чья старая мать, живущая в восточных штатах, все еще присылает ему письма в Лорел-Рэн, через несколько часов будет опозорен и навеки погублен! Теперь она вдруг вспомнила, как это обычно бывает с беспечными женщинами, разговоры о его безрассудствах и широкой жизни, которые она раньше оставляла без внимания. Мысль о подарках, явно превышавших, как она теперь видела, его средства, наполняла ее стыдом. Что скажут ее ребята? Что сказал бы Джон? Нет, что сделал бы Джон?
Внезапно она встала на ноги, бледная и похолодевшая, как в тот день, когда рассталась с Джоном возле туннеля. Надев! шляпку и накидку, она подошла к стоявшему в углу железному сейфу, отперла его и вынула все золото и серебро, что там было. Она уже дошла до двери; когда ей пришла в голову новая мысль. Она открыла конторку, собрала все марки до последнего листа, поспешно свернула их и спрятала под накидкой. Затем бросила беглый взгляд на часы, на дорогу перед платформой, и словно растаяла в поджидавшем ее лесу.
Глава II
Войдя в гостеприимную тень длинной вереницы сосен, миссис Бэйкер шла лесом, пока не оставила далеко вправо маленький поселок Лорел-Рэн и не вышла на открытый косогор Бэрнт-Риджа, где, как она знала, мирно пасся мустанг Джо Симмонса, по прозванию Синяя Молния. Она часто ездила на этом коне, и сейчас, когда она отвязала длинную, в пятьдесят футов, риату, мустанг разрешил ей привычную фамильярность: запустив пальцы в синеватую гриву, она взобралась на его спину.
Навес для хранения инструментов, где всегда висели седло и уздечка Джо Симмонса, находился поблизости. Прискакав туда никем не замеченная, она вспомнила проказы былых дней и мигом оборудовала из мексиканского седла Симмонса дамское седло, с высокой лукой, приспособив для этого одеяло. Поднявшись в седле, она быстро скинула плащ, подвязала его за рукава к талии, подоткнула под колено и распустила вдоль бока лошади. В это время мустанг уже поддался своим лошадиным воспоминаниям и навострил уши. Миссис Бэйкер издала веселое восклицание, столь знакомое коню, и через мгновение оба понеслись к перевалу.
Тропинка, крутая, тяжелая, а местами и опасная, позволяла выгадать добрых две мили по сравнению с большой дорогой. Здесь было меньше шансов встретить кого-нибудь. Более крупные каньоны уже погрузились в тень; очертания дальних хребтов подчеркивались зарослями сосен, и на небе рисовались отдельные силуэты; воздух был еще теплый — холодный ночной ветер, она это хорошо знала, еще не начал спускаться с гор. Нижний край Бэрнт-Риджа еще не был захвачен надвигавшейся тенью горы, к которой она мчалась. Она могла без часов, с точностью до минуты, определять время по этому знакомому, медленно меняющемуся циферблату, который раскинулся перед ней. Вот холм Хэвитри, вершина пониже, уже стерт теневой указательной стрелкой — половина восьмого! А дилижанс придет в Хикори-Хилл ровно в половине девятого. Она должна, по возможности, добраться туда раньше, — дилижанс простоит минут десять, пока сменят лошадей, и надо поспеть до его отхода.
До ближайшего подъема оставалось две мили ровного пути. Ну, Синяя Молния, покажи себя! А это было дело серьезное — ее шляпка с развевающимися лентами низко пригнулась к синеватой гриве, шелковая накидка струилась над конской спиной, когда она неслась по обширному плоскогорью, как сойка, парящая в воздухе. Еще несколько птичьих взлетов и спусков на неровностях, и вот начинается длинный, мучительный подъем на перевал.
Весь в поту, облепленный пылью, скользя по измельченной в порошок почве, шатаясь как пьяный, в красном тумане пыли, кашляя, фыркая и дергая головой, неожиданно пугаясь и слабея на каком-нибудь легком откосе или преодолевая ловким, отчаянным рывком крутизну, мустанг не переставал думать о своей наезднице. Да, дьявольская проказница — это легко сидящее, ласковое, льстивое, воркующее создание!
Теперь-то он ее хорошо припомнил. Ну, ладно! Гоп-ла! И, прыгая как заяц, брыкаясь, переходя то на рысь, то на легкую иноходь, подскакивая на трех ногах — одним словом, резвясь так, как умеет только калифорнийский мустанг, — Синяя Молния, непобедимый конь, вымахнул, торжествуя, на вершину. Вечерняя звезда только что блеснула сквозь золотистую дымку на горизонте — восемь часов! Теперь она поспеет! Но тут внезапно на нее нашло сомнение. Да, она знает эту лошадь, знает тропинку, знает себя, — но знает ли она человека, к которому едет? Холод охватил ее, она вздрогнула от неожиданного дуновения ветра. Ночь спустилась, наконец, с невидимой уже Сиерры и окутала все, к чему прикасалась. Но до Хикори-Хилла оставался теперь один лишь длинный спуск, и она благополучно спустилась туда на крыльях ночи. Половина девятого! Прямо перед ней были огни поселка и среди них два фонаря дилижанса, ожидающего перед почтовой конторой и гостиницей.
По счастью, праздная толпа собралась возле гостиницы, и она незаметно проскользнула в контору через задний ход. Когда она вошла за перегородку, там был только один человек — красивый молодой парень с рыжеватыми усиками; он повернулся к ней в порыве радостного удивления. Но как изменилось это выражение при виде ее бледного, решительного лица и блестящих глаз, смотревших мимо него на большой, широко раскрытый почтовый мешок у его конторки.
— Где транзитное денежное письмо, которое пришло с этой почтой? — быстро спросила она.
— Что... что... вы... хотите сказать? — пробормотал он, и лицо у него стало еще бледнее, чем у миссис Бэйкер.
— А то, что это — ловушка, что оно уже проверено в Хэвитри-Кроссинг и что мистер Хоум из Сан-Франциско ожидает сейчас в моей конторе, чтобы узнать, взяли ли вы его.
Улыбка и ложь, которыми он готовился ответить, так и не появились на его губах. Повинуясь ее суровому и правдивому взгляду, он почти машинально повернулся к конторке и достал пакет.
— Боже мой! Вы его уже вскрыли! — крикнула она, показывая на взломанную печать.
Не столько слова, сколько ее вид, убедил его, что она знает все. И под влиянием тревоги и отчаяния, прозвучавшего в ее голосе, он заговорил, заикаясь:
— Да! Я был должен по счетам. Инкассатор ждал здесь денег, и я вынул кое-что из пакета. Но я собирался пополнить это со следующей почтой... клянусь вам.
— Сколько вы взяли?
— Только чуточку. Я...
— Сколько?
— Сто долларов!
Она вытащила из кармана деньги, которые захватила с собой из Лорел-Рэна, отсчитала нужную сумму и вложила ее в пакет. Он кинулся за сургучом, но она остановила его и бросила пакет в почтовый мешок.
— Не надо. Раз деньги окажутся в мешке — значит пакет мог разорваться и случайно. Надорвите слегка еще один или два пакета — вот так, — она взяла связку писем и принялась топтать ее, пока не распустилась скрепляющая тесемка.
— А теперь дайте мне что-нибудь тяжелое.
И она схватила медную двухфунтовую гирю и с той же лихорадочной, но сосредоточенной поспешностью завернула ее в бумагу, запечатала, наклеила марки и, написав на ней большими печатными буквами свой собственный адрес, бросила ее в мешок. Затем она закрыла и заперла его. Грин попытался помочь, но она опять отстранила его.
— Пошлите за кондуктором, а сами на минутку уйдите, — сказала она отрывисто.
Чувство страха у него прошло. Его сменило бессильное восхищение и неразумная страсть. Он в волнении повиновался, не произнеся ни слова. Миссис Бэйкер вытерла свой влажный лоб и запекшиеся губы и отряхнула юбку. Молодой кондуктор вздрогнул от неожиданности, увидев у окошка ее сверкающие глаза и скромную улыбку.
— Миссис Бэйкер!
Она поспешно приложила пальчик к губам и придала своему лукавому лицу выражение загадочное и необъяснимое.
— Сегодня, Чарли, на моем месте в Лорел-Рэне сидит щеголь из Сан-Франциско.
— Да, мэм.
— И как жаль, что ваш дилижанс так кидало и бросало по дороге сюда.
— Как?
— Так вот, — продолжала миссис Бэйкер самым серьезным тоном, хотя глаза у нее так и играли, — будет просто ужасно, если этот аккуратный городской клерк откроет мешок и увидит, что в нем все перемешалось. Ни за что на свете, Чарли, я не хотела бы причинить ему такое беспокойство.
— Да, мэм, на вас это не похоже.
— Так вы будьте особенно внимательны, прошу вас, ради меня.
— Миссис Бэйкер, — сказал Чарли с бесконечной серьезностью, — если этот мешок даже десять раз вывалится по дороге до Лорел-Рэна, я каждый раз сам буду спрыгивать и подбирать его.
— Спасибо. Вашу руку!
И они обменялись крепким рукопожатием через окошко.
— А вы не поедете с нами, миссис Бэйкер?
— Конечно, нет. Это невозможно, меня ведь здесь и не было. Поняли?
— Безусловно!
Она подала ему мешок через дверь. Он бережно принял его, но, несмотря на все предосторожности, дважды свалился на него по пути к дилижансу, а судя по некоторым возгласам и шуму, такое же невезение сопровождало и подъем мешка на крышу.
Миссис Бэйкер вернулась в контору, и едва затих стук колес дилижанса, в изнеможении бросилась в кресло и, вопреки логике, в первый раз дала волю слезам. Вдруг она почувствовала, что ее схватили за руку, и увидела, что перед ней на коленях стоит Грин. Она встала.
— Не уходите, — сказал он в истерическом порыве, — выслушайте меня, ради бога! Я погиб, я знаю, хотя вы только что спасли меня от разоблачения и позора. Я был безумцем! Я знаю, как глупо то, что я делал, но вы не знаете всего... вы не знаете, для чего я это делал. Вы не представляете, какое искушение толкало меня. Послушайте, миссис Бэйкер. Я старался добыть денег — честно, бесчестно, любым путем, — только бы понравиться вам, только бы стать достойным вас... только бы разбогатеть, чтобы иметь возможность предложить вам свой дом и увезти вас из Лорел-Рэна. Все это было для вас, все ради моей любви к вам, моя Бетси, моя дорогая. Выслушайте меня!
Разгневанная и оскорбленная в своих лучших чувствах, в своем негодовании и бесконечном презрении, которое переполнило в этот момент всю ее душу, она должна была бы выглядеть благородной, величественной, подобной богине, повелительной. Но иной раз бог не прочь подшутить над страдающей женщиной. Она могла только, съежившись по-детски, стараться вырвать свою руку. Она могла только гневно смотреть на него хорошенькими, задорно сверкающими глазками и шлепнуть пухлой бархатной ладонью по его протянутой руке. А когда к ней вернулся голос, он прозвучал высоким фальцетом.
— Оставьте меня, сумасшедший, не то я закричу! — вот и все, что она смогла вымолвить.
Он встал с колен и еле-еле заставил себя неловко рассмеяться, отчасти из притворства, отчасти от стыда и гнева.
— Тогда для чего вы прискакали сюда? К чему вам весь этот риск? Для чего вы бросились делить мой позор — теперь-то вы замешаны не меньше, чем я, — если вы не собирались делить со мной и все остальное? Для чего вы приехали сюда, если не ради меня?
— Для чего я приехала? — отвечала миссис Бэйкер, и, казалось, вся кровь отхлынула у нее от губ и щек. — Для чего... я... приехала? Хорошо! Я отвечу. Я приехала ради Джона Бэйкера! Того Джона Бэйкера, который спас вас от смерти в Бэрнт-Ридже, как я спасаю вас от гибели в Лорел-Рэне, мистер Грин! Да, ради Джона Бэйкера, который лежит под Бэрнт-Риджем, — он для меня значит больше, чем любой живой мужчина, ползающий по земле хоть... хоть... (как бы сказать посильнее?) целые годы напролет! Для чего я приехала? Я приехала как жена Джона Бэйкера, чтобы продолжать дело покойного Джона Бэйкера. Да, на этот раз выпала, кажется, довольно-таки грязная работа, мистер Грин! Но делать его дело, и ради него одного, — это великолепно! Вот для чего я здесь, вот для чего я живу. И я всегда готова помогать его делу! Такая уж я — Бетси Бэйкер!
Она быстро расхаживала взад и вперед, на ходу завязывая ленты шляпки. Затем остановилась, достала из кармана замшевый кошелек и резким движением положила его на стол.
— Не будьте дураком, Стентон Грин! Вылезайте из этой истории и снова станьте человеком. Возьмите из кошелька то, что вы должны правительству, и пошлите просьбу об увольнении, а остальное возьмите себе, чтобы начать честную жизнь в другом месте. Но убирайтесь из Хикори-Хилла самое позднее завтра вечером.
Она сняла со стены накидку и отворила дверь,
— Вы уходите? — сказал он с горечью.
— Да.
Но, то ли не умея долго сохранять серьезность в своих причудах, то ли желая, с чисто женским тактом, сделать для него расставание менее тягостным, она улыбнулась ослепительной улыбкой:
— Да, я соревнуюсь на Синей Молнии с Чарли и его дилижансом — дистанция до Лорел-Рэна. Хочу побить рекорд!
И говорят, что она его побила! Быть может потому, что на обратном пути в Лорел-Рэн уклон дороги оказался к ее выгоде, и ей не нужно было, как дилижансу, совершать длинный извилистый подъем на вершину хребта, быть может, из-за необычайных трудностей, сопряженных с перевозкой почтового мешка (его дважды пришлось вытаскивать из-под колес), но она вошла в свою контору, когда почтовые лошади еще спускались с холма.
Мистер Хоум уже стоял на платформе.
— В следующий раз придется вам, хозяин, подбавить в мешок балласта, — мрачно сказал Чарли, когда мешок еще раз выпал у него из рук на пыльную дорогу, — а не то потребуется новый договор с компанией. Из-за вашего прыгающего мешка мы потеряли целых десять минут на перегоне в пять миль.
Хоум не ответил и быстро унес в контору свою добычу, не замечая миссис Бэйкер, которая стояла рядом, чуть дыша.
Когда мешок был развязан и открылся весь хаос, миссис Бэйкер, наконец, перевела дух. Бросив на нее быстрый взгляд, Хоум вывалил содержимое на пол и схватил порванный, наполовину пустой денежный пакет. Потом собрал рассыпанные монеты и сосчитал их.
— Все в порядке, миссис Бэйкер! — сказал он серьезно. — На этот раз ему ничего не угрожает.
— Как я рада, — ответила маленькая миссис Бэйкер с лицемерным вздохом.
— И я тоже, — продолжал Хоум еще серьезнее и взял в руки одну из монет. — Судя по тому, что я здесь сегодня узнал, он, видимо, один из пионеров Лорел-Рэна, друг вашего мужа и, кажется, скорее дурак, чем жулик!
Он помолчал с минуту, позвякивая монетами, а потом небрежно спросил:
— Так он убрался отсюда, миссис Бэйкер?
— Право, я не знаю, о чем вы говорите, — сказала миссис Бэйкер с видом гордого достоинства, но все же слегка покраснев. — Не понимаю, откуда мне знать об этом и зачем ему вообще уезжать.
— Ладно, — заметил мистер Хоум, ласково кладя руку ей на плечо, — видите ли, его друзья могли догадаться, что все монеты меченые! Наверно поэтому он последовал их доброму совету и уехал. Но как я уже говорил вам, миссис Бэйкер, с вами все в полном порядке. Что бы ни случилось, правительство вас всегда поддержит!
Брет Гарт «Старуха» Джонсона
Смеркалось, и мне с каждым шагом было все трудней разглядеть тропу. Еще хуже стало на поросшем травой косогоре: выше протекала речушка; разливаясь по весне, она проложила здесь множество извилистых канавок, неотличимых от тропы. Не понимая, по которой же из них двинуться, я бросил поводья и предоставил ослице выбирать дорогу самостоятельно, ибо давно наслышан был о мудрости этого превосходного животного. Но я не принял в расчет некоторых особенностей характера, присущих (как это тоже вам известно) и полу моей Чу-Чу и ее племени, а между тем она уже успела недвусмысленно показать, что она тоже знает, чего хочет, и сумеет поставить на своем. Почуяв, что узда ослабла, она тотчас легла и принялась кататься по земле.
Оказавшись в таком затруднительном положении, я несколько смутился, но и обрадовался, когда за холмом в каменистом каньоне раздался гулкий топот подков. Скоро из-за поворота — очевидно, на той самой тропе, которую я потерял, — показался всадник; он подскакал ко мне и остановил коня как раз в ту минуту, когда мне удалось наконец заставить Чу-Чу подняться на ноги.
— Эта дорога ведет на Сонору? — спросил я.
— Да. — Всадник окинул Чу-Чу критическим взглядом. — Только нынче вам туда не добраться.
— Почему же?
— До Соноры восемнадцать миль, да, как въедете в долину, сплошь лесом, дороги почти что и не видать.
— Еще хуже, чем здесь?
— А чем она здесь плоха? Вы что ж, думали, в предгорьях вам приготовлена мощеная улица, что ли? Или гладкая дорожка, вроде как на скачках?
— Нет, не думал. А гостиницы тут нет, чтоб заночевать?
— Нету.
— А жилья какого-нибудь?
— Тоже нет.
— Спасибо. Доброй ночи.
Он проехал дальше, но снова придержал коня и обернулся.
— Эй, послушайте! Там, сразу за каньоном, есть каштановая рощица; свернете вправо — увидите тропу. Доедете по ней до хибары. И спросите: тут, мол, живет Джонсон?
— А кто такой Джонсон?
— Это я. Вы что ж, думали тут повстречать Вандербилта[1] или самого господа бога, что ли? Ну, слушайте. Скажете там моей старухе, пускай накормит вас ужином да постелит вам где-нибудь. Скажете, это я вас послал. Счастливо!
И он исчез из виду прежде, чем я успел поблагодарить или отказаться. Чу-Чу издала какой-то странный звук, словно бы хихикнула, но тотчас вновь стала серьезной. Я внимательно посмотрел на нее; она притворно закашлялась и, старательно вытянув шею, залюбовалась точеным копытцем своей правой передней ноги. Но едва я сел верхом, она сорвалась с места, в два счета пересекла каньон, сама высмотрела каштановую рощицу, без малейшего колебания свернула вправо и через полчаса остановилась перед «хибарой».
Это была бревенчатая хижина, крытая древесной корой; с одной стороны к ней примыкала такая же сараюшка, с другой — пристройка пофасонистей, из толстых неструганых и некрашеных досок, крытая дранкой. Судя по всему, сараюшка служила кухней, а в самой хижине жили хозяева. При моем приближении залаяла собака, и сразу в дверях появились четверо детишек мал мала меньше; пятый, весьма предприимчивый младенец, еще раньше барахтался у порога, пытаясь выползти на крыльцо, но поперек — явно затем, чтобы ему это не удалось, — положено было толстое полено.
— Джонсон здесь живет?
Обращался я к старшему из детей — мальчику лет десяти, но взгляд мой, непонятно почему, прикован был к младенцу, который в эту минуту перевалился через полено и лежал вверх тормашками; вся его одежонка сбилась, и он молча, героически задыхался в ней, преспокойно меня разглядывая. Мальчик, ни слова не ответив, скрылся в доме, но сейчас же вернулся с девочкой постарше, лет четырнадцати или пятнадцати. На удивление уверенными, легкими движениями она, едва став на пороге, провела рукой по головам остальных детишек, будто пересчитывая; подняла малыша, перевернула, отряхнула на нем платьишко и, даже не глядя, сунула его обратно за порог. Видно, все это давно вошло в привычку.
Я робко повторил свой вопрос.
Да, Джонсон живет здесь, но он только что уехал в Кингс Милс. Я поспешил ответить, что это мне известно, так как я повстречался с ним там, за каньоном. Узнав, что я сбился с дороги и мне не добраться нынче до Соноры, он был так добр, что позволил мне остановиться у него на ночлег. Я говорил все это, слегка возвысив голос, чтоб могла слышать и «старуха» Джонсона, которая, уж конечно, украдкой разглядывала меня в какую-нибудь щелку.
Девочка увела всех детей, кроме старшего мальчика.
— Дольф, покажи человеку, где привязать осла, — велела она ему и, не прибавив больше ни слова, скрылась в пристройке.
Я последовал за своим юным проводником, возможно более любопытным, чем эта девочка, но ничуть не более словоохотливым. На все вопросы он, к великой моей досаде, отвечал одной и той же, ничего не выражающей улыбкой. Однако смотрел он на меня во все глаза и наверняка разглядел все до мелочей. Он провел меня за дом, в лесок, где единственную прогалину то ли буря расчистила, то ли просто деревья сгнили и сами повалились. Пока я привязывал Чу-Чу, мальчик безмолвно стоял поодаль, не предлагал помочь, но и не мешал мне осмотреться. Ничто вокруг хижины и поблизости не говорило о том, что здесь поработали человеческие руки: первозданная глушь, казалось, обступала смелого пионера со всех сторон, шла за ним по пятам и кое-где даже стирала только что проложенный след. В нескольких ярдах от жилья проходила неприглядная граница цивилизации: валялись обрывки тряпья, какие-то выкинутые за ненадобностью бутылки и жестянки; ближние кусты бузины и акации, точно дрянными цветами, украсились клочками бумаги и вывешенными для просушки кухонными тряпками. Этот мерзкий круг явно не расширялся: казалось, Природа опять и опять отбрасывает хлам, навязанный ей непрошеными гостями; ни звери, ни птицы не льстились на этот мусор; ни один лесной обитатель не переступал нечистого рубежа; человек укрылся за барьером из отбросов, омертвелых, как сброшенная змеею кожа. Эта несуразная, сама собой возникшая ограда столь же надежно защищала жилье от любопытства ночных хищников, как грозный огненный пояс — стоянку первобытного охотника.
Когда я вернулся в хижину, она была пуста, и двери, ведущие в обе пристройки, закрыты, но на грубо сколоченном столе, к которому придвинут был табурет, меня ждал дымящийся кофе в жестяной кружке, в такой же миске — горячие лепешки на соде и еще тарелка жареной говядины. Было что-то странное и тягостное в том, как молчаливо, но недвусмысленно меня обрекали на одиночество. Быть может, я пришелся не по вкусу «старухе» Джонсона, когда она исподтишка разглядывала меня со своего наблюдательного поста? Или таковы уж в горах Сьерры понятия о гостеприимстве, что хозяева не желают с вами разговаривать? А может быть, миссис Джонсон молода и хороша собой и прячется по строгому приказу ревнивого супруга? Или она калека, а может быть, и впрямь старуха, прикованная болезнями к постели? Из пристройки порою доносились приглушенные голоса, но ни разу я не услыхал, чтобы заговорила взрослая женщина. Совсем стемнело, тусклый отблеск тлеющих в глинобитном очаге поленьев почти не давал света, и от этого мне стало еще более одиноко. В подобных обстоятельствах полагалось бы забыть о трапезе и предаться самым мрачным философическим раздумьям; но природа часто бывает непоследовательна, и должен с прискорбием сознаться, что под влиянием свежего горного воздуха плоть моя, наперекор всем уверениям сочинителей, оказалась с духом не в ладу. Я порядком проголодался и с аппетитом принялся за еду, решив, что отдать дань философии и несварению желудка всегда успею. Я весело расправился с лепешками и задумчиво допивал кофе, как вдруг среди стропил послышалось какое-то воркование. Я поднял голову: сверху на меня в упор глядели три пары совершенно круглых глаз. Трое уже знакомых мне детишек расположились под крышей в позах Рафаэлевых херувимов и с величайшим интересом наблюдали за моей трапезой. Я встретился взглядом с самым младшим, и он сдавленно хихикнул.
Я никогда не понимал, почему взрослого человека, который довольно спокойно переносит насмешку равного, так уязвляет, если над ним беззлобно посмеется ребенок. Мы искренне убеждены, что Джонс или Браун смеются над нами только по злонравию, невежеству или высокомерию, но в глубине души опасаемся, что юные критические умы и в самом деле находят в нас нечто достойное осмеяния. Однако я лишь приветливо улыбнулся, не допуская и мысли, будто в моих манерах, когда я один за столом, что-то может быть смешное.
— Поди сюда, Джонни, — ласково сказал я.
Двое старших, девочка и мальчик, мгновенно исчезли, словно я уж так забавно сострил, что они больше не ручались за себя. Я слышал, как они торопливо карабкались вниз по ту сторону бревенчатой стены и наконец спрыгнули наземь. Меньшой, тот, что хихикал, остался на месте и завороженно глядел на меня, но явно готов был удрать при малейшем признаке опасности.
— Поди сюда, Джонни, малыш, — мягко повторил я. — У меня к тебе просьба: сходи к своей маме и скажи ей…
Но тут лицо малыша искривила отчаянная гримаса, он вдруг издал горестный вопль и тоже скрылся. Я подбежал к наружной двери, выглянул и увидел старшую девочку, которая впустила меня в дом: она шла прочь, унося под мышкой малыша, а другой рукой подталкивая в спину мальчика побольше, и оглядывалась на меня через плечо; всем своим видом она напоминала молодую медведицу, уводящую своих детенышей от опасности. Она скрылась за углом пристройки, где, очевидно, была еще одна дверь.
Все это выглядело престранно. И не удивительно, что я возвратился в хижину огорченный и уязвленный, у меня даже мелькнула сумасбродная мысль оседлать Чу-Чу и отряхнуть прах этого молчаливого дома с ног своих. Однако я тотчас понял, что покажу себя не только неблагодарным, но и смешным. Джонсон предлагал мне лишь кров и пищу; укажи он мне, как я просил, дорогу в гостиницу, там бы я ничего больше требовать не мог. Все-таки я не вошел в дом, а закурил свою последнюю сигару и принялся мрачно расхаживать взад и вперед по тропе. В небе высыпали звезды, стало немного светлее; меж стволами виднелась громада горы напротив, а еще дальше высился главный кряж, явственно обведенный багровой чертой лесного пожара, который, однако, не бросал отблесков ни на небо, ни на землю. Как всегда бывает в лесных краях, то и дело тянуло душистым ветерком, еще теплым от полуденного солнца, и листва вокруг протяжно вздыхала и перешептывалась. А потом, в свой черед, подул ночной ветер с неприступных вершин Сьерры, от него закачались макушки самых высоких сосен, но и он не возмутил покоя темных лесных пределов здесь, внизу. Стояла глубокая тишина: ни зверь, ни птица не подавали голоса во тьме; и нескончаемый ропот древесных вершин доносился слабо, как отдаленный морской прибой. Сходство на этом не кончалось: несметные ряды сосен и кедров, протянувшиеся до самого горизонта, рождали в душе чувство потерянности и одиночества, какое испытывает человек на берегу океана. В этой нерушимой тишине мне казалось, я начинаю понимать, почему так неразговорчивы обитатели приютившей меня одинокой хижины.
Потом я возвратился к крыльцу и с удивлением увидал у порога старшую девочку. Когда я подошел ближе, она отступила и, показывая в угол, где, видно, только что поставлена была простая походная кровать, сказала:
— Вот, можете лечь, только встать придется рано:
Дольф будет прибирать в доме.
Она уже повернулась, чтобы уйти в пристройку, но тут я почти взмолился:
— Одну минуту! Нельзя ли мне поговорить с вашей матушкой?
Девочка остановилась и как-то странно посмотрела на меня. Потом сказала резко:
— Она померла.
И снова хотела было уйти, но, должно быть, увидела по моему лицу, что я огорчен и растерян, и приостановилась.
— Но, как я понял, — заторопился я, — твой отец… то есть мистер Джонсон, — прибавил я неуверенно, — сказал, что мне надо обратиться к его… (мне почему-то не хотелось повторять совет Джонсона слово в слово)… к его жене.
— Уж не знаю, чего он с вами шутки шутил, — отрезала она. — Мама второй год как померла.
— Но разве тут у вас нет ни одной взрослой женщины?
— Нету.
— Кто же заботится о тебе и обо всех детях?
— Я.
— Ты — и еще твой отец, так?
— Отец и двух дней кряду дома не бывает, да и то только ночует.
— И весь дом остается на тебя?
— Да, и счет лесу тоже.
— Счет лесу?
— Ну да, по скату спускают бревна, а я их измеряю и веду счет.
Тут я вспомнил, что по дороге сюда миновал скат — место, где по косогору скатывались в долину бревна; очевидно, Джонсон занимался тем, что валил деревья и поставлял на лесопилку.
— Но ты еще мала для такой работы, — сказал я.
— Мне уже шестнадцатый пошел, — серьезно ответила девочка.
По правде говоря, определить ее возраст было нелегко. Лицо потемнело от загара, черты не по годам резкие и суровые. Но присмотревшись, я с удивлением заметил, что глаза ее, не слишком большие, почти неразличимы в тени необыкновенных ресниц, каких я никогда прежде не видывал. На редкость черные, на редкость густые — до того, что даже спутывались, — они не просто окаймляли веки, но торчали мохнатой щетинкой, из-за которой только и виднелись блестящие черные зрачки, яркие, словно какие-то поросшие пушком горные ягоды. Странное, даже чуть жутковатое сравнение — его подсказали мне обступившие нас леса, с которыми причудливо сливался облик и взгляд этой девочки. И я шутливо продолжал:
— Не так уж это много… но скажи, может быть, твой отец называет тебя иногда старухой?
Она кивнула.
— Вы, стало быть, приняли меня за маму?
И улыбнулась. У меня полегчало на душе, когда я увидел, как ее не по годам усталое и трогательно серьезное лицо смягчилось, хотя глаза при этом совсем скрылись в густой чаще ресниц, и я продолжал весело:
— Что ж, ты так заботишься о доме и семействе, что тебя и вправду можно считать старушкой.
— Стало быть, вы не говорили, чтоб Билли помер и лег в могилу к маме? Ему только померещилось? — спросила она еще чуточку подозрительно, хотя губы ее уже вздрагивали, готовые к улыбке.
Нет, ничего такого я не говорил, но, конечно, мои слова могли преломиться в воображении малыша и обрести столь зловещий смысл.
Девочка, видно, смягчилась, выслушав мои объяснения, и снова повернулась, чтобы уйти.
— Спокойной ночи, мисс, — сказал я. — Понимаешь, твой отец не сказал мне, как тебя зовут.
— Кэролайн.
— Спокойной ночи, Кэролайн.
Я протянул ей руку.
Сквозь спутанные ресницы Кэролайн посмотрела на протянутую руку, потом мне в лицо. Быстрым движением, но не сердито оттолкнула мою руку.
— Вот еще, глупости, — сказала она, словно отмахнулась от кого-нибудь из своих малышей, и исчезла в доме.
Минуту я молча стоял перед закрытой дверью, не зная, смеяться или сердиться. Потом в густеющей тьме прошелся вокруг дома, прислушался к ветру, который теперь громче шумел в вершинах деревьев, вернулся в хижину, затворил дверь и лег.
Но мне не спалось. Мне стало казаться, что я в ответе за этих одиноких детишек, которых Джонсон так легкомысленно бросает на произвол судьбы; ведь они беззащитны, их подстерегают несчетные случайности и неожиданности, с которыми старшей девочке не под силу будет справиться. Хищника — будь то зверь или человек — можно, пожалуй, не опасаться: разбойники горных троп не унизятся до мелкой кражи, а медведь или пантера почти никогда не приближаются к человеческому жилью; но вдруг пожар или заболеет кто-то, да мало ли что может случиться с детьми… Не говоря уже о том, что такая заброшенность может пагубно повлиять на развитие юных душ и умов. Нет, просто стыд и позор, что Джонсон оставляет их одних!
В тишине до меня явственно доносились из пристройки детские голоса, — очевидно, Кэролайн укладывала меньших в постель. И вдруг она запела! Остальные подтянули. Снова и снова хор повторял единственный куплет всем известной скорбной негритянской песни:
Куда ни поеду, куда ни пойду,
Повсюду тоска и печаль, —
высоким рыдающим голосом выводила Кэролайн.
Покоя и счастья нигде не найду
И родины милой мне жаль, —
по-детски шепелявя, откликалась младшая девочка.
Они повторили это раза три, пока и остальные не усвоили прочно слова и мотив, а потом уже все вместе пели одно и то же снова и снова, горестный напев то нарастал, то затихал в темноте. Сам не знаю почему, но я сразу решил, что для маленьких сирот это не просто пение, а некий обряд благочестия, словно они на сон грядущий поют псалом или гимн. Потом, как бы подтверждая мою догадку, кто-то коротко и неразборчиво что-то проговорил или прочитал, и настала глубокая тишина, лишь протяжно заскрипели еще не высушенные временем деревянные стены, будто и дом потягивался перед отходом ко сну. И все стихло.
А с меня сон как рукой сняло. Наконец я встал, оделся, пододвинул табурет к очагу, достал из своего походного ранца книгу и при свете отыскавшегося тут же оплывшего огарка, воткнутого в бутылку, принялся читать. Потом я задремал. Право, не знаю, сколько прошло времени, во сне меня стал преследовать громкий, настойчивый лай, и наконец я проснулся. Собака лаяла где-то за хижиной, в той стороне, где я на прогалине привязал Чу-Чу. Я вскочил, распахнул дверь, кинулся к лощине и почти сразу наткнулся на испуганную Чу-Чу — она спешила мне навстречу, но прыть ее несколько сдерживало лассо; другой конец лассо держал некто, неторопливо вышедший из лощины, закутанный в одеяло и с ружьем через плечо. Не успев опомниться от первого изумления, я поразился еще сильней, ибо вдруг узнал Кэролайн.
Она ничуть не смутилась, не застеснялась, что я застиг ее в таком виде, и прошла мимо, кинув мне конец лассо и несколько слов в объяснение: видно, поблизости бродит медведь или рысь, вот ослица и испугалась. Надо привязать ее перед хижиной, с подветренной стороны.
— А я думал, дикие звери не подходят так близко к дому, — быстро сказал я.
— Ослятина больно лакомая, — нравоучительно сказала девочка и пошла дальше.
Я хотел поблагодарить ее, попросить извинения за то, что доставил ей столько хлопот; хотел отдать должное спокойной храбрости, с какой она среди ночи вышла из дома, и в то же время предостеречь от чрезмерной неосторожности; хотел спросить, часто ли поднимается по ночам такая тревога и вправду ли нужно в подобных случаях брать с собою ружье. Но ее сдержанность заставляла и меня не быть навязчивым, и я уже хотел пойти прочь, как вдруг заметил нечто такое, что поразило меня еще больше. Когда Кэролайн дошла до угла пристройки, я увидал за деревьями рослого мужчину; в движениях его чувствовалась нерешительность, даже какая-то робость, однако он, по-видимому, и не думал прятаться; должно быть, в ту же минуту его заметила и Кэролайн и слегка замедлила шаг. Они были уже почти рядом. Незнакомец что-то сказал, слов я не расслышал — то ли я стоял слишком далеко, то ли он говорил слишком тихо и нерешительно. Зато Кэролайн ответила без всяких колебаний, по своему обыкновению коротко и ясно:
— Ладно. А теперь ступай домой и спи.
И скрылась за углом пристройки. Высокий мужчина еще помешкал минуту-другую и тоже удалился. Но меня одолевало любопытство; я наскоро привязал Чу-Чу к изгороди почти напротив парадного крыльца и поспешил за ним, подозревая, что он ушел недалеко. И не ошибся. Отойдя немного, он остановился и медлил, словно не зная, как быть дальше.
— Эй! — окликнул я.
Он обернулся, во всей его повадке чувствовалась какая-то неловкость, но ни удивления, ни недовольства.
— Вы не торопитесь? — сказал я. — Зайдите, выпьем по стаканчику. Я тут один и все равно не сплю, так что составьте компанию — покурим, поболтаем.
— Боязно.
— Как вы сказали? Боязно? — переспросил я, с недоумением глядя снизу вверх на этого рослого, плечистого молодца.
— Да как бы она не осерчала. — Он повел плечом в сторону пристройки.
— Кто?
— Мисс Кэролайн.
— Вздор! — сказал я. — Она же не здесь, вы ее и не увидите. Пойдем-ка.
Он еще колебался, хотя, насколько я мог разглядеть, по его обросшему бородой лицу блуждала слабая улыбка.
— Пойдемте, — повторил я.
Он послушно пошел за мною, но мне почудилось, будто он, совсем как Чу-Чу, смотрит на меня свысока, потому что он куда больше и сильнее меня, и при этом так же косит глазом, готовый в любую минуту прянуть в сторону. На пороге он было попятился. Потом как-то боком вошел. Он был такой рослый и широкоплечий, что заполнял собою весь дверной проем.
При свете очага я увидел, что, несмотря на густую бороду, он совсем молод, еще моложе меня, и очень недурен собой. Видя, что он и сейчас готов сбежать, я достал из седельной сумки фляжку и кисет, подал ему, показал на табурет, а сам сел на кровать.
— Вы живете по соседству?
— Да, — отвечал он рассеянно, словно прислушиваясь или ожидая чего-то. — На перекрестке Десятой мили.
— Да ведь это за две мили отсюда!
— Верно.
— Значит, вы живете не здесь, не на этой вырубке?
— Нет. Работаю на Десятой миле, на лесопилке.
— Вам что же, с работы домой мимо идти?
— Да нет… — Он помялся, разглядывая свою трубку. — Как Джонсон в отлучке, так я иной раз возьму и поброжу вокруг, погляжу, все ли тут ладно.
— Понимаю. Значит, вы друг их семьи.
— Вот уж нет! — Он прикусил язык, засмеялся и прибавил смущенно, обращаясь, кажется, к собственной трубке: — То бишь, есть немножко. Вроде и друг. Да как бы она не осерчала. — Он понизил голос, будто боялся прогневить хозяйку дома, чье незримое присутствие он ощущал и здесь.
— Значит, когда Джонсон в отлучке, вы их тут караулите?
— Верное слово, — сказал он. — Караулю (ему, видно, это понравилось). Именно что караулю! Это вы верно угадали, приятель.
— А часто Джонсон отлучается?
— Да раза три в неделю.
— Но мисс Кэролайн, по-видимому, и сама может за себя постоять. Ей ничего не страшно.
— Страшно! Да она сроду ничего не боялась! — Он немного помолчал. — Вы ей в глаза-то хоть разок заглянули?
Я не заглядывал — в такие глаза заглянуть не просто: ресницы мешают. Но не стал вдаваться в объяснения и только кивнул.
— Она никому не уступит, ее ни живой, ни мертвый не испугает.
Неужели этот чудак воображает, что девушке трудно быть неуступчивой, когда перед нею вот такая воплощенная доброта и простодушие? Я не удержался и сказал:
— Тогда зачем же вам шагать сюда за четыре мили ее караулить?
Я тут же пожалел о своих словах, потому что он, видно, как-то неловко повернулся, уронил трубку и, наклонясь, долго, старательно подбирал с полу мельчайшие осколки. Наконец он проговорил сдержанно:
— А вы видали, у детишек байка вокруг шеи обмотана?
Да, это я заметил, только не знал, предохраняют ли лоскуты байки от простуды или дети повязали их для красоты. Я молча кивнул.
— То-то и беда. Один раз Джонсон поехал на три дня в Колтервилл, а я околачивался тут поблизости, гляжу — никого не видать, а в доме всю ночь огонь горит. На другой вечер прихожу — опять в окошке свет, а кругом никого. Что-то, думаю, неладно. Подобрался поближе и слушаю. Слышу, то вроде кто-то кашляет, а потом вроде застонет. Прямо-то я не объявился, потому как она бы осерчала, а взял да и засвистал этак, вроде от нечего делать, чтоб детишки знали, что это я. А все равно никто не вышел. Я уж хотел убраться восвояси. И тут — чтоб мне провалиться — гляжу, стоит ведро с водой, как я с утра к роднику сходил, так оно на том же месте и стоит! Ну, тут уж я решил: надо поглядеть, что у них там делается. Взял да и постучал. Погодил малость, она в щелку выглянула, а глазищи так и горят. Велела мне убираться, откуда пришел, и дверь захлопнула. Я ей через дверь — скажи, мол, чего у вас там стряслось! А она мне тоже через дверь — мол, детишки все лежат в лежку, дифтерит у них. И еще, может, я доктора приведу, это бы не худо. И еще, мол, меньшого зараза не тронула, так, может, я его с собой прихвачу, пускай покуда побудет, где ненадежнее. Замотала его всего одеялом, укутала и сунула мне в дверь, я его схватил — и давай бог ноги. На лесопилке его девать некуда, двинул я, стало быть, еще за четыре мили, к Уайту, у него там старуха мать. Рассказал ей, что к чему, дала она мне лошадь, поскакал я на Джимову гору за доктором Грином и еще до зари обернулся — привез его. Приезжаем, а она свалилась, ослабла совсем, потому как хворь эта ее одолела хуже всех, а она и виду не подавала, и мне тогда ни словечком не обмолвилась!
— Хорошо, что вы в тот вечер не ушли, не поговорив с ней, — сказал я.
Лицо его светилось восторгом. Вскинув глаза, он заметил мой испытующий взгляд, снова потупился, слабо улыбнулся, мундштуком разбитой трубки начертил в кучке пепла круг и сказал:
— Но она все равно осерчала.
Я сказал (тоже довольно сердито), что если уж она не против, чтоб отец бросал ее по ночам одну с малыми ребятишками, так нечего ей привередничать — кто бы ей ни помог в трудную минуту, пускай всякому скажет спасибо. Сказав так, я спохватился — вышло это не слишком для него лестно — и поспешил прибавить: может, она ждала, что в ту ночь мимо поедет какая-нибудь молодая леди, что ли? Но тут же вспомнил, что в этом духе срезал меня сам Джонсон, и прикусил язык.
— Да, — кротко ответил мой собеседник, — уж если она не заботилась о себе да о своих братишках и сестренках, так подумала бы про малышей Бизли.
— Про малышей Бизли? — недоуменно повторил я.
— Ну да. Которые поменьше, с Миранду, они не Джонсона, а Бизли.
— А кто такой Бизли? Почему его малыши оказались тут?
— Бизли работал на лесопилке, только он помер, а она исхитрилась, уговорила отца: дай, мол, возьмем сирот к себе.
— То есть как? Мало своих дел, она еще и о чужих детях заботится?
— Ну да. И еще учит их.
— Учит?
— Ну да, читать учит, и писать, и считать. Один наш лесоруб ее на этом деле поймал, когда она вела счет бревнам.
Мы оба замолчали.
— Вы, верно, хорошо знакомы с Джонсоном? — спросил я наконец.
— Да не то чтобы очень.
— Но вы сюда наведываетесь не только тогда, когда надо ей помочь?
— В доме-то я первый раз.
При этих словах он медленно огляделся по сторонам, поднял глаза к стропилам и несколько раз вздохнул полной грудью, словно упиваясь ароматом чьего-то незримого присутствия. Он так явно блаженствовал, так смиренно, молчаливо наслаждался, очутившись наконец в этом святилище, что помешать ему было бы кощунством. Смутно почувствовав это, я умолк и уставился на огонь, догорающий в очаге. Вскоре гость мой поднялся и стиснул мою руку.
— Мне, пожалуй, пора.
Он еще раз глубоко вздохнул (но на сей раз украдкой, словно чувствуя, что я за ним наблюдаю), боком выбрался за дверь и тут словно вдруг распрямился во весь свой исполинский рост и слился с темнотой. Я закрыл дверь, лег и уснул крепким сном.
Я спал так крепко, что когда проснулся, дверь была уже раскрыта настежь и солнце ярким светом заливало мою постель. Рядом на столе меня ждал завтрак. Я оделся, поел и, не понимая, почему так тихо вокруг, подошел к двери и выглянул наружу. В нескольких шагах от хижины стоял Дольф и за конец лассо держал Чу-Чу.
— Где Кэролайн? — спросил я.
— Вон там, — сказал он, махнув рукой в сторону леса. — Бревна считает.
— Она ничего не говорила?
— Сказала, чтоб я привел вам вашу скотину.
— А еще что?
— А еще велела вам уезжать.
И я уехал, но сперва нацарапал на листке из записной книжки несколько слов благодарности, завернул в него мой последний испанский доллар, написал сверху: «Для мисс Джонсон» — и оставил на столе.
Прошло больше года, и однажды в баре гостиницы «Марипоза» кто-то тронул меня за плечо. Я поднял глаза.
Это был Джонсон. Он вытащил из кармана испанский доллар.
— Так я и думал, что когда-нибудь где-нибудь да повстречаюсь с вами, — сказал он весело. — Моя старуха велела отдать вам это и сказать, что у нее не постоялый двор. А письмо ваше оставила у себя и по нему учила детишек грамоте.
Наконец-то я дождался случая воззвать к отцовскому чувству Джонсона: его дочь — прекрасная я стойкая девушка, но все же как он решается оставлять ее одну на произвол судьбы? И я сказал с живостью:
— Я хотел бы поговорить с вами о мисс Джонсон.
— Как не хотеть, — ответил он и обидно усмехнулся. — Кто ж этого не хочет! Только она уже не мисс Джонсон. Она теперь мужняя жена.
— Кто же он такой? Уж не тот ли верзила с лесопилки? — задохнувшись от волнения, спросил я.
— А чем он плох? — возразил Джонсон. — Вы что ж думали, она выйдет за благородного, что ли?
Я сказал: а почему бы ей и не выйти за благородного человека — и при этом подумал: поистине трудно было бы найти человека благороднее.
НОВЫЙ ПОМОЩНИК УЧИТЕЛЯ В ПАЙН-КЛИРИНГЕ
Глава I
Перед тем как уйти, учительница еще раз окинула взглядом классную комнату. Она могла гордиться школой: не только жители Пайн-Клиринга считали ее чудом архитектурного искусства, но даже для постороннего наблюдателя это было прелестное строение, похожее на виллу, со сквозной башенкой, широкой, выложенной ромбиками, гонтовой крышей и просторным крыльцом в елизаветинском стиле. Вместе с тем это был памятник жестокой борьбы цивилизации наших дней с варварством прошлого, которая привела к выкорчевыванию сосен и кое-чего еще, столь же несовместимого с новой жизнью и гораздо менее невинного, хотя столь же близкого к природе. Община распрощалась на этом деле с пятнадцатью тысячами долларов, а двое ее граждан — с жизнью.
К счастью, никаких следов борьбы не осталось на чистых белых стенах, на начертанных золотыми буквами текстах из священного писания или на сверкающей классной доске, на которой любая запись сохранялась не дольше одного дня. И уж конечно сама учительница меньше всего могла навести на мысль о боевых днях основания школы. Она была вдовой бедного священника-конгрегационалиста. Не очень молодая, худощавая, подтянутая, не такая хорошенькая, чтобы вызвать гомеровские распри, но и не такая уж некрасивая и не лишенная какой-то мягкой привлекательности. Ее специально выписали сюда из Сан-Франциско, чтобы ясно подчеркнуть разницу между духовным уровнем нынешней жизни и тем, что здесь было раньше. Тихая, с благородной внешностью и болезненной бледностью, может быть чересчур подчеркнутой траурным платьем, которое было достаточно модно скроено, чтобы не скрывать достоинств ее сухощавой, но стройной фигуры, она считалась образцом благочестия, учености и изысканности. И даже оппозиция — все те, кто ворчал по задворкам и у входов в бары или в полях, дикие, как их стада, — складывала оружие и застегивала куртки, чтобы спрятать свои бунтарские красные рубашки, когда она проходила мимо.
В дверях учительница неожиданно столкнулась лицом к лицу с живым, энергичным человеком.
— Вот хорошо, что я поймал вас, миссис Мартин, — торопливо сказал он, а затем, стремясь сгладить свою явную фамильярность, добавил: — Я хочу сказать, что взял на себя смелость забежать сюда по пути на почтовую станцию. Дело, о котором вы говорили, улажено. Я потолковал об этом с остальными попечителями, написал Сэму Барстоу, он согласен и присылает к нам сюда человека,— он быстро взглянул на часы, — этот человек сейчас должен быть здесь. Я как раз иду его встречать. Другие попечители тоже будут.
Миссис Мартин узнала в своем посетителе председателя школьного совета. Его отрывистое сообщение вызвало у нее легкую дрожь, слабую краску на щеках и учащенное дыхание, как это бывает у нервных натур.
— Но, — сказала она, — я ведь только высказала пожелание, мистер Сперри, какое я имею право просить... мне и в голову не приходило...
— Все в порядке, мэм... вы не волнуйтесь. Мы выложили Барстоу все начистоту. Мы объяснили, что школа очень выросла, вам не под силу держать ребят в узде... я хочу сказать, знаете, надзирать за ними без посторонней помощи; и что эти парни из Пайкского округа, которых нам всё посылают, очень уж великовозрастные и дерзкие, и леди вроде вас трудно их заарканить и укротить... я хочу сказать, ну — взять их в руки... понимаете? Но Сэм Барстоу, — что вы думаете, — он сразу все понял. Он за это прямо ухватился! Вот его письмо... подождите.
Он поспешно вынул письмо из кармана, скользнул взглядом по строчкам и вдруг в замешательстве снова быстро сложил его. Однако взгляд женщины оказался еще быстрее. Его привлекли и приковали к себе написанные крупным деловым почерком слова: «Черт меня подери...» Стараясь скрыть смущение, Сперри заторопился.
— Да его сейчас не стоит читать... займет у вас много времени... Но он согласен, знаете, так что все в порядке. Надо уже идти... меня, наверно, ждут. Я просто думал, забегу по дороге, чтобы вы были в курсе дела.
Он снял шляпу и начал пятиться с крыльца.
— Этот... этот джентльмен, который будет мне помогать... опытный профессионал... или... или только что из колледжа? — запинаясь, произнесла миссис Мартин со слабой улыбкой.
— Я, право, не знаю... уверен, что Сэм... мистер Барстоу... устроил все как надо. Право, мне пора.
И, все еще держа шляпу в руке, чтобы учтивостью прикрыть поспешность, не подобающую человеку с чувством собственного достоинства, он буквально пустился бегом.
На почтовой станции Сперри застал двух других попечителей. Они ждали его и еще более запоздавший дилижанс. Один из попечителей, крупный, гладкий, представительный мужчина, был пресвитерианский священник; другой, более худой и с виду более серьезный, — владелец большой мельницы.
— Я полагаю, — медленно произнес преподобный мистер Пизли, — что, поскольку наш уважаемый брат Барстоу, ввиду безотлагательности дела, до некоторой степени взял на себя наши функции, наняв этого человека, он... э... э... нашел его в достаточной мере компетентным.
— Сэм знает, что делает, — весело отозвался владелец мельницы, — он занялся нами не на шутку, последнего доллара не пожалеет, на него смело можно положиться.
— Конечно, он проявил большое рвение, — покровительственно обронил преподобный джентльмен.
— Рвение, — восторженно откликнулся Сперри, — рвение? Да он заворачивает всем в Пайн-Клиринге, как у себя в банке или в экспресс-компании в Сакраменто, и всегда так хорошо все знает, как будто он здесь, среди нас. Да что там, посмотрите-ка!.. — Он потихоньку толкнул владельца мельницы локтем, потом, улучив момент, когда священник повернулся к ним спиной, вытащил письмо, которое побоялся прочитать миссис Мартин, и указал на один абзац. «Черт меня подери, — говорилось там, — я добьюсь в Пайн-Клиринге мира и спокойствия, хотя бы мне пришлось стереть в порошок или засадить всю эту банду из Пайкского округа... Я пришлю вам пианино, если вы думаете, что миссис Мартин с ним управится. Только не говорите ничего Пизли, он еще захочет вместо пианино фисгармонию, а это значит — нам придется распевать псалмы, пока тошно не станет. И запомните вот что! Я не возражаю против влияния церкви — это хорошая узда! — но церковью нужно управлять, как и всем прочим, а не давать ей управлять вами... Я застраховал школьное здание в тридцать тысяч долларов, да еще по специальному тарифу».
Владелец мельницы улыбнулся.
— Сэм — это голова! Но,—добавил он, — тут не очень-то много сказано о новом помощнике, которого мы ждем.
— Только в этом месте. Он пишет: «Думаю, человек, которого я посылаю, подойдет по всем статьям, ведь и Пайкский округ, как и Бостон, предъявляет свои требования».
— Что это значит? — спросил владелец мельницы.
— Я думаю, он не хочет, чтобы Пайн-Клиринг слишком возносился, как не хочет, чтобы он прозябал на дне. Уж кто-кто,*а Сэм знает, где золотая середина.
Тут их рассуждения были прерваны стремительным приближением дилижанса, который яростно, но безуспешно старался наверстать упущенное время.
— Пришлось сделать крюк и забросить Джека Хилла в Монтезуму, — коротко объяснил кучер, соскакивая с козел, и вместе с новым почтовым курьером, который занял на козлах место Хилла, пошел в буфет. Проявив величественное равнодушие к дальнейшим расспросам, он весело позвал: — Вали сюда, ребята, послушайте новый анекдот про Сэма Барстоу — в жизни лучшего не слыхивал.
И через минуту все, кто там был, не выпуская из рук стаканов, забыв обо всем на свете, жадно слушали, как новый курьер повторял «анекдот» про Сэма Барстоу.
Нашим попечителям, не получившим, таким образом, никакой информации, оставалось одно — наблюдать за спускающимися с империала пассажирами и попытаться установить, кто из них тот незнакомец, которого они ждут. Но напрасно: большую часть пассажиров они знали, остальные были простые рудокопы и чернорабочие; ни один из них не мог сойти за нового помощника учителя. Дальнейшие расспросы пришлось отложить до тех пор, пока курьер не закончит свое юмористическое повествование. Это был номер, по-видимому не лишенный художественных достоинств; и заключался он в мастерской имитации ирландца, немецкого еврея и еще одного голоса, который получил всеобщее признание и одобрение как «вылитый Сэм». Если бы не священник, Сперри и владелец мельницы присоединились бы к восторженным слушателям; в глубине души они сожалели о той респектабельности, к которой обязывало их официальное положение.
Конец рассказа потонул в хоре голосов, которые требовали подать еще стаканчик. Сперри подошел к кучеру. Тот узнал его, повернулся к своему спутнику, небрежно бросил: — Вот один из них,— и двинулся дальше, но Сперри его остановил.
— Мы ждем одного молодого человека.
— Ну, — перебил его кучер, — так это же он и есть.
— Я говорю не о новом курьере, — сказал священник, кротко улыбаясь, — а о молодом человеке, который...
— Да никакой это не курьер, — пренебрежительно усмехнулся кучер невежеству собеседника. — Он просто ехал от Монтезумы на месте Хилла. Он будет наставлять на путь истинный ребятишек в этом вашем университете и наводить на них лоск. Послушайте, ребята, попросите его рассказать вам историю про Сэма Барстоу и китайца. Животики надорвете.
— Боюсь, что здесь произошла большая ошибка, — сказал мистер-Пизли с ледяной христианской улыбкой.
— Никакой ошибки. У него к вам письмо от Сэма. Эй, Чарли... или как тебя там! Топай сюда. Тут тебя все три хозяина ждут.
И мнимый курьер, он же рассказчик забавных историй, подошел к ним и вручил свои полномочия помощника учителя в Пайн-Клиринге.
Глава II
Даже многоопытный мистер Сперри был ошарашен. Перед ним стоял молодой человек, коренастый, широкоплечий и, судя по внешности, обладавший недюжинной силой. Но лицо его, хотя и весьма добродушное, было примечательно тем, что на нем нельзя было прочесть ни малейшего намека на занятия науками или какой бы то ни было умственной деятельностью. Большой рот, голубые глаза, массивная челюсть — остальные, черты не привлекали внимания — по своей неподвижности напоминали маску; однако, в отличие от маски, они, казалось, отражали отсутствие мысли, вместо того чтобы скрывать это. Но когда он приветствовал попечителей, у них возникло одно и то же чувство: даже эта маска заимствована, не принадлежит ему. Лицо молодого человека было чисто выбрито, а волосы подстрижены так коротко, что, казалось, необходим парик, чтобы придать его голове какой-нибудь характерный облик или даже просто человеческий вид. Его манера держаться, самоуверенная, но не совсем естественная, и платье, вполне приличного покроя и материала, но как будто с чужого плеча, завершали картину, совершенно не соответствующую представлению о школьном учителе.
Однако в руках у мистера Пизли было письмо, в котором Барстоу рекомендовал мистера Чарльза Твинга в качестве первого помощника учителя для пайн-клирингской Вольной академии!
Попечители обменялись безнадежным взглядом. Христианское смирение мистера Пизли явно подверглось слишком большому испытанию, и весь его вид говорил, что с него уже довольно. Неизвестно, почувствовал ли молодой человек тот внутренний отпор, который он вызвал, но он принял небрежную позу: прислонился спиной к стойке и оперся на нее локтями; однако даже эта поза, очевидно, принадлежала не ему.
— Вы лично знаете мистера Барстоу? — спросил Сперри с грубоватой прямотой делового человека.
— Да.
— То есть... вы с ним хорошо знакомы?
— Если б вы видели, как я тут сейчас представлял его, да так, что все сразу узнали, кто "это, вы бы не стали и спрашивать.
Глаза мистера Пизли устремились ввысь и остановились на лампе под потолком с таким выражением, как будто при создавшихся обстоятельствах ничто, кроме прямого вмешательства провидения, не могло помочь делу. Но видя, что собратья-попечители с надеждой направили к нему взоры, он заставил себя заговорить:
— Я полагаю, мистер... мистер Твинг, вы в должной мере сознаете большую... можно сказать... серьезную интеллектуальную и моральную ответственность, возлагаемую на вас теми обязанностями, которые вы на себя берете, и необходимость соответствовать своему посту поведением, личным примером и влиянием как в школе, так и вне ее. Сэр, я полагаю, сэр, вы чувствуете, что можете взять это на себя.
— Думаю, что он это чувствует.
— Кто — он?
— Сэм Барстоу, иначе он бы меня не выбрал. Я полагаю, сэр (чуть заметно и почти бессознательно копируя манеру преподобного джентльмена), всем известно,— Сэм знает, что делает.
Мистер Пизли оторвал взор от потолка.
— Сегодня, — произнес он со страдальческой улыбкой, обращаясь к своим собратьям-попечителям, — я должен посетить очень важное собрание церковного хора. Боюсь, мне придется вас покинуть. — Он двинулся к двери, остальные церемонно последовали за ним. Убедившись, что незнакомец не может его услышать, Пизли добавил: — Я умываю руки. Ввиду подобного проявления непригодности этого человека и, более того, абсолютно непристойного непонимания ответственности, налагаемой на него... налагаемой на нас... совесть не позволяет мне принимать во всем этом дальнейшее участие. Но, слава богу, главный судья в этом деле — сама миссис Мартин. Нужно только, чтобы она как можно скорее увидела его. Ее решение будет быстрым и окончательным. Ведь даже мистер Барстоу не отважится навязать деликатной, утонченной женщине в качестве близкого, доверенного лица такого возмутительного субъекта.
— Верно, — горячо подтвердил Сперри, — она все это решит.
— И это, конечно, — добавил владелец мельницы, — не впутает нас ни в какие неприятности с Сэмом.
Сперри и Джексон вернулись к злополучному незнакомцу успокоенные, хотя и несколько смущенные тем, что собирались принести его в жертву. Необходимо, сказали они, немедля представить его миссис Мартин — его будущему шефу. Они, возможно, еще застанут ее в школе, это всего в нескольких шагах отсюда.
По пути почти все время царило молчание, так как незнакомец не переставая что-то насвистывал с самым независимым видом и, по мере того как они приближались к хорошенькому школьному домику, казался им все более и более невозможным. Они действительно застали миссис Мартин в школе; она, конечно, не ушла домой после разговора со Сперри.
Она встретила их со свойственной ей неловкой застенчивостью и чуткой настороженностью. Они заметили, или им это только показалось, как при взгляде на него то же удивление и разочарование, которое они испытали, мелькнуло на ее выразительном лице; они чувствовали, что рядом с этой утонченной женщиной и окружающим ее изяществом и красотой их вульгарный спутник кажется еще ужаснее; но в то же время они видели, что сам он получает от всего этого полнейшее удовольствие, и даже — если можно применить это выражение к такому бесцеремонному человеку — чувствует себя при ней еще более в своей тарелке.
— Бьюсь об заклад, мэм, мы с вами сработаемся что надо, — самоуверенно сказал он.
Они посмотрели на нее, ожидая, что она повернется к нему спиной, упадет в обморок или разразится слезами, но она ничего этого не сделала, а только спокойно глядела на него широко раскрытыми глазами.
— У вас тут здорово красиво... мне нравится, и если мы тут не управимся, не знаю, кому тогда и удастся.
Вы только говорите, что вам нужно, мэм, и во всем можете на меня положиться.
Они были совершенно ошеломлены, увидев, что миссис Мартин слегка улыбнулась.
— Все зависит от вас, миссис Мартин, — быстро и многозначительно сказал Сперри. — Слово, знаете ли, за вами. Здесь только с вашим мнением и надо считаться.
— Скажите только, чего вы от меня ожидаете, — продолжал Твинг, явно игнорируя попечителей. — Наметьте, как говорится, метод, подскажите, с какого конца начать, каким трюком их, по-вашему, лучше прибрать к рукам, — и я к, вашим услугам, мэм. Спервоначала, может, будет непривычно, но я быстро наловчусь.
Миссис Мартин улыбнулась, на этот раз вполне заметно, — глаза ее заблестели, на щеках появился легкий румянец.
— Значит, у вас нет никакого опыта в преподавании? — спросила она.
— Н... нет.
— И вы не кончали колледжа?
— Не приходилось.
Попечители переглянулись. Такого убийственного открытия не мог ожидать даже мистер Пизли.
— Что ж, — медленно проговорила миссис Мартин, — я думаю, мистеру Твингу надо прийти завтра пораньше и начать.
— Начать? — еле выговорил мистер Сперри, не в силах перевести дух от изумления.
— Конечно, — застенчиво объяснила миссис Мартин. — Раз это новая работа для мистера Твинга, то чем скорее он начнет, тем лучше.
Мистер Сперри мог только беспомощно посмотреть на собрата-попечителя. Они не ослышались? Может быть, эти опрометчивые слова — результат волнения этой хрупкой женщины, или самозванец опутал ее какими-нибудь чарами? А может быть, она боится Сэма Барстоу и не решается отвергнуть его кандидата? — вдруг осенило мистера Сперри. Он быстро отвел ее в сторону:
— Одну минутку, миссис Мартин. Вы говорили мне час назад, что не собирались просить мистера Барстоу о помощнике. Я надеюсь, что вы не чувствуете себя обязанной, только потому, что он его прислал, принять этого человека, если вы считаете, что он не годится?
— Нет, — спокойно сказала миссис Мартин.
Дело казалось безнадежным. И Сперри овладело печальное сознание, что, передав окончательное решение этого вопроса в руки миссис Мартин, они сами лишили себя права голоса. Но как они могли предположить, что у нее окажется такой странный вкус? Все же ой заставил себя сделать последнюю попытку.
— Миссис Мартин, — сказал он, понизив голос, — не могу скрыть от вас, что преподобный мистер Пизли весьма и весьма сомневается в пригодности этого молодого человека.
— Разве мистер Барстоу сделал свой выбор не по вашей просьбе? — спросила миссис Мартин с легким нервным покашливанием.
— Да... но...
— В таком случае вопрос о его пригодности касается только меня... и я не понимаю, при чем тут мистер Пизли.
Он не верил своим глазам! На ее бледном лице ярко пылал румянец, а в голосе он впервые услышал резкую нотку независимости.
В ту же ночь, в уединении супружеской спальни, мистер Сперри облегчил свою душу перед другой представительницей загадочной половины рода человеческого — дородной уроженкой Юго-Запада, делившей с ним все радости и горести. Но результат был в равной мере неудовлетворителен.
— Право, Эбнер, — сказала она, — хоть все вы, мужчины, и расхваливаете миссис Мартин, я никак не могу понять, что мог найти в ней этот парень.
Глава III
Хотя миссис Мартин на следующее утро пришла в школу очень рано, новый помощник успел побывать там еще до нее. Это было видно по не совсем обычному размещению парт в классной комнате. Они располагались теперь Подковой перед ее столом, а на дальнем конце этого полукруга стоял стул, очевидно для самого Твинга. Она была несколько уязвлена тем, что он поторопился все переделать без нее, хотя не могла не признать, что перестановка довольно удачна; но гораздо больше ее рассердило то, что сам он где-то пропадал. Появился он только перед началом занятий; к ее удивлению, он торжественно выступал во главе отряда малышей, которых, должно быть, прихватил по дороге. Еще больше ее удивило, что они были с ним, по всей видимости, в самых лучших отношениях.
— Я решил, соберу-ка я их в кучу да заведу с ними знакомство, прежде чем начнутся уроки. Простите, — заторопился он, — но вон идет еще целая орава. Мне хотелось бы познакомиться и с ними, пока они еще там.
Миссис Мартин держалась, однако, значительно холоднее, чем накануне.
— Мне кажется, мистер Твинг, — сухо сказала она, — важно и другое — чтобы вы сначала познакомились с некоторыми из своих обязанностей. Именно для этого я пришла сюда сегодня пораньше.
— Да нет, — весело сказал он, — сегодня я сяду там — вы видели, как я устроил? — там, с ними, и посмотрю, какие они будут выкидывать штуки. С меня одной репетиции хватит. В то же время я смогу, если понадобится, вмешаться.
Не успела она ответить, как он уже снова был на улице и приветствовал подходивших детей. Это доставляло им такое явное удовольствие, а его гладкое, похожее на маску лицо стало настолько выразительным, что миссис Мартин ничего не оставалось, как наблюдать за ним с неменьшим любопытством, чем дети. Она почувствовала, что роняет свое достоинство, и отвернулась, но взрыв радостного детского смеха снова привлек ее внимание к окну. Новый помощник, посадив полдюжины малышей на свою широкую спину, сгорбившись так, что он выглядел дряхлым стариком, и строя уморительнейшие гримасы, представлял, должно быть, великана-людоеда из рождественской пантомимы. Но как только он встретился с миссис Мартин взглядом, всякое выражение исчезло с его лица; он опустил детей на землю и отошел. Однако, едва начались занятия, хотя до самых дверей он сопровождал детей необычайно торжественно,— с какими гримасами и в качестве какого персонажа, она не могла угадать, — с того момента, как он вошел в классную комнату и занял свое место, от всех его ужимок не осталось и следа, лицо его приняло свой обычный бесстрастный вид. Как и ожидала миссис Мартин, десятки восхищенных глазенок с нетерпением и надеждой, хотя и напрасной, впились в его лицо; но, — чего миссис Мартин уж никак не ожидала, — те же полные страстного нетерпения глаза, увидев по его лицу, что предыдущее представление предназначалось только для них, следуя его примеру опускались в книжку, как будто он был один из их числа. Миссис Мартин с облегчением вздохнула, и урок начался.
Однако все время ее не переставало тревожить одно обстоятельство, не предвещавшее ничего хорошего, — отсутствие нескольких старших учеников, особенно тех неисправимых бунтарей из Пайкского округа, о которых упоминал Сперри. В последние дни они были на грани открытого неповиновения и позволяли себе ворчать под нос, но она твердо решила этого не слышать. И вот, не без внутреннего трепета (вполне успокоить ее не могло даже присутствие Твинга), она увидела, как трое Маккинонов и двое Харди разболтанной походкой вошли в класс через час после начала занятий. Они даже не извинились и с угрюмо-вызывающим видом направились к своим местам, так что миссис Мартин вынуждена была поднять глаза и потребовать объяснения у старшего Харди, как раз проходившего мимо нее. Преступник, к которому она обратилась, — неуклюжий туповатый юноша лет девятнадцати, потоптался на месте с упрямым и в то же время неуверенным видом и затем, ничего не ответив, толкнул в бок своего товарища. Это был, судя по всему, условный сигнал к бунту, так как парень, которого он толкнул, остановился, обратил к учительнице несколько более смышленое, но такое же недовольное лицо и решительно начал:
— Как мы можем объяснить, почему опоздали на целый час? Да никак! По-нашему, мы не опоздали... нисколько не опоздали. По-нашему, мы пришли в самое время. По-нашему — это самое для нас время, потому как мы не согласны приходить сюда распевать псалмы с младенцами. Знать мы не хотим: «Где, о, где вы, дети Израиля?» Какое нам до них дело? Мы — американцы! И мы не желаем, чтоб нас тут пичкали Даниилом во рву львином; хватит с нас этого в воскресной школе. И мы не помрем без всей этой жвачки из грамматики и словаря и не хотим, чтоб нам с самого утра забивали голову какими-то там бостонскими частями речи. Мы не бостонцы... мы из Пайкского округа — вот мы откуда. Мы хотим решать задачи, заниматься счетом, и процентами, и весом и мерой, когда придет их время, и географией, когда она будет, и чтением, и письмом, и американской конституцией в положенные часы, а потом мы рассудили встать и уйти до того, как начнутся стишки и бостонские манеры. Это наше право, за это наши отцы платят деньги, и мы от своих прав не отступимся.
Он замолчал, выжидая, как отнесутся к этому окружающие, — не столько учительница, сколько товарищи, для которых, возможно, как водится у школьников, и предназначалась его независимая поза. Миссис Мартин сидела без кровинки в лице, но ничем больше не выдавала своего волнения; ее глаза были устремлены на обтрепанный край соломенной шляпы, которую бунтовщик так и не снял с головы. Затем она спокойно произнесла:
— Снимите шляпу, сэр.
Парень не шевельнулся.
— Он не может, — раздался веселый голос.
Это произнес новый помощник. Все лица в классе разом повернулись к нему. Главарь бунтовщиков и его последователи, раньше не заметившие Твинга, уставились на человека, который вмешался в разговор, но говорил так, будто он не начальство, а сам школьник и подсмеивается над товарищем.
— Как это не могу? — с негодованием спросил парень.
— А так. У тебя там спрятаны кое-какие вещи, которые ты не хочешь показывать, — невозмутимо сказал Твинг.
— Какие вещи? — сердито спросил парень, затем, вдруг опомнившись, добавил: — Да отстаньте вы! Меня не проведешь! Так я и снял шляпу!
— Ладно, — сказал Твинг, подходя к бунтовщику. — Ну, а это что? — И хотя парень пытался ему помешать, он ловким движением сдернул с него шляпу. Оттуда вывалилось полдюжины яблок, птичье гнездо, два яйца и полуоперившаяся, трепещущая крылышками птичка. Волна восторга и удивления прокатилась по классу, выражение полной растерянности застыло на лице жертвы, и вся серьезность положения разрядилась в безудержном взрыве смеха, к которому присоединились и сами бунтовщики. Даже самый младший из школьников, напуганный, но в то же время восхищенный смелым, возмутительным и героическим поведением мятежника, теперь сразу осознал всю нелепость этой фигуры, увенчанной дешевой мальчишеской добычей. Комический вид протестующего убил все красноречие его протеста. И миссис Мартин почувствовала, что никакие ее слова не заставят сейчас ребят взглянуть на этот бунт серьезно. Но Твинг, по-видимому, все еще не был удовлетворен.
— Сейчас же проси у миссис Мартин прощения и скажи, что ты просто дурачил ребят, — тихо сказал он.
Растерявшийся бунтовщик колебался.
— Проси, а то я покажу, что у тебя в карманах! — многозначительно шепнул ему Твинг.
Мальчик пробормотал извинение, с удрученным и безнадежным видом пробрался к своему месту, и на этом короткий бунт позорно закончился.
Только две вещи показались миссис Мартин странными. Она случайно услышала, как преступник прерывающимся от волнения голосом, в котором звучала искренность, сказал своим приятелям: «Да не было у меня ничего в шляпе», а один из малышей, глубоко обиженный, жаловался, что птичье гнездо принадлежит ему и было украдено у него из парты. Вместе с тем миссис Мартин не могла не заметить — правда, она до некоторой степени была уже подготовлена к этому, так как видела, какую таинственную власть приобрел Твинг над детьми, — что, судя по всему, смутьяны не затаили обиды на победителя и во время перемены все до одного окружили его с очевидным интересом. Все же это не заставило ее закрыть глаза на серьезность бунта и на странность поведения Твинга, который присвоил себе ее права. Он все еще играл с детьми, когда она позвала его в дом.
— Я должна указать вам, — сказала она взволнованно и даже несколько резко, — что возмутительная выходка Тома Харди, по всей видимости, была задумана и подготовлена другими. Этим дело не кончится.
Он посмотрел на нее таким безнадежно отсутствующим взглядом, что она готова была тут же отхлестать его по щекам, как будто он был один из старших учеников, и проговорил:
— Но ведь оно уже кончилось. Они сели в лужу.
— Я не знаю, что вы под этим понимаете, и я также должна указать вам, что в нашей школе мы не преподаем и не изучаем жаргона.
Его неподвижное лицо на миг озарилось таким явным восхищением, что она почувствовала, как кровь прилила к ее лицу; но он стер это выражение рукой, словно грим, и сказал запинаясь, но очень серьезно:
— Простите... пожалуйста. Но, видите ли, миссис Мартин, утром, когда я приглядывался к ребятам, я почувствовал, что тут пахнет скандалом... то есть, ходит здесь вроде бы такое мнение, будто в нашей школьной лавочке... прошу прощения, Пайкский округ не получает того товара, за которым пришел, и что Пизли и Барстоу могли бы поменьше совать свой нос во все дела. Как видите, как раз то самое, о чем говорил Том.
— Это невыносимо, — сказала миссис Мартин. Лицо ее вспыхнуло, и глаза, казалось, стали еще темнее. — Они отправятся домой к своим родителям и скажут им от меня...
— Что они ошибались... Простите... но это они как раз и сделают. Поверьте, миссис Мартин, они провалились... прошу прощения... Но с этим покончено. Больше они вас беспокоить не будут.
— Вы так думаете? Только потому, что вы нашли какие-то вещи у Тома в шляпе и раскрыли перед всеми его секрет? — презрительно произнесла миссис Мартин.
— У Тома ничего в шляпе не было, — сказал Твинг, медленно проводя платком по губам.
— Ничего? — повторила миссис Мартин.
— Ничего.
— Но я видела, как вы вынимали оттуда всякую всячину.
— Это был просто фокус! Все, что там оказалось, было спрятано у меня в рукаве, а я незаметно подложил ему в шляпу. Он это понял и испугался, так как почувствовал, что остался в дураках. Вот и лопнула вся их затея. Ничто на свете так не пугает ребят, как опасность стать посмешищем, и больше всего они боятся тех, кто выставляет их в смешном виде.
— Я уж не спрашиваю, считаете ли вы это честный по отношению к мальчику, мистер Твинг, — раздраженно сказала миссис Мартин, — но неужели таково ваше представление о дисциплине?
— Я думаю, что это честно. Ведь Том знал, что это вроде фокуса, я его не обманывал. И я думаю, это дисциплина, раз я заставил его вести себя как следует и отбил у него охоту оскорблять вас или меня. И-он ничего против меня не имеет: он понимает, что благодаря мне его только высмеяли, а не выгнали. Если бы вы только предоставили все это мне, — добавил он с какой-то застенчивой проникновенностью, — и признали, что я здесь для того, чтобы избавить вас от такой работы, — совсем не подходящей для леди, — мы бы нашли свой собственный путь между всеми этими Пизли и Пайкским округом и заправляли школой, не обращая внимания ни на тех, ни на других.
Миссис Мартин была несколько озадачена. Немного смягчившись и, пожалуй, больше, чем ей самой казалось, уступая влиянию Твинга, она ничего не ответила, но в тот день не отослала нарушителей домой.
Вернувшись вечером к себе, она была весьма удивлена, когда хозяйка начала рассыпаться в поздравлениях по поводу приезда нового помощника.
— Все только и говорят, миссис Мартин, — восторженно тараторила эта леди, — что вы как следует утерли нос обоим, — и Пизли и Барстоу... и сами выбрали себе нового помощника — простого парня, который о себе много не воображает и будет здесь делать все по вашему вкусу, и что ничего лучше вы и придумать не могли.
— И... его... считают вполне... подходящим?— несмело спросила миссис Мартин, краснея от смущения.
— Подходящим! Да вы только послушайте моего Джонни!
Тем не менее, на следующее утро миссис Мартин пришла в школу несколько раньше, чем обычно.
— Может быть, — сказала она (и в ее тоне странно сочеталось чувство собственного достоинства с застенчивостью),— мы бы просмотрели с вами до занятий уроки на сегодня?
— Я уже, — быстро ответил он. — Я говорил вам, что мне одной репетиции довольно.
— Вы хотите сказать, что уже все просмотрели?
— Выучил наизусть. До последней буквы. Хотите послушать?
Она прослушала его. Он действительно запомнил, и притом без единой ошибки, все правила, вопросы, ответы и примеры из уроков на этот день.
Глава IV
Не прошло и месяца, как успех мистера Твинга был полностью упрочен. То же можно сказать и о некоторых новшествах, которые он ввел как-то незаметно. Пение псалмов и чтение библии, вызывавшие такое недовольство и у молодого поколения Пайкского округа и у родителей, отменены не были, но полчаса до перемены посвящались теперь хоровому исполнению мирских песенок — патриотических или комических, — в котором малыши, под удивительно умелым руководством Твинга, достигли замечательных успехов; один негритянский гимн получил даже такую популярность, что его единодушно признали достойным занять место среди благочестивых вокальных упражнений, где он в конце концов совершенно затмил опостылевших «Детей Израиля» даже самой своей мелодией, не говоря уже о прочем. В школе по-прежнему изучали грамматику, несмотря на протесты Харди и Маккинонов, но Твинг сумел вызвать интерес к однообразным упражнениям в декламации и высоко поднять мастерство исполнения. Пайкский округ, хоть и говорил на диалекте и не желал признавать правила употребления именительного падежа, оказался довольно силен в классическом ораторском искусстве, а Том Харди, который в свое время провозгласил от имени Пайкского округа столь безграмотный протест, был ничуть не слабее, хотя и более изящен в обвинительной речи Эдмунда Берка против Уоррена Гастингса и получил, как и тогда, полное одобрение своих родителей.
Попечители Сперри и Джексон диву давались, но были только рады присоединиться к общему мнению; один мистер Пизли все еще сохранял по отношению к новому помощнику и его нововведениям позу мученика, терпение и снисходительность которого подвергаются слишком большому испытанию. Что касается миссис Мартин, то она, казалось, воспринимала деятельность мистера Твинга, по его собственному определению, как работу чисто мужскую, не соответствующую женским вкусам и склонностям; но было замечено, что если на первых порах она и слышать не желала никакой критики по его адресу, то в последнее время она начала объяснять своим друзьям его поведение, причем говорила о нем несколько неестественным и явно покровительственным тоном. Однако, когда они оставались одни, она не скрывала, что находит его забавным, а его самонадеянность и вульгарность казались настолько непреднамеренными, что больше не оскорбляли ее. Они стали добрыми друзьями, хотя их разговоры не выходили за пределы школьных интересов. Она не спрашивала, почему выбор мистера Барстоу пал на него, хотя он и не прошел требуемой специальной подготовки. Она ни разу не выразила желания узнать, каково было в действительности его прошлое, а он и не навязывался на откровенность; если бы род его занятий оказался совсем иным, пусть даже выше или ниже нынешнего, то в общине, где главный адвокат был раньше солдатом, а мельник — доктором, это никого бы не удивило. Он ею восхищался, это не было для нее тайной, а что это было ей приятно, но не влекло за собой никаких мыслей о последствиях или обязательствах, пожалуй, не составляло тайны для других. Возможно, это не было тайной и для него.
Как бы то ни было, непринужденность их отношений однажды была нарушена незначительным на первый взгляд случаем. Пианино, обещанное мистером Барстоу, наконец прибыло в школу к полному восторгу детей и удовольствию миссис Мартин, которая стала обучать младших девочек началам музыки. Изредка и она сама играла на нем, несколько сухо, изысканно и старательно. Оставаясь одна после занятий, она иногда пела слабым бесцветным жеманным голоском небольшого диапазона. И вот как-то раз Твингу, который оказался случайным свидетелем этого унылого целомудренного чириканья, не только было разрешено дослушать до конца любовный романс, где в сослагательном наклонении воспевалась заключенная в строгие рамки страсть, но и предложено было присесть к инструменту — показать свое уменье.
Играл он бегло, хотя и без всякой школы. Подобно ей, он вдруг начал петь. Подобно ей, он пел о любви. Но на этом сходство и кончалось. Он пел негритянскую песенку, безграмотную и нескладную, нелепо-неистовую по страсти и для отвода глаз обращенную к какой-то «Розе Алабамы». В ней звучала ребяческая влюбленность, настолько преувеличенная, что песенка могла показаться пародией на романс учительницы, если бы не одно чрезвычайно важное обстоятельство. Неудержимое чувство, страстное томление, изысканная нежность, с которой пел Твинг, — все говорило испуганной миссис Мартин о его искренности и о том, что думает он о ней. Правда, губы, которые он воспевал, назывались «бутончиками», а глаза «светлячками», но по его голосу и мимике смущенная миссис Мартин чувствовала, что речь шла о ее глазах и губах, и даже припев: «В нарядах она мила и скромна» — был явным намеком на ее сшитое по моде траурное платье. Она то вспыхивала, то бледнела, ее маленький ротик с крепко сжатыми губами кривила судорожная улыбка, и бедняжке, чтобы не выдать своего волнения, пришлось отвернуться к окну, пока песенка не была допета. Она не просила его спеть еще раз и больше не подвергала себя опасности внимать этой откровенной серенаде, но через несколько дней, когда в перерыве между уроками музыки она бездумно перебирала клавиши, одна из ее маленьких учениц вдруг воскликнула: «Ой, миссис Мартин, да вы же подбираете ту хорошенькую песенку, что поет мистер Твинг».
Однако когда через неделю или две Твинг предложил исполнить ее на вечере, который школьники устраивали в помощь местному благотворительному обществу, миссис Мартин сухо заметила, что песенка по своему характеру вряд ли подходит к данному случаю.
— Но вы так хорошо декламируете, — добавила она, смягчаясь, — почему бы вам не прочитать что-нибудь?
Он посмотрел на нее испытующим и тревожным взглядом, что было ему свойственно за последнее время.
— Но это же будет на людях. Народу наберется видимо-невидимо, — нерешительно сказал он.
Улыбнувшись про себя этому первому проявлению неуверенности в своих силах, она сказала ободряющим тоном:
— Тем лучше... Право же, вы читаете слишком хорошо, чтобы вашими слушателями были одни дети.
— Вы этого хотите? — вдруг спросил он. Смущенная и весьма раздосадованная его неожиданным вопросом, она ответила:
— А почему бы и нет?
Однако когда наступил назначенный день и она увидела переполненный зал, в котором было довольно много чужих, она пожалела о своем опрометчивом предложении. Когда ее ученики проделали упражнения по ритмической гимнастике, превосходно поставленные Твингом, и прочитали свои «стишки», он поднялся и, устремив на нее взор, начал монолог Отелло — речь перед дожем и сенатом. И теперь, как и в тот раз, она чувствовала в рассказе Отелло о любви, что он говорит о ней. Когда Отелло рисовал картину своей необузданной страсти, она каким-то таинственным образом перевоплотилась в Дездемону, и к этому присоединилось еще ни на чем не основанное ощущение, от которого она никак не могла отрешиться, что публика, которая с восторгом слушала эту замечательную декламацию, улавливала и то, что скрывалось за его словами, и принимала это как должное. В то же время миссис Мартин сознавала, хотя это и казалось ей непоследовательным, что она радуется и даже гордится его успехом. Когда он кончил, разразилась буря аплодисментов, и чей-то сиплый восхищенный голос фамильярно произнес:
— Браво, Джонни Уокер!
Лицо Твинга вдруг побелело, как маска Пьеро. Воцарилась мертвая тишина, и тот же голос добавил:
— Изобрази-ка нам «Сахар в тыкве», Джонни!
Раздался свист, шиканье и крики: «Выгнать его!» Миссис Мартин взглянула туда, где только что раскланивался ее помощник. Но он исчез!
Встревоженная больше, чем она хотела бы себе признаться, волнуемая неясными опасениями, что его внезапный уход каким-то образом связан с ней, и даже, может быть, испытывая угрызения совести, что она позволила своим чувствам помешать откровенному признанию его успеха, она, после того как зрители и маленькие артисты разошлись, возвратилась в школу, в надежде, что Твинг, может быть, вернется. Вечерело, пустые скамьи в дальнем конце комнаты были освещены почти горизонтальными лучами солнца, но парта, за которую она села, подняв крышку, была в глубокой тени. Вдруг она услышала его голос в холле, выходящем в сад, но ему вторил другой, — тот самый, который прервал аплодисменты. Не успела она скрыться или дать знать, что она здесь, как собеседники показались в дверях и медленно прошли через комнату. Она сразу поняла, что Твинг ускользнул в каморку швейцара в задней части дома, вызвал туда этого человека, поговорил с ним, а потом ждал, пока разойдется публика, чтобы выйти через парадную дверь. В полутьме они, очевидно, не заметили миссис Мартин.
— Но, — огорченным тоном говорил незнакомец, как бы продолжая оправдываться, — если Барстоу знал, кто ты такой и чем ты занимался, и все же считал, что ты можешь взяться за это как следует и вправить мозги здешним парням и ребятишкам, какое тебе, к черту, дело до того, узнают о тебе другие или нет, раз Барстоу за тебя?
— Я ведь тебе объяснил, Дик, — ответил Твинг хмуро.
— Ах, эта учительница!
— Да. Это — святая, это — ангел. Более того — это леди, Дик, до кончиков ногтей, и о жизни она знает не больше, чем видно из кабинета священника. Она доверилась мне сразу, без единого слова, когда попечители пялили глаза и шарахались в сторону. Она никогда не спрашивала меня о моем прошлом, и теперь, когда она узнает, кто я, — она меня возненавидит.
— Но, послушай, Джим, — с волнением сказал незнакомец. — Я скажу, что это ошибка. Я приду сюда и извинюсь перед тобой в ее присутствии. Я скажу, что принял тебя за другого, я...
— Теперь поздно, — уныло отозвался Твинг.
— Что же ты будешь делать?
— Уеду.
Они подошли к выходу. К великому ужасу миссис Мартин, Твинг не последовал, как она ожидала, за незнакомцем, а пожелал ему спокойной ночи и с угрюмым видом снова вошел в класс. Остановившись на мгновение, он бросился на скамью и, закрыв лицо руками, уронил голову на парту, как самый настоящий школьник.
Какие мысли пронеслись в уме миссис Мартин, я не знаю. Мгновение она сидела прямо и неподвижно. Затем тихо встала и легко, как тень угасающего дня, проскользнула туда, где он сидел.
— Миссис Мартин! — воскликнул он, поднимаясь.
— Я слышала все, — тихо произнесла она. — Я ничего не могла поделать. Я была здесь, когда вы вошли. Но я хочу вам сказать, что мне достаточно знать вас таким, каким вы мне казались... каким вы здесь всегда были... твердым и верным долгу, который возложили на вас те, кто знал о вас все.
— Правда? А вам известно, кто я такой?
В течение минуты испуганная миссис Мартин не могла справиться с дрожью, но усилием воли она овладела собой и тихо проговорила:
— О вашем прошлом мне ничего не известно.
— Ничего? — повторил он с безрадостной улыбкой, с трудом переводя дыхание. — И того, что я был... шу... шутом, балаганным фигляром... понимаете, клоуном, развлекал бедняков за двадцать пять центов. Что я «Джонни Уокер», певец и плясун... и все что хотите... и мистер Барстоу выбрал меня только для того, чтобы как следует проучить этих медведей.
Она посмотрела на него робко и задумчиво.
— Значит, вы актер... человек, который изображает то, чего он не чувствует?
— Да.
— И все время, что вы были здесь, вы изображали учителя... играли его роль... ради... ради мистера Барстоу?
— Да.
— Все время?
— Да.
На ее лице снова появился легкий румянец, а голос стал еще тише:
— И когда вы пели мне в тот раз, и когда смотрели на меня... таким взглядом... час или два назад... когда читали стихи... вы... только... играли?
Неизвестно, что ответил мистер Твинг, но, по-видимому, ответ был достаточно полным и исчерпывающим, потому что уже совсем стемнело, когда новый помощник вышел из школы... не в последний раз... ведя под руку ее хозяйку.
САЛЛИ ДАУС
ПРОЛОГ ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ НА ЗМЕИНОЙ РЕКЕ
То, что в холодном сером полусвете летнего утра было росистым проселком, обозначенным только скупыми колеями телег, которые нигде не нарушали его травяную границу, и меченным только следами перебежавшей его лисы или енота, — сейчас, в предполуденный зной, уже было раздавлено, прибито и растоптано до потери всякого подобия недавней прелести. Тяжелая и быстрая, без прискока, поступь лафета и вагонетки с ядрами глубоко врезалась в серединную колею; копыта сгрудившейся кавалерии валили и кромсали придорожные кусты и виноградники, чтобы затем схоронить их под облаком поднявшейся за нею пыли, а форсированный марш пехоты, короткий и стремительный, растоптал их изуродованные останки в сплошной пыльный и ровный хаос. По этому так грубо проложенному широкому большаку были разбросаны мушкеты, разодранное снаряжение, ранцы, каски, предметы одежды да здесь и там крупные обломки разбитых вагонеток, беспорядочно сброшенные в канаву, чтобы дать дорогу живому потоку. В течение двух часов большая половина армейского корпуса прошла туда и обратно по этому пути, но шла ли она вперед или назад, лица были неизменно в напряженном ожидании обращены к открытому склону с правой стороны, тянувшемуся параллельно проселку. Но ничего там не было видно. В течение двух часов их глаза неизменно упирались в синевато–серое облако, сотрясаемое и раздираемое взрывами — взрыв за взрывном, — но всегда смыкавшееся вновь и густевшее после каждого разряда. Тем не менее в этом зловещем облаке сплоченные движущиеся массы людей в сером и синем еще утром исчезли, как растаяв, а после, если и выныривали из него, то разве лишь разметанными клочьями, которые ползли и жались к земле и разбегались, или же сбивались в кучу, но только затем, чтобы вновь их настиг и накрыл накатившийся дым.
Последние полчаса истерзанная дорога тянулась пустынная и покинутая. Пока на роковом соседнем склоне шел непрестанный грохот, и треск, и раскаты, здесь было еще тихо. Изредка пронесется над ней опасливо и торопливо птица, перебежит напуганный легконогий зверек, а позже стали показываться дезертиры и отсталые из главной колонны, соблазнившиеся выйти из‑под изгороди и кустов, куда они забились, прячась. Вдруг из грозной мглы, окутавшей склон, послышался — впервые так близко — протяжный, многоголосый рев и загнал их обратно в укрытие. И тут же на проселок влетели на бешеном галопе кони, и красивый в красной шапке офицер со своим ординарцем проскакал по дороге, круто развернулся, перемахнул через живую изгородь, вынесся на склон и стал. Мгновением позже облако пыли, клубясь, прокатилось за ним по проселку. Из облака выбились тяжелые плечи и натянутые цепи–постромки шести взъяренных лошадей, везущих пушку, которая в этой буре движения, казалось, одна была пассивна и беспомощна в страшном провидении своего могущества. Когда, послушны сигналу офицера, они вслед за ним проломились сквозь изгородь, одного пушкаря при неожиданном подскоке сбросило с передка на землю, перед колесом. Возница оглянулся в колебании на натянутую цепь. «Езжай!» — закричал упавший, и колесо прошло по нему. Еще и еще одна пушка выкатилась из облака — и так, пока вся батарея не развернулась по склону. Взвихренная пыль еще как следует не улеглась, когда над припавшими спинами возниц и хрипящих коней на мгновение возникло перед взором ближайшее орудие, уже занявшее позицию, и вставшие за нею четыре фигуры в рост. Рев, казалось, вызвавший это видение, раздался опять — совсем близко; в ответ ослепительная вспышка вырвалась из орудия, тотчас же заслоненного от глаз обступившей его прислугой, и оглушающий грохот с высоким звоном металла пробежал по проселку. Встала колонна белого косматого дыма — это рядом зажглась другая вспышка. За нею быстро последовала еще и еще одна, и новый отклик из орудия, стрелявшего первым, пока весь склон не затрясся, громыхая. Дым, уже не белый и косматый, а бурый и плотный, как будто с непрогоревшими зернами пороха, сгустился в сплошной зловещий туман и, стелясь по проселку, вовсе укрыл от взора склон.
Рев умолк, но скрежет и грохот, слышимые сквозь раскаты пушечной пальбы, еще приблизились, и вдруг пролился дождь листьев и сучков с нижних ветвей каштана у изломанной изгороди. Когда же дым снова поредел, глазам на мгновение явилось, вздымаясь и опадая, месиво трепыхающихся шляп, вскинутых конских голов и сверкающей стали, бурно надвигавшееся вверх по склону. Но видение это так же мгновенно было расколото огнем из двух ближайших орудий и исчезло в дыму и вое. Так была точна наводка и так близка мишень, что казалось, вдруг расчистилось в промежутке пространство, в котором были явственно видны закрутившиеся вихрем разметанные остатки летевшей в атаку конницы, а крики и ругань из кучи бившихся в неразберихе тел слышались внятно и отчетливо. Затем пушкарь, обслуживающий ближайшее орудие, вдруг выпустил свою метелку и схватил карабин, потому что из клубящегося перед ними дыма выделился одиночный всадник, бешено понесшийся прямо на пушку.
Молодой офицер в красной шапке выехал вперед и снизу вверх подбил шпагой ружье своего пушкаря. Потому что, как ни быстро взметнулось это перед взором, он успел разглядеть, что поводья у всадника свободно повисли на шее коня, который продолжал нестись вперед в неистовом скаче атаки, и что юношеская фигура всадника, носившего нашивки лейтенанта, хотя еще прямо сидела в седле, однако уже не- управляла конем. Белокурые волосы, мальчишечье иссера–бледное лицо; глаза запавшие и остекленелые. Казалось, сама Смерть шла в атаку на пушку.
В нескольких футах от нее конь метнулся перед качнувшимся шомполом и, задев чеку лафета, сбросил своего безжизненного ездока поперек орудия. Еще теплая кровь мертвеца задымилась — с запахом мяса — на горячей меди и окропила руку пушкаря, который машинально продолжал хлопотать у жерла. Когда подняли труп, раздался приказ прекратить огонь. Потому что внизу рев тоже смолк; скрежет и гром отходили вместе с дымом дальше влево. Зловещее облако на короткий миг расступилось и открыло нежданное солнце, блиставшее там, вниз по склону, над близкой и мирной рекой.
Молодой артиллерийский офицер спешился и тихо глядел на мертвого. Грудь его была разворочена осколками снаряда; он, конечно, умер мгновенно. Тем же осколком перебило цепочку ладанки, выскользнувшей наземь, когда на нем расстегнули мундир. Офицер ее поднял со странным чувством—может быть, вспомнив, что он и сам носил подобную же ладанку, а может быть, в надежде, что она даст ему ключ к опознанию убитого. В ней оказалась только фотография хорошенькой девушки, прядь светлых волос и одно лишь слово: «Салли». В нагрудном кармане было запечатанное письмо с надписью: «Для мисс Салли Даус. Передать, если я паду от руки этой мрази». Легкая улыбка пробежала по лицу офицера; он отдал было конверт и ладанку сержанту, но передумал и положил в свой карман.
Между тем и проселок, и перелески, и даже самый склон заполнялись подоспевшим подкреплением и отрядами, сидевшими в засаде. Его собственная батарея стояла все еще без упряжки в ожидании приказа. На проселке образовалась пробка, люди засуетились.
— Отличная работа, капитан. Смело взято и красиво проведено.
Это сказал командир, проезжая мимо со своим штабом. В его голосе звучала нота приятного облегчения, и его немолодое, в морщинах заботы лицо смягчила отеческая улыбка. Молодой капитан залился румяцем удовольствия.
— Вы, я вижу, поработали и сами, — добавил генерал, указав на мертвого.
Молодой офицер поспешил разъяснить. Генерал кивнул головой, отдал честь и проехал дальше. Но его молоденький адъютант беззаботно задержался.
— Старик в хорошем настроении, Кортленд, — сказал он. — Мы их опрокинули по всему фронту. Теперь им крышка. Честное слово, ты, я считаю, сделал последний выстрел в этом достославном сражении братоубийственной войны.
Последний выстрел! Кортленд молчал, растерянно глядя на лежавшего у его ног человека, убитого наповал этим выстрелом.
— И меня не удивит, если ты получишь за сегодняшнее дело золотую тесьму. Но кто он, наш друг–южанин? — добавил он, проследив взгляд товарища.
Кортленд повторил свой рассказ, на этот раз более серьезно, но ему не удалось воздействовать на ветреного молодого адъютанта.
— Так он решил сделать здесь привал! — перебил тот весело. — Но… — продолжал он, взглянув на письмо и фотографию, —постой‑ка… знаешь?.. Салли Даус? Вчера подобрали еще одного с письмом к той же девушке! Оно у дока Мерфи. И, ей–богу, с такой же карточкой… Это что ж! Выходит, я сказал бы, Салли вербовала мальчиков и набрала их целый эскадрон! Послушай, Корти, ты должен взять у дока Мерфи то письмо и разыскать ее, как только кончится эта жестокая война. Так сказать, «исполняя священную волю покойного». Понимаешь? Недурная мысль, старик! Ну–ну!… — И он быстро поскакал догонять начальство.
Кортленд стоял с письмом и фотографией в руке, глядя ему вслед невидящими глазами. Слева дым на полях совсем рассеялся, но еще клубился на юге тяжелой тучей, настигая летящую конницу. Снизу плыл протяжный и мелодический призыв горна. Освобожденное солнце выхватило в роще белые флаги двух лазаретов и спокойно глядело на широкую, обрамленную кипарисами, ленивую и жестокую, но неизменно прекрасную южную реку, которая все утро, никем не замечаемая, медленно катилась, улыбаясь, в самом сердце боя.
ГЛАВА I
Двухчасовой экспресс Редлендез–Форествилл, Джорджия, катился так же мирно и лениво, как река, берегами которой он шел на протяжении двух часов. Но в отличие от реки он часто останавливался — когда на положенных станциях, у деревень и поселков, а когда и среди соснового бора, при появлении какого‑нибудь местного жителя в соломенной шляпе; дав ему время весело поговорить с кондуктором и машинистом, он либо прихватывал чужака, либо же освобождал его от груза — от пакета, письма, корзинки или даже от устного извещения, доверенного ему для передачи. Часть пути лежала лесными заболоченными дебрями — сосновым бором, испокон веков не знавшим расчистки или ухода; часть — заброшенными поселениями и разрушенными деревнями, сохранившими тот самый вид, в каком их оставила гражданская война, уже три года как миновавшая. Еще не изгладились жестокие следы недавней войны; о ней говорило почерневшее дерево железнодорожных мостов, до сих пор не восстановленных; а по маршруту некоего памятного похода еще можно было видеть стальные брусья рельсов и развороченных путей, которые докрасна калили на кострах и сгибали, пока горячи, вокруг древесных стволов. Эти памятники поражения не пробуждали, казалось, ни жажды отомстить, ни энергии, чтобы их устранить; еще длилась глухая апатия, наставшая вслед за днями истерического порыва и судорог агонии; даже те неспешные исправления, какие можно было обнаружить, как будто говорили о медленности выздоравливания. Во всем была видна беспомощность племени, зависевшего раньше от известных варварских установлений или предоставляемых ему государственных должностей и власти: людей, лишенных всякой изобретательности и вдруг поставленных перед необходимостью работать самим. Глаза, три коротких года назад с жаждой мести обращенные на Север, ныне жалобно смотрели в ту же сторону, ожидая помощи и руководства. Они жадно вглядывались в лица своих энергических и процветающих соседей — и недавних врагов— на верандах южных отелей, на палубах южных пароходов и даже вот сейчас, из этой маленькой толпы в лесу, посматривали на окна остановившегося поезда, в которых показались лица двух мужчин, резко различных по типу, хотя оба по одежде, по складу, по говору были явно чужими в этом краю.
Два негра медленно грузили в тендер дрова из штабелей. Сгустки смолы давали обильный бурый дым, и вонь от него шла по всему поезду. Старший из двух пассажиров–северян, со скуластым лицом жителя Новой Англии, нетерпеливо посмотрел на часы.
— Много было бестолочи, но это побивает все! Почему нельзя было нам взять на последней стоянке столько дров, чтобы хватило еще на десять миль? И почему, гром их разрази, при такой сумасшедшей топке мы не можем идти быстрей?
Пассажир помоложе, чье спокойное лицо позволяло распознать воспитанного человека, привычного к дисциплине, улыбнулся.
— Если вы в самом деле хотите это знать — и так как ехать нам осталось только пять миль, — я покажу вам почему. Пойдемте со мной.
Он прошел через весь вагон на площадку и соскочил. Потом многозначительно указал на рельсы. Его спутника всего передернуло. Вдоль каждого рельса тянулись отслоившиеся от него тонкие ленты металла, и его толщина местами была доведена до четверти дюйма, местами же выступающие края были содраны или свисали железными лохмотьями, так что колесо, в сущности, бежало по узкой центральной ленте. Представлял, ось чудом, как еще поезд все‑таки шел, держась своей колеи.
— Теперь вы знаете, почему мы делаем не больше пяти миль в час, и скажите спасибо, что не делаем, — спокойно проговорил молодой путешественник.
— Но это безобразие!.. Преступление! — разволновался старший.
— При такой скорости — нет, — возразил молодой. — Преступлением было бы идти быстрее. И теперь вам понятно, почему и по другим отраслям прогресс должен в этом штате подвигаться так же медленно при таком упадке во всем и прогнивших устоях. Здесь нельзя убыстрять ход вещей, как мы это делаем у себя на Севере.
Второй пассажир пожал плечами, они взошли опять на площадку, и поезд тронулся. Не впервой было двум попутчикам разойтись во взглядах, хотя они и ехали по общему делу. Старший, мистер Сайрес Драммонд, был вице–президентом большой северной земледельческой и мукомольной компании, скупившей обширные земли в Джорджии, а младший, полковник Кортленд, служил в той же компании инспектором и инженером–консультантом. В суждениях Драммонда сильно сказывались его северные предрассудки и самодовольное, праведное неведение условий жизни и ограниченных возможностей тех людей, с которыми ему предстояло вести дела; тогда как младший, послужив и отличившись на войне, сохранял уважение к своим бывшим противникам и накопил запас осознанных и продуманных наблюдений насчет их характера. Хоть он и бросил военную службу, то обстоятельство, что он получил диплом, да еще с отличием, в Вест- Пойнте, дало ему преимущество при назначении на должность инженера, а знакомство с краем и его народом позволяло ценить его как консультанта. И в самом деле, местные жители предпочитали этого солдата, с которым недавно лично дрались в боях, какому‑то капиталисту, о котором они знать не знали во время войны.
Поезд медленно катил лесами, так медленно, что чадный сосновый дым из паровоза непрестанно клубился перед окнами вагонов. Постепенно вырубки делались шире; можно было видеть вдалеке белые деревянные колоннады какого‑нибудь плантаторского дома, еще смотревшего богатым и надменным, даром что его ограда зияла проломами, а створка ворот повисла на одной петле.
Мистер Драммонд фыркал при этом убийственном свидетельстве небрежения и нерадивости.
— Пусть даже они разорены, — сказал он, — могут же они все‑таки потратить несколько центов на гвозди и планки, чтоб иметь приличный вид, а не щеголять перед соседями своей нищетой.
— Вот тут и видно, что вы их не понимаете, Драммонд, — улыбнулся Кортленд. — Им незачем напускать на себя важный вид перед соседями, для тех они как были, так и остались сквайром имярек, полковником таким‑то и таким‑то, или там судьей — владельцами обширных, но разоренных поместий. Они не стыдятся бедности, здесь она, как несчастный случай.
— Но они уклоняются от труда и уклоняются нарочито, — перебил Драммонд. — Им, извольте видеть, стыдно починить своими руками забор — сейчас, когда у них не стало рабов, чтобы сделать это за них.
— Я думаю, немногие из них умеют забить гвоздь, если уж на то пошло, — сказал Кортленд, все еще добродушно. — Но виной тому система, которая старше их самих и установлена была еще основателями республики. Мы не можем в один день передать им все навыки, нужные в их новых условиях; и, право же, Драммонд, я боюсь, что нам в наших собственных интересах — и, как я надеюсь, ради их же блага, — что нам лучше оставить их пока в покое, такими, как есть.
— Вы, может быть, хотели бы, — сказал с усмешкой Драммонд, — восстановить у них рабство?
— Нет. Но я бы хотел восстановить хозяина. И не только ради него самого, но ради свободы и ради нас. Я поясню: за время своей работы в компании я по личным своим наблюдениям убедился, что негр еще меньше, чем его хозяин, умеет приспособиться к новым условиям. Он привык, что есть у него старый, наследственный работодатель, и я сомневаюсь, что он станет честно работать на других — особенно на тех, кто его не понимает. Не истолкуйте меня ошибочно: я не предлагаю вернуться к бичу; к этому гнусному институту — безответственному надсмотрщику; к купле и продаже, к разлучению мужа с женой и матери с ребенком, — ни к одному из этих старых зол: я предлагаю сделать прежнего хозяина нашим надсмотрщиком, нами поставленным и ответственным перед нами. Он не дурак и сразу же сообразил, что выгодней платить жалованье своему прежнему рабу, имея при этом право, как каждый наниматель, уволить его, нежели, как при старой системе принудительного труда и пожизненного рабства, нести расходы по содержанию нетрудоспособных и ленивых. Старая обида рабовладельца отступила перед естественным здравым смыслом и простым расчетом. Я убедился, что* делая ставку на такое использование старого хозяина и новой свободы, мы сможем лучше обрабатывать наши земли, чем если мы, скупая поместья, пустим старых владельцев гулять по свету с небольшими деньгами в кармане и тем самым создадим целый класс, праздный и не довольный, который станет возрождать отжившие политические догмы и разжигать новые несогласия или сплачивать против нас опасную оппозицию.
— Уж не хотите ли вы сказать, что эти чертовы негры даже предпочтут своих старых притеснителей?
— Если они положат им ту же плату? Безусловно! А почему не предпочесть? Старые хозяева лучше понимают их, да и обращаются с ними, в общем‑то, лучше. Негры знают, что мы взяли их сторону во имя отвлеченной идеи, а не в силу подлинной симпатии. Мы это показываем на каждом шагу. Однако мы подъезжаем к Редлендзу; и майор Рид, я уверен, подтвердит вам мои впечатления. Он настаивает, чтобы мы остановились в его доме, хотя ему, бедняге, конечно, не по средствам принимать гостей. Но отказом мы его обидим.
— Так вы с ним друзья? — спросил Драммонд.
— В деле у Каменного Яра я сражался против его полка, — печально ответил Кортленд. — Он не устает говорить со мной об этом, так что мы, пожалуй, друзья.
Через несколько минут поезд подкатил к платформе в Редлендзе. Едва путешественники сошли, на плечо Кортленда легла тяжелая рука, и толстый человек в самом черном и самом лоснящемся люстриновом сюртуке и в самой белой и самой широкополой панаме на голове обратился к нему с приветствием.
— Рад вас видеть, полковник. Я подумал и решил, подойду‑ка я и прихвачу с собой мальца (он указал на седого негра–слугу лет шестидесяти, низко поклонившегося им) — он понесет ваши вещи, чтобы не надо было нанимать коляску. После войны у нас тут не очень‑то поездишь на колесах — ха–ха! Чего я сам не забрал, когда проводил ремонт лошадей, надо думать, подчистую выгреб ваш комиссар вместе с прочим живым инвентарем. — Он от души рассмеялся, как будто эти воспоминания были только забавны, и опять хлопнул Кортленда по спине.
— Позвольте вам представить, майор Рид, моего друга, мистера Драммонда, — сказал с улыбкой Кортленд.
— Были на войне, сэр?
— Нет… я… — начал Драммонд, замявшись, сам не понимая почему, и злясь на себя за свое смущение.
— Мистер Драммонд, вице–президент нашей компании, — бойко ввернул Кортленд, — был занят пополнением нашей военной казны.
Майор Рид поклонился несколько официальней.
— Здесь у нас, сэр, большинство — кто недолго, а кто и подольше — сражались на войне, и если вы, джентльмены, окажете мне честь выпить стаканчик за нашим столом в гостинице через дорогу, то я вас познакомлю с капитаном Прендергастом, который лишился ноги у Красивых Дубков.
Драммонд хотел было отклонить приглашение, но Кортленд остерегающе сжал его руку над локтем, и он переменил свое намерение. Он пошел вместе с ним в гостиницу и предстал пред лицо одного воина (оказавшегося не кем иным, как ее хозяином и содержателем ресторана), коему майор Рид с шумным весельем представил Кортленда как «человека, сэр, который три часа жарил по моему дивизиону у Каменного Яра!».
Дом майора Рида был в нескольких минутах ходу по немощеной дороге и вскоре возвестил о себе лаем трех-четырех гончих, сам отступив за полуобвалившийся частокол с белеными воротами. В глубине протянулась обычная для юга деревянная дорическая колоннада барского дома, еле видного сквозь широкие листья конских каштанов, укрывших его в своей тени. По веранде и по службам сновали, как обычно, бесстрастные черные тени — недавние рабы и все еще преданные домашние слуги, замершие, точно ящерицы, в неподвижности при приближении незнакомых шагов, кто с метлой, кто со щеткой в застывших своих руках, кто с пыльной тряпкой или иным предметом обихода, которым они лениво орудовали. С порога кухни, отдельного флигелька, связанного галереей с левым крылом дома, прижав к груди кастрюлю, смотрела во все глаза «тетушка Марта», кухарка, и ее рука с зажатой в ней мохнатой тряпкой остановилась в своем вращении на половине очередного круга.
Драммонду, которого воротило с души при этих свидетельствах безнадежной неспособности и неумелости, отнюдь не полегчало в обществе миссис Рид — унылой, разочарованной сорокалетней женщины, в чьих маленьких черных глазах и складке красивых тонких губ таилось что‑то от враждебности и ожесточенности истой поборницы «южных прав»; ни двух ее дочек, Октавии и Августы, чья скучающая меланхолия казалась частью еще носимого ими траура. Оптимистическая любезность и раздутие майора представлялись тем более примечательными по контрасту с кладбищенским унынием и скрытым ехидством его семейства. Но, пожалуй, в его благодушии ощущался легкий привкус южной неискренности.
— Папа у нас, — сказала Кортленду мисс Октавия с угрюмой доверительностью и с наследственным милым изгибом губы, — чуть ли не один изо всей семьи примкнул к «перестроившимся». Мы здесь не очень‑то жалуем их. Но я посоветовала бы вашему другу, мистеру Драммонду, если он приехал сюда разводить агитацию в пользу Севера, не очень‑то полагаться на папину «перестройку». Она у него до первой стирки.
Когда же Кортленд поспешил ее заверить, что Драммонд никакой не политик и не агитатор, а предприимчивый северянин с большими средствами, ищущий, как бы повыгодней поместить свой капитал, девица и тут не смягчилась.
— И он, полагаю, намерен уплатить папе за тех негров, которых вы у него украли? — сказала она с угрюмой иронией.
— Нет, — улыбнулся Кортленд. — Но что вы скажете, если он намерен платить неграм за то, чтоб они работали на вашего отца и на него?
— Если папа собирается заводить с ним дела; если майор Рид — джентльмен–южанин — собирается вступить в предприятие, то не такой он дурак и не поверит, что черные станут работать, когда не обязаны. Это уже попробовали сделать у Миранды Даус, в пяти милях отсюда, так негры половину дня болтаются в городе—празднуют лентяя. Она понастроила для них эти новомодные поселки, принуждает их есть за общим длинным столом, как это заведено у подлого народа там, на Севере, уничтожила их хижины и их огородики с дынями и вообразила, что отвадит лежебок от безделья и что они станут работать сверх положенного времени, если им больше платить. А получилось только то, что всю работу делает она сама с племянницей да нищий белый сброд — ирландцы и шотландцы, — которых она набирает бог ее знает где. А ведь Салли, ее племянница, во время войны стояла за Союз и разделяла все эт»северные выдумки й фокусы, распиналась за них; а вот все‑таки дело не клеится.
— Но, может быть, в этом отчасти и причина? Не объясняется ли ее неудача в значительной мере отсутствием сочувствия со стороны соседей? Недовольство посеять так просто, тем более, что негр все еще привержен всяческому суеверию; Пятнадцатая Поправка сбила с него не все оковы.
— Да, но ей это нипочем. Потому что, если есть на свете женщина, воображающая, что ей от рождения назначено распоряжаться по–своему всем и всеми, так это Салли Даус!
— Салли Даус! — Кортленд встрепенулся.
— Да, Салли Даус из Пайнвилла.
— Вы сказали, что она стояла за Союз, но не было ли у нее на войне родных или… или друзей… сражавшихся на вашей стороне? Кого‑нибудь, кто… кто был убит в сражении?
— Они, скажу вам, были все убиты, — мрачно ответила мисс Рид. — На кладбище зарыты рядом ее жених и ее двоюродный брат Джул Джефкорт — тоже, говорят, Саллиного полка; и были еще Чет Брукс с Джойсом Мастертоном, оба ее верные поклонники — и тоже оба убиты; да и сам старый капитан Даус, — он все не мог оправиться после сдачи Ричмонда, стал пить и умер от запоя. Здесь издавна считалось гибельным состоять в родстве с мисс Салли — или хотя бы желать породниться с нею.
Полковник Кортленд ничего не ответил. Перед ним так же живо, как в тот памятный день, возникло лицо мертвого молодого офицера, несшегося прямо на него из синего дыма. Портрет и письмо, которые он взял с груди мертвеца и хранил до сего дня; романтические и напрасные поиски прекрасного оригинала, которые он долго вел в последующие дни; и странный роковой интерес к незнакомке, все сильней завладевавший его сердцем, интерес, который, как он понял вдруг, только дремал, заглушённый хлопотливыми делами шести последних месяцев, — все это сейчас снова навалилось на него с удвоенною силой. Его настоящая командировка сюда и ее практические цели, его честное усердие в их достижении, осмотрительность, умение, опыт, которые он вкладывал в свое дело, — все как будто вдруг оказалось оттеснено этой нереальной фантазией. Как ни странно, она представлялась теперь в его жизни единственной реальностью, прочее же все — бессвязным, бессмысленным сном.
— И она, эта мисс Салли… она замужем? —еле набрался он духу спросить.
— Замужем? Да, за хозяйством своей тетки! По–моему, это единственное, что ее заботит.
Кортленд поднял голову, и к нему вернулся его обычный веселый покой.
— Что ж, я, пожалуй, после завтрака отправлюсь выразить свое почтение ее семье. Судя по тому, что вы мне сейчас рассказали, их хозяйство представляет собой эксперимент, с которым стоит познакомиться. Полагаю, ваш отец не откажет мне в рекомендательном письме к мисс Даус?
ГЛАВА II
Все же, когда полковник Кортленд ехал на «Даусову Дурь», как прозвали по округе новое экспериментальное хозяйство, он, хоть и сохранил в полной силе свой романтический пыл, ничуть тем не менее не жалел, что может навестить его под деловым предлогом. Поздновато было разыскивать мисс Салли Даус нарочно ради того, чтобы доставить ей письмо от поклонника, которого уже три года, как нет в живых, и память о котором она, быть может, давно похоронила. И совсем уже неделикатно было бы напоминать о прежнем чувстве, если теперь оно представлялось ей слабостью, которой она стыдилась. Однако, как ни трезв и логичен был Кортленд в своих повседневных делах, он все‑таки не был вполне свободен от того особенного суеверия, с каким смотрит на все романтическое обыкновенный человек. Он верил, что не простое лишь стечение обстоятельств так неожиданно открыло ему благоприятную возможность познакомиться с девушкой. Во всем последующем — если что последует — он доверится судьбе. Итак, считая себя умным, холодным и рассудительным господином и будучи на деле — по меньшей мере в том, что касалось мисс Даус, — так же слеп, опрометчив и безрассуден, как любой из ее былых поклонников, он спокойно следовал своим путем, пока не доехал до проселка, ведшего на плантацию Даусов.
Здесь сравнительно хорошее состояние дороги и тщательно починенная изгородь, которые, наверно, умилили бы Драммонда, казалось, предвещали успех новому предприятию. Несколько дальше эта изгородь своим фасоном даже отступила от старозаветного местного образца — косого зигзага, сменив его на нечто более прямолинейное— столбы с перекладинами в северном вкусе. За изгородью вскоре появился длинный ряд низких новых строений, оказавшихся, к удивлению Кортленда, вполне современными по материалу и архитектуре. Здесь не было и в помине обычных южных портиков с фронтоном или веранд с колоннами. Но и не был их вид совсем северным. Фабричного стиля фасады до половины укрывали вьющаяся черокезская роза и кусты жасмина.
Длинная крытая галерея соединяла эти строения в одно целое и одному из них заменяла веранду. Широкая, хорошо укатанная подъездная дорога, усыпанная гравием, вела от открытых ворот к самому новому строению, — по–видимому, конторе; от нее отходила дорожка поуже, ведшая к угловому дому, при всей своей суровой простоте наиболее представительному. Здесь не видно было, как у Ридов, слоняющихся без дела слуг или полевых работников: они, должно быть, находились все при исполнении своих обязанностей. Спешившись, Кортленд привязал коня к столбу у входа в контору и пошел по узкой дорожке к угловому дому.
Дверь стояла раскрытая для дневного благоуханного ветра, веявшего сквозь заслон роз и жасмина. Раскрыта была и большая дверь из прихожей в длинную залу или гостиную, протянувшуюся во всю ширину дома. Кортленд вошел в нее. Она была довольно мило обставлена, но все в ней имело вид уж слишком новенький и было лишено своего особого характера. Здесь никого не оказалось, только слышался слабый стук молотка в заднюю стену дома, доносившийся в две распахнутые стеклянные двери в глубине комнаты, занавешенные вьющимся виноградом и выходившие на залитый солнцем двор. Кортленд подошел к одной из них. Прямо перед нею, упертая в землю, стояла легкая переносная лестница, которую он немножко отодвинул, чтобы она ему не загораживала вид во двор, когда, надев шляпу, он вышел было в эту открытую дверь.
И тут он вдруг почувствовал, что шляпу сшибли с его головы, вслед за шляпой почти мгновенно промелькнула падающая домашняя туфелька, и он отчетливо ощутил, как ему наступила на маковку чья‑то очень маленькая ножка. Непередаваемое ощущение! Он поспешно отступил назад в комнату, и так же поспешно нога в полосатом чулке, свесившаяся было над раскрытой дверью, снова подтянулась вверх, и женский голос воскликнул: «Господи помилуй!»
Подождав полминуты, только чтобы убедиться, что прелестная обладательница голоса твердо стоит на ногах и ей не грозит опасность сорваться, Кортленд схватил свою шляпу, благо упала она в комнату, и бесславно отступил в другой конец гостиной.
А сверху в раскрытую дверь снова донесся тот же голос, и он показался ему очень приятным и звонким:
— Софи, это ты?
Кортленд скромно вышел в прихожую. К его великому облегчению, снаружи отозвался другой голос:
— Да, мисс Салли? Где вы?
— Зачем ты передвинула лестницу? Ты меня чуть не убила.
— Ей–богу, мисс Салли, не передвигала я никакую лестницу!
— Не болтай пустое. Ступай и подними мне туфлю. Да принеси‑ка еще гвоздей.
Кортленд ждал молча в прихожей. Через несколько секунд послышались тяжелые шаги на заднем дворе за стеклянными дверями. Благоприятный момент! С напускной бойкостью войдя в гостиную, он увидел прямо перед собой высокую девушку–негритянку, которая шла ему наперерез, неся в руке крошечную комнатную туфельку.
— Извините, — сказал он учтиво, — но я никого не мог найти, кто доложил бы обо мне. Мисс Даус дома?
Девушка тотчас же закинула руку с туфелькой за спину.
— Вам кого — мисс Мирэнди Даус, —спросила она с подчеркнутым достоинством, — или мисс Салли Даус, ее племянницу? Мисс Мирэнди, та уехала на неделю в Атланту.
— У меня письмо к мисс Миранде, но я буду очень рад, если мисс Салли Даус не откажется меня принять — ответил Кортленд, вручая девушке письмо и свою визитную карточку.
Она приняла их с еще более подчеркнутым достоинством и заметным колебанием.
— У меня совсем вылетело из головы, сэр, уж не знаю, как в этот час мисс Салли — принимает ли посетителей? Дело в том, сэр, — продолжала она с возрастающей важностью и тем более глубокомысленным раздумьем, что стук молотка мисс Салли беззастенчиво доносился сверху. — Я, собственно, не знаю, чем она сейчас занята, — играет ли на арфе, упражняется по языкам или не пишет ли красками, масляными либо водяными, а может быть, как раз принимает разных чиновных господ из Суда. Не знаю, что у ней на этот час назначено. Но я пройду к ней, сэр, наверх, в ее будуар, и спрошу. — Ловко пятясь задом, чтобы не показать укрытой за спиной туфельки, но сохраняя все достоинство, она вышла в боковую дверь. В этот же миг стук молотка прекратился, сменившись быстрым перешептыванием во дворе; прошуршали, падая на землю, несколько мелких сучков и листьев, и наступила полная тишина. Он отважился подойти опять к роковой стеклянной двери.
Вскоре за тем он услышал легкий шелест в другом конце гостиной и обернулся. Сердце его вдруг заколотилось и тут же словно бы совсем перестало биться; он глубоко перевел дыхание, что было очень похоже на вздох, и застыл в неподвижности.
У него вовсе не было предвзятой мысли, что он должен с первого взгляда влюбиться в мисс Салли, да он и не представлял себе, что такая вещь возможна. Даже девичье лицо в той ладанке, хотя и пробудило в нем странное волнение, не внушило все‑таки подобной мысли. А тот идеальный образ, который он создал по фотографии, никогда не обладал действенностью чего‑то реально сущего. Но восхитительно прелестные личико и фигура, возникшие перед ним, хоть и могли быть написаны с его воображаемой Салли Даус, все же были чем‑то еще — и чем‑то неожиданным. Все, что происходило до сих пор, никак его не подготовило к встрече с красивою девушкой, стоявшей сейчас перед ним. Мало что объяснило бы, если сказать, что сейчас мисс Салли была лет на пять старше, чем на той фотографии, и что все пережитое в последующие годы, развившийся ум, новые условия жизни и новые устремления наложили отпечаток на юное ее лицо, сообщив его чертам утонченную живость; и было бы дикой фантазией вообразить, что кровь погибших за нее каким‑то сверхъестественным образом придала девушке новое очарование, и Кортленд сразу эту мысль отбросил. Но даже самый привычный наблюдатель, такой, как Софи, должен был видеть, что мисс Салли обладала самым нежным, розовым румянцем, самыми шелковистыми волосами — так могли бы выглядеть пасмы маиса, если б завивались, или золотая паутина, если бы стала материальной; и светло–серыми глазами, гармонировавшими с тем и другим; видеть, что ее кисейное платье, хоть и домодельное, безукоризненно сидело и удивительно шло ей — с этими голубыми бантами на плечах и лентой вокруг пояса; и что воланы ее юбки приоткрывали ножку, за которой утвердилась слава самой маленькой ножки к югу от линии Мэсон–Диксона. Но не это, что‑то менее осязаемое перехватило Кортленду дыхание и лишило его языка.
— Я не мисс Миранда Даус, — с полудетской–полуделовой прямотой сказало видение, протягивая маленькую ручку, — но я могу поговорить с вами о нашем хозяйстве не хуже тети; по тому, что пишет здесь майор Рид, — она взмахнула зажатым в пальчиках письмом, — вам, я вижу, «важно финики сбить, а какою палкой, все равно»!
Эта тирада была сказана таким свежим, чистым и нежным голосом, что Кортленд, боюсь, и не подумал о том, что она била слишком напрямик, вразрез со всеми условностями. Зато она и ему развязала язык, позволив ответить спокойно, бее дрожи:
— Я не заглядывал в эту записку, мисс Даус, но мне не верится, чтобы майор Рид таким именно образом говорил о выпавшем мне счастье.
Мисс Салли рассмеялась. Потом в милой игре повела своею детской ручкой, указывая на диван.
— Прошу! Вам, понятно, потребовалась некоторая подготовка, полковник, но теперь, когда вы справились с задачей, и очень элегантно, вам разрешается сесть.
Сказав, она и сама опустилась на один конец дивана, мило отвела белый кипень юбок, чтобы оставить Кортленду побольше места на другом, и, сцепив пальцы на коленях, приняла вид скромного ожидания.
— Но позвольте мне надеяться, что я не потревожил вас не вовремя, — сказал Кортленд, приметив выглянувшую из‑под юбок предательскую туфельку и вспомнив дверь во двор. — Я слишком привык думать о вашей тетушке как об управительнице большим земельным хозяйством и забыл, что она как дама может иметь свои приемные часы.
— У нас не установлено часов для гостей, — сказала мисс Салли, — и сейчас мы не держим прислуги для церемонных приемов, рабочих рук едва хватает в полях и на скотном дворе. Когда вы явились, я приколачивала снаружи шпалеры для винограда, потому что мы не можем забрать для этого плотников со стройки. Но вы приехали, — добавила она с чуть язвительной ноткой в голосе, — поговорить о нашем хозяйстве.
— Да, — сказал Кортленд, — но не прерывать в нем работу. Не разрешите ли вы мне помочь вам прибить к стене шпалеры? У меня есть в этом некоторый опыт, и мы сможем поговорить за работой. Вы меня очень обяжете!
Девушка весело посмотрела на него.
— Что же, это бы не худо. Но вы предлагаете всерьез?
— Вполне. Меня тогда не будет так смущать, что я наслаждаюсь вашим обществом под ложным предлогом.
— Тогда подождите меня здесь.
Она вскочила с дивана, выбежала из комнаты и быстро вернулась, на ходу завязывая за спиною пояс длинной полосатой блузы, — должно быть, запасной рабочей блузы Софи. Ворот был собран под ее округлым подбородком на тесемку, которая завязывалась тоже сзади, а свои золотистые волосы она подобрала под обычный красный в крапинку платок прислуги–негритянки. Едва ли нужно добавлять, что впечатление было волшебное.
— Но вы, чего доброго, — сказала мисс Салли, оглядев отлично сидевший на госте сюртук, — испортите ваш парадный костюм!.. Скиньте‑ка сюртук, не стесняйтесь передо мной — и работайте в жилете.
Кортленд послушно снял сюртук и прошел за своей трудолюбивой хозяйкой через стеклянную дверь на задний двор. Над ними во всю длину дома проходил деревянный бордюр или карниз, выступавший на несколько дюймов. В этот карниз и упиралась, как видно, ногами мисс Салли, когда набивала шпалеры между ним и окнами второго этажа. Кортленд нашел лестницу, забрался на карниз, а следом за ним и мисс Салли, с улыбкой отклонившая его протянутую в помощь руку, и они сосредоточенно взялись вдвоем за работу. Но в промежутки между заколачиванием гвоздей и подвязыванием лоз язычок мисс Салли не оставался праздным. Ее разговор был так же нов, так же занятен и своеобычен, как она сама, но при том так делен и так отвечал целям гостя, что мы должны извинить Кортленду, если он с удовольствием слушал девушку и радовался ее пленительной близости. Замолкала ли она в разговоре с ним, чтобы зажать в хорошеньких губках гвоздь, держалась ли рискованно одной рукой за шпалерник, когда другой размахивала молотком, показывая со своей наблюдательной вышки на тот или иной раздел плантации, он думал каждый раз, что она так же побеждает его разум убедительной и ясной речью, как видом своим и голосом вносит тревогу в душу.
Она ему рассказала, как война разрушила их старый семейный очаг в Пайнвилле, услав ее отца в Ричмонд служить в Совете Конфедерации, и им с теткой пришлось самим хозяйничать в поместье; как оно было все разорено, а дом разрушен, и как у них времени было в обрез, чтобы только вывезти кое‑что поценней, и как она, хотя была всегда противницей отложения и войны, все же не подалась на Север и предпочла остаться со своим народом и вместе с ним понести неизбежное — она это видела — наказание за безумство. Как после войны и смерти отца они с тетей решили «перестроиться» на свой особый лад на этом куске земли, который только потому и сохранился у них из былых обширных владений, что раньше он ни во что не шел и при рабском труде считался недоходным. Как поначалу им приходилось очень трудно из‑за невежества освобожденных негров, их плохой работы и из‑за той же апатии и предубежденности соседей. Как постепенно они добились успеха, перейдя на новые методы и следуя новым идеям, до которых она дошла сама и сущность которых теперь излагала сжато и четко. Кортленд слушал, затаив дыхание, с новым и почти суеверным вниманием: это были его собственные теории, но усовершенствованные и подтвержденные опытом!
— Но ведь для начала вам нужен был капитал?
О да! Но тут им подвалило счастье. У нее нашлись во Франции родственники, у которых она когда‑то гостила в Париже; они дали авансом немалую сумму на восстановление инвентаря. И в Англии нашлись друзья ее отца — былые нарушители блокады, они тоже вошли в долю, внесли дополнительный капитал да еще выслали партию умелых сельскохозяйственных работников и некоего как бы приказчика или агента в качестве своего представителя. Дело наладилось, и, возможно, их репутация среди соседей окрепла благодаря тому, что на них все же не смотрели как на северян. Увидев, что на лицо Кортленда набежало облако, девушка поспешила добавить с притворным вздохом, первым проявлением женского кокетства, нарушившим чисто товарищеский тон беседы:
— Если бы вы нас сыскали раньше, полковник!
Кортленда так и подмывало рассказать ей историю своих романтических поисков; его остановила мысль о том, что они стоят на узком выступе, где в прямом смысле слова нет места для эмоций, и что мисс Салли только что взяла гвоздик в рот, так что испуг для нее сейчас опасен. К этому можно прибавить неожиданную ревность к ее прежнему опыту, раньше ему незнакомую. Все же он отважился сказать, давая некоторый исход своим чувствам:
— Но я надеюсь, мы и теперь не опоздали. Думаю, мои принципалы и захотят и смогут откупить паи у любого вкладчика, настоящего и будущего, француза и англичанина.
— Можете попытать удачи хоть на нем, — сказала мисс Салли, показывая на молодого человека, только что вышедшего из конторы и пересекавшего двор. — Это как раз агент англичан.
Плечистый, головастый, свежий и чистенький в белой своей фланели, он казался чужим и резко отличным среди всего окружающего, умственно и нравственно к нему непримиримым. Проходя мимо, он робко взглянул на дом; его глаза просветлели при виде девушки, и сам он приосанился, но сразу как‑то осел, приметив ее гостя. Кортленду тоже стало несколько не по себе: одно дело помогать мисс Салли, когда вы с ней наедине, и, разумеется, совсем другая материя делать это на глазах стороннего наблюдателя; и я боюсь, каменный взор англичанина он встретил таким же леденящим взором. Одна мисс Салли сохранила свой беспечный покой и самообладание.
— Минуточку, мистер Чэмпни! — кликнула она, легко соскользнула по лестнице, прислонилась к ней и, стоя одной ногой на нижней ступеньке, ждала его приближения.
— Я так и думала, что вы, наверно, пройдете здесь, — сказала она, когда он подошел. — Полковник Кортленд (пояснительный взмах молотка в сторону гостя, который оставался на карнизе, прямой и немного чопорный) отнюдь не сородич тех изваяний на фронтоне Редлендзского Суда, а офицер–северянин, друг майора Рида, и приехал он сюда присмотреть для северных капиталистов южные имения. Мистер Чэмпни, — продолжала она, обернувшись и возведя глаза на Кортленда, тогда как ее молоток указывал, кто здесь Чэмпни, — когда он не говорит, как англичанин, не глядит, как англичанин, не думает, как англичанин, не одевается, как англичанин, и не удивляется, почему господь не создал все английским, старается делать то же самое для своих патронов. Знакомьтесь: мистер Чэмпни — полковник Кортленд. Полковник Кортленд — мистер Чэмпни! (Мужчины учтиво раскланялись.) А теперь, полковник, если вы сойдете вниз, мистер Чэмпни проведет вас по плантации. Когда вы кончите обход, вы найдете меня здесь за работой.
Кортленд предпочел бы — и весь его вид просил о том, — чтобы она пошла с ними и сопроводила бы осмотр своими разъяснениями, однако он скрыл свое разочарование и спустился. Ему отнюдь не понравилось, что Чэмпни явно обрадовался и уже готов принять его и впрямь за человека совершенно постороннего, чье появление, конечно, не нарушит той дружеской близости, какая, возможно, существует между ним и Салли. Тем не менее он с учтивой благодарностью принял предложение англичанина пройтись с ним по плантации, и они вместе оставили дом.
Не прошло и часа, как они повернули назад. Для Кортленда и этого времени оказалось предостаточно, чтобы убедиться, что все действительные усовершенствования и новые приемы вводились по почину мисс Салли; что на деле она все держала под своим действенным контролем и что старозаветный консерватизм компании, чьим приказчиком являлся Чэмпни, был ей, наверно, не в помощь, а в помеху. Впрочем, так же очевидно было и то, что молодой человек сам это смутно понимал и сейчас довольно откровенно распространялся об этом в разговоре.
— Видите ли, там у них работы ведутся по–другому, и они, ей–богу, не представляют себе, что возможен — понимаете? — иной какой‑то способ. Я то и дело получаю от них нагоняй, точно я могу что‑нибудь с этим поделать и хотя я всячески стараюсь разъяснить им этот негритянский вопрос и все такое — ну, вы понимаете!.. Послушать их, так мисс Даус должна сообщать мне свои планы и дожидаться, пока я им все отпишу, а они потом доложат Правлению и будут ждать разрешения. Вообразите себе, чтобы мисс Даус на это пошла! Но, ей же богу, уж в ней‑то они и вовсе ничего не понимают, меньше, знаете ли, чем во всем остальном.
— Вы которую мисс Даус имеете в виду? —спросил безразлично Кортленд.
— Мисс Салли, конечно, — сказал, оживившись, молодой человек. — Она тут всем верховодит, и теткой в том числе. Она вам заставит негров работать, когда ни у кого другого они не работают. Скажет слово или улыбнется— и готово дело! Она вам договорится и с купцом, и с подрядчиком, и, заметьте, на своих условиях… А когда я называю цену, они и слушать не хотят. Ей- богу! Она даже может, поверите ли, выбить выгоду из этих разъездных агентов и изобретателей, что слоняются по дорогам с патентами и образцами. Одного молодчика из тех, что набиваются поставить вам громоотвод или колючую проволоку, она затащила к себе, чтоб он научил ее, как устроить беседку из вьющихся роз. Да что! Когда я вас только увидел на том карнизе, я сперва подумал, что и вы какой‑нибудь парень, которого она, понимаете, зазвала… Конечно, только сначала!.. Ну, вы меня поняли… ха–ха, ей–богу!.. Перед тем, понимаете, как она нас друг другу представила.
— Простите, но я сам предложил мисс Даус свою помощь, — сказал Кортленд с живостью, о которой тут же пожалел.
— А тот парень, думаете вы, не сам? Мисс Даус никого ни о чем не просит. Человеку, видите ли, неудобно стоять и смотреть, как девушка, молодая леди, понимаете, делает сама такое дело. — Смутно осознав некоторую неуместность своего замечания, он неуклюже перешел на другой предмет. — Пожалуй, я и сам долго тут не просижу.
— Надумали вернуться в Англию? — спросил Кортленд.
— Ой нет! Но я хочу оставить службу в компании, попытать счастья самому. В трех милях отсюда назначена к продаже неплохая земелька, и, думается, я бы мог сделать с нею толк. Человек рано или поздно должен обосноваться и стать сам себе хозяином, — сказал он, как бы нащупывая почву. — Не согласны?
— А как же мисс Даус обойдется без вас? — сказал Кортленд и сам устыдился своего напускного равнодушия.
— Ох, ей от меня, знаете, не много пользы, во всяком случае, когда я здесь. А вот будь я сам плантатором и будь мы с ней соседями, тут бы я мог ей помочь. Я вам уже говорил: она сама заправляет всем и не глядит, кто тут есть и чьи тут деньги вложены.
— Полагаю, сейчас вы говорите о молодой мисс Даус? — сказал Кортленд все так же безразлично.
— О мисс Салли… ну, конечно… все о ней, — простодушно ответил Чэмпни. — Она здесь всему хозяйка.
— Есть как будто совладельцы — какие‑то французы, родственники мисс Даус? Их тут никто не представляет? — сказал Кортленд веско.
Но он и сам не ждал, что его собеседник так изменится в лице.
— Нет. Правда, был какой‑то французский кузен, вертелся тут, понимаете… Но что‑то мне кажется, он приехал сюда не затем, чтобы приглядывать за имением, — ответил Чэмпни с коротким смешком. — Мне кажется, тетка написала его близким, и те его «отозвали», и я не думаю, чтобы мисс Салли очень по нем сокрушалась. Не из тех она девиц… а? Ведь она могла бы выбрать во всем штате кого захотела, будь у нее на уме что‑нибудь такое… а?
Хотя Кортленд думал в точности так же, он предпочел небрежно бросить: «Конечно, я с вами согласен», — и напустил на себя вид человека, помышляющего только о делах.
— Я, пожалуй, заходить не стану, — продолжал Чэмпни, когда они опять подошли к дому. — Вам, я полагаю, нужно кое о чем поговорить с мисс Даус. Если вам что‑нибудь понадобится от меня, загляните в контору. Но она вам и сама на все ответит. И… гм–гм… если вы… гм… погостите подольше в наших краях, подъехали б вы как‑нибудь ко мне, а? Покурим и опрокинем по стаканчику. Один мой бой отлично умеет намешать всякой всячины, и есть у меня старый коньячок — прислали из Европы. До свидания.
В любезности своей еще более неловкий, чем в простоватой доверительности, с какою говорил он о делах, но, по–видимому, искренний и в том и в другом, он пожал Кортленду руку и ушел. Кортленд повернул к дому. Он осмотрел плантацию с ее усовершенствованиями; увидел некоторые свои идеи осуществленными на деле; было ясно, что ему больше нечего было тут делать, как только поблагодарить хозяйку и проститься. Но он испытывал еще большее смущение, чем сразу по приезде; и было странное чувство, точно что‑то им упущено, но что, ой не мог уяснить. Его беседа с Чэмпни осложнила — он сам не знал, почему — его прежнее представление о мисс Даус; и хотя он наполовину сознавал, что это не связано с тем делом, которое привело его сюда, он все- таки внушал себе, что связано. Если мисс Салли в самом деле… так… так кружит голову каждому, с кем соприкасается, то это, несомненно, не следует упускать из виду, вступая с ней в такие деловые отношения, при которых ей отводилась роль управительницы. Правда, Чэмпни сказал, что «не из тех она девиц», но это — свидетельство человека, явно подпавшего под ее влияние… Он вошел в дом со двора, в раскрытую стеклянную дверь. В гостиной никого не оказалось. Он вышел в прихожую и на крыльцо — и здесь никого. Он подождал минуту- другую, и к чувству неловкости уже примешивалось огорчение. Она, возможно, подстерегала его приход. Она или Софи должны были видеть, что он возвращается. Он вызовет Софи звонком и попросит ее передать хозяйке его извинения и благодарность. Он нашел звонок, позвонил, но, оказавшись лицом к лицу с Софи, изменил своему намерению и спросил, нельзя ли ему увидеться с мисс Даус. За время между ее уходом и появлением мисс Салли он решил сделать то самое дело, которое час тому назад он выбросил из мыслей как несвоевременное и опасное. В кармане у него лежат фотография и письмо; они ему послужат предлогом, чтобы попрощаться с нею лично.
Она вошла, удивленно подняв свои золотистые брови.
— Боже мой, я думала, вы проехали к красному амбару и оттуда прямо домой. Я управилась со шпалерником и своим виноградом быстрее, чем рассчитывала. К нам сюда заглянул один из племянников судьи Гаррета, и как раз вовремя, чтобы помочь мне с последним рядом. Вы напрасно утруждались, если послали за мной только чтоб откланяться, но Софи говорит, что вид у вас был, когда вы справлялись обо мне, «какой‑то особенный и тревожный», так что, я полагаю, вы меня хотите видеть еще и по делу.
Мысленно выругав Софи и с неприятным беспокойством на душе из‑за неведомого соседа, помогавшего мисс Салли вместо него самого, он все же постарался взять себя в руки и соблюсти учтивость.
— Не знаю, что внушило Софи выражение моего лица, — сказал он с улыбкой, — но я надеюсь, то сообщение, которое я должен сделать, будет достаточно интерес ко для вас, чтобы мне простилось это вторичное вторжение. — Он помолчал и все с той же улыбкой повел дальше: — Более трех лет, мисс Даус, вы в той или иной мере занимали мои мысли; и хотя на самом деле мы встретились сегодня в первый раз, я все это время носил в себе ваш образ. Даже и этой встречи, осуществившейся только случайно, я искал три года. Я нахожу вас здесь, под мирной сенью вашего винограда и фиговых деревьев, а между тем назад тому три года вы мне явились из грозовой тучи сражения.
— Боже милостивый! —сказала мисс Салли.
Она сидела, обхватив одно колено переплетенными пальцами, но тут она развела ладони и откинулась на спинку дивана в притворном ужасе и с загоревшимся в ясных ее глазах насмешливым огоньком. Кортленд понял, что взял неверный тон, но уже было поздно его менять. Вручив ей ладанку и письмо, он коротко и, может быть, немного печально рассказал, какой случай передал их в его руки. Однако он начисто опустил наиболее драматические и страшные подробности и не упомянул о возникшем у него суеверном чувстве и странном предрасположении к ней.
Мисс Салли без всякого трепета взяла конверт и ладанку, и даже нежный, легкий румянец на ее щеках не стал ни сколько‑нибудь гуще, ни бледней. Пробежав письмо, оказавшееся совсем коротким, она проговорила спокойно, с полужалостливой улыбкой:
— Да! Это был, конечно, он, бедный Чет Брукс! Я слышала, что он был убит на Змеиной реке. Так на него похоже: ринуться вперед и пасть при первом же выстреле! Да к тому же понапрасну, из чистого безумия.
Чувствуя и возмущение, и облегчение, и какую‑то неловкость от обоих этих чувств, Кортленд продолжал вслепую:
— Но он был не единственным, мисс Даус. Найден был еще один убитый с вашей карточкой на груди.
— Да… Джойс Мастертон. Мне ее переслали. Но вы не убили также и его?
— Насколько мне известно, я и этого не убивал самолично, — сказал он несколько холодно. Он замолчал и добавил с торжественностью, чувствуя сам, как она несообразна и даже смешна. — Они были храбрые люди, мисс Даус.
— В чем же их храбрость — в том, что они носили мой портрет? — весело сказала мисс Даус.
— В том, что им было ради чего жить, и все‑таки они добровольно отдали жизнь за то, что полагали справедливым.
— Но не гонялись же вы за мной три года только затем, чтобы сказать мне, девушке–южанке, что мужчины- южане умеют драться. Ведь нет же, полковник? — возразила девица, чуть вскинув голову и с восхитительным высокомерием опустив белые в синих жилках веки. — Они всегда были готовы драться, даже между собой. Этим бедным мальчикам было куда легче решить дело дракой, чем поразмыслить над ним или потрудиться для него. Вы, северяне, умеете и драться, и думать, и трудиться; вот чем вы берете над нами верх. Вы удивлены, полковник?
— Я не ожидал, что вы так на это посмотрите, — сказал, замявшись, Кортленд.
— Мне очень жаль, если я вас разочаровала после всех ваших трудов, — ответила девица с ошеломляющим напускным смирением и поднялась, одергивая юбки, — но я не могла знать, чего, собственно, вы ожидали спустя три года; если бы знала, я бы, может быть, надела траур. — Она остановилась и подправила выбившуюся прядь волос уголком письма от убитого. — Но я все равно благодарна вам, полковник. В самом деле, очень любезно с вашей стороны, что вы позаботились привезти сюда эти предметы. — И она чистосердечно протянула руку.
Кортленд принял ее с угнетающим сознанием, что последние пять минут был несусветным болваном. Продлить свидание он не мог, после того как она так недвусмысленно встала. Ну что бы ему просто попрощаться и сохранить при себе письмо и ладанку до нового визита… Может быть, и вовсе до поры, когда они будут уже старыми друзьями! А теперь поздно! Он. склонился к ее руке, еще раз поблагодарил за любезность и ушел. Секундой позже она услышала удаляющийся по дороге стук копыт его лошади.
Она открыла, дернув за медную ручку, ящик секретера и, с полминуты посмотрев критическим взглядом на свою фотографию в ладанке погибшего» зашвырнула ладанку вместе с письмом в дальний угол ящика. Потом постояла, сбросила с ноги туфельку, посмотрела задумчиво и на нее и крикнула: — Софи!
— Да, мисс Салли? —отозвалась девушка, показавшись в дверях.
— Ты уверена, что не отодвигала лестницу?
— Как перед богом, мисс Салли, ну даже не коснулась!
Мисс Салли направила тот же критический взгляд на повязанную красной косынкой голову служанки.
— Нет, — тихо сказала она про себя, — на ощупь это было, во всяком случае, помягче шерсти!
ГЛАВА III
Несмотря на неловкое завершение визита — а может быть, и вследствие этого, — Кортленд на той же неделе еще раз навестил плантацию. Но на этот раз с ним поехал и Драммонд, и приняла их мисс Миранда Даус, высокая, горбоносая дева лет пятидесяти, чья старомодная учтивость казалась несколько нарочитой и чье былое кредо уступило место полуциническому приятию новой действительности. Мистер Драммонд, восхищенный плантацией и ее управлением, не менее пленился и мисс Салли, в то время как Кортленд осмотрительно делил теперь свое внимание между племянницей и теткой и в результате пришел к выводу, что Чэмпни не прав в своем утверждении, будто мисс Миранда играет незначительную роль. Для освобожденных невольников она и поныне оставалась старой непреклонной надсмотрщицей, и было очевидно, что они сохранили суеверный страх перед ней и считали, что и сейчас она властна сколько ей угодно преступать Четырнадцатую Поправку и ее удерживает только заступничество доброй и разумной мисс Салли. Кортленд быстро оценил благотворность этого влияния в переходный период, когда бывшие невольники еще только осваивались с новым своим положением, и указал на нее принципалу. Прежние сомнения Драммонда и его скептицизм, уже пошатнувшиеся под чарами мисс Салли, окончательно рассеялись перед этим соблазном успешно использовать злые пережитки рабства. Он поддался убеждению, даже сделался энтузиастом. От пайщиков- иностранцев надо будет откупиться; компания, забрав плантацию, расширит ее, введет дальнейшие усовершенствования, а прекрасных владелиц оставит на месте, сохранив за ними управление и контроль. Как это бывает с большинством предубежденных, обращение Драммон- да в новую веру оказалось внезапным и полным, и, как человек дела, он сразу принялся проводить свои новые принципы в жизнь. При втором и третьем свидании были согласованы все предварительные мероприятия, и через три недели после первого визита Кортленда плантация Даусов и часть владений майора Рида были слиты в «Синдикат Драммонда» и полностью избавлены от финансовых затруднений. Кортленд остался в Редлендзе представителем компании с правами верховного надзора, а Чэмпни после выплаты английских вложений, как он и предполагал, бросил службу и завел свое собственное хозяйство на небольшой плантации в нескольких милях от Даусов, которую компания нашла невыгодным приобретать.
За это время Кортленд часто виделся с мисс Салли, имея к ней теперь постоянный и свободный доступ. Он больше никогда не забредал в область романтики и эмоций; никогда не упоминал о злополучном письме и фотографии, и, не будучи обязан ограничиваться строго деловыми рамками, принял с нею спокойный, ровный тон добрососедской дружественности. Это в значительной мере было обусловлено привычкой к самообладанию—его природному свойству, подкрепленному воинской дисциплиной, и никак не означало сознательной попытки подавить то затаенное влечение, которое, как он чувствовал, жило в нем под этой сдержанностью. Временами он перехватывал взгляд девушки, остановившийся на нем с шаловливым любопытством. И тогда его пронзал странный трепет. Немного найдется ситуаций более щекотливых и опасных, чем случайные вспышки взаимного доверия и понимания между двумя молодыми существами разного пола, даже если еще рано говорить о наличии чувства и подлинного тяготения друг к другу. Кортленд знал, что мисс Салли не забывает, с какой излишней серьезностью он отнесся к ее прошлому. Она может над этим смеяться, даже может досадовать, но она это знает, она это помнит — и знает, что и он это знает и что, кроме них двоих, не знает этого никто. Это было в их мыслях, когда наступала пауза в более деловом и ограниченном условностями разговоре, и даже приоткрывалось в чрезмерной заботе, с какою мисс Салли спешила затем в надлежащее мгновение отвести сбой шаловливый, улыбающийся взгляд. Однажды она зашла дальше обычного. Кортленд только что кончил объяснять ей свой план на месте обычных полувозделанных личных огородиков, столь дорогих сердцу работника–негра, поставить ряд мелких хозяйственных построек и разложил чертежи на столе в конторе, когда девушка, заведя руки за спину и опершись ими о стол, остановила на его серьезном лице свои ясные серые глаза.
— Поистине, полковник, — заговорила она, прибегая к тем особым старомодным оборотам речи, которые в ходу у южан, — после той нашей первой встречи я бы не подумала, что вы можете вот так, как сейчас, с головой уйти в дела.
— В самом деле? Каким же я вам в тот раз показался? — спросил он с живостью.
Мисс Салли, обладая талантом южанки к выразительному жесту, подняла из‑за спины свою маленькую руку, покрутила кистью над головой с милым видом, будто отмахивается, якобы на мужской манер, от чего‑то воздушного и несущественного, и проговорила:
— О, вот таким!
— Боюсь, я не произвел на вас тогда впечатления очень делового человека, — сказал он, слегка покраснев.
— Я подумала, что вы выбираете на ночь шесток повыше, полковник, чтоб утром побольше набрать червей. Однако, — добавила она с ослепительной улыбкой, — судя по тому, что вы сами рассказали насчет той фотографии, я так понимаю, что я тоже оказалась не совсем такой, какой мне следовало быть.
Его разбирало желание тут же сказать ей, что он был бы рад, если б эти светлые красивые глаза никогда не загорались ничем другим, как только любовью и чаянием женского счастья; если б этот мягкий, протяжный, ласковый голос никогда не раздавался бы за пределами домашнего очага и семейного круга; если б эти розовые ушки в сиянии золотых волос никогда бы не склонялись ни к чему другому, как только к словам восхищения; и если бы эта изящная, гибкая, прямая фигурка, такая независимая и самоуверенная, удовольствовалась бы тем одним, чтобы опереться на его руку, ища в ней поддержки. Он сознавал, что это желание живет в нем с той минуты, как он впервые увидел ее; и равно сознавал, что она для него стала несравненно более очаровательной в ее настоящей неприступной рассудительности и деловитости.
— Признаться, — сказал он, глядя ей в глаза с растерянной улыбкой, — я не ожидал, что вы легко забудете человека, который, по–видимому, вас любил.
— Вы имеете в виду мистера Чета Брукса, или мистера Джойса Мастертона, или их обоих? Так вы, мужчины, и смотрите по большей части, полковник. По–вашему, если девушка вам нравится, то она должна быть вам за это благодарна по гроб своей жизни и вашей тоже! Ах! Теперь вы думаете иначе! Но тогда и держите себя соответственно. — Она сделала маленький отклоняющий жест свободной рукой, как бы отводя всякую искупительную любезность. — Я хлопочу не за себя, полковник. Мы с вами и так добрые друзья. Но все девушки вокруг считают, что вы уж слишком заняты мыслью о рисе и о неграх. И если посмотреть даже вашими глазами, полковник, это же вредно для дела. Вы хотите сохранить мир с майором Ридом, так неплохо бы ублажить и Майоровых дам. Право же, полковник, Тэви и Гасси Рид не такие уж язвы, почему бы вам в это воскресенье не проводить домой из церкви какую‑нибудь из них? А в следующее воскресенье просто, чтобы показать, что вы не слишком привередливы и готовы стать записным кавалером, вы можете проводить из церкви меня. Не пугайтесь, у меня есть платье получше этого. Новое платье, только что присланное из Луисвилла, и я его, так и быть, надену для парада.
Он не посмел сказать ей, что ее милый утренний убор — простое платьице из клетчатого ситца, какой идет на детские фартуки, с такими же клетчатыми бантами на карманах широкой юбки — стал для него частью ее красоты, потому что он уже безнадежно сознавал, что она прелестна в любом наряде, и это просилось ему на язык. Он поблагодарил ее важно и серьезно, но без галантных излияний, и с удовлетворением увидел, что шаловливость, притаившаяся в ее глазах, возрастает прямо пропорционально росту его серьезности, и услышал, как она сказала с напускной печалью:
— Мужайтесь, полковник! Пусть это вас не тревожит, пока час не настал. — И попрощалась с ним.
В ближайшее воскресенье он отправился в Редлендзскую епископальную церковь и после службы с показным спокойствием, но некоторым скрытым раздражением остался стоять в толпе молодых людей, которые, по местному обычаю, выстроились на паперти. Его несколько удивило, когда он там увидел и мистера Чэмпни, который в этой толпе поджидающих кавалеров, казалось, чувствовал себя так же не на месте, как и он, только не был так замкнут. Хотя и уверенный, что молодой англичанин пришел лишь затем, чтобы увидеться с мисс Салли, он все же был рад разделить свое неловкое одиночество с другим чужаком и любезно с ним поздоровался. Скамья Даусов была расположена ближе к выходу, чем скамья Ридов, и дамы, занимавшие ее, вышли первыми. Полковник Кортленд снял шляпу перед мисс Мирандой и ее племянницей в то самое мгновение, когда Чэмпни выступил вперед и пристроился за ними. Мисс Салли, поймав взгляд Кортленда, показала белки своих глаз, скосив их с шаловливой многозначительностью на шествующих следом Ридов. Когда те подошли, Кортленд присоединился к ним и, оказавшись рядом с мисс Октавией, вступил в разговор. Должно быть, подавленная страстность и язвительная меланхолия этой черноглазой девицы подстрекали его к более легкому, веселому настроению в той же мере, в какой добродушная легкость и радостная деловитость мисс Салли всегда склоняли его к серьезности. Поотстав, они замкнули тыл других пар и вскоре остались совсем одни.
Высокая, прямая, немного надменная, похожая в своем черном бережно сохраняемом шелковом платье на молодую, но неприступную вдову, мисс Рид объявила, что не видела полковника «целую вечность» и, конечно, не ожидала, что он окажет ей честь своим обществом, когда имеются негры, которых можно воспитывать или размалевывать до полного подобия белым. Она надеется, что он с ее папой и Салли Даус вполне счастливы! Пока еще, правда, не поставили негра проповедника на место мистера Симса, их ректора, до этого не дошло; но, как она понимает, уже идет разговор о том, чтобы на будущий год кандидатом в окружные судьи выставить Ганнибала Джонсона, кучера мисс Даус! Что и сам полковник думает выставить свою кандидатуру на этот пост — этого она еще не слышала, нет! Он может сколько угодно смеяться над нею. Кажется, он несколько лучше настроен, чем тогда, когда она впервые с ним увиделась, но она хотела бы знать, уж не их ли это северный обычай смеяться, идя домой из церкви? Если да, то и ей, конечно, придется его усвоить вместе с Четырнадцатой Поправкой. Однако, как она сейчас заметила, люди начинают на них посматривать, и мисс Салли Даус обернулась поглядеть. А все же на желтоватой щеке мисс Октавии, на щеке, обращенной к полковнику— и к солнцу, — проступил легкий смуглый румянец, и уголки ее гордого рта чуть–чуть приподнялись.
— А сказать по–честному, мисс Рид, не думается вам, что уж лучше получить судьей старого Ганнибала, которого вы знаете, чем северянина вроде меня?
Темным скошенным глазом мисс Рид оглядела красивое лицо и стройную фигуру спутника. Что‑то вроде насмешливой улыбки пробило себе доступ на ее тонкие губы.
— Выбор не слишком велик, полковник.
— Допускаю. Мы оба должны признавать свою владычицу и быть как воск в ее руках.
— Эти красивые слова преподнесли бы вы Салли Даус, она тут норовит хозяйничать по всей округе. Но как получилось, — добавила она, вдруг остановив на нем твердый взгляд, — что вы не пошли провожать ее вместо этого англичанина? Точно вы не знаете — это же ясно, как день, — что он купил имение здесь поблизости с единственной целью стать ее соседом, когда не будет больше управляющим?
Кортленд, однако, никогда не терял из‑за мисс Салли спокойствия и самообладания, разве только в ее присутствии.
— Вы забываете, — сказал он, улыбнувшись, — что я еще здесь чужой и до меня не доходят местные пересуды; да если бы и доходили, боюсь, мы не поставили б условием сделки, что вместе с землей откупаем и личный интерес мистера Чэмпни к землевладелице.
— Ох, тогда бы вам не обобраться хлопот, потому что в этом смысле ее имение, я сказала бы, заложено и перезаложено, — отпарировала мисс Рид, вложив в свой намек больше игривости, чем желания уязвить. — Мистеру Чэмпни не давал себя обскакать ее французский кузен, когда был здесь. Кстати, полковник, вы не дадите мне почитать каких‑нибудь французских книг, у вас найдутся? Папа говорит, вы очень много читаете по–французски, а мне без практики становится все трудней владеть языком, с тех пор как я вышла из монастыря в Сан-Луисе, потому что папа не знает, какие книги выписывать, и боюсь, он иногда допускает страшные ошибки.
Разговор перешел на изящную словесность, и тут выявилось, что мисс Октавия читала по–французски все подряд и по своей застенчивой гордой невинности и недостаточному знанию языка с его коварными тонкостями проглатывала и такое, чего благородной девице читать не полагается. Кортленд пообещал прислать кое–какие книги и даже осмелился порекомендовать ее вниманию некоторые американские и английские романы, не слишком «северные», или «философские», по понятиям южан. У него зародилось уважение и участие к этой угрюмой, одинокой девушке, стесненной традициями и не так просвещенной, как придавленной жизненным опытом. Он сам не заметил, как заговорил откровенно и доверительно, обращаясь к спутнице, к этой вскинутой голове, надменно выгнутым бровям и орлиному носу, и вдруг поймал себя на мысли, каким красивым, благородным братом могла бы она стать для кого‑нибудь. Когда дошли до дому, он, снисходя к традициям семьи, присел на одной из нижних ступенек веранды, тогда как мисс Октавия, колыхнув своими юбками, села двумя ступеньками выше. Это позволило ему на местный томный лад опереться на локоть и смотреть девице в глаза, в то время как она с той же томностью глядела на него сверху вниз. Но минутой позже мисс Рид вдруг наклонилась вперед и, метнув острый, быстрый взгляд в самую глубь его мыслей, сказала:
— И вы хотите уверить меня, полковник, что между вами и Салли Даус нет ничего?
Кортленд не покраснел, не вздрогнул, не смутился и, отвечая, не покривил душой.
— Мы с нею, думается мне, добрые друзья, — сказал он спокойно, не уклоняясь и не поколебавшись.
Мисс Рид задумчиво глядела на него.
— Полагаю, так оно и есть… и больше ничего. Вот почему у вас все складывается так счастливо, — медленно проговорила она.
— Я вас как будто не совсем понял, — улыбнулся Кортленд. — Это парадокс… или утешение?
— Это правда, — серьезно сказала мисс Рид. — Кто пробовал стать для Салли Даус чем‑то большим, тех покидало счастье.
— То есть… она их отвергала. Она в самом деле так безжалостна? —продолжал Кортленд, повеселев.
— Я хочу сказать, что счастье покидало их во всем. С ними непременно что‑нибудь приключалось. И тут она ничем не могла помочь.
— Это — предостережение сивиллы, мисс Рид?
— Нет. Это — негритянское суеверие. И пошло оно от матушки Джуди, старой кормилицы Салли. Понимаете, вся их вера, их знаменитое «вуду» —это сплошное колдовство. Когда мисс Салли была еще младенцем, Джуди ей наколдовала, что каждый будет у нее в подчинении, пока он ее любит, а она не будет в подчинении ни в каком и ни у кого. Все их счастье переходит к ней, как только они подпали под ее чары, — мрачно добавила девица.
— Кажется, остальное я знаю сам, — подхватил еще торжественней Кортленд. — В апреле, в полнолуние, пойди и собери почки ведьминского ореха. Потом сорви три волоска из правой брови молодой девицы, когда. она на тебя не глядит…
— Можете смеяться, полковник, ведь вы‑то счастливы, потому что свободны.
— В этом я не совсем уверен, — сказал, он галантно, — так как в данный момент я должен был бы ехать в лечебницу навестить ради воскресенья своих болящих. Если приятное забвение времени и долга есть признак действия на тебя неких чар, боюсь, колдовство матушки Джуди не ограничилось только одною южной барышней.
Звук быстрых шагов по гравию дорожки заставил их обоих поднять глаза. К ним приближался мрачный с виду молодой человек, обутый в щегольские сапоги со шпорами и помахивающий тяжелым сыромятным хлыстом. Нарочито и все же с неловким смущением не замечая Кортленда, он коротко кивнул мисс Рид, взбежал на крыльцо, пронесся, не задерживаясь, мимо них и вошел в дом.
— Где ваша учтивость, мистер Том? — крикнула ему вслед девица, и на ее желто–бледной щеке проступил румянец.
Молодой человек что‑то буркнул из передней, чего Кортленд не расслышал.
— Это кузен Том Хигби, — объяснила она почти презрительно. — У него, наверно, вышло что‑нибудь неладное с лошадью; но папа должен поучить его, как себя вести. И… он, я думаю, не любит северян, — добавила она значительно.
Кортленд не дал воли раздражению, отлично понимая, что хотел выразить своим поведением кузен Том, и с улыбкой пожал на прощание руку мисс Рид.
— Это вполне все объясняет и, я готов признать, даже извиняет.
Все же впечатление от инцидента, когда он медленно брел обратно в Редлендз, почти совсем изгладилось. Неизжитая ненависть побежденных не впервой давала себя почувствовать нелюбезностью, прямой невежливостью; но так как это редко исходило от его старых личных противников — военных, а все больше от желторотых юнцов, от героев тыла и от политиканов, он позволял себе проходить с пренебрежением мимо. Всю следующую неделю он не видел мисс Салли.
ГЛАВА IV
В воскресенье он явился в церковь пораньше. Но он, пожалуй, слишком подчеркнул праздничность события, приехав в кабриолете, запряженном сильной лошадью чистых кровей, скорей во вкусе офицера–кавалериста, чем сельскохозяйственного инспектора. Он уже сидел на боковой скамье, мечтательно уставив глаза в раскрытый перед ним молитвенник, когда в дверях церкви послышался шелест, и среди настороженной паствы прошел ропот восхищения и любопытства. Это вошли Даусы со своими, и впереди всех мисс Салли. Она была в своем новом платье последней луисвиллской моды — предпоследней для Парижа и Нью–Йорка.
Это было двадцать с лишним лет тому назад. Я не стану портить впечатление от прелестного этого образа, воскрешая сегодня перед взором вчерашнюю моду. Достаточно сказать, что эта мода позволила девушке забрать свое милое личико и нимб золотых волос в полувенчик из нежных искусственных цветов и вздернуть свой овальный подбородок над умопомрачительной дымкой тюля. И что светлый, обшитый мехом казакин не скрывал линий ее чарующего стана. И даже те, кто стал перешептываться, что сейчас‑де «мисс Салли подбирается к двадцати пяти», потому и заспешили с этим сообщением, что в ней еще чувствовалась хрупкая грация семнадцати лет. Грянул орган, как бы приветствуя ее; когда она села на своей скамье, луч солнца, который был бы слишком жесток и взыскателен для всякого другого румянца, скользнул по нежно–розовым ее щекам и, угнездившись в облаке ее волос, сам приобрел новую вещественность. Фигуры дев–добродетелей на расписном стекле не вышли так победно из этого озарения, и не удивительно, что верующие переводили свой набожный взор с их ликов на личико Салли Даус.
Когда служба кончилась и молящиеся медленно двинулись по проходу, Кортленд молча пристроился за ее спиной. Когда они вышли на паперть, он сказал вполголоса:
— Я приехал в кабриолете. Надеюсь, вы мне позволите вас подвезти? — Но она сдвинула золотистые брови, и он в отчаянии смолк.
— Нет, — сказала она быстро, но твердо, — вы не должны… нельзя. — И когда Кортленд замялся, ошеломленный, она мило ему улыбнулась: —Мы, если хотите, пойдем пешком через кладбище; на это уйдет не больше времени, чем на поездку.
Кортленд побежал, дал торопливое распоряжение и доллар слонявшемуся у паперти негру и вернулся к мисс Салли, а недавний невольник, довольный и гордый, укатил за ворота. Мисс Салли грустно вздохнула, когда изящный экипаж пронесся мимо.
— Выезд очень красивый, полковник, и я с удовольствием прокатилась бы в нем, но это было бы жестоко по отношению к другим. Риды, и Максвеллы, и Робертсоны слишком бедны, чтобы держать кровных рысаков» и слишком горды, чтобы ездить на каких‑нибудь иных. Вышло б некрасиво с нашей стороны промчаться вихрем мимо, обдавая их пылью.
Этот скрытый намек на их общую ответственность был так приятен, что Кортленд забыл резкость отказа и думал только о подсказавшем его такте. Тем не менее его всегда свободную речь точно что‑то сковало. При этой их первой не деловой, а чисто светской встрече он, сам того не ожидая, оказался тупо, бессмысленно молчалив, довольный и тем, что идет бок о бок с этим прелестным солнечным созданием, задеваемый легкими его одеждами, овеваемый его свежестью. И вот оно заговорило:
— На то, чтобы залатать старые коровники за Мослеевым выгоном, пойдет свыше тысячи футов леса, а чтобы поставить новое строение с оборудованной сыроварней, понадобится добавочно еще каких‑нибудь две тысячи. При этом материал старых построек тоже пойдет в дело — пригодится на заборы; старые доски будем набивать промеж новых столбов и переплетов. Вы не думаете, что выходит выгодней поставить совсем новое строение?
— Да, безусловно, — ответил Кортленд несколько растерянно. Он не рассчитывал на такого рода деловой разговор и был тем сильнее смущен, что мимо проходили другие пары и нарочно задерживались, чтобы их послушать.
— Да и вопрос транспортировки, — бойко продолжала девушка, — стоит довольно‑таки серьезно. Тетя Миранда владеет кое–какими акциями Бригсвиллской ветки и полагает, что, если она хорошенько нажмет на директоров, можно будет добиться перевозки грузов по новому тарифу. Тайлер уверяет, что тариф как будто собираются снизить на одну шестнадцатую процента до того, как мы начнем вывозить новый урожай.
Кортленд бросил быстрый взгляд на лицо своей спутницы. Оно сохраняло серьезность, и только к уголку глаза набежали чуть заметные морщинки.
— Не отложить ли нам лучше на завтра эти хозяйственные вопросы? —сказал он с улыбкой.
Мисс Салли в скромном удивлении широко. открыла глаза.
— Как! У вас был такой спокойный вид, я думала, вас сегодня могут занимать одни только дела. Но если вы больше расположены к светскому разговору, что ж, переменим предмет. Говорят, в прошлое воскресенье вы с мисс Рид нашли его без труда. Обычно она не очень‑то разговорчива, ее сила в умении глубокомысленно молчать.
По–моему, — добавила она, вдруг смерив его оценивающим взглядом, — у вас бы с нею нашлось много о чем поговорить между собой. Она вполне в вашем вкусе, полковник, она не склонна забывать, но… (чуть тише) но я не думаю, что это и впрямь самое для вас желательное!
Кортленд поднял на нее глаза в притворном ужасе.
— Если это опять мистическое предостережение, мисс Даус, я сам вас предостерегаю, что у меня от них уже пошатнулся рассудок. В прошлое воскресенье мисс Рид целый час повергала меня в трепет разговором о разных поверьях и прорицаниях в духе Кассандры. Неужели здесь ничто никогда не происходит само собой и без предвещаний?
— Я имела в виду только то, — возразила девушка со своей обычной деловитой прямотой, — что Тэви Рид хранит в памяти много ужасов войны, которые она должна была бы забыть, но не забывает. Тем не менее, — продолжала она, пытливо на него поглядев, — она признается, что просто возмущена поведением своего двоюродного брата.
— Боюсь, оно задело мисс Рид сильнее, чем меня, — сказал Кортленд. — Мне очень жаль, если она придает этому такое большое значение, — добавил он серьезно.
— А вы не придаете? — подхватила мисс Салли.
— Нет. С чего бы мне? — От нее, однако, не укрылось, что он весь как‑то подтянулся, выпрямился, и она улыбнулась, когда он добавил: —Возможно, у меня на его месте были бы те же чувства, что и у него.
— Но вы‑то ничего бы не делали исподтишка, — сказала она спокойно. Когда же он быстро глянул на нее, она продолжала рассудительно: — Не слишком верьте людям, которые всегда подлаживаются к вам, полковник. И не придавайте слишком много или слишком мало значения тому, что вам здесь говорят. Вы как раз такой человек, что можете нажить себе здесь множество глупых врагов и столько же безрассудных друзей. И я еще не знаю, кто вам больше доставит хлопот, первые или вторые. Не надо только недооценивать ни тех, ни других. И не надо слишком задирать голову, а то не увидишь, что там копошится вокруг на земле. Потому‑то на болоте мокасинная змея чаще жалит коня, чем свинью.
Она улыбнулась, но при этом сдвинула брови в таком милом притворном страхе за своего собеседника, что тот сразу осмелел.
— Я бы рад иметь хотя бы одного друга, но по–настоящему близкого, — сказал он, глядя ей прямо в глаза. — Тогда мне были б не нужны другие друзья и не страшны враги.
— Вы правы, полковник, — сказала она и шаловливо наклонила зонтик, прелестно изображая, будто прячет мнимый румянец на щеке — совсем детской щеке неизменной нежно–розовой окраски. — Светский разговор куда приятней такого, какой мы сейчас вели. А… что касается меня, — полагаю, ваши слова не могли относиться к какой‑либо иной девушке, кроме вашей спутницы, — разве я вам плохой друг?
Он не удержался от улыбки, хотя и был смущен.
— Мне — нет! Но другим вы принесли разочарование.
— И это вас огорчает?
— Я хотел сказать, что я был еще пока не вправе подвергать ваши чувства проверке, тогда как…
— Бедный Чет имел такое право, хотите вы сказать? Прекрасно, мы с вами здесь, на кладбище! Я так и думала, что мы далеко не пройдем, как вы сочтете своим долгом опять обратиться к умершим, почему я и надумала избрать дорогу через кладбище. Оно, возможно, придаст моим мыслям подходящий строй — такой, какой вам более понравится.
Он поднял глаза и, не сдержавшись, тихо ахнул. Раньше он не приметил, как они, пройдя через калитку, попали на боковую дорожку, и вдруг, никак к тому не подготовленный, он увидел, что оказался у начала пологого склона, ведущего в красивую долину, а прямо перед ними протянулась длинная череда могильных холмиков, белых надгробных плит и низких крестов, с двух сторон огражденная кипарисами и плетением перистого винограда. Иные лозы падали к земле и, подхваченные, перекидывались с ветки на ветку длинной петлей наподобие похоронного венка, да здесь и там одинокая пальмочка поднимала свою крону, похожую на плюмаж катафалка. И все же, несмотря на господство тени, сумрачной, но благодатной, на эту никнущую прелесть темнокудрой листвы и лиственной бахромы и на реющие траурные вуали видимого сквозь них серого торфяного болота, — победное, живительное солнце юга улыбалось и блистало на всем, как сквозь слезы. Из длинной аллеи тянуло запахами лавра, полыни, сосны и бергамота; каждый порыв ветра дышал благоуханием роз, а более близкие ароматы жасмина, жимолости и апельсинового цвета грузно висли в ложбинах. Кортленду это все представилось похожим на траур красивого и юного вдовства, обольстительного даже в своем темном наряде, дразнящего в своем контрасте с его собственной мужественностью и силой. Трава росла повсюду, густая и обильная; почва буйно рожала, утучненная зарытыми под ней телами мертвецов.
Медленно шли они бок о бок, говоря только о том, какое это красивое место и как хорош этот летний день — такой, что лучше, кажется, и не бывает. Может быть, от жары, от одуряющего аромата или под действием какого‑то чувства, которого она в себе не подозревала, девушка вдруг сделалась так же молчалива, так же отдалась своим мыслям, как ее спутник. Она стала все чаще задерживаться — вдруг замедлит шаг, отстанет, захлопотав, точно бабочка, над цветущим кустом или грядкой лилий, и если бы вам она встретилась так в своей развевающейся вуали, вы могли бы принять ее за нечто вроде утреннего и слишком благосклонного призрака. Кортленду показалось к тому же, что ясные ее глаза чуть омрачились тенью тихого раздумья. В неодолимом порыве нежности он придвинулся к ней совсем близко, но она вдруг повернулась и, сказав «Идем!», зашагала быстрей по узкой тропке. Кортленд последовал за ней. Они отошли совсем недалеко, когда он заметил, что могилы начинают выстраиваться в правильные ряды, эмблемы становятся более дешевыми и обычными: надгробия из мрамора и резного песчаника уступили место деревянным плитам в изголовье и каменным в ногах, повторявшим один и тот же скучный образец, и он понял, что они пришли к участку кладбища, отведенному для павших на войне. Длинные ряды, построенные с военной четкостью, пересекали небольшую долину и снова поднимались по склону холма на противной стороне, выстроившись в странном подобии каре, шеренг и колонн. Смутное воспоминание о роковом склоне над Змеиной рекой всплыло перед ним. Оно стало отчетливей, когда мисс Салли, все еще шедшая впереди, вдруг остановилась у могильного холма, стоявшего особняком и несшего на себе разбитую мраморную колонну [2] с надписью на цоколе: «Честер Брукс». Несколько засохших гирлянд и пучки иммортелей лежали на цоколе, но на разбитой колонне висел, обняв ее, свежий, нисколько еще не увядший венок.
— Вы не говорили мне, что он похоронен здесь! —с живостью сказал Кортленд, пораженный этим неожиданным открытием. — Он был из вашего штата?
— Он — нет, а полк его — да, — сказала мисс Салли, придирчиво разглядывая венок.
— И этот венок от вас? — добавил Кортленд мягко.
— Да, я подумала, что вам будет приятно увидеть что‑нибудь свежее и красивое вместо этих вялых цветов.
— А они были тоже от вас? — спросил он еще мягче.
— О нет! Их завезли сюда в прошлую годовщину какие‑то ветераны. Я возложила только этот один… то есть… я попросила мистера Чэмпни, чтобы он занес его сюда по дороге домой. Он, вы знаете, живет тут неподалеку.
Невозможно было устоять перед этой неодолимой наивностью. Кортленд прикусил губу, живо представив себе картину, как еще более наивный англичанин, поклонник мисс Салли, по ее повелению приносит сюда венок, который она пожелала возложить на могилу своего прежнего возлюбленного, чтобы сделать приятное третьему поклоннику. Она между тем заложила свои маленькие ручки за спину, всем своим видом изображая пай–девочку, и сказала с полуулыбкой — ему даже подумалось, полупечально:
— Вы удовлетворены?
— Вполне.
— Тогда пойдем. Здесь очень жарко.
Они повернули назад и, снова спустившись по склону, вступили в более густую тень главной аллеи. Смерть, казалось, являла им здесь менее строгий облик. Они пошли медленней; воздух был отягчен знойным дыханием цветов; дорога, идя по склону, образовала с одной стороны дерновую скамью. Мисс Салли остановилась и, не раздумывая, села, кивком приглашая Кортленда сделать то же. Он с радостью повиновался. История с венком его смутила, вызвав в нем противоречивые чувства. Девушка возложила цветы на могилу в угоду ему; так зачем ему тревожиться о том, как она это сделала, или терзаться мыслями о прошлом? Он отдал бы все на свете, чтобы суметь принять это легко и галантно — это ему без труда удалось бы со всякой другой девицей; но он знал, что готов, как в пропасть, ринуться в пламенное объяснение, и в трепете медлил. Ставка была слишком велика, не мог он ею рисковать в легкой игре — искусстве, которым девушка владела лучше, чем он; и он знал, что его чувство она не ценила. Гордость не позволяла ему воззвать к ее практицизму, хотя он распознал эту странную сторону ее природы, и принимал ее, и даже начинал считать ее чуть ли не самым действенным ее очарованием. Но, не будучи ни трусом, ни слабым, мечущимся идеалистом, он, когда решительно сел рядом с нею, так же решительно приготовился принять свою судьбу, какова бы она ни была, и принять сейчас же!
Возможно, это как‑то отразилось на его лице.
— Мне показалось, полковник, что вы немного побледнели, — сказала она спокойно, — вот я и подумала, что мы, пожалуй, посидим минутку и потом потихонечку пойдем домой. Вы не привыкли к южному солнцу, и воздух там внизу болотистый. — Он сделал слабый жест протеста, но она продолжала тоном чисто сестринского превосходства:
— Всегда вы так, северяне. Вы думаете, что вам здесь любое дело по плечу, как будто вас для него нарочно растили, и никогда не делаете поправки на разницу климата, разницу крови, разницу обычаев. Тут‑то у вас и получается промашка.
Но он уже склонился к ней и так пытливо остановил на ней свой темный взгляд, что ошибаться дольше было невозможно.
— С риском опять допустить промашку, мисс Даус, — начал он тихо, в бессознательной лести перенимая ее местные обороты речи, — я вас прошу учить меня всему, чему вы только захотите, чтобы я во всем отвечал вашим требованиям и, значит, стал бы куда как лучше. Вы сказали, что мы с вами добрые друзья: я хочу, чтобы вы мне подали надежду стать для вас больше, чем другом. Я хочу, чтобы вы мне извинили мои личные недостатки и особенности моего племени и позволили мне сойтись с вами на той единственной почве, на которой я могу стоять вровень с вашим собственным народом, — моей к вам любви. Дайте мне только тот шанс, какой вы давали другим: тому несчастному, что спит здесь в земле… и тому более счастливому человеку, который принес от вас венок возложить на его могилу.
Она слушала, чуть сдвинув брови, с легчайшей краской на щеках и полуснисходительным, полуусмешливым неодобрением. Когда он кончил, она огорченно вздохнула:
— Вам не следовало говорить мне это, полковник, но мы с вами такие добрые друзья, что не дадим даже и этому встать между нами. И в доказательство я сейчас же все позабуду, и вы тоже.
— Но я не могу, — живо возразил он, — и если б я мог, я был бы недостоин даже вашей дружбы. Если вы должны отклонить мое предложение, не заставляйте меня думать со стыдом, что вы меня считаете способным на пустую игру. Я понимаю, что это признание для вас неожиданность, но для меня это не так. Мы знакомы только три месяца, но эти три месяца явились для меня осуществлением трехлетней мечты!
Так как она продолжала смотреть на него ясными, любопытными глазами, по–прежнему печально качая белокурой головой, он подсел ближе и схватил ее руку в светло–сиреневой нитяной перчатке, маленькой, но все-таки слишком широкой для ее детских пальчиков, и сказал с мольбой:
— Но вам‑то почему нужно это забыть? Почему это должно быть запретной темой? Что преградой? Вы уже не свободны? Отвечайте, мисс Даус… подайте мне хоть какую‑то надежду. Мисс Даус!.. Салли!
Она отодвинулась, опечаленная, протестующая, отвернув белокурую голову; потом, чуть покрутив рукой, изловчилась выдернуть ее из перчатки, которую оставила стиснутой в его жадной руке.
— Так! Перчатку можете оставить у себя, полковник, — сказала она, часто дыша. — Садитесь! Ни место, ни погода не располагают к резвому веселью! Хорошо!.. Вы спрашиваете, почему вы не должны говорить со мной таким образом. Сидите смирно, и я вам скажу.
Она разглаживала складки на юбке, сидя на самом краешке дерновой скамьи и одною ножкой дотянувшись до песка дороги.
— Вы не должны так со мной говорить, — продолжала она медленно, — потому что это во вред вашей компании, во вред нашим имущественным интересам и во вред вам же самому — даже может стоить вам жизни! Не петушитесь, полковник: если вам она не дорога, она, возможно, дорога другим. Я вам сказала, сидите смирно! Так. Вы приезжаете сюда с Севера, чтобы за свои деньги получить в собственность наши земли: это дела, коммерция; это здесь каждый дурак поймет: делать дела — это в духе северян; это не затрагивает семейных отношений наших дураков; не вносит в их жилы струю северной крови; не затрагивает их клановую обособленность; не разлучает отца с сыновьями, брата с сестрой; и даже если вы решите поселиться здесь, осесть, они знают, что на выборах у них всегда будет против вас пять голосов к одному! Но дайте только этим самым дуракам понять, что вы ухаживаете за девушкой–южанкой, которая в войну была сторонницей Союза, за девушкой, которая смеялась над их глупостью; дайте им только подумать, что северянин метит через эту девушку завязать родственные связи и зарится на ее владения, и все дурачье ополчится против вас, потому что все они от мала до велика убеждены, что спасение Юга в его изоляции. Они все до единого станут топить ваш Синдикат и ваш капитал; загубят благополучие Редлендза на четыре года вперед и будут считать, что делают правое дело! Они с самого начала взяли вас на подозрение! Они взяли вас на подозрение, когда вы никуда не стали ездить, а все вертелись вокруг нашей плантации и вокруг меня. Вот почему я вам посоветовала показываться иногда среди других девиц; никто не стал бы возражать, если бы вы принялись ухаживать за ними и Лимпи Моррис или Тэви Рид разбили бы вам сердце! Глупцы! Они по дурости своей воображают, что если девушка- южанка натянет нос северянину, то это вознаградит их за проигранное сражение или разоренную плантацию!
В первый раз мисс Салли увидела, как у Кортленда его спокойная кровь прилила к щекам и зажгла его глаза.
— Вы, конечно, не ждете от меня, что я потерплю их слепое и дерзкое вмешательство! —сказал он, вставая.
Она подняла в осуждение ту руку, что осталась без перчатки.
— Тише, полковник, сидите. Вы были солдатом и знаете, что такое долг. Так! В чем ваш долг перед компанией?
— Он не затрагивает моих частных дел и не управляет биением моего сердца. Я уволюсь.
— И бросите меня, и тетю Миранду, и плантацию?
— Нет! Компания подыщет другого управляющего, который будет присматривать за делами вашей тетушки и проводить наши планы. А вы, Салли… вы разрешите мне найти для вас и дом и средства на Севере? Там хватит для меня работы; там, среди моего народа, хватит места для вас.
Она медленно покачала головой с нежной, но гордой улыбкой.
— Нет, полковник! Я не верила в войну, но не уклонилась от того немногого, что было в моих силах: оставаться со своим народом и разделить наказание, которое, я знала, постигнет его. Я не меньше, чем вы, презираю его дурь, его предрассудки, но я не могу бежать от него. Хорошо, полковник, я не прошу вас забыть. Более того: я верю, что вы мне это предложили от всего сердца, но вы должны пообещать, что больше никогда не заговорите об этом, пока вы еще не бросили компанию,, и тетю Миранду, и меня! Между нами не должно быть больше ничего и не должно казаться, что есть.
— Значит, я все же могу надеяться? — сказал он, жадно схватив ее руку.
— Я ничего не обещаю, потому что у вас не должно быть даже и такого извинения, чтобы заговорить об этом вновь; и не ищите повода к тому, как бы я себя ни повела — на деле или по видимости. — Она замолчала, высвободила свою руку, тогда как ее глаза вдруг остановились на чем‑то вдалеке. — Сюда идет мистер Чэмпни. Верно, хочет посмотреть, цел ли венок.
Кортленд быстро поднял взгляд. Прямо над миртовыми кустами, вдоль дорожки, пересекающей главную аллею, плыла соломенная шляпа англичанина. Легкая тень набежала на его лицо.
— Позвольте мне выяснить еще одну вещь, — сказал он поспешно. — Я знаю, что не вправе задавать такой вопрос, но все же — мистер Чэмпни… имеет… имеет какое‑нибудь касательство к вашему решению?
Она улыбнулась ясной улыбкой.
— Вы недавно спрашивали, могу ли я предоставить вам тот же шанс, что ему и Чету Бруксу. Так вот, бедный Чет погиб, а мистер Чэмпни… что ж! Подождите и вы увидите сами. — Повысив голос, она позвала: —Мистер Чэмпни!
Молодой человек живо подошел к ним; когда он узнал ее спутника, его лицо отразило некоторое удивление, но никак не беспокойство.
— Ах, мистер Чэмпни! — жалобно сказала мисс Салли. — Я обронила перчатку где‑то около могилы бедного Брукса, там внизу. Не сходите ли вы за ней? А потом вернетесь сюда и проводите меня домой. Полковнику нужно навестить в больнице своих негров.
Чэмпни приподнял шляпу, приветливо поклонился Кортленду и скрылся под кипарисами на склоне.
— Вы сердитесь, — сказала она, повернувшись к спутнику для объяснения, — но мы и так уже пробыли тут слишком долго, и пусть лучше видят, что я возвращаюсь домой не с вами, а с ним.
— Значит, этот южный запрет к нему не относится? — сказал Кортленд язвительно.
— Нет. Он англичанин; его отец был известен как друг Конфедерации и скупал хлопковые боны.
Она примолкла, глядя Кортленду в лицо с каким‑то озорным нетерпением и чуть надув губы.
— Полковник!
— Мисс Салли.
— Вы сказали, что перед тем, как меня увидеть, вы знали меня три года. Так вот, перед тем, как нам впервые заговорить друг с другом, мы уже встретились однажды.
Кортленд с восхищенным изумлением посмотрел в ее смеющиеся глаза.
— Когда? —спросил он.
— В первый день, как вы приехали! Вы сдвинули лестницу, когда я стояла на карнизе, и я ступила прямо вам на голову. А вы как джентльмен ни разу ни полсловом не упомянули об этом. Я простояла у вас на голове, верно, пять минут.
— Да нет, не так долго, — рассмеялся Кортленд, — насколько я помню.
— Да, — сказала мисс Салли с искоркой в глазу. — Я, южная девчонка, держала под пятой голову презренного северного полковника! Под пятой!
— Пусть же это доставит удовлетворение вашим друзьям.
— Нет. Я хочу принести извинения. Садитесь, полковник.
— Но, мисс Салли…
— Садитесь, живо!
Он послушно присел на край скамьи. Мисс Салли стала рядом.
— Снимите шляпу, сэр.
Он с улыбкой повиновался. Мисс Салли вдруг проскользнула за его спину. Он почувствовал на плечах легкое прикосновение ее маленьких ручек; теплое дуновение прошло в корнях его волос, и потом что‑то легонько нажало на темя — как будто бы губы ребенка.
Он вскочил на ноги, но еще не успел сделать полный оборот — затруднение, видно, заранее принятое девушкой в расчет, — как было уже поздно! Воздушные шелка хитрой и бессовестной мисс Салли уже вились среди могил и вскоре исчезли в ложбине.
ГЛАВА V
Дом, занимаемый управителем «Синдиката Драммонда» в Редлендзе — в прошлом резиденция местного законоведа и мирового судьи, — был невелик, но украшен импозантным портиком с деревянной дорической колоннадой под самую крышу; обращенный к главной улице, портик был сплошь затянут всепобеждающим вьющимся виноградом, а дорожка перед ним была затенена шеренгой широколиственных айлантусов. Переднюю комнату со стеклянными дверями в портик полковник Кортленд отвел под контору; за нею расположились гостиная и столовая, смотревшие окнами в старозаветный сад с отдельной кухней в нем и непременной негритянской хижиной. Был душный вечер; темные облака тянулись в сторону большой дороги, но листья айлантусов висли тяжело и неподвижно в тишине надвигающейся грозы. Лениво реющие искры светляков мягко загорались и гасли во мраке черной листвы или в темной глубине конторы, где стеклянные двери стояли раскрытые настежь и где Кортленд погасил огни, когда, ища прохлады, вынес кресло в портик. Одна искра за забором, то разгораясь, то бледнея, держалась все же так настойчиво и неизменно, что Кортленд наклонился вперед, желая присмотреться к ней поближе, после чего она исчезла, и голос с улицы произнес:
— Это вы, Кортленд?
— Я.
— Заходите, прошу.
Голос принадлежал Чэмпни, а огонек был от его сигары. Пока он открывал калитку и неторопливо поднимался по ступеням портика, его обычное, свойственное всей его манере колебание как будто еще возросло. Протяжный вздох всколыхнул вислые листья айлантусов и так же быстро унялся. Несколько тяжелых капель прямого дождя шумно сорвались и расплескались сквозь листву расплавленным свинцом.
— Вы как раз успели до ливня, — любезно сказал Кортленд. Он не виделся с Чэмпни с того часа, как они простились на кладбище шесть недель назад.
— Да!.. Я… я хотел поговорить с вами кое о чем, Кортленд, — сказал Чэмпни. С минуту он колебался перед предложенным креслом, потом добавил, бросив осторожный взгляд на улицу: — Может, лучше пройдем в комнаты ?
— Как вам угодно. Но там будет слишком душно. Мы здесь совершенно одни; в доме нет никого, а ливень живо прогонит с улицы всех зевак. — Он говорил с полной искренностью, хотя их взаимные отношения в связи с мисс Салли все еще не определились и едва ли могли располагать к доверию.
Как бы там ни было, Чэмпни сел в предложенное ему кресло и не отклонил стакан брэнди с мятой, принесенный ему Кортлендом.
— Помните, я вам рассказывал о Дюмоне? — начал он. — О кузене мисс Даус — из этих ее, понимаете, французских родичей. Так он… он приезжает сюда: у него есть здесь недвижимость — те три дома напротив суда. Как я слышал, он приезжает, набравшись новомодных французских идей по негритянскому вопросу… всякого вздора насчет, понимаете, равенства и братства, и высшего образования для них, и высших должностей. Вы знаете, какое здесь настроение уже и сейчас? Знаете, что происходило на последних выборах в Кулиджвилле ‑ как белые не подпускали негров к урнам и какая там заварилась драка? Так вот, похоже на то, что такая же вещь может, понимаете, произойти и здесь, если мисс Даус примет те же взгляды.
— Но у меня есть основания думать, — возразил Кортленд, — то есть, я полагаю, каждый, кто знаком с образом мыслей мисс Даус, должен знать, что она далека от таких взглядов. С чего же она вдруг примет их?
— Потому что она примет его, — поспешил с ответом Чэмпни. — И если даже она сама не верит в них, ей придется разделить с ним ответственность в глазах каждого «неперестроившегося» буяна вроде Тома Хигби и прочих. Они все равно расправятся с ее неграми.
— Но я не вижу, почему она должна нести ответственность за воззрения своего кузена, и мне не совсем ясно, в каком смысле сказано ваше «она примет его», — спокойно ответил Кортленд.
Чэмпни с нервным смешком смочил в коньяке свои пересохшие губы.
— Ну, скажем, в качестве супруга, потому что его возвращение не означает ничего другого. Это знают все; вы тоже знали бы, если бы хоть раз поговорили с нею о чем‑нибудь, кроме как о делах.
Яркая вспышка молнии, озарив лица двух мужчин, показала бы им, как у Чэмпни лицо залилось краской и как побелело у Кортленда, если бы они глядели друг на друга. Но они не глядели, а последовавший долгий с подхватами раскат грома помешал Кортленду дать внятный ответ и укрыл его волнение.
Потому что, хоть он и не вполне поверил новости, для него было жестоким ударом услышать ее из уст молодого человека. Он уважал желания мисс Салли и после того разговора на кладбище, честно — хотя не безнадежно— воздерживался от какого бы то ни было выявления своей любви. Но если его прирожденная правдивость и чувство чести не восставали против ее очевидного двуличия с Чэмпни, он не находил оправдания своему молчаливому соучастию в обмане и сокрытию от возможного соперника собственных притязаний. Правда, мисс Салли запретила ему выйти с поднятым забралом против всех искателей ее руки, но невинная уверенность Чэмпни в его безразличии к ней и, как следствие, его доверчивая полуоткровенность делали сообщения англичанина вдвойне неприятными. Выпутаться он мог, по–видимому, лишь одним путем — путем ссоры. Верить ли рассказу Чэмпни или не верить, были ли здесь только ревнивые страхи соперника, или мисс Салли и впрямь обманывала их обоих, — терпеть такое положение дальше Кортленд не желал.
— Я должен вам напомнить, Чэмпни, — сказал он с ледяной вразумительностью, — что в настоящий момент мисс Миранда Даус и ее племянница представляют наравне со мною компанию Драммонда, и вы не можете ждать от меня, что я стану выслушивать какие‑либо замечания насчет того, как им угодно, сейчас или в дальнейшем, вести дела компании на доверенной им плантации. Еще менее того я склонен обсуждать пустые слухи, которые могут иметь касательство только к частным интересам этих дам, в каковые ни вы, ни я не имеем права вмешиваться.
Но молодой англичанин обладал той же неодолимой наивностью, что и мисс Салли, и такой же обезоруживающей.
— Конечно, права я, понимаете ли, не имею, — сказал он, запросто отметая строгую преамбулу собеседника, — но… ей–богу, провались оно все! Если человек и не надеется сам на успех, он все же не станет спокойно смотреть, как девушка отдает свою судьбу и свою собственность в руки такого человека.
— Минуту, Чэмпни! —сказал Кортленд, отбросив перед простотою гостя свой прежний тон превосходства. — Вы сказали, что не надеетесь на успех. Не должен ли я понять это в том смысле, что вы открыто ищете руки мисс Даус?
— Д–да–а, — отвечал юноша с колебанием, но не уклончивым, а скорее совестливым. — То есть… я, вы знаете, искал. Но, видите ли, это невозможно. Понимаете, никак нельзя было. Как только бы ее соседи с их клановыми понятиями — вся эта свора южан — заподозрили, что за мисс Салли ухаживает, понимаете ли, англичанин — браконьер в их заповеднике, — тут бы конец и ее положению и ее влиянию на них. Скажу вам прямо, это одна из причин, почему я бросил службу в компании и приобрел ту плантацию по соседству. Но и это не спасает; у них уже возникли подозрения.
— Мисс Даус выставила это основанием, отклоняя ваше искательство? — спросил с расстановкой Кортленд.
— Да. Вы знаете девушку, какая она прямая. Она не стала нести чепуху, что это‑де для нее «так неожиданно!», что она‑де «готова быть моей сестрой» и все такое. Она — ей–богу же! — всегда с вами больше, как сестра, чем как девица, за которой вы ухаживаете. Для меня, конечно, это было очень нелегко, но мне так думается, что в общем‑то она права. — Он помолчал, потом добавил с какою‑то мягкой настойчивостью: — А вы? Разве вы не считаете, что в общем она права?
Для Кортленда, при том, что творилось в его душе, этот вопрос прозвучал такой обидной насмешкой, что сперва он со злобой наклонился вперед, бессознательно пытаясь уловить в темноте выражение лица собеседника.
— Я не решился бы высказать тут свое мнение, — начал он, немного выждав. — Мисс Даус оказалась в очень необычных отношениях со своими соседями. И, судя по тому, что вы мне сообщили про этого кузена, едва ли можно полагаться на ее желание сохранять с ними мир.
— Я, понимаете, ни в чем ее не виню, — заспешил Чэмпни, — не такой я низкий скотина; я бы и вовсе не стал говорить о своих делах, но вы, понимаете, сами спросили. Я только думал, если она готова наделать себе бед с этим французом, то хорошо бы вам поговорить с ней — вас она послушает, потому что будет знать, что вы руководитесь только деловыми соображениями. Да тут и в самом деле деловые, понимаете, соображения. Я не думаю, чтобы вы высоко ставили мои деловые способности, полковник, и вы, наверно, не слишком доверяете моему суду — особенно теперь; но я живу здесь дольше вашего и… — он слегка понизил голос и подтянул свое кресло поближе к Кортленду, — не нравится мне здесь положение вещей. Эти мерзавцы подготовили втихую какую‑то чертовщину. Они только выжидают случая; довольно будет первой вспышки, и все они пойдут разжигать пожар — даром что огонь и без них давно уже тлеет, как искра в кипе хлопка. Я бы давно порвал тут со всем и уехал, когда б не думал, что мисс Даус будет еще труднее, если бросить ее тут совсем одну.
— Вы славный малый, Чэмпни, — сказал Кортленд, в неожиданном порыве положив руку на плечо молодому человеку, — и я вам прощаю, что вы не замечаете, как я сам озабочен. С вашей стороны, — продолжал он со странной серьезностью, чуть не со вздохом, — это только естественно. Все же я должен напомнить, что Даусы, строго говоря, остались здесь на положении приказчиков и арендаторов представляемой мною компании, и, пока я здесь, никто со стороны не может оспаривать их права или мешать им заводить свои порядки на арендованной ими земле. Однако я не вправе, — добавил он веско, — препятствовать мисс Даус, когда ей угодно ставить дело под угрозу из‑за своих отношений с людьми…
Чэмпни поднялся и неловко пожал ему руку.
— Дождь как будто перестал, — сказал он, — и я поплетусь, пока он не зарядил опять. Спокойной ночи! Надеюсь… вы не ругаете меня, что я пришел к вам с этим… нет? Ей–богу! Мне показалось сперва, что вы предпочли бы остаться в стороне. Но вы поняли, о чем я беспокоюсь?
— Вполне. Я вам только благодарен. — Они снова пожали друг другу руки. Чэмпни вышел из портика и, пройдя до ворот, казалось, исчез во мраке, как перед тем возник из него.
Гроза, однако, не миновала; в воздухе опять стало парко и душно. Кортленд сидел в своем кресле и раздумывал. Мог он или не мог принять новость Чэмпни как чистую правду, он чувствовал, что должен немедленно покончить с неизвестностью. Виноватое сознание, что он оценивает ее больше в плане своих чувств, нежели долга своего перед компанией, не придавало приятности его размышлениям. Однако, хоть и трудно было примирить уверения мисс Салли там, на кладбище, будто здешний народ спокойно посмотрел бы на домогательства англичанина, с признанием самого англичанина о том, под каким предлогом она их отклонила, — Кортленда, боюсь, не очень возмущала эта своеобразная этика. Влюбленный редко ставит любимой в вину, что она обманула его соперника, и так же бывает не склонен делать отсюда логический вывод, что она не постесняется обмануть и его, как был не склонен Отелло принять предостережения Брабан- цо. Мужское чувство чести, которое, возможно, отвергло бы дружбу мужчины, способного на такое предательство, не колеблясь, примет при тех же условиях женскую любовь. Может быть, в этой нашей готовности снять с любимой нравственную ответственность перед всеми, кроме одного, скрыта тонкая лесть, на которую так падки женщины.
Поглощенный этими невеселыми мыслями, Кортленд вдруг поднял голову и прислушался.
— Ты, Катон?
— Да, сэр.
У заднего крыльца, а затем в прихожей послышались тяжелые шаги, и вскоре в темном проеме двери вырисовалась еще более темная фигура. Это был главный надсмотрщик — сильный и величественный негр, избранный в начальники своими же товарищами, освобожденными невольниками, из их собственной среды в согласии с кортлендовским новым режимом.
— Ты с плантации или из города?
— Из города, сэр.
— Я думаю, на ближайшее время вам не следует показываться в городе по вечерам, — сказал Кортленд тоном спокойного, но решительного приказания.
— А что, разве будут опять вводить «перетрули» сэр? —спросил с усмешкой негр.
— Не знаю, — так же спокойно. ответил Кортленд, не обращая внимания на задиристую манеру надсмотрщика. — Но если введут, вам придется подчиниться местным постановлениям, коль скоро они не идут вразрез с федеральными законами, в случае чего вам предоставляется возможность обратиться с протестом к федеральным властям. Я бы вам посоветовал самим избегать неприятностей, покуда ваше положение небезопасно.
— Полагаю, они не посмеют сыграть со мной какую- нибудь штуку, — сказал негр со смешком.
Кортленд внимательно посмотрел на него.
— Так я и думал! Ты прихватил оружие, Катон! Дай‑ка сюда.
Надсмотрщик секунду поколебался, потом отстегнул от пояса револьвер и протянул Кортленду.
— И многие из вас взяли в привычку расхаживать по городу с оружием?
— Только те, кто уже терпел обиду, сэр.
— А ты какую обиду потерпел?
— Масса Том Хигби, там на рынке, сказал, что негры зазнались и самое время загнать их в болото, ну а я объяснил, что бездельникам и нищим лучше сидеть смирно на своем шестке, когда кругом трудовой народ, а масса Том сказал, чт. о вырежет мне сердце из груди.
— И ты думаешь, что, расхаживая с револьвером, ты помешаешь ему с друзьями совершить над тобой эту операцию, когда ты их раздразнишь?
— Вы говорили, мы сами, сэр, должны себя защищать! — угрюмо возразил негр. — Для чего тогда вы обучаете нас в арсенале стрелять из винтовки?
— Для того, чтобы вы защищались все вместе, в строю, если на вас нападут, а не грозились бы оружием каждый порознь в уличной драке. Все вместе вы еще можете выстоять против этих людей, а поодиночке они вас всех съедят живьем, Катон.
— На иного из этих наших негров я бы и в строю не очень положился, сэр, — мрачно сказал Катон. — Они как увидят старых хозяев, так сразу наутек, если не перебегут прямо к ним. Уж это верно!
Такие опасения и раньше приходили Кортленду на ум, но сейчас он не стал о них распространяться.
— Я вчера в хижинах у наших людей нашел две учебных винтовки, — продолжал он спокойно. — Последи, чтобы этого больше не было! Нельзя выносить оружие из арсенала иначе, как для его обороны.
— Слушаю, сэр.
Была минута тишины. Потом ее нарушил вдруг налетевший вихрь, пронесшись сквозь строй колонн и разволновав виноград. Зашуршали широкие листья айлантуса; раздался сердитый дробный стук: опять полил дождь. А когда Кортленд встал и подошел к распахнутой двери, ее темные стекла и всю контору за ней озарила вспышка новой молнии.
Он вошел в контору, приглашая за собой Катона, и зажег лампу над письменным столом. Негр угрюмо, но почтительно стоял в дверях.
— Катон, ты что‑нибудь знаешь о мистере Дюмоне, двоюродном брате мисс Даус?
Белые зубы негра сверкнули при свете лампы.
— Эге! Еще бы, сэр!
— Он вправду большой друг твоего народа?
— Про это, сэр, я ничего не знаю. Но он великий враг Ридам и Хигби.
— Из‑за своих убеждений, конечно?
— Да нет! — сказал Катон с недоумением на лице. — Просто по вендетте.
— По вендетте?
— Да, сэр. По старой кровной ссоре между их семьями. Она тянется, сэр, пятьдесят лет. Деда, и отца, и братьев Хигби убили дед, и отец, и братья Дюмонов. Риды вмешались, когда перебили всех Хигби, потому что они им родственники; а тех пошли стрелять Даусы, которые близкая родня Дюмонам.
— Как, и Даусы втянуты в вендетту?
— Нет, сэр. Теперь уже нет. У них, когда умер отец мисс Салли, не осталось в семье ни. одного мужчины — так что Даусы вышли из счета навсегда. Последний выстрел дал масса Джек Дюмон, — он пристрелил масса Джо Хигби, брата Тома Хигби, а потом удрал в Европу. Он, говорят, воротился и прячется где‑то в Атланте. Здесь пойдет веселое житье, если он приедет погостить к мисс Салли.
— Но он мог изменить свои взгляды, пожив за границей! Там на такие вещи смотрят, как на простое убийство.
Негр строго покачал головой.
— Тогда бы он не приехал, сэр. Нет, сэр. Он же знает, что Том Хигби должен непременно или выйти на него или убраться вон. Да и сам он, масса Джек, верно, будет рад хлопнуть и его, как раньше его брата, потому что Дюмоны еще не сравняли счет. А масса Джек не лентяй поиграть охотничьим ружьем.
Кортленд столько наслышался об этих пережитках варварского беззакония, что в другое время угроза столкновения с ними, наверно бы, и сама по себе произвела на него впечатление. Но сейчас она его взволновала только тем, что было непонятно, какую роль играла здесь мисс Салли. Сама ли она подготовила возвращение своего отчаянного сородича, или должна была стать лишь безвинной жертвой обстоятельств?
Белая, слепящая, ошеломительная вспышка молнии вдруг зажгла комнату, портик, роняющие капель айлантусы и затопленную улицу за ними. Вслед за молнией сразу разразился гром, а за ним, как показалось, вспыхнула вторая, более слабая молния — или скорее как будто бы от первой молнии вдруг воспламенилось какое‑то горючее вещество. Дом еще трясло от долгого громового раската, когда Кортленд быстро проскользнул в стеклянную дверь и прошел к воротам.
— Ударило во что‑нибудь, сэр? —сказал в испуге негр, когда Кортленд вернулся.
— Нет, насколько я вижу, — коротко ответил его наниматель. — Пройди в сад, позови из хижины Зою с дочкой и жди меня с ними в прихожей. Я сейчас к вам выйду. Иди! Двери я закрою сам.
— Все‑таки, сэр, во что‑то ударило! Сильно пахнет серой где‑то рядом, — сказал негр, выходя из комнаты.
Кортленд подумал то же, но этот запах серы он слышал не раз и раньше — на поле боя. Как только за надсмотрщиком закрылась дверь, он подошел с лампой к противоположной стене и тщательно ее осмотрел.
Там было четкое отверстие, выбитое пулей, которая пролетела на дюйм от головы Катона, когда он стоял в дверях.
ГЛАВА VI
К Кортленду мгновенно вернулось все его самообладание. Всепоглощающей страсти — только сейчас он понял, насколько она поглощала его, — как не было! Вернулась ясность зрения, не помрачаемого больше чувством. Он видел все в надлежащих соотношениях: свой долг, плантацию, беспомощных освобожденных невольников, которым грозит беззаконная расправа; двух женщин — не дразнящее видение, как раньше, а лишь одну из частностей вставшей перед ним задачи. Он их видел не сквозь преломляющий туман нежности или пристрастия, а на их правильном месте — как должно видеть человеку действия.
Выстрел был нацелен, несомненно, в Катона. Если даже это было делом только личной мести, оно выдавало уверенность незадачливого убийцы в своей безопасности, а это говорило о наличии соучастников и разработанного плана. Стрелявший воспользовался грозой, вспышкой молнии и долгим громовым раскатом (прием, небезызвестный стрелкам–партизанам), чтобы его труднее было немедленно распознать. Но нападение могло быть только одиночным актом, могло быть и началом большого налета на синдикатских негров–батраков. Если первое — он, Кортленд, может защитить Катона от нового покушения, продержав его в своей конторе, покуда не представится возможность переправить его в безопасное место; если второе — он должен немедленно собрать негров в их новом поселке и взять с собой Катона. Поселок находится в полумиле от усадьбы Даусов, то есть в двух милях отсюда.
Он сел и написал несколько строк мисс Даус, сообщая, что ввиду грозящих беспорядков в городе он советует придержать негров в их поселке, куда вскоре прибудет и сам. Он отправляет к ней свою экономку с дочкой, так как им обеим лучше пересидеть в надежном укрытии, пока он не вернется в город. Записку он отдал Зое, наказав ей пройти напрямик — задним садом и полем. Потом повернулся к Катону.
— Я сегодня же ночью пойду с тобой в поселок, — сказал он невозмутимо, — и ты можешь сам отнести свой револьвер в арсенал. — Он вручил ему оружие. Негр принял его с благодарностью, но вдруг поднял на своего нанимателя пытливый взгляд. В лице Кортленда, однако, не заметно было перемены. Когда Зоя ушла, он спокойно добавил:
— Мы пойдем кружной дорогой, через лес. — И когда негр вздрогнул, он продолжал в том же тоне: —Запах серы, Катон, который ты слышал сейчас, был от дыма из ружья, стрелявшего в тебя с улицы. Я не хочу, чтобы выстрел повторился при тех же преимуществах для противника.
Негр сильно взволновался.
— Это он, подлая собака, Том Хигби! — прохрипел он.
Кортленд посмотрел на него острым взглядом.
— Значит, между ним и тобой было кое‑что, кроме слов, Катон. Что произошло? Говори!
— Он меня полоснул хлыстом, а я дал ему раз как следует по уху и сбил его с ног, — сказал Катон, расхрабрившись от злости при этом воспоминании. — Я был вправе защищаться, сэр.
— Да. И я надеюсь, что теперь ты сможешь защищаться, — спокойно сказал Кортленд, ничем не выдав своей уверенности, что этой единственной справедливой пощечиной судьба Катона была неотвратимо решена, — но в поселке тебе будет безопасней. —Он прошел в спальню, взял с ночного столика револьвер и деринджер [3] из ящика комода, быстро спрятал то и другое под наглухо застегнутый сюртук и вернулся в контору.
— Когда мы выйдем в открытое поле, держись поближе ко мне, даже старайся идти со мной точно в ногу. Если хочешь что‑нибудь сказать, говори сейчас; никаких разговоров в пути, чтобы нам не выдать, где мы; мы пойдем молча, и тебе хватит работы для глаз и ушей. Я тебя прикрою при любом нападении, но от тебя я жду одного: что ты будешь беспрекословно повиноваться приказам. — Он открыл дверь заднего подъезда, кивнул Ка- тону выйти первым, запер за собою дверь и, взяв негра под руку, прошел с ним вдоль невысокой ограды в конец сада, где они перелезли через плетень и оказались среди открытого поля.
Стало, к несчастью, светлей, потому что тучи начинали расходиться и бледные отсветы месяца, пробиваясь, бегали по полю вперегонки или вдруг высекали блестки в стоящих между буграми лужах. Самая близкая дорога к поселку вела через открытое поле прямо к опушке леса, но сейчас она была и самой небезопасной; пробраться живою изгородью до конца поля, а там свернуть под прямым углом и пойти вдоль межевого забора, все время держась в его тени, было бы вернее, но тогда они упустили бы драгоценное время. Полагая, что мстительный недруг Катона со своими товарищами еще караулит поблизости, Кортленд быстро обежал глазами тянувшуюся рядом длинной тенью живую изгородь. Вдруг Катон дернул его за рукав и указал в ту же сторону, туда, где поле пересекал примеченный им самим межевой забор — простой частокол. Так как месяц стоял совсем низко по ту его сторону, он смотрелся сплошною черной тенью, прерываемой яркими серебряными прозорами, и эти серебряные полосы на черном фоне обозначали лежавшее за ним поле в лунном свете. Кортленд сперва ничего не увидел. Потом его поразило, что прозоры попеременно и равномерно затемняются, как если бы за ними передвигался какой‑то непрозрачный предмет. С той стороны частокола проходила вдоль него вереница людей — хотели, видно, держась в его тени, пересечь поле и подобраться к дому. Грубый подсчет — по мельканию затемнений — показал, что там их было человек двенадцать, если не пятнадцать.
Он больше не мог сомневаться в их намерениях и не раздумывал о том, как их должно встретить. Он немедленно пройдет с Катоном к негритянскому поселку, даже если для этого нужно пересечь это открытое поле. Он знал, что они поостерегутся затронуть лично его, страшась возможных неприятностей с федеральными властями, политических осложнений; и он решил, используя этот страх, обеспечить неприкосновенность Катону. Положив руки на плечи негра, он, подталкивая, повел его перед собой, а сам шел вплотную за ним, так что даже самому меткому стрелку было невозможно стрелять в одного, не подвергая опасности жизнь другого. Когда они так дошли до середины поля, он заметил, что тени за прозорами в частоколе остановились. Наверно, люди из своей засады увидели двойной силуэт, поняли, что это такое, и, как он и ожидал, не решались стрелять. Он благополучно дошел с Катоном до того края поля, успев, однако, углядеть, что роковые тени снова задвигались вдоль частокола, но теперь уже в одном направлении с ними. Очевидно, они намеревались их преследовать. Но здесь, в лесу, Кортленд знал, шансы были равны. Он вздохнул свободней. Катон, уже не такой напуганный, начал даже выказывать кое‑что от прежней своей пылкой воинственности, что Кортленд, однако, сразу пресек. Хоть он и не слишком рассчитывал на доблесть своего товарища в случае крайности, он все же мог теперь надеяться, что приведет его в поселок живым и невредимым.
К тому же поневоле пришлось положиться на его знание местности и лесное чутье. Поэтому Кортленд, все еще держась между ним и преследователями и прикрывая его с тыла, предоставил ему выбирать дорогу. Она теперь повела их немного под уклон; поредевший подлесок вскоре и вовсе исчез, под ногами был только зыбкий мох. Деревья пошли другие, мрак словно бы сгустился от черных стволов кипариса, вьющийся виноград и мошкара хлестали в лицо, струи сырого воздуха, казалось, текли над самой почвой, по которой их ноги хлюпали, как по лужам. Признаков преследования пока не наблюдалось. Но Кортленд чувствовал, что оно не прекратилось. В самом деле, он едва успел удержать негра от громкого возгласа, когда с открывшейся впереди прогалины до них обоих явственно донесся глухой стук подков. Это был второй отряд преследователей — конный, — высланный, очевидно, затем, чтобы перерезать им дорогу при самом выходе из лесу, тогда как тот, от которого они только что ушли, наверно, по–прежнему медленно и молча следовал за ними пешком. Их хотят зажать между двух огней!
— Что там у нас по левую руку? — быстро шепнул Кортленд.
— Болото.
Кортленд стиснул зубы. Его тупоумный проводник явно завел их обоих в ловушку! Тем не менее решение принято было мгновенно. Сквозь поредевшие стволы он уже мог видеть в лунном свете фигуры всадников.
— Здесь, видимо, проходит граница плантации? Это поле, что сразу за лесом, уже наше? — спросил он.
— Да, — подтвердил негр, — но наш поселок еще в миле отсюда.
— Хорошо! Стой здесь, пока я не вернусь и не кликну тебя; я пройду вперед и поговорю с этими людьми. Но если тебе дорога жизнь, молчи и сам не трогайся с места.
Он быстро прошел сквозь строй заслонявших их деревьев и выступил на лунный свет. Приглушенный возглас приветствовал его, и пять–шесть всадников в масках и с ружьями наизготовку поскакали прямо на него, но он спокойно стоял, поджидая, и когда передний приблизился, он шагнул ему навстречу и крикнул:
— Стой!
Тот резко и машинально осадил коня при звуке этого по–военному повелительного голоса.
— Что вам тут надо? — сказал Кортленд.
— Полагаем, это наше дело, полковник.
— Нет, мое, когда вы на земле, где я хозяин. Она входит в собственность, отданную под мой надзор.
Человек в нерешительности оглянулся на своих товарищей.
— Согласен, что вы нас тут застали, полковник, — сказал он наконец с наглой ленцой и сознанием силы, — но я вам прямо скажу, что нам нужен негр, вроде, скажем, вашего Катона. Лично против вас мы ничего не имеем, полковник; вашей собственности мы не касаемся, ни ваших порядков на вашей земле, но мы не привыкли, чтобы чужаки совались в наши порядки и наши обычаи. Подайте нам вашего негра — вы, северяне, не назовете его «собственностью», не так ли? — и мы уберемся с вашей земли.
— А могу я спросить, что вам нужно от Катона? — спокойно сказал Кортленд.
— Показать ему, что никакие федеральные законы — будь они прокляты! —не защитят его, когда он посмеет тронуть белого человека! — проревела одна из фигур под маской, выехав вперед.
— Тогда вы заставите меня показать вам, — сказал, не дрогнув, Кортленд, — что может сделать любой гражданин федерации в защиту федерального закона. Я пристрелю первого же, кто попробует наложить на этого негра руку на моей земле. Кое–кого из вас, кто сейчас пытался хладнокровно убить его, я встречал и раньше в менее позорных сражениях, чем это, и они знают, способен ли я сдержать свое слово.
С полминуты длилось молчание; на стволе револьвера, который Кортленд держал, прижимая локоть к боку, сверкнул лунный блик, но сам он не двинулся с места. Двое всадников подъехали к тому, что говорил первым, и они обменялись несколькими словами. Послышался тихий смешок, и говоривший первым опять обратился к нему с насмешливой учтивостью:
— Отлично, полковник, если вы такого мнения, что нам нельзя преследовать нашу дичь на вашей земле, что ж, мы, пожалуй, переложим это на тех, кому можно. Извините, что мы вас потревожили. До свидания!
Он насмешливо снял перед ним шляпу, потом махнул ею своим спутникам, и секундой позже весь отряд уже бешено несся вскачь по направлению к большой дороге.
В первый раз за этот вечер предчувствие недоброго охватило Кортленда. Угроза неизвестной опасности для храброго человека всегда страшней, чем любая схватка с противником, пусть при его подавляющем превосходстве. Он знал чутьем, что они это сказали не из пустой бравады — чтобы как‑то прикрыть поражение: у них что- то было в запасе, еще какое‑то преимущество, дававшее им уверенность, но какое? Был ли тут просто намек на тот другой, пеший, отряд, который выслеживал их в лесу и на который противник только и рассчитывал теперь? Он поспешно вернулся к Катону; белые зубы безрассудно самонадеянного негра засверкали, торжествуя мнимую победу. У Кортленда сжалось сердце.
— Мы еще не вышли из лесу, Катон, — сказал он сдержанно, — не вышли и они. Будь начеку и держись подле меня. Долго мы еще можем, оставаясь в прикрытии леса, подвигаться к поселку?
— Есть кружная дорога краем болота, сэр, только, чтобы ее найти, надо будет пройти немного назад.
— Пошли!
— И там кругом под ногами змеи–мокасинки и медные головки! На нас‑то они не кидаются… а вот… — он замялся, — белому человеку лучше от них подальше.
— Хорошо! Значит, для тех, кто за нами гонится, это будет так же опасно, как и для меня. Отлично. Веди.
Они осторожно пошли вспять по своему следу, потом негр свернул в сторону, туда, где было заметно светлей. От влажных листьев и мха, захлюпавшего под ногами, потянуло, казалось, чем‑то ядовитым. Несколько минут они пробирались здесь молча; низкорослые ивы и кипарисы стояли все более разбросанно, и часто открывались перед глазами заросли осоки. Кортленд начинал опасаться, не слишком ли на виду его спутник, и пошел с ним бок о бок, как вдруг негр схватил его за локоть и весь затрясся. Губы раздвинулись над зубами, белки глаз блестели, он, казалось, задыхался и онемел от страха.
— В чем дело, Катон? — сказал Кортленд, инстинктивно глянув под ноги. — Говори же!.. Укус?
Это слово как будто вырвало у несчастного крик смертельной муки.
— Укус? Нет. Но как же вы не слышите, они бегут, сэр! Боже всемогущий! Не слышите?
— Чего?
— Собаки! Собаки!.. Ищейки! Они их спустили на меня.
Так и было! Уже и Кортленд расслышал вдалеке слабый, но отчетливый лай. Теперь он ясно понял весь жестокий смысл сказанного вожаком: те, кому можно проходить везде, гнались за своею дичью!
Мужество окончательно покинуло негра, он весь съежился. Кортленд успокоительно положил руку ему на плечо, потом подтолкнул его и наконец яростно затряс.
— Перестань! Довольно! Я здесь и буду стоять за тебя, что бы ни случилось. Эти собаки не страшней других. Не унывай же, парень, и хоть мне‑то помоги драться!
— Нет! Нет! — простонал тот в ужасе. — Пустите меня! Пустите меня назад, к хозяевам! Скажите им, что я иду! Скажите, пусть отзовут собак, и я сам смирно приду! Пустите! —Он вырывался изо всех сил, но спутник держал его крепко.
В Кортленде под всем его самообладанием, привычным хладнокровием и самодисциплиной, боюсь, еще жило нечто от неистового нрава древних скандинавских воителей. Лицо его побелело, глаза пылали в темноте; только голос сохранил ровную четкость, от которой его слова прозвучали для негра еще страшней, чем лай и гон собак.
— Катон, — сказал он, — попробуй сейчас побежать, и, ей–богу, я избавлю собак от труда вцепиться в твое живое тело! Мигом! На это дерево! — Он указал на болотную магнолию. — Не двигайся, пока я стою на ногах, и когда я упаду, но не раньше того, спасайся… как только сможешь.
Не так поддерживая, как волоча, он подвел совсем обмякшего африканца к одинокому дереву; когда лай одной из собак стал слышен ближе, негр в судороге с колена и плеча Кортленда взобрался на первые ветви в двенадцати футах над землей. Кортленд выхватил револьвер и, отступив по поляне на несколько шагов, ждал нападения.
Оно произошло неожиданно сзади. Внезапный вой за его спиною, полный душащей злобы и яростного предвкушения, заставил Кортленда мгновенно переменить фронт, и мимо него пронеслись роняющие пену клыки и змеиная, удавоподобная шея серой ведьминской тени. Непостижимый, сверхъестественный инстинкт безошибочно влек ее прямо к роковому дереву. Но эта грозная прямота чутья сыграла на руку Кортленду. Его револьвер выпалил в цель так же безошибочно. Собака с простреленной шеей и черепом в своем наскоке взметнулась на дерево и, перевернувшись, скатилась по стволу содрогающимся клубком. Снова оттуда же доносится лай, показывая Кортленду, что преследователи зашли ему во фланг; и вот уже вся свора несется наперерез по болоту. Но он начеку; снова ведьминская тень, призрачная и чудовищная, как в кошмаре, выметнулась в четкий свет поляны, но на этот раз она была остановлена и покатилась в судороге, не достигнув корней магнолии. Раскрасневшийся, с огнем борьбы в крови, Кортленд чуть не в злобе отвернулся от лежавших у его ног собак, чтобы встретить нападение более трусливых охотниц, которые, он знал, не оставят след. В это мгновение той, что вырвалась бы вперед, пришлось бы круто. Уже не прежний расчетливый экономист и дипломатичный управитель, не трезвый оценщик противоречивых интересов — он приготовился встретить их не только с бесстрашием привычного солдата, но и с пробужденной яростью борца за свое дело, равной ярости всей их своры. К его удивлению, болтуне ни одна не налетела; лай третьей собаки оборвался и смолк — наверно, по приказу, тишину нарушал только звук далеких спорящих голосов и неровный топот копыт. Затем раздались вдалеке два или три ружейных выстрела, но не со стороны негритянского поселка и не от усадьбы Даусов. Очевидно, погоня была чем‑то пресечена — что‑то отвлекло преследователей, какая‑то диверсия, но какая, Кортленд не знал. Он не представлял себе, кто бы мог вмешаться, чтобы подать ему помощь, а крики и спор продолжались, но как будто были слышны голоса только одной из сторон. Он осторожно окликнул Катона. Негр не ответил. Он подошел к дереву, потряс его в нетерпении. В ветвях было пусто. Катон исчез! Злополучный негр, должно быть, воспользовался первым же благоприятным для него поворотом, чтобы сбежать. Но как и куда, неизвестно, следов не осталось.
Кортленд, когда они шли, не примечал дороги и сейчас совершенно не представлял себе, где он находится. Он знал, что должен вернуться к кипарисовой опушке и оттуда, пересекши открытое поле, добраться до поселка, куда, возможно, побежал Катон. Взяв приблизительное направление по немногим видимым над поляной звездам, он пошел обратно. Но теперь у него не было негра-проводника с его лесным чутьем. Временами ему опутывал ноги вьющийся виноград, казалось, со зловещим предостережением хватавший его за щиколотки; временами уходящая из‑под ступни почва указывала на опасную близость трясины и вместе на то обстоятельство, что он,
по беспомощному обычаю всех заблудившихся, начинает кружить на месте. К счастью, у болота было виднее, и, выходя к нему, он получал возможность снова выправлять потерянное направление по звездам. Но в этих бесплодных усилиях он озяб и сильно устал; и наконец, сделав еще один более путаный и долгий круг, приведший его опять к болоту, он решил пойти в обход по самому краю его, пока не найдет другого пути. Вдали посветлело, как если бы там тянулась обширная поляна или вырубка, а в одном конце болота появилось на его поверхности какое‑то свечение, как будто отблеск ignis fatui[4] или сверкание сплошной воды. Сделав еще с полсотни шагов, он подошел к тому месту, и перед ним открылся широкий простор. В одной стороне, далеко за болотом, поднимался, утопая в лунном свете, косогор, исчерченный правильными рядами маленьких белых квадратов, а ниже по склону его, где он спускается в ложбину, — мерцающие обелиски, пирамиды, плиты. Это было кладбище; белые квадраты по косогору — солдатские могилы. И среди них, видная даже на такую даль, торжественно высилась укоряющим призраком разбитая колонна над прахом Честера Брукса.
При виде этого рокового места, где он не был со своей последней встречи там с Салли Даус, поток воспоминаний нахлынул на него. Белый туман, низко нависший над дальним краем болота, представился его воображению тем артиллерийским дымом, откуда три года тому назад налетела на его орудие призрачная фигура мертвого всадника; дымчато–белые султаны траурных растений по кладбищенской длинной аллее напомнили о легкой фигурке мисс Салли, какой она явилась ему при их последней встрече. Еще мгновение, и в этом состоянии полузабытья он подпал бы вновь под ее былые чары — столько жизненности было в этом воспоминании; но он тут же злобно оттолкнул его с горькой мыслью о ее обмане и собственной слабости. В суеверном трепете он повернулся спиной к этому месту и попробовал еще раз углубиться в бездорожье чащи. Но он чувствовал, что у него все больше темнеет в глазах и что силы его слабеют. Время от времени он поневоле останавливался, чтобы собраться с ленивыми мыслями, отяжелевшими, казалось, от смертоносных паров, затопивших все вокруг. Он даже как будто слышал знакомые голоса, но, должно быть, это только чудилось. Под конец он споткнулся. Выкинув руку вперед, он повалился в болотную грязь и, падая, ударил по какому‑то дурацкому, точно бы резиновому корню, который — должно быть, это тоже только чудилось, — задвигался под ним и даже — так было смутно сейчас его сознание — злобно ударил в ответ по его протянутой руке. Острая боль пробежала от локтя к плечу и своим уколом на мгновение полностью привела его в чувство.
Голоса все же были — наверно, голоса их первых преследователей! Если они намерены выместить на нем исчезновение Катона, он готов их встретить. Он взвел курок и встал. За деревьями вспыхнул факел. Но в этот самый миг пелена застелила ему глаза; он пошатнулся и упал.
Наступила полоса беспомощного полусознания. Он почувствовал, как сильные руки подняли его и понесли, а его рука бездейственно свисла. Волглый запах леса вскоре сменился свежим дыханием открытого поля; смолистые чадные факелы погасли при ярком лунном свете. Вокруг толпились фигуры людей, но такие неотчетливые, что он не мог их распознать. Казалось, все его сознание сосредоточилось на жгучей, дергающей боли в руке. Он почувствовал, как его положили на гравий; как разрезали на нем рукав от плеча; ощутил холод ночного воздуха на обнаженной коже, горячей и нарывающей, затем мягкий, холодный и необъяснимый нажим на рану, которого раньше он не ощущал. Послышался голос — высокий, тягуче- раздраженный и знакомый ему, хотя он напрасно старался вспомнить, чей он:
— Го–осподи боже, спаси нас! Да что же вы делаете, мисс Салли? Деточка, деточка моя! Вы же убьете себя — непременно!
Нажим продолжался, странный и сильный, ощутимый даже сквозь боль, потом прекратился. И голос, пронизавший его трепетом, сказал:
— Это единственное, что его может спасти! Молчи ты, черная сорока! Оброни только слово об этом хоть одной душе, и я велю тебя высечь! Теперь живо сюда бутылку виски и влить в него!
ГЛАВА VII
Когда Кортленд вновь открыл глаза, он лежал у себя в комнате в Редлендзе, и веселое утреннее солнце вдруг загоралось на стене всякий раз, как плотно сдвинутые гардины чуть отдувало в бок свежим ветром. Все случившееся ночью можно было бы принять за сон, если бы мысли не сковала неодолимая вялость и если бы не это онемение в руке, которая лежала перед ним, вспухшая и посеревшая, не под одеялом, а на особой подушке. Время от времени на ней сменяли выжатую в ледяной воде салфетку, и делала это Софи, домоправительница Даусов, которая сидела у него в головах и лениво махала на него веером. Их глаза встретились.
— Перелом? — спросил он, глядя на свою беспомощную руку, но в его голосе прозвучал только намек на былую твердость.
— Ни–ни, полковник! Змея ужалила, — ответила негритянка.
— Змея ужалила! — повторил Кортленд с вялым любопытством. — Какая змея?
— Мокасинка или медная головка, кому знать, если вы сами не знаете, какая, — ответила та. — Но теперь все хорошо, золотко мое! Яд отсосали, и его больше нет. А что вас мутит, так это от виски. Виски никуда не уходит, сэр. Оно всасывается в подкожный жир, сэр, и хочешь не хочешь, а приходится его усвоить.
В памяти какая‑то струна слабо отозвалась на своеобразный разговор девушки.
— Ага, — с живостью сказал Кортленд, — ты, Софи, от Даусов! Тогда ты мне можешь сказать…
— Ничего, сэр! Абсолютно ничего! — перебила девушка, закачав головой с величавым достоинством представительницы начальства. — Доктор строго запретил! Вы должны лежать, золотко, и глазки закрыть, — добавила она, тотчас же бессознательно возвращаясь к прирожденной материнской нежности своего народа, — и не тревожиться, что в школу идти. Доктор ясно сказал, сэр, — заключила она, снова сурово вспомнив долг, — никаких разговоров с пациентом.
Но Кортленд недаром умел покорить любого подчиненного.
— Ответьте мне только на один вопрос, Софи, и больше я вас ни о чем не спрошу. Наш… — он запнулся, все еще не уверенный, было ли действительностью — и насколько — все пережитое, — наш… Катон… спасся?
— Если вы об этом вашем наглеце надсмотрщике, полковник, о чернорожем задире, он, будьте покойны, жив–здоров! — резко ответила Софи. — Он еще позавчера прибежал жив–здоров в поселок и нахвастал, что убил ищеек; а вчера утречком перебрался жив–здоров за границу штата, намолов тут с три короба чуши. Если есть на свете наглый, заносчивый негр, которого я просто презираю, так это ваш черный бык Катон! А теперь (снова мягким тоном) смежите глазки, золотко мое, и не волнуйте себя из‑за какой‑то черной шкуры; спите себе спокойненько. Больше вы из Софи ни словечка не вытяните, ни–ни!
Как будто послушавшись, Кортленд закрыл глаза. Но как он ни был слаб, он почувствовал, что кровь прилила к его щекам при таком нелестном отзыве Софи о человеке, ради которого он только что рисковал жизнью и положением. В ее оценке, он сознавал, было много верного; но так ли уж он оплошал со своей донкихотской защитой вздорного буяна и трусливого хвастуна? Как‑никак выстрел, бесспорно, был, была попытка хладнокровно убить Катона! И были ищейки, высланные по следу несчастного! Это не сон, это гнусная, непростительная правда!
Практикующий в Редлендзе врач был, он припомнил, человеком старого закала—консерватором и дипломатом. Но он побывал на войне, и это расширило круг его симпатий. Кортленд понадеялся, что он осветит ему положение вещей по–солдатски откровенно. Однако доктор Мэйнард был прежде всего врачом и, как Софи, соблюдал профессиональную осторожность. Полковнику лучше не разговаривать сейчас об этом. Прошло уже два дня; полковник пролежал в постели без малого двое суток. История, что и говорить, печальная, но она естественное следствие долго накапливавшегося политического и расового раздражения и к тому же спровоцирована весьма существенным поводом! Убийство? Слишком сильно сказано; может ли полковник клятвенно утверждать, что стрелявший действительно метил в Катона? Не стрелял ли он скорей для виду, чтобы припугнуть задиру негра? Его, вероятно, нужно было проучить, а, конечно, поживши здесь, полковник успел узнать, что этих людей низшей расы можно учить только страхом. Ищейки? А, да… ищейки, разумеется, тоже входят составною частью в эту благотворную систему обучения. Такой рассудительный человек, как полковник Кортленд, не может, конечно, думать, что и в старые, рабовладельческие дни плантаторы насылали собак на беглых негров с целью покалечить или уничтожить свою же собственность? Тогда бы — чего проще — пусть их убегают! Нет, сэр! Собак применяли только, чтобы припугнуть черномазых и выгнать их из болота, зарослей и других укрытий, потому что ни один негр еще не выстоял против собаки. Катон может врать сколько ему угодно, каждому ясно, кто на самом деле убил собак майора Рида. Никто полковнику не ставит этого в вину — ни даже сам майор Рид, но если бы полковник дольше прожил на Юге, он бы знал, что стрелять их ради самообороны не было нужды, потому что собака никогда не нападет на белого. Но сейчас полковнику ни к чему беспокоиться об этой истории. Он поправляется; он проспал добрых тридцать часов; жара нет, он должен дремать и дальше, чтобы могучие укрепляющие средства не слишком его изнурили, а он, доктор, навестит его еще раз, попозже.
Потому ли, что в этой расслабленности он был не способен уловить весь смысл сказанного врачом, или потому, что физическая оцепенелость мозга была сильней, чем умственное возбуждение, но он заснул и проспал до нового прихода врача.
— Дело идет на лад, полковник, — сказал доктор, после беглого осмотра пациента. — Я думаю, мы разрешим себе прервать на время сон и даже позволим вам подвигать рукой- Вы отделались счастливей, чем бедный Том Хигби, тому добрых три недели нельзя будет ступить на ногу. Я не извлек еще всю дробь, которую всадил в нее позавчера Джек Дюмон.
Кортленд вздрогнул. Джек Дюмон! Так ведь зовут двоюродного брата Салли Даус, о котором говорил тогда Чэмпни! А он все время так упорно гнал из своей оживающей памяти смутно звучавший в ней голос девушки— последнее, что слышал он в ту ночь, — и связанную с ним, казалось бы, загадку. Но этот кузен, он‑то ему не причудился — он его соперник и соперник равно обманутого Чэмпни. Он взял себя в руки и безучастно повторил:
— Джек Дюмон?
— Да. Впрочем, вы, конечно, ничего не поняли, когда вы там вязли в болоте. Но, черт возьми, если бы Дюмон не подстрелил Хигби, вы бы так легко не вызволили вашего негра: это вам помогло куда больше, чем то, что вы перестреляли собак.
— Не понимаю, — ответил Кортленд все так же безучастно.
— Видите ли, Дюмон (который набрался северных принципов, по–моему, больше в пику всяким Хигби и в угоду Салли Даус, а не по какому‑то там убеждению) как раз в ту ночь воротился. Проведал ли он, что тут кое- что затевается, захотел ли покуражиться перед Хигби или заслужить расположение Салли, — никто не знает. Только он налетел прямо на Хигби с его людьми, крикнул: «Если вы вышли на охоту, Том, вот вам случай получить очко!» — по счету, значит, в их старинной ссоре — и берет ружье к плечу. Хигби был не так проворен. Дюмон нажимает курок, Хигби падает, а тот вскачь и наутек! Риды в погоню, чтобы отомстить за Хигби, а за ними целая толпа — посмотреть на потеху, что почище, чем травля негра. Это и позволило вам с Катоном уйти, полковник.
— А Дюмон?
— Примчался прямо в Фоксборо, на станцию, заработав свое очко и предоставив Хигби с Ридами выравнивать счет, как сумеют. Вам, северянам, такие вещи не по душе, полковник, но если посмотреть, как он лихо это проделал — хлоп! и ускакал, — так двоюродный братец Салли Даус просто молодец!
Кортленд едва совладал с собой. Доктор прав. Героем этого злосчастного дела оказался ее двоюродный брат… его соперник! И ему — который, может быть, вмешался по просьбе мисс Салли, сжалившейся над обманутым ею человеком, — ему он, Кортленд, обязан жизнью! Он, сам того не заметив, быстро и резко перевел дыхание.
— Вам больно?
— Ничуть. Когда мне можно встать?
— Пожалуй, завтра.
— А как с рукой?
— Ею лучше не работать недельку–другую. — Он замолчал и, отечески посмотрев на молодого человека, добавил мягко, но веско:
— Если вы послушаете моего совета — не врачебного, — полковник Кортленд, вы дадите этой истории тихо- мирно заглохнуть. Для вас, да и для ваших здешних дел, нисколько не во вред, что вы показали людям свою храбрость, а черномазый получил такой урок, какой его товарищи не скоро забудут.
— Благодарю вас, — холодно ответил Кортленд. — Но мне кажется, я все же знаю свой долг перед компанией, которую я представляю, и перед правительством, которому служу.
— Возможно, полковник, — спокойно сказал доктор. — Но позвольте человеку постарше напомнить вам и правительству, что вы не можете за несколько лет изменить все привычки и взаимные отношения двух различных рас. Этого и ваш друг мисс Салли Даус никогда не пыталась, хоть она и не во всем разделяет мой образ мыслей.
— Я отлично знаю, что мисс Даус обладает дипломатическим талантом и другими совершенствами, на какие я не могу притязать, — едко возразил Кортленд.
Доктор удивленно поднял брови и перевел разговор на другой предмет.
Когда он простился, Кортленд потребовал письменные принадлежности. Он уже принял решение, и теперь перед ним был только один достойный путь. В письме к президенту компании он дал подробный отчет о последних происшествиях, допуская, что его надсмотрщик сам подал «весьма существенный повод», но при том указывая, что террор со стороны беззаконной черни лишает его, Кортленда, возможности внедрять у себя дисциплину. Он настоятельно просит известить о случившемся Вашингтон и добиться принятия мер для защиты освобожденных невольников. Одновременно он просит освободить его от должности, но намерен остаться на посту впредь до назначения ему преемника и обеспечения безопасности всем его служащим. До тех пор он будет действовать на свой страх и ответ. Он никого, в частности, не обвиняет, не называет ничьих имен, он не просит кого‑либо преследовать в острастку другим или отдавать преступников под суд, а только требует мер охраны на случай повторения бесчинств. Второе письмо, хоть и не столь формальное и не служебное, написать было трудней. Он обращался в нем к коменданту ближайших федеральных казарм, своему старому другу и бывшему товарищу по оружию. Он напомнил один их прежний разговор, в котором обсуждалось, не следует ли прислать в Редлендз небольшой отряд войск для присутствия в городе во время выборов, против чего, однако, Кортленд тогда возражал из дипломатических соображений. Теперь же он предлагал эту меру в предотвращение общественных беспорядков. Запечатав оба письма, он, чтоб уберечь их от шпионского просмотра местным почтмейстером или его сослуживцами, вверил их одному из приверженцев мисс Салли для отправки через другую почтовую контору, в десяти милях от города, на станции Горький Ручей.
На его горе исполнение этого долга вызвало при его физической расслабленности такую реакцию, что он снова оказался во власти своих чувств и воспоминаний. Давно ли он решительно запретил себе думать о мисс Салли; он находил в себе силы воздерживаться от упоминаний о ней в присутствии ее служанки (считая Софи искусной сиделкой и знатоком лечебных трав, она прислала ее для ухода за ним) и на вопросы о здоровье отвечал вежливо- холодным выражением благодарности. Он решил, что и впредь будет по возможности избегать личного общения, если не снимет с него этого запрета деловая необходимость, какая может возникнуть в связи с последними событиями. Она поймет это так, что он только принимает те доводы, какие она выставила, отклоняя его прежнее искательство. Словом, он прибег к той беспомощной логике, посредством которой мужчина доказывает самому себе, что у него нет причин любить такую‑то женщину, и при этом сам неоспоримо убеждается, что он ее любит. И среди всех этих рассуждений, он, ослабев, уснул, и ему снилось, что они с мисс Салли гуляют по кладбищу; что среди лилий, над которыми склонилась девушка, укрылась мерзкая змея и поднимает свою треугольную голову, готовая ужалить. Но он схватил змею за шею, и борется, и уже почти совсем изнемог, когда вдруг змея обмякла и съежилась, оставшись в его ладони маленькой скомканной и пахнущей тонкими духами нитяной перчаткой, той самой, которую он когда‑то стянул с руки мисс Салли.
Когда он проснулся, запах, казалось, еще носился в воздухе, отличный от свежих, но более привычных ароматов сада, проникающих в окно. Ощущение приятной прохлады приходило с предвечерним ветерком, под которым косые планки шторы чуть подрагивали с сонным жужжанием, похожим на гудение пчелы. Южный закат в своем золотом великолепии разузорил дешевые обои на стене силуэтами листьев и огненными арабесками. Но не это одно — что‑то еще, некое властное воздействие или незримое чье‑то присутствие наполняло его покоем, и он не смел пошевелиться, боясь рассеять чары. На кресле в ногах его кровати никто не сидел — Софи вышла. Он не поворачивал головы, чтоб поглядеть кругом; но его медленный взгляд бесцельно упал на коврик у кровати, и глаза вдруг широко раскрылись, потому что там, на коврике, покоилась «самая маленькая ножка в штате».
Он оперся на локоть, но легкая рука мягко и все же крепко легла ему на плечо, и с тихим шелестом кисейных юбок мисс Салли поднялась с невидимого кресла у его изголовья и стала рядом.
— Не двигайтесь, полковник, я нарочно села так, чтоб не смотреть вам в лицо, — боялась вас разбудить. Но я сейчас пересяду. — Она подошла к свободному креслу Софи, пододвинула его поближе к кровати и опустилась в него.
— Вы… очень любезны, что пришли, —замялся Кортленд, с усилием отводя глаза от пленительного видения и в какой‑то мере вернув себе холодное спокойствие, — но, кажется, мою болезнь сильно преувеличивают. Право, я уже настолько здоров, что, если бы доктор разрешил, я мог бы встать и приступить к делам. Завтра я, во всяком случае, вернусь к своим обязанностям и надеюсь быть к вашим услугам.
— Иначе говоря, сейчас, полковник, вы не хотите меня видеть, — сказала она шутливо, с легкой искоркой в умных и нежных глазах. — Я так и думала, но так как мое дело не терпит, я пришла с ним к вам. — Она достала из складок платья письмо. К его большому удивлению, это было одно из тех писем, которые он утром отдал своему агенту для отправки, — письмо коменданту, и, к еще большему его негодованию, оно было распечатано.
— Кто посмел? —спросил он, привстав.
Она с полуупреком выкинула вперед свою маленькую ручку.
— Никто, с кем вы могли бы подраться, полковник; всего лишь я. У меня вообще нет обыкновения вскрывать чужие письма, и для себя самой я бы этого делать не стала; я сделала это для вас.
— Для меня?
— Для вас. Я сообразила, что вы можете предпринять, и велела Сэму принести письма сперва мне. Для меня не важно было, что вы напишете своей компании — потому что они вами дорожат и ставят на ту же карту, что и вы. То письмо я вскрывать не стала, но это вскрыла, когда прочла, кому оно адресовано. В нем оказалось то самое, чего я ждала, и вы себя им погубили бы! Потому что, если бы вам прислали сюда солдат, непременно дошло бы до драки! Тише, не шевелитесь, полковник. Вам это нипочем, это в вашем вкусе. Но люди будут говорить, что солдат прислали не в предупреждение бесчинств, а что полковник Кортленд использовал свои старые дружеские связи, чтобы за счет правительства поддержать порядок у себя в имении. Стойте! Стойте, полковник! — приказала, вставая, маленькая своевольница и замахала своими красивыми руками, шаловливо изображая испуг и укоризну. — Не стреляйте! Конечно, вы сами не это имели в виду, но в таком примерно свете южане представят дело нашему правительству. Потому что, — продолжала она более мягко, но с лукавым огоньком в серых глазах, — если вы в самом деле думали, что у негров может явиться нужда в федеральной защите, вам следовало попросить меня написать коменданту о присылке охраны… и не для вас, а для Катона — чтобы он мог безопасно вернуться домой. Вы получили бы cbq- их солдат; я вернула бы своего негра, о чем, мне кажется, —(приняв смиренный вид), — сами вы не очень беспокоитесь; и ни один южаниН слова не сказал бы против. Но последнее время, —(с еще более смиренным видом и старательно разглаживая ручками свою нисколько не примятую юбку), — вы не часто утруждали меня своими советами.
Быстрая и совсем новая мысль озарила Кортленда. Впервые за время их знакомства он вдруг ухватил, что составляло подлинную сущность ее природы. Глядя на нее теперь ясным взором, он понял смысл этой мягкой благосклонности, такой чистосердечной, но всегда поверяемой рассудком, ее независимым интеллектом, этой искренней речи и правдивых этих интонаций. Перед ним стояла истинная дочь своих отцов — племени исконных политиков! Все, что он слышал об их ловкости, такте, об умении все подчинить своим целям, стояло перед ним в живом воплощении и облаченное к тому же в прелесть женственности. Странное чувство облегчения охватило его — может быть, зародившаяся надежда.
— Но каким образом это обеспечит безопасность Ка- тону на будущее? Или послужит защитой другим? — сказал он, подняв на нее глаза.
— Вам, полковник, о будущем можно и не беспокоиться, если, как вы тут сообщаете, вы уходите со службы и вам назначают преемника, — ответила она, принимая более горделивую осанку.
— Но вы же не думаете, что я оставлю вас при таком тревожном положении, — сказал он с жаром. Но вдруг осекся, его лицо омрачилось. — Я забыл, — добавил он, — вы будете под надежной защитой. Теперь ваш… двоюродный брат… всегда подаст вам совет одноплеменника и… и самого близкого человека.
К его несказанному удивлению, мисс Салли наклонилась вперед в своем кресле и зарылась смеющимся лицом в ладони. Когда снова стали видны ямочки на ее щеках, она сказала сквозь смех:
— А не кажется вам, полковник, что в роли миротворца мой двоюродный брат потерпел еще худший провал, чем вы?
— Н–не понимаю, — проговорил с запинкой Кортленд.
— Вам не кажется, — продолжала она, протирая глаза с сокрушенным видом, — что если молодая женщина вроде, скажем, меня, когда ей до смерти наскучил весь этот шум, что вы‑де северянин, а туда же, управляете черномазыми, — если эта женщина захотела бы показать соседям, каким радикалом и аболиционистом может стать такой же, как они, южанин, то она могла бы взять да и послать для образца за Джеком Дюмоном? Нет? Только, видит бог, я никак не думала, что они с Хигби возобновят эту чушь с вендеттой и примутся опять стрелять друг друга.
— И когда вы послали за вашим двоюродным братом, это была только уловка, чтоб оградить меня? — тихо сказал Кортленд.
— Может быть, за ним не пришлось посылать, полковник, — сказала она с оттенком кокетства. — Скажем, я разрешила ему приехать. Он околачивался рядом, потому что у него тут имеется собственность, и он хотел через меня передать ее компании. Я знала, каковы его новые взгляды и идеи, и я подумала, что лучше мне посоветоваться с Чэмпни: как иностранец и давний здешний житель — более давний, чем вы, — он мог бы рассудить беспристрастно. Он случайно ничего вам об этом не говорил — нет, полковник? —прибавила она без улыбки на губах, но с непередаваемой искоркой в глазах.
Кортленд потемнел в лице.
— Говорил, и еще он сказал мне, мисс Даус, что он и сам искал вашей руки, но что вы его отклонили, потому что здешний народ был бы против.
Она быстро вскинула на него глаза и потупилась,
— Вы считаете, я должна была принять его предложение? — медленно проговорила она.
— Нет! Но… знаете… вы мне говорили.. — заторопился он.
Но она уже встала и встряхивала складки платья.
— Мы говорим уже не о делах, полковник, а дела — мое единственное извинение, я только ради них позволила себе прийти к вам и занять место Софи. Сейчас я пришлю ее к вам.
— Но, мисс Даус!.. Мисс Салли!
Она остановилась, колеблясь — неожиданная слабость в такой независимой особе, — потом медленно вытянула из кармана второе письмо, то, которое Кортленд отправлял в компанию.
— Это письмо, как я вам уже говорила, полковник, я читать не стала, потому что я и так знаю, что в нем написано, н. о я решила прихватить с собой и его на случай, если вы передумаете.
Он приподнялся в подушках, когда она живо повернулась к двери; но как ни быстро ее ясное лицо скрылось из глаз, он успел увидеть то, чего ни он и никто другой никогда не видел: лицо Салли Даус залилось краской!
— Мисс Салли! — Он едва не вскочил с постели, но она уже ушла. Снова шорох в дверях — входит Софи.
— Позови ее назад, Софи, живей! — сказал он.
Негритянка покачала своим тюрбаном.
— Эх, золотко, чего захотел! Когда мисс Салли говорит: «Я ухожу», — то уж ее назад не повернешь!
— Но, Софи! —Может быть, его подстрекнуло что‑то в выразительном лице девушки; может быть, это был только порыв его забытой юности. — Софи!.. (умоляюще) — …Скажи мне: мисс Салли помолвлена со своим двоюродным братом?
— Еще что! — сказала Софи возмущенно и высокомерно. — Мисс Салли — с этим Дюмоном! С чего бы? Вы с ума сошли! Нет, конечно!
— Ас Чэмпни? Нет? Скажи мне, Софи, есть у нее возлюбленный?
Софи, сверкнув белками, закатила глаза в безмолвном презрении.
— И вы еще спрашиваете! Когда вы тут лежите с ужаленной рукой! Вы тут лежите, и мисс Салли — когда ей довольно свистнуть, и к ней сбегутся первые люди штата — ходит тут вокруг вас и бегает по вашим поручениям, а вы еще спрашиваете! Да! Есть у нее возлюбленный, и, мало того, ей уже с этим не сладить; и ее возлюбленный — вы; и, мало того, вам тоже с этим не сладить. Вы теперь никуда от этого не уйдете — оба вы! — никогда! Она теперь ваша, и вы — ее… Навсегда! Потому что она сосала вашу кровь.
— Что! — крикнул Кортленд в ужасе. Ему представилось, что негритянка вдруг потеряла рассудок.
— Да! Где ваши глаза? Где ваши уши? Кто вы, что вы ничего не увидели и не услышали? Когда вас вытащили ночью из болота… с ужаленной рукой… кто, как не она, — бедное дитя! —эта самая мисс Салли, припала к вам, и приложилась к ране своим детским ротиком, и высосала яд, и спасла вам жизнь, рискуя собственной жизнью? Говорите! И если есть хоть какая‑то правда в ву–ду, разве вы не стали от этого «одна кровь, одна душа»! Ну вас, белый человек! Мне тошно с вами! Ой, да что вы! Лежите тихонько! Вам нельзя, полковник, ради бога! Хорошо, хорошо… я ее позову.
И позвала.
— Смотри‑ка, для меня это… полная неожиданность, — несколько дней спустя сказал Чэмпни, крепко пожимая полковнику здоровую руку, — но я на вас не в обиде, старина, и, ей–богу, это для нее уж такой со всех сторон разумный выбор, такой дельный, что никому, разумеется, и в голову не приходило. Черт возьми, все были настолько уверены, что такую девушку может увлечь только что‑нибудь из ряда вон… и понимаете… вредное, вроде этого ее двоюродного брата, или Хигби, или даже меня, черт возьми, что мы и не подумали посмотреть у себя под носом… не подумали о пользе дела. Да и вы на этот счет всегда выказывали себя таким холодным, неразговорчивым, таким рассудительным! Но я вас поздравляю! Теперь у вас дело будет поставлено на прочной основе, и, что еще важнее, вы получаете единственную женщину, способную его вести.
Говорят, он оказался истинным пророком. Во всяком случае, синдикат процветал, и со временем даже Риды и Хигби сочли небезвыгодным вступить в него. Расовых бесчинств больше не происходило; только на следующих выборах по районам голосование прошло мирно и дало демократам не столь внушительное большинство. Не было недостатка в тех, кто утверждал, что полковник Кортленд сделался попросту управляющим делами у миссис Кортленд; что она его проглотила целиком, как всех, кто подпадал под ее влияние, и что она не успокоится, пока не проведет его сенатором (представительствующим от миссис Кортленд) в конгресс. Но когда я в последний раз — десять лет назад — обедал у них в Вашингтоне, я нашел их довольными и счастливыми, и мне запомнилось, что замечания миссис Кортленд об интересах федерации и штата, о постановке женского образования и о домоводстве были отменно умны и практичны.
1 То есть «патрули» — дозоры местной полиции, раньше проводившие слежку за рабами (Прим. автора).
НАИВНОЕ ДИТЯ СЬЕРРЫ
I
Мы все затаили дыхание, когда дилижанс, взобравшись на перевал, помчался в полутьме через седловину Гэллопера. Громоздкая карета превратилась в огромную бесформенную тень. Оба фонаря по бокам были предусмотрительно погашены, и Юба Билл только что учтиво извлек из губ сидящего наверху пассажира дымящуюся сигару, посредством которой тот явно хотел показать всем свое хладнокровие. Ибо прошел слух, что банда Рамона Мартинеса, орудующая на дороге, подстерегает нас на втором уступе, дожидаясь, когда наши огни покажутся на перевале, чтобы напасть на нас в зарослях у спуска. Если нам удастся взять перевал незамеченными и выбраться из зарослей, прежде чем они нас настигнут, мы спасены. Если даже они и погонятся за нами, это будет только бешеная скачка со всеми преимуществами на нашей стороне. Громоздкий кузов кареты болтался из стороны в сторону, кренился, подскакивал и нырял, но Билл твердо держался дороги, хоть он и не мог ее видеть, но, как сказал шепотом почтовый курьер, он ее нюхом чует.
Мы чувствовали, как мы вдруг иногда повисали над самым откосом, спускавшимся отвесной стеной на тысячу футов туда вниз, к вершинам гигантских сосен, но мы знали, что то же самое чувствует и Билл. Едва различимые головы лошадей, сомкнутые в клин натянутыми ремнями вожжей, казалось, врезались в мрак, как лемех плуга, под его напруженными руками. И даже неистовый топот шестерки лошадей слился в какой‑то смутный, отдаленный непрекращающийся стук. Но вот наконец перевал остался позади и мы нырнули в еще более густую темь лесной чащи. Как будто мы вдруг перестали двигаться — лишь эта призрачная мгла стремительно летела мимо. Лошади словно погрузились в быстротечные Летейские воды; только верх дилижанса и неподвижная фигура Юбы Билла выступали впереди. Однако даже и в эти страшные минуты мы мчались все с той же бешеной скоростью. Казалось, Билл уже перестал править, а только гнал; как будто уже не его, а чьи‑то чужие руки направляли этот громадный рыдван. У какого‑то неосторожного пассажира нечаянно вырвалось шепотом: «А что, если налетим на встречный?» — и все невольно поежились. К великому нашему удивлению, Билл услышал эти слова, но еще больше нас удивило, что он тут же отозвался на них.
— Тогда, значит, оба в тартарары полетим, посмотрим, кто первый, — невозмутимо промолвил он.
А у нас отлегло на душе, потому что он заговорил. И чуть ли не в эту же минуту впереди смутно забелела широкая проезжая дорога; деревья на нашем пути стали расступаться, редеть, исчезая одно за другим. Перед нами открылось широкое плато, — мы были вне опасности; как видно, нас не заметили и никакой погони за нами не было.
Однако среди оживленных разговоров, возобновившихся, как только зажгли фонари, шуток, поздравлений и возгласов Юба Билл сохранял угрюмое и даже сердитое молчание. Никакие восторженные похвалы его мужеству, его искусной езде не вызывали у него никакого отклика.
— Видно, старику не терпелось подраться, вот он теперь и досадует, — сказал кто‑то из пассажиров.
Но те, кто знал, что Билл как настоящий боец презирает бессмысленную драку, наблюдали за ним не без тревоги. Минут пять–шесть он правил с каким‑то напряженным видом, сосредоточенно сдвинув брови, но зорко поглядывая по сторонам из‑под своей низко надвинутой шляпы, потом вдруг откинулся и с раздражением мотнул головой.
— Ты чего‑нибудь опасаешься, а, Билл? —тихонько спросил его почтовый курьер. Билл бросил на него недоуменный и несколько презрительный взгляд.
— Впереди теперь нечего опасаться, а вот насчет того, что прошло, скажу прямо, не знаю. Бандой Рамона нынче на дороге и не пахло, непохоже, что они нас где- то стерегли, а ежели стерегли, чего ж они тогда за нами не погнались?
— А что же удивительного, просто наша хитрость удалась, — сказал кто‑то из сидящих наверху. — Они караулили наши огни на перевале, а их не было, вот они нас и пропустили! По моему мнению, иначе и быть не может.
— А вы на этом вашем мнении не желаете заработать? —учтиво осведомился Билл.
— Н–нет.
— А то есть такая газетка во Фриско, она за такие штуки платит. Я там и не такое читывал.
— Да ну полно вам, Билл — возразил путник, несколько уязвленный хихиканьем сидящих рядом. — А для чего же вы тогда погасили фонари?
— Фонари, — мрачно промолвил Билл. — Может, я потому их погасил, что опасался, как бы кто из вас не выпалил в первый попавшийся куст, потому как вам со страху могло померещиться, что он движется, вот тут бы они нам и всыпали.
Хотя нас и не совсем удовлетворило это объяснение, нельзя было не признать его более или менее правдоподобным, и мы все засмеялись. Но Билл снова насупился и замолчал.
— Кто сел на заставе до перевала? — внезапно обратился он к почтовому курьеру.
— Деррик и Симпсон с Холодного Ключа да еще один из этих, знаешь, из «Эксельсиора», — отвечал курьер.
— А эта девушка Даус–Флет со всеми ее коробами, ее не забудьте, — насмешливо добавил пассажир с империала.
— Ее кто‑нибудь знает здесь? — не обращая внимания на его насмешливый тон, продолжал допрашивать Билл.
— Вы лучше судью Томпсона спросите, он все около нее хлопотал, усадил ее возле первого окна и узлы и сундуки ее запихивал.
— У окна… — повторил Билл.
— Да, ей хотелось так, чтобы все видно было, а что стрелять будут, она не побоялась.
— Да, да, — вмешался третий пассажир, — он так уж за ней увивался, что, когда она обронила кольцо на пол, в солому, он против всех ваших правил спичку зажег и светил ей, пока она не нашла. И это было как раз, когда мы сквозь заросли мчались, а я все в окно видел, потому как я в это время совсем по пояс высунулся и ружье наготове держал. И тут уж не судьи Томпсона вина, что нас его юбочное легкомыслие не выдало и под пули не подвело.
Билл только коротко хмыкнул и, не сказав ни слова, даже не взглянув на говорившего, молча продолжал путь.
Нам оставалось ехать не больше мили до почтовой станции на разъезде, где мы должны были остановиться, чтобы сменить лошадей. Вдали уже замелькали огни, а вершины горного кряжа на западе начали чуть–чуть проступать в предрассветной мгле. Мы только что спустились в рощу, как вдруг откуда‑то сбоку, по–видимому, с рядом идущей тропы, на дорогу на всем скаку вылетел всадник. Мы все немножко струхнули. Один только Юба Билл сохранял мрачную невозмутимость.
— Хэлло! —окликнул он.
Незнакомец круто повернул и поехал рядом с нами, а Билл сбавил ходу. Оказалось, это поставщик, развозивший товары на муле.
— Ну как, не обчистили тебя за перевалом? —шутливо спросил Билл.
— Нет, — смеясь, отвечал поставщик. — Я казны не вожу. Ну и вас, как видно, бог миловал. Я видел, как вы с перевала спускались.
— Нас видел? — живо спросил Билл. — Мы же без огней ехали.
— Да, но у вас что‑то белое в окне трепыхалось, платок носовой либо женская косынка. Я еду, гляжу, словно какое‑то пятнышко белое по горе движется, ну а так как я все высматривал, когда вы покажетесь, я по нему и понял, что это вы. Ну, счастливо вам доехать!
И он поскакал вперед. Мы поглядывали друг на друга и на Билла, стараясь уловить в темноте выражение его лица, но он не проронил ни слова и сидел, не шевельнувшись, до тех пор, пока не опустил вожжи и мы не остановились у станции. Верхние пассажиры тут же соскочили, и почтовый курьер уже собирался последовать за ними, но Билл дернул его за рукав.
— Прежде чем мы отсюда выедем, я хочу оглядеть дилижанс и всех наших пассажиров с тобой проверить.
— А что такое? Что случилось?
— А вот что, — сказал Билл, медленно стаскивая одну из своих громадных рукавиц. — Когда мы спускались в заросли, я видел, как из‑за кустов вышел какой‑то тип, видел вот так же, как сейчас тебя вижу. Я подумал, ну вот сейчас начнется, тут‑то они на нас и навалятся, а он вдруг отступил, подал какой‑то знак, и тут мы уже промчались.
— Ну и что?
— А то, — сказал Билл, — это значит, наша карета нынче пропуск на проезд получила.
— Надо полагать, ты не против этого? Я так думаю, нам здорово повезло.
Билл медленно стащил другую рукавицу.
— Я на этой проклятой дороге три раза в неделю своей жизнью рискую, — начал он каким‑то фальшиво смиренным тоном, — и всякий раз, как судьба меня милует, бога благодарю. Но, — мрачно продолжал он, — когда дело доходит д. о того, что мне разрешается проехать, потому что приятель какого‑то конокрада велел нас на этот раз пропустить, и это надо считать милостью провидения, — нет, на это я не согласен. Нет, сэр, не согласен.
II
Когда стало известно, что самовластный Юба Билл распорядился задержать дилижанс на четверть часа, чтобы подтянуть какие‑то болты, пассажиры отнеслись к этому по–разному. Одним не терпелось добраться поскорей до Соснового Дола и позавтракать, другие были не прочь задержаться, глядишь, посветлей станет и ехать спокойней.
Почтовый курьер, который знал истинную причину задержки, все же никак не мог взять в толк, чего собственно думает этим добиться Билл. Все пассажиры ему известны, о каком‑то сговоре с грабительской шайкой даже подумать немыслимо, этакая дичь, но, если бы среди них и оказался такой соучастник, он, во всяком случае, скорей бы способствовал ограблению, а не помешал ему. И, наконец, разоблачить такого соучастника, которому они как‑никак явно обязаны тем, что их не тронули, упечь его в тюрьму, это, конечно, не против закона, но, во всяком случае, противоречит калифорнийскому понятию справедливости. Похоже, Билл малость с панталыку сбился с этими своими дурацкими рассуждениями насчет чести.
Почтовый двор представлял собой конюшню, сарай для карет и небольшое помещение из трех комнат. В первой комнате, заставленной деревянными койками, спали служащие, во второй была кухня, а третья, более просторная, считалась столовой или гостиной, она же служила залом ожидания для пассажиров. Это была станция без буфета, здесь не было даже и стойки. Но по магическому слову всемогущего Билла откуда‑то появилась бутыль виски, которую он радушно предложил распить всей компанией. Возбуждающее действие спиртного развязало язык галантному судье Томпсону. Он признался, что он, правда, зажег спичку, чтобы помочь хорошенькой уроженке штата Миссури найти колечко, которое, как потом оказалось, упало к ней на колени. Эта пышущая здоровьем, красивая, молодая девушка — таких только на Дальнем Западе встретишь — настоящий цветок прерий, и такая простота и невинность — сущий ребенок. Она едет, кажется, в Мэрисвилл, ее где‑то дорогой должны встретить друзья или, вернее, друг. С тех пор, как она три года тому назад переселилась сюда, на Запад, она первый раз едет в большой город или, скажем прямо, в какой‑либо более или менее цивилизованный район. Ее детское любопытство просто умилительно, и такая подкупающая наивность. Словом, он дал понять, что здесь, у нас, где самый уклад жизни, можно сказать, поощряет в молодых девицах легкомыслие и развязность, эта юная особа показалась ему очень приятной. Она и сейчас осталась в конюшне посмотреть, как запрягают лошадей — такое естественное детское любопытство; ей это гораздо интересней, чем слушать пустые любезности молодых пассажиров.
Особа, которую Билл застал за ее наблюдениями в конюшне, не отличалась никакой особенной красотой, но, впрочем, вполне оправдывала мнение о ней судьи. Это была пышнотелая деревенская девушка, ее ясные серые глаза, большой смеющийся рот — все говорило о здоровом неистощимом довольстве жизнью и всем окружающим. Она смотрела, как перекладывают багаж. Когда какой‑то ее короб неосторожно закинули наверх и она невольно вскрикнула, Билл не упустил случая вмешаться.
— А ну ты там! — рявкнул он на помощника. — Камни, что ли, швыряешь! Поосторожней надо. Это ваши вещи, мисс? — с грубоватой учтивостью обратился он к девушке. — Вот эти сундуки?
Она мило улыбнулась и кивнула, а Билл оттолкнул помощника и подхватил громоздкий сундук. Но то ли от чрезмерного рвения, то ли по несчастной случайности, он споткнулся и упал, стукнул углом сундука оземь; скобы и петли, державшие замок, отскочили, и крышка откинулась. Это был простой, дешевый сундук, но из‑под отлетевшей крышки вылез наружу целый ворох белых женских нарядов, отделанных кружевом и по виду чрезвычайно изысканных. Девушка опять вскрикнула и бросилась к сундуку, но Билл рассыпался в извинениях^ сам перетянул разбитый сундук ремнями и пообещал стребовать с почтовой конторы в качестве возмещения убытков новый сундук. Затем он проводил ее в зал ожидания и, согнав со стула, то есть попросту подняв за ворот самого молодого пассажира, усадил ее возле камина, а сам оттолкнул в сторону другого, стоявшего рядом, стал прямо перед ней на его место и, поглядывая на нее с высоты своих шести футов, достал из кармана свою подорожную со списком пассажиров.
— Вы значитесь у меня здесь под именем мисс Мэллинс? —сказал он.
Девушка подняла на него глаза и сразу почувствовала, что на них устремлено внимание всех собравшихся кругом пассажиров дилижанса. Она чуть–чуть покраснела и ответила:
— Да.
— Так вот я должен вас кое‑что спросить, мисс Мэллинс. Я делаю это прямо, на виду у всех. Мое право — расспросить вас с глазу на глаз, но это не в моих правилах, я не сыщик. Я мог бы вас и вовсе не спрашивать, а поступить так, будто я наперед знаю, что вы ответите, или подождать, чтобы вас спросили другие. И вы можете и вовсе не отвечать, если вам неугодно, у вас здесь найдутся заступники; вот судья Томпсон хотя бы, прав он будет или неправ, да и все они тут за вас вступятся, словно бы вы сами себе присяжных на суде подобрали. Так вот я вас спрашиваю попросту: подавали ли вы кому‑нибудь знак из дилижанса, когда мы час тому назад проезжали через перевал?
Нам показалось, что Билл при всей его смелости и дерзости на этот раз зашел слишком далеко. Открыто и публично обвинить «даму» в присутствии рыцарственных калифорнийцев, да еще когда эта «дама» — юная, миловидная, простодушная девушка, — это граничит с безумством. Все были явно на стороне хорошенькой пассажирки, откуда‑то справа послышались негодующие возгласы, но все были так ошеломлены неслыханной дерзостью Билла, что в первую минуту просто остолбенели.
— Послушайте, Билл, я должен сказать в защиту этой юной особы… — начал было судья Томпсон с мягкой, примиряющей улыбкой, но тут хорошенькая обвиняемая подняла глазки на своего обвинителя, и все так и ахнули, когда она с робкой нерешительностью, как бы подтверждающей ее правдивость, ответила:
— Да, подавала.
— М–да. Но, позвольте, — поспешно вмешался судья. — Вы… вы просто высунули руку в окно, и ваш платочек развевался на ветру. Я и сам заметил, но это же у вас вышло нечаянно, ну вы просто так, баловались — без какого‑либо определенного намерения.
Девушка нетерпеливо, но вместе с тем с каким‑то гордым видом смотрела на своего защитника.
— Я подавала знаки, — коротко сказала она.
— Кому вы подавали знаки? — сурово спросил Билл.
— Молодому человеку, за которого я выхожу замуж.
Движение в толпе и смешки молодых пассажиров были мгновенно пресечены свирепым взглядом Билла.
— Для чего вы подавали ему знаки? —продолжал он.
— Сообщить, что я здесь и что все обошлось хорошо, — покраснев, отвечала девушка все с тем же гордым видом.
— А что хорошо обошлось? — не отставал Билл.
— Что за мной не гонятся и что он может встретить меня на дороге после Кэсс–Ридж. — Она немножко замялась, а потом с еще большей гордостью, в которой было что‑то по–детски вызывающее, продолжала: —Я убежала из дому, чтобы выйти за него. И выйду. Никто меня не удержит. Папаша его не любит, потому что он бедный, а у папаши много денег. Он хотел меня выдать за человека, которого я терпеть не могу, и надарил мне всяких нарядов и платьев, чтобы подкупить меня.
— А вы, значит, их в вашем сундуке к тому парню везете? — мрачно заметил Билл.
— Да, он бедный, — вызывающе отрезала девушка.
— Так, значит, фамилия вашего отца Мэллинс? — спросил Билл.
— Нет, не Мэллинс. Это я так… сама назвалась, — отвечала она нерешительно и впервые за все время явно смутившись.
— А как же отца зовут?
— Эли Хеммингс.
Все переглянулись с облегчением, и многозначительная усмешка поползла по губам. Слава Эли, или Живодера Хеммингса, известного ростовщика и скупердяя, проникла даже за перевал.
— Мне нечего говорить вам, мисс Мэллинс, что шаг, на который вы решились, — это шаг исключительной важности, — сказал судья Томпсон с отеческой внушительностью, которую, как мы все видели, он тщился напустить на себя, — и я надеюсь, что вы с вашим женихом взвесили это должным образом. Я, конечно, далек от того, чтобы подвергать сомнению ваши чувства или препятствовать естественной взаимной склонности двух молодых людей, но я бы хотел спросить вас, что вы знаете об этом… мм… молодом человеке, ради которого вы жертвуете столь многим и, быть может, даже рискуете всем своим будущим? Ну скажите хотя бы, давно ли вы с ним знакомы?
Ее несколько испуганный вид, в котором было что‑то детски недоуменное, как будто она силилась понять, к чему ведет это вступление, сменился улыбкой радостного понимания, и она поспешно ответила:
— О да, уже почти целый год.
— А у него есть какая‑нибудь профессия? —с улыбкой продолжал судья. — Он где‑нибудь служит?
— Да, да, — отвечала она, — он сборщик.
— Сборщик?
— Да, он собирает плату, ну, знаете, деньги, — пояснила она с детской готовностью, — конечно, не для себя, он‑то всегда без денег, бедняжка Чарли, а для своей фирмы. Это ужасно тяжелая работа, дни и ночи в разъездах, в любую погоду, в ненастье, по скверным дорогам. Случается, он иной раз урвет время, прискачет на ранчо, просто чтобы повидать меня, ну прямо еле живой, едва в седле держится, а уж на ногах совсем не стоит. И что только ему терпеть приходится, и собой рисковать! Иные чуть ли не в драку лезут, не хотят платить, как‑то раз руку ему прострелили, он ко мне прискакал, я ему помогла кровь унять. Но он не жалуется. Он такой смелый, смелый и добрый… — И такая задушевная искренность слышалась в ее простодушных похвалах, что мы все были глубоко растроганы.
— А для кого он работает сборщиком, для какой фирмы? — мягко спросил судья.
— Я точно не знаю, он мне не говорил, кажется, это какая‑то испанская фирма. Видите ли, — и, глядя на нас с какой‑то лукавой и чуточку озорной улыбкой, она доверчиво посвятила нас в свой секрет, — я только потому знаю, что я как‑то раз заглянула в письмо, которое он получил от своей фирмы, ему писали, чтобы он не мешкая собирался в дорогу и был наготове к следующему дню, и подпись была, кажется, Мартинес, да, да, Рамон Мартинес.
Наступила мертвая тишина, такая тишина, что слышно было, как в конюшне на дворе лошади позвякивают сбруей, и вдруг кто‑то истерически захохотал — это не выдержал молодой клерк из «Эксельсиора», но Юба Билл метнул на него грозный взгляд, и тот словно окаменел, а лицо его превратилось в беззвучно хохочущую маску. Девушка ничего не заметила. Увлекшись воспоминаниями, она продолжала рассказывать со свойственной влюбленным экспансивностью:
— Да, ему очень тяжело приходится, но он говорит, что все это ради меня, а как только мы поженимся, он бросит эту работу. Он и до этого мог бы ее бросить, но он не захотел взять у меня денег и запретил мне просить у отца. Не такой он человек. Он очень гордый — бедный, а гордый, мой Чарли. А ведь деньги мне от мамы достались, она их на меня в банк положила, вот я и хотела их взять — потому как это мое право — и отдать ему, но он и слышать не хочет! Да он и этих вещей, которые у меня с собой, не дал бы мне взять, если бы знал. Вот так он вечно в разъездах, мотается то туда, то сюда, издергался весь, сам не свой стал, такой худой, бледный, как привидение, и всегда‑то он в беспокойстве из‑за своей службы; бывает, сойдемся мы с ним где‑нибудь в Южном Бору или на дальней вырубке, вдруг его точно что- то толкнет, пора, говорит, Полли, ехать надо, а сам делает вид, будто все гладко. Ведь вот он, должно быть, десятки миль проскакал, чтобы попасть нынче к перевалу да подстеречь дилижанс в зарослях до спуска — и только чтобы узнать, все ли у меня благополучно. Господи боже! Да если бы мне тут же после этого умереть, я бы ему все равно знак подала и свет засветила! Вот, я вам все сказала, что я знаю про Чарли, и почему я из дому сбежала, да, сбежала к нему, и пусть хоть весь свет об этом знает. Я только жалею, что раньше этого не сделала — и сделала бы, да если бы… если бы он только меня попросил…
Тут голос ее прервался, она задохнулась, судорожно глотнула воздух, и вдруг мгновенно, как это бывает только в очень юном возрасте, словно какая‑то тень прошла по ее оживленному, улыбающемуся личику, оно внезапно омрачилось, черты ее дрогнули, и она разразилась слезами.
Вот тут‑то, мне кажется, мы все окончательно и размякли, Растерянно улыбаясь, мы переглядывались молча, с тем неестественным видом мужского превосходства, которое в такие минуты горько сознает всю свою беспомощность. Мы глазели по сторонам, выглядывали в окно, сморкались, бормотали бессвязно: «Ну как? Что… м–да…» И как мы ни были удивлены, но все почувствовали великое облегчение, когда Юба Билл, который, повернувшись спиной к простодушной рассказчице, тыкал носком сапога поленья в камине, внезапно сорвался с места и погнал нас всех к дилижансу, и мы всей толпой вывалились за дверь, оставив мисс Мэллинс одну. Он отошел на несколько шагов с судьей Томпсоном, затем вернулся к нам и категорически потребовал ни под каким видом ни слова не говорить мисс Мэллинс об этом для всех понятном деле; после этого он быстро прошел в помещение и тотчас же вышел вместе с молодой девушкой и замахал на нас руками, когда мы при виде ее невинного личика, вновь прояснившегося и румяного, невольно разразились дружным идиотическим ура. В следующую секунду он уже сидел на козлах, и мы покатили.
— Так, значит, она не знает, кто такой этот ее возлюбленный? — не утерпев, спросил почтовый курьер.
— Нет.
— А ты‑то наверняка знаешь, что он из этой банды?
— Наверняка не скажу. Может быть, это тот паренек из Йоло, который попался в лапы зубру из Сакраменто и тот обчистил его в фаро, остриг наголо, вот он и примкнул к банде, деньги на игру добывать. Говорят, в этом ограблении в Килей орудовал какой‑то чужак, похоже, отчаянный малый, здоровая там стрельба шла с обеих сторон, может, тогда и на его долю попало, помнишь, она про его руку нам говорила. Если это тот самый… я слышал, будто отец у него какой‑то важный священнослужитель в Штатах, а сам он учился в колледже и вот попал в игорный дом во Фриско и свихнулся на картах, самого себя проиграл. Такому только раз оступиться— он пойдет куролесить. По мне лучше водить компанию с сыном висельника, — раздумчиво прибавил он, — оно куда спокойнее и надежнее.
— Ну и что ж ты теперь думаешь делать?
— Посмотрим, как поведет себя этот молодчик, который ее встретит.
— Но не будешь же ты пытаться его задержать? Это было бы уж просто подло от отношению к ним обоим…
— Не кипятись, Джимми… Мы с судьей просто постараемся обломать этого юного балбеса, когда он явится за своей милой. Если он признает, что его дьявол попутал, покается перед богом и даст слово вернуться на путь истинный, мы его тут же на следующей станции обвенчаем с его возлюбленной, и сам судья, безо всякой платы, обрачит их честь по чести. И тогда, значит, ее побег из дому не будет противозаконным и с нашей подорожной все будет в порядке — вот так‑то!
— А ты что же думаешь, он так тебе сам в руки и дастся?
— Полли ему знак подаст, что все в порядке.
— А–гм, — протянул почтовый курьер.
Но за эти несколько минут, что длился их разговор, они словно поменялись характерами. Курьер сидел, уставившись прямо перед собой, с критически недоверчивым и даже каким‑то циническим видом. А лицо Билла разгладилось: с невозмутимой уверенностью он спокойно погонял лошадей и время от времени что‑то вроде умильной улыбки проступало у него на губах.
Между тем кругом на вершинах гор уже разгорался день, но в глубокой низине, куда мы спустились, свет едва пробивался, туманный, неверный. В хижинах и в изредка попадавшихся на пути ранчо, вокруг которых уже теснились целые поселки, еще светились огни. Но самая густая мгла окутала нас, когда мы углубились в небольшую рощу, и вот тут‑то Юбе Биллу вручили переданную по рукам из кареты записку от судьи Томпсона, и Билл сразу осадил лошадей и замедлил езду. Наконец у маленького развилка дилижанс остановился. И в ту же минуту мисс Мэллинс выскользнула из кареты и, помахав рукой судье, который помог ей сойти с подножки, бросилась бегом по тропинке и скрылась в полутьме. Дилижанс, к нашему удивлению, остался стоять на месте. Билл с невозмутимым видом сидел, опустив вожжи. Прошло пять минут — целая вечность ожидания, и при этом в мучительной, как немота, тишине, ибо на физиономии Юбы Билла было ясно написано: никаких расспросов. Но вот наконец чей‑то незнакомый голос позади на дороге прервал эту тишину.
— Трогай… Мы следуем за вами.
Дилижанс двинулся. Нам слышно было, как позади поскрипывают чужие колеса. Мы все то и дело оборачивались и, вытягивая шеи, старались разглядеть через плечо таинственного незнакомца, но в слабо пробивающемся свете нам видно было только движущуюся позади двуколку и две сидящие в ней фигуры. Конечно, Полли и ее возлюбленный! Мы надеялись, что они нас обгонят. Но, хотя лошадь у них была резвая, расстояние между нами и двуколкой не уменьшалось. Ясно было, что ее возница отнюдь не желал удовлетворить наше любопытство. Почтовый курьер снова обратился к Биллу.
— Ну как, это тот самый, про которого ты и думал? — с жадным любопытством спросил он.
— Похоже, что да, — коротко ответил Билл.
— А что им теперь помешает укатить вдвоем и скрыться подобру–поздорову? —продолжал курьер, снова впадая в свой прежний скептический тон.
Билл со свирепой усмешкой ткнул рукой в сторону багажного ящика.
— Пожитки ее.
— О! — произнес курьер.
— Да, — продолжал Билл. — Мы придержим эти ее кружевца да финтифлюшки, пока не сделаем того, что положено, а вот когда церемония свершится, мы тут и вручим ей все честь по чести, вроде как бы из родительских рук. И больше того, парень, — внезапно повернувшись к курьеру, внушительно прибавил он, — ты сам отправишь ее сундуки в Сакраменто со всеми вашими почтовыми ярлыками и печатями и дашь ей на руки квитанции, чтобы она могла получить все на месте. Это удержит его от соблазна снестись с бандой, покуда они еще отсюда не выбрались и на мест. о не попали, а там уже он среди честных людей и сам образумится. Уж ежели ваш седовласый старикан, или, сказать попросту, старый пропойца Юба Билл, тот, что перед вами сидит, — продолжал он, грозно прищурившись на курьера, — берется помочь юной чете, которая только еще вступает в жизнь, он скаредничать не будет, нет, можете мне поверить. Он свое дело сделает, все до конца доведет. Самая незадачливая судьба — и та перед ним отступится.
Когда станционная гостиница и разбросанный поселок Соснового Дола, который теперь уже ясно вырисовывался в утреннем свете, вырос наконец перед нами на расстоянии ружейного выстрела, экипаж, ехавший сзади, внезапно вырвался вперед и промчался мимо нас так стремительно, что лица сидящих только мелькнули, и двуколка уже оказалась ярдов на двадцать впереди и тут же остановилась у подъезда гостиницы. Молодая девушка и ее спутник выпрыгнули из экипажа, и когда мы подъехали к гостинице, они уже скрылись в дверях. По–видимому, они твердо решили ускользнуть от наших любопытных взглядов и преуспели в этом.
Но здоровый аппетит путников, разыгравшийся от свежего горного воздуха, оказался сильнее их любопытства, и так как в ту минуту, когда остановился дилижанс, уже раздался гонг к завтраку, большинство пассажиров сразу ринулось в столовую занимать места, забыв на время об исчезнувшей паре, о судье и Юбе Билле, которые, кстати сказать, тоже исчезли.
Почтовая карета на Мэрисвилл и Сакраменто уже стояла наготове, ибо Сосновый Дол был конечным пунктом вождения Юбы Билла и дилижанс, который нас сюда доставил, не шел дальше. Прошло минут двадцать, когда мы заметили, что в холле и на веранде поднялась какая‑то не лишенная торжественности суета и появились Юба Билл и судья. Судья с несколько церемонной галантностью вел под руку статную мисс Мэллинс, а Юба Билл шел рядом с ее спутником. Они направлялись к экипажу. Мы все ринулись к окнам, чтобы рассмотреть хорошенько таинственного незнакомца и, по всей вероятности, бывшего бандита, связавшего свою жизнь с нашей хорошенькой спутницей. Боюсь, однако, что всех нас охватило какое‑то смешанное чувство разочарования и опасения. Красивый и даже вполне приличный на вид, он, безусловно, производил впечатление здорового человека в расцвете молодости и сил. Но в выражении его лица было что‑то пристыженное и вместе с тем вызывающее, и к этому примешивалась какая‑то скрытая опасливая настороженность; словом, в нем было что‑то очень неприятное и отнюдь не подобавшее жениху, тем более обладателю такой невесты. Но открытое, радостное, невинное личико Полли Мэллинс, сиявшее простодушной доверчивостью и счастьем, снова привело нас в такое умиление, что мы невольно простили прегрешения ее друга. Мы помахали им руками, и, если бы не вездесущее око Юбы Билла, грозно устремленное на нас, мы, несомненно, проводили бы их троекратным «ура». Хорошо, что мы этого не сделали, потому что нас тут же позвали, и в следующую минуту мы очутились перед лицом нашего мягкосердого тирана. Он был наедине с судьей в отдельном номере и встретил нас, стоя у стола, на котором красовался поднос с графином и бокалами. Когда мы один за другим вошли в комнату и, закрыв дверь, остановились выжидательно, он с некоторым сомнением окинул нас снисходительным взглядом.
— Джентльмены, — медленно начал он, — вы все присутствовали при завязке этого маленького представления, разыгравшегося нынче утром, и вот судья считает, что, по справедливости, вас следует допустить и к финалу. Я‑то, по правде сказать, держусь другого мнения, по–моему, кой черт вам соваться в это дело, но раз уж судья решил посвятить вас в секрет, вот я и позвал вас выпить на прощание за здоровье мистера и миссис Чарли Бинг, которые сейчас благополучно отправились вить свое супружеское гнездышко. Что вы там знаете или подозреваете насчет этого молодого шалопая, который женился на нашей юной пассажирке, это ровным счетом ничего не значит, и никому до этого дела нет. Но вот судья наш считает, что все вы тут, не сходя с места, должны дать обещание держать это про себя. Так он на это смотрит. Ну, а что касается меня, — каким‑то умильным, почти задушевным тоном продолжал Билл, — я, джентльмены, скажу вам попросту, так, между прочим: если я только услышу, что какой‑нибудь отпетый, обиженный богом вислоухий балда, идиот распустил язык…
— Минуточку, Билл, — с мягкой улыбкой перебил его судья, — позвольте я объясню. Вы понимаете, джентльмены, — сказал он, повернувшись к нам, — какое это было исключительное и, я бы сказал, тягостное положение вещей, и вот теперь благодаря стараниям и участию нашего доброго друга оно, надо надеяться, счастливо разрешилось. Так вот, я хочу вам сказать, что, с моей чисто профессиональной точки зрения, в его просьбе к вам нет ничего такого, чего бы вы, как достойные, законопослушные граждане, не вправе были бы выполнить. Я хочу сказать, что вы не нарушите этим никаких установлений закона. У нас нет никаких сколько‑нибудь достоверных данных, которые могли бы свидетельствовать о прежних преступных действиях мистера Чарльза Бинга, если не считать того, что мы слышали из уст его невинной возлюбленной, которая теперь, по законам этого штата, став его законной супругой, не может свидетельствовать ни за, ни против своего мужа. Что же касается его поведения, которому мы были свидетелями, то если даже и представить себе, что оно совместимо с его прежними проступками, оно во всяком случае искупает их. Короче говоря, ни один судья не привлечет к суду и никакой суд присяжных не станет судить по такому свидетельству. Если добавить к этому, что молодая девушка в совершеннолетнем возрасте, и что она не только не обнаруживает никаких следов дурного влияния своего жениха, а наоборот, и что я как полномочное должностное лицо был счастлив узаконить их союз, я полагаю, что вы ради невесты охотно дадите обещание молчать и дружно поднимете тост с пожеланием счастливой жизни обоим.
Нечего говорить, что мы сделали это с величайшей готовностью, так что Билл остался нами вполне доволен и даже одобрительно крякнул.
Затем большинство присутствующих, все те, кому предстоял путь в Сакраменто, стали прощаться, и, когда мы вышли на веранду проводить их, мы увидели уже водруженные на их дилижанс сундуки мисс Мэллинс с печатями и ярлыками всесильной почтовой компании. И тут щелкнул бич, карета покатила, и последние следы юной романтической пары исчезли в облаке красной пыли, поднятой колесами дилижанса.
Но Юба Билл долго еще продолжал угрюмо изъявлять свое удовлетворение счастливой развязкой. Он даже превысил обычную порцию своих предусмотрительно рассчитанных возлияний и теперь, удобно расположившись у стойки, спиной к опустевшему бару, с несвойственной ему словоохотливостью беседовал с почтовым курьером.
— Ты видишь теперь, — говорил он, не без удовольствия припоминая кое–какие подробности, — уж если старый дядюшка Билл взялся за такое дело, он тут же его, не меняя лошадей, за один рейс до конца доведет.
А был момент, когда я было уже совсем думал, не вывезем. Это когда мы решили заставить этого малого открыться своей милой, каким он ремеслом промышлял. Вот ежели бы она от него тут отшатнулась или мы увидели бы, что на нее страх напал и она не знает, на что решиться, мы бы его мигом спровадили, чтобы и духу его тут не было, а девчонку со всеми ее финтифлюшками отправили бы обратно к папаше. Но она только вскрикнула, затряслась и тут же бросилась ему на грудь, вся в слезах, говорит, ничто на свете их не разлучит, и плачет, и смеется, ну, словом, истерика. Ей–богу, мне даже показалось, что он за свои дела больше нее стыдится, словно ему совестно стало, что она за такого замуж пойдет. Я думал, он вот–вот отступится, ну как‑то потом обошлось, и мы их окрутили накрепко, честь по чести. Теперь уж у него отобьет охоту к этим ночным забавам, на всю жизнь запомнит, и если округа в долине, где они осядут, пополнится не таким уж кладом, по крайней мере хоть в ущельях Сьерры одним молодчиком из банды Рамона Мартинеса станет меньше.
— Что там еще о банде Рамона Мартинеса? — спросил чей‑то спокойный, властный голос.
Билл быстро обернулся. Это был местный инспектор почтовой компании — чрезвычайно решительный человек, один из немногих, кого самовластный Билл признавал себе равным, — он только что вошел в бар. По его запыленному плащу и шляпе видно было, что он с утра в объезде.
— Пожалуй, не откажусь, Билл, — отвечая на пригласительный жест Билла, сказал он, подходя к стойке. — Оно что‑то знойко на дороге. Так что же это вы тут такое о банде Мартинеса говорили? Уж не повстречался ли вам кто‑нибудь из них?
— Нет, — чуть прищурившись, отвечал Билл, медленно поднимая свой бокал и словно разглядывая его на свет.
— И не повстречается больше, — сказал инспектор, не спеша потягивая виски. — Дело в том, что банда эта, в сущности, села на мель. И не потому, что ей промышлять нечем, а потому, что трудно стало сбывать плоды этого промысла. С тех пор как по всем скупочным пунктам отдан приказ проверять происхождение каждой крупицы золота, поступающего к нам, и в слитках и в песке, этим молодчикам некуда стало податься со своей добычей. В любом пункте агенты каждого из них знают в лицо, а связаться с перекупщиком или с барышником, которые берут краденое, —это им не по карману. Теперь все золото, награбленное ими у компании «Эксельсиор», так просто опознать, как если бы на нем стояла печать «Эксельсиора»; сами они плавить это золото не могут и никому поручить тоже не могут; не могут переправить его ни на монетный двор, ни в пробирную палату в Мэрисвилл или Фриско, потому что никто у них его без наших печатей и сопроводительного бланка не примет; а мы по всей этой округе, где действует банда Рамона, не принимаем никаких посылок без засвидетельственной описи, кроме как от наших служащих и хорошо известных людей. Ну вы‑то уж все это знаете, не правда ли, Джим? —внезапно повернувшись к почтовому курьеру, сказал он.
Может быть, оттого, что к нему так неожиданно обратились, курьер поперхнулся и закашлялся.
— Д–а-а, к–конечно, — заикаясь, поспешно пробормотал он, ставя свой стакан.
— Да, сэр, — довольным тоном продолжал инспектор, — здорово они сели на мель. И верное доказательство этого‑то, что они последнее время бросились грабить что ни попадя, просто обыкновенную кладь» вещи пассажиров. Вот на Даус–Флет они только на днях задержали перевозочный фургон и уйму вещей награбили. Я вынужден был поехать туда расследовать это дело. Подумать только: свадебное приданое, массу женских нарядов забрали у новобрачных, богатая молодая чета ехала, только что обвенчались в Мэрисвилле. Ну коли до этого дошло, дальше уж некуда катиться!
Почтовый курьер растерянно повернулся к Биллу, на лице его было написано смятение, Билл, поспешно допив стакан с остатками виски, молча уставился в окно. Затем не торопясь стал натягивать одну из своих огромных рукавиц.
— А вам случайно не приходилось встречаться со старым Живодером Хеммингсом, когда вы были там? — медленно растягивая, но отчетливо выговаривая каждое слово, спросил он.
— Случалось.
— И с дочкой его?
— Нет у него никакой дочки.
— Да ну, такая простушка, наивная кроткая девушка, эдакое дитя природы, — с побуревшей физиономией, но с полной невозмутимостью и дьявольским хладнокровием продолжал допытываться Билл.
— Нет. Я же вам говорю, нет у него дочери. Старик Хеммингс — закоренелый холостяк. Слишком скуп, чтобы содержать кого‑то, кроме себя.
— А из этой банды вы кого‑нибудь знаете? — с невыносимой медлительностью выспрашивал Билл.
— Да, я всех их знаю: Француз Пети, Индеец Боб, Канак Джо, Стилсон–одноглазый, Мозгляк Браун, Джек Испанец и два–три мексиканца.
— А не знаете среди них такого Чарли Бинга?
— Нет, —уже несколько нетерпеливо отрезал инспектор и рассеянно поглядел на дверь.
— Такой смуглый, фатоватый парень, с закрученными усиками, глаза черные, так и шныряют по сторонам, угрюмо–дотошно приставал Билл.
— Нет. Послушайте, Билл, я, знаете, немножко спешу. А вы, я вижу, хотите меня на чем‑то поймать; ну, так уж и быть, доводите вашу шутку до конца, пока что я так и не понял, в чем тут соль.
— Что вы хотите этим сказать? — круто переменив тон, спросил Билл.
— Что? Ну, вы, старина, знаете не хуже меня. Вы же мне сейчас нарисовали точный портрет Рамона Мартинеса. Ха–ха–ха! Нет, на этом вам не удастся меня провести! Как вы ни хитры, Билл, а на этот раз вы меня не поймали.
И, кивнув на прощание, он, посмеиваясь, пошел к двери. Билл с каменным лицом повернулся к почтовому курьеру. Внезапно какой‑то озорной огонек вспыхнул в его мрачном взоре. Он нагнулся к молодому человеку и сиплым, прерывающимся от смеха шепотом сказал ему на ухо:
— А все‑таки я с ним поквитался.
— Как это?
— Окрутил его накрепко, он теперь с этой лживой чертовкой мертвым узлом связан.
НАСЛЕДНИК МАК–ГУЛИШЕЙ
I
Американский консул в портовом городе Сент–Кентигерне сумерничал один в застоявшемся полумраке своего кабинета, а между тем на часах, подобно бледной луне смотревших с темной стены, был всего только полдень, вполне обычный для здешних зим полдень. Кабинет, насколько позволял разглядеть скудный свет, Насилу пробивавшийся сквозь завешенное туманом окно, имел сугубо деловой и будничный вид. На полке повитые туманом стояли томики «Морского права», на стене висели две олеографии, запечатлевшие два океанских парохода в неимоверно укороченном ракурсе; выставив вперед нос, они на всех парах неслись прямо на смотрящего, с явным намерением выломиться из стены. Были тут гравюры–портреты Линкольна и Вашингтона, призрачные и бесплотные, под стать самим покойникам. Перед окном, которое приходилось почти вровень с мостовой, то и дело рождались из тумана и тотчас растворялись в нем темные силуэты женщин и мужчин с молитвенниками в руках и выражением глубокого уныния на лицах. Глядя на них, консул вдруг поймал себя на мысли, что ведь и он грешен: день был воскресный и, стало быть, ему никак не подобает сидеть в присутствии.
Не успел он по–настоящему устыдиться, как в недрах консульской резиденции прозвенел звонок, а с подъезда послышалось шарканье. Должно быть, огонь топившегося камина просматривался с улицы и послужил маяком для какого‑нибудь подгулявшего бродяги–матроса с американскими документами в кармане. Консул с добродетельно–строгим выражением на лице вышел в прихожую. Одно дело — просто так, без цели, замешкаться у себя в приемной в воскресный день, а другое — сознательно явиться сюда по делу, пренебрегая божьим праздником.
Он отпер входную дверь, и в прихожую тотчас ввалился человек средних лет, увлекая за собой и отчасти даже подпихивая другого, помоложе и посмирнее. Ни тот, ни другой не походил на матроса, хотя одеты были оба с той нудной, далеко не модной респектабельностью, к какой питают пристрастие младшие помощники капитанов, когда сходят на берег. Прямо с порога посетители направились в кабинет, и тут только старший проронил мимоходом:
— Американского консула нам надо, ведь это — консульство?
— Да, это — консульство, — сухо ответил чиновник, — а я консул. Но позвольте…
— Вот и порядок, — на ходу прервал его незнакомец, открыл дверь в кабинет и протолкнул в нее своего товарища. — Садись! — сказал он робеющему молодому человеку и указал на стул, не обращая на консула ни малейшего внимания. — Теперь мы вроде как в Америке, под американским флагом и, стало быть, что хотим, то и творим.
Однако, оглянувшись вокруг, он как будто несколько разочаровался: возможно, он ожидал встретить тут другую обстановку, а быть может, и совсем иной климат.
— Надо полагать, — учтиво заговорил консул, — вы пожелали видеть меня по какому‑нибудь важному и неотложному делу. Ведь вам, должно быть, известно, что по воскресеньям консульство закрыто. Я и сам здесь сегодня совершенно случайно.
— Так вы не здесь живете? — с оттенком неудовольствия в голосе спросил посетитель.
— Нет.
— А!.. Вот почему, стало быть, мы и флага не видали вчера. Ведь мы вчера все тут облазили. Нас послали сюда, но я говорю Малькольму: нет, — говорю, — это не тут, а то бы мы перво–наперво увидали звездно–полосатый. Ну так, стало быть, флаг‑то вы держите там, где живете?
Консул, улыбаясь, объяснил, что и над своей квартирой он не вывешивает флага и что, кроме как в дни национальных праздников, вывешивать государственный флаг на консульстве не принято.
— Так, стало быть, хоть вы и консул, вам все равно не дозволено тут даже того, что может любой чернорылый у нас в Штатах? Вот они какие тут порядки. Не думал я, что ты с этим так скоро примиришься, Джек.
При звуке своего имени консул резко повернулся и пристально всмотрелся в лицо посетителя. Минута безмолвного созерцания — и он вдруг вспомнил. Туман на улице и в кабинете словно рассеялся. Он снова стоял с этим человеком на горном склоне, там, на Дальнем Западе. На сотню миль окрест разлит искристый солнечный свет, воздух сух и прозрачен, небо лазурной чашей опрокинулось на треть материка, где шесть месяцев в году стоит лето… Туман снова сомкнулся, как будто даже еще более густой и тяжелый, но уже какой‑то нереальный, как и все вокруг. Консул порывисто протянул посетителю руку.
— Так это ты, Гарри Кастер! — рассмеялся он и, вздохнув, добавил: — Не узнал я тебя, так у меня темно.
После этого он с любопытством обернулся к робкому молодому человеку: не окажется ли и тот каким–ни- будь давним его знакомым?
— Я‑то тебя сразу признал, — сказал Кастер, — хоть мы и не видались с тех самых пор, как ты уехал из Стана Скотта. Лет десять тому уже будет… А, ты его рассматриваешь! — продолжал он, проследив за взглядом консула. — Из‑за него‑то я и явился к тебе. Этот вот человек — Мак–Гулиш, самый настоящий Мак- Гулиш!
Он примолк, как бы желая удостовериться, что его слова произвели желаемое впечатление. Но консулу это имя явно ничего не говорило, и он продолжал пристально рассматривать молодого человека, ожидая дальнейших разъяснений.
Мак–Гулиш был юноша лет двадцати, со светлыми красновато–карими глазами, темными, рыжеватыми у корней волосами и бело–розовым, как из воска, овальным лицом; характерная особенность этого лица состояла в том, что нижняя челюсть резко сужалась от самых скул и заканчивалась скошенным подбородком.
— Да, — продолжал Кастер, — и притом единственный настоящий Мак–Гулиш. Прямой наследник, королевских кровей! Из тех самых Мак–Гулишей, которые в эти, как их… исторические времена как бросят клич, так к ним народ валом валит и дым коромыслом. Заводные ребята были эти Мак–Гулиши. И никаких тебе речей, никаких оркестров, как у нас на выборах! Его молодцы не жалели для главы клана последнего доллара, последнего патрона… то бишь, патронов‑то у них в те времена, пожалуй, не водилось… Во как жили настоящие Мак–Гулиши! Ну, а Малькольм — последний из ихней породы, и лицом весь в них вышел.
Слушая весь этот вздор, консул, однако, не мог отделаться от смутного впечатления, что лицо молодого человека ему как будто знакомо, что он действительно его видел, и не раз, на многочисленных картинах исторического жанра. То было лицо самодовольного, бездарного и малодушного фата, из‑за которого гибло множество сильных, даровитых и благородных натур, добровольно связавших с ним свою судьбу и разделивших его бессмысленную участь; лицо слабого человека, за которого жертвовали собою мужество и красота, обрекая его произволу прочие добродетели поменьше.
Посмеиваясь в душе над тем, как плохо все это вяжется с унылым шествием благочестивых шотландцев за окном и повитыми туманом томиками «Морского права» на полках, консул заставил себя любезно улыбнуться.
— Надеюсь, наш молодой друг не намерен испытать волшебное действие своего имени здесь, в нашу измельчавшую эпоху?
— Пожалуй, что нет, — самодовольно отозвался Кастер. — А впрочем, дружище, между нами сказать, мало ли чего бывает в этих самых ваших монархиях! У нас за океаном, там, конечно, другое дело. Но на первых порах Малькольм согласен удовольствоваться титулом и поместьем, которым он законный наследник.
Лицо консула вытянулось. Увы! Все та же старая-престарая история. Ее бесконечные повторения и вариации были известны ему чуть ли не с детства еще там, на родине. «Ежели б этот вот парень добился своих прав, — случалось, говорили ему в поселке старателей на Дальнем Западе, — он сидел бы нынче в пурпурной мантии по правую руку от английской королевы!» А всего- то и было, что джентльмен, к которому относилась эта достойная Апокалипсиса характеристика, обладал удивительным сходством с членами царствующего ганноверского дома, каковое обстоятельство он переносил с замечательной выдержкой и терпением. Но действительно в тягость все это стало консулу лишь после того, как он занял свой консульский пост. Порою ему казалось, что добрая половина имений и титулов английской знати по праву наследования должна принадлежать разным оборванцам из Америки, которые почему‑то медлят заявлять свои законные права; выходило так, будто английские дворяне, вступая во владение своими поместьями и титулами, первым делом старались спровадить в Америку всех ближайших родственников и забыть об их существовании. Ему без конца приходилось принимать американцев, заявлявших претензии на высшие аристократические звания и привилегии; люди излагали свои притязания кто с изощренной убедительностью, кто с трогательной простотой, а отстаивали с величайшей незлобивостью и с таким же добродушием оставляли. Как правило, кончалось все тем, что консул ссужал соотечественнику несколько долларов и законный наследователь миллионов, купив билет четвертого класса, отплывал обратно в свое демократическое изгнание. Встречались и другие, менее простодушные и более настырные претенденты. Эти довольствовались письмом от консула в Геральдическую палату в Лондоне и потом, уплатив надлежащие пошлины и налоги, возвращались к себе в Нью–Йорк или Бостон с грузом какой- нибудь невостребованной рухляди, которую их предок, человек широкой натуры, забыл взять с собой в новую жизнь либо попросту бросил, спеша сделать их гражданами новой республики. Все это консулу уже давно надоело и в зубах навязло, уж, кажется, кто‑кто, а старый приятель мог бы не соваться к нему опять с этой дребеденью.
— Надо полагать, вы уже советовались с юристами у себя на родине, — тяжко вздохнув, сказал консул, — да и здесь, сами понимаете, не мешало бы прежде всего посоветоваться с людьми, которые разбираются в шотландском наследственном праве. Да уж вы, наверное, все это проделали!
— Никак нет, — бодро заявил Кастер. — Ведь я с Малькольмом и двух месяцев не знаком. Совсем случайно откопал его на ихней ферме под Мак–Корклевиллем в Кентукки, он и его предки живут там уж чуть ли не сто лет. Да, целых сто лет, шутка сказать! С того самого дня, как переселились в Америку. Мне обо всем рассказали, а еще я видел у них старинную Библию, большая такая, еле дышит, совсем вот, как эта, — он приподнял потрепанную консульскую Библию, — а в ней даты. Узнал всю их историю — и вот мы здесь.
— И даже не посоветовались с юристом? — ужаснулся консул.
— Настоящий Мак–Гулиш, — неожиданно раздался тонкий, почти женский голос, — никогда не имел дела с законами! На скалистых вершинах Глен–Крэнки водружал он знамя своих предков или с зубчатых стен замка Крэгидуррах бросал боевой клич: «Гулиш ду, эйрой!» И весь клан сбегался на его зов, потрясая воздух своими криками. Вот как было заведено в старые времена! И стояли за него всей бражкой.
Это наполовину говорил, наполовину мелодекламировал робкий молодой человек, впавший в какой‑то экстаз, и тон его был торжествен, несмотря на заключительный грубо–жаргонный оборот.
— Примерно в таком духе, — сказал Кастер, развалясь на стуле и с одобрением поглядывая на молодого человека, — право, не знаю, не лучше ли будет и теперь нажать таким же манером?
Консул потерянно переводил взгляд с одного на другого. Ему всегда казалось, что это маниакальное искательство потерянных привилегий может переходить в настоящее умопомрачение, и он нимало не сомневался, что молодой человек слегка поврежден в уме. Но чем объяснить затмение, нашедшее на его друга? Ведь Гарри Кастер, насколько помнится, всегда умел сохранять голову на плечах и, хоть и питал слабость ко всему романтическому и необычно волнующему, это не мешало ему быть трезвым в расчетах, и своей прозорливостью, здравым смыслом и оборотливостью он накопил не одну только житейскую мудрость. А тут он явно загипнотизирован этим сумасбродом, хотя внешне выглядит все таким же лениво–рассудительным, как и прежде!
— Уж не хотите ли вы сказать, — срывающимся от волнения голосом произнес консул, — что вы пожаловали сюда лишь с несколькими устными преданиями да фамильной Библией и рассчитываете сыграть на каком‑то феодальном фанатизме, который, может, только и существовал, что в романах? Неужели вы хотите таким образом добиться восстановления в правах, которые давно утверждены законом за другими и могут быть оспорены только по местному закону? Нет, должно быть, я не так вас понял. Вы, должно быть, совсем не то имели в виду.
— Да нет же, — сказал Кастер, лениво кивая головой. — Все так и есть, только не совсем, как ты изложил. Например, ты думаешь, что нас только двое. А нас, дружище, целый синдикат.
— Синдикат? — переспросил консул.
— Синдикат, — подтвердил Кастер. — В нем половина ребят из Орлиного Стана да двое соседей Малькольма в Кентукки, настоящей шотландской породы, как и он сам. Ты же знаешь, округ Мак–Коркль основали старые шотландские ковенантеры, тамошний народ — и поныне сплошь пресвитерианцы. К слову сказать, и в ребятах из Орлиного, что вошли в дело, тоже есть шотландская кровь… Собственно говоря, я и сам наполовину шотландец… не то ирландец, — раздумчиво добавил он. — Так что прием у клана нам обеспечен, можешь не сомневаться. Уж если шотландцы не узнают своих, тогда кто же узнает?
— Позволь спросить, — перебил его консул, с трудом сохраняя самообладание, — что вы намерены предпринять?
— Ну, это смотря по обстоятельствам, — ответил Кастер, снова разваливаясь на стуле. — Помнишь, как мы отхватили заявки у мексиканцев на Норт–Форк — это когда они нашли золото в верховьях реки и вздумали оттягать у нас весь берег? Если память мне не изменяет, мы тогда выбрали ясную лунную ночку, тихо–мирно перебрались на тот берег, вытащили их заявочные столбы и воткнули свои. Сдается, и ты был тогда вместе с нами.
— Так ведь то было у нас, в Америке, — поспешно возразил консул, — и все равно это непростительный проступок, пусть даже дело было в диком пограничном районе, где еще не знали ни права, ни закона. Но ведь только сумасшедший может затеять что‑либо подобное здесь!
— Погоди кипятиться, Джек, — лениво протянул Кастер. — Все будет по–конституционному. Помнишь, нам не понравились порядки в Пуэбло, и мы взяли да основали свой город — Эврику, собрали мексиканцев да индейцев, они нам честь по чести избрали мэра и олдерменов, а мы вынесли черту города на Хуанита–Крик и давай отгораживать по берегу участки? Сдается, ты сидел тогда клерком в окружной канцелярии. Так вот, кто может помешать теперь Дику Мак–Грегору и Джо Гамильтону — они сейчас на верхнем Ниле — завернуть в Шотландию и водворить Малькольма в замок его предков? Кто возразит против того, чтобы Уоллес и Бэрд, которые любуются сейчас итальянскими озерами, заглянули сюда по пути домой? Уотсон, Мур, Тимли тоже могли бы прикатить сюда из Парижа и вместе со всеми помочь Малькольму справить новоселье на родном пепелище. Да в конце‑то концов и весь синдикат в полном составе мог бы собраться на острове Келпи, там, у западных берегов, и на могилах предков Малькольма договориться обо всем кланом.
— Тут есть одно только «но», — сказал консул, напуская на себя важность, хоть в душе его возникло опасение, что, возможно, он ступает на ложный путь. — Напрасно вы мне все это сказали. Если как старый друг я не могу удержать тебя от невероятного безрассудства, то как американский консул я обязан немедленно навестить обо всем нашего посланника, а быть может, и местные власти. И можешь быть уверен, именно так я и поступлю.
К его удивлению, Кастер просиял и, подавшись вперед, горячо пожал ему руку.
— Отлично, дружище, на это я и рассчитывал. Я даже предсказывал Малькольму, что примерно так ты и ответишь. Разумеется, ты не можешь поступить иначе. А мы были бы просто свиньями, если бы оставили тебя совсем вне игры и не дали тебе хоть такой возможности подыграть нам. Видишь ли, как только ты предупредишь всех, кого следует, клан‑то, глядишь, и зашевелится. Для нас это лучший способ начать кампанию.
— Ну, не слишком‑то на это полагайтесь, — сказал консул с нервным смешком. — Не будем принимать в расчет такие маловероятные крайности. Лучше приходите‑ка ко мне обедать, оба вместе, тогда и обсудим то единственное, что достойно обсуждения в вашем предприятии, а именно — насколько законны ваши претензии. Заодно вы расскажете мне и всю вашу историю, ведь, к слову сказать, я еще ровно ничего не знаю.
— Очень жалко, Джек, но с обедом ничего не получится, — серьезно ответил Кастер, впервые проявляя какой‑то намек на благоразумие. — Мы, видишь ли, решили зайти к тебе только раз и больше здесь не показываться. Не хотим тебя компрометировать.
— Ну, уж это мне виднее, — сухо ответил консул и вдруг, отбросив напускную холодность, обеими руками схватил Кастера за руки. — Полно, Гарри, — задушевно сказал он. — Мне до сих пор не верится, что все это не шутка, но я попрошу тебя только об одном: обещай, что ты ни шагу не ступишь дальше, не посоветовавшись с юристом. Я дам тебе письмо к одному своему приятелю, он человек дельный и опытный и не менее шотландец, чем все те, о которых ты говорил. Изложите ему правовую сторону дела—только правовую! — и я уверен, что из его ответа вы ясно увидите, насколько безрассудно строить ваши расчеты на остатках родовых чувств или исторических традициях.
Не дожидаясь возражений, консул сел и поспешно написал несколько строк к одному из своих знакомых- шотландцев, влиятельному в здешних местах человеку. Когда он передал письмо Кастеру, тот взглянул на адрес и, показав конверт молодому Мак–Гулишу, спросил:
— Та же самая фамилия, так ведь?
— Та самая, — подтвердил тот.
— Вы с ним знакомы? — спросил консул, явно удивленный.
— Мы — нет, но вот с одним парнем из Орлиного они приятели. Так что мы все равно должны свидеться с ним. Ладно, послушаем твоего совета и ни шагу дальше, покуда не потолкуем с ним обо всем. Договорились. Бывай здоров, дружище. Пока!
Гости попрощались с консулом и ушли. Консул стоял у окна и смотрел им вслед, пока они не растаяли в тумане, как бесплотные тени прошлого.
II
На другое утро туман сменился весьма осязательным горизонтально секущим дождем, который мочил проплывающие мимо окон зонты изнутри и снаружи, заставляя их изворачиваться под всеми мыслимыми углами. В дверь консульского кабинета постучали, и вошел секретарь.
— Желаете ли вы принять сэра Джемса Мак–Фе?
Консул утвердительно кивнул и добавил:
— Просите его сюда.
Это был тот самый местный туз, к которому он писал накануне, человек широкого, но медлительно–осторожного ума, ученый до педантизма, но расчетливый и практичный; умевший проявлять доброту и отзывчивость в обращении с людьми, но никогда не позволявший чувствам взять верх над деловыми соображениями. Консул встречался с ним в обществе и знал, что в бесчисленных правлениях и комитетах он всегда отличался здравомыслием и твердостью, на политических собраниях был логичен и убедительно красноречив; в церкви держал себя серьезно и с достоинством, а на званых обедах бывал весел и шутлив и отнюдь не чурался вечеринок, на которых друзья обмениваются рукопожатием за возлияниями, по слову поэта, именуемыми «изрядным добрым глотком». С одной такой пирушки им даже Довелось возвращаться вместе домой, причем выказывая некоторую явно нарочитую твердость шага; но как бы там ни было, когда Мак–Фе скрылся наконец за благоприличной дверью своего дома, консул ни минуты не сомневался в том, что наутро из этой же двери появится безупречно корректный, идущий безукоризненно прямым путем деловой человек.
— Нечего сказать, дождливый выдался денек, — проговорил сэр Джемс, снимая перчатки. — Погода не для прогулок.
— Я полагаю, вы получили мое рекомендательное письмо? — спросил консул, когда сакраментальная тема погоды была исчерпана.
— О, как же!
— И виделись с этими джентльменами?
— Да.
— И каково же ваше мнение о его… э–э… претензиях?
— Славный мальчик этот Малькольм, я люблю таких людей, — сказал сэр Джемс неожиданно доверительным тоном. — Вероятно, и вам он тоже понравился? Да, просто удивительно, как долго сохраняются родовые черты после расселения на чужбине. Да и ваша страна тоже необыкновенная, замечательная страна, так сказать, рассадник самых удивительных типов, в стольких поколениях сохраняющих свои особенности… И старая вера уцелела и все эти удивительные приметы старины! Да… А этот штат Кентукки, где у него земля, видимо, богатейший край! Да… А как поучительно и интересно рассказывал он об этой замечательной области, которую они называют «Страной голубой травы», и какой скот они там выращивают! Словом, друг мой, я вам очень благодарен за вечер, проведенный не только приятно, но и полезно.
— Но что с его иском?.. Неужели он ничего вам не сказал?
— Как же… как же… А этот мистер Кастер…. Великолепный человек и занятный собеседник к тому же. Оказывается, вы с ним закадычные друзья! Господи! Он на редкость занимательно рассказывал о том, что вы там вытворяли вместе в прежние времена. Вот уж не ожидал услышать такое об американском консуле в Сент–Кентигерне! — И сэр Джемс, откинувшись на спинку стула, с восторженной улыбкой воззрился на собеседника.
Консулу показалось, что он начинает догадываться о причине такой уклончивости своего гостя
— Так, значит, вы не придаете серьезного значения претензиям мистера Мак–Гулиша? — спросил он.
— Я этого не сказал.
— Но неужели вы и вправду полагаете, что иск, основанный на фамильной Библии и фамильном сходстве, заслуживает серьезного рассмотрения?
— Я и этого не сказал, мой друг.
— Тогда он открыл вам больше, чем мне, или, может, вы сами располагаете какими‑нибудь сведениями, подтверждающими справедливость его притязаний?
— Нет.
Сэр Джемс явно не желал распространяться на эту тему. Правда, и того, что он признал, было достаточно, чтобы со спокойной душой оставить дело в его руках. Шотландец был честно предупрежден, чего же больше? Но тем не менее консул решил поставить все точки над «и».
— Не знаю, — снова начал он, — сказал ли вам юный Мак–Гулиш о том, что он очень надеется произвести особый эффект, появившись лично среди арендаторов, а также о том, что он намерен утвердиться в правах собственности, настроив клан в свою пользу. Мне показалось, что обо всем этом у него какие‑то преувеличенные представления. Возможно, подобно Дон–Кихоту, он просто почерпнул их из прочитанных книг. Он, по–видимому, верит в существование родовой верности и полагает, что на севере Шотландии и поныне сохранились старые феодальные инстинкты и порядки. Похоже, он видит в себе нечто вроде местного принца Чарли и, ей–богу, по- моему, он такой же сумасшедший, как и тот.
— А почему бы ему не верить в своих сродственников? — неожиданно запальчиво воскликнул сэр Джемс, сбиваясь на диалектальную свободу выражений, которая так резко контрастировала с его обычно тщательно отработанной и продуманной манерой изъясняться. — Мак–Гулиши заправляли кланом еще до того, как была открыта Америка! А сколько раз до этого они совершали набеги на северные границы Англии! Если кровные
1 Чарлз Стюарт (1720— 1788), в 1745 году выступил как претендент на английский престол, пользовался поддержкой и популярностью в Шотландии; впоследствии — герой легенд и баллад.
узы и преданность роду что‑нибудь да значат, странно и подумать, будто на его зов никто не откликнется! Могу вас заверить, друг мой, у нас в горной Шотландии есть много чего такого, что и не снилось вашим завзятым романистам, не исключая самого Вальтера Скотта! Ну, да, впрочем, он ведь был горожанин, родом из Эдинбурга, так где ж ему… В этом можете быть благонадежны. Насчет принца Чарли мы с вами никогда не столкуемся. Будет время, друг мой, и я расскажу вам об этом милом парнишке больше, чем написали все ваши присяжные историки, вместе взятые. А до тех пор советую вам в разговорах с шотландцами воздерживаться от высказываний, изобличающих в вас южноанглийские предрассудки.
Такой взрыв патриотических чувств со стороны осмотрительного и сдержанного правоведа крайне удивил и даже несколько позабавил консула, и он не мог удержаться от того, чтобы не поставить на нем акцент, вернувшись к непосредственной теме беседы.
— Я буду рад узнать как можно больше о принце Чарли, — улыбаясь, сказал он. — Но в настоящую минуту нас больше интересует его жизненный прототип, если позволите так выразиться. Потому что, пока он не получит своих новых званий и привилегий, он останется американским гражданином и как таковой имеет полное право на мое покровительство, и я за него отвечаю. Скажите же ради бога, мой дорогой друг, действительно ли он может претендовать на сколько‑нибудь значительное имущество, землю и титул и где все это находится? Поверьте, я совершенно не в курсе дела и ровным счетом ничего не знаю.
Сэр Джемс вновь принял свою спокойную, медлительную манеру и взял перчатки.
— Да, да, как же… Есть там, в Баллохбринки, большой олений заповедник, есть часть озера Лох–Филлибег в Кэрнгомшире да остров Келпи у берегов Моровершира. Как же, как же, земли будет порядочно, если согнать с нее арендаторов и мелких овцеводов. Тогда будет поместье хоть куда.
Консул пристально посмотрел на собеседника.
— Согнать арендаторов и овцеводов! —машинально повторил он. — А разве они не принадлежат к клану, не преданы Мак–Гулишу?
— Мак–Гулишей там уже давно не видали, — сказал сэр Джемс, тщательно подбирая слова. — Они, пожалуй, уже и жгли его там — я хочу сказать, его чучело.
— Но ведь это же скверно для предполагаемого наследника! — возразил изумленный консул. — Какой уж тут волшебный эффект его личного присутствия!
— Я этого не сказал, — осторожно ответил сэр Джемс. — Просто он должен будет предложить более выгодные условия.
— Условия? — переспросил консул. — Значит, он пойдет на компромисс?
— Я хочу сказать, не исключена возможность, что семейство отступится от своих прав в его пользу, за приличное вознаграждение, разумеется. Уж лучше он заплатит деньги им, чем адвокатам. Ведь синдикат достаточно богат для этого, не так ли? И очень может быть, что Мак–Гулиши взамен своего здешнего поместья согласятся взять земли в Кентукки, там ведь тоже земля недурная, где голубые‑то травы растут.
Консул посмотрел на своего собеседника таким долгим и пристальным взглядом, что в глазах сэра Джемса мелькнул веселый огонек и он чуть заметно улыбнулся. Тут консул тоже улыбнулся. По кабинету словно прошел ветерок облегчения и взаимопонимания.
— Да, да, — продолжал сэр Джемс, с небрежной тщательностью натягивая перчатки, — он славный мальчик, этот Малькольм, в нем говорит похвальный инстинкт, он побудил его вернуться в страну своих отцов и вновь занять здесь свое место. И я давно уже примечаю, господин консул, что многие ваши соотечественники стремятся к этому. Спору нет, ваша страна — великая страна, у вас там и прогресс, и гражданские свободы, и религиозная терпимость, но при всем при том, как говорит Берне, в крови живет тоска по дому, и от этого никуда не денешься. И очень даже хорошо, если у человека есть деньги, чтобы исполнить свое желание, это очень разумное употребление деньгам. До свидания… Ах да, хорошо, что вспомнил: я хотел пригласить вас на обед, у меня будут Малькольм, этот ваш приятель Кастер и мистер Уотсон. Оказывается, он тоже из вашего синдиката, я встречал его прежде за границей. Впрочем, я еще пришлю вам приглашение по всей форме и дам знать, когда состоится торжество.
Консул вспомнил, что Кастер действительно упоминал о том, что кто‑то из «ребят с Орлиного» знаком с сэром Джемсом. Очевидно, это и был Уотсон. Консул опять понимающе улыбнулся, но на этот раз сэр Джемс ответил ему лишь вежливой улыбкой и, любезно раскланявшись, покинул кабинет.
Не переставая улыбаться, консул проследил, как солидная фигура уважаемого гостя прошла мимо окна, а затем вернулся к своему столу. Он чувствовал огромное облегчение. То, что казалось ему дикой, сумасбродной авантюрой нескольких его соотечественников, быть может, даже грозившей серьезным международным скандалом, оборачивалось самой обычной спекуляцией, участники которой друг друга стоили. Похоже даже, что в выигрыше от сделки будут шотландцы, янки на этот раз явно дали маху. Но это уж их дело. Попробуй‑ка заикнись об этом Кастеру — он первый и обидится…
Консул представлял себе, как преданные родичи–арендаторы палили чучело, изображавшее благородного Малькольма, и как теперь его вдохновляющее личное присутствие заменят прозаические американские доллары, и картина эта доставляла ему немалое удовольствие. Он с самого начала решительно невзлюбил желторотого отпрыска рода Мак–Гулишей и досадовал на то, что ему каким‑то непостижимым образом удалось обморочить Ка- стера. Но ведь и практичный сэр Джемс не миновал той же участи. Вот смешно будет, если и вправду этот дутый идеал главы клана, это привилегированное ничтожество окажется вознесенным к славе и почету совместными усилиями американских республиканцев и шотландских раскольников, в равной мере отуманенных влажной шотландской атмосферой! От этой игривой мысли на какое- то время словно веселее сделалось в его сумрачном кабинете. Но на обед к сэру Джемсу он так и не попал — помешали дела. Впрочем, позднее он слышал, что обед прошел блестяще, что после обеда присутствующие пели «Добрые старые времена» на слова Бернса и поднимали тосты за здоровье Кастера и Малькольма, оказывая им «горские почести». До консула дошло также, что сэр Джемс пригласил Кастера и Малькольма погостить весной в его загородном поместье в Озерном краю. Но ни о ходе дела Малькольма, ни об относящихся к этому делу подробностях ему ничего больше не было известно. Казалось, об этом вообще никто ничего не знал: ни в городских газетах, ни в клубах Сент–Кентигерна ни о чем таком не говорилось. А так как и лиц, заинтересованных в деле, он также не встречал, то вся затея стала представляться ему каким‑то забавным полуромантическим анекдотом. Зачастую он даже спрашивал себя, не преследовало ли все это предприятие какую‑то иную, скрытую цель, уж очень ничтожным делом оно обернулось. Ведь синдикат, состоявший из людей очень богатых, легко мог бы скупить поместье и пожирнее. В искренность побуждений Малькольма консул нисколько не верил. Нет, тут должна быть иная подоплека — возможно, неизвестная даже самому синдикату.
Но настал день, когда консулу показалось, что он понял, в чем дело. Он получил письмо с обратным адресом одного из лучших отелей города, но с большой личной монограммой на конверте и на бумаге. Некто мисс Керкби, задержавшись в Сент–Кентигерне проездом в. Эдинбург, желала бы видеть консула завтра утром и просит назначить ей час, когда она может застать его в консульстве; либо, поскольку времени у нее мало, она сочтет себя крайне обязанной, если консул соблаговолит сам приехать к ней в отель. Хоть она и его соотечественница, ее имя вряд ли так же хорошо ему известно, как имена ее «старых друзей» — Гарри Кастера, эсквайра, и сэра Малькольма Мак–Гулиша. Прочитав это место, консул несколько удивился. Судя по титулу, если только это был тот самый Мак–Гулиш, можно было заключить, что Малькольм добился, чего хотел. Однако консул не помнил, чтобы с поместьем, которого домогался Мак–Гулиш, был связан титул, дающий право владельцу ставить «сэр» перед своим именем. Скорее всего его корреспондентка, как и большинство ее соотечественниц, хотя и питает слабость к титулам, но имеет о них самое смутное представление.
Консул решил отступить от своего обычного делового распорядка и тотчас отправиться к ней с визитом, как настоящий патриот, готовый подчиниться тому обворожительному своеволию, с каким американки обращаются на чужбине с преданными им соотечественниками.
Она приняла его с напускной надменностью, словно приноровляясь к обычаям страны, где, как она только что узнала, господствует неравенство сословий. Она была молода, хороша собой и со вкусом одета; но дальше этого ее женская приспособляемость не пошла — голос и произношение не изменились. То и другое изобличало в ней жительницу американского Юго–Запада, и как только она заговорила, от ее напыщенности не осталось и следа.
— Страшно мило, что вы сами пришли, мне ужас как не хотелось идти к вам в консульство. Я, видите ли, южанка, и притом непримиримая. Мне дела нет до вашего правительства. Я его не знаю и знать не хочу. Я, кажется, с самой войны не бывала под американским флагом, так что ни документов мне не нужно свидетельствовать, ни паспортов, и я не стану у вас просить ни советов, ни покровительства. Вот видите, я с самого начала решила быть с вами откровенной и ничего не скрывать.
Трудно передать, каким подкупающе заразительным чистосердечием и веселостью были смягчены эти, в сущности, неприязненные слова. Консул выслушал их, внутренне посмеиваясь, уверенный в том, что все это лишь давным–давно разученная и не один уже раз сыгранная игра. Он знал, что во время восстания южных штатов и сразу же после войны многие уроженцы американского Юга и Запада искали убежища в Англии и пытались завоевать расположение англичан, открыто заявляя недовольство своим правительством и выставляя себя добровольными изгнанниками. Но он никак не ожидал, что до сих пор существуют охотники ворошить прошлое, тем более что теперь в этом нет никакого смысла. Как бы там ни было, он добродушно объяснил всю несостоятельность такой позиции и сказал, что с окончания войны прошло уже много лет, что с тех пор Север и Юг нашли достойную форму примирения и что он является законным представителем как Кентукки, так и Нью–Йорка.
— Вот и ваши друзья, — прибавил он, улыбаясь, — мистер Кастер и мистер Мак–Гулиш, по–видимому, приняли этот факт без всяких оговорок.
— Ну, я в этом мало что понимаю, — смеясь, ответила девушка. — Последнее время я жила в Париже, а теперь мама — она отдыхает там наверху — вытащила меня посмотреть Англию. Вот мне и подумалось, что Малькольм должен постоянно поддерживать с вами связь из‑за этой своей собственности.
Консул улыбнулся.
— Ага, так, значит, можно надеяться, вы расскажете мне что‑нибудь об его деле? Я ведь так и не знаю, удалось ли ему утвердиться в правах наследства.
— Как! — воскликнула девушка с неподдельным изумлением. — Ведь это я хотела вас об этом спросить! Малькольм думал, что вы полностью в курсе дела.
— Я уже два месяца не имею о нем никаких сведений, — ответил консул. — Дело в том, что в вашем письме вы назвали его сэром, вот я и решил, что вы осведомлены об исходе тяжбы. Хотя, насколько мне известно, даже в случае успеха он не мог бы именоваться «сэром Малькольмом», и это навело на меня сомнение, уж не имеете ли вы в виду кого‑нибудь другого.
— Ну так лорд Малькольм — я, по правде сказать, до сих пор не очень‑то разбираюсь в этих титулах.
— Нет, ни лорд и ни сэр, с поместьем вообще не связан никакой титул, — улыбаясь, пояснил консул.
— Так, значит, он не будет лэрд такой‑то и такой‑то?
— Нет, почему же. Но лэрд — это вовсе не титул, это всего–навсего помещик по–шотландски. Это вовсе не то же самое, что лорд.
Девушка смотрела на него с нескрываемым изумлением. В углах ее рта застыла улыбка.
— Вы в этом уверены? — спросила она.
— Совершенно уверен, — отвечал консул не без некоторого раздражения. — Но так ли я вас понял, что вы действительно не знаете, в каком положении находится дело?
— Подождите минутку, — быстро проговорила мисс Керкби, с таким видом, будто ей пришла в голову какая- то очень забавная мысль. — Я сбегаю за мамой, может быть, она спустится к вам. Она, наверное, ужасно рада будет вас видеть.
Девушка замолчала и, уже встав, спросила:
— Так, значит, жена лэрда никак не может титуловаться леди такая‑то?
— Нет. Если она не леди по рождению, то, выйдя замуж за лэрда, она никакого титула не получит.
Она снова рассмеялась, тряхнула головой и убежала. Консул, находя весь этот разговор не лишенным занятности, но вместе с тем и отчасти озадаченный его сбивчивостью, терпеливо дожидался. Вскоре девушка вернулась, несколько запыхавшись, но по–прежнему обдумывая про себя какую‑то потаенную и, очевидно, очень забавную мысль.
— Мама сейчас придет, — сказала она и после минутной паузы, лукаво глядя на консула своими ясными глазами, спросила:
— Вы хорошо знакомы с Малькольмом?
— Я видел его один только раз.
— А что вы о нем думаете?
Консул отвечал, что за одну короткую встречу не мог составить о нем никакого мнения.
— У вас, наверное, и в мыслях не было, что я чуть было не помолвилась с ним.
Консулу пришлось подтвердить, что он просто не имел времени узнать, какое счастье выпало на долю Малькольма.
— Я знаю, что вы думаете, — беззаботно продолжала девушка. —Вы думаете, что он тронутый в уме. Но мне‑то теперь все равно, наша помолвка расторгнута.
— Надеюсь, не потому, что вы усомнились в успехе его дела?
_ Она небрежно повела плечами.
— Нет, с этим, пожалуй, будет все в порядке. На что же еще синдикат собрал сто тысяч долларов? Одна мама двадцать тысяч вложила. Нет, Кастер промаха не даст, а уж тем более теперь, когда, говорят, у них там на полюбовную пошло. Просто Малькольм тронутый, и если б дело не решилось полюбовно, ему, пожалуй, и никакой бы синдикат не помог. Ну как же не тронутый, раз он даже не знал, что у Мак–Гулишей и титула‑то никакого нет.
— Так вы полагаете, он заблуждался относительно своих наследственных прав?
— Нет, не то. Но не дурость ли это — доказывать их такими способами! Ведь он всем втемяшил в голову, будто может взять свои права, что называется, с бою. Носился с мыслью поднять «восстание горцев», — ну, знаете, есть такое стихотворение не то картина, уж не помню что… А эти остолопы и уши развесили: вот, мол, будет потеха… Да и Кастер туда же… Слава богу, мама вовремя спохватилась и велела Уотсону написать обо всем одному его хорошему знакомому, как его… мистер Мак–Фе, что ли? Он очень влиятельный человек.
— Вероятно, это сэр Джемс Мак–Фе, — подсказал консул. — Вот он действительно титулованный дворянин. Ну, и что же он ответил?
— О, он написал очень дельное письмо, — ответила девушка, явно довольная тем, что у Уотсона оказался такой именитый советчик. — По его мнению, можно почти не сомневаться в том, что, если американские Мак–Гулиши захотят вернуть себе свое родовое поместье, это можно устроить, затратив некоторый капитал. Он даже вызвался быть посредником в деле. Наверное, это и есть та самая полюбовная сделка, о которой теперь идет слух. Но он ни словом не обмолвился о том, что лордством тут и не пахнет.
— Возможно, он полагал, что раз вы американцы, для вас это не имеет никакого значения, — сухо сказал консул.
— Это еще не причина, чтобы отказываться от таких вещей, раз они нам принадлежат и раз за них деньги плачены! — запальчиво возразила собеседница.
— Выходит, перемена в ваших личных отношениях с мистером Мак–Гулишем и служит причиной того, что вам так мало известно о ходе дела и его перспективах?
— Именно так, но сам‑то он думает, что между нами все по–прежнему. Ведь мы как приехали сюда, так еще ни разу его и не видели, хотя все говорят, что он здесь, но только скрывается.
— Это зачем же?
Девушка недоуменно вскинула брови.
— Должно быть, считает, что так таинственней. Я же сказала, что он чокнутый.
И она так простодушно рассмеялась, нимало не думая о том, что ее слова могут весьма нелестно характеризовать ее самое, что консул поневоле присоединился к ней.
— Судя по всему, вы не так легко расстраиваетесь, как помолвки, — сказал он.
— И не буду расстраиваться… А вот и мама идет. Послушайте, — вдруг сказала она, делая умильное лицо, — если мама пригласит вас поехать с нами на север, не отказывайтесь, ладно? Поедете? Это будет просто замечательно!
— На север? — с недоумением переспросил консул.
— Ну да, имение смотреть. А вот и мама.
Вошла дама не столь боевая, но не менее красивая и нарядная. Когда церемония знакомства закончилась, мать повернулась к дочери и сказала:
— Пошла вон, милашка, я хочу потолковать о деле с этим… э–э… джентльменом.
Девушка со смехом убежала, и мамаша, подавляя со сна зевок, подняла на консула тяжелые веки.
— Вы уже беседовали с моей Элси?
Консул подтвердил, что имел такое удовольствие.
— Ах, она что думает, то и говорит, — томным голосом сказала миссис Керкби, — но сердце у нее доброе, и при всей своей ветрености она никогда не теряет голову. С тех пор как умер ее отец, она мною командует, — продолжала она с легким вздохом и, помолчав немного, рассеянно добавила: —Уж конечно, она успела рассказать вам о своей помолвке с юным Мак-Гулишем?
— Да, но она сказала, что помолвка расторгнута.
Миссис Керкби облегченно повела бровью.
— Во всяком случае, это было не более как ребячество с их стороны, — сказала она. — Они росли вместе в Мак–Корклевилле, он приходится ей троюродным братом. Я думаю, он наплел ей с три короба о своем знатном происхождении, будто бы он старший в роде Мак-Гулишей, ну, у нее воображение и разыгралось. Наверное, Кастер сумеет выколотить здесь кое‑что для пайщиков, во всяком случае, пока что он не давал промаха в денежных делах, но уж на большее едва ли можно рассчитывать. Так вот, мне пришла мысль съездить с Элси посмотреть имение, и я хотела попросить вас поехать с нами. Элси вам ничего не говорила? Я знаю, ей было бы это приятно… и мне тоже.
Несмотря на лениво–безразличный тон миссис Керк- би, ее просьба звучала так искренне, так серьезно, что консул поневоле заинтересовался. Да и его собственное любопытство к этому странному делу было так велико, что он рад был случаю удовлетворить его. Теперь он чуть ли не упрекал себя за то, что слишком поспешно и сурово осудил Керкби–младшую за эгоизм и тщеславие. В конце концов он давно уже не бывал в Америке и, возможно, настолько изменился сам, что совершенно утратил способность понимать своих земляков. Однако вместе с тем он все же чувствовал, что откровенная независимость и безрассудная отвага таких людей, как Кастер, несравненно ближе и родственнее его американской душе, чем мелкое тщеславие и почти рабское приспособленчество женщин. Или, может, причиной тут извечная женская слабость, с которой ничего не может поделать ни республиканское происхождение, ни воспитание?
— Насколько мне известно, имение разбросано по разным местам, — любезно улыбаясь, сказал он.
— Ах, мы хотим съездить только на остров Келпи, где развалины старого замка. Элси хочется их осмотреть.
Консул подумал, что поездка действительно может оказаться интересной.
— Ну что ж, поедем, непременно поедем. Я с величайшим удовольствием присоединяюсь к вам.
Такой скорый и решительный ответ, казалось, успокоил даму и согнал с нее лень. Она оживилась и уже более свободно и доверительно заговорила об одержимости Малькольма, которую не знала, как толковать: то ли как настоящее помешательство, то ли как истовую уверенность в своей правоте, — так что в конце концов у консула сложилось впечатление, что ее участие во всей этой махинации не более как причуда неопытной женщины, которая не знает, чем себя занять. Он обещал зайти к ней на следующий день, чтобы устроить все необходимое для поездки, и откланялся.
На обратном пути ему пришлось пройти одной из площадей Сент–Кентигерна в тот самый час, когда рабочий народ расходится по домам с фабрик и доков. Вид этих разбредающихся толп никогда не представлялся ему ни живописным, ни отрадным, но бывали дни, когда такое зрелище безликой, нездоровой нищеты и тупой безысходности внушало ему особенно тягостное чувство. Он помнил, как впервые увидел эту картину: женщины и девушки, идущие босиком по слякоти мостовой сквозь мглу и туман, — и какой оскорбительный контраст составляло все это его свежим, только что из Нового Света, понятиям о нежном поле! Но со временем его восприимчивость притупилась, душа огрубела, как бы под стать этим загрубелым, бесчувственным ступням, и он начал относиться ко всему спокойно, подобно прочим представителям обутого сословия здешних мест.
Вышло так, что именно в этот вечер многие мужчины усугубили обычную бессмысленность своего внешнего вида какой‑то пьяной остолбенелостью. Консул и прежде не раз подмечал эту особенность в пьяницах Сент–Кентигерна. Одни проходили мимо него в безмолвном одиночестве, словно их манило за собой какое‑то неясное горячечное видение, колыхавшееся на волнах шотландского тумана пополам с алкогольными парами. Другие шли, безвольно обвисая друг на друге, но также молча— машинально переступающие ноги, застывшие, непроницаемые лица, без малейшего намека на веселье или взаимную приязнь. Было что‑то жуткое и сверхъестественное в этом безрадостном компанействе, в тоскливом одиночестве пустых, остановившихся глаз… Внезапно консул увидел двух мужчин, с трудом подвигавшихся ему навстречу в состоянии того же наркотического опьянения, и один из них показался ему знакомым. Бессмысленные глаза, лицо тщеславного, самоупоенного и мечтательного фата, причем нельзя было понять, обычная ли это мечтательность, лишь усиленная опьянением, или навеянная каким‑то иным видом безнадежного безумия… Кто бы это мог быть? Консул повернул и пошел следом за пьяными, надеясь опознать этого человека по его спутнику. Судя по внешности, тот мог быть мелким торговцем и являл собою личность более здравомыслящую и реалистическую. Однако напрасно консул напрягал свою память, и, когда те двое свернули в проулок, он повернулся и медленно зашагал обратно. Но не прошел он и нескольких шагов, как ускользавшее воспоминание вернулось, и он понял, что человек, лицо которого показалось ему знакомо, не кто иной, как Малькольм Мак-Гулиш.
III
Добираться до острова Келпи приходилось в несколько пересадок — сперва на поезде, потом в почтовой карете и, наконец, на пароходе. Маршрут этот был консулу знаком, как, впрочем, и большинству цивилизованного мира. Ибо в определенные сезоны казалось, будто все дороги сходятся в Сент–Кентигерне, словно в некоем центре, где на вокзалах и в гостиницах встречаются прибывающие и отбывающие туристы, оглядывающие друг друга кто с завистью, кто с сознанием собственного превосходства. Путешественники, державшие путь к историческим скалам Уотеффа, при встрече с группой возвращавшихся оттуда вглядывались в их лица, словно желая выпытать у них какую‑то страшную тайну, а те, в свою очередь, смотрели на них с насмешливым сожалением или невозмутимым спокойствием.
Консулу было также известно, что пароходное и железнодорожное сообщение поставлено здесь превосходно, ибо кто не знает, что благочестивые обитатели Сент- Кентигерна ведут свой род от потомков Тувалкаина исстари славящихся перед господом как великие искусники по части стальных и железных изделий, — от могущественного народа мастеров, пронесших свое искусство и свой язык через океан? Знал он и то, что в краю этих великолепных гостиниц текут медовые реки в мармеладных берегах, а манна небесная в виде вкуснейших тортов и печений сыплется даже на самые безлюдные прибрежные скалы и вересковые пустоши. Наконец, консулу было известно, что их путь пролегает большей частью через кричаще бесплодный, до жестокости скудный растительностью ландшафт, в котором горожане- туристы почему‑то усматривают нечто возвышенное и величавое; но ему было известно и то, что суровость этих пейзажей нередко смягчается дикой прелестью лесистых долин, густая непролазь которых не имеет ничего общего с самодовольной уютностью английского пейзажа, хотя то и другое часто путают, возводя на шотландскую природу поклеп в прилизанности и домашности.
1 Тувалкаин—библейский персонаж, «ковач всех орудий из меди и железа» (Бытие, 4, 22).
В день отъезда из Сент–Кентигерна шел дождь; он шел и на второй и на третий день. Судорожными порывами налетал он на тех, кто оставался на месте, тогда как тем, кто сидел у затянутого водяной пленкой окна вагона или на влажно блестящей палубе парохода, казалось, будто он то припускает, то иссякает вновь. Дождь лил каждую минуту, не здесь, так там. Он то сеялся где- нибудь над долиной, то неохотно отрывался от вершины горы, то длинными прядями восставал из свинцовой глубины озера. Карета то ныряла в завесу дождя, то выходила из него, зонтики и плащи то раскрывались, то убирались, снопы солнечного света быстро бежали рядом с каретой по горному склону и обрывались за поворотом дороги. Ветер, стремительно налетавший при спусках с гор, рвал шляпы с голов, в маленьких озерцах внизу разыгрывались миниатюрные бури, истерически вскипала вода в сумрачных тихих озерах, а бурные получасовые переправы заканчивались высадкой на крохотных, шатких пристанях. И все это виделось сквозь какую‑то особо влажную дымку, на фоне темного, словно рисованного тушью вразмыв неба, только казалось даже еще более расплывчатым и смутным, словно ребенок набросал силуэт на грифельной доске и смазал его мягкой ладошкой. Случалось, редкий луч солнца и в полную силу озарял намокшие лиственницы на каком‑нибудь далеком, нахмуренном горном гребне, и тогда казалось, будто гора улыбается сквозь влажные ресницы.
Мисс Элси сидела, подобрав свои маленькие ножки под плащ.
— Если бы я пожила здесь подольше, у меня, наверное, отросли бы гусиные лапы, — печально проговорила она. — Мы точно с Арарата спускаемся, когда схлынули воды потопа.
Миссис Керкби сказала, что если б только солнце как следует, по–божески, посветило хоть несколько минут, то можно было бы рассмотреть местность получше.
Тут консул заметил, что обожатели шотландской природы как раз в этом и находят ее главную прелесть. По их мнению, именно этот дымчатый эффект и ставит здешние виды куда выше вульгарных, похожих скорее на хромолитографии, солнечных пейзажей других, менее счастливых в этом отношении стран.
— То есть эта дымка тем и хороша, что не дает разглядеть, какая тут, в сущности, бедная природа, это вы хотите сказать?
Консул возразил, что трудно судить о пейзаже, когда перспективы не видно. А что до того, чтобы солнце светило по–божески, то все зависит от представления о божестве, ведь тут вера‑то иная.
— Ну уж я бы, во всяком случае, не назвала здешний пейзаж прекрасным! Или даже просто милым. Мне кажется, теперь я начинаю понимать, отчего Малькольмовы предки проповедовали такую скучищу у себя дома, в Мак–Корклевилле. Что они могли знать о небе, когда они и видели‑то его раз в году! Да что там небо! Тут даже самые высокие холмы не поднимаются выше тумана, в котором родились. А еще горы называются!
Женское остроумие редко бывает бескорыстно. Догадываясь, что мисс Элси пускает эти словесные фейерверки вовсе не беспредметно, консул обвел взглядом пассажиров. Предмет, достойного вида джентльмен, с интересом прислушивавшийся к разговору, располагался в дальнем конце противоположного сиденья. Это был человек еще молодой, сдержанный, по складу лица, по осанке и по одежде резко отличавшийся от остальных пассажиров, — ярко выраженный тип англичанина из высшего общества, завсегдатая клубов. В то время как наряд почти всех пассажиров говорил об их стремлении в той или иной мере учитывать местный колорит — так, один из туристов от самого Бирмингема ехал в клетчатой юбке, с голыми, незагоревшими коленками, и даже на американке Элси был очаровательный шотландский берет, — человек этот всем своим костюмом, начиная от дорожной шапочки из твида и кончая безукоризненными гетрами и штиблетами, выделялся среди прочих как явный представитель Южной Англии. Раза два к нему обращались с вопросом, и тогда слышался его низкий, приятно ровный голос, но сам он ни словом не отвечал на задорные речи молодой девушки и лишь поглядывал на нее спокойно и сдержанно.
Карета проезжала по бурой лощине, в темной глубине которой бежал такой же бурый, разве что чуточку посветлее, ручей, пенившийся местами наподобие черного пива. По ту сторону лощины вздымался массивный холм. Его каменистый склон, с разбросанными повсюду пятнами чахлой растительности, напоминавшими пучки старой шерсти, удивительно походил на истлевшую шкуру како- го‑то огромного допотопного чудовища. В самом безотрадном месте этого склона стояли развалины башни и обвалившиеся зубчатые стены.
— Дернуло же их построиться в таком месте! — воскликнула мисс Элси. — Будь они бедны, это еще можно понять. Но ведь тут жили важные шишки, эти, как их… старинные вожди .. Уму непостижимо — возвести замок в этой забытой богом глуши!
— А ведь знаете, по нашим, современным понятиям они и в самом деле были бедны и, мне кажется, строили свои замки не для того, чтобы пускать пыль в глаза, а скорее для защиты, вернее сказать, чтобы было где укрыть скот после набегов… Вот совсем как у вас в Техасе строят загоны для скота… По крайней мере так мне рассказывали. Я полагаю, именно так обстояло дело?
С этими словами англичанин обвел глазами пассажиров, как бы желая получить подтверждение со стороны самих шотландцев.
— После каких набегов? — с живостью подхватила мисс Элси. — А, понятно: пограничные набеги. Я страшно любила читать про них.
— Да нет, знаете ли, мне кажется, вы не совсем то имеете в виду, — медленно произнес англичанин. — Ведь отсюда до границы довольно далеко. Я говорю об их набегах на своих же соседей, они угоняли у них скот, проще говоря, воровали. Был у них такой обычай, в старые‑то времена. Впрочем, обо всем этом вы уже, наверное, читали. Ведь вы, американцы, большие знатоки истории.
— Что ж, эти набеги нередко делались только затем, чтобы отбить награбленное, — отозвался один из шотландцев.
— Ну, не думаю, чтобы они особенно разбирали, где свой скот, где чужой, — сказал англичанин.
Тут мисс Элси заговорила о замках вообще и выразила пожелание, чуть ли не заветную мечту своей жизни увидеть замок Макбета в Гламисе, где был убит король Дункан. На это англичанин все так же почтительно заметил, что едва ли убийство произошло именно там и что замок, о котором говорит Шекспир, если только он вообще не выдумал всю эту историю, расположен дальше к северу, в Кавдоре.
— А у вас в Америке, — весело добавил он, — недавно открыли, что и самого Шекспира‑то тоже выдумали.
Это замечание вызвало ответный поток остроумия со стороны молодой девушки, и к тому времени, когда экипаж остановился на следующей станции, они настолько увлеклись беседой, что он имел полное основание пересесть к ней поближе. Разговор снова зашел о руинах, и мисс Керкби сказала, что они едут осматривать что‑то такое на острове Келпи. По какому‑то безотчетному побуждению, а быть может, просто памятуя о Кастере и его оригинальном подходе к делу, консул сделал ей предостерегающий знак. Но англичанин лишь удивленно поднял брови, изобразив на лице нечто вроде иронического сожаления.
— Не думаю, чтобы вам там понравилось, — сказал он. — Место отвратительное — вода да камни, еще хуже, чем здесь, и вдобавок половину дней в году не видно материка, хотя он всего лишь в миле оттуда. Право, очень жаль, что вам навязали туда билеты… Это все устроители экскурсий стараются. Ну и мошенники! Иностранцу там совершенно нечего смотреть.
— Но ведь там развалины древнего замка, — сказала изумленная мисс Элси. — Вотчина рода…
Но тут консул посмотрел на нее таким красноречивым взглядом, что она прикусила язык.
— Кажется, что‑то такое там действительно было… Что‑то вроде того загона для краденого скота, мимо которого мы проезжали, — отвечал англичанин. — Только местные рыбаки давно уже растаскали камни и приспособили их для своих хижин, так что от стен ничего не осталось.
— Как они смели! — негодующе воскликнула молодая девушка. — Ведь это даже не просто святотатство — это воровство!
— Вот именно! Это же расхищение имущества, это все равно что стащить у человека кошелек, — с томным протестом в голосе молвила миссис Керкби.
Столь бурное изъявление хозяйского негодования вызвало у консула улыбку, а ответ англичанина еще больше насмешил его.
— Видите ли, они лишь ограбили грабителей и распорядились добычей с гораздо большей пользой, чем бывшие хозяева, — во всяком случае, куда толковее, чем нынешние владельцы, потому что эти развалины все равно уж ни на что не годятся.
— Но священные воспоминания… живописность! — продолжала настаивать миссис Керкби с ленивым любопытством.
— Воспоминания, знаете ли, это только для семейства, и я не думаю, чтобы в них было что‑либо священное или хотя бы приятное. А что до живописности, то, уверяю вас, развалины чудовищно безобразны. Время не покрыло их своей благородной патиной, а обглодало непогодой, и никаких, знаете ли, плющей, никакого мха — сплошная нагота. Ума не приложу, кто мог послать вас туда, ведь вы, американцы, всегда так разборчивы на всякие достопримечательности.
— Об этих развалинах нам говорил один наш знакомый, — сказал консул с притворной небрежностью. — Возможно, они окажутся не лучше, но и не хуже любых других, и мы не пожалеем о своей поездке.
— По всей вероятности, ваш знакомый ошибся или его ввели в заблуждение, — вежливо отозвался англичанин. — Впрочем, вам может показаться все иначе, — прибавил он задумчиво, — в конце концов я не был там уже много лет… Я только хотел сказать, что можно было бы показать вам кое‑что получше и в Глостершире, всего за несколько миль от моего дома, да и от железной дороги не так далеко. Если вам вдруг случится быть неподалеку от Одри–Эдж, — продолжал он с подкупающей обстоятельностью, благодаря которой все, что бы он ни говорил, даже самые банальные фразы, приобретало оттенок неподдельной учтивости, — и вы сочтете возможным заглянуть ко мне, я с удовольствием покажу наши диковинки вам и вашим друзьям.
Час спустя, когда он распрощался со всеми на железнодорожной станции, где их пути расходились, мисс Элси, крепившаяся изо всех сил, вновь обрела свою обычную говорливость.
— Нет, каково! Он даже не назвал нам своего имени, даже карточки не оставил! Интересно знать, всегда у них в Англии так приглашают гостей? Как же, так мы и разбежались разыскивать его паршивый Одри–Эдж — небось, в честь жены имечко‑то, Одри — да выяснять, кто он такой! Кажется, из вежливости можн, о было назвать нам свою фамилию, если он действительно всерьез приглашал.
— Уверяю вас, он говорил вполне серьезно и действительно пригласил вас в гости, — улыбаясь, ответил консул. — Одри–Эдж, вероятно, очень известное место, а сам он человек с именем. Поэтому он и не стал входить в подробности.
— Ну нет, вы меня туда не зазовете, — сказала мисс Элси.
— Разумеется, ваше дело — ехать или не ехать, — только и ответил консул.
Мисс Элси гордо тряхнула головой. Однако не успели они снова тронуться в путь, как она объявила ему: кто то из пассажиров слышал, как станционный смотритель, разговаривая с незнакомцем, величал его милордом, а другой пассажир сказал, что это был не кто иной, как «сам лорд Данкастер».
— Вот и выходит…
— …что я права, — решительно отвечала молодая девушка. — Он приглашал нас только ради приличия.
Солнце уже село, когда они подкатили к живописной благоустроенной гостинице, которая высилась над рыбачьим поселком, расположенным напротив острова Келпи. Гостиница являла разительный контраст кривой и узкой улочке, уставленной унылыми и неуютными каменными лачугами; щеголеватые туристы, только что высадившиеся с парохода, являли не меньший контраст темнолицым, грубо одетым жителям поселка, которые однако поглядывали на них иронически–независимо, в сознании своей высшей правоты перед богом. Шествие вновь прибывших по главной улице, —вернее сказать, проложенной прямо по берегу дороге, — с носильщиками позади, катившими в низких тачках дорожный багаж, сильно отдавало похоронной процессией; мрачные лица зевак довершали сходство. Вдали, в свете долгих северных сумерек, оловянно блестел залив, обведенный неизменной траурной каймой шотландского приморского пейзажа. Над холодным морем низко висели гряды облаков, очертаний острова не было видно.
.. Интерьер гостиницы, щеголявшей последними ухищрениями мебельно–декоративного искусства, цветисто расписанной и увешанной веселенькими картинами, словно бросал вызов угрюмому пейзажу и голым скалам, среди которых она стояла. Однако попытка разбить сад на бесплодной земле потерпела неудачу: вазоны для цветов стояли пустые, статуи почернели, а железные скамьи были на ощупь такие же скользкие и холодные, как борта парохода.
— Завтра утром погода разгуляется, и на Келпи пойдет лодка, в развалинах будет пикник, — сказал портье консулу и его спутницам, когда они, стоя у окна в веселом холле гостиницы, скептически взирали на открывшийся им вид.
Пикник в священных руинах Келпи… Консул заметил, как гневно вскинули головы обе дамы, услышав о таком дерзком посягательстве на права и привилегии, которые они при желании могли бы получить в свое полное обладание, и взглядом призвал их к осторожности.
— Уж не хотите ли вы сказать, что развалины Келпи — общественное достояние и туда может ездить всякий, кто вздумает? — высокомерно спросила мисс Элси.
— Нет, только наша гостиница имеет право держать лодку для перевоза и продавать билеты — по полкроны с человека.
— И что же, хозяева Мак–Гулиши… дозволяют это?
Портье озадаченно, почти с вежливым сожалением взглянул на них. Это был красивый, высокий, широкоплечий юноша с какой‑то особой, подкупающе простодушной обходительностью в манерах, скрадывавшей его сильнейший акцент.
— Ну конечно! — одобрительно улыбаясь, ответил он. — От них вам беспокойства не будет. Я схожу сейчас за билетами.
Когда он ушел, какой‑то пожилой человек, изучавший расписание на стене, повернулся к ним и, неторопливо связывая слова, проговорил:
— Вы, должно быть, не здешние, не знаете, что Дональд, портье‑то, сам из Мак–Гулишей.
— Что такое? —изумленно воскликнула мисс Элси, у — Мак–Гулиш он, да, этого самого корня. Прямой потомок тех самых Мак–Гулишей, что жили на Келпи. Славный парень, да и для гостиницы прямо находка.
Мисс Элси чуть не прыснула со смеху и прикрыла лицо платком, а ее мать с тревогой спросила:
— Неужели их семья так бедна?
— А я и не говорю, что он беден, сударыня, — ответил незнакомец с провинциальной осторожностью. — Тут тебе чаевые, да бесплатный харч, да проценты с билетов… У него, поди, немало уж в банке‑то лежит.
Предсказание Дональда Мак–Гулиша насчет погоды сбылось. Утро выдалось ясное, солнечное, и в назначенный час лодка, следующая к острову Келпи, — это был большой ял, — наполнилась пассажирами и корзинами со съестным. К этому времени обе дамы как будто свыклись с мыслью о том, что на развалинах замка будут пировать искатели удовольствий, а мисс Элси даже перестала трунить по поводу того, «какой родственничек» был им уготован в лице Дональда Мак-Гулиша.
— Сегодня утром, до завтрака, я долго с ним разговаривала, — весело щебетала она, — и теперь все про него знаю. Похоже, их целые сотни, этих Мак–Гулишей, — и тут, на берегу, и в других местах… Только никто из них не жил на острове и не собирается жить. Но вот Дональд куда больше похож на «лэрда» и вождя клана, чем Малькольм, и если уж придется выбирать главу семьи, я, мамочка, обеими руками проголосую за него. Ты поняла?
— Ну, как же так можно, Элси! —с томным упреком одергивала ее миссис Керкби. — Надеюсь, ты ничего не рассказала ему про синдикат? Слава богу, поместье- то хоть не здесь.
— Нет, не здесь. Официант говорил, все те вкусные вещи, которые нам подавали за завтраком, привозят за много миль отсюда. Взгляни‑ка на остров, на нем, наверно, вообще никогда ничего не выращивали. Подумать только, ради чашки молока к завтраку тут надо отправляться за три мили по морю!
И действительно, на бесплодных скалах, которые начали вырастать из холодных волн впереди, почти не было никакой растительности, и лишь несколько чахлых деревцев и кустов, узловатых и перекрученных наподобие виноградных лоз, льнули к квадратной башне и обвалившимся стенам угловатого, неправильной формы здания и казались частью развалин в их мрачной тени.
— Ни дать ни взять погоревшая костоварка, — язвительно заметила мисс Элси. — Вот не удивлюсь, если узнаю, что предки Мак–Гулишей были великими мастерами по этой части. Заведи они такую штуку на материке, их живо потурили бы оттуда за нарушение общественного порядка.
Тем не менее как только ял вошел в маленькую бухту и заскреб носом по каменистому дну, она одна из первых выпрыгнула на берег и в своих хорошеньких, но не совсем подходящих к случаю туфельках пошла по водорослям, сырому песку и скользким камням, проявляя героизм, за который ей легко можно было простить ее тщеславие. Несколько минут все карабкались по круче и наконец очутились перед проломом в стене, дававшим доступ в развалины. Их внутренняя часть представляла собой неглубокую впадину с размытыми временем очертаниями фундамента. Во впадине зеленела трава, обязанная своим существованием бурым стенам, которые укрывали ее от налетающих с Атлантики шквалов, подобно тому как скалы на материке защищают от ветров растительность долин. Среди камней прозябало несколько цветочков, до того бледных и чахлых, что казалось, они выросли в темном сыром подвале. С первого взгляда эта картина как будто оживлялась обрывками газет, бутылками из‑под пива и содовой воды, пестрыми консервными банками и стреляными гильзами, — остатками пикников и охотничьих пирушек на сыром, пронизывающем ветру; но стены от разъедающего действия времени и непогоды не то чтобы приобрели благородно–древний вид, а просто почернели, так что консулу поневоле вспомнилось образное высказывание мисс Элси относительно «погоревшей костоварки». Вид с башни, служившей гнездилищем нечистоплотных морских птиц и со всех сторон, словно лохмотьями, увешанной клочьями отслаивающегося мха и вьющихся растений, был не менее безотраден: на берегу стояла кучка рыбацких хижин — они были построены из камней, взятых с развалин, и крыты досками, разбухшими от сырости и дошедшими до последних степеней разложения. Из низких труб валил густой дым; проплывая мимо руин, он наполнял их запахом тлеющего торфа и коптящейся рыбы.
— Мне показывали план замка, — радостно возгласила мисс Элси. — В нем не было ни одной комнаты просторнее нашего номера в гостинице, и не в каждой комнате были окна. Малькольмовым предкам казалось, что если оставить в стене щель дюйма в два шириной и фута в два высотой, то это уже чудовищная роскошь! Не удивительно, что некоторые из них вырывались из этой темницы и уплывали в Америку. Да, кстати! Как вы думаете, с кем я сейчас встретилась? Приехал от гостиницы на своей лодке только затем, чтобы повидаться с мамой.
— Уж, конечно, не с Малькольмом.
— Вот еще! — ответила мисс Элси и своенравно поджала губки. — С мистером Кастером, вот с кем! Он сейчас там, на берегу, толкует о чем‑то с мамой. Они придут к завтраку.
Консул вспомнил романтический план, который Кастер восторженно излагал ему в сумраке консульской резиденции в Сент–Кентигерне, и улыбнулся при мысли о скучных туристах, тупых взглядах рыбаков и прозаических руинах вокруг. Подняв глаза, он увидел, что мисс Элси пристально смотрит на него.
— Вы ведь знакомы с мистером Кастером?
— Мы с ним старые друзья еще по Калифорнии.
— Я так и думала. Странно… Мне кажется, он как будто смешался, когда узнал, что вы здесь.
Он и впрямь был чуточку смущен, словно чем‑то сконфужен, когда несколько минут спустя присоединился к ним вместе с миссис Керкби. Но в конце концов ядреный, разымчивый морской воздух взял верх над некоторой неловкостью обстоятельств и неприглядностью окружающей обстановки, и вскоре вся компания со здоровым аппетитом путешественников отдавала должное превосходно составленному завтраку. Было сыро и промозгло, скатерти и салфетки раздрябли, и даже провизия была тронута сыростью; разыгравшийся ветер свистел в руинах и взметал вокруг сотрапезников миниатюрные вихри из клочков бумаги и сухих веток. Но они знай себе ели и пили в свое удовольствие. После еды мужчины встали, отошли к стене и закурили сигары.
— Ты, наверное, все знаешь о Малькольме? — спросил Кастер после неловкого молчания.
— Нет, мой друг, — несколько раздраженно ответил консул, — я о нем ровно ничего не знаю, пора бы, кажется, это понять.
— Я думал, твой приятель, сэр Джемс, рассказал тебе, — многозначительно разделяя слова, продолжал Кастер.
— Я уже целых два месяца не виделся с сэром Джемсом.
— Ну так я скажу тебе: Малькольм того… То бишь, он и всегда был того, а теперь и вовсе свихнулся. Такие вот дела… Шотландское виски и твой приятель сэр Джемс окончательно доконали его. С того самого обеда у Мак- Фе он точно с цепи сорвался… Вскочил там на стол и ну откалывать танец с мечом—стрэтспей или черт его знает, как он еще называется, и верещал при этом, что твоя волынка. А остальные за ним… Знаешь, Джек, я и сам умел раньше пускать дым коромыслом. Казалось бы, уж кому, как не мне, знать, что значит гулять напропалую, но все наши кутежи — просто молитвенные собрания по сравнению с тем, что они вытворяли. Нахлестались до умопомрачения, но потом‑то все прочухались, а вот он — нет. На другой день все были люди как люди, такие же трезвые и благоразумные, как обычно, а его пришлось целую неделю продержать взаперти, и из‑под замка он вышел не в своем уме.
— Но ведь это ничему не помешало, и дело шло своим чередом?
— Видишь ли, мало толку «воодушевлять» клан, когда только он один и воодушевляется.
— Все равно это никак не сказывается на его законных правах.
— Зато сказывается на синдикате, — мрачно проговорил Кастер. — Короче, он стал «воодушевлять» каких‑то лавочников и фабричных рабочих, будто бы тоже из клана—а надо сказать, Этих самых Мак–Гулишей тут как собак нерезаных, — и, когда мы это увидели, нам стало ясно, что для мебели он нам уже не годится. Ну, мы и сплавили его домой с последним пароходом…
— А что же с поместьем?
— Тут полный порядок, — все так же мрачно отвечал Кастер. — Мы пошли на полюбовную, как выразился сэр Джемс. Короче, получили кусок земли где‑то на севере с правом стрелять сколько хочешь — это, значит, там уж не бойся, что в кого‑нибудь попадешь: ни тебе домов, ни людей, ни деревьев. Еще досталась нам полоска земли в том же роде, но уже на берегу моря, где‑то в здешних местах. Там живут какие‑то пентюхи, эти, как их… ну, арендаторы, что ли, и с ними что ни шаг, то крик и тяжба. Ну и, наконец, вот это тихое богоспасаемое местечко с остатками костоварки, с правом ловить рыбу, жечь торф и вообще делать все, чего не дозволяется в приличных местах. Эти угодья обошлись синдикату всего в сто тысяч долларов, наполовину чистоганом, наполовину лугами и пастбищами в Техасе и Кентукки. Но зато мы выиграли дело.
— С чем вас и поздравляю, — сказал консул.
— Спасибо. — Кастер затянулся сигарой и некоторое время молчал. — А этот сэр Джемс, должно быть, парень хоть куда.
— Уж это так.
— Большого, разностороннего ума человек. Знает всех и вся, так ведь?
— Как будто так.
— Ив церковных делах, наверное, вес имеет, и на выборах или там в городском магистрате промаху не даст. А уж во всяких там правлениях везде первый, везде директор, везде президент.
— Похоже, что так.
— Небось, он тебе и суды судит и спорщиков разводит, словом, повсюду ему честь да место. А что до финансистов, так те перед ним на задних лапках ходят. У него теперь, поди, чуть ли не пол–Шотландии в руках.
Консул подтвердил, что сэр Джемс слывет человеком весьма опытным в финансовых и коммерческих делах и состояние имеет немалое.
— Ну еще бы! Я вот все думаю, дорого ли он возьмет, чтобы приехать к нам в Штаты и научить уму–разуму наших молодцов? —с мечтательно–восторженным выражением на лице продолжал Кастер. — Были у нас на Скоттс–Ривер двое–трое да еще китаец один, которых мы считали первостатейными пройдами, — так по сравнению с ним они просто несмышленыши. А уж я‑то, я‑то… Послушай, Джек, в тот день, когда я заходил к тебе в консульство, ты не заметил у меня в волосах сенной трухи?
Консул, смеясь, отвечал, что никаких таких признаков сельской простоты он тогда не заметил.
— И пыли на ушах тоже не было? Ну да ладно, так ли, сяк ли, вернусь домой—сложу с себя все полномочия. Хватит с меня заграничных капиталовложений. А если кто явится к тебе в консульство и спросит о Гарри Кастере, говори, что ты такого не знаешь. Говори со спокойной совестью. И еще вот что, Джек, не в службу, а в дружбу: попытайся оправдать меня перед ней.
— Перед мисс Элси?
Кастер с глубоким сожалением посмотрел на консула.
— Нет. Перед миссис Керкби, разумеется. Понял?
Консулу показалось, что он «понял» и наконец‑то постиг смысл странной спекуляции, затеянной Кастером. Но, подобно большинству теоретиков, строящих свои умозаключения на основании единичного факта, несколько месяцев спустя ему пришлось усомниться в правильности своей догадки.
Он гостил в одном большом загородном имении, за много миль от тех мест, где произошли только что описанные события, и уже успел порядком о них позабыть, так как его соотечественники окончательно покинули Сент–Кентигерн. Был поздний вечер. Он курил в бильярдной у камина, когда к нему подошел какой‑то человек.
— Я вижу, вы не узнали меня за обедом?
Голос был неуверенный, приятный и как будто знакомый. Консул поднял глаза. Перед ним стоял один из прибывших в тот день гостей. Их едва представили друг другу — таков был стиль этого дома, в котором царила самая непринужденная, естественная атмосфера, — и при встрече они успели обменяться лишь ничего не значащими улыбками. Однако консулу вспомнилось, что за обедом незнакомец раза два взглянул на него подкупающе застенчивым взглядом.
— Должно быть, вам приходится видеть столько людей, и, как это у нас в обычае, все до того на одно лицо, все держатся до того одинаково, что нет никакой возможности отличить одного от другого. Ужасно скучно, не так ли? Вы, американцы, совсем другое дело, вот почему ваши соотечественницы и были так обворожительны, знаете ли, так оригинальны. Помните, мы ехали с вами в одной почтовой карете, в Шотландии? Дождь был отвратительный, но мы так весело скоротали время. Вы не расслышали моего имени. Данкастер.
При этих словах консул тотчас вспомнил и узнал своего давнишнего попутчика. Они пожали друг другу руки. Англичанин достал трубку и придвинул кресло поближе к камину.
— Да, — продолжал он, неторопливо набивая трубку, — младшая мисс Керкби — удивительно приятная особа. Такая свежая, такая, знаете ли, естественная и непосредственная, и в то же время бойкая такая, остроумная. Помните, как она разделала перед шотландцами шотландские виды? И ведь совершенно справедливо! Она не приехала сюда вместе с вами?
В глазах англичанина было столько неожиданной искренности, что консул чистосердечно выразил ему свое сожаление по поводу того, что обе дамы вернулись в Париж.
— А я бы с удовольствием прокатил их отсюда в Одри–Эдж. По железной дороге это недалеко. Тогда, в Шотландии, я приглашал их, но у них, наверное, было что‑нибудь более интересное на примете… Если вам случится им написать, вы им скажите, однако, что у меня там сестры, что поместье это старинное и далеко не захудалое, знаете ли. А то я и сам напишу, если вы дадите мне их адрес.
Консул так и сделал, присовокупив к адресу несколько приятных подробностей относительно их положения и состояния, о которых он знал от Кастера, но опустив все, что касается синдиката. Лорд Данкастер слушал его с неослабным интересом и затем почти доверительно сказал:
— Я полагаю, по делам службы вам приходится видеть немало своих соотечественников, и, надо думать, среди них встречаются натуры не менее разнообразные, чем среди нас, англичан. Это само собой разумеется. Иные, наверно, довольно честолюбивы и хлопочут о видном положении, почестях и прочих вещах в том же духе, другие же, как эти вот ваши знакомые, предпочитают ни от кого не зависеть и оставаться самими собой.
Он сделал паузу, неторопливо затянулся трубкой и, улыбнувшись, продолжал:
— Мне хотелось бы рассказать вам об одном странном деле, которое я недавно имел с вашими земляками. Не то чтобы оно выставляло американцев в дурном свете, я вообще не считаю, что оно характерно для американцев, так что, надеюсь, вы не будете на меня в обиде. Так вот, были у меня в Шотландии кое–какие угодья, прямо сказать, довольно неважные, но, можете себе представить, нашлись американцы, которые заявили на них права под предлогом какого‑то отдаленного родства. Возможно, их претензия была отчасти обоснованна, но лишь отчасти. Мой поверенный в делах, очень умный и толковый человек — вы, может быть, о нем слыхали, это сэр Джемс Мак–Фе, он живет в одном с вами городе, — так вот, он написал мне, что от нас хотят лишь каких- то родовых земель со всеми привилегиями и правом носить родовое имя. Самое странное во всей этой истории то, что истец оказался совершенно ненормальным субъектом, а дело вели за него очень толковые люди из западных штатов, и, вообразите, целый синдикат! Я‑то за эти земли не очень держался, мне от них был сплошной убыток, что ни год расходы на поддержание да судебные издержки, и вот сэр Джемс, светлая голова и большой дока по этой часги, возьми да и намекни, что можно предложить им полюбовную сделку и сбыть эти угодья за приличную цену. И можете себе представить, ему это удалось! Но я ума не приложу, зачем все это вашим землякам. Охота в тех краях гораздо хуже, чем у вас на родине, а привилегии ничего не дают.
— Я, кажется, слышал про это дело, — сказал консул, с интересом присматриваясь к собеседнику. — Но, насколько мне помнится, тот молодой человек считал себя единственным законным наследником и представителем рода.
Англичанин встал, наклонился к каминной решетке и тщательно выколотил трубку.
— Этого просто не может быть, — сказал он и, стоя перед огнем — лицом, фигурой и всем своим непринужденным спокойствием более чем когда‑либо похожий на англичанина, — продолжал: — Видите ли, титул лорда Данкастера перешел ко мне от моего дяди, но сам‑то я прямой и единственный наследник древнего шотландского рода и всех его владений. Возможно, я и непохож на шотландца, ведь мы давно уже живем в Англии, но… — заключил он, в типично английской манере растягивая слова — …я, собственно говоря, и есть тот самый Мак–Гулиш, глава рода.
ЗВОНАРЬ У АНГЕЛА
ГЛАВА I
В том месте, где Норт–Форк, рукав реки Станисло, теряет свою резвую, порывистую стремительность и, уже остепенившись, широко и плавно течет по равнине, в него вдается мыс, который, стоит воде чуть прибыть, превращается в небольшой остров. Суровому, отмеченному печатью мужественности пейзажу Сьерры он противопоставляет своеобразный идиллический покой. Седые мхи и серебристые ветки плакучих ив вдоль скалистого берега полощут длинные пряди в медлительных водах; в глубине, сквозь лесные заросли, проглядывают изумрудные прогалины, блистающие зеленью, даже когда овсюги и буйные травы на берегу уже высохли и желтеют. Река, не загрязненная в этой части стоком из рудопромывных желобов, струится спокойно, неторопливо, и на ее прозрачные воды ложатся задумчивые тени.
Некогда здесь была стоянка вождя индейского племени, утерявшего право собственности на землю в тот момент, когда пуля из американского ружья положила конец его жизненному пути. Пионеру, таким образом унаследовавшему эту мирную сень, пришлось, в свою очередь, уступить ее, ибо его сразил метким револьверным выстрелом золотоискатель, пленившийся, как и он, успокоительной тишиной. Долго ли тот наслаждался своим прибрежным уединением, неизвестно. Только как- то, в одну из мартовских ночей, неожиданно разлившаяся река унесла его вместе со старым, подмытым дубом, под которым он предавался глубоким, но, увы, бессознательным размышлениям. Впоследствии там подобрана была большая оплетенная бутыль виски. Иных следов последовательная смена обитателей и законных владельцев не оставила в этом тихом, безмятежном уголке.
Позже там построил себе хижину и поселился некий Мак–Ги, известный более как «Звонарь у Ангела». Этим благозвучным прозвищем, наводившим на мысль о сугубо мирном занятии, он обязан был меткой стрельбе по механической мишени, устроенной так, что попадание в яблочко всегда сопровождалось звоном колокольчика. По всей вероятности, такое своеобразное мастерство и закрепило за ним право на приятное уединение. Как бы то ни было, не нашлось охотников оспаривать это право насильственным вторжением на мыс. Только птицы делили с Мак–Ги его одиночество. Быть может, они и заронили в него мысль о собственном гнезде, во всяком случае, как‑то ясным весенним утром он привел сюда жену. Она действительно была его женой, и, таким образом, он как бы насадил здесь те моральные начала, которые, по общему мнению, являются верным и неизменным признаком настоящей идиллии. Алые юбки миссис Мак–Ги — веселое красочное пятно — замелькали среди деревьев на пустынном мысе, а самое миссис Мак–Ги, ее алые щечки, ее ладную фигурку, шляпу с бантами и каштановые, все еще по–девичьи заплетенные косы нередко можно было видеть в час заката на берегу реки, всегда рядом с мужем, которому, казалось, льстили сопровождавшие их восхищенные взгляды, бросаемые украдкой и издалека. Прогуливаясь по берегу в мягкой тени тополей вдоль меркнущего золота реки, он, несомненно, испытывал ту умиротворенность, которую не могут дать одни земные блага и ни с чем не спутают зоркие глаза бьющего без промаха стрелка.
Ближайшими соседями Мак–Ги были братья Уейн, застолбившие участок на самом берегу реки и построившие себе хижину неподалеку от мыса. Тихие и скромные люди, осуждаемые лишь за пристрастие к церковным песнопениям и затворничество по воскресным дням, они не привлекали ничьего внимания. Но когда, то ли по наитию, то ли в результате кропотливого обдумывания, они отвели воду из протоки, отделяющей мыс Мак–Ги от берега, и наткнулись на несметно богатую золотоносную отмель, подтвердив тем самым свою вполне обоснованную догадку, что это и есть старое русло, запруженное вековыми наносами, они, можно сказать, заодно изменили и судьбы всего крошечного поселения. Общественное признание выразилось в том, что новорожденный поселок и почтовую контору нарекли в честь братьев Уейновой Отмелью. Мирный мыс, хотя и более досягаемый теперь, все еще был местом тихим и уединенным, и хорошенькая миссис Мак–Ги могла из своего увитого листвой убежища наблюдать за ведущимися внизу работами, оставаясь при этом невидимой. Так жизнь медленно, но неуклонно вторгалась в этот неприступный идиллический уголок, более того, преображалась и сама местность — даже Норт–Форк изменил свой цвет. Машины, установленные Уейнами, гнали в ставшие теперь мутными воды промытую породу, и отныне мыс огибала желтая река. Подступы к Эдему были уже осквернены, окрасившись в цвет золота.
Однако миссис Мак–Ги вряд ли приходили в голову подобные сентиментальные рассуждения, а ее муж сам в известной мере способствовал сокрушению неприступности своих владений, присоединив к ним участок на берегу реки — его предоставили ему совестливые Уейны как возмещение за разрытый перешеек — и став, таким образом, причастным судьбе всей Отмели. Миссис Мак-Ги развлекалась тем, что из своего скрытого от глаз убежища наблюдала — по всей вероятности, с детским интересом, — как трудятся на отмели братья в одинаковых красных рубашках; однако же всякий раз, когда она перебиралась вниз на берег, ее сопровождал муж. В маленьком поселке появилось еще несколько женщин— жен старателей, но было ясно, что Мак–Ги так же мало расположен вверять жену их обществу, как и обществу их мужей. Сложилось мнение, что Мак–Ги, будучи старожилом и имея, благодаря упоминавшемуся выше мастерству, связи в высших кругах поселка Ангела, склонен к аристократической замкнутости.
Впрочем, обоим братьям — основоположникам благосостояния Отмели, отведено было столь же высокое место с тем же правом на исключительность. Своим образом жизни они резко отличались от остальных старателей, и это так же верно ограждало их от посягательств на близкое знакомство, как и репутация Мак–Ги — его жену. Старший, Медисон Уейн, был высок, крепкого сложения, хотя и худощав, скуп на слова и медлителен в суждениях; его брат, Артур, был ниже ростом, менее угловат и принадлежал к более хрупким и, вероятно, более впечатлительным натурам. Кое‑кто полагал, что недалек тот день, когда они увидят, как Артур «просаживает деньги в покер» и «хлещет виски, как и пристало белому человеку». Пока же братья, по–видимому, довольствовались тем, что проводили вечера у себя в хижине, а воскресные дни — в пресвитерианской молельне, куда было не меньше десяти миль ходу и где, по слухам, адский огонь отмеривали щедрой рукой всем без разбору, и ни за что ни про что осуждали младенцев на вечные муки. Когда же братья по воскресеньям оставались дома, то к ним приходил священник — таково по крайней мере было общее мнение, пока кто‑то не убедился, что голос, произносивший в хижине слова священного писания, принадлежал всего–навсего Медисону Уейну, который вслух читал Библию своему брату. Рассказывали, что однажды при этом перед хижиной остановился Мак–Ги— на сей раз без жены, — постоял и отошел с выражением более чем обычного довольства на лице.
Как‑то утром, часов около одиннадцати, Медисон Уейн один работал на Отмели. В темно–серой шерстяной фуфайке и белых парусиновых штанах, закатанных выше облепленных илом и песком резиновых сапог, он был похож на мирного рыбака, вбивающего колышки для своих сетей. Медисон работал возле самого мыса. Неожиданно его чуткий слух уловил какой‑то всплеск и крик. Оглянувшись, он увидел мелькнувшую в воде алую юбку миссис Мак–Ги и над ней подозрительно колышущиеся ветви дерева. Медисон Уейн бросился к берегу, скинул с ног тяжелые сапоги и прыгнул в воду. В несколько взмахов он доплыл до алой юбки, которая, как он правильно догадался, действительно заключала в себе самое миссис Мак–Ги, цеплявшуюся за ветку дерева. Обхватив ее талию одной рукой, а другой взявшись за ветку, Медисон обрел точку опоры и вытащил миссис
Мак–Ги на берег. Мгновение спустя, насквозь мокрые, они уже стояли друг против друга под деревом.
— Ну, — сказала молодая леди.
Уейн с присущей ему обстоятельностью окинул взглядом пустынный берег и, озабоченно нахмурившись, спросил:
— Вы упали в воду?
— Ничего подобного. Я прыгнула в воду.
Уейн снова огляделся по сторонам, как бы ожидая увидеть ее неизменного спутника, потом отжал свои густые волосы.
— Прыгнули в воду? — медленно повторил он. — Зачем?
— Чтобы ты пришел сюда, Мед Уейн, — подбоченясь, сказала она со смехом.
Глядя друг на друга, они стояли мокрые с головы до ног, словно вышедшие из воды речные боги, и, как боги, нимало не смущались тем, что штаны у Уейна закатаны выше колен, а намокшая алая юбка плотно облегает соблазнительную фигурку миссис Мак–Ги. Но Уейн быстро опомнился.
— Вам надо пойти переодеться, — серьезно сказал он. — Вы можете простудиться.
Миссис Мак–Ги пренебрежительно передернула плечами.
— Со мной‑то ничего не случится, — сказала она. — Но вот что случилось с тобой, Мед Уейн? С чего это тебе вздумалось играть со мной в молчанку и прикидываться, будто ты меня не узнаешь? Не станешь же ты утверждать, что я так изменилась?
Она провела рукой по мокрым косам, как бы для того, чтобы отжать из них воду, и, однако, в жесте ее было немало кокетства.
В лице Уейна, помимо его воли, проступило что‑то новое. Его серьезные глаза осветились изнутри.
— Нет, ты все та же, — неторопливо сказал он. — Но ты замужем. У тебя есть муж.
— И ты воображаешь, что девушки от этого меняются? — произнесла она, смеясь. — Тут‑то все вы, мужчины, и попадаете впросак! Тебя отпугивает его ружье, Мед, вот и вся перемена.
— Ты же знаешь, что никакое земное оружие меня не испугает, — ответил он спокойно.
Она это знала, но просто воспользовалась привилегией своего пола — выдумывать для вящей убедительности доводы, чтобы тут же милостиво от них отказываться.
— Тогда почему же ты избегаешь меня? Почему отводишь глаза, когда я прохожу мимо? — с живостью спросила она.
— Потому что ты замужем, — ответил он медленно.
Она небрежно отряхнула с себя воду, совсем как молодой ньюфаундленд.
— Вот оно что! Ты просто злишься оттого, что я вышла замуж. Ты злишься оттого, что я вышла замуж не за тебя с твоей молельней на перекрестке и не распеваю с тобой гимны и не стала сестрой Уейн. Ты хотел, чтобы я отказалась от воскресных танцев и катаний в двуколке, и ты злишься, оттого что я тебя не послушалась. Да, ты злишься, попросту злишься и, как мальчишка, кусаешь себе локти, мистер Мед Уейн, несмотря ыа все твое христианское смирение! Вот и все!
И тем не менее она была мила и соблазнительна в порыве своего напускного гнева, такого ненастоящего и несерьезного, что, казалось, она смахнула его со своих юбок единым движением, приоткрывшим на миг ее изящные щиколотки.
— Ты сама выбрала Мак–Ги, — произнес он мрачно. — Но я не виню тебя за это.
— С чего ты взял, что я его выбрала? — резко возразила она. — Много ты знаешь! — Затем, сдавая с чисто женской непоследовательностью свои позиции, она, рассмеявшись, добавила: —Невелика разница — стерегут ли тебя с ружьем или с псалмом. Только…
— Только — что? — серьезно спросил Медисон.
— Другие мужчины не посмотрели бы на ружье и пошли бы на риск из‑за девушки, которая только тем и провинилась, что не снесла всего этого псалмопевческого вздора.
Выражение боли, промелькнувшее в суровом, мрачном лице Медисона, лишь раззадорило ее милую проказливость. Но он еще раз оглядел уединенный берег, провел рукой по своему мокрому рукаву и сказал:
Мне надо идти. Твоему мужу не понравилось бы, что я здесь.
— Он сейчас работает на участке — на том самом, который дал ему ты. Интересно, как бы ему понравилось, если бы он узнал, что получил его от человека, который всего два года назад увивался за его женой? Не тревожит ли это твою христианскую совесть?
— Я непременно сказал бы ему об этом, не будь я уверен, что все кончено у нас с тобой и мы больше никогда не увидимся, — ответил Медисон таким размеренным тоном, что ей послышался в нем звон церковных колоколов.
— Вот как, брат Уейн? — сказала она, подражая его тону. — Ну так знай же, ты единственный человек во всей Отмели, который пришелся по душе моему мужу.
Бледные щеки Медисона чуть покраснели, но он не произнес ни слова.
— Я думаю, —продолжала миссис Мак–Ги нетерпеливо, — он не станет возражать против того, чтобы ты иногда навещал меня. Если, конечно, у тебя есть такое желание.
— Я не желаю приходить, если только он не будет знать, что мы с тобой были когда‑то помолвлены, — сказал Медисон угрюмо.
— А может, не в пример тебе, он это ни во что не ставит, — бойко возразила молодая женщина. — Не все же такие строгие в этих делах, как ты. Нет девушки, которая не была бы раз, а то и два помолвлена. Но поступай как знаешь, сиди себе дома, если тебе это нравится, и распевай псалмы, и читай священное писание своему младшему брату, хотя я‑то уверена, что он предпочел бы гулять с другими такими же* молодцами.
— Он у меня богобоязненный и совестливый, — быстро проговорил Медисон. — Ты его не знаешь. Ты никогда его не видела.
— Это верно, — сказала она. И, притворившись (впрочем, только наполовину притворившись), будто дрожит в своем мокром платье, добавила: —Хватит с меня и одного святоши. Целой молельни мне не выдержать, Мед.
— Ты простудишься, — спохватился он, и его лицо вдруг засветилось нежностью, преобразившей угрюмые черты;— Я держу тебя здесь, а тебе надо идти переодеться. Прошу тебя, иди сейчас же!
Она стояла перед ним по–прежнему вызывающе соблазнительная, делая вид, что вытирает пучками мха руки, плечи и мокрую одежду.
— Ну, пожалуйста, Сейфи, иди!
— Ах, — вырвалось у нее торжествующе. — Значит, ты придешь навестить меня, Мед?
— Да, — ответил он медленно и еще более сдержанно, чем вначале.
— Только дай я покажу тебе, как выбраться — вот сюда, под эти деревья и потом кругом. Тогда тебя никто не увидит.
— Я уйду так же, как и пришел, —сказал он спокойно и, оттолкнувшись от дерева, прыгнул в реку. Прежде чем она успела сказать хоть слово, он уже, размеренно взмахивая руками, плыл наперерез течению.
ГЛАВА II
Неделю спустя Медисон Уейн сидел один у себя дома. Слуга китаец только что убрал со стола остатки ужина. Смеркалось, и закатное солнце, настойчиво превращавшее окна хижины в яркий маяк для тех, кто держал путь вдоль берега, скрылось наконец за тополями. Медисон Уейн сидел, подперев голову рукой; перед ним на столе лежала открытая книга, которую он читал до того, как стемнело. В этот момент он услышал, как снаружи заскрипел песок под чьими‑то нерешительными шагами. Уейн был так поглощен своими мыслями, что не заметил, как к его хижине подошел человек, хотя единственная здешняя улица — берег реки — была у него перед глазами. Он поднял голову — на пороге, положив ладонь на дверной косяк, стоял Александр Мак–Ги. Краска бросилась в лицо Уейну, он почти непроизвольно потянулся к книге и быстро придвинул ее к себе — так люди в минуту опасности хватаются за оружие. «Звонарь у Ангела», заметив только жест, но не румянец, одобрительно кивнул головой.
— Не хочу мешать вам. Я тут шел мимо и, дай, думаю, остановлюсь й скажу ему «доброй ночи»,
Он прислонился к косяку, сперва передвинув для удобства висевший на бедре револьвер. При виде оружия Уейн слегка сдвинул брови, но тем не менее произнес своим обычным сдержанным тоном:
— Заходите, пожалуйста.
— А вам сейчас не время молиться? —вежливо спросил Мак–Ги.
— Нет.
— Может, вы должны дочитать что‑нибудь из писания?
— Нет.
— Потому что я так сужу, что неправильное это, как бы сказать, дело — мешать человеку, когда он чем‑нибудь занят. Понимаете, что я хочу сказать?
Такая уж у него была особенность — он вечно мучился от неумения ясно выразить свою мысль и боязни быть не так понятым, даже когда говорил самые, казалось бы, простые и незначащие вещи. Эта неуверенность, однако, поразительно не вязалась с ясным, проницательным взглядом его глаз.
Уейн с присущей ему серьезностью заверил Мак–Ги, что тот никак не помешал ему.
— Я не раз подумывал, то есть была у меня такая мысль — вы понимаете, что я хочу сказать? — взять да и заглянуть к вам, когда я хожу мимо. Мы с вами, видите ли, вроде бы чем‑то схожи, мы идем не в ногу со всем поселком. Понимаете, что я хочу сказать? Мы не участвуем в общей игре. Ясно вам, куда я гну?
Медисон Уейн невольно взглянул на револьвер Мак-Ги, и тот своими зоркими глазами тотчас же перехватил этот взгляд.
— Вот именно. Понимаете? Вы с этими вашими книгами, а я с моим револьвером, мы вроде бы не такие, как все. Нам надо с вами стать, ну, как бы компаньонами. Понимаете, что я хочу сказать? Мы держим этот лагерь в узде. У нас с вами все тузы на руках, и мы не потерпим блефа.
— Если вы хотите сказать, что пример христианской и богобоязненной жизни может до некоторой степени оказывать благотворное влияние… — начал Медисон серьезно.
— Вот именно: бога ли бояться или моего револьвера — все сводится к одному, когда покопаешься поглубже и дойдешь до коренной породы, — прервал его Мак–Ги. — Я, понятно, не жду, что вы думаете, как я, но мне ваш обычай очень по душе, хотя я и не умею играть в вашу игру. Вот я и говорю моей жене «— вы ее видали, она частенько прогуливается здесь со мной. — «Сейфи, говорю, я должен познакомиться с этим человеком, и познакомлюсь! И я хочу, чтобы ты познакомилась с ним». Постойте, — быстро добавил он, видя, что Уейн покраснел и с протестующим жестом встал со стула. — Вы не поняли. Я ведь догадываюсь, что у вас в мыслях. Когда я женился и привез жену сюда, я ей сказал — мне- то ведь известно, что такое старательский лагерь: «Никаких штучек, никаких шашней за моей спиной, дорогая! Ты молода и понятия не имеешь, что такое мужчины. Первого же, с кем ты заговоришь, я уложу на месте. Тебе, моя дорогая, бояться нечего, я могу прострелить все вокруг тебя, мои пули пройдут у тебя под рукой, над плечами, над головой, между пальцами — и ни одна не коснется, не заденет, не поцарапает тебя. Но уж по нему я не промахнусь. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду, — сказал я. — Так вот, остерегись!» А вы заметили, какое уважение оказывают тут все моей Сейфи? Королева Виктория на троне, и та такого не знает. Но когда я вижу вас и вижу, что вы не сбиваетесь со всеми в одно стадо, не поднимаете глаз на меня и на Сейфи, когда мы идем мимо, не таскаетесь по салунам, не подмигиваете и не сыплете грязными историями про женщин, а молитесь здесь и вместе с братом читаете рассказы из священного писания, я говорю себе: «Сэнди, когда он поблизости, можешь снять свой револьвер, а дробовик повесить на стену. Потому что между ним и твоей женой стоит не револьвер, а страх перед богом, и преисподней, и вечными муками, и вера в загробную жизнь.» Вы понимаете, что я хочу сказать? Вы схватываете мою мысль? Вам ясно, куда я мечу, так ведь? Я к тому говорю, чтобы вы приходили запросто, по–соседски навестить мою жену.
Лицо у Уейна снова стало замкнутым и угрюмым; он приблизился к Мак–Ги, прижимая к груди книгу с заложенной пальцем страницей.
— Я знаком с вашей женой, мистер Мак–Ги. Я знал ее еще до того, как познакомились с ней вы. Я был помолвлен с ней; я любил ее, и в той мере, в какой дозволено любить жену другого, не нарушая заповедей этой книги, я все еще люблю ее.
К его удивлению, Мак–Ги, который все это время смотрел на него ясным взглядом, ни разу не отведя его в сторону, внимательно оглядел его, взял у него книгу, положил на стол, открыл, вопрошающе перелистал страницы и, сказав с уважением: «Вот тут и есть этот закон?» — протянул ему руку.
Медисон Уейн помедлил в нерешительности и потом сжал его руку.
— Знай я это раньше, — проговорил Мак–Ги, — я, верно, не был бы так строг и придирчив к Сейфи. Она лучше, чем я думал о ней, раз ее женихом были вы! Вы понимаете, что я хочу сказать? Схватываете мою мысль? Я всегда вроде бы удивлялся, почему она за меня пошла, но теперь, зная, что за ней ухаживали вы на ваш правильный божеский лад, я так сужу: вы ее к этому и подготовили. Понимаете? Ну, значит, решено, вы к нам придете?
— Я зайду к вам как‑нибудь вечером вместе с братом, — смущенно сказал Медисон.
— С кем? — переспросил Мак–Ги.
— С моим братом Артуром. Мы обычно проводим вечера вместе.
Мак–Ги помолчал, прислонившись к косяку, и, устремив на Уейна свой ясный взгляд, произнес:
— Если вам это все равно, то лучше не приводите его. Понимаете, что я хочу сказать? Схватываете мою мысль? Только вы и я, и никакого другого мужчины. Я ничего не имею против вашего брата, но вы сами Должны понять. Только вы и я.
— Хорошо, я приду, — сказал Уейн угрюмо.
Но когда Мак–Ги вышел, он в нерешительности последовал за ним. Сделав над собой усилие, он проговорил почти хрипло:
— Я должен сказать вам еще одно. Я виделся с миссис Мак–Ги и разговаривал с ней уже здесь, в Отмели. На прошлой неделе она упала в воду, и я подплыл к ней и вытащил ее на берег. Мы разговаривали, вспоминали прошлое.
— Упала в воду? — протянул за ним Мак–Ги.
Уейн помедлил, потом, густо покраснев, медленно повторил:
— Упала в воду.
У Мак–Ги просветлели глаза.
— Я был слишком строг к ней. Она могла бы утонуть, вы спасли ее, рискуя жизнью. Так ведь? Вы понимаете, что я хочу сказать? И подумать только, она мне ни словом не обмолвилась, даже не похвастала, что это вы помогли ей выбраться. Ну хорошо, значит, вы придете и повидаетесь с ней снова.
Он повернулся и зашагал прочь бодрым шагом.
Уейн возвратился в хижину. Он сидел у окна до тех пор, пока над рекой не зажглись звезды, а одна звезда, давно знакомая ему, не заняла своего обычного места в чаще у самой вершины холма на маленьком мысе. Прибрежные леса на том берегу постепенно слились в темную прямую полосу, протянувшуюся через все видимое пространство, и сырой блестящий песок перед хижиной померк. Вскоре и мрачное лицо Уейна исчезло из окна, и мистер Мак–Ги, наверно, был бы весьма удовлетворен, знай он, что Уейн опустился на колени перед своим стулом и склонил голову на молитвенно сложенные руки. Немного погодя Уейн поднялся, вытащил из угла старый, потрепанный чемодан, вынул из него связку писем и стал не спеша, одно за другим, бросать в теплящийся в очаге огонь. Поэтому окна хижины то ярко освещались, то снова погружались во мрак, сбивая с пути и без того сбившегося в этот вечер с пути Артура Уейна, возвращавшегося из поселка Ангела в том несколько мрачном и раздраженном состоянии духа, которое следует за чрезмерной веселостью и свидетельствует о нечистой совести.
Когда Артур вошел, последнее письмо уже догорело, и в хижине было темно. Брат сидел возле угасающего очага, и Артур понадеялся, что при неясном свете выражение его лица и неуверенность движений, которую он сам с неловкостью ощущал, пройдут незамеченными.
— Что так поздно? — спросил Медисон суровым тоном.
В ответ на это Артур сразу перешел в наступление. Он вернулся не позже, чем другие, и если молодые Роджерсы вызвались по доброте душевной составить ему компанию, то не мог же он убежать от них только потому, что его ждет брат! Нет, ужинать он не будет, он перекусил кое–чем в салуне на Перекрестке вместе со всеми. Да! И виски, если на то пошло. Не станут же там подавать кофе и безалкогольные напитки в угоду ему и его брату, а он не намерен оскорблять все общество, держась особняком. Во всяком случае, он не давал еще зарока не прикасаться к спиртному и не понимает, почему он должен отказываться от стаканчика: и без того все говорят, что он неженка и слюнтяй, он сыт этим по горло.
Медисон встал, зажег свечу и поднес ее к лицу брата. Перед ним было красивое юношеское лицо, раскрасневшееся от новых впечатлений или, быть может, от причин более материального свойства. Небольшие шелковистые усики были щегольски подкручены кверху, каштановые кудри напомажены медвежьим салом. Однако в вызывающем взгляде синих глаз проступала юношеская робость и неуверенность, тотчас же растопившая сердце старшего брата. «Я был слишком строг с ним», — сказал он себе, безотчетно вспомнив слова Мак–Ги о Сейфи. Уейн поставил свечу на место и, мягко опустив руку на плечо Артура, проговорил со сдержанной нежностью:
— Ну, Арти, садись и расскажи мне обо всем.
После чего переменчивый Артур, мигом избавившись от всякого беспокойства, а заодно и от владевших им сомнений и упреков совести, стал веселым и разговорчивым. Когда он покончил с покупками в поселке Ангела, хозяин лавки представил его полковнику Старботтлу из Кентукки, как «одного из братьев, прославивших Уейнову Отмель». И полковник Старботтл сказал своим обычным напыщенным тоном — вообще‑то он в конечном счете не так уж плох, — что семья Уейнов должна быть представлена в Совете Штата и что он почтет за честь выставить кандидатуру Медисона и провести его на следующих выборах.
— И знаешь, Мед, если бы ты побольше водился со здешним народом и они, ну что ли, меньше боялись тебя, ты наверняка прошел бы. Я вот уйму друзей себе завел, просто поболтавшись там немного. И одна из дочерей старика Селвиджа — знаешь, хозяина лавки — заявила, что по рассказам представляла себе меня пятидесятилетним стариком, который глаза заводит от слабости, а не то что подкручивает кончики усов. Она за словом в карман не лезет! А к почтмейстеру приехала из Штатов жена с тремя дочками, и они позвали меня на свой церковный праздник на будущей неделе. Конечно, это не наша церковь, но ведь здесь нет ничего дурного.
И он порассказал еще многое другое с болтливостью человека, облегчившего свою совесть. Когда он остановился, чтобы перевести дух, Медисон проговорил: — А у меня здесь после твоего ухода был гость — мистер Мак–Ги.
— Вместе с женой? — живо спросил Артур.
Медисон слегка покраснел.
— Нет, но он пригласил меня навестить ее.
— Это ее рук дело, — сказал Артур со смехом. — Она, когда проходит мимо, всегда искоса поглядывает на меня. И еще вчера Джон Роджерс дразнил меня, говорил, чтоб я держал ухо востро, не то Мак–Ги продырявит меня пулей, и вся недолга. Конечно, — добавил он и, рисуясь, подкрутил усы, — все это глупости! Но людям не запретишь болтать, к тому же она слишком хорошенькая для такого мужлана, как Мак–Ги.
— Она обрела в его лице заботливого супруга, — сказал Медисон строго, — и тебе не подобает, да и не по- христиански это, Артур, повторять пустые и нечестивые сплетни, которые распускают в поселке. Я знал ее до замужества, и пусть она не была ревностной христианкой, но всегда была чистой, хорошей девушкой! А теперь довольно об этом.
То ли тон брата на него подействовал, то ли просто переменчивость характера взяла свое, но Артур оставил эту тему и продолжал многословно пересказывать свои впечатления от поселка Ангела. Однако, по–видимому, он нисколько не был смущен или обескуражен, когда в разгар его разглагольствований брат раскрыл Библию, поставил на стол свечу и выдвинул два стула. Артур слушал, как Медисон невыразительно читает положенный ежевечерний отрывок, со столь же невыразительным почтением. Потом они поднялись, не глядя друг на друга, и с одинаковым, раз и навсегда установленным бесстрастным выражением, застывшим на лицах, преклонили колени каждый перед своим стулом, держась обеими руками за твердые деревянные спинки, которые, словно в порыве покаяния, они время от времени судорожно прижимали к себе. В этот вечер вслух молился старший брат, и его голос, постепенно становясь все громче и громче, взлетал над стенами и низкой крышей хижины, над ровной линией огней прибрежного поселка, мерцавших за окнами, над темными деревьями, окаймлявшими реку, и над огоньком там, на холмистом мысе — все ввысь, ввысь к спокойным, бесстрастным звездам.
Пусть в его тоне и жестах было много нарочитого и показного, но признания его, обращенные к творцу всего сущего, шли из глубины сердца, и поэтому наша летопись умалчивает о них. Достаточно сказать, что в них звучали обвинения всему человечеству, поселку, самому себе, брату, хотя многое вызвавшее его гнев было вложено в человека самим творцом и никогда им не возбранялось. Но в его исполненных отчаяния обличениях тем не менее теп^ лилось человеческое чувство и нежность; об этом свидетельствовало то обстоятельство, что к концу руки у него дрожали, а лицо было орошено слезами. Младший же брат был настолько растроган, что принял решение впредь уклоняться от вечерних молений.
ГЛАВА III
Через неделю поселок с удивлением наблюдал за тем, как Медисон Уейн вдвоем с мистером Мак–Ги шли не спеша по направлению к мысу. Вступив в заросли ивняка и лавров, которые словно определяли его границы, они скрылись из виду и стали подниматься по узкой лесной тропинке, пока не добрались до вершины холма, расчищенной акра на два и, к удивлению Уейна, возделанной. Здесь же находилась и супружеская обитель Мак–Ги — четырехкомнатный домик, столь своеобразного, необычного вида, что привлек к себе даже рассеянное внимание Медисона. Это было швейцарское шале, разборное и прибывшее сюда в ящиках, импортированное из Европы в Калифорнию еще в те времена, когда там впервые было найдено золото и считалось, что страна эта — безлесная местность. С присущей ему дотошной добросовестностью Мак–Ги объяснил, что купил его в Мэрисвилле не столько за живописность, сколько за то, что в своих ни о чем не говорящих упаковочных ящиках домик не должен был возбудить любопытства старателей и, кроме того, мог быть установлен с помощью одного–единственного, не страдавшего болтливостью китайца, — вот почему никто не подозревал о существовании шале. Поистине было что‑то неожиданно привлекательное в этом образчике архитектурного мастерства Старого света, в этой безупречно пригнанной двухцветной дощатой обшивке, ромбовидных резных украшениях, причудливых скатах крыши, выступающих карнизах и миниатюрной галерее. И хотя Медисону, как большинству людей строгих и косных взглядов, чуждо было всякое искусство, и глаз его привык к скупым и суровым очертаниям хижин калифорнийских старателей, тем не менее он пленился изяществом и новизной этого домика. Он напомнил ему о ней, и Медисон почувствовал прилив уважения к грубоватому нечестивцу, сумевшему так вознести свою жену, выбрав для нее это жилище. Черокийская роза и лоза испанского дикого винограда обвили галерею. Здесь‑то и сидела миссис Мак–Ги.
В ее обращенном к ним лице Медисон прочитал, что их появление было для нее неожиданностью, а из того легкого изумления, с каким она посмотрела на мужа, он заключил, что тот ничего не рассказал ей о своем предварительном визите и приглашении. Это подтвердилось первыми же словами Мак–Ги.
— Я привел к тебе старого друга, Сейфи. Он ухаживал за тобой в Ангеле до меня — так он сам сказал мне; а в Отмели вытащил тебя из воды, — это он мне тоже сказал. Помнишь, я еще раньше говорил тебе, что он единственный из всех здешних мужчин, с кем я хотел бы свести знакомство, и, надо же, как все ладно получилось, это и твой выбор тоже. Понимаешь, что я хочу сказать, схватываешь мою мысль?
Схватывала миссис Мак–Ги мысль своего мужа или нет, неизвестно, но, во всяком случае, она не проявила ни досады, ни беспокойства, не выказала ни малейшего смущения. Искушенный в такого рода делах мужчина усмотрел бы в этом полном отсутствии замешательства дурное для себя предзнаменование. Но Медисон не был мужчиной искушенным. В ее беззаботной улыбке он прочел поощрение своим чувствам, от прикосновения ее прохладной ручки его, как от жаркого пожатия, бросило в дрожь, и он едва осмелился поднять глаза и встретить ее смеющийся, дразнящий взгляд. Как только он оказался на галерее, последовав туда за Мак–Ги, ему сразу стало понятно, чем она была занята до их прихода. С этого возвышения открывался вид на всю местность и на протекавшую внизу реку; поселок, как карта, расстилался у ее ног; ясный прозрачный воздух позволял ей видеть каждый жест и даже выражение лица младшего Уейна, который, никак не подозревая о том, что является объектом наблюдения, работал один на Отмели. Мгновенно бледное лицо старшего Уейна окрасилось румянцем, отчего, он и сам не знал. Очевидно, им овладело чувство раскаяния оттого, что он не работает там, рядом с братом. Слова миссис Мак–Ги, казалось, отвечали его мыслям.
— Отсюда можно незаметно рассмотреть все, что делается внизу. Иногда я развлекаюсь этим. На днях молодой Карпентер в кустах возле хижины миссис Роджерс выжидал, пока уйдет ее старый муж, и я видела, как она, думая, что скрыта от всех глаз, тайком пробралась к нему.
Миссис Мак–Ги рассмеялась, стараясь поймать отведенный в сторону взгляд Медисона и не замечая при этом его сдвинутых бровей. На слова ее откликнулся мистер Мак–Ги:
— Вот почему, — пояснил он Медисону, — я не разрешаю моей Сейфи водиться с этими женщинами. Не то, чтобы мне приходилось видеть что‑нибудь вроде этого, да и нет у меня охоты на это смотреть, а такие уж у меня правила. Вы понимаете, что я имею в виду?
— Это ваш брат там? —повернувшись к Медисону, спокойно пропустив мимо ушей высказывание мужа, спросила миссис Мак–Ги, указав на видневшуюся вдали фигуру Артура. — Почему вы не взяли его с собой?
Медисон в нерешительности посмотрел на Мак–Ги.
— Его никто не звал, — сказал этот джентльмен жизнерадостным тоном. — Третий будет лишний! Ты с ним не знакома, моя дорогая, и я не собираюсь приглашать к нам всю Отмель. Ты схватываешь мою мысль?
Не возразив на это ни словом, миссис Мак–Ги поднялась и стала водить Медисона по своему маленькому коттеджу. В узком коридорчике она коснулась его руки;
потом, задержавшись при переходе из комнаты в комнату, чтобы пропустить вперед мужа, за его спиной многозначительно посмотрела Медисону в глаза. Смущенный и растерянный, он выдавил из себя несколько общих фраз, но так принужденно, что даже Мак–Ги это заметил. Затем события приняли настолько неожиданный оборот, что Медисон и вовсе растерялся.
— Послушайте, — сказал Мак–Ги, внезапно повернувшись к ним. — Думается мне, вам надо бы поговорить о старых временах, а я пока пойду на участок и поработаю. Не обижайтесь на меня. А если он, — тут Мак–Ги указал пальцем на Медисона, — станет толковать с тобой о религии, не обижайся и ты на него. Это тебе не принесет вреда, Сейфи, не больше, чем мой револьвер, а действует это сильно, и… Ты понимаешь? Схватываешь мою мысль? Ну, я пошел!
Он тут же вышел и вскоре затерялся среди деревьев. Смущенный Медисон подумал было последовать за ним, но ему преградили путь озорные глаза и улыбающееся лицо миссис Мак–Ги, стоявшей между ним и дверью. Потом, вдруг напустив на себя серьезность, она указала Медисону на стул.
— Садись, брат Уейн. Если ты хочешь обратить меня в свою веру, на это, как известно, нужно время. С тем же успехом можешь устроиться поудобнее. Ну, а я, я займу место, положенное кающимся грешникам. — Она рассмеялась своим прежним девичьим смехом, таким знакомым Медисону, подпрыгнув, уселась на стол и, сложив на коленях руки, начала покачивать ножкой в щегольской туфельке.
Обратив к ней бледное взволнованное лицо с горящими глазами, Медисон молча и беспомощно смотрел на нее.
— Ну, а если ты хочешь поболтать со мной, Мед, как бывало мы болтали, усевшись на крылечке в Ангеле, когда па и ма уходили в дом, тогда садись рядом со мной. — И она сделала вид, что подбирает свои пышные юбки.
— Сейфи, — произнес несчастный мученик тоном, который, казалось, становился все более строгим и торжественным по мере того, как росло его волнение, — закон всевышнего соединил тебя с этим человеком…
— Ах, у нас здесь, оказывается, молитвенное собрание! — протянула Сейфи, с подчеркнутой покорностью снова расправляя юбки. — Продолжай.
— Послушай, Сейфи, — горестно воззвал к ней Медисон, — во имя господа, во имя нашего прекрасного благословенного прошлого, давай побеседуем с тобой серьезно и благостно. Воспользуемся этими минутами, чтобы искоренить из наших слабых сердец желания, внушенные искусителем, желания, которые твой союз с этим человеком сделал запретными и греховными. Во имя прошлого давай, как брат и сестра, обсудим это с тобой.
— Вот как! Теперь я сестра Мак–Ги! — оборвала она его с издевкой. — Не очень‑то ты был похож на брата, когда увивался за мной в Ангеле.
— Я тогда любил тебя и хотел, чтобы ты стала моей женой.
— А теперь ты разлюбил меня? —спросила она дерзко, глядя ему прямо в глаза озорным взглядом. — Только потому, что я не вышла за тебя замуж? И ты воображаешь, что это по–христиански?
— Ты же знаешь, что я люблю тебя по–прежнему! — воскликнул он горячо.
— Тише! — произнесла она насмешливо. — А что, если тебя услышит Сэнди?
— Это не будет для него неожиданностью, — с горечью ответил Медисон. — Я сказал ему об этом.
Она в упор посмотрела на него.
— Ты сказал ему — что — все еще — любишь меня? — произнесла она, подчеркивая каждое слово.
— Да, иначе я не был бы здесь. Это был мой долг перед ним и перед своей совестью.
— Что же он ответил тебе?
— Снова повторил свое приглашение и — господь в том судья и свидетель — казалось, был доволен и удовлетворен.
Сложив свои пухлые губки и протяжно свистнув, она спрыгнула со стола. Лицо ее было полно решимости, глаза сверкали, она отошла и стала смотреть в окно. Медисон робко последовал за нею..
— Не прикасайся ко мне! — резко сказала она, ударив его по протянутой руке. Вспыхнув, он повернулся и направился к двери. Его остановил ее смех.
— Ведь пожимание ручки, наверное, не входит в твой договор с Сэнди? — заметила она, бросая взгляд на свою руку. — Ах, ты все‑таки уходишь?
— Я думал только несколько минут побеседовать с тобой серьезно и благостно, Сейфи, и потом никогда больше не видеть тебя.
— А как на это посмотрит Сэнди? — сухо спросила она. — Он ведь хочет, чтобы ты бывал здесь? Выходит, только оттого, что за один раз ты не сумел обратить меня в свою веру и не заставил думать по–твоему, ты готов вот так сразу взять и убежать? И это, ты считаешь, по–христиански? А не кажется ли тебе, что если ты сейчас пустишься наутек, ты этим докажешь ему, что вся твоя христианская стойкость и христианское смирение — одно притворство?
Медисон опустился на стул и, опершись локтями о стол, спрятал лицо в ладони. Она подошла ближе и прикоснулась рукой к его плечу. Он сделал было движение, чтобы взять ее за руку, но она тут же нетерпеливо отдернула ее.
— Послушай, — сказала она напрямик, — раз у тебя нет другого выхода, ты должен вести честную игру до конца. Он доверяет тебе, но если увидит, что ты сам себе не доверяешь, без предупреждения всадит в тебя пулю. Это тебя не пугает? Ну, а это‑то тебя, наверное, испугает: он скажет, что религия твоя — сплошной обман, а сам ты лицемер. И ему все поверят! Как это тебе понравится, брат Уейн? Будет ли это на пользу твоей церкви? Слушай! Вы с ним оба с придурью, но сейчас он взял над тобой верх, и тебе остается только поддерживать его веру в тебя. Ты должен набраться храбрости и приходить сюда как можно чаще. Чем чаще, тем лучше, тем скорее вы осточертеете друг другу, а я — вам обоим. Этого ведь вам только и нужно. Так вот запомни: можете оба нисколько меня не бояться.
Она отошла от окна, уже успокоенная, с таким видом расправляя складки своего яркого платья из набивной ткани, словно хотела показать, что во всем, что касается ее мужа и его гостя, она умывает руки.
Очень земное и очень мужское чувство, близкое к стыду, пробилось сквозь кору его религиозности, и, запинаясь на каждом слове, он сказал:
— Ты не можешь меня понять, Сейфи.
— Тогда говори со мной о том, что я могу понять, — подхватила она живо. — Расскажи мне, какие новости в Ангеле. На днях там был твой брат; кажется, он вскружил головы всем молоденьким женщинам. Так я по крайней мере слышала от миссис Селвидж. Пока мы будем идти берегом к участку Сэнди, ты успеешь мне все рассказать. Тебе сейчас самое время уходить, ведь это твой первый визит; в следующий раз можешь посидеть подольше.
Она отошла в угол комнаты, сняла там свои щегольские туфельки и надела пару уличных башмаков, которые шнуровала, по очереди ставя ногу на стул и проявляя полное безразличие к присутствию гостя. Потом она сняла со стены темно–коричневый голландский чепец, небрежно натянула его на свои еще более темные волосы, подобрав под него косы, и завязала лентами под подбородком. Все это она проделала без малейшего кокетства, хотя чепец был очень ей к лицу, и ни разу не взглянув на Медисона. Какое крушение его нравственных устоев! Что были все муки от ее искусительных речей и юного презрения рядом с этим полным попранием его мужского достоинства, с молчаливым пренебрежением к нему, как к существу низшему даже по сравнению с ее мужем! Он следовал за ней, и лицо его горело, а сердце было полно бурным протестом, увы, совсем не христианского свойства.
Ивы расступились, пропуская их, и сомкнулись снова.
Часом позже миссис Мак–Ги возвратилась в свое увитое зеленью убежище уже одна. Она сняла чепец, повесила его на гвоздь, смахнула на спину заложенные на голове косы и сменила выпачканные землей башмаки на туфельки, потом вышла на галерею и, улыбаясь, окинула взглядом залитую солнцем отмель. Вытянутые тени мужа и бывшего ее жениха, похожие, словно близнецы, двигались вдоль берега по направлению к поглотившей их вскоре тени тополей. Внизу, почти у ее ног, ни о чем не подозревающий Артур Уейн продолжал разрабатывать старое русло, продвигаясь к мысу. Солнечный луч упал на его ярко–красную рубашку, обнажению шею и голову, всю во взмокших кудрях. Тот же луч осветил темную головку миссис Мак–Ги, и, очевидно, он‑то и заронил в нее шаловливую мысль. Она бросилась в спальню и, сняв со стены зеркало, принесла его на балкон; повертев его так и сяк, она нашла, наконец, нужный угол и направила солнечный зайчик туда, где работал Артур. Какое‑то время брильянтовое сверкание играло вокруг него. Подняв голову Артур повернул ее с любопытством в сторону холма, но тотчас же прикрыл ладонями ослепленные и смеющиеся теперь глаза; тем временем миссис Мак–Ги, скрытая завесой листьев, откинулась назад и расхохоталась от души, совсем, как девочка.
Прошло три недели, и Медисон опять сидел один у себя в хижине. Он все чаще и чаще оставался теперь в одиночестве, так как Артур, открыто восстав, пренебрегал своими религиозными обязанностями, предпочитая им легкомысленные развлечения, поставляемые Отмелью. Как ни страдал Медисон из‑за отступничества брата, он был настолько поглощен собой, что не мог должным образом противодействовать этому, и боль оттого, что Артур впал в суетность и безрассудство, усугублялась в сознании Медисона мыслью, что есть в этом и его вина. Как мог он укорять брата, когда его собственным сердцем завладела любовь к жене ближнего? И хотя он строго следовал своим суровым моральным требованиям и держался в тени, блюдя интересы Александра Мак–Ги, он был довольно частым гостем в его доме. Правда, сама миссис Мак–Ги во многом облегчила задачу Медисона, молчаливо приняв его условия. Теперь она вела себя с ним более естественно, была весела и порой проявляла даже мягкость и предупредительность, что неизменно радовало мужа и удивляло поклонника. Произошла ли эта чудесная перемена под влиянием его суровой религии и еще более суровых жизненных правил, на этот вопрос он не смог бы ответить. Одно было ясно: миссис Мак–Ги не была расположена следовать им и в тех редких случаях, когда Медисон излагал свои взгляды, отмахивалась с полным равнодушием. Странно, но эти двое мужчин были, казалось, неразрывно соединены для нее, что проявлялось даже внешне, как, например, в том случае, когда, нежно взяв их обоих под руку, она, к величайшему изумлению и восхищению Отмели, на глазах у всех прогуливалась с ними по берегу реки. Говорят, что мистер Джек Гемлин, игрок по профессии, приехавший с деловыми целями в Уейнову Отмель, великий знаток женской красоты и женских слабостей, кинув на чету Мак–Ги и Уейна один–единственный взгляд из‑под своих красивых ресниц, задал вопрос, столь развеселивший младшее поколение Отмели, что Медисон Уейн нахмурился, а Артур Уейн покраснел. Мистер Гемлин не придал значения нахмуренным бровям старшего брата, но обратил некоторое внимание на краску в лице младшего и еще большее на кокетливый взгляд, который бросила хорошенькая миссис Мак–Ги. Справедливо ли мнение, высказываемое некоторыми моралистами, будто легкомыслие и ветреность по некоему загадочному инстинкту взаимно притягиваются, в этой хронике решать не место; достаточно и того, что здесь приводятся факты.
И все же Медисон Уейн мог быть удовлетворен плодами своих усилий. Жертва его была не напрасной; он счастливо выбрался из опасной ситуации и счастливо восторжествовал над еще более опасным соблазном. Это была победа, полная, безоговорочная, и достиг он ее, действуя в соответствии со своими мрачными теориями искупления и духовного возрождения. Однако же он не был счастлив. Человеческое сердце порой бывает странно неутолимым. И когда в этот вечер он сидел в сгущающихся сумерках, книга, которая должна была служить ему бальзамом и опорой, лежала у него на коленях нераскрытой.
Шаги, раздавшиеся снаружи, были с некоторых пор настолько знакомы ему, что он даже не удивился. Это мистер Мак–Ги, унылый, как тень, забрел на досуге в его хижину. Следует сказать, что дружба этих двух таких несхожих между собой мужчин хоть и была искренней и глубокой, отнюдь не веселила их души.
Убежденность обоих в неискоренимой испорченности всего рода человеческого, обуздываемой лишь страхом суровой кары и возмездия, все равно физического или духовного свойства, не способствовала легкой, непринужденной беседе. Разговор их чаще всего представлял собой мрачную хронику жизни Отмели и сам по себе был уже обвинительным актом. В этот вечер Мак–Ги говорил о появлении в их поселке мистера Джека Гемлина, и оба сокрушались, что стараниями этого изобретательного джентльмена расточается драгоценное время и нажитые тяжелым трудом деньги старателей Отмели.
— Нельзя сказать, — добавил Мак–Ги осторожно, — чтобы он стрелял из‑за угла, нет, просто он меткий стрелок. И я слыхал, будто он никогда не передергивает. Но вот на пользу ли вашему брату, что он проводит с ним столько времени, еще неизвестно, на это можно смотреть и так и эдак. Вы понимаете, что я имею в виду? Вы схватываете мою мысль?
При всем том разговор явно не клеился. То ли Уейн был чем‑то озабочен, то ли Мак–Ги уж очень запинался, больше чем когда‑либо боясь быть неверно понятым. В хижине совсем стемнело, когда Мак–Ги, отделившись наконец от дверного косяка — место его обычного пребывания, — подошел к окну и призрачной тенью склонился над стулом Уейна.
— Я хочу сказать вам кое‑что, — начал он медленно, — но только вы уж поймите меня, как надо. Вы схватываете мою мысль? И не подумайте, что я придираюсь, или осуждаю, или хочу бросить на вас тень. Понимаете, что я имею в виду? С той поры, как у нас был здесь с вами разговор про вас и Сейфи, с той поры, как я понял ваши мысли и правила жизни, я так же уверен в вас и в ней, как если бы сам ходил за вами по пятам с револьвером. Я и теперь уверен в вас. Понимаете, что я имею в виду? Вам это ясно? Вы сделали много добра и мне и ей, она совсем переменилась, как только вы взялись за нее, и скажи вы мне сейчас, чтобы я встал посреди церкви и, как у вас говорится, свидетельствовал об этом перед богом, Сэнди Мак–Ги готов. А веду я вот к чему. Я‑то понимаю вас, и ваши цели, и ваши правила, но найдутся и такие, что не поймут. Вы схватываете мою мысль? Вам ясно, что я хочу сказать? Так вот, вчера вечером, когда вы и Сейфи шли нижней тропкой у реки, я наткнулся на вас…
— Вы ошибаетесь, — быстро прервал его Медисон. — Я не был…
— Постойте, — сказал Мак–Ги спокойно, — я знаю, что вы свернули в сторону до того, как я увидел вас, а вы — меня, потому что вы ведь не думали, чт, о это я. Разве не верно? В том‑то все и дело! Вас мог увидеть не только я, а кто угодно из поселка. Верно? Вот почему вы сразу свернули, прежде чем я вас заметил, и вот почему бедная Сейфи так взволновалась сначала и, пока не опомнилась, все хотела убежать. Потом‑то она, конечно, рассмеялась и прямо сказала, что вы обознались.
— Но, — с трудом выдохнул Медисон, — я не был там вчера вечером.
— Что?
Оба выпрямились одновременно и стояли, глядя друг на друга. Мак–Ги с благожелательной, чуть насмешливой улыбкой положил руку на плечо Уейна и легонько повернул к окну, чтобы видеть его лицо. Оно показалось ему мертвенно бледным и растерянным.
— Вы — не были — там — вчера вечером? — повторил он медленно и все так же терпеливо.
Прошла секунда, прежде чем Уейн ответил, но ему показалось, что за эту секунду совесть его претерпела часовую пытку. Потом вся кровь прихлынула к его лицу и он, запинаясь, впервые в своей жизни солгал:
— Да нет! Конечно! Я ошибся. Это был я.
— Понимаю. Вы думали, что я рассержусь, — сказал Мак–Ги спокойно.
— Нет, я перепутал, я думал, это было позавчера. Я, должно быть, поглупел. Разумеется, эт. о было вчера вечером.
Он рассмеялся, что вообще с ним случалось не часто, а сейчас этот смех получился таким вымученным, что поразил Мак–Ги куда сильнее, чем смущение Уейна. Мак–Ги задумчиво посмотрел на него и медленно проговорил:
— Наверное, я появился вчера слишком неожиданно перед вами, но, видите ли, я думал совсем о другом, и у меня из головы вон, что вы могли быть там. Но я не рассердился, нет! Совсем нет! И я для того только заговорил об этом сейчас, чтобы вы были поосторожнее перед другими людьми. Вы схватываете мою мысль? Вы понимаете, что у меня на уме?
Он повернулся, дошел до двери и остановился на пороге.
— Вы ведь меня понимаете? Вы же не думаете, что это я со зла, что я не доверяю вам? Может, мне не следовало говорить про это? Я должен помнить, как трудно приходится частенько вам и ей. Вы схватываете мою мысль? Вы понимаете, что я имею в виду?
Он медленно пошел по тропинке в сторону реки. Если бы Медисон Уейн поглядел ему вслед, он увидел бы, что голова у Мак–Ги опущена, а походка сразу отяжелела. Но Медисон Уейн оидел, не двигаясь, на своем стуле и с мрачной сосредоточенностью монаха мучился ужасным подозрением.
ГЛАВА IV
Тем не менее назавтра и во все последующие дни солнце ярко светило над Отмелью; воздух был насыщен дыханием жизни и деятельности; поселок благоденствовал, как никогда: добыча золота с осушенного дна протоки на вновь открытых месторождениях превзошла все ожидания. Говорили, что братья Уейн просто «купаются в золоте». Зная Медисона Уейна, никто не был удивлен тем, что привалившее ему счастье никак не сказалось ни в выражении его лица, ни в поведении. Его сумрачность объясняли скупостью и противопоставляли ему щедрого Артура с его беспечной расточительностью. Однако же, считая Медисона скрягой, все именно поэтому питали к нему страх и уважение. Его долгие одинокие прогулки вокруг маленького мыса, вечная настороженность, сдержанность в ответах были, по общему мнению, характерны для человека, всецело посвятившего себя наживе. Почтение, которое не могла внушить его религиозная обособленность, охотно расточалось его финансовой замкнутости. У одного Мак–Ги не было заблуждений на этот счет. Как‑то столкнувшись с Медисоном у зарослей ивняка, он попенял ему в свойственной ему манере, что после их последней встречи тот уклоняется от посещения миссис Мак–Ги и их дома.
— Знаю, знаю, такой христианин, как вы, не станет таить зла, — проговорил он, — но похоже, что вы решили отвернуться от меня и от Сейфи после того, что я сказал вам тогда.
Напрасно Медисон протестовал со всей своей мрачной непреклонностью. Смерив его ясным, как всегда, взглядом, Мак–Ги дольше, чем обычно, хранил молчание. Наконец он медленно произнес:
— Я тут подумываю съездить во Фриско, и у меня бы камень с души свалился, если бы вы пообещали присмотреть иногда за Сейфи.
— Уж не собираетесь ли вы оставить ее здесь одну? — резко спросил Уейн.
— А почему бы и нет?
Уейн несколько мгновений молчал в нерешительности. Потом его вдруг прорвало:
— На это есть тысячи причин! Если она нуждалась в вашей защите раньше, то теперь нуждается особенно. Вы, что ж, полагаете, что Отмель стала менее нечестивой и греховной, чем в те времена, когда вам казалось необходимым охранять жену с револьвером в руке? Опомнитесь! Вы разве не видите, что поселок еще больше погряз в скверне! На новых участках рыщут проходимцы — хищные волки, подобные Гемлину и его друзьям. Эти идолопоклонники готовы воздвигнуть здесь жертвенники Ваалу и Астарте и посеять в ваших жилищах все мерзости Содома!
— Библейская образность подействовала на Мак-Ги или властность тона — как бы то ни было, взгляд его просветлел, и в нем выразилось восторженное одобрение.
— Вот вы как раз и есть тот человек, который может совладать с ними, — проговорил он, хлопнув Уейна по плечу. — Вам и карты в руки — беритесь за дело! А мы с моим револьвером, — добавил он тише, — свое отслужили.
В его тоне было что‑то необычное, заставившее Уейна насторожиться.
— Да, — медленно поглаживая бороду, продолжал Мак–Ги, — всему свой час: и таким людям, как я, и револьверам; мир не стоит на месте. В Отмели прибыло людей, и даже река изменила русло — все идет своим чередом. — Понимаете, что я хочу сказать? Вы схватываете мою мысль? И стрясись что со мной — я это просто так говорю, но с человеком ведь все может случиться, — я хотел бы, чтобы вы присмотрели за Сейфи. Не каждая женщина может похвалиться тем, что ее берегут двое мужчин, таких похожих и непохожих, как мы с вами. Вы схватываете мою мысль? Вы понимаете, что я хочу сказать?
С этими словами Мак–Ги внезапно покинул своего спутника, свернув на крутую тропинку, ведущую к вершине холмистого мыса, а Уейн погрузился в мрачное раздумье. На следующий день Мак–Ги уехал по делам в Сан–Франциско.
Подавленный новой ответственностью, желая к тому же осуществить один план, который, как он смутно надеялся, поможет ему избавиться от преследовавшей его ужасной мысли, Медисон был в таком состоянии духа, что даже обрадовался, когда Артур сообщил ему о своем намерении отправиться на несколько дней в поселок Ангела.
Ибо после того памятного разговора с Мак–Ги Медисон не сомневался, что Сейфи с кем‑то тайно встречается. Было ли это минутной безрассудной прихотью своенравной женщины или продолжением давней тщательно обдуманной любовной интриги, он не знал, и это заботило его меньше, чем двусмысленность собственного положения и та ложь, которой он спас ее и ее любовника, тем самым как бы потворствуя им.
То, что тогда, в решающий момент, он не свидетельствовал перед богом о греховности и безнравственности, что, покрывая ее ложь, он воспрепятствовал господу спасти ее душу — таково самомнение религиозного фанатика! — что он обманул доверие мужа, вручившего ему честь своей жены, — все это терзало его больше, чем сама ее измена. Сначала, охваченный ужасом, он страшился увидеться с ней, боясь, чтобы она своим признанием — он‑то знал ее безжалостную прямоту с ним — не раскрыла ему всю глубину его соучастия. Позже, и особенно после отъезда Мак–Ги, он внушил себе, что его долг — бороться и одолеть слабость ее духа, молить ее во всем открыться мужу, и тогда он, Медисон, вместе с ней испросит ей прощение. Весь этот сомнительный план внушила ему его религия, в своих же человеческих чувствах он был до конца бескорыстен. Он уже простил ей свою обиду. Он должен тотчас же ее увидеть.
Ночь была тиха и насыщена тайным напряжением, полная луна щедро изливала трепетный свет, разбрасывая колеблющиеся, подобные летним молниям, стрелы по синеве реки и выводя причудливый кружевной узор вдоль всей тропинки, вьющейся между ивами вверх по склону холма. С земли тянуло сухим, чуть пропыленным запахом нагретой сосновой хвои; томительно пахло диким жасмином; кустарниковая полынь источала свой женственный горьковатый аромат, и над всем стояла нескончаемая таинственная тишина. Порой в нее вплеталось невнятное перешептывание падающих листьев, прерывистые вздохи древесных вершин и похрустывание потревоженных веток, лениво потягивающихся со сна. Медисон Уейн не принял в расчет коварный сговор Ночи со всей Природой, и, чем выше он поднимался, тем неувереннее становились его шаги: его одолевали странные, новые для него ощущения.
Непреклонность в стремлении к цели, которую давали ему суровые религиозные убеждения — всегдашние его вожатые, —стала ослабевать. Нежное сочувствие прокралось в его сердце, а следом пришла исполненная любви жалость к своим ближним и к себе. Он думал о Ней, о том, как в доме отца на освещенной луной веранде она, бывало, сидела, прижавшись к его плечу и держа его за руку, пока его безжалостные верования не расхолодили и не отпугнули ее. Он думал о ее юном простодушии, невинной прелести, которой она обладала в его глазах. Крутой поворот тропинки — и вот он уже стоит, задыхаясь и дрожа, перед ее домом. Лунный свет мягко ложится на спящие карнизы. Цветущая лоза испанского винограда словно тоже погружена в сон. Алые бутоны вьющейся черокийской розы кажутся в этом призрачном свете целомудренно белыми.
Но он выбрал слишком позднее время для встречи. Дом смотрел на него слепыми окнами, и только в одном — в окне ее спальни — за муслиновой занавеской мерцал огонек. Ее тень в свободно спадающей одежде раз или два промелькнула в окне. Медисон затаил дыхание и готов был уже бесшумно удалиться, как вдруг он замер. Рядом с ней за занавеской выросла другая, большая тень, несомненно, принадлежащая мужчине.
Словно маньяк, одним бешеным прыжком он достиг двери и уже стучал и колотил по ней, издавая хриплые, яростные вопли. Но, и неистовствуя, он все же различал быстрые шаги, ее вызывающий полуистерический смешок, торопливый бег по лестнице, звуки поспешно снимаемого засова и отворяемой вдалеке двери. Тем временем менее прочная дверь, в которую он ломился, поддалась наконец его слепой ярости, и он с грохотом растянулся на полу гостиной. Задняя дверь стояла распахнутая настежь. Он слышал, как на склоне холма шуршат и трещат ветки под ногами бросившихся в разные стороны беглецов. Некоторое время он не двигался с места, спрашивая себя: «Что дальше?»
На глаза ему попалось ружье Мак–Ги; оно стояло в углу дулом кверху. Даже на взгляд профана это начищенное до блеска оружие было великолепно; его ствол с шестигранной насечкой отливал в лунном свете синевой. Медисон схватил ружье. Оно было заряжено. Без промедления он ринулся с холма вниз. Теперь только одно и было в его мыслях — долг, прямой и ясный. Он заменяет здесь Мак–Ги, он должен выполнить то, что сделал бы Мак–Ги. Бог покинул его, но ружье Мак–Ги у него осталось.
В несколько минут он преодолел спуск и очутился на берегу. Перед ним была спокойная, переливающая серебром речная гладь. На ней он увидел то, чего и ждал, — голову человека, плывущего в сторону поселка. Он тщательно прицелился в эту темную мишень и спустил курок. С реки до него не донесся отзвук выстрела; где‑то вдали залаяла собака, возле него прошелестели деревья — вот и все! Но голова человека скрылась из виду, жидкое серебро сомкнулось, и на нем не было ни пятна, ни точки.
Вскинув ружье на плечо и действуя бессознательно, как это свойственно людям в критические минуты, он медленным шагом направился к дому и, войдя туда, бережно поставил ружье на прежнее место. Ни разу он не вспомнил о бежавшей из дому ничтожной женщине и, появись она перед ним в этот момент, он не заметил бы ее присутствия. Однако какой‑то смутный инстинкт — он воспринял его как любопытство — заставил его подняться по лестнице и войти в ее спальню. На столе все еще горела свеча с тем чудовищным безразличием и будничностью, которые всегда так подчеркивают ужас настоящей трагедии. Возле свечи лежал ремень и кожаный кошелек. С диким, нечленораздельным воплем Медисон Уейн рванулся к ним, схватил их, пошатнулся, опрокидывая стул, упал, вскочил на ноги, ощупью, словно слепой, спустился по лестнице, опрометью кинулся на тропинку и, не помня себя, как безумный, сбежал по склону холма.
Тело Артура прибило к берегу через два дня в двенадцати милях ниже по течению. Ни у кого не возникло никаких подозрений относительно того, как его настигла смерть, — все было ясно и прозаично. Артур найден был полураздетым, и ремень с кошельком, который, по примеру всех старателей, он для сохранности надевал прямо на голое тело, отсутствовал. Все знали, что, когда он покидал Отмель, при нем была значительная сумма денег; несомненно, пока он шел берегом реки, его выследили, ограбили и убили головорезы, наводнившие в последнее время местность. Горе и отчаяние старшего Уейна -— того, кто уцелел из этого столь хорошо известного всей Отмели братского и религиозного содружества, — хоть и проявлялись лишь в мрачной и молчаливой подавленности, изредка нарушаемой взрывами религиозного неистовства, были, однако, так неподдельны, что тронули даже огрубелые сердца старателей. Не успел поселок вернуться к своей обычной лихорадочной деятельности и увеселениям, как его потрясла новая весть. Александр Мак–Ги, находясь на борту сакраментского парохода в Каркинесском проливе, сорвался с палубы, и тело его было унесено в море. Видимо, эта печальная новость достигла слуха его преданной жены, прежде чем стала известна остальным; во всяком случае, когда, движимые грубоватым сочувствием, жители поселка — считая, что теперь запрет снят — добрались до ее жилища, дом был пуст и на запоре. Злые чары, тяготеющие над мысом, снова восторжествовали, роковая слава необитаемого места была восстановлена.
Одновременно пришел конец и процветанию Отмели. Медисон Уейн продал свой участок, одарив церковь на Перекрестке вырученными деньгами, а ее кафедру — своим мрачным, безысходным обличительным красноречием. После первых же дождей Норт–Форк вышел из берегов и, хлынув через установленные вместо мирных уейновских насосов непрочные плотины, влился в прежнее русло. Словно бы возымели действие проклятия, которые обрушивал преподобный Медисон Уейн на весь прибрежный Содом. Но даже это не смягчило гневного пророка: вскоре стало известно, что, покинув свою вконец запутанную паству, он в качестве проповедника объезжает лагери старателей, усовещивая и призывая к духовному обновлению самый свирепый и необузданный сброд. Отъявленные негодяи корчились у его ног в бессильном ужасе и еще более бессильной ярости; убийцы и воры, слушая его, бледнели и стискивали зубы, сдерживаемые лишь страхом, который он внушал им. Снова и снова он рисковал жизнью, когда с библией в руках вырастал над возбужденной толпой; в него стреляли, его прокатывали на шесте, его изгоняли, но заставить его замолчать не могли. И вот, носясь, как вихрь, по всей Калифорнии, сея вокруг себя страх и неистовство, отвергая жизнь и милосердие, клеймя без разбора правого и виновного, он как‑то в воскресенье оказался на од»ой из скалистых вершин Сьерры — на самом грязном, захватанном и обтрепанном краю цивилизации, — куда был проложен проезжий тракт. Здесь он намеревался, по обычаю своему, «свидетельствовать перед господом».
Но все получилось не так, как он предполагал. Ибо, когда, встав на валун, он возвысился над сорока или пятьюдесятью старателями, которые расположились вокруг него, и«ые сидя, а кто и лежа на таких же камнях и валунах этого отвесного горного уступа, неожиданно поднялся какой‑то человек, растолкал остальных и, бросившись к краю уступа, стал торопливо спускаться вниз с обрыва. Вдруг из нескольких глоток сразу вырвался крик, все вскочили: по–видимому, оступившись, беглец у них на глазах катился вниз.
Его подняли наверх, жестоко изуродованного, искалеченного, с расплющенной грудной клеткой и пробитым легким, но он еще дышал и был в сознании. Он попросил позвать к нему проповедника. Смерть уже нависла над ним, заставляя бороться за каждый вздох; нельзя было медлить ни минуты. Медисон Уейн прервал проповедь и, величественный в своей мрачной непреклонности, приблизился к умирающему. Но, увидев его, он вздрогнул.
— Мак–Ги! —выдохнул Медисон.
— Пусть все уйдут, — еле слышно попросил его Мак- Ги, — мне надо вам сказать кое‑что.
Старатели молча отступили.
— Вы думали, меня нет в живых, — проговорил Мак- Ги; глаза у него по–прежнему были незатуманенные, изумительно ясные. — Так оно и должно было быть, но теперь и без доктора видно, что ждать недолго. Я для того и ушел из Отмели, чтобы найти свою смерть. Пробовал затеять драку, но меня обходили стороной, боялись моего ружья. Против меня была моя слава. Вы схватываете мою мысль? Вы понимаете, что я хочу сказать?
Опустившись возле него <на колени, сжимая его руки, преображенный, объятый ужасом, Уейн хрипло шепнул:
— Но…
— Постойте! Я спрыгнул с палубы сакраментского парохода… и уже в третий раз уходил под воду… на пароходе подумали, что я утонул, они и сейчас так думают! Но за мной нырнул рыбак с лодки. Я отбивался изо всех сил, но он был не из тех, кто отступается, и пошел бы ко дну вместе со мной. Не мог же я позволить ему умереть— как бы это сказать — так, задаром. Вы схватываете мою мысль, понимаете, что я хочу сказать? Я дал ему спасти себя. Но дело было сделано. Когда я вернулся во Фриско, я прочитал там в газете, как я утонул. И тогда я решил, что все в порядке, и вот бродил по этим местам, где меня никто не знает, пока не встретил вас.
— Но зачем вам понадобилось умирать? — воскликнул Уейн исступленно. — Какое право вы имели искать смерти, когда другие, двоедушные, запятнавшие себя кровью, осуждены жить, страдать и «свидетельствовать».
Умирающий в знак протеста пошевелил искалеченной рукой и даже улыбнулся краешком губ.
— Я знал, что вы так скажете, знал, что вы так подумаете, но теперь уже все равно. Я сделал это для вас и Сейфи. Я знал, что вы тот, кто ей нужен. Знал, что вы тот, кто вытащит ее из трясины, где я ее оставил, как вы уже сделали раз, когда она упала в воду. И я знал, что каждый день, который я живу, я заставляю страдать вас и надрываю сердце ей, хоть она и старалась, как могла, быть ласковой и веселой.
— Всемогущий боже! Да замолчите же! — воскликнул Уейн, в нестерпимой муке вскакивая с места. Впервые в ясном взгляде «Звонаря у Ангела» промелькнул испуг — никому еще не дано было видеть этого; дрожащим голосом он прошептал: — Хорошо, молчу…
Сердце Мак–Ги, видимо, тоже готово было смолкнуть навсегда, чудесные глаза начали стекленеть. Но, перебарывая смерть, он снова — всплывая в третий раз, как показалось Уейну, — вернулся к жизни, и губы его медленно зашевелились. В отчаянии бросился проповедник на землю рядом с ним.
— Брат мой, говори! Во имя бога, говори!
Последний шепот, такой слабый, словно то были первые слова освобожденной души, слетел с его уст. Но он лишь проговорил:
— Вы схватываете… мою… мысль? Понимаете… что я хотел?..
ДЖИМ УИЛКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОТЧИЙ ДОМ
I
Уже несколько минут как наступила полная тишина и не слышно было ничего, кроме непрерывного дробного стука дождя по крыше кареты, свиристения колес по размытому песчаному грунту и внезапного, тут же смолкавшего топота копыт по какому‑нибудь каменистому кряжу, прорезавшему дорогу. Разговоры прекратились; веселый молодой редактор у окна впереди, уже успевший навлечь на себя подозрение в опасном легкомыслии, чтобы не сказать больше, тоже погрузился в молчание, потому что тучный мужчина, сидевший на среднем сиденье, с видом покорной жертвы уставился в потолок, а тощая женщина рядом отвернулась, загородившись своим респектабельным чепцом. Внезапно карета накренилась, струи дождевых капель, висевших бахромой по краям крыши, потекли по окнам и скрыли из виду клубящуюся даль, уже заволакивающуюся тьмой. Было на минуту какое‑то облегчение, когда они быстро пронеслись через Верхние Ключи и видели, должно быть, только что приехавших делегатов от округи, столпившихся на веранде единственной гостиницы, но все это осталось позади, с тех пор уже проехали три мили. Единственное развлечение молодого редактора состояло в том, что он от времени до времена украдкой наблюдал за лицом одного пассажира, который, по–видимому, симпатизировал ему, но он сидел так далеко, что завязать с ним разговор не было возможности. Что‑то недоуменно озадаченное сквозило в выражении лица этого молодого человека, который из своего дальнего угла уже давно посматривал на него с каким‑то восхищенным и вместе с тем глубоко задумчивым любопытством; но дальше этого дело не шло, и все его поощрение редактору проявлялось только в робкой и грустной улыбке. Но постепенно и это исчезло в надвигающейся мгле; яркие фонари по обе стороны дилижанса бросали снопы света на обочины дороги, но не освещали кузов кареты. Все мало–помалу незаметно погрузились в сон. Вдруг все проснулись и обнаружили, что карета стоит! Когда она остановилась, никто не заметил. Молодой редактор опустил около себя окно. Фонарь с этой стороны дилижанса отсутствовал, но кругом ничего не было видно. Вдалеке слышались какие‑то слабые всплески.
— Ну как? — раздался сверху с козел нетерпеливый оклик. — Сколько ж там, по–твоему, будет?
Это был властный голос кучера, Юбы Билла, и все, затаив дыхание, прислушивались, какой будет ответ. Он донесся слабо, откуда‑то издалека, где плескало.
— Около четырех футов здесь, и что ни дальше, то глубже.
— Вода‑то стоячая?
— Нет, с Форка идет.
Все бросились к окнам и дверям. Плеск уже слышался ближе, затем свет брызнул на деревья, на окна и на мутно–желтую воду, мирно зыблющуюся прямо под ними. Тощая дамочка взвизгнула.
— Никакой опасности нет, —сказал почтовый курьер, шагая к ним по воде с фонарем в руке. — Но придется повернуть назад и ехать обратно на Ключи. Здорово разлило, ночью никак не проедешь.
— Почему же нам не сообщили этого раньше? —с возмущением крикнул в окно тучный мужчина.
— Джим, — протянул Юба Билл с такой нарочитой медлительностью, что все насторожились.
— Да, Билл.
— Нет у тебя лишнего экземпляра этого официального бюллетеня, который почтовая компания выпускает каждые десять минут, для каждого пассажира, чтобы сообщить ему, где мы находимся, далеко ли до следующей станции и какая предвидится погода?
— Нет, — мрачно ответил курьер, залезая на сиденье за козлы. — Ни одного не осталось. А что?
— Да вот тут китайский император сидит, ему требуется! Но! Двинулись! Покрепче держитесь там! Гип! — Бич щелкнул, волнами заплескала вода, карета дернулась взад–вперед; мокрые блестящие бока и отчаянно мотающиеся головы передних лошадей на секунду мелькнули в окнах, весь кузов кареты повернулся рывком, словно сорвавшись с осей, потом еле–еле, ползком двинулся с невероятным усилием, и вот наконец снова раздался отрадный звук — топот копыт по твердой почве.
— Эй, эй! Остановите, кучер!
Это закричал, высунувшись в окно, тот самый незнакомый друг редактора, который сидел, помалкивая.
— Ранчо Уилкса, это ведь где‑то здесь?
— Да, с полмили вдоль склона, не больше, — коротко ответил курьер.
— Ну, раз вы сегодня ночью дальше не двинетесь, я, пожалуй, лучше переночую здесь.
— Похоже, у вас голова правильно работает, молодой человек, — одобрительно сказал Билл, — потому как гостиница в Ключах набита битком.
Чтобы сойти с дилижанса, пассажиру надо было пройти мимо среднего сиденья, выход был как раз около молодого редактора. Уже став на подножку, незнакомец смущенно покосился на него, потом, нагнувшись, сказал нерешительно, понизив голос:
— Я думаю, вам вряд ли удастся попасть в гостиницу в Ключах. Если вы не против пойти со мной на ранчо, я берусь позаботиться о ночлеге.
Молодой редактор, человек предприимчивый, не стал долго раздумывать. Схватив свой саквояж, он сразу сказал:
— Благодарю вас, — и сошел вслед за своим новообретенным другом.
Бич щелкнул, и карета укатила.
— Вы знаете Уилкса? — спросил он.
— Д–да. Это мой отец.
— А! — весело отозвался редактор. — Значит, вы к себе, домой?
Здесь, на открытом месте, было совсем светло, и незнакомец, остановившись на минутку, все с тем же нерешительным видом огляделся по сторонам.
— Сюда, — сказал он и, перейдя дорогу, пошел вдоль склона по какой‑то давно заброшенной, но, по–видимому, когда‑то езжей колее. Он все еще не преодолел своего смущения, и молодой редактор, еще раз от души поблагодарив его за внимание и любезность, теперь шел за ним молча.
Минут через десять они дошли до каких‑то огородов и разделанных участков; незнакомец, шагавший все с тем же озабоченным видом, явно оживился, прибавил шаг и вдруг остановился как вкопанный. Когда редактор подошел к нему, он в полной растерянности, недоуменно смотрел на низкие полуразрушенные, обгорелые останки строения, бывшего когда‑то большим фермерским домом.
— Сгорел, оказывается! —тихо промолвил он.
Редактор смотрел на него в изумлении.
Сгорел, несомненно, но только когда, не теперь же… На обгорелых балках погреба уже проросла трава, вьющиеся растения густо переплелись на обвалившихся дымовых трубах, среди развалин там и сям — кучи засохшей земли, ямы.
— Когда вы здесь были последний раз? — прямо спросил редактор.
— Пять лет тому назад, — задумчиво ответил незнакомец.
— Пять лет! И вы ничего об этом не знали?
— Нет. Я все это время ездил, был на Таити, в Австралии, в Японии, в Китае.
— И вам ничего не писали из дому?
— Нет. Видите ли, мы с моим стариком поссорились, и я сбежал из дому.
— И вы не писали, что собираетесь приехать?
— Нет. — Он замялся и потом прибавил: —У меня этого в мыслях не было, пока я не увидел вас.
— Меня?!
— Да, вас, и потом вот этот разлив.
— Вы что же хотите сказать, — резко обратился к нему молодой редактор, — что вы уговорили меня, совершенно незнакомого вам человека, сойти с дилижанса, пообещав мне приют у вашего отца, с которым вы пять лет тому назад расстались в ссоре, не виделись с тех пор и не знали, примет ли он вас?
— Д–да, видите ли, вот из‑за этого–т. о как раз я так и сделал. Ну, понимаете, я подумал, что для меня лучше явиться к нему вот с таким веселым, разговорчивым человеком, как вы. Но я, конечно, никак не ожидал этого, — прибавил он беспомощно, показывая на развалины.
Редактор смотрел на него, разинув рот; и вдруг это дурацкое происшествие, случившееся с ним, все, с начала до конца, — как он покорно сошел за этим дружелюбным болваном, шагал за ним по пустынной дор. оге, ночью, под проливным дождем, чтобы очутиться перед этой грудой развалин, в то время как дилижанс катил себе к приютному крову в Ключах, но главное, главное, причина, почему его пригласили, —: все это показалось ему такой невообразимой нелепостью, что он покатился с хохоту; трясясь всем телом, он швырнул наземь свой саквояж, оперся на трость и хохотал так, что слезы градом катились у него из глаз.
Спутник его, глядя на это, явно повеселел.
— Я же вам говорил, — радостно сказал он, — я знал, чтб вы способны отнестись к этому — и к старику моему — Вот именно так, а это его и ко мне, может, смягчило бы.
— Ради бога, — вскричал редактор, вытирая глаза, — не говорите больше ничего, лучше постарайтесь вспомнить, кто у вас тут жил по соседству, где бы мы могли переночевать. До Верхних Ключей нам с вами не дойти, а здесь, на этом пепелище, тоже не переночуешь.
— Ближе, чем в Ключах, здесь никто не жил.
— Но это было пять лет тому назад, — нетерпеливо сказал редактор, — и хотя ваш отец, наверно, уехал куда‑нибудь после того, как сгорел дом, в этих местах с тех пор выросли целые поселки. Это же засеянный участок, тут где‑нибудь за ним должен быть чей‑то дом. Давайте пройдем чуть подальше.
Они молча зашагали по колее, редактор на этот раз впереди. Внезапно он остановился.
— Вон там, за деревьями, дом, — сказал он, показывая пальцем. — Чей это?
Незнакомец недоуменно покачал головой. Хотя он как будто не так уж огорчался за отца, которого постигло такое несчастье, однако зрелище черных развалин родительского дома явно нарушило его планы.
— В мое время этого дома не было, — задумчиво промолвил он.
— Но в наше время он есть, — живо возразил редактор, — и я предлагаю пойти туда. По всему тому, что я слышал от вас о вашем отце, даже если бы его дом и стоял на месте, — вряд ли мы получили бы там ужин и приют. Я думаю, —продолжал он, когда они пошли дальше, — он сильно гневался на вас, когда вы расстались, пять лет тому назад.
— Д–Да.
— Что же он вам сказал на прощание?
— Не припомню, чтобы он что‑нибудь говорил.
— Ну как же он себя вел?
— Палил по мне из окна.
— Д–да! —тихо протянул редактор.
Некоторое время они шли молча. Постепенно впереди,
под прямым углом к колее, по которой они шагали, стали вырастать белые столбы ограды, а вдоль нее тянулась настоящая проезжая дорога, и по ней не спеша шел какой‑то человек. Редактор, который теперь уже решил действовать сам, не сказав ни слова своему спутнику, бросился наперерез к незнакомцу и, подбежав к нему, рассказал в немногих словах, что они с приятелем сошли с дилижанса, задержавшегося из‑за разлива, и, не входя ни в какие подробности, спросил коротко, не может ли он указать им, где бы они могли переночевать. Незнакомец отвечал так же коротко. Показав на дом, видневшийся среди деревьев, он сказал, что это его дом и они могут пойти туда, а сам не спеша зашагал дальше по дороге. Молодой редактор вернулся бегом к своему спутнику, укрывшемуся под мокрыми ветвями смоковницы, и рассказал, как им повезло.
— Я его ничего не спросил о вашем отце, — прибавил он. — Вы потом можете сами его расспросить.
— Я думаю, мне теперь это не понадобится, — сказал спутник. — Вы не приглядывались к этому человеку, не обратили на него внимания?
— Нет, не особенно, — ответил редактор.
— Так вот, это мой отец, и, как я понимаю, это его новый дом.
II
Молодой редактор смотрел на него с изумлением. Человек, с которым он только что говорил, отнюдь не произвел на него впечатления опасного субъекта, но если вспомнить, что рассказывал о нем сын, может, он и в самом деле способен убить.
— Послушайте, — поспешно сказал он, — сейчас его там нет. Почему бы вам не воспользоваться этим? Пойдите, помиритесь с вашей матерью и сестрами, чтобы они потом, когда он вернется, заступились за вас.
— Матери у меня нет; она умерла до того, как я сбежал. Моя сестренка Элмира совсем девочка, правда, с тех пор прошло четыре года, должно быть, она уже и выросла. А с братьями мы никогда особенно не ладили. Но вот я что думаю, может быть, вы сперва пойдете туда и пощупаете, как они там, а тогда уж и ввернете слово обо мне, так вот ненароком, как вы умеете, рассмешите их чем‑нибудь — ну, вы сами увидите, как к ним подойти, а я подожду здесь, возле дома, и вы просто кликнете меня. Понятно?
По–видимому, редактору теперь все было понятно. Как ни нелепо показалось бы ему такое предложение час тому назад, теперь он находил его вполне уместным, и оно даже пришлось ему по душе. Имя его было широко известно в округе, и вполне возможно, что его ходатайство увенчается успехом. Может быть, такая вера в него его спутника приятно щекотала его тщеславие; может быть, он поддался просто человеческому любопытству, и ему захотелось узнать, чем все это кончится; а может быть, этот беспомощный, рвущийся домой блудный сын внушал ему жалость, в которой он сам себе не хотел сознаться.
— Но вы должны мне хоть что‑то рассказать о себе, ну, что‑нибудь о вашей жизни, о ваших планах. Ведь они, конечно, будут расспрашивать.
— Нет, вряд ли. Но вы можете им сказать, что я человек обеспеченный, нажил себе кой–какой капитал в Австралии, не собираюсь им сесть на шею.
Редактор кивнул и, словно опасаясь, как бы здравый смысл не остудил его порыва, бегом бросился к дому.
Это был большой, внушительный дом, всем своим видом свидетельствовавший о благосостоянии Уилксов. Редактор решил повести атаку на эту крепость с самой ее слабой, податливой — женской — стороны, поэтому, когда на его стук дверь отворилась, он спросил, нельзя ли ему повидать мисс Элмиру Уилкс. Слуга–ирландец провел его в уютную гостиную, и в следующую минуту, шурша на ходу длинной широкой юбкой, в комнату стремительно вошла прехорошенькая девушка. Едва только она обратила на него пронзительный взгляд быстрых голубых глаз, редактор — неплохой знаток женщин — догадался, что она ждала кого‑то другого; еще взгляд — и он понял, что она отчаянная кокетка и никогда не упустит случая пококетничать. Это, во всяком случае, было ему на руку. Подстрекаемый ее лукавым взглядом и необычностью положения, он рассказал ей, как обстоит дело, в таком непринужденном и забавно–шутливом тоне, что вполне оправдал глубокую веру спутника в его обаяние. Но даже и при всей своей несколько циничной развязности он был как‑то озадачен тем, как отнеслась девушка к его рассказу. Он ожидал взрыва негодования или, может быть, даже сурового осуждения этого человека, который уж и ему самому начал казаться каким‑то сбившимся с пути, жалким отверженцем, но он был поражен полнейшей безучастностью, совершенно откровенным, невозмутимым, жестоким равнодушием, с каким она приняла известие о его возвращении. Выслушав до конца скорей самого рассказчика, чем его рассказ, она томным голосом позвала из соседней комнаты своих братьев.
— Вот этот джентльмен, мистер Грей из «Аргуса», встретился случайно с Джимом. Джим намерен явиться сюда и повидать отца.
Оба брата уставились на Грея, потом слегка пожали плечами с тем же полным отсутствием интереса или какого‑либо братского сочувствия и ничего не сказали.
— Минутку, — чуть–чуть горячась, сказал Грей. — Я не собираюсь выведывать ваши семейные тайны, но, может быть, вы все‑таки скажете мне, существует ли какая‑нибудь важная причина, почему ему нельзя сюда прийти? Ну, может быть, какой‑нибудь позорный поступок — непростительное поведение или, скажем, даже злоумышленная выходка — словом, нечто такое, что не допускает возможности его возвращения под родительский кров?
Все трое переглянулись с каким‑то скучливым недоумением, которое тут же сменилось рассеянной улыбкой.
— Нет–нет, — ответили они все сразу, в один голос. — Нет, но только…
— Ну что только? — нетерпеливо переспросил Грей.
— Папаша просто не переносит его.
— Хуже всякой отравы, — с улыбкой протянула Элмира.
Молодой редактор, чуть–чуть вспыхнув, поднялся с места..
— Послушайте, — сказала девушка, и ямки так и заиграли у нее на щеках — она наблюдала за ним с явным любопытством, словно подозревая в этом его интересе к ее брату какое‑то искусное притворство, новую манеру ухаживать. — Папаша только что пошел в загон к овцам и вернется не раньше, чем через час. Вы можете привести сюда вашего приятеля.
— А может быть, ему что‑нибудь надо? Может, он обнищал совсем… или что‑нибудь с ним случилось... — с опаской прибавил один из братьев.
Грей поспешил их уверить, что Джим вполне обеспеченный человек, и даже прибавил кой‑что от себя насчет капитала в Австралии. Это их, по–видимому, успокоило, но никакого интереса они не проявили.
— Подите позовите его, — сказала юная чародейка,, кокетливо вертясь около Грея и стреляя глазками, — да смотрите, приходите сами.
Грей секунду поколебался и затем вышел на темное крыльцо. Съежившаяся, намокшая фигура вышла из‑за деревьев. Это был Джим.
— Ваша сестра и братья зовут вас, — коротко и быстро сказал Грей, не желая вдаваться в подробности. — Он вернется не раньше, чем через час. Но я вам советую не терять времени, а постараться расположить к себе сестру.
Он уже хотел было отступить, чтобы тот вошел один, но Джим умоляюще вцепился в его руку, и Грей вынужден был вернуться вместе с ним. Он заметил, что Джим часто и тяжело дышит.
Те трое слегка повернулись к своему брату, но не выказали готовности пожать ему руку, и он не пытался этого сделать. Он сел боком на стул, не дожидаясь, чтобы ему предложили.
— Старый дом‑то сгорел! — сказал он, вытирая губы и проводя носовым платком по мокрым волосам.
Так как он ни к кому в частности не адресовался, то прошло несколько секунд, прежде чем старший брат вымолвил:
— Да.
— А Элмира выросла.
Опять никто не счел нужным ответить, а Элмира лукаво покосилась на молодого редактора, словно дожидаясь, что он прибавит: и похорошела.
— Ну как твои дела, ничего? — пытаясь поддержать разговор, спросил один из братьев.
— Да, ничего, — ответил Джим.
И опять наступила пауза.
Даже словоохотливый Грей сидел, словно зачарованный этим гнетущим молчанием, и чувствовал себя не в силах его нарушить.
— А старый колодец, так и остался стоять, — сказал Джим, снова вытирая губы.
— Это куда папаша тебя чуть не спихнул за то, что ты ему перечил, — ввернул младший брат.
Мистер Грей изумленно, но вместе с тем с чувством облегчения посмотрел на Джима, когда тот громко захохотал, похлопывая себя по коленкам.
— Да правда, как прошлое‑то вспоминается!
— И то старое ореховое дерево тоже стоит, — живо подхватила ясноглазая Элмира, —помнишь, как ты на него вскарабкался, когда на тебя собак спустили. Вмиг на самый верх залез!
Джим снова громко захохотал и затряс головой.
— Да, старый орех! Вот ведь и ты помнишь, Элмира! — с восхищением сказал он.
— А помнишь Делию Шорт? —продолжала Элмира, польщенная его восхищенным тоном и, может быть, втайне гордясь необыкновенным вниманием, с каким молодой редактор слушал эти приятные воспоминания. — Помнишь, как ты по ней с ума сходил; мы всегда считали, что это ты из‑за нее свихнулся, когда ты из дому бежал. Ты так за ней увивался, а она‑то, оказывается, уже в это время была тайно обвенчана с твоим приятелем Джо Стэси. Вот уж как тогда все потешались, чего только о вас не рассказывали! А ты‑то воображал, что она за тебя пойдет! Вот твой новый друг, — с лукавой улыбкой в сторону Грея, — который всегда всех в газете протаскивает, мог бы это так расписать!
Джим опять захохотал громче всех и потер себе губы. Грей только криво усмехнулся и подошел к окну.
— Вы говорили, ваш отец вернется через час? — сказал он, обернувшись к старшему брату.
— Да, если он только не зайдет к Уотсону.
— А где это? — вдруг заинтересовался Джим.
Грей с удивлением заметил, что у него как‑то сразу
изменился голос или, вернее, что он первый раз за все это время заговорил естественным тоном.
— Да тут близко, только мост перейти, — пояснил брат. — Если он туда зашел, он раньше десяти не вернется.
Джим поспешно схватил свой плащ, шляпу и, направляясь в переднюю, сказал на ходу:
— Я, пожалуй, пойду прогуляюсь немножко, пока он не пришел.
Никто из родных не пошевельнулся и не сделал попытки его удержать.
Грей тут же очутился рядом с ним.
— Я иду с вами, — сказал он.
— Нет, — с какой‑то странной настойчивостью произнес Джим. — Вы оставайтесь здесь, разговорите их, пусть себе посмеются. Ведь они все это для вас старались. Элмира только из‑за вас так развеселилась.
Видя, что его не уговорить, Грей мрачно вернулся в гостиную; но, проходя мимо окна в передней, он не без удивления увидел, как Джим, выйдя из дома, бросился бежать сломя голову куда‑то в темноту.
Может быть, его это несколько встревожило, а может быть, он все еще находился под впечатлением недавней уютной беседы, но он без всякого воодушевления отвечал на задорные попытки хорошенькой Элмиры втянуть его в разговор, и его очень скоро оставили одного у камина. Прошло каких‑нибудь десять минут, и он уже жалел, что пришел сюда; через полчаса он уже начал подумывать, не лучше ли ему уйти и как‑нибудь одному добраться до Ключей, а когда он обнаружил, что сидит уже целый час, а Джима все нет, ему стало не по себе, несмотря на полнейшее равнодушие хозяев дома.
Вдруг он услышал, как кто‑то затопал по крыльцу, затем из передней послышались невнятные восклицания и голоса обоих братьев.
— Что с вами, папаша? Что случилось? Где это вы так вымокли? Прямо будто из воды вылезли!
Дверь в гостиную распахнулась, и в комнату ворвались столбы пара и мокрая, словно дымящаяся фигура старика, которого Грей встретил на дороге, а за ним следом оба его сына.
Старик, по–видимому, был вне себя, но не оттого, что он пострадал, — он был вне себя от ярости. Крепкий, рослый, выше обоих своих сыновей, он сбросил с себя на ходу мокрый сюртук и жилет и подошел к камину. Не обращая ни малейшего внимания на присутствие постороннего человека, он круто повернулся лицом к сыновьям.
— Вылез из воды! Да! А мог бы и не вылезти. Форк из берегов вышел, Уотсона затопило, и мост снесло. Я в темноте ступил здесь на конец доски и полетел головой вниз, а тут глубина футов двадцать будет. Пытался выбраться, а течение против; два раза с головой под воду уходил и вот уже на третий раз чувствую, совсем тону, вдруг кто‑то меня сзади за шиворот схватил и плечом подпер — вот так и поплыл со мной к берегу! Я кое- как на ноги поднялся и говорю: «Я вашего лица не вижу и не знаю, кто вы такой, но вы, — говорю, — мужественный, благородный человек, за это могу поручиться», — и протягиваю ему руку. А он как схватит мою руку. «Ну вот, — говорит, — мы и квиты», — и тут же его и след простыл. И кто же вы думаете это был? — грозно уставившись им в лица и повышая голос чуть ли не до крика, продолжал старик. — Эта подлая собака, негодник— ваш братец Джим! Паршивец Джим, которого я пять лет назад вышвырнул из дому, приполз обратно, пробрался тайком, — подумать, через столько лет, — чтобы надсмеяться над сединами отца. А вы‑то, боже мой, вы тогда еще осмелились думать, что я слишком' жесток к нему.
На другой день с утра ярко светило солнце, когда молодой редактор остановил дилижанс в теперь уже совсем высохшей ложбине. Взбираясь на верхнее сиденье рядом с кучером, он почувствовал, как кто‑то схватил его за локоть из окна кареты. Он взглянул вниз и увидел Джима.
— А славно мы поболтали вчера вечерком, вспомнили прошлое, ведь правда? — оживленно заговорил блудный сын.
— Д–да, но… а куда же вы теперь направляетесь?
— Думаю обратно, в Австралию. Но приятно было вот так невзначай заглянуть еще раз в родное гнездо.
— Оно, конечно, — сказал редактор, ухватившись за окно и наполовину повиснув в воздухе, к явному нетерпению Юбы Билла, — но… скажите… в самом деле, вы- то сами, вы правда довольны?
Рука Джима стиснула локоть молодого редактора.
— Да! — бодро сказал он. Но лица его не было видно, он отвернулся.
Брет Гарт Чу-Чу
Думаю, даже самый заядлый любитель лошадей, этих «полезных и благородных животных», не станет утверждать, что им свойственны такие качества, как доброта и отзывчивость, и к тому же безграничная преданность хозяину. Существа, которые не смотрят вам прямо в глаза, а только поглядывают искоса, со страхом и недоверием или примериваясь, куда бы получше вас лягнуть; существа, которые не умеют отвечать на ласку и чаще всего выражают свои чувства презрительным вздергиванием головы, — эти существа, вероятно, и могут быть названы «полезными» и «благородными», но вряд ли они делают жизнь веселее. Я мог бы пойти гораздо дальше и заявить, что из всех домашних любимцев, которых знает человечество, лошади одни (за исключением только, пожалуй, золотых рыбок) способны вызывать совершенно безответную страсть. Считаю эти предварительные замечания необходимыми для того, чтобы доказать, что моя безнадежная любовь к Чу-Чу не была какой-то индивидуальной аномалией. Спешу отметить, что вдобавок ко всем чертам характера, свойственным лошадиному роду в целом, Чу-Чу отличалась еще и строптивостью, присущей ее ветреному полу.
Я взял ее из грязи — она уныло месила ее своими ногами, привязанная к задку переселенческого фургона. Это была юная и необъезженная лошадка — она успела уже стряхнуть со своей спины всех в караване, кто ни пытался ее оседлать, и, хотя была вся покрыта пылью, все же видно было, что масти она удивительно красивой, а таких огромных блестящих глаз я в своей жизни никогда не видел. Последние служили ей, по-моему, исключи-тельно для украшения — она не смотрела, а принюхивалась, поводила ушами, даже приподнимала, словно пробуя что-то, тонкую переднюю ногу. Правда, в первую нашу встречу она бросила мне кокетливый взгляд — так мне по крайней мере показалось, — впрочем, поскольку ее хозяин почему-то в эту минуту крикнул: «Берегитесь!» — я не берусь этого утверждать. Знаю только, что в результате переговоров, полных значительных недомолвок, и после того, как значительная сумма денег перешла из одних рук в другие, я остался один на дороге, глядя вслед удаляющемуся фургону, — в руках у меня был конец тридцатифутовой риаты [5] , к которой была привязана Чу-Чу.
Я слегка потянул за свой конец и нерешительно шагнул к ней. Тогда она с самым презрительным видом тронулась с места и, натянув повод до предела, закружила вокруг меня. Я стоял и с восхищением следил за ее свободными движениями, не думая о том, что надо бы поворачиваться вслед за нею, — и спохватился, лишь когда она обмотала вокруг меня почти всю риату. Никогда не забуду, как страшно она удивилась, обнаружив, что подошла ко мне, почти вплотную, — от удивления она чуть не сбила меня с ног. Она принялась изо всех сил тянуть повод, так что ее узкая морда и красиво изогнутая шея напряглись, словно струна, а потом вдруг успокоилась и снизошла до того, что покорно последовала за мной, — правда, шла она при этом как-то боком, то справа от меня, то слева. Но даже и тогда она то и дело вспоминала о моей отвратительной близости и снова начинала биться в истерике. При этом на меня она ни разу и не взглянула. Она смотрела на риату, пренебрежительно обнюхивала ее, своим изящным копытцем пробовала камешки, лежащие возле моих ног, увидав мои следы на влажном песке, словно Робинзон Крузо, с ужасом кидалась в сторону, но на меня не обращала ни малейшего внимания. Только остановится, задумчиво опустив голову и словно говоря: «Ну да, тут есть поблизости что-то странное, — не знаю, животное это, растение или ископаемое, — не пойму что-то, но съесть его нельзя, и мне оно противно и омерзительно».
Добравшись до своего дома на окраине, я решил, прежде чем отвести Чу-Чу в загон, зайти в комнаты и сообщить домашним о своем приобретении; я привязал ее к одинокому платану на перекрестке двух довольно людных улиц. Я пробыл в доме очень недолго, как вдруг услышал шум и крики и, выскочив на дорогу, увидел, что Чу-Чу своей риатой прочно прикрутила двух моих соседей к дереву, где они и стояли, подобно ранним христианским мученикам. Освободив их, я узнал, что, привлеченные красотой и изяществом Чу-Чу, они приблизились к ней, желая выразить ей свое восхищение, на что она ответила известным уже мне круговращением, приведшим к такому печальному исходу. Осторожно, стараясь держаться подальше от коварной риаты, отвел я ее к загону, где ворота были уже предусмотрительно растворены. Хотя ворота были настолько широки, что в них без труда прошел бы полк конницы, она притворилась, что не замечает этого, и, входя, сбила часть ограды. Поначалу она отказывалась войти в стойло, но, внимательно исследовав его копытами, с притворной покорностью потянула ноздрями, снизошла — не бросив на него ни единого взгляда — до овса, насыпанного в ясли, и была торжественно водворена на место. Все это время она решительно игнорировала мое присутствие. Я стоял, глядя на нее, как вдруг она перестала есть — задумчивость снова овладела ею.
«Нет, я не ошиблась, это мерзкое существо снова здесь», — казалось, подумала она и содрогнулась при этой мысли.
Тогда я решил рассказать о моем безответном чувстве к Чу-Чу одному из соседей, который считался большим знатоком лошадей, особенно той полудикой породы, к которой принадлежала Чу-Чу. Он поразил меня тем, что облокотился о стойло, где она, не обращая, как всегда, на нас никакого внимания, спокойно жевала овес, и осмелился погладить ее челочку, которая кокетливо вилась над прелестной белой звездой у нее на лбу.
— Понимаете, капитан, — сказал он, небрежно изогнувшись, — лошади — что твои женщины! Последнее это дело с ними робеть или мяться, тут нужна решительность, этакая небрежная фамильярность, спокойная, но твердая рука, чтоб она видела, кто здесь хозяин. Ну, вот, хотя бы так…
Мы так никогда и не узнали, как это случилось; но, когда я поднял своего соседа с порога, где он лежал среди щепок, отлетевших от перекладины стойла, весь обсыпанный овсом, каким-то таинственным образом попавшим ему даже в волосы и карманы, Чу-Чу стояла к нам задом, внимательно разглядывая свои передние ноги, в то время как задние ее ноги почему-то находились в соседнем стойле. В конюшне сосед толковал о возмещении убытков, а выйдя на свежий воздух, заговорил о физическом увечье. Но тут Чу-Чу каким-то чудом повернулась, и сосед поторопился удалиться, схватив свою шляпу с оторванными полями и так и не закончив начатой фразы.
Следующим моим посредником был Энрикес Сальтильо — молодой человек моего возраста и брат Консуэло Сальтильо, которую я обожал.
Мы твердо верили, что благодаря своему испанскому происхождению он сможет лучше понять нрав Чу-Чу (она-то на добрую половину была испанкой), и я даже смутно надеялся, что по языку и выговору она распознает в нем родную душу. Впрочем, тут было одно затруднение, ибо он предпочитал говорить на своем удивительном английском наречии, соединявшем кастильскую изысканность с тем, что представлялось ему настоящим калифорнийским жаргоном.
— Насчет этой кобылки я могу вас уверить, что она — заметьте это себе накрепко — совсем не мексиканский мустанг! О, нет! Свои сапоги вы можете смело ставить — и не проиграете! Она кастильских кровей — разразите меня громом, но поверьте мне! Я сам буду изучать и надзирать ее в разное время в стойле, я прослежу ее буйства и раскрою их причину. А если она взыграется, я приближусь к ней и усмирю ее. Будьте безмятежны, мой друг! Когда пройдет несколько дней, многое изменится, и она станет как другая. Доверьтесь дядюшке Энрикесу! Вы меня поняли? Все будет в лучшем виде, и гусь повиснет в небе!
На следующий день он спокойно «надзирал» ее, зажав сигарету между двумя пожелтевшими от никотина пальцами, — она выразительно чихнула, но, впрочем, прислушалась к испанской образности его речи с некоторым даже снисхождением. Однако, по-моему, она не удостоила его ни единым взглядом.
Напрасно он клялся ей, что она самая «дражайшая» и самая «крошечная» из всех его «дражайших крошек», напрасно называл ее своей «святой покровительницей», заверяя, что душа его ликует, когда он молится ей, она принимала все его комплименты, не отводя глаз от кормушки. Истощив свой запас ласкательных имен, он пополнил его несколькими шутливыми и смелыми находками, но она все стояла с низко опущенной головой, словно вдумываясь в его слова. Он провозгласил, что это уже достижение, если вспомнить о ее прежних выходках. Возможно, во мне заговорила ревность, но мне показалось, будто в эту минуту она думала: «Боже мой! Неужели их уже двое?»
— Мужайтесь, мой друг! Наберитесь терпения, — говорил он, медленно идя вместе со мной к выходу. — Эта кобылка молода, она еще не сформировалась как личность. Завтра, в более благоприятное время, я ее потрублю по холке (у меня есть все основания предполагать, что Энрикес хотел сказать «потреплю»), и тогда посмотрим. Это так же просто, как упасть с бревна. Немного сладких речей — на них-то ваш друг Энрикес такой мастер, — дватри шлепка по шее, и все становится на свои места. Вы встаете с правильной ноги! Гоп-ля! Но не будем предугадывать это событие: чем больше торопишься, тем меньше ускорения.
Эти его слова явно не расходились с делом — он стоял в двух шагах от порога и не торопился выходить из конюшни.
— Пошли! — сказал я.
— Простите, — отвечал он с изысканным поклоном, — я выйду после вас, ведь конюшня ваша.
— Да ну, идемте же! — воскликнул я нетерпеливо. К моему удивлению, он внезапно скрылся в конюшне.
Через мгновение он вновь появился на пороге.
— Пардон, но я сдержан! Клянусь богом, в эту самую минуту эта лошадь хватает меня своими зубами за фалды… Она желает, чтобы я остался! Мне кажется… — тут он опять пропал, — что… — он снова появился — … что наш эксперимент удачен! Она отвечает лаской. Она, клянусь богом, от меня без ума! Это любовь!.. — Тут Чу-Чу потянула сильнее, и он исчез. — Но… — он с торжеством возвратился, оставив у нее в зубах добрую половину своего костюма, — … но я буду жестокосердным!
На следующий же день мой доблестный друг, ничуть не смущаясь своей неудачей, явился ко мне в полном облачении объездчика, неся в руках мексиканское седло. Тяжеленные кожаные штаны с разрезами до колен, окаймленные литыми пуговицами, огромное плоское сомбреро и короткая бархатная куртка, стоящая колом от покрывавшей ее вышивки, казалось, пригибали его к земле, и все же меня гораздо больше занимало огромное седло и прочее снаряжение, предназначенное для моей изящной
Чу-Чу. Мне было совершенно ясно, что оно скроет прекрасные линии и изгибы ее стройного тела и что оно слишком тяжело для нее; понимал я также и то, что она будет изо всех сил сопротивляться. Однако, когда ее вывели из конюшни и ловко набросили на нее седло, она, к великому моему удивлению, оставалась совершенно безучастной.
Неужто та небольшая толика испанской крови, которая досталась ей в наследство от ее отдаленных родичей, обрадовалась этому могучему объятию? Она не оглянулась, не расширила ноздри. Но стоило Энрикесу потянуть подпругу, как случилось нечто странное. На наших глазах Чу-Чу раздула свое брюхо чуть ли не вдвое — чем больше он затягивал, тем больше она раздувалась. Мне стало стыдно за нее. Но Энрикес и глазом не моргнул. Он улыбнулся и спокойно погладил свои редкие усы.
— О, это всегда так! Ее бабушка вела себя точно так же! Даже когда седлаешь благородных кастильцев, они раздуваются, словно воздушный шар. Это у них такой фокус… Их маленькая игра… Поверьте мне… Но только зачем?
Я не отвечал, ибо в этот самый момент я с удивлением увидел, что седло медленно соскользнуло Чу-Чу на живот, а стан ее принял, словно по волшебству, свои прежние стройные очертания. Энрикес глянул, приподнял плечи, пожал ими и с улыбкой промолвил:
— Ну вот, видите!
Когда подпруга была наконец закреплена (неутомимый Энрикес подтянул ее еще разок-другой), мне показалось, что Чу-Чу втайне порадовалась этому, — известно ведь, что слабый пол любит тесную шнуровку. Она глубоко и, как мне показалось, удовлетворенно вздохнула, изогнула шею, очевидно, для того, чтобы полюбоваться своей фигурой. Энрикес при этом отшатнулся в сторону, — чтобы не помешать ей, несомненно. Затем наступил момент, которого я так страшился. Энрикес положил руку Чу-Чу на холку, внезапно приостановился, с подчеркнутой учтивостью снял шляпу и повел ею в направлении седла.
— Надеюсь, вы окажете мне честь быть первым… Я засмеялся и покачал головой.
— Понимаю, — сказал Энрикес глубокомысленно. — В два по часам вы должны быть на погребении тетушки, которая скончалась. Вы должны встретиться со своим маклером, который купил вам пятьдесят акций, вы должны увидеться с ним сию же минуту, а не то вы погибли. Вы освобождаетесь… внимание! Джентльмены, пока не поздно, заключайте пари! Оркестр уже играет! Алле, гоп! И быстрым движением отважный юноша вскочил в седло. К величайшему нашему удивлению, Чу-Чу не дрогнула. Гордо выпрямившись, Энрикес стоял в стременах, словно юный Дон Кихот, оседлавший своего сонливого Росинанта [6], — крылья седла, краги, гигантские шпоры совершенно скрыли благородные пропорции Чу-Чу. Она закрыла глаза, казалось, она засыпает. Мы были страшно раздосадованы. Куда же это годится? Энрикес тихонько шевельнул поводьями. Чу-Чу медленно тронулась с места, затем остановилась, очевидно, погрузившись в размышления.
— Приблизьтесь к ней с той стороны. Я осторожно приблизился. Внезапно она взвилась в воздух и с силой опустилась на прямые, как палки, ноги. За этим последовала серия рывков по всему выгону — их даже прыжками нельзя было назвать, — скорее они напоминали движения ракеты. А то, что проделывал сейчас несчастный Энрикес, никак невозможно было назвать верховой ездой. Он появлялся то над головой у Чу-Чу, то где-то у хвоста, то у шеи, а то и просто в воздухе — где угодно, но только не в седле. Его напружившиеся ноги, правда, безошибочно находили стремена, послушно вторя резким скачкам лошади. К тому же сам всадник вместе со своим седлом и всей сбруей был таким несоразмерно громоздким по сравнению с Чу-Чу, что временами казалось, будто это он каким-то сверхъестественным усилием приподнимает ее в воздух и заставляет проделывать все эти фокусы. Они двигались прямо на меня — бешеный, взметающийся, рвущийся клубок, в котором изредка мелькали то копыта, то шпоры; и разобрать, где из них кто, было совершенно невозможно, как невозможно было отличить, когда прыгает Чу-Чу, а когда — Энрикес. Наконец Чу-Чу положила всему этому конец — она устремилась к стоящему на краю участка дубу, низко склонившему свои ветви над землей. Через несколько мгновений она показалась из-за дуба, но уже без Энрикеса в седле! Я нашел своего доблестного друга на дереве. Прочно вклинившись в развилину могучей ветви, он улыбался все с той же уверенностью в собственных силах, а во рту его торчала неизменная сигара. Увидев меня, он впервые за это утро вынул ее изо рта и, свесив вниз ноги и удобно устроившись на ветке, одним мягким, но решительным жестом отмел все мои тревоги и волнения.
— Будьте безмятежны, мой друг! Это не в счет! Я победил — вы наблюдали, — но почему? Я ни разу — ни одного разу — не уронил себя на землю! Натурально, она разочаровалась! Она желала меня повергнуть! Но я ее прибрал к рукам с молодых копыт. Ваш дядюшка Энри… — тут он с ангельской улыбкой подмигнул мне, — хитер, как муха. С ним шутки плохи. У него стеклянный взор! Поверьте мне!.. Итак, смотрите! Вот он я! Алле, гоп!
И он легко спрыгнул на землю. Чу-Чу, стоявшая неподалеку настороже, не смогла скрыть своего удивления. Она энергично взбрыкнула задними ногами и взвилась в воздух с такой силой, что стремена взлетели высоко над седлом, а затем поскакала в конюшню странными заячьими прыжками, предусмотрительно избавившись от седла, грохнув им о дверной косяк.
— Вы наблюдаете, — спокойно заметил Энрикес, — ей хотелось бы сделать это со мной. Но случай не представился, и она недовольна. Что вы на это скажете?
Спустя два дня он снова попытался объездить ее — результат был все тот же, и он принял его с тем же героическим благодушием. Так как мы по определенным соображениям не рвались упражняться на открытой посторонним взорам дороге, а удалить дерево из загона было невозможно, пришлось покориться неизбежному. На следующий день в седло сел я. Мне пришлось претерпеть все то же, что выпало на долю Энрикеса, с добавлением кое-каких личных ощущений: мне казалось, что меня швырнули из окна трехэтажного дома прямо на стоящую внизу конторскую табуретку, а для разнообразия выстрелили мною куда-то через забор. Обнаружив, что Чу-Чу не сопровождала меня в этом полете, я поднял глаза и увидел стоящего подле меня Энрикеса.
— Более чем когда-либо необходимо, чтобы мы проделали это снова, — сказал он торжественно, помогая мне подняться на ноги. — Мужайтесь, мой доблестный генерал… Бог и свобода — вот наш боевой клич! Снова в прорыв! В атаку, мой друг, в атаку! Идемте же, дон Стэнли! Вот так!
С этими словами он помог мне взгромоздиться в седло; и это немедленно возымело то же действие, что поворот пресловутого колышка на волшебного коня из арабских сказок: Чу-Чу взвилась в воздух. На этот раз она приземлилась у раскрытого окна кухни, и я с необычайной легкостью взлетел на буфет. Неутомимый Энрикес последовал за мной.
— Может быть, хватит? — спросил я робко.
— Вы делаете успехи! — ответил он радостно. — Вы не на земле, и это — самое главное! Нужно делать не одну, но тысячу попыток! Ха-ха! Идите и побеждайте! Никогда не умирайте и не говорите о смерти! Вперед! В атаку! Гоп-ля!
К счастью, на этот раз мне удалось сцепить колесики шпор у Чу-Чу под брюхом, и она не смогла выбросить меня из седла.
По-видимому, сделав несколько прыжков, она поняла это, после чего, к величайшему моему изумлению, внезапно легла на землю и спокойно перекатилась через меня. В результате шпоры мои расцепились — она же, не поднимаясь на ноги, выпрямилась, повернула свою прелестную голову и взглянула мне прямо в глаза. (Я все еще сидел в седле.) Я почувствовал, что краснею! Но тут рядом раздался голос Энрикеса:
— Воспряньте, мой друг! Вы победили! На землю уронила себя она! Победа за вами! Дело сделано. Поверьте мне, все кончено! Больше она ничего такого делать не будет. С этого момента можете садиться на нее, как на корову, как на перекладину этого забора, — и будьте безмятежны! Она укрощена! Господа, можете надеть шляпы! Передайте-ка мне ваши чеки. Представление окончено. Ну, как вы себя чувствуете?
Он закурил и, положив руки в карманы, ласково улыбнулся мне.
Все же я рискнул заметить, что обычай взлетать, слезая с лошади, на развилину дерева или выползать из-под седла, оказавшегося на земле, сопряжен с неудобством и, более того, может привлечь излишнее внимание публики. Но Энрикес в один миг отмел все возражения.
— Важен принцип, основной факт, к которому вы приходите. Все остальное устроится само собой! А то ведь многие лошади хватают всадника за колени и избавляются от него таким образом. У моего дедушки был такой конь-бербериец, но он умер, и дедушка тоже. Как это печально и странно! Иначе я тут же привел бы их в пример!
Надо заметить, что, хотя сестра Энрикеса ни разу не была свидетельницей всех этих представлений — и у него и у меня были на то достаточно веские основания, — она проявляла к ним живейший интерес и вследствие наших лестных отзывов друг о друге взирала на нас, как на бесстрашных героев. Возможно, она переоценила наши достижения, ибо однажды она неожиданно попросила, чтобы я прискакал на Чу-Чу к ее дому, так как ей хотелось посмотреть на нее.
Дом их был недалеко, и, если ехать улочкой, проходящей по задам, можно было избежать деревьев, которые роковым образом влекли к себе Чу-Чу. В голосе Консуэло звучала умоляющая, почти детская нотка, устоять перед которой я был не в силах, а в ее огромных черных глазах сверкнула искорка, которую мне не хотелось раздувать. Я решил рискнуть, чего бы мне это ни стоило.
Снаряжаясь в экспедицию, я во всем повторил костюм Энрикеса, только добавил к нему кое-какие украшения из серебра и тисненой кожи, желая польстить Консуэло, а также смутно надеясь умиротворить этим Чу-Чу. Она-то, конечно, выглядела великолепно, сбруя так и сияла на ее черных, как ночь, сверкающих боках. Приняв вид рассеянной скромницы, она позволила мне сесть в седло и первую сотню ярдов прошла стыдливой девической иноходью, не лишенной, правда, известного кокетства. Ободрившись, я обратился к ней со словами ласки; предавшись юношеским восторгам, я поведал ей о своей любви к Консуэло и умолял ее быть «умницей» и не позорить себя и меня перед мой Дульцинеей. В своей глупой доверчивости я даже приласкал ее, легонько похлопав по мягкой шее. Она мгновенно остановилась и истерически задрожала. Я знал, какая мысль мелькнула в ее голове: она внезапно отдала себе отчет в моем ненавистном присутствии.
К седлу и уздечке Чу-Чу мало-помалу привыкла, но что это за живое, дышащее существо, которое коснулось ее? Между тем в поле ее зрения появился дубовый лист, который, трепеща, кружился в воздухе. Думаю, что дубовые листья были ей не в новинку, — еще ее предки, конечно, видели их в избытке на склонах холмов, в полях и на пастбищах. И все же это обстоятельство ничуть не поколебало ее глубокого убеждения, что я и лист едины и что ненавистные наши прикосновения каким-то образом неразрывно связаны между собой. Она взвилась на дыбы перед этим невинным листом, она обогнула его, а затем во весь опор поскакала от него прочь.
Дорога проходила мимо задней стены сада Сальтильо. К несчастью, в углу забора стояло прекрасное земляничное дерево, усыпанное яркими, пламенеющими ягодами, — оно было мне особенно дорого, ибо это было любимое место Консуэло, и под его сенью я не раз клялся ей в любви. По странной иронии судьбы Чу-Чу увидела его и во весь дух помчалась прямо к нему. Мгновение — и мы оказались под деревом. Чу-Чу взвилась в воздух, словно ракета. Я едва успел рвануть ноги из стремян, схватиться одной рукой за нависшую над дорогой ветку, прикрыв другой мое сверкающее сомбреро, как Чу-Чу уже неслась дальше. Устроившись поудобнее на дереве и оглядевшись вокруг, я, к своему величайшему огорчению, увидал, что она и не думала убегать, а спокойно протрусила через калитку в сад Сальтильо.
Нужно ли говорить, что спасением я снова был обязан своему благодетелю Энрикесу? Не прошло и минуты как я услышал под деревом его напряженный шепот. Ну конечно, он догадался об ужасной правде!
— Ради всего святого, собирайте же эти многочисленные ягоды! Как можно больше! Целую охапку! И будьте безмятежны! Ваш добрый дядюшка Энри представит все в деликатнейшем свете! Сию же минуту!
И он снова исчез. Я недоуменно сорвал несколько крупных кистей разноцветных ягод и принялся терпеливо ждать. Вскоре он появился в сопровождении прекрасной Консуэло, чьи прелестные глаза были исполнены самой очаровательной тревоги.
— Ну конечно, — говорил Энрикес сестре, таинственно понизив голос, однако произнося слова с необычайной отчетливостью, — каждый уважающий себя американец поступает именно так! Прежде всего он приветствует даму, которой наносит визит, цветами или фруктами, собранными собственными руками. Таков обычай американских гидальго [7]! Великий боже! Ну что тут поделаешь!
Я так не поступаю — это уж верно! Не сомневаюсь, что он сейчас как раз этим и занят! Вот почему он позволил своей кобыле войти сюда первой: этикет требует, чтобы подношение совершалось в пешем виде. Ну конечно! Взирай, вот и он! Дон Франциско! Сейчас он спустится с дерева. Ах, ты краснеешь, сестренка? (Лукаво.) Я удаляюсь! Я тактичен: я знаю, один из двух лишний! Я даю стрекача! Я исчез!
Не знаю, насколько Консуэло поверила объяснениям своего хитроумного брата, я выяснять не стал, ибо, когда я подошел к ней со своим букетом, ее оливковые щечки окрасил румянец, а во взгляде мелькнула красноречивая робость, чего было вполне достаточно, чтобы повергнуть меня в состояние безнадежного слабоумия.
К тому же я неизменно с глубокой горечью сознавал, что Консуэло склонна к чувствительной восторженности, а также к изысканнейшей средневековой романтике, в которых я — увы! — был позорно не осведомлен. Даже в самые счастливые наши минуты я всегда чувствовал, что безнадежно отстаю от этой дщери мрачно прославленных предков, совершающей столь частые набеги в страну туманного, но поэтического прошлого. В тоненькой, но очаровательно величавой фигурке, ступившей мне навстречу, чтобы принять мои спасительные дары, было что-то от настоящей испанской сеньоры. Если бы не присутствие всевидящего Энрикеса, я, верно, упал бы на колени, вручая их. Только к чему я вспомнил, даже в эту минуту, что он прозвал ее «Помпой»? Это, как мог бы заметить сам Энрикес, было «печально и странно».
Запинаясь, я пробормотал что-то о том, что отдаю эти ягоды ей «во владение» (дерево росло в ее же собственном саду!), а она протянула смуглую ручку, нежно ответив на мой взгляд, исполненный неизъяснимого восторга.
Тут Чу-Чу, на миг забытая нами, отвлекла наше внимание самым приятным образом. К нашему удивлению, она чинно подошла к Консуэло и, вытянув стройную шею, не только с любопытством понюхала ягоды, но и потянулась своей черной нижней губой к самой Консуэло. Величавость Консуэло тут же растаяла без следа. Обняв Чу-Чу за шею, она ласкала и целовала ее. Как ни был я молод, я понял блаженный смысл этой страстной ласки, предназначенной совсем не Чу-Чу, и возликовал в душе. Но еще более поразило меня то, что обычно столь своенравная лошадка не только допустила эти вольности, но и ответила на них, сделав вид, будто хочет укусить мою возлюбленную за ухо.
Для порывистой Консуэло этого было достаточно. Она бросилась в дом и через несколько минут появилась в умопомрачительной амазонке, собранной в складки вокруг ее тонкой талии. Напрасно Энрикес и я умоляли ее опомниться — ведь лошадь была еще совсем не объезженной, она и мужчину не всегда слушалась, страшно подумать, что сделает это пугливое создание, увидев, как развевается по ветру женская юбка! Мы просили Консуэло отсрочить эту попытку, подумать как следует, наконец дать нам хотя бы время сменить седло. Но все было напрасно! Консуэло не отступала, она негодовала на задержку и осыпала нас самыми незаслуженными упреками. Конечно, если дон Панчо (хитроумное уменьшительное от моего имени) так дорожит своей лошадкой, если ему не нравится та очевидная симпатия, которую Чу-Чу проявила к ней, тогда, конечно, он вправе… Но тут я сдался! За что был вознагражден правом подержать — один краткий миг — ее ножку в своей ладони, поправить ей юбку, когда она устроилась в седле, высоко подогнув колено, и крепко обнять ее за талию — в какой-то мере, конечно, и от страха, — прежде чем передать поводья в ее руки. Признаюсь, что, когда мы с Энрикесом отскочили в сторону — правда, я настоял на том, чтобы держать конец риаты в руке, — трудно было не восхититься этой сценой. Грациозная фигурка девушки, живописные складки ее амазонки великолепно гармонировали с изящными очертаниями Чу-Чу, а когда лошадка выгибала стройную шею и, повинуясь узде, закидывала вверх маленькую головку, которая так походила на гребень бархатной тореадорской шапочки самой Консуэло, казалось, что всадница и лошадь — существа одной породы.
— Я не желаю, чтобы вы держали повод, — сказала Консуэло, надув губки.
Я колебался. Чу-Чу, несомненно, была в прекрасном расположении духа — я отпустил повод. Легкой иноходью она двинулась к воротам, в ее движениях не осталось и следа жеманства, они были свободными и легкими. Несмотря на неподходящее седло, Консуэло сидела в нем как влитая. Подскакав к воротам, она бросила на меня озорной взгляд и рванула поводья — Чу-Чу галопом вылетела на дорогу.
Затаив дыханье, я в страхе следил за ними. В конце улицы Консуэло слегка попридержала поводья, легко развернулась и прискакала обратно. Сомнений быть не могло — Чу-Чу совершенно подчинилась ей. Вторичное укрощение завершилось полной и окончательной победой! Вне себя от радости и удивления, я осыпал их поздравлениями. Энрикес же, как и подобает брату, взирал на подвиги сестры со своим обычным скепсисом, а на восторги ее поклонника — со снисходительным превосходством. Я осмелился намекнуть Консуэло — шепотом, слышным, как я полагал, только ей одной, — что Чу-Чу всего лишь выражает собственное мое отношение к ней.
— Несомненно, — спокойно заметил Энрикес. — Она сама помогла вам залезть на дерево, чтобы собрать ягод для моей сестры.
Но я почувствовал, как маленькая ручка Консуэло ответила на мое пожатие, и я простил и даже пожалел его.
С этого дня Чу-Чу и Консуэло стали неразлучными друзьями — они встречались ежедневно. Я не задумываясь подарил бы лошадку Консуэло, но она предпочитала называть ее моей — такая деликатность льстила мне.
— Я буду ездить на ней вместо вас, Панчо, — говорила она. — Я буду чувствовать, — продолжала она в возвышенном, хотя и неопределенном поэтическом порыве, — что она ваша! Вы любите это животное, в сущности, оно — это вы, мой Панчо! Ваша душа помчит меня, как вихрь, — ваша любовь к этому животному будет навеки моим единственным спутником.
Конечно, я предпочел бы, чтобы мою любовь к прекрасной Консуэло представлял кто-либо понадежнее Чу-Чу, но я покорно поцеловал руку девушки. Мои инстинктивные опасения оправдались, как только я сделал попытку сопровождать ее, сев на другого коня. Чу-Чу не желала никого даже близко подпускать к своей всаднице. Увидев меня в седле, она вспомнила все свое былое удивление и неверие в мое существование: она внезапно вздрагивала, круто поворачивала, и пораженная, отшатывалась от меня, словно я только что вышел из рук создателя; а не то жеманно опускала глаза, будто я оскорбил своим поведением весь слабый пол и она не могла мне этого простить. Эти демонстрации стали такими частыми, что задевали меня не только как спутника на прогулках: встречным могло показаться, будто Консуэло разделяет неприязнь Чу-Чу, а уж этого я, как поклонник Консуэло, просто не в силах был терпеть. Все мои попытки добиться расположения Чу-Чу кончались тем, что она пускалась в бегство, а я бросался в отчаянную погоню — и это, безусловно, могло быть истолковано самым нежелательным образом.
— А ну, поднажмите-ка, мисс! Этот хлыщ вас нагоняет! — заорал как-то пьяный возница перепуганной Консуэло, и я был вынужден тут же остановиться.
Вскоре даже прекрасная Консуэло убедилась в бесплодности всех таких попыток и стала довольствоваться прогулками с «моей душой».
Но все равно — и я не стыжусь в этом признаться — я продолжал украдкой, держась на порядочном расстоянии, следить за ними, пока не убеждался в том, что Чу-Чу идет ровным шагом. Легкое движение красно-черной тореадорской шапочки Консуэло, воздушный поцелуй, посланный маленькой ручкой с зажатым в ней хлыстом, — и я был вознагражден!
Помню, как однажды в ясный погожий день я ждал ее на краю деревни. Застывшая улыбка калифорнийского лета дрогнула и казалась уже не такой неизменной; пыль густым слоем лежала на листьях и траве; сухие холмы словно оделись в красновато-коричневую кожу; с юга подули ветры, дыша зловещей влажностью, — еще несколько дней, и начнутся дожди. Случилось так, что в тот день мое уединение на наблюдательном посту у дороги было нарушено одной нашей местной красавицей — она была старше меня и пользовалась репутацией кокетки. Она откровенно и, как мне теперь кажется, не без умысла медлила.
И вдруг мимо нас с необычайной быстротой промчалась Консуэло; не успел я удивиться, как ее и след простыл. Тогда я решил, что она не захотела раскланиваться со мной на людях, и перестал думать об этом. Только позднее, когда я зашел к ним, чтобы, как всегда, отвести Чу-Чу домой, и обнаружил, что Консуэло еще не возвращалась, воспоминание о бешеной скачке Чу-Чу снова встревожило меня. Прошел час, время близилось к вечеру, а Чу-Чу и ее госпожа все не появлялись. Я всерьез забеспокоился. Я ничего не говорил о своих опасениях родным Консуэло, ибо чувствовал себя в ответе за Чу-Чу. Наконец отчаявшись, я оседлал своего коня и поскакал в том направлении, куда она скрылась.
Я ехал по дороге на Росарио, где находилось поместье родственников Консуэло, у которых порой она останавливалась.
Вокруг не видно было ни души; дорога вилась, словно горная речушка; собственно, она и шла-то по руслу высохшего ручья, протекавшего когда-то среди поросших овсюгом холмов и вырывавшегося наконец к озерному простору зелено-голубых лугов. Напрасно окидывал я взором монотонную равнину — ничто не двигалось, ничто не возвышалось над ней. Смутно надеясь, что, возможно, Консуэло задержалась в Росарио, я снова пришпорил коня, как вдруг слева от себя я услышал легкий всплеск. Я оглянулся. Чахлый ольшаник, полоса свежей травы под ним — все это говорило о том, что здесь находится источник. Осторожно ступая, я подошел к топкому берегу — внезапно взору моему представилась удивительная картина. В середине зеленоватого водоема по колено в грязи стояла Чу-Чу! Без седла, без уздечки, ну просто в чем мать родила! С минуту я смотрел на нее в ужасе и смятении. Она же и не думала меня узнавать; подобно нимфе [8], она загляделась на собственное отражение в зеленой воде.
Потом я крикнул:
— Консуэло!
И поскакал в объезд водоема. Ответа не было. Не видно было никого, кроме ко всему равнодушной Чу-Чу. Правда, водоем — о счастье! — был неглубок, утонуть в нем было невозможно; на топких его берегах не видно было никаких следов борьбы. Скорее всего Чу-Чу забрела сюда сама по себе. Я скакал дальше, без конца выкликая дорогое имя. Проскакав несколько сот ярдов, я внезапно увидел чепрак Чу-Чу, алевший в придорожной траве. Сердце мое забилось — я был на верном пути. Я снова позвал — на этот раз мне ответили; с раскинувшегося рядом поля слабо донесся милый голос! Там, в тени карликовой яблоньки, на ложе из пахучей травы и сухих листьев, покоилась Консуэло, — даже в тот радостный для меня миг я не мог не отметить про себя, как удачно было выбрано это живописное и укромное место. Бархатная шапочка с помпонами из алого плюша была осторожно положена рядом, прекрасные иссиня-черные волосы не растрепались, глаза сияли нежностью. Как ни был я потрясен случившимся с нею несчастьем, помню, меня поразило, что с виду она совсем не походила на пострадавшую.
Вне себя я бросился на землю рядом с ней.
— Ты ушиблась, Кончита? Ради всего святого, что с тобой?
Своей крошечной ручкой она сдвинула мою шляпу на затылок и слегка взъерошила мне волосы.
— Ничего! Ты со мной, Панчо, — больше мне ничего не нужно. Что будет после — когда я укроюсь могильной землей, — неважно! Ты здесь — я счастлива! Ненадолго, возможно, немножко!
— Но что случилось? — продолжал я в отчаянии. — Ты упала? Это Чу-Чу тебя сбросила?
Сказать по правде, несмотря на ее томную позу, слабый голос и собственное свое волнение, я был уверен, что ничего страшного с ней не произошло.
— О, не наказывай бедное животное, Панчо! Она не виновата. Она ничего не сделала, верь мне. Просто я видела твое свидание с мисс Смит! Я проехала мимо — промчалась стрелой, — чтобы никогда больше не возвращаться. Я сказала Чу-Чу: «Лети!» И мы летели много миль. Порой вместе, порой не совсем! Порой в седле, порой у нее на шее! Много вещей осталось на дороге, — наконец и я там же. Я сказала: «Мужайся! Панчо придет!» Потом я сказала: «Нет, он говорит с мисс Смит!» Больше я ничего не помню. Я приползла сюда на руках. Все кончено!
Я в замешательстве посмотрел на нее. Она нежно улыбнулась, а потом расправила и пригладила складку платья, прикрыв свой изящный сапожок.
— Но, дорогая, — возразил я, — ты ведь не сильно ушиблась! Ты ничего себе не сломала! Возможно, — тут я посмотрел на сапожок, — немного растянула лодыжку. Дай я посажу тебя на моего коня, — я пойду рядом и доставлю тебя невредимой домой. Прошу тебя, милая Кончита!
Она печально подняла на меня свои прекрасные глаза.
— Ах, мой бедный Панчо, ты не понимаешь. Разве дело в ноге, в руке или в голове? Как бы я хотела, чтобы это было так! Но, — и она медленно взмахнула своими прелестными ресницами, — я повредила себе все внутри. Это фамильная болезнь. Мой дедушка однажды перелетел через быка во время родео [9]. Он не сказал ни слова — он умер. Но почему? Он повредил себе все внутри. Поверь мне, это у нас в семье. Ты понимаешь? Все Сальтильо отличаются этим от других людей. Когда меня не станет, ты посадишь на моей гробнице ягоды, Панчо, те ягоды, которые ты нарвал для меня. Вырастет маленький цветочек на ней, а в небе появится маленькая звездочка, только Консуэло, которая тебя любила, больше не будет! Когда ты будешь счастлив и будешь говорить на дороге с этой Смит, ты не будешь думать обо мне. Ты не будешь видеть моих глаз, Панчо. Эта травка, — и она провела своими пухлыми пальчиками по земле, — накроет их, и крошечные животные в своих черных шкурках, которые здесь бегают, будут грустить обо мне. Но ты не будешь грустить! Так оно и лучше! Мой отец никогда не согласится, чтобы я, католичка, вышла замуж за еретика, и жила бы в палатке, и выла, словно койот! (Трудно сказать почему, но Консуэло была твердо уверена, что существует только одна форма протестантства, а именно методизм!) Он не согласится, чтобы я вышла замуж за человека, который не владеет таким же количеством лошадей, быков и коров, как он. Но мне все равно! Ты моя единственная религия, Панчо! Когда ты со мной, мне не надо ни лошадей, ни быков, ни коров. Поцелуй меня, Панчо! Кто знает, может, это в последний раз?! Все кончено! Кто знает?!
В ее прекрасных глазах стояли слезы, я почувствовал, что и мой взор застлала предательская влага; над унылой равниной садилось солнце, поднимался ветер; мы были словно совсем одни во всей вселенной, и все же меня не покидало ощущение чудовищной нереальности всего происходящего. Меня душил смех, это, верно, была истерия. Я боялся заговорить. Ее головка покоилась у меня на плече — положение было не так уж неприятно!
И все же нужно было действовать. Это было тем более трудно, что я не совсем понимал, что же именно произошло. Поддерживая ее клонившуюся к земле фигурку, я бросал косые взгляды через плечо, ища хоть какой-нибудь помощи. Внезапно на дороге появился несущийся во весь опор всадник. В нем было что-то знакомое. Я вгляделся — благодарение богу, это был Энрикес! Чувство глубокого облегчения овладело мной. Я любил Консуэло, и все же вряд ли кто-либо еще приветствовал родных своей возлюбленной с такой радостью, как я!
— Ты спасена, дорогая! Это Энрикес!
Мне показалось, что она отнеслась к моему сообщению с холодностью. Внезапно она подняла на меня глаза, в которых блестели слезы.
— Панчо, поклянись мне сию же минуту, что ты не посмотришь на мисс Смит ни одного раза!
Я был простодушен в те дни и все понимал буквально. Мисс Смит была моей ближайшей соседкой, и, чтобы выполнить это желание, я должен был бы ослепнуть. Я запнулся, но, впрочем, тут же поклялся.
— Довольно! Ты колебался! Я ничего больше не хочу. Она поднялась на ноги с подчеркнутой осторожностью.
Мгновение, памятуя о тонкой организации внутренностей семьи Сальтильо, я смотрел на нее в страхе: а вдруг она прямо у меня на глазах зашатается и рухнет, дав бренному телу одержать победу над ее гордым духом. Но тут я увидел, что она держит в своих белоснежных зубах шпильку и аккуратно надевает свою бархатную шапочку. И с нами — Энрикес, веселый, быстрый, красноречивый, неустрашимый Энрикес!
— Эврика! Я нашел! Вот мы и вместе! Немножко слишком на людях — гм… немножко слишком в первом ряду для tкte-а-tкte, мои дорогие друзья, — говорил он, поглядывая на укромное гнездышко из трав, — но разве о вкусах можно спорить? Что одному человеку здорово, то другому яд. Но, — это он проговорил шепотом, наклонясь ко мне, — но что до этой лошади, этой Чу-Чу, которую я только что видел, — почему она не одета? Уж не хотите ли вы выставить ее путникам на подозрение? А если нет, то почему это так?
Взглянув на Консуэло, я сделал попытку объяснить, что Чу-Чу просто удрала, что Консуэло ужасно пострадала, что она была сброшена на всем скаку и что, вполне возможно, у нее весьма серьезное внутреннее повреждение. Но Консуэло почему-то презрительно молчала, и вид у нее был непонятно свежий и равнодушный.
— Ну, конечно, она не в духе, и у нее болит голова, — с чарующей улыбкой подхватил Энрикес. — Ей обязательно нужно сидеть на холодном камне, когда выпадает серебристая роса. Понимаю! Встретимся у дороги, когда часы пробьют девять! Но, — понижая голос, — насчет этой раз-детой лошади я ничего не понимаю. Смотрите: это печально и странно!
Он отправился за Чу-Чу, оставив нас с Консуэло вдвоем. Никогда в жизни я не испытывал такой растерянности и страха. Я с грустью сознавал, что каким-то непонятным мне способом обидел девушку, за которую, как мне казалось, я с радостью отдал бы жизнь, и что я сделал из нас обоих посмешище в глазах ее брата. Вот уже в который раз мой простецкий американский ум не понимал благородного романтизма ее испанской души! Меж тем она оправила свою амазонку — выглядела она такой свежей и хорошенькой, словно только что выехала из дому.
— Кончита, — проговорил я неуверенно, — ты ведь не сердишься на меня?
— Сержусь? — повторила она надменно, не глядя в мою сторону. — О, нет! Мисс Смит, возможно, и сердится, что я прервала ваш tкte-а-tкte. Может, это она и прислала сюда моего брата, чтоб отплатить мне тем же.
— Но мисс Смит не знакома с Энрикесом! — вскричал я с жаром.
Консуэло окинула меня многозначительным взглядом.
— А-а ты так думаешь? — заметила она загадочно. Я не сомневался, что мисс Смит и Энрикес не знают друг друга, но тут до меня, как мне показалось, дошел истинный смысл слов Консуэло, и на душе у меня стало легче. Я даже рискнул мягко спросить:
— Тебе лучше?
Она выпрямилась во весь свой небольшой рост.
— Мое здоровье? О, это чепуха! А о моей душе не будем говорить.
И все же, когда Энрикес возвратился, ведя на поводу Чу-Чу, она кинулась к ней с распростертыми объятиями. В ответ Чу-Чу вытянула свою губу дюймов на шесть — ей, видно, казалось, и я вполне разделял ее мнение, что госпожа ее была необычайно аппетитной. Возможно, я и ошибаюсь, но мне почудилось, что когда их прекрасные глаза встретились, в них сверкнуло полное и явное взаимопонимание.
На обратном пути Консуэло воспрянула духом и, расставаясь, пожала мне руку с великодушным и снисходительным видом. Не знаю, как объяснила она неслыханное поведение Чу-Чу Энрикесу и всему семейству; безоговорочное прощение, дарованное мне Консуэло, помешало мне расспросить ее об этом. Я не возражал, чтобы это оставалось тайной между нею и Чу-Чу. Но, как ни странно, эта неизвестная мне тайна, казалось, только сблизила нас; она подстегнула наш любовный пыл и подвела нас к катастрофе, которой завершился этот роман. Мы приняли решение бежать. Не думаю, чтобы этот героический шаг был так уж безумно необходим, судя по тому, как относились к нам ее и мои родные; скорее, мы избрали этот путь просто потому, что он избавлял нас от всяких предварительных объяснений. Нужно ли говорить, что нашим поверенным и преданным союзником был брат Консуэло — быстрый, веселый, ловкий Энрикес, несравненный знаток языков Энрикес! Предполагалось, что его присутствие придаст всему нашему предприятию определенную серьезность и респектабельность, — не думаю, чтоб мы решились на этот шаг без его помощи! Во время одной из наших верховых прогулок мы должны были обратиться к услугам методистского проповедника в соседнем графстве, а позже, когда наша тайна раскроется, и к услугам католического священнослужителя.
— Я буду ее посаженым отцом, — с уверенностью заявил Энрикес. — Увидите, старый болтун мигом успокоится, узнав, что будет иметь дело со мной, и не станет зря молоть челюстью! Дядюшка Энри скажет пару теплых слов — и все будет в порядке! Будьте безмятежны, мой друг, и не забудьте про кольцо! Не всегда в тоске и муке этой минуты вспоминают о кольце! Я принесу два в кармане своего платья!
Если вся наша затея и не представлялась мне в столь же розовом свете, причиной, возможно, было то, что Энрикес, хоть он и был на несколько лет старше, казался гораздо моложе меня, и сдержанно-дерзкий взгляд в сочетании с гладко выбритым по этому случаю лицом делал его похожим, скорее, на переодетого церковного служку, чем на солидного дядюшку.
Консуэло призналась мне, что ее отец, возможно, вследствие дошедших до него слухов о нашем недавнем приключении, запретил ей кататься со мной наедине. Он и не подозревал, что Чу-Чу стояла на страже его интересов и что даже в этот торжественный день мне и Энрикесу пришлось ехать по обе стороны на порядочном от нее расстоянии, подобно двум армиям, обходящим противника с флангов. И все же мы сознавали, что преступность нашего предприятия еще усугублялась тяжелым грехом непослушания. В течение этого путешествия, хоть времени у нас было и в обрез и каждую минуту нам грозила опасность быть обнаруженными, я слезал порою с коня и шел рядом с Чу-Чу (когда я был пешим, она, казалось, не узнавала меня), держа Консуэло за руку, в то время как преданный Энрикес вел моего коня вдали. Я живо помню эту прогулку: пологий подъем в гору, в еще неизвестное будущее, полное манящих перспектив; мягкий, сумеречный свет осеннего неба, чуть затуманенного в ожидании близких дождей, будто в предчувствии слез, и робкая серьезная беседа, которой, сами того не заметив, увлеклись мы с Консуэло. И вдруг не знаю отчего, но едва мы одолели подъем, как Чу-Чу встала на дыбы, круто повернула, и вот уже она во весь дух скачет по дороге обратно! Возможно, что в своей рассеянности она только тут осознала мое присутствие, но бегство ее было таким стремительным и внезапным, что не успел я вскочить на коня, как она уже отмахала с четверть мили по дороге к дому, сколько ни пыталась сдержать ее перепуганная Консуэло. Мы бросились было в погоню, но тут же поняли, что дело безнадежно. Всякая попытка догнать их не только еще больше раззадорила бы Чу-Чу, но и грозила бы жизни Консуэло. Спасения не было: кобыла шла размашистым, ровным, решительным аллюром, дорога до самой деревни сбегала прямо под уклон. Чу-Чу закусила удила, и остановить ее не было никакой возможности. Нам оставалось только следовать за нею вдалеке — безнадежно, глупо, кипя от злости, до самой той минуты, когда Чу-Чу победоносно ворвалась во двор Сальтильо и полубесчувственную Консуэло приняла в свои объятия сбежавшаяся в смятении семья.
Это была наша последняя прогулка.
В последний раз видел я тогда Консуэло перед ее отъездом в безопасное уединение монастыря на юге Калифорнии. В последний раз видел я и Чу-Чу, которая в поднявшейся суматохе, как была, в сбившейся сбруе, ускользнула через заднюю калитку в поле и исчезла. Много месяцев спустя, как передают, ее узнали среди табуна диких лошадей в горах на побережье, — странное, прекрасное существо, избежавшее клейма родео и ставшее легендой. А еще говорят, будто видели ее в воротах поместья Росарио, растолстевшую, вычищенную, под роскошным чепраком, запряженную в тяжелый испанский кабриолет, в котором сидела невысокая полная дама… но я не желаю об этом слышать! Ибо есть дни, когда она оживает передо мной: я ясно вижу, как она идет в гору, к вершине, Консуэло сидит в седле, а я иду рядом, с надеждой взирая на безграничный простор, который открывается вдали.
ВЛЮБЛЕННЫЙ ЭНРИКЕС
В одной из предыдущих хроник, посвященной подвигам калифорнийской кобылки Чу–Чу, я отвел немало места описанию достоинств Энрикеса Сальтильо, который помогал мне объезжать Чу–Чу и, кроме того, приходился братом Консуэло Сальтильо, молодой особе, коей я без размышления подарил и самую Чу–Чу и свое юношеское поклонение. Признаком высоких достоинств мужского товарищества представляется мне то обстоятельство, что ни одно из последующих событий — будь то предательство лошадки или измена девицы — ни в малейшей мере не поколебало нашей с Энрикесом возвышенной дружбы. Недоумение по поводу того, что привлекательного ухитрился я найти в его сестрице, он сочетал со снисходительно–скептическим отношением к женскому полу вообще, каковое имел привычку выражать с испанской обстоятельностью, щедро приправленной калифорнийским жаргоном (неподражаемая смесь, снискавшая ему заслуженную известность).
— Что до этих женщин с их маленькими фокусами, — говаривал он, бывало, — поверь старому дядюшке Энри, мой друг: это не по его части. Ни–ни. Когда рядом любовь, он умывает руки. По какой причине? А вот послушай. Если перед тобой лошадь, ты смело говоришь: «Сейчас она встанет на дыбы», «Она шарахнется в сторону», «Она не дойдет до финиша» или «Она придет быстрее всех». Ну, а если перед тобой эти самые женщины, тогда что? Когда ты говоришь: «Она шарахнется в сторону», — она, заметь, непременно пойдет прямо; ты думаешь, что она встанет на дыбы, а она совершенно спокойна; и уж если, допустим, она дойдет до финиша, ты все равно проиграл. Тебя сбросят по дороге. И так всегда. Мой отец и брат моего отца — они оба ухаживали за моей матерью, когда она была еще только сеньоритой. Отец думает, что она больше любит брата. Тогда он говорит ей: «Довольно! Успокойтесь. Я ухожу. Я ретируюсь. Адиос! Прощайте! Пока! До скорого! Увидимся осенью». И что же делает моя мать? Слушай. Она выходит замуж за моего отца — тотчас же! Этих женщин, поверь мне, Панчо, никогда не раскусишь. Даже если, по их милости, станешь сыном своего отца или его племянником.
Я привел эту характерную тираду, чтобы уже в начале своей маленькой повести показать общее направление ума Энрикеса. Будет, однако, лишь справедливо отметить, что в повседневном общении с представительницами пола, который он бранил с такой легкой душой, он не выказывал особой сдержанности или осмотрительности. В разношерстном кругу своих беспечных, легкомысленных соплеменниц он пользовался большой свободой и популярностью. Он превосходно танцевал; когда бы мы с ним ни пришли на танцы, ему, быстрому, дерзкому танцору, неизменно доставались самые хорошенькие партнерши, а его всем известные женоненавистнические взгляды ограждали его от ревности, зависти и обид. Живо запомнился он мне, поглощенный таинством «sembicuacua», совершенно неистового танца, предоставляющего полную свободу изобретательности исполнителей и почти ничего — воображению зрителей. В одной из фигур языком любви служит более или менее грациозное помахивание ярким цветным платочком перед затуманенными глазами партнера или партнерши, выражающее на протяжении танца восхищение или безразличие, нерешительность или настойчивость, страх или блаженство, смущение или кокетство.
Нечего и говорить, что в исполнении Энрикеса эта пантомима приобретала и вовсе необузданный характер, хотя все проделывалось и воспринималось с самым серьезным видом, составляющим одну из непременных особенностей этого танца. Из груди его вырывались вздохи, которым надлежало изображать последовательные стадии зарождающейся страсти; он ревниво всхрапывал при виде предполагаемого соперника, затем на него нападало нечто вроде пляски святого Вита, означавшее робость при первых изъявлениях нежного чувства; презрение дамы сердца нагоняло на него немой и лихорадочный озноб, а один ее благосклонный жест доводил его до полнейшего исступления. Все это было вполне в стиле Энрикеса, однако в тот раз, о котором здесь идет речь, я полагаю, едва ли кто‑нибудь ожидал, что ему вздумается начать очередную фигуру сразу с четырьмя платками! А между тем именно это он и сделал, кружась на носках, подпрыгивая и взмахивая своими шелковыми сигнальными флажками, как балерина — шарфом, в томлении или пылу любовной страсти, и так до заключительной фигуры, в которой побежденная прелестница обычно покорно склоняется в объятия своего кавалера и в которой выдумщик Энрикес, естественно, очутился на середине зала, поддерживая сразу четырех дам. Однако ни рукоплескания собравшихся, ни очевидный успех у прекрасного пола нимало не поколебали его душевного равновесия.
— Ах, поверь, это решительно ничего не значит, — невозмутимо говорил он, прислонясь к дверному косяку и сворачивая сигару. — Быть может, мне нужно будет предложить этим барышням шоколаду или вина или в крайнем случае прогуляться с ними по веранде при луне. Всегда одно и то же. Если только, мой друг, — добавил он, внезапно оборачиваясь ко мне в порыве рыцарского самоотречения, — если только ты не пожелаешь сам занять мое место. Сделай милость — я отдаю их тебе! Я исчезаю! Испаряюсь! Я даю тягу! Я сматываю удочки!
Я думаю, он выполнил бы свое сумасбродное намерение, призвав к себе четырех цыганочек, с которыми танцевал, и вверив их моему попечению, если бы в эту минуту толпа не отступила перед другими парами и впереди осталась стоять лишь одна зрительница: высокая, стройная девушка в золотых очках, которая невозмутимо и сосредоточенно рассматривала танцующих критическим взглядом. Я оцепенел от изумления, узнав в очаровательной незнакомке мисс Юрению Мэннерсли, племянницу местного конгрегационалистского священника.
Не было такого человека в Энсинале, который не знал бы Ренни Мэннерсли. Для дочерей обосновавшихся здесь переселенцев с Юго–Запада и Востока она служила одновременно объектом зависти и недосягаемым образцом совершенства. Она была выдержанна и строга, она была безупречна и наблюдательна, благопристойна и вместе с тем независима; она получила прекрасное образование: поговаривали, что она знает греческий и латынь, она даже писала без ошибок! Самый скромный полевой букетик чахнул и увядал от той учености, с которой она перечисляла латинские названия каждого цветка! Она никогда не позволяла себе сказать «Ей–богу?» вместо «Не правда ли?», и решительно отвергала форму «Чего–чего?» как совершенно неприемлемый вариант вопроса «Что вы сказали?». Она цитировала Браунинга и Теннисона; поговаривали, что она даже читала их. Родом она была из Бостона. Что же она могла делать на этой развеселой танцульке?
Не будь все эти подробности известны каждому из присутствующих, одного ее внешнего вида было довольно, чтобы привлечь всеобщее внимание. На фоне пышных юбок — красных, черных, желтых — ее строгое облегающее серое платье и шляпка того же мягкого тона были достаточно приметны, даже если бы в них, как и в самой девушке, не ощущался бы сдержанный протест против развевающихся перед нею кричащих оборок. Рядом с ее осиной талией и прямой спиной особенно бросались в глаза не стянутые корсетом пышные формы молодых мексиканок, а по сравнению с ее узкими изящно обутыми ножками, выглядывающими из‑под туго накрахмаленного белоснежного края нижней юбки, как нельзя более нелепыми казались их широкие туфли без задников, держащиеся на одном большом пальце. Внезапно — впрочем, без всяких признаков страха или смущения — она, видимо, заметила, что стоит совсем одна. Чуть отступив назад, она небрежно оглянулась через плечо, как бы отыскивая глазами спутника, затерявшегося в толпе, и глаза её встретились с моими. Она непринужденно улыбнулась при виде знакомого лица, и секунду спустя взгляд ее с куда большим интересом задержался на Энрикесе, по–прежнему стоявшем подле меня. Я оставил его и тотчас поспешил к ней, тем более что кое‑кто из присутствующих, как я заметил, уже начинал довольно бесцеремонно разглядывать ее.
— Поразительно, не правда ли? — спокойно молвила она и, прочитав замешательство на моем лице, продолжала не в виде объяснения, а скорей просто для того, чтобы поддержать разговор: — Я только что рассталась с дядей — он зашел навестить одного из прихожан здесь по соседству — и отправилась домой с Иокастой (Иокаста была служанка ее дядюшки), как вдруг услышала музыку и заглянула сюда. Не знаю, куда она делась, — добавила мисс Мэннерсли, вновь окидывая взглядом залу, — она совсем потеряла голову, увидев, как скачет вон тот субъект со своими платками. Вы с ним говорили только что. Скажите, бога ради, он что, в самом деле такой?
— В этом, по–моему, трудно усомниться, — ответил я с неопределенным смешком.
— Нет, вы понимаете, что я имею в виду, — сказала она просто. — Он не сумасшедший? Он все это проделывает, потому что ему нравится или его нанимают за деньги?
Это было уж слишком. Я пояснил, быть может, с излишней поспешностью, что перед нею отпрыск старинного кастильского рода; что зрелище, которое она наблюдает, есть мексиканский народный танец, в котором он принял участие как патриот и покровитель, и что он мой самый лучший друг. И в то же время я отчетливо сознавал, что лучше бы ей не видеть его последней выходки.
— Неужели вы хотите сказать, будто все, что он вытворял, полагается по правилам этого танца? — спросила она. — Не верю. Это просто он сам такой. — И, пока я мялся, не зная, что возразить в ответ на столь неоспоримую истину, продолжала: —Как бы мне хотелось увидеть это еще разок! Он не согласится, как вы думаете?
— Возможно, и согласится, если вы сами попросите, — не без злорадства предложил я.
— Этого, разумеется, я не могу, — спокойно отозвалась она. —Но он, по–моему, и так собирается изобразить нечто подобное. Нет, вы взгляните!
Я посмотрел и, к ужасу своему, увидел, что Энрикес, быть может, под неотразимым впечатлением изящных золотых очков мисс Мэннерсли, снял сюртук и, готовясь опять что‑то выкинуть, живописно обматывает вокруг своей талии четыре связанных вместе платка. Я попытался бросить ему исподтишка предостерегающий взгляд, но тщетно.
— Ну, не забавнейший ли, право, чудак? —сказала мисс Мэннерсли, хотя по ее тону ясно было, что она предвкушает его чудачества не без удовольствия. — Знаете ли, я никогда не видела ничего подобного. Я и не поверила бы, что на свете найдется такое существо.
Даже если бы Энрикес и заметил мои попытки предостеречь его, сомневаюсь, чтобы они возымели хоть малейшее действие. Выхватив у одного из музыкантов гитару и взяв на ней несколько аккордов, он внезапно пошел зигзагами на середину залы, томно покачивая станом в такт музыке и выводя высоким тенором какой‑то напев. То была испанская любовная песня. Быть может, языковые познания мисс Мэннерсли не включали в себя знакомство с кастильским наречием, но по жестам и мимике, сопровождавшим исполнение, она не могла не понять, что песня посвящается ей. Страстно уверяя ее, что она благословеннейшая из дочерей святой девы, а очи ее горят, точно свечи в храме, и тут же, единым духом, именуя ее «жестокой погубительницей» за холодность к его «сердечным мукам», трепеща от робости, но подступая все ближе, он швырнул к ее щегольским ботинкам воображаемый плащ, чтобы она ступала по нему, как по ковру, извлек из своей гитары душещипательный стон, с невообразимым заключительным пируэтом пал на одно колено и, прижав к губам розу, бросил к ее ногам.
Если прежде он не на шутку разозлил меня своими сумасбродными выходками, то сейчас я был готов пожалеть его за то, что в глазах этой девушки он лишь донельзя комическая фигура — и больше ничего. Как танцоры, так и зрители наградили его единодушными и горячими рукоплесканиями; у нее же слегка дрогнули в изумленной полуулыбке тонкие губы — и только. В наступившей вслед за аплодисментами тишине, когда Энрикес, тяжело дыша, уходил с круга, я услышал, как она проговорила словно про себя:
— Нет, просто на редкость диковинное существо!
Не в силах сдержаться, я резко повернулся и возмущенно взглянул ей прямо в глаза. Они были карие, с той специфической бархатистой поволокой, какую встречаешь у близоруких людей, и прочесть по ним, что происходит внутри, было невозможно. Она лишь прибавила вскользь:
— Не правда ли? —И тут же продолжала: — Сделайте милость, сыщите мне Иокасту. Нам, право, пора домой, тем более, что он, как видно, уж больше танцевать не будет. А–а! Вот и она. Боже великий, дитя! Что это у тебя?
Это была роза Энрикеса; Иокаста подобрала ее и застенчиво протягивала хозяйке.
— Господи, да она мне не нужна! Оставь себе.
Я проводил их к двери: мне что‑то не слишком
понравился недобрый блеск в черных глазках сеньорит Мануэлы и Пепиты, с любопытством наблюдавших за ней. Впрочем, она, думаю, оставалась к этому столь же равнодушна, как и к подчеркнутым знакам внимания со стороны Энрикеса. Когда мы вышли на улицу, я почувствовал, что должен сказать ей еще что‑то напоследок.
— Кстати, — начал я небрежно, — хоть эти бедные люди и веселятся здесь так шумно и у всех на виду, подобное сборище, в сущности, не что иное, как мирный праздник поселян, своего рода национальный обычай, а все эти девушки — честные работящие крестьянки или служанки, которые резвятся себе совсем как в добрые старые времена.
— Разумеется, — рассеянно отозвалась девушка. — Танец, конечно, мавританский; сюда, по–видимому, завезен ранними переселенцами из Андалузии два века назад. Тема — совершенно в арабском духе. У меня есть нечто похожее в старом сборнике, который я раскопала у букиниста в Бостоне. Только к нему это не относит* ся, — вздохнула она, припоминая, с довольным видом, —
О, нет! Уж он‑то совершенно ни на что не похож. Это ясно.
Я не без досады отвернулся и направился к Энрикесу, невозмутимо поджидавшему меня у дверей залы с сигарой в зубах и таким невинным видом, точно понятия не имел о недавно проделанных глупостях: я даже замешкался, не решаясь приступить к должным, по моему мнению, увещаниям. Впрочем, он не замедлил положить конец моей нерешительности. Взглянув вслед удаляющимся фигурам обеих женщин, он заявил:
— Эта мисс из Бостона — она возвращается домой. Ты не провожаешь ее? Тогда я провожу. Гляди: одна нога здесь, другая там.
Однако я твердо взял его под руку. Я обратил его внимание на то, что, во–первых, ее уже и так провожает служанка, а во–вторых, если даже я, ее знакомый, не осмелился предложить ей себя в качестве провожатого, то ему, совершенно чужому человеку, едва ли пристало позволять себе подобную вольность; что мисс Мэннерсли весьма щепетильна в вопросах приличий и он, как джентльмен и кастилец, обязан с этим считаться.
— Но любовь, преклонение — разве этого ей не довольно? — проговорил он, задумчиво пощипывая свои жидкие усики.
— Нет, не довольно, — отрезал я. — А тебе не мешает понять, что она не чета этим твоим Мануэлам и Карменситам.
— Извини, друг мой, — важно возразил он, — но эти женщины, они всегда одинаковы. У нас, испанцев, есть пословица. Слушай: «Пронзит ли толедский клинок атлас или овчину, он отыщет и ранит под ними все то же сердце». Я — или, быть может, ты, мой друг, — и есть тот толедский клинок. А потому последуем же вместе и немедля за этой мисс из Бостона.
Но я продолжал крепко держать Энрикеса за руку и сумел на время укротить его стремительный порыв. Он постоял, усердно дымя сигарой, но через миг вновь рванулся вперед.
— Последуем же за ней хотя бы сзади, в отдалении, как того требует учтивость: мы пройдем мимо. ее дома, мы будем смотреть на него, это тронет ее сердце.
Как ни глупо было сопровождать подобным образом девушку, с которой я фактически только что расстался, я знал, что Энрикес вполне способен предпринять преследование в одиночку, и рассудил, что лучше будет уступить и пойти с ним вместе; тем не менее я счел необходимым заметить:
— Я должен тебя предупредить: мисс Мэннерсли и так уже воспринимает твои выходки на танцах как нечто дикое и ни с чем не сообразное, так что на твоем месте я не стал бы вытворять ничего такого, что могло бы усугубить это впечатление.
— Ты хочешь сказать, что она шокирована? — серьезно осведомился Энрикес.
Я чувствовал, что, положа руку на сердце, не могу этого утверждать, и мое замешательство не укрылось от него.
— Так, значит, она просто завидует, — с невыносимым самодовольством заключил он. — Ты видишь? Я же говорил. Всегда то же самое.
Я не выдержал.
— Слушай, Гарри, — сказал я, — если уж хочешь знать, она смотрит на тебя, как на акробата, как на платного трюкача.
— А! —Его черные глаза сверкнули. — Тореро, человек, который сражается с быком, он тоже акробат.
— Да, но она считает тебя клоуном, комедиантом, — ясно?
— Стало быть, я ее рассмешил? — невозмутимо произнес он.
Я не был в этом уверен, но предпочел пожать плечами.
— Прекрасно! — бодро продолжал он. — Любовь, она начинается смехом; она кончается — вздохом.
Я повернулся и взглянул на него при свете луны. Его лицо хранило привычное для испанца важное выражение, настолько важное, что граничило с ироническим. Небольшие черные глаза, как обычно, горели безудержной удалью — удалью молодого, полного жизни животного. Быть не могло, чтобы на него и вправду произвела впечатление заиндевелая бесстрастность мисс Мэннерсли. Мне припомнились его не менее пламенные восторги по адресу некоей мисс Смит, белокурой и розовой красотки с Запада, которые благополучно иссякли без малейшего ущерба для обоих. Мы неторопливо двинулись вперед, и я продолжал уже настойчивее:
— Конечно, у тебя это не более как прихоть, но пойми ты, мисс Мэннерсли думает, что все это всерьез и ты действительно таков по натуре. — Я запнулся, потому что до меня внезапно дошло, что он и есть такой по натуре. — И в конце концов, черт побери, не хочешь же ты, чтобы она приняла тебя за обыкновенного фигляра, а то и за какого‑нибудь пьяного мучачо[10]?
— Пьяного? —с убийственно–томной миной переспросил Энрикес. — Да, вот слово, которое говорит само за себя. Мой друг, ты попал в самую точку, прямо в яблочко, клянусь тебе! Да, это — опьянение, только не от агвардиенте. Слушай! Жил когда‑то один мой далекий предок, о котором рассказывают красивую историю. Как‑то раз в церкви он видит девушку — обыкновенную крестьяночку; она прошла мимо него в исповедальню. Он взглянул ей в глаза, он покачнулся, — здесь Энрикес для пущей убедительности зашатался, — он упал! — Он и это готов был изобразить наглядно, но я удержал его. — Его отвели домой, и там он сбросил с себя одежды и стал плясать и петь. То было опьянение любовью. И заметь: эта деревенская девушка — в ней не было решительно ничего, даже собой была нехороша. Звали моего предка…
— Дон–Кихот Ламанчский, — злорадно перебил я. — Я так и знал. Ну, будет. Пошли.
— Моего предка, — с достоинством продолжал Энрикес, — звали Антонио Эрменегильдо де Сальватьерра, что вовсе не то же самое. Этого Дон–Кихота, про которого ты говоришь, вообще не было на свете.
— Ну ладно! Только, бога ради, мы подходим к дому, так ты уж не вздумай снова делать из себя посмешище.
Стояла дивная лунная ночь. Широкая, срубленная из секвойи веранда пасторского дома под сенью раскидистого дуба — самого большого в Энсиналь -— была одета черненым серебром. Женщины поднялись на веранду, и на двери обозначились их тени. Иокаста вошла в дом, но мисс Мэннерсли на мгновение помедлила и обернулась, чтобы еще раз полюбоваться прелестью ночи. Мы проходили мимо, взгляд ее упал на нас. Мне она кивнула, непринужденно и естественно, но, узнав Энрикеса, задержала на нем свой взор чуть дольше с тем же, что и прежде, холодным и неистребимым любопытством. К ужасу моему, Энрикес немедленно перешел на некий вихляющий аллюр и начал испускать тяжкие вздохи; я свирепо вцепился в его руку и кое‑как протащил мимо дома; в этот момент дверь за молодой девицей наконец‑то закрылась.
— Ты не понимаешь, друг Панчо, — серьезно обратился он ко мне. — Эти глаза, заключенные в стекло, подобны espejo ustorio — зажигательным стеклам. Они горят, их пламя пожирает меня, как бумагу. Встанем же под этим деревом. Нет сомнения, что она появится в окне. Мы пошлем ей наш привет и пожелание спокойной ночи.
— Ничего подобного мы не сделаем, — строго возразил я.
Убедившись, что я непоколебим, он позволил себя увести. Я, однако, успел заметить, и с великой радостью, что он показывал на окно, за которым, как мне было известно, находился кабинет самого пастора, и, поскольку спальные комнаты были расположены в задней части дома, эта последняя сцена, возможно, осталась не замеченной как молодой хозяйкой, так и служанкой. И все- таки я не отходил от Энрикеса ни на шаг, пока не привел его благополучно назад в залу, где и оставил за чашкой шоколада в обществе двух его прежних дам, которых он с младенчески–умилительной непосредственностью попеременно обнимал за талию, явно предав мисс Мэннерсли полному забвению.
Танцы обычно происходили по субботам, и на другой день, в воскресенье, я не видал Энрикеса, но, памятуя, что он ревностный католик, смекнул, что с утра он, видимо, посетил мессу, а во второй половине дня — бой быков в Сан–Антонио. Я, однако, был несколько озадачен, когда в понедельник утром на пути через рыночную площадь меня взял за руку не кто иной, как преподобный мистер Мэннерсли, — то был самый фамильярный жест, до которого при своей обычной сдержанности могла снизойти столь значительная духовная особа. Я устремил на него вопрошающий взгляд. Несмотря на безупречную корректность облачения, черты его неизменно поражали своим сходством с общеизвестным в стране карикатурным персонажем по прозванию «дядя Сэм», правда, без присущего тому юмора в выражении лица. Легонько поглаживая свою эспаньолку, он покровительственно начал:
— Вы, насколько я могу судить, более или менее знакомы с характерными свойствами и обычаями здешних испанских поселенцев.
Я похолодел от недоброго предчувствия. Неужели до него дошел слух о выходках Энрикеса? Неужели мисс Мэннерсли безжалостно выдала Энрикеса своему дяде?
— Сам я не уделял должного внимания их языку и особенностям их общественного уклада, — продолжал он, широко взмахнув рукой, — будучи целиком поглощен изучением их религиозных верований и суеверий (у меня мелькнула мысль, что таков, по–видимому, общий недостаток всех людей типа Мэннерсли), но я воздерживался от личного участия в дискуссиях по этому поводу и, напротив того, высказывал достаточно широкие взгляды в связи с замечательной работой их миссионеров, предложив моим собратьям из других протестантских конгрегаций план совместной с ними деятельности, совершенно независимо от различия в доктринах. Эти взгляды я впервые высказал в воскресной проповеди на прошлой неделе, которая, как говорят, привлекла к себе немалое внимание. — Он остановился и деликатно кашлянул. — Я еще не слышал каких‑либо отзывов со стороны католического духовенства, но имею основания полагать, что католики в целом не остались равнодушны к моим доводам.
Я вздохнул свободнее, все еще, впрочем, не совсем понимая, с какой стати он заговорил на подобную тему именно со мной. Правда, я слышал о том, что в воскресной проповеди он чем‑то задел свою пуританскую паству, но не более того. Он меж тем продолжал:
— Мне, как я уже заметил, плохо знакомь! специфические черты испано–американского населения. Я предполагаю, однако, что этим людям не чужда импульсивность, свойственная народам латинского происхождения.
Они жестикулируют, не правда ли? Они от природы расположены к пляскам, к пению — верно?
Меня пронизало жуткое подозрение; я только воззрился на него, беспомощно хлопая глазами.
— Я понимаю, — милостиво произнес он. — Я задал, быть может, несколько общий вопрос. Я поясню. Позавчера вечером со мной произошел довольно странный случай. Я вернулся после посещения одного из своих прихожан и сидел один в кабинете, просматривая завтрашнюю проповедь. Вероятно, я заработался допоздна, так как ясно помню, что моя племянница и ее служанка уже по крайней мере час как вернулись домой. Вскоре с улицы до меня донеслись звуки музыкального инструмента и голос певца, исполнявшего или разучивавшего некое стихотворное сочинение, смысл которого, хоть и облеченный в слова незнакомого мне языка, имел, судя по выражению и интонации, определенно хвалебный характер.
Первые минуты, более занятый своей работой, я не обращал на эти звуки особенного внимания, но настойчивость, с которой они повторялись, в конце концов заставила меня подойти к окну, и не из одного только праздного любопытства. Оттуда, стоя в халате и думая, что меня не видно снаружи, я заметил под большим дубом у дороги фигуру молодого человека, по виду, насколько я мог рассмотреть при скудном освещении, испанского происхождения. Однако я, по–видимому, ошибся, сочтя себя невидимым, ибо, как только я приблизился к окну, он быстро выступил вперед и приветствовал меня каскадом совершенно поразительных телодвижений. Признаюсь, я не искусен в толковании языка жестов, хоть изредка и хаживал в дни молодости на постановки греческих трагедий; все же у меня создалось впечатление, что он последовательно изображает различные стадии таких чувств, как благодарность, воодушевление, благоговение и восторг. Он прижимал руки к голове и к сердцу и даже складывал их вот таким образом. — При этих словах почтенный муж, к ужасу моему, повторил несколько самых немыслимых жестов из арсенала Энрикеса.
— Должен сознаться, — продолжал он, — что я был душевно тронут как этой пантомимой, так и в высшей степени похвальными, истинно христианскими мотивами, которыми был, несомненно, движим ее исполнитель. Наконец я открыл окно. Высунувшись наружу, я сказал ему, что, к сожалению, поздний час не дозволяет мне ответить на столь достойное проявление высоких чувств иначе как искренним, хоть и кратким словом признательности, но что я буду рад, если он завтра зайдет на несколько минут ко мне в ризницу перед службой или под вечер, до начала занятий воскресной школы. Я сказал ему, что поскольку единственной моей целью было создание евангелического братства и осуждение узкого доктринерства, для меня ничто не может быть отраднее такого чистосердечного и безыскусственного подтверждения правильности моих взглядов. Он был как будто глубоко взволнован, в первые мгновения даже, можно сказать, потрясен и вслед за тем грациозно удалился довольно торопливой и слегка подпрыгивающей походкой.
Он помолчал. Внезапная и потрясающая догадка осенила меня: я невольно заглянул ему в лицо. Возможно ли, что раз в кои‑то веки Энрикес нашел достойного соперника, сумевшего оценить его тонкую язвительность и ответить той же монетой? Однако ни лукавства, ни затаенной иронии я не прочел на самодовольной физиономии преподобного мистера Мэннерсли. Он говорил всерьез, самоуверенно приняв на свой счет серенаду покинутого Энрикеса, обращенную к его племяннице. Меня разбирал нестерпимый смех, но последующие слова моего собеседника заставили меня сдержаться:
— Утром за завтраком я сообщил об этом происшествии своей племяннице. До нее не донеслось ни звука из этого странного мадригала, но она согласилась, что он, несомненно, внушен желанием выразить мне признательность за усилия, направленные против предрассудков, во благо единоверцев этого юноши. По правде говоря, это она высказала предположение, что вы, как человек, знакомый с обычаями этих людей, могли бы подтвердить правильность моих впечатлений.
Я был ошеломлен. Неужели мисс Мэннерсли, которая, конечно, узнала в этой проделке руку Энрикеса, утаила правду из желания выгородить его? Это так не вязалось с ее отношением к нему, как диковинному и лишь потому любопытному экземпляру человеческой породы! Естественнее было бы ожидать, что она во всех подробностях расскажет дядюшке о его прежней выходке. Нельзя было усмотреть здесь и желание скрыть от дяди свое посещение танцев: она была слишком независима, да, вероятно, достопочтенный пастор в своем рвении установить более близкие отношения с соплеменниками Энрикеса и не подумал бы возражать. Сбитый с толку, я покорно подтвердил мнение его племянницы, поздравил его со столь очевидным успехом и поспешил откланяться. Но теперь я горел желанием повидаться с Энрикесом и выпытать у него все. При всей его богатой фантазии лживость была ему не свойственна. Я узнал, однако, что его, как на грех, обуяла очередная прихоть — отправиться для участия в родео, ковбойских состязаниях, на предгорное ранчо своего двоюродного брата, чтобы явить там во всем блеске искусство верховой езды, ловя и укрощая одичавший скот, а в промежутках услаждать свою родню несравненным совершенством в умении изъясняться и вести себя на американский лад, а также повадками светского молодого человека. Тогда помыслы мои вновь обратились к мисс Мэннерсли. Правда ли, что серенада Энрикеса в тот вечер так‑таки и не долетела до ее слуха? Я решил выяснить, по мере возможности не выдавая Энрикеса. Могло ведь в конце концов статься, что это был и не он.
Случай благоприятствовал мне. На другой вечер я попал в дом, где в силу своего положения и своих достоинств самой почетной — я едва не написал: самой дорогой — гостьей была мисс Мэннерсли. Я уже упоминал ранее, что юные очаровательницы Энсиналя, как ни льстил им малейший знак ее внимания, как ни восхищали их втайне безупречность ее туалетов и аристократическое спокойствие манер, чувствовали себя при ней в известной мере скованно, подавленные превосходством ее образованности и ума, и не отваживались сойтись с ней короче или поверить ей свои секреты. А кроме того, она вызывала в них жгучую ревность, ибо молодые люди, как правило, ничуть не меньше побаиваясь ее ума и прямодушия, были отнюдь не прочь поволочиться за нею, правда, робко и почтительно, дабы тем самым произвести впечатление на ее менее блистательных подруг.
В этот вечер она была, как обычно, окружена свитой, в которую, разумеется, входили как местные именитые персоны, так и видные заезжие гости. Обсудив с очкастым геологом, если не ошибаюсь, вопрос о том, существуют ли ледники на горе Шаста, она завязала с местным доктором и ученым–профессором очаровательный по своей откровенности разговор об анатомии, но тут ее попросили к фортепьяно. Исполнение ее отличалось блестящей техникой и замечательной точностью, но ему недоставало тепла и выразительности. Глядя, как она сидит и играет, в своем простом, но безукоризненно сшитом вечернем платье, выпрямив плечи, повернув в профиль точеную, уверенно посаженную голову на стройной, хоть и недлинной шейке, вся воплощение изысканной сдержанности и вызывающей рассудочности, я ясней, чем когда‑либо, ощутил, как вопиюще неуместны экстравагантные ухаживания Энрикеса, если они предприняты ради шутки, и как вопиюще безнадежны, если всерьез. Что общего могло быть у лощеной, хладно- кровно–наблюдательной, сухой девицы с этим своеобразным и ироничным сорвиголовой, этим романтическим циником, задирой и Дон–Кихотом — с этим невозможным Энрикесом? Но вот она кончила играть. Ее ловкий, узкий башмачок все еще лежал на педали, так что видна была стройная лодыжка, изящные пальчики праздно покоились на клавишах, голова чуть откинулась назад, тонкие, приподнятые брови были мило сдвинуты в усилии что‑то припомнить.
— Из Шопена что‑нибудь, — жарко взмолился геолог.
— Ту прелестную сонату, — подхватил доктор.
— Лучше из Рубинштейна, — вмешался джентльмен из Сискийю. — Слыхал его как‑то раз. Рояль этот самый у него ходуном ходил. Сыграйте‑ка нам Руба.
Она с лукавой усмешкой, тронутой девичьим кокетством, покачала головой. Внезапно пальцы ее ударили по клавишам, рассыпав в воздухе хрустальную трель, раздались быстрые аккорды стаккато, плавно опустилась левая педаль, и под монотонные бренчащие звуки она стала что‑то напевать вполголоса. Я подскочил как ужаленный — и не мудрено: ведь я узнал один из коронных (и самых бравурных) сольных романсов, исполняемых Энрикесом под гитару. Это была вызывающая музыка, варварская музыка, это была — страшно сказать — вульгарная музыка. В романсе, насколько я помнил по исполнению Энрикеса, подробно излагались подвиги некоего дона Франциско, первого на селе волокиты и повесы самого дурного пошиба. Он состоял из ста четырех куплетов, которые Энрикес всякий раз безжалостно заставлял меня выслушивать до конца. Я содрогался, когда благовоспитанная мисс Мэннерсли своим мелодичным голоском безмятежно щебетала о достоинствах pellejo, иначе говоря, бурдюка с вином, и когда с ее тонких пунцовых уст, лаская слух, лилась хвалебная ода игральным костям. Впрочем, на других гостей это подействовало совсем иначе: непривычный, дикий мотив и еще более дикий аккомпанемент, по–видимому, захватили их; они придвинулись поближе к фортепьяно, кто‑то в дальнем углу принялся насвистывать мелодию, даже у геолога и врача посветлели лица.
— Тарантелла, насколько я понимаю? — вкрадчиво осведомился доктор.
Мисс Мэннерсли кончила и непринужденно встала из‑за фортепьяно.
— Это народная мавританская песня пятнадцатого века, — сухо отозвалась она.
— А мотив словно бы знакомый, — робко и неуверенно произнес один из молодых людей. — Вроде как если б вы, понимаете, сами того не зная, понимаете… —он слегка покраснел, — где‑то подцепили его, так сказать.
— Я, как вы изволили выразиться, «подцепила» его в собрании средневековых рукописей Гарвардской библиотеки и переписала оттуда, — холодно парировала мисс Мэннерсли, отворачиваясь.
Нет, решил я, от меня ей так легко не отделаться. Выждав немного, я подошел к ней.
— Ваш дядюшка оказал мне честь, спросив совета о том, как следует толковать появление возле его дома некоего темпераментного испанца. — Я посмотрел в ее карие глаза, но мой взгляд тщетно скользнул по этим непроницаемым бархатистым зрачкам. Чтобы получше разглядеть меня, она надела пенсне.
— Ах, это вы? — небрежно сказала она. — Здравствуйте. Ну и что же, смогли вы ему что‑нибудь сообщить?
— Только самые общие сведения, — ответил я, все еще глядя ей прямо в глаза. — Эти люди импульсивны. Испанская кровь — сплав золота и ртути.
Она едва заметно улыбнулась.
— Это напоминает мне о вашем неуемном приятеле. Вот уж кто, действительно, живой, как ртуть. Что он, все пляшет?
— Нет, он еще и поет время от времени, — многозначительно возразил я.
Но она лишь уронила свысока: «Поразительное существо», — и как ни в чем не бывало отошла, оставив меня в прежнем неведении. Я понял, что только Энрикес может рассеять мои сомнения. Мне во что бы то ни стало нужно было его увидеть.
Что ж, я его и увидел, только не так, как предполагал. На той же неделе в Сан–Антонио происходил бой быков — не в воскресенье, как полагалось бы, а в субботу днем, из уважения к обычаям американских протестантов.
В качестве дополнительной приманки публике был предложен бой быка с медведем — тоже уступка вкусам американцев, которые объявили, что бой быков — «тоска зеленая» и что быку не дают как следует развернуться. Я рад, что могу избавить читателя от обычных реалистических кошмаров, ибо в калифорнийском варианте мало что сохранилось от той жестокости, которой отличается это зрелище на своей родине. Вместо заезженных, понурых кляч в нем принимали участие молодые, горячие мустанги, а искусство верховой езды, демонстрируемое пикадорами, было не только замечательно само по себе, но и обеспечивало почти полную безопасность как коню, так и всаднику. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы лошадь встретила смерть от рогов быка, и хоть случалось порой, что, сделав крутой поворот, чтобы увернуться от быка, неумелый всадник вылетал из седла, он, как правило, вновь садился на коня целым и невредимым.
Путь на Пласа–дель–Торос шел по запустелой, мощенной черепицей окраине старой испанской деревушки. Там высилось грубое овальное сооружение в виде амфитеатра с растрескавшимися белеными стенами и трибунами, крытыми лишь частично — над скамьями, отведенными для местной «знати», где сейчас расположились лавочники со своими женами, а среди них — несколько заезжих американцев и владельцев ранчо. Резкие порывы послеполуденного пассата вздымали с арены в воздух мельчайшую глинистую пыль, но вместе с тем, к счастью, хоть немного рассеивали густой запах чеснока и едкие клубы табачного дыма от дешевых маисовых сигар. Я облокотился на перила второго яруса, ожидая появления жиденькой и яркой, точно в цирке, процессии с ключами от загона, где находились быки, — и тут внимание мое привлекло какое‑то движение на балконе для избранных. Среди шатких скамеек в первый ряд пробирались дама и господин, очевидно, незнакомые прочей публике. С некоторым удивлением я узнал геолога и с еще большим — его даму. Это была мисс Мэннерсли в ладном, отлично сшитом уличном костюме, который резко выделялся своими сдержанными тонами на фоне пестро разодетой толпы.
Впрочем, я, возможно, был менее ошеломлен, чем другие зрители, ибо не только начинал уже привыкать к причудам этой молодой особы точно так же, как привык к выходкам Энрикеса, но и был убежден, что ее дядюшка вполне мог разрешить ей прийти — как в ответ на любезность устроителей, заменивших воскресное представление субботним, так и для того, чтобы снискать этим расположение своих предполагаемых друзей — католиков. Я наблюдал за нею, пока не был выпущен — и после сравнительно недолгой возни с пикадорами и бандерильеро прикончен — первый бык. В тот момент, когда к быку приблизился матадор со своим смертоносным оружием, я без всякого сожаления воспользовался предлогом отвернуться и взглянул на мисс Мэннерсли. Руки ее лежали на коленях, голова чуть склонилась над ними. Я решил, что и она опустила глаза, чтобы не видеть жестокой сцены, но, к ужасу своему, обнаружил, что она держит в руке альбом для рисования и просто–напросто делает наброски! Я предпочел перевести взгляд на умирающего быка.
Второй бык, который был выведен для хитроумной расправы, оказался, однако, более строптивого нрава. Неприязненным, подозрительным оком косился он на эту комедию честного поединка, отказываясь принять вызов юрких обидчиков–пикадоров. Он ощетинился бандерильями, как дикобраз, но не трогался с места, прижавшись задом к барьеру, по временам почти целиком скрытый от взоров клубами тонкой пыли, поднятой мерными ударами его злобно бьющего в землю копыта — единственного, в чем выражался его тупой, угрюмый протест. Смутное беспокойство передалось его противникам, пикадоры держались поодаль, бандерильеро метали свое оружие с безопасного расстояния. Зрителей же возмущала лишь нерешительность быка. Ему швыряли оскорбительные прозвища, раздавались выкрики «Espada» \ и вот уже, согнув локоть под коротким плащом, сжимая в руке свой сверкающий клинок, вышел вперед матадор — и остановился. Бык не двинулся с места.
Ибо в этот самый миг на арену налетел особенно сильный порыв ветра и, взвихрив облако удушливой пыли, пошел гулять по нижним рядам, по балкону, так что представление на какие‑то секунды приостановилось. До меня донеслось восклицание вскочившего с места геолога. Мне почудилось даже, что я слышу негромкий возглас самой мисс Мэннерсли, а в следующее мгновение, когда пыль стала понемногу оседать, мы увидели, что в воздухе, то падая, то вновь взмывая, трепыхаясь из стороны в сторону на неверных крыльях, порхает листок бумаги, подхваченный этим мимолетным циклоном, и, наконец, неторопливо ложится на самую середину арены. Это был лист из альбома мисс Мэннерсли, тот самый, на котором она рисовала.
В наступившем затишье он и оказался тем единственным предметом, которому удалось наконец возбудить в быке пусть запоздалый, но все возрастающий гнев. Бык вперил в него пасмурный, расширенный зрачок, всхрапывая в глухой и тревожной ярости. То ли он распознал в наброске мисс Мэннерсли собственное изображение, то ли принял белый листок за новую предательскую ловушку — я не знаю, но в следующий миг, воспользовавшись тем, что внимание быка отвлечено, матадор, самодовольно ухмыляясь публике, шагнул вперед.
1 Шпага (исп.).
В ту же секунду какой‑то молодой человек одним махом перелетел через барьер на арену, оттолкнул в сторону матадора, поднял рисунок, с извиняющимся жестом повернулся к балкону, где сидела мисс Мэннерсли, а потом весело отвесил быку поклон, с шутовским смирением опустился перед ним на колени и подставил ему рисунок, словно для того, чтобы тот мог лучше его рассмотреть. У публики вырвался рев восторга, у служителей — крик предостережения и досады, потому что доведенный до исступления бык внезапно ринулся прямо на незнакомца. Тот, однако, с изумительным проворством отскочил в сторону, сделал учтивый жест в сторону матадора, как бы передавая быка в его руки, и, по–прежнему держа листок из альбома, перепрыгнул через барьер и благополучно присоединился к публике. Я отвернулся, чтобы не видеть, как матадор встретит атакующего быка одним мощным, смертоносным ударом, и проводил глазами молодого человека, который легко взбежал по ступеням на балкон, с преувеличенно–церемонным поклоном положил рисунок на колени мисс Мэннерсли и скрылся. Мне ли было не узнать эту тонкую, гибкую фигуру, эту ниточку черных усов, эти серьезные глаза, в глубине которых плясали чертенята! Дерзость замысла, вычурность исполнения, своеобразная ирония финала — все это не могло принадлежать никому, кроме Энрикеса.
В этот момент шестерка мулов в парной упряжке потащила с арены мертвую тушу быка, и я поспешил к мисс Мэннерсли. Она неторопливо складывала свой альбом, служа бесстрастной мишенью сотне жадных и любопытных глаз. При виде меня она слегка улыбнулась.
— Я как раз рассказывала мистеру Бригсу о том, какое поразительное существо ваш знакомый. У него, по–видимому, немалый опыт по этой части, раз он смог все проделать так умело и бесстрашно. Он часто исполняет этот номер? Не именно этот, разумеется, а скажем, — сигары и прочие мелочи, которые, как я вижу, здесь бросают матадору, — их он тоже подбирает? Он что, служит при этом заведении? Мистер Бриге, — добавила она, метнув лукавый взгляд на геолога, который, как мне показалось, чувствовал себя неважно, — считает, что это все подстроено нарочно, чтобы отвлечь внимание быка.
— Боюсь, — сухо ответил я, — что его поступок столь же непреднамерен и непосредствен, сколь и исключителен.
— Отчего — «боюсь»?
Вопрос был задан как бы между прочим, но я мгновенно понял свою ошибку. Какое право я имел делать вывод, будто ухаживания Энрикеса нечто более серьезное, чем небрежное безразличие мисс Мэннерсли? А если я и заподозрил, что это так, честно ли с моей стороны выдавать друга этой бессердечной кокетке?
— Вы не очень‑то любезны, — посмеиваясь, заметила она, пока я стоял в нерешительности, и, прежде чем я нашелся, что ответить, повернулась и пошла к выходу вместе со своим спутником. Ничего, зато теперь по крайней мере можно было повидаться с Энрикесом и хоть чего‑то добиться от него. Я знал, где его найти, если только, конечно, он не остался здесь поблизости, замышляя еще какую‑нибудь выходку. Я подождал, пока не убедился, что мисс Мэннерсли и Бриге удалились беспрепятственно.
Асьенда Рамона Сальтильо, двоюродного брата Энрикеса, находилась на окраине деревушки. Когда я прибыл туда, пегий мустанг Энрикеса, весь взмыленный, был уже в корале, а самого Энрикеса я, к своему удивлению (правда, слуги что‑то завозились, открывая мне ворота), нашел во внутреннем дворике, где он лежал, развалясь в гамаке, бессильно свесив руки, словно в полнейшем изнеможении. А между тем что‑то подсказывало мне, что мошенник забрался в гамак, лишь услышав, что я пришел.
— Ты явился вовремя, друг Панчо, — нарочито расслабленным тоном начал он. — Я совершенно без сил. Я уничтожен, погублен, разделан под орех. Я тебя видел, мой друг, у барьера, но не заговорил, не подал знака: вначале — оттого, что был весь в огне, в конце — оттого, что был обессилен.
— Понятно. Задал же бык тебе жару!
Он так и взвился.
— Бык? Карамба! Да мне и тысяча быков нипочем! А уж этот, если хочешь знать, был просто трус. Я плюю ему прямо на рог, я сворачиваю сигару у него под носом.
— Ну хорошо, тогда что же?
Он моментально улегся обратно, с головой уйдя в глубь гамака. Вслед за этим из сетчатых недр раздался его голос, глухо взывающий к небесам:
— И он еще спрашивает, этот друг моего сердца, этот брат моей жизни, этот Панчо, которого я так люблю, — он спрашивает: «Что»! Он желает, чтобы я поведал ему, отчего меня не держат ноги, не слушается рука, отчего срывается мой голос, отчего я, короче говоря, повержен в прах! А ведь он знает, этот Франциско, мой закадычный приятель, знает, что я видел мисс из Бостона! Что я смотрел в ее глаза, дотронулся до ее руки и на мгновение обладал картиной, написанной этой рукой! То была дивная картина, Панчо, — сказал он, внезапно снова садясь, — она сразила быка еще до того, как шпага нашего друга Пепе успела хотя бы коснуться его шеи и прикончить его.
— Слушай, Энрикес, — без обиняков спросил я, — ты все‑таки пел серенаду этой девице?
Он пожал плечами без тени смущения.
— Ну да. Что поделаешь? Надо.
— Ах, так! — отозвался я. — Тогда знай, что ее дядюшка принял ее целиком на свой счет, а тебя принял за благодарного католика, тронутого его религиозной терпимостью.
Энрикес даже не улыбнулся.
— Bueno, — проговорил он важно. — Это уже кое‑что. В таких делах всегда хорошо начинать с дуэньи. Он и есть дуэнья.
— А кроме того, — не унимался я, — ее спутник только что сообщил ей, что твой подвиг на арене не более как трюк, подстроенный администрацией специально, чтобы отвлечь внимание быка.
— Ба! Ее спутник — геолог. Естественно, она для него все равно, что камень.
Я хотел было продолжать, но в эту минуту нас прервал пеон, подавший какой‑то знак Энрикесу; тот упругим движением соскочил с гамака, попросив меня обождать, пока он скажет два слова посыльному у ворот.
Так и не добившись ясности, я стал ждать, опустившись в гамак, с которого встал Энрикес.
В одной из ячеек застрял клочок бумаги, на первый взгляд такой же, как та, из которой Энрикес скручивал свои сигары. Однако, взяв его в руки, чтобы выбросить, я обнаружил, что бумага куда плотней и толще. Присмотревшись внимательнее, я с удивлением узнал обрывок тоновой бумаги, вырванной из рисовального блокнота мисс Мэннерсли. По нему крест–накрест проходили две глубокие бороздки, как будто он был сложен вчетверо; можно было подумать, что это половина листа, в которую была завернута записка.
Это обстоятельство, возможно, пустячное, необычайно разожгло мое любопытство. Я знал, что Энрикес возвратил рисунок мисс Мэннерсли, — я сам видел его у нее в руке. Может быть, она подарила ему другой? Но если так, зачем было складывать его вчетверо и портить рисунок? А быть может, это обертка от записки, которую он уничтожил? Моим первым побуждением было сейчас же отнести свою находку к воротам и возвратить Энрикесу. Так я и сделал. Он стоял тотчас за оградой, разговаривая с какой‑то девушкой. Я вздрогнул: эта была Иокаста, горничная мисс Мэннерсли.
С этим новым открытием ко мне пришло то чувство неловкости и раздражения, которое рождает в нас неразумная обида на друга, если он не посвящает нас в свои секреты, пусть даже такие, которые касаются лишь его одного. Напрасно было урезонивать себя, что все это не мое дело, и он прав, не разглашая тайну, в которой замешан кто‑то третий, тем более — женщина! Боюсь, что меня еще пуще разбирала мелочная досада из‑за того, что это открытие не оставляло камня на камне от моей теории о том, как толковать его поступки и отношение к нему мисс Мэннерсли. Я дошел до ворот, торопливо распрощался с Энрикесом, сославшись на то, что неожиданно вспомнил о другой встрече, назначенной на этот час, и не подавая вида, что узнал девушку, которая отошла в сторону, как вдруг, к еще большему моему замешательству, этот плут, просительно подмигнув, остановил меня и, обняв обеими руками за шею, хрипло зашептал прямо в ухо:
— Ах! Ты видишь, ты все понимаешь, но ты сама деликатность! — и с этими словами вернулся к Иокасте.
Означало ли это, что он получил записку от мисс Мэннерсли или пытается склонить горничную к тому, чтобы она отнесла его послание своей хозяйке, осталось неясным. Он был способен и на то и на другое.
Две или три недели после этого мы с ним виделись часто, но, решив испытать, что будет, если я вообще перестану упоминать мисс Мэннерсли в разговоре, я не узнал почти ничего нового об их отношениях, да и Энрикес, как ни странно, разок–другой заговорив о ней в характерном для него вычурном тоне, тоже не касался более этого предмета. Только раз, прощаясь со мной как‑то днем, он небрежно прибавил:
— Мой друг, сегодня вечером ты посетишь дом Мэннерсли. Меня также почтили приглашением. Но ты станешь моим Меркурием — моим Лепорелло, — ты передашь от меня мисс Бостон весть о том, что я сокрушен, удручен, уничтожен и сбит с панталыку — что я не могу явиться, ибо в этот же самый вечер вынужден сидеть у постели внучатой тетки моего шурина, которая смертельно больна ангиной. Так печально.
Это был первый намек на то, что мисс Мэннерсли делает ему какие‑то авансы.
Поразил меня и отказ Энрикеса.
— Вздор! — трезво ответил я. — Можешь прийти, ничто тебя не держит.
— Мой друг, — молвил Энрикес, внезапно впадая в томную расслабленность и сникая, как немощный старец, —меня удерживает решительно все. У меня не так уж много сил. Под взглядом мисс Бостон колени мои будут подкашиваться, меня охватит дрожь. Я брошусь на геолога и схвачу его за горло. Дай мне задачу полегче.
Он уперся, как баран, и не пошел. Зато отправился я. Я застал мисс Мэннерсли прелестно одетой, на редкость оживленной и хорошенькой. Куда как приятно было бы встретить лучистый взгляд, которым окинули меня ее загадочные глаза, если бы не укоры совести из‑за Энрикеса. Как можно более естественно я передал ей его извинения. Она на миг окаменела и словно стала на дюйм выше ростом.
— Какая жалость, — произнесла она наконец ровным тоном. — Я думала, он нас так позабавит. И даже надеялась попробовать с ним вместе один старинный мавританский танец, который нашла и стала разучивать сама.
— Я уверен, он был бы в восторге. Очень жаль, что он не пришел со мной, — быстро ответил я и не мог удержаться, чтобы не добавить, особо выделив ее излюбленное выражение: —Но ведь вы сами знаете, это такое поразительное существо.
— Не вижу ничего поразительного в том, что он так хорошо относится к престарелой родственнице, — отворачиваясь от меня, спокойно возразила мисс Мэннерсли. — Это лишний раз подтверждает, что я права, уважая в нем человека с характером.
Не знаю отчего, но только я не рассказал этого Энрикесу. Может быть, я уже простился со всякой надеждой их понять, а может быть, начинал догадываться, что он и сам сумеет позаботиться о себе. Как бы то ни было, но через несколько дней он слегка озадачил меня, когда, позвав с собой на родео к своему дядюшке, невозмутимо добавил:
— Кстати, и мисс Бостон увидишь.
Я только глаза раскрыл: если бы не этот спокойный тон, я принял бы его сообщение за очередное чудачество. Ведь родео — ежегодная охота за диким скотом с целью заарканить и поставить клеймо — достаточно жестокое зрелище, дело чисто мужское и к тому же семейное: смотр имущества крупных скотоводов–испанцев, и чужакам, в особенности американского происхождения, нелегко получить доступ на таинства родео и завершающий его праздник.
— Но откуда у нее приглашение? —спросил я. — Не посмел же ты позвать…
— Мой друг, — как никогда веско произнес Энрикес, — славная, высокочтимая мисс Бостон собственной персоной, а также ее достопочтенный, преподобный дяденька и прочие высокие персоны из Бостона воистину оказали мне неописуемую честь, испросив для нее у такого маленького человека и к тому же паписта, как мой дядя, разрешения приехать, дабы она могла своим просвещенным оком наблюдать варварские обычаи моего народа.
Его тон и манера были столь необычны, что я тут же загородил ему дорогу, положил ему руки на плечи и посмотрел прямо в лицо. В его взгляде заплясали бесенята, но тотчас спрятались, и мой друг, в картинной истоме, вновь опустился на стул.
— Я буду там, друг Панчо, — молвил он, чувствительно вздыхая. — Моя рука не дрогнет, набрасывая лассо на быка, чтобы повергнуть его к ее стопам. На этом же священном месте я подниму на дыбы дикого мустанга. Я на полном скаку вырву из земли зарытого туда петушка и поднесу ей. Ты увидишь, друг Панчо. Я там буду.
Он сдержал слово. Когда его дядя дон Педро Амадор с истинно испанской галантностью водворил мисс Мэннерсли на высокий помост, сооруженный в обширной долине, где происходили состязания, доблестный Энрикес выбрал в перепуганном, скачущем во весь опор стаде одного быка и, умело отделив его от остальных, захлестнул лассо вокруг его задних ног и повалил прямо перед помостом, где сидела мисс Мэннерсли. Не кто иной, как Энрикес, изловил необъезженного мустанга, перескочил со своего коня на его неоседланную спину и, пользуясь одним только лассо как уздечкой, поднял напружившегося мустанга на дыбы у ног мисс Мэннерсли. Не кто иной, как Энрикес, во время последовавших за этим состязаний на всем скаку перегнулся с седла, подхватил зарытого по голову в песок петушка, даже не свернув ему шеи, и швырнул своей даме трепещущую птицу целой и невредимой. Что же касается мисс Мэннерсли — на лице ее снова играло то оживление, которое я заметил во время нашей последней встречи. Правда, она не взяла с собою альбом для рисования, как на бой быков, но, когда прямо у нее на глазах клеймили скот, она смотрела не дрогнув.
А между тем я ни разу не видел, чтобы она и Энрикес были вместе; не знаю наверное, но, по–моему, они ни разу не перемолвились хотя бы словом. Вот и теперь, хоть она была гостьей его дяди, он из‑за своих обязанностей вынужден был находиться на поле действий, вдали от нее. Более того: насколько я мог судить, ни он, ни она, кажется, не предпринимали никаких попыток к тому, чтобы изменить положение вещей. Никому, кроме меня, это своеобразное обстоятельство не бросилось в глаза. Если бы я не знал, — вернее, не думал, что знаю, — правду об их отношениях, я решил бы, что они незнакомы.
Впрочем, я не сомневался, что празднество, которое должно было состояться на широком дворе усадьбы дона Педро, сведем их ближе. Позже, вечером, когда мы все сидели на веранде и смотрели, как танцуют мексиканки, мерно покачивая юбками в белых оборках под меланхолические звуки двух арф, мисс Мэннерсли вышла из дома и присоединилась к нам. Казалось, зрелище захватило ее целиком и она вся ушла в созерцание этих варварских плясок; она сидела почти недвижно, опершись на перила и подперев щеку ладонью. Внезапно, с легким возгласом, она привстала.
— Что случилось? — раздались голоса.
— Ничего, просто я потеряла свой веер. — Она уже поднялась и стояла, рассеянно глядя себе под ноги.
Человек шесть мужчин вскочили с мест и вызвались принести его.
— Нет, спасибо. Я, кажется, знаю, где я его оставила, и схожу сама.
Она пошла было с веранды, но тут со всей испанской церемонностью вмешался дон Педро. В его доме такое— вещь неслыханная. Если сеньорита не хочет пустить за веером его, старого человека, значит, потерянную вещь должен принести ее сегодняшний кавалер, Энрикес.
Энрикеса, однако, нигде не было видно. Я взглянул на чуть встревоженное лицо мисс Мэннерсли и попросил, чтобы она разрешила сходить за веером мне. Она как будто даже порозовела от облегчения.
— На каменной скамье, в саду, — сказала она, понизив голос.
Я поспешил прочь, хотя дон Педро все еще протестовал. Сад я знал хорошо, знал и угловую каменную скамью у ограды, шагах в десяти, не более, от дома. Скамейка была залита лунным светом. Да, маленький серый веер из птичьих перышек действительно был здесь. Но бок о бок с ним лежало еще кое‑что: смятая, черная, шитая золотом перчатка для верховой езды, одна из тех, в которых Энрикес был на родео.
Я торопливо сунул ее в карман и побежал обратно. Поравнявшись с воротами, я попросил пеона послать Энрикеса ко мне. Пеон уставился на меня с удивлением. Разве мне не известно, что дон Энрикес минуты две как уехал?
Вернувшись на веранду, я молча подал веер мисс Мэннерсли.
— Bueno, — серьезно одобрил дон Педро. — Все к лучшему. Никаких раздоров из‑за того, кому досталось принести веер, не будет, потому что Энрикесу, как мне сказали, пришлось немедленно вернуться в Энси- наль.
Мисс Мэннерсли рано удалилась в свои покои. Я не сказал ей о моей находке, не стал искать способа проникнуть в ее тайну. Несомненно, у них с Энрикесом было свидание и, возможно, не первое. Но чем оно кончилось? По поведению девушки и поспешному отъезду Энрикеса я мог предположить только наихудший для него исход. То ли он не удержался, позволил себе какую‑то новую вольность и получил суровую отповедь, то ли признался, что за его дурашливой личиной скрывается подлинное чувство, и был хладнокровно отвергнут? Полночи я беспокойно ворочался с боку на бок, даже во сне следуя за моим бедным другом, которого все дальше уносил резвый конь, и то и дело просыпаясь от чудившегося мне бешеного топота копыт.
Я встал чуть свет и побрел на дворик, но оказалось, что меня опередили: здесь уже собрались члены семейства дона Педро и, сбившись в тесную кучку, что‑то возбужденно обсуждали; мне показалось, что при моем приближении они отвернулись, пряча неловкость и замешательство. Во всем ощущалась смутная тревога. Меня, точно утренний холодок, внезапно охватил непонятный страх. Вдруг с Энрикесом что‑нибудь случилось? Глядя на его чудачества, я все время думал, что он по обыкновению просто забавляется. Неужели, уязвленный отказом, он осуществил свою нелепую угрозу исчезнуть? Если так, мисс Мэннерсли должна, несомненно, знать или хотя бы догадываться о чем‑то.
Я подошел к одной из служанок и спросил, встала ли сеньорита. Мексиканка вздрогнула, украдкой оглянулась по сторонам и только после этого ответила. Разве дон Панчо не знает, что на постелях мисс Мэннерсли и ее горничной сегодня никто не ночевал, а сами они пропали неизвестно куда?
На мгновение меня пронизало ужасающее чувство ответственности за эту внезапно нешуточную ситуацию. Я поспешил вслед за удаляющейся семейной группой. Однако при входе в галерею меня тронул за плечо мексиканец–вакеро. Он, видимо, только что спешился и был весь покрыт дорожной пылью. Он подал мне записку, написанную карандашом на листке из рисовального альбома мисс Мэннерсли. Наверху стояло мое имя, а ниже следовало самое экстравагантное из всех посланий, написанных рукой Энрикеса:
«Друг Панчо! Когда ты начнешь читать эти строки, ты, вероятно, будешь думать, что меня более нет. Вот тут‑то ты и дашь маху, мой маленький брат! Я не только есть — меня стало вдвое больше, ибо я обвенчался с мисс Бостон. В Миссионерской церкви, ровно в пять утра! Письменных поздравлений не надо! Целую ручки моего преподобного дядюшки со стороны жены. Ты передашь ему, что мы умчались в дебри Юга к язычникам в качестве двуединого миссионера–евангелиста! Это выражение принадлежит самой мисс Бостон. Ну, пока! Как твои делишки? Твой до гроба
Энрикес».
СЧАСТЛИВЕЦ БАРКЕР
Зачирикала какая‑то пичуга. Через открытое окно в хижину проникло утреннее солнце, и его лучи оказались могущественнее холодного горного воздуха, от которого Баркер и во сне зябко поеживался под своими одеялами. Он сразу же открыл глаза и увидел свет в окне и птицу на подоконнике. Как все в мире молодые и здоровые существа, он попытался было заснуть снова, но одновременно с пробуждением он сообразил, что сегодня его очередь готовить завтрак, и с сожалением сполз с койки на пол. Не тратя ни минуты на одевание, он распахнул дверь и вышел из хижины, прекрасно зная, что его сейчас могут созерцать только вершины Сьерры. Он окунул голову и плечи в стоявшую за дверью кадку с холодной водой и стал одеваться то в хижине, то на открытом воздухе. Промежуток времени между надеванием брюк и куртки он использовал для того, чтобы принести охапку дров. Сгребая в кучу тлеющие уголья очага — с некоторой осторожностью, так как однажды он обнаружил там гремучую змею, пригревшуюся в теплой золе, — он взялся за приготовление завтрака.
К этому времени уже окончательно проснулись Стейси и Деморест, его сверстники и компаньоны. Они ленивыми насмешливыми взглядами следили, не вставая, за его хлопотами.
— Я люблю, чтобы перепелка с гренками к завтраку была немного недожарена, — сказал, позевывая, Стейси. — А красное вино можешь не подавать. У меня что‑то сегодня нет аппетита.
— Ас меня хватит испанской скумбрии, и на жареных устрицах я не настаиваю, — заявил с большой важностью Деморест. — К тому же последнее шампанское «Вдова Клико», которое мы распили за ужином, было не такое сухое, как мое горло, — оно у меня за ночь совсем пересохло.
Баркер уже привык к подобным гастрономическим мечтаниям и ничего не ответил. Немного погодя он отвел глаза от огня и сказал:
— У меня нет ни капли соды, поэтому не пеняйте на меня, если лепешки выйдут тяжелые. Я вас предупредил вчера, когда вы шли в лавку, что у нас кончилась сода.
— А я тебе сказал, что у нас нет ни одного цента, — ответил Стейси, исполнявший обязанности казначея. — Денег нет, соды нет. Минус на минус дает плюс. На этом плюсе и испеки лепешки. Замесить погуще и сажать в горячую духовку.
Однако когда они, слегка умывшись, по примеру Баркера, сели к столу, у всех троих обнаружился и отличный аппетит, неразлучный спутник горного воздуха, и прискорбная привередливость, вызванная воспоминаниями о лучших днях. Меню состояло из вяленого мяса, поджаренного на соленом свином сале; к этому отварная картошка и кофе с лепешками. Лепешки оказались, однако, совсем не пропеченными и были тут же использованы как метательные снаряды. Сквозь открытую дверь ими бомбардировали пустую бутылку, которая раньше верой и правдой служила им как мишень для стрельбы из револьверов. Еще несколько минут, и задымились трубки, чтобы вытравить воспоминание о завтраке и отбить надоевший вкус. Внезапно послышался конский топот, перед хижиной быстро промелькнул всадник, и о стол резко ударился небольшой сверток, который он зашвырнул на скаку. Таким способом сюда каждое утро доставлялась местная газета.
— Метко он наловчился, — одобрительно заметил Деморест, поглядывая на свою опрокинутую кружку из‑под кофе.
Он взял газету, туго скатанную в небольшой цилиндр, напоминающий пыж, и принялся разглаживать ее. Нелегкое это было дело: газету, очевидно, скатывали в трубку, когда на ней еще не просохла краска. В конце концов он аккуратно расправил ее и углубился в чтение.
— Ну, есть что‑нибудь новенькое? — спросил Стейси.
— Ничего. Да в этой газетке никогда ничего не бывает, — презрительно отозвался Деморест. — Нам давно пора прекратить подписку.
— То есть издателю пора прекратить присылку. Мы же за нее не платим, — мягко возразил Баркер.
— Вот мы с ним и в расчете, милый мой. Раз нет новостей, не за что и платить. А это еще что такое? — воскликнул Деморест. Что‑то в газете, видимо, приковало его внимание, и он, как это свойственно большинству человеческого рода, умолк и принялся читать интересную заметку про себя, а окончив, с размаху ударил по столу кулаком и газетой. — Нет, что вы на это скажете! Вот говорят о счастье! Разве это не возмутительно! Взять, к примеру, нас: не дураки, не лежебоки и копаемся в этих горах, как жалкие негры, а должны радоваться, если к концу дня заработаем себе на бобовый кофе с никудышным печеньем, так ведь? А теперь послушайте, что сваливается прямо с неба какому‑то желторотому лентяю, который за всю свою жизнь и пальцем не пошевелил! Мы, настоящие труженики, люди простые, без фокусов, мы‑то как раз заслуживаем такого счастья, да еще раза в два побольше, мы прямо‑таки рождены для него, а нас обгоняет какой‑то олух, канцелярская крыса, писака, который только и умеет, что просиживать свой конторский стул, ухватившись за клочок разлинованной бумаги.
— А что там стряслось? —небрежно спросил Стейси.
Он давно привык к чудачествам в характере приятеля.
— Так вот, слушайте, — начал Деморест. — «Еще один небывалый скачок цен на акции прииска «Желтый молот», Первого участка. После прорытия новой шахты цена, по вчерашним сообщениям, достигла десяти тысяч долларов за фут. Если припомнить, что эти акции, первоначально выпущенные владельцами по пятидесяти долларов за штуку, каких‑нибудь два года тому назад упали до смехотворной цены в пятьдесят центов, легко понять, что держатели акций, сохранившие их до сегодняшнего дня, получат хорошие барыши».
— Что, какой там прииск? — в задумчивости переспросил Баркер, занятый мытьем посуды.
— «Желтый молот», Первый участок, — лаконически ответил Деморест.
— У меня когда‑то были акции этого прииска, да и сейчас, кажется, есть, — мечтательно проговорил Баркер.
— Разумеется, — живо подхватил Деморест, — в заметке как раз говорится о тебе. «Нам стало известно, — продолжал он, как бы читая вслух, — что одним из этих любимцев фортуны является наш выдающийся земляк Джордж Баркер, известный также под кличками «Первый сзади» и «Недотепа».
— Ничего подобного! — воскликнул Баркер, порозовев от смущения и удовольствия. — Там этого вовсе нет. Откуда газета могла бы это узнать?
Стейси расхохотался, но Деморест хладнокровно продолжал:
— Подождите, еще не все. Слушайте! «Мы подчеркиваем, что Баркер был счастливым держателем акций, но впоследствии, продав свои, как ему казалось, ненужные бумаги нашему всем известному аптекарю Джонсу по удешевленной цене для изготовления мозольного пластыря, он лишил себя возможности реализовать это богатство».
— Смейтесь сколько хотите, ребята, — с простодушной серьезностью сказал Баркер, — но я убежден, что они у меня сохранились. Подождите минутку, сейчас посмотрим! — Он встал и принялся вытаскивать из‑под своей койки довольно потертый чемодан. — Видите ли, — продолжал он, — мне их дал когда‑то один славный старичок за то…
— За то, что ты спас ему жизнь, помешав сесть на стоктонский пароход, который впоследствии взлетел на воздух, — договорил за него Деморест. — Все понятно! Его голова была покрыта сединами, и рука у него заметно дрожала, когда он вложил в твою руку эти акции и промолвил — ты никогда в жизни не забудешь этих слов: «Возьмите их, молодой человек, и…»
— За то, что я одолжил ему две тысячи долларов, вот за что, — продолжал Баркер, вытаскивая чемодан и не обращая внимания на Демореста.
— Две тысячи долларов? — повторил Стейси. — Когда же они у тебя были, эти две тысячи долларов?
— Когда я уезжал в Сакраменто, три года назад, — ответил Баркер, развязывая ремни чемодана.
— И сколько времени они у тебя были? — недоверчиво осведомился Деморест.
— По меньшей мере два дня, насколько я помню, — спокойно ответил Баркер. — А потом я встретил этого человека. Он был в безвыходном положении — я дал ему все, что у меня было, и взял взамен эти бумаги. А вскоре он умер.
— Ну конечно, — суровым тоном заключил Деморест. — В таких случаях всегда умирают. Подобные поступки смертельны.
Все же оба они с почти отеческой снисходительностью поглядывали на Баркера, который продолжал рыться в белье и платье, сложенных кое‑как, вперемешку с бумагами.
— Если они тебе не попадаются, тащи сюда свою государственную ренту, — предложил Стейси.
Но через секунду разрумянившийся и сияющий Баркер вскочил и подбежал к ним с пачкой бумаг в руках. Деморест схватил пачку, развернул, разложил бумаги на столе, поспешно проверил дату, подписи и передаточные надписи, снова торопливо скользнул взглядом по газетной заметке, бросил дикий взгляд сначала на Стейси, потом на Баркера и широко раскрыл рот.
— Клянусь жизнью, тут все в порядке!
— Истинная правда, черт побери! — подтвердил Стейси.
— Двадцать акций, — продолжал Деморест, с трудом переводя дыхание, — пусть по одному только фунту, все равно это десять тысяч долларов каждая. Все вместе—двести тысяч долларов! Клянусь гробом господним!
— Скажите мне, о прекрасный рыцарь! —сверкая глазами воскликнул Стейси. — Не осталось ли еще в вашей шкатулке редких драгоценностей, рубинов, флорентийских шелков или колец из чистого золота? Не проглядели ли вы там случайно одну–две жемчужины?
— Нет, это все, — простодушно ответил Баркер.
— Нет, вы только послушайте! Ротшильд говорит, что это все. Владетельный князь Эстергази заявляет, что у него нет ни одного цента, кроме двухсот тысяч долларов.
— Что же мне теперь делать, ребята? — спросил Баркер, робко поглядывая то на одного, то на другого.
Потом в течение всего того дня и еще много лет спустя он с восторгом вспоминал, что в этот незабываемый миг он увидел на их лицах только бескорыстную радость и дружеское волнение.
— Что делать? —воскликнул Деморест. — Стать вверх ногами! Визжать! Нет! Погоди! Следуйте за мной! — И он схватил Стейси и Баркера за руки и выбежал с ними вон из хижины. Здесь они в полном молчании проплясали вокруг молодого каштана бешеный танец диких и вернулись к себе, разгоряченные, но уже утихомирившиеся.
— Теперь, конечно, — заговорил Баркер, отирая лоб, — мы сможем за эти акции получить деньги, и тогда мы купим у старого Картера соседний участок, тот, помните, где нам почудились какие‑то признаки золота.
— Ничего подобного мы не сделаем, — решительно объявил Деморест. — Мы тут ни при чем. Эти деньги лично твои, старина, от первого до последнего цента. Знаешь, как собственность, которую нажил один из супругов до брака. И черт нас побери, если мы позволим тебе вложить самую мелкую монетку в эту богом забытую дыру. Не будет этого!
— Но ведь мы компаньоны, — шумно дыша, возразил Баркер.
— При чем тут твои акции! Что мы можем для вас сделать, сэр денежный мешок? Хоть и не пристало мозолистым рудокопам водиться с богачом, мы не откажемся когда‑нибудь отобедать с вами в хорошем ресторанчике в Сакраменто, отведать какого‑нибудь замечательного паштета и опрокинуть стаканчик мальвазии. Это мы сделаем, когда все будет в порядке, в честь возрождения вашего былого величия. Но принять что- нибудь большее нам было бы не к лицу.
— Ну, а что же вы будете делать? — спросил Баркер с полуистерической, полуиспуганной улыбкой.
— Мы еще не проверили наши чемоданы, — с непоколебимой серьезностью ответил Деморест, — а в моем саквояже есть тайник, двойное дно, секрет которого известен только моему верному слуге. С тех пор как я покинул дом моих предков в Фаджини, я не прикасался к этому тайнику, а там тоже могут оказаться ценные бумаги и акции.
— Я вот тоже на днях нащупал в кармане своего фрака какие‑то странные кругляшки. Но, может быть, это только покерные фишки… — задумчиво сказал Стейси.
Баркеру стало как‑то не по себе. Его юношеские щеки снова зарделись румянцем, и он отвел взгляд. Привязанность и какое‑то нежное сострадание, светившиеся в глазах его друзей, увеличивали его неловкость.
— Мне кажется, — произнес он наконец чуть не с отчаянием, — что следовало бы отправиться в Бумвилл, чтобы все разузнать.
— Прямо в банк, дружище, прямо в банк! —крикнул Деморест. — Помни мой совет и никуда больше не суйся. Смотри, никому ни слова о твоем счастье. И не поддавайся соблазну, не вздумай сразу продать эти акции. Еще неизвестно, на сколько они могут подскочить.
— Я думал, — пробормотал Баркер, — может быть, вы, ребята, захотите пойти со мной.
— Для нас слишком уж большая роскошь прогулять целый рабочий день, и без того работать мы сегодня будем только вдвоем, — возразил Деморест чуть дрогнувшим голосом и слегка покраснев. — И нам не пристало, старина, слоняться по пятам за тобой и за твоим счастьем. Все прекрасно знают, что мы бедняки, и рано или поздно станет известно, что ты был богат еще до того, как вошел с нами в компанию.
— Чепуха! —в негодовании воскликнул Баркер.
— Святая правда, мой мальчик, — кратко подтвердил Деморест.
— Самая непреложная истина, старина! —подхватил Стейси.
Баркер, не глядя, потянулся за шляпой и пошел к двери. У порога он в нерешительности остановился, и казалось, что эта нерешительность сообщается его товарищам. Наступила минута неловкого молчания. Затем Деморест порывисто схватил его за плечи и насильно, хоть и ласково, подвел к двери.
— Перестань валять дурака, Баркер, мальчуган ты мой. Будь же мужчиной, действуй, иди вцепись в это богатство крючьями и держись намертво. И можешь быть уверен, что нас… — он запнулся, но только на секунду, точно собирался сопроводить эти слова смехом, а смех не получился, — нас ты наверняка застанешь здесь, когда вернешься.
Баркер был задет за живое, но не выдал своих чувств. Он нахлобучил шляпу и поспешно пустился в путь. Приятели молча смотрели ему вслед, пока он не скрылся в кустах. После этого они заговорили.
— Как все это похоже на него, правда? —сказал Деморест.
— В этом весь Баркер, с начала до конца, — подтвердил Стейси.
— Подумать только, что все эти годы у него валялись такие ценные бумаги, а он, простая душа, о них и не вспомнил.
— А ведь он хотел вложить вместе с нами деньги в эту окаянную гору!
— И он, клянусь, так бы и поступил! И никогда бы об этом не пожалел. Вот какой он, Баркер.
— Хороший парень!
— Славный товарищ!
— Может быть, одному из нас надо было пойти с ним? Он вытряхнет все свои деньги первому, кто подставит карман, — сказал Стейси.
— Тем более нам нельзя вмешиваться. И пусть все видят, что мы не интересуемся этими деньгами! —воскликнул с горячностью Деморест. — И без того найдется достаточно мошенников и дураков, которые постараются воспользоваться его простодушием и убедить его, что нами руководит какая‑то тайная корысть. Нет, ни за что! Пускай поступает с деньгами, как ему вздумается, как ему подскажет его нутро. По–моему, лучше пускай он вернется к нам самим собой, хоть даже совсем без денег, с пустыми руками, чем изменит своей натуре и станет как все.
Все это было сказано тоном, настолько далеким от обычного легкомыслия Демореста, что Стейси не ответил. Помолчав, он сказал:
— Что ж, нам будет здорово не хватать его в этом ущелье, правда?
Деморест не отвечал. Рассеянно протянув руку, он сорвал ветку с молодого деревца и принялся обрывать с нее листья один за другим. Когда их уже не осталось ни одного, он взмахнул рукой, резко стегнул себя веткой по сапогу, проворчал: «Довольно, пора за работу», — и большими шагами направился к шахте.
А в это время Баркер по пути в Бумвилл держал себя тоже несколько странно. Вначале, пока он не потерял хижины из виду, лицо его сохраняло озабоченное выражение. Но его простодушная натура не была склонна к сложным переживаниям. Если бы он не увидел выражения искренней привязанности в глазах своих товарищей, он мог бы вообразить, что они завидуют его счастью. Но почему же они отказывались считать эти деньги общими? Почему они решили, что их товарищество должно развалиться? Почему отказались пойти с ним? Почему эти деньги, о которых он так мало думал и которыми так мало дорожил, изменили отношение его друзей? Его- то деньги, во всяком случае, не изменили, он остался таким, каким был. Ему вспомнилось, как часто они в шутку обсуждали, что будет, если они вдруг найдут на своем участке богатую золотом руду. Вспомнилось, как они строили планы о том, что они сообща будут делать с деньгами. А теперь, когда «счастье» свалилось на одного из них, они стали друг другу чужими! Поди тут разберись. Ему было обидно, больно, но, как ни странно, он ощущал в себе совершенно новую возможность обижать и ранить в отместку. Теперь он разбогател и покажет им, что может прекрасно обойтись и без них. Теперь ему ничто больше не помешает думать только о себе и о Китти!
В интересах истины надо установить, что при всем простодушии этого молодого человека, проявившего и бескорыстие и великодушие по отношению к своим компаньонам, первой его мыслью при известии о неожиданном богатстве была мысль об одной девушке. Ее звали Китти Картер. Она была дочерью хозяина гостиницы в Бумвилле, и ее отцу принадлежал тот соседний участок, который компаньоны страстно жаждали приобрести. Хотя одновременно с представлением о богатстве в его сознании мелькнуло хорошенькое девичье личико, это еще не было нарушением верности товарищам, которым он от души хотел помочь. Но сейчас, в полуобиженном- полумстительном настроении, ему вспомнилось, что они часто поддразнивали его разговорами о Китти и потому были в дальнейшем не вправе рассчитывать на его доверие. Сейчас достоинство требовало, чтобы он безотлагательно повидался с Китти.
Особых затруднений на пути к этому не было: вследствие простоты нравов Бумвилла и некоторой скупости ее отца Китти иногда прислуживала за столиками. В нее всегда была горячо влюблена половина мужского населения городка, а для второй половины эта любовь была уже делом прошлого, и рухнувшие надежды превращали пострадавших в молчаливых скептиков. Тут удивляться, впрочем, нечего: Китти была одной из тех на редкость красивых девушек, порою встречающихся в юго- западных штатах, красота и утонченность которых вселяют сомнения — безусловно, совершенно неосновательные — в проницательности одного из родителей и в нравственности второго. Как бы то ни было, факт оставался фактом: стройная, изящная и скромная девушка, скользившая между обеденными столиками в бумвиллской гостинице, казалась какой‑то прекрасной незнакомкой, а не дочерью своего приземистого, грубого отца и увядшей, невзрачной матери. Трое компаньонов благодаря полученному в колледже образованию и хорошим манерам пользовались некоторым вниманием со стороны Китти. И по какой‑то сокровенной причине, тем более веской, что она никому не бросалась в глаза, особая благосклонность оказывалась Баркеру.
Он прибавил было шагу, увидев в лощине перед собой флагшток бумвиллской гостиницы, потом заколебался: не лучше ли сперва зайти в банк, внести акции и получить под них небольшую ссуду на новый галстук или крахмальную сорочку в честь визита к мисс Китти. Но, вспомнив, что он обещал Деморесту сохранить акции в неприкосновенности, он отказался от этого намерения, может быть, еще и потому, что намеченный откровенный разговор с Китти уже составлял некоторое нарушение предписания его приятеля сохранять все дело в тайне, и совесть его была уже достаточно отягощена этим вероломством.
Когда он подошел к гостинице, им овладело небывалое волнение. В ресторане царило затишье между отливом утренних посетителей и волной приготовлений ко второму завтраку. Не мог же он в самом деле беседовать с Китти в унылом окружении перевернутых стульев и оголенных дощатых столиков. Притом она, наверное, была поглощена своими домашними обязанностями. Однако мисс Китти уже успела увидеть в окно своей комнаты, как он переходит улицу, и потому зашла без особой надобности в ресторан, делая вид, что хочет начать уборку. Он шел, не смея надеяться, что увидит ее, и, когда она предстала перед ним в нежном и воздушном платье, вся в розах и розовых бутонах, сердце у него дрогнуло.
Но из‑за неуверенности в себе, свойственной каждому застенчивому человеку, из‑за того, что его решимость еще не превратилась в решение, он ответил на ее лучезарную улыбку самым обыкновенным вопросом о том, где ее отец. Мисс Китти прикусила свою прелестную губку, слегка улыбнулась и с подчеркнуто официальным видом повела его в контору. Открыв дверь и не поднимая глаз ни на отца, ни на посетителя, она пролепетала, лукаво подчеркивая официальность своего тона:
— Мистер Баркер к тебе по делу, — и плавно удалилась.
Этот незначительный инцидент ускорил наступление кризиса. У Баркера немедленно созрело решение сейчас же приобрести смежный участок для своих товарищей, а для этого надо было поделиться с Картером всеми подробностями последних счастливых обстоятельств. В доказательство своей искренности и платежеспособности он напрямик рассказал все. Картер был опытный делец. Он сразу оценил искренность Баркера и его всем известное простодушие, не говоря уже о предъявленных ему акциях. Первоначальная цена за этот участок была определена в двести долларов, но вот явился богатый покупатель, притом настроенный как‑то сентиментально; наверно, он согласится заплатить дороже. Несколько мгновений он раздумывал, любезно, но снисходительно улыбаясь. Затем учтиво произнес:
— Да, такова была цена при нашем последнем свидании, мистер Баркер, но вы сами видите, что все цены растут.
Бывает, что самая низменная двуличность обезоруживается полным простодушием противника. Баркер был далек от подозрений. Он вдруг испугался — не цены участка, а возможности, что его компаньоны наотрез откажутся принять у него этот дар, и не стал спорить.
— В таком случае, — торопливо проговорил он, — я лучше посоветуюсь сначала с моими компаньонами. По правде говоря, —добавил он со своей щепетильной правдивостью, — я не очень уверен, что они согласятся принять от меня этот участок, так что лучше подождать.
Картер опешил — нет, это никуда не годится. Он быстро перестроился и воскликнул с вкрадчивой улыбкой:
— Вы не дали мне кончить, мистер Баркер, я хотел сказать, что я деловой человек, но, черт побери, мы ведь приятели! Если вы считали, что я дал слово продать за двести, что ж, я от своего слова не отступлюсь. Ни слова больше — участок ваш, и я сразу же оформлю документ на право собственности.
— Как же так? — растерялся Баркер. — Я ведь еще не получил денег, и…
— Деньги! — безразличным тоном повторил Картер. — Но мы ведь приятели! Дайте мне расписку сроком на тридцать дней. Меня это вполне устроит. И мы сейчас же все это дело с вами обтяпаем, — нет ничего лучше, чем кончить сделку за один присест.
Не успел нерешительный и озадаченный посетитель ничего толком возразить, как Картер уже заполнил все графы обязательства и сам подписал купчую на продажу недвижимости, оставив место только для подписи Баркера.
— Наверное, мистер Баркер, вам хочется этим маленьким подарком сделать сюрприз вашим приятелям. — Тут последовала улыбка. — Так вот, мой рассыльный через пять минут отправится в Каньон и проедет мимо вашей хижины. Он может сбросить им этот документ, удостоверяющий, что дело уже слажено, хотят они того или нет. В таких делах надо действовать напролом. А вам торопиться нечего! Мы уже давно хотели, чтоб вы зашли к нам посидеть просто так, по–дружески, а то вы захаживали к нам только в ресторан — пообедать. Так что оставайтесь закусить с нами, а пока моя старуха занята, Китти вас позабавит и поиграет для вас на своем новом пианино.
Неожиданность приглашения и открывающиеся за ним возможности привели Баркера одновременно в восхищение и в недоумение. Он машинально подписал платежное обязательство и так же машинально написал имя Демореста на конверте, в который была вложена купчая. Картер передал конверт рассыльному. После этого Баркер последовал за хозяином через вестибюль в комнату, известную под названием «гостиной мисс Китти». Он часто слышал об этой комнате как о святилище. недоступном для простых смертных. Каковы бы ни были обязанности девушки по отношению к постояльцам и посетителям гостиницы, само собой подразумевалось, что у этого священного порога она их с себя слагает и превращается в барышню, в «мисс Картер». Именно здесь принимали таких почетных посетителей, как местный судья или супруга директора банка. Ясно, что допуск Баркера в гостиную был для него небывалой честью.
Он робко обвел глазами комнату, которая множеством очаровательных подробностей говорила о том, что это приют молодой девушки. Вот пианино, доставленное с подножия гор по частям на мулах. Вот головка Минервы — карандашный набросок, сделанный прелестной хозяйкой комнаты еще в двенадцатилетнем возрасте. Вот ее собственный портрет в профиль работы какого‑то странствующего художника, вот разные фарфоровые безделушки и множество цветов, среди них увядший, но все еще ароматный лесной кустик, преподнесенный Баркером две недели назад. Сейчас, когда он входил в комнату, мисс Китти из скромности набросила на этот кустик свой белый платочек. При виде этого движения на Баркера нахлынула целая волна надежд, но сейчас же отхлынула и пропала, не выдержав игриво–развязного тона мистера Картера.
— Китти, садись и сыграй мистеру Баркеру одну–две песенки, чтобы развлечь его до завтрака. Покажи, какая ты мастерица по этой части. Но торопись, пока не поздно, этот молодой человек теперь разбогател и скоро будет, как турецкий паша, гулять по Сан–Франциско в крахмальной сорочке и в настоящем цилиндре. Тогда прощай, Бумвилл! Ну, а теперь вы, молодежь, извините меня, я поплетусь в контору, чтобы записать нашу купчую в реестр. Аккуратность прежде всего, мистер Баркер. Пока.
Сердце у Баркера замерло. Картер опередил его. Как теперь начать задушевный разговор, когда его приход был только что так грубо истолкован? Что она могла о нем подумать? Он стоял перед ней, пристыженный и растерянный.
Однако миге Китти как будто вовсе не видела его замешательства. Все ее внимание устремилось на «жуткий» беспорядок в ее комнате. От этого у нее выступили розовые пятна на щеках, она переходила от одной безделушки к другой, поднимая их и ставя обратно на то же место. Она выразила ему свое восхищение по поводу такой новости. Поверьте, она не может припомнить, чтобы что‑нибудь когда‑нибудь ее так сильно обрадовало. И как неожиданно всегда случаются такие вещи! Жизнь изменчива, точь–в-точь как погода, не правда ли? Вот вчера вечером было совсем прохладно, а сейчас— какая духота! И какая страшная пыль! Заметил ли мистер Баркер, какая волна зноя несется со стороны Каньона? Или, может быть, он теперь, когда разбогател (при этом она задорно улыбнулась), стал очень важный и пешком больше не ходит? Но как это мило с его стороны, что он первым делом пришел сюда и рассказал обо всем ее отцу!
— По–настоящему я хотел рассказать только вам, мисс Картер, — с запинкой проговорил Баркер. — Видите ли… — На этом он остановился.
Но мисс Китти все прекрасно видела. Хотел он говорить лично с ней, а встретив ее, сразу спросил об отце! Впрочем, это не имело никакого значения, потому что отец все равно рассказал бы ей обо всем. Она только очень благодарна отцу за то, что он пригласил его к завтраку. Иначе она могла бы совсем не увидеть его до отъезда из Бумвилла.
Тут уже Баркер не вытерпел. С такой же безрассудной прямолинейной искренностью, как в разговоре с ее отцом, он теперь открыл ей все тайники своего сердца. Как он безнадежно полюбил ее с первого их разговора — помнит ли она? — на благотворительном пикнике! Как, сидя в церкви, он молился только на нее! Как ангельски звучал ее голос в церковном хоре! Как бедность и неуверенность в завтрашнем дне удерживали его от частых встреч с ней: а вдруг открылась бы его страстная любовь! Как в ту же минуту, когда он узнал, что у него твердая почва под ногами и что его любовь не сделает ее посмешищем в глазах людей, он прибежал, чтобы во всем, во всем ей открыться. Он не смеет надеяться на ее благосклонность, но она не рассердится и выслушает его, не правда ли?
Да, нельзя было ни уйти, ни спрятаться от его детски–непосредственного горячего признания. Напрасно Китти то улыбалась, то хмурилась, то искоса поглядывала на свои горящие щечки в зеркало, то подходила к окну и выглядывала на улицу. Его любовь заполняла всю комнату, и, несмотря на его робость, девушке казалось, что эта любовь окутывает, обнимает ее. Однако в конце концов она собралась с духом и обратила к нему свое побледневшее и серьезное лицо, составлявшее разительный контраст с его лицом, разгоряченным и взволнованным.
— Садитесь, — тихо сказала она.
Он повиновался в тревожном ожидании. Она открыла пианино, села на круглый стул, поставила на пюпитр несколько разрозненных листков нот и слегка пробежала пальцами по клавишам. Создав себе таким образом надежный тыл, она положила руки на колени и впервые посмотрела ему прямо в глаза.
— Теперь послушайте, что я вам скажу, и, пожалуйста, только не перебивайте! Не надо ближе, вы прекрасно услышите все и оттуда. Вот так, хорошо!
Баркер послушно остановился со своим стулом на некотором расстоянии от нее и сел.
— Так вот, — продолжала мисс Китти, отводя от него глаза и устремив пристальный взгляд прямо перед собой, — я верю всему, что вы говорите. Может быть, мне не следовало бы верить, не следовало бы признаваться в этом, но я верю. Вот. Но именно потому, что я вам верю, я считаю все это ужасной ошибкой. Если все было так, как вы говорите, то по тем же причинам, по которым вы молчали до сих пор, вы обязаны были молчать и теперь. Ведь все это время ни один человек, кроме вас, не знал о ваших чувствах. Для всех окружающих вы и ваши компаньоны были единственные образованные люди в нашей местности, ни с кем не желающие водить дружбу. Жилось вам неважно. Вы искали золото на своей жалкой заявке в Каньоне и изредка заходили пообедать в гостиницу. А я для всех была только дочь богатого хозяина гостиницы — иногда я вам подавала обед, — вот и все. Но тогда мы были приблизительно равны, нельзя было сказать, что один много выше другого. А теперь, когда вы внезапно разбогатели и вознеслись на недосягаемую высоту, вы являетесь сюда, чтобы подчеркнуть своим признанием, какая пропасть образовалась между нами.
— Вы прекрасно знаете, что мне это и в голову не приходило, мисс Китти, — в волнении воскликнул Баркер, но его протест был заглушен быстрым потоком звуков, извлеченных из пианино пальчиками девушки. Он поник и снова опустился на стул.
— Конечно, вы этого не хотели, — сказала она со странной усмешкой, — но никто не поймет это иначе, а вы не можете обойти весь Бумвилл и каждому повторить трогательное признание, которое вы мне сейчас сделали. Решительно все скажут, что я приняла ваше предложение из‑за ваших денег, все скажут, что всю эту штуку подстроил мой отец, что я вас совершенно недостойна. И, может быть, они будут правы. Не вскакивайте, садитесь, а то я снова начну играть. Вот сейчас, — продолжала она, стараясь не смотреть на него, — вам очень приятно вспоминать, как я подавала вам обедать в ресторане, но если бы я стала вашей женой, вы бы именно это постарались забыть. А я нет! Мне всегда было бы приятно вспоминать, как вы приходили сюда обедать, а когда у вас не было денег, приходили просто взглянуть на меня; и как мы оба искали предлога, чтобы обменяться несколькими словами, когда я мыла посуду или подавала на стол. Вы не знаете, как много значат такие вещи для девушки, которая… — Она на секунду задумалась, потом отрывисто заключила: — Это все пустяки, такие воспоминания вас не могут интересовать. Значит, — она встала, грустно улыбнулась и крепко стиснула руки за спиной, — самое лучшее сразу же попробовать забыть все это. Будьте разумны и последуйте моему совету. Поезжайте в Сан–Франциско. Там вы встретите другую девушку и при других обстоятельствах, о которых вам всегда будет приятно вспоминать. Вы молоды, и ваше богатство, — ее прерывающийся голос как‑то не вязался с мелькнувшей на губах лукавой усмешкой, — а главное, ваше доброе и бесхитростное сердце принесут вам любовь. Если это будет любовь девушки вашего круга, все будут уважать ее чувство, как совершенно бескорыстное, а про мое чувство все бы думали, что оно куплено на ваши деньги.
— Мне кажется, вы правы, — тихо сказал он.
Она быстро взглянула на него, и брови у нее вытянулись в ниточку. Он встал, лицо его побледнело, голубые глаза расширились.
— Мне кажется, вы правы, — повторил он, — потому что вы говорите то же самое, что сказали утром мои товарищи, когда я предложил разделить с ними мое богатство. Видит бог, я предлагал это так же искренне, как сейчас предложил вам мое сердце. Наверное, вы все правы: на деньгах, которые мне достались, тяготеет проклятие чванства или себялюбия. Я пока ими не заразился, и моей вины тут нет.
Она слегка пожала плечами и с досадой отвернулась к окну. Когда она оглянулась, его уже не было. Комната была пуста. Комната, которая только что, казалось, дышала его юношеской страстью, теперь, лишившись его, опустела. Девушка прикусила губу и бросилась к окну. На улице мелькнула его соломенная шляпа на каштановых волосах. В отместку она сорвала свой платочек с увядшего кустика и швырнула нежно хранимую реликвию в камин. И, вероятно, потому, что платочек оказался у нее в руке, она прижала его к глазам и, прильнув к стулу, на котором только что сидел он, закрыла руками лицо.
Простодушные характеры, приходя в столкновение с тайниками чужой души, имеют жестокость не проявлять снисхождения к поступкам, которых не понимают. Баркеру казалось, что в обоих случаях его искренность натолкнулась на совершенно одинаковый отпор. Ясно, что именно его внезапное богатство так безнадежно изменило его отношение с людьми. Его любовь к Китти от этого нисколько не уменьшилась, он даже не считал, что она была к нему несправедлива. Просто они — и компаньоны и возлюбленная — умнее его. У этого богатства, очевидно, есть какая‑то сокровенная особенность, которую он поймет, когда вступит во владение им. Кто знает, может быть, он тогда даже устыдится своей щедрости, — пусть не совсем так, как подумали они, но все же он бесспорно пытался навязать им то, что им не принадлежало.
Надо было немедленно вступить во владение своим имуществом и взять на себя все заботы и всю ответственность, сопряженные с ним. Его щеки снова вспыхнули при воспоминании о том, как он пытался соблазнить им неискушенную девушку, и снова ему стало больно оттого, что в глазах Китти не было ни тени нежности, которая значительно смягчила отказ его товарищей. Он решил сейчас же, без всякого промедления, продать роковые бумаги и направился прямо в банк.
Директор банка, человек проницательный, но добродушный, встретил его почтительно и ласково. Баркера он знал как человека щепетильного и порядочного, знал и остальных членов бедного, но благородного товарищества в Каньоне. Он внимательно и молча выслушал короткий и не особенно гладкий рассказ Баркера и только тогда сказал:
— Вы, конечно, имели в виду Второй участок и по ошибке сказали «Первый».
— Нет, — возразил Баркер. — Я именно имел в виду Первый участок, о котором писали в бумвиллской газете.
— Ах, да, я видел эту заметку. Так ведь это опечатка. Акции Первого участка были погашены еще два года назад. Но вы, несомненно, имели в виду Второй. Вы, конечно, следили за котировкой и знаете, какие у вас акции. Идите домой, взгляните на свои акции, и вы увидите, что я прав.
— У меня они с собой, — ответил Баркер и, слегка покраснев, сунул руку в карман. — Я совершенно уверен, что у меня акции Первого участка.
Он вынул бумаги и разложил их на конторке перед директором.
На всех акциях было четко написано: «Первый участок». Лицо директора омрачилось, и он вопросительно посмотрел на Баркера.
— Может быть, это чья‑нибудь проделка? — сурово спросил он. — Может быть, это ваши компаньоны снарядили вас сюда с этим хламом?
— Нет, нет! — торопливо запротестовал Баркер. — Никто не виноват. Это моя ошибка. Теперь я все понимаю. Я поверил газете.
— И вы хотите сказать, что никогда не следили за котировкой ваших акций, никогда ими не интересовались?
— Конечно, нет! — воскликнул Баркер. — Я и не вспоминал о них, пока не увидел газету. Значит, они ничего не стоят?
И ошеломленному директору почудилось, что на юношеском лице посетителя показалась улыбка.
— Боюсь, что ваши акции не стоят той бумаги, на которой они напечатаны, — сочувственно вымолвил директор.
Улыбка на лице Баркера превратилась в смех, к которому в недоумении присоединился его собеседник.
— Благодарю вас, — неожиданно произнес Баркер и стремглав выбежал из кабинета.
— Ничего подобного в жизни не видел, — пожал плечами директор, глядя ему вслед. — Да этот чудак даже обрадовался!
Он действительно обрадовался. Гнет богатства свалился у него с плеч. Ужасный кошмар, который давил на его сознание и оттолкнул от него друзей, исчез! И не путем безрассудного мотовства он избавился от этих денег. Они не успели испортить ничью жизнь, они никого не изменили в его глазах. Они исчезли, и он снова стал свободным и счастливым. Он сейчас же вернется к своим товарищам. Они, конечно, посмеются над ним, но у них больше не будет оснований смотреть на него печальными, соболезнующими глазами. Может быть, даже Китти… Но тут он похолодел. Ведь он совершенно забыл о злополучном долговом обязательстве, которое выдал ее отцу в безрассудном расчете на богатство. Как он ухитрится заплатить по этому обязательству? И самый факт, что он выдал обязательство, — это уже мошенничество, потому что у него в тот момент не было ни денег, ни надежды на деньги, кроме этих никчемных бумажек. Поверит ли кто‑нибудь, что все это была только глупая ошибка? Да, его компаньоны, пожалуй, поверят, но — ужасная мысль! — он успел вовлечь и их в свое преступление. Вот сейчас, в эту минуту, когда он в раздумье стоит на дороге, они занимают новый участок, за который он не заплатил и не в состоянии заплатить! Под видом великодушного поступка он покрывает их бесчестьем. Но все‑таки первым долгом надо повидать Картера и во всем ему признаться. Надо вернуться в гостиницу, откуда он убежал, не простившись с ней, и сознаться ее отцу, что он просто обманщик. Об этом даже подумать страшно! Кто знает, может быть, тут действует все то же проклятие этих денег, которое ему никак не стряхнуть. Все равно идти надо. У него была простая душа, но в ней были решимость и прямота — то, что принято называть мужеством.
Он дошел до гостиницы и вошел в контору. Но мистер Картер еще не возвращался. Как же быть? Ждать нельзя, дорога каждая минута. Ах, вот что! Есть еще один человек, который знает, что у него действительно были надежды, и которому можно поведать о катастрофе, — это Китти. Большего унижения и быть не может, но ничего не поделаешь! Он взбежал вверх по лестнице и робко постучал в дверь гостиной. Пауза. Затем тихий голос сказал:
— Войдите.
Баркер открыл дверь. Как в тумане, он увидел отброшенный в сторону носовой платок, заплаканные глаза, мгновенно прикрывшиеся броней равнодушия, и изящную, чопорно выпрямившуюся фигурку. Но теперь его не могут задеть никакие оскорбления.
— Я не стал бы врываться к вам, — сказал он просто, — я пришел к вашему отцу, но его нет. Я сделал ужасную ошибку, даже хуже — кажется, это называется мошенничеством. Я считал себя богатым, приобрел у вашего отца участок для своих компаньонов и подписал долговое обязательство. Я пришел вернуть ему право собственности, потому что это обязательство никогда не будет оплачено. Я только что был в банке и узнал, что сделал глупейшую ошибку, перепутал название акций и напрасно вообразил себя богачом. Мои акции не стоят и цента, я такой же бедняк, как прежде, и даже беднее, потому что должен вашему отцу деньги, которых никогда не смогу заплатить!
Взгляд Китти выразил боль и презрение.
— Какая жалкая хитрость! — с горечью бросила она. — Как вам не стыдно, это недостойно вас!
— Великий боже, вы должны мне поверить. Выслушайте меня только! Все началось с опечатки в газете. В заметке было сказано, что поднялись в цене акции Первого участка, а на самом деле поднялись акции Второго. У меня уже несколько лет лежат старые акции Первого, и я вспомнил о них сегодня, когда прочитал эту заметку. Клянусь вам…
Но в клятвах не было надобности. Не могло быть и тени сомнения в правдивости этого голоса, этого лица. Презрительный взгляд мисс Китти сменился недоумевающим, а затем ее глаза внезапно превратились в два сияющих голубых источника неистощимого веселья. Заливаясь смехом, она отошла и прислонилась к окну. Заливаясь смехом, вернулась и села за пианино. Заливаясь смехом, подобрала брошенный платочек и прикрыла им свое раскрасневшееся личико. Заливаясь смехом, упала в кресло, зарылась темной головкой в подушку, и оттуда вдруг без всякого перехода послышалось всхлипывание. А потом все стихло.
Баркер ужасно испугался. Он слыхал, что бывают истерики. Что‑то надо было сделать, это ясно. Он робко подошел к ней и осторожно потянул за платочек. Увы! Голубые источники катили свои струйки по ее лицу. Он взял ее холодные руки в свои. Потом стал перед ней на колени и взял ее за талию. Потом притянул ее головку к себе на плечо. Он несколько сомневался в эффективности всех этих мер, как вдруг она подняла на него глаза, в которых крупные слезы затопили последние остатки веселости, обвила его шею руками и всхлипнула:
— О Джордж! Что за простая душа!
Наступило красноречивое молчание, прерванное угрызениями совести Баркера.
— Простите, дорогая, я должен идти. Мне надо предупредить моих друзей. Может быть, еще не поздно, может быть, они еще не завладели участком вашего отца.
— Да, Джордж, идите, милый, — воскликнула девушка, и глаза у нее снова заблистали, — и скажите, чтобы они немедлено принялись там за работу.
— Что? — растерялся Баркер.
— Немедленно, слышите? Иначе будет поздно! Идите же скорее!
— А ваш отец? Понимаю, дорогая, вам жалко меня, и вы хотите все сами рассказать ему.
— Такой глупости, Джорджи, я ни за что не сделаю. И вам не позволю! Ведь срок уплаты истекает только через месяц. Послушайте! Вы говорили об этом кому‑нибудь, кроме отца и меня?
— Только директору банка.
Она выбежала из комнаты и через минуту вернулась, завязывая ленты чудесной шляпки в прелестный бант на пухленькой шейке.
— Я побегу к нему и все улажу, — сказала она.
— Уладите? С директором? —поразился Баркер.
— Ну да, скажу, что ваши нехорошие товарищи подшутили над вами и чтобы он вас не выдавал. Для меня он сделает все, все.
— Но мои товарищи ничего подобного не делали! Они, наоборот…
— Не спорьте, Джордж, —строго сказала мисс Китти. — Почему они отпустили вас одного сюда с этим мусором? Но дело не в этом! Сейчас же идите туда. И скорее, чтобы не встретиться с моим отцом, а то вы сразу ему все выложите, я знаю вас! Я скажу ему, что вы никак не могли остаться завтракать. Ну, идите скорее, чего вы ждете! Как? Это еще что такое!
К чему относилось это восклицание, точно не известно, но прошло некоторое время, прежде чем мисс Китти удалось выпроводить своего возлюбленного через парадную дверь, и немедленно после этого она сама выскользнула черным ходом. Очутившись на улице, Баркер больше не медлил. До Каньона было добрых три мили, он еще может поспеть туда к обеденному перерыву, а хотя посланец мистера Картера и опередил его, Деморест и Стейси вряд ли пойдут на новый участок раньше второй половины дня. Баркер, несмотря на предписание своей возлюбленной, твердо решил не присваивать себе того, за что не мог уплатить. Он сохранит участок в неприкосновенности, пока в это дело не будет внесена полная ясность.
Что касается всего остального, он чувствовал себя на седьмом небе. Китти любит его! Их больше не разлучает проклятое богатство. Они оба бедны, и все становится возможным.
Солнце уже начинало расстилать карликовые тени на восток от деревьев и кустов, когда он добрался до Каньона. Здесь им овладело новое беспокойство. Как отнесутся товарищи к известию о его неудаче? Он‑то был счастлив, потому что именно благодаря этой неудаче он завоевал Китти. Ну, а они? Ему вдруг показалось, что он купил свое счастье за счет их интересов. Он остановился, снял шляпу и с виноватым чувством взъерошил свои влажные от жары волосы.
Его смущала еще одна мысль. Он вышел на обрыв, откуда вся площадь их старого участка была видна как на ладони. Но партнеров не было нигде. Их не было и на скале в тени четырех сосен, где они любили отдыхать в полдень. С тревогой он стал разглядывать пространство соседнего участка, но и там не было никаких следов их пребывания. Его охватил страх при мысли, что они, расставшись с ним, погрузились в бездну разочарования и уныния и навсегда бросили свою заявку. Он плотно нахлобучил шляпу и бегом бросился к хижине.
Он почти уже добежал туда, как вдруг его остановил резкий окрик из кустов: «Кто там?» На тропинку выскочил Деморест, донельзя суровый и встревоженный. Но, увидев Баркера, он просиял, закричал: «Это сам Баркер! Ура!» — и бросился ему навстречу. Минуту спустя из хижины выбежал Стейси, и, схватив Баркера за руки, они увлекли его за собой в ликующе–бешеном темпе и втолкнули в хижину. Там востроглазый Деморест выпустил руку Баркера и, пристально вглядываясь ему в лицо, спросил:
— Говори, старина, что случилось?
— Случилось такое, — еще не отдышавшись, ответил Баркер, — что эти акции лопнули. Это все ошибка, все окаянное вранье в этой газетке. У меня никогда не было ценных акций. Го, что у меня есть, — это ничего не стоящий хлам. — И он передал им весь разговор с директором банка.
Оба компаньона посмотрели друг на друга и сразу же, к великому недоумению Баркера, залились таким же судорожным смехом, какой незадолго до этого овладел мисс Китти. Они хохотали, схватив друг друга за плечи, хохотали, цепляясь за Баркера, который от них отбивался, хохотали каждый порознь, то прислонившись к деревьям, то разбежавшись по углам хижины. Наконец, в полном изнеможении, со слезами на глазах, они подошли к Баркеру, дружески прижались к нему, но могли произнести только:
— Что за блаженный осел!
— Скажи, каким же образом, — вдруг спохватился Стейси, — тебе удалось купить этот участок?
— В этом‑то и весь ужас, друзья мои, — страдальчески вымолвил Баркер. — Я за него не заплатил.
— Но Картер прислал нам твою купчую, — упорствовал Деморест, — иначе мы не пошли бы туда.
— Я выдал ему обязательство уплатить через месяц, — в отчаянии воскликнул Баркер, — а где теперь достать деньги? Вы сейчас сказали, — порывисто прибавил он, заметив, что приятели переглянулись, — что пошли туда. Великий боже! Неужели это значит, что я опоздал и что вы начали там работать?
— Да–а, вот именно: мы начали там работать, — протянул Деморест.
— Отрицать невозможно, — так же медленно и протяжно заключил Стейси.
Баркер беспомощно поглядывал то на одного, то на другого.
— Не повести ли нам этого молодого человека на нашу выставку? — обратился Деморест к Стейси.
— Но только если он сохранит хладнокровие и не будет подходить чересчур близко к экспонатам, — ответил Стейси.
Каждый из них взял Баркера за руку, и они повели его в угол хижины, где на старом бочонке из‑под муки стоял жестяной таз для промывки золота, который чаще употреблялся как квашня. Сейчас он был покрыт грязным полотенцем. Когда Деморест ловким движением сдернул полотенце, под ним оказались три внушительных обломка руды с большими вкраплениями золота. Баркер отшатнулся.
— Ну‑ка прикинь, сколько тут на вес, — угрюмо сказал Деморест.
Баркер едва смог приподнять таз.
— Тут на четыре тысячи долларов, и ни цента меньше! —отчеканивая каждое слово, воскликнул Стейси. — В одной только ложбинке! При втором ударе кирки! Понимаешь! Мы здорово приуныли, когда ты ушел. Совсем скисли, когда получили купчую. С какой стати ты должен тратить свои деньги на нас! Мы решили отказаться и сразу вернуть тебе документ. Но рассыльный исчез! Тогда Деморест решил, что сделанного не воротишь и что, видно, надо попытать счастья на зтом участке. Копнули разок–другой в твою честь. И вот что нашли. А там на склоне холма еще много этого добра.
— Но это золото не мое! И не ваше! Оно принадлежит Картеру. У меня не было и нет денег заплатить за участок.
— Но ты выдал обязательство, а срок истекает только через месяц!
Перед Баркером молниеносно возник дорогой образ.
— Да, — — сказал он задумчиво и простодушно. — Вот и Китти то же самое сказала.
— Ах, вот как, и Китти это сказала, — промолвили без всякой улыбки оба компаньона.
— Да, — пробормотал Баркер, краснея и отворачиваясь. — И раз я не остался там завтракать, я лучше сейчас же что‑нибудь приготовлю.
Он взял кофейник и повернулся к очагу, а его товарищи вышли из хижины.
— Как все это похоже на него, правда? — сказал Деморест.
— В этом весь Баркер, с начала до конца, — подтвердил Стейси.
— И как он беспокоится об этом обязательстве!
— А то, что сказала Китти… — подхватил Стейси.
— Послушай! Мне что‑то сдается, что Китти сказала не только это!
— Ну, разумеется!
— Вот счастливец!
РЫЖИЙ ПЕС
Я никогда не понимал, почему в западных штатах Америки считается непреложной истиной, что рыжий пес — все равно что бесстыжий, почему рыжая масть означает предел собачьей безнравственности и бездарности и позорит не только собаку, но и ее владельца. Но так уж повелось — и мы, обитатели Змеиной горы, тоже нимало в этом не сомневались. Трудней было установить, кто же хозяин рыжей собаки; пес, о котором я хочу рассказать, питал совершенно одинаковые чувства ко всем жителям нашего поселка, и никто не решался предъявить на него исключительные права; а после всякого собачьего прегрешения все и каждый с неприличной поспешностью от этого пса отрекались.
— Лопни мои глаза, он уже месяц к нашей хибаре и не подступался! — говорил кто‑нибудь.
— В последний раз он выходил из твоих дверей, я сам видел! — возражал другой.
Из этого явствует, что обитатели Змеиной горы вовсе не желали отвечать за эту рыжую скотину. А между тем пес был незаурядный и притом далеко не урод; любопытно, что даже самые суровые его критики наперебой рассказывали о его смекалке, проницательности и ловкости, коим они были свидетелями.
Однажды в Медвежьем каньоне видели, как он прошел по узкой дощечке над головокружительной пропастью. У Южной развилки он свалился с тысячефутовой высоты по скату для спуска бревен — и его нашли внизу, на берегу реки, «без единой царапинки, разве только если сам себя покарябал, когда чесался». Его забыли в метель на горном уступе Сьерры, когда начались заносы, а ранней весной он явился в поселок, важный и снисходительный, как турист, переваливший через Альпы, и необычайно раздобревший — причем кормиться он мог, как полагали, одними лишь погребенными под снегом мешками с почтой. Все были убеждены, что он читает вывешенные перед выборами плакаты и потому успевает удрать из поселка дня за два до того, как к нам пожалуют кандидаты и ненавистный ему духовой оркестр. Поговаривали, что однажды, когда шла игра в покер, он запустил глаз в карты полковника Джонсона и, пролаяв сколько надо, предостерег его противника, что торговаться нельзя: на руках у Джонсона четыре короля.
Рассказы эти были не слишком достоверны, свидетельскими показаниями не подтверждались, и — такова уж слабость человеческой натуры — в ответе за них оказался сам пес: его‑то и стали считать отъявленным лжецом.
— Повадился совать нос в чужие карты да еще говоришь: я, мол, в покере мастак! Пшел отсюда, рыжий шулер! —кричали картежники, завидев злополучного пса.
— Другого такого мошенника свет не видал! — говорили про него.
— И ведь прикидывается, будто он вовсе и не в карты уставился, что твой удав, а вон на ту сойку, — мол, спустись, пожалуйста, наземь, я тебя слопаю. Экая двуличная скотина!
Как я уже говорил, он был рыжий — и стоило послушать, с каким презрением, с какой подчеркнутой брезгливостью у нас произносилось это само по себе вовсе не бранное слово!
А он был поистине рыж! Искупавшись — чаще всего поневоле, — он становился просто огненным; по спине, начинаясь между ушей и кончаясь вместе с обрубком хвоста, бежала ярко–оранжевая полоса; на боках шерсть постепенно светлела, становилась золотистой, соломенной Грудь и ноги были белые—если только не делались красно–бурыми от прогулок по помойкам, до которых он был весьма охоч. Лавочник не раз пытался изукрасить его лиловыми узорами, но тщетно: рыжий пес необычайно ловко увертывался от склянки с чернилами либо, прежде чем они успевали высохнуть на его шкуре, вытирал ее о наши штаны и одеяла.
Размер и форма его хвоста (отрубленного еще до появления рыжего пса у нас на Змеиной горе) давали рудокопам неисчерпаемую тему для домыслов и толков: какой же этот пес, в сущности, породы? И как он смел, негодяй, явиться к нам в таком неприлично бесхвостом виде? Все сходились на том, что с хвостом он не мог бы выглядеть хуже, чем теперь, а стало быть, с его стороны отказ от хвоста — чистейшее нахальство!
Лучше всего в нем были глаза — ясные, золоти- сто–карие, как на полотнах Ван–Дейка, и к тому же искрящиеся умом; но и тут он претерпел эволюцию под влиянием среды: прежде открытый и доверчивый взор омрачила привычка остерегаться палок, камней, а то и пинка; взгляд стал бегающим, зрачки поминутно косили — не грозит ли сзади опасность?
Но ведь все эти качества еще не решали больного вопроса о его породе! По быстроте бега и по чутью его можно было считать гончей; говорят, однажды его пустили по следу дикой кошки, и он гнался за ней, по–видимому, через весь штат и вернулся две недели спустя, со стертыми ногами, но явно очень довольный.
Однажды он увязался за партией золотоискателей, и они, веря в его охотничьи таланты, послали его отогнать от лагеря рыскавшего вокруг медведя. Через несколько минут рыжий пес возвратился… с медведем! Он гнал зверя прямиком на безоружных людей, и они едва успели разбежаться кто куда. После этого случая все поняли, что никакая он не гончая. Однако уверяли — опять‑таки не ссылаясь на достаточно надежных свидетелей, — будто он умеет «поднять» куропатку; и довольно долго никто не сомневался, что он способен принести охотнику подстреленную дичь, но однажды во время охоты на диких уток он притащил стрелкам утку, по которой никто и не думал стрелять, — и им пришлось возместить убытки соседнему фермеру.
Одно время, глядя, как он с восторгом шлепает вброд по канавам, мы совсем было решили, что он водяной спаниель. Он умел плавать и иной раз вытаскивал на берег брошенные в воду палки и куски коры, — но его и самого всегда приходилось бросать за ними в реку, да и слишком он был велик, так что его слава пловца тоже скоро померкла. Он остался просто рыжим псом. Что тут еще скажешь? Настоящее его имя было Хрящ, так его назвали из‑за приверженности к этому блюду, по привычке смешивая занятие личности с ее личными качествами — примером тому служат многие фамилии старинных английских семейств.
Хрящ не выказывал особого предпочтения никому из обитателей нашего поселка, но явно питал слабость к пьяницам. Заслышав издали даже самых заурядных выпивох, он тотчас вылезал из‑под дерева, где дремал в тени, или из иного убежища и радостно присоединялся к веселой компании. Он шел за гуляками по длинным, извилистым улицам, восторженным лаем встречал каждый, прямой ли, спотыкливый ли, шаг, и при этом во взгляде его вовсе не замечалось недоверия, с каким он всегда относился к людям трезвым и здравомыслящим. Даже в ответ на грубые заигрывания он и не думал рычать и огрызаться, а лицемерно притворялся, будто ему это по душе; я уверен, что он даже позволил бы привязать к своему куцему хвосту консервную банку, лишь бы привязывала ее нетвердая рука, лишь бы голос, который уговаривал бы его «лежать смирно и не кочевряжиться», звучал сипло от спиртного. Он дружески провожал пьяниц до салуна, дожидался их за дверью) высунув язык и прямо‑таки ухмыляясь от удовольствия ничуть не протестовал, когда они о него спотыкались и вприпрыжку бежал впереди, нимало не обижаясь, когда заплетающийся язык бросал вдогонку ругательства, а неверная рука — камни. А потом он провожал их до дома либо валялся с ними рядом где‑нибудь на перекрестке, пока люди добрые не разводили всех по хижинам. После этого он и сам бойкой рысцой отправлялся в свой любимый уголок за печкой в салуне и всем своим чуточку смущенным видом словно говорил: да, конечно, я не был паинькой, зато повеселился вволю!
Мы так и не могли понять, чем он тут больше всего наслаждался: просто ли среди личностей физически и духовно неполноценных он чувствовал себя в безопасности, или ему приятен был откровенный порок, или в подобные минуты он злорадно упивался сознанием своего нравственного превосходства. Но большинство склонялось к мысли, что как истинно рыжий пес он питал родственные чувства ко всему низменному. В этой мысли нас утверждало и еще одно проявление его собачьей натуры — уж очень он любил притворяться и подлаживаться.
Одно время почетный пост главного пьяницы в нашем поселке занял дядюшка Билли Райли, и Хрящ сразу же стал дарить его вниманием и заботой. Он повсюду сопровождал дядюшку Билли, сворачивался клубком у его ног или в головах (смотря по тому, как расположился в эту минуту сам Билли); больше того, скоро и в его собственных привычках и даже в его наружности стали замечаться престранные перемены. Еще недавно деятельный, неутомимый следопыт, вечно рыскавший в поисках пропитания, дерзкий и неуловимый мародер, он вдруг сделался ленив и ко всему равнодушен; суслики ныряли в свои норы под самым его носом, и он не кидался, как прежде, яростно рыть землю в надежде их оттуда выудить; белки скакали в какой‑нибудь сотне ярдов от него, насмешливо помахивая хвостами, а он и ухом не вел; он уже не спешил схоронить свои любимые кости и хрящики в обычных тайниках, и они понапрасну сохли на солнцепеке.
По мере того, как наливались кровью глаза и превращалась в лохмотья одежда его нового приятеля, тускнели и его глаза, и рыжая шерсть уже не лоснилась; прежде он устремлялся прямо к цели, как стрела, а теперь на бегу как‑то вилял из стороны в сторону, и нередко можно было видеть, как эта парочка взбиралась в гору бок о бок одинаково неверными шагами. Иной раз уже по одному виду Хряща можно было безошибочно судить о «градусе» его временного хозяина, хотя сам дядюшка Билли и не показывался.
— Видно, старик нынче порядком нагрузился, — скажет, бывало, кто‑нибудь, заметив, что у бредущего мимо Хряща больше обычного заплетаются лапы и выражение морды уж вовсе дурацкое.
Сперва все думали, что он и сам лакает виски, но после тщательной проверки эта теория оказалась несостоятельной, и тогда его окончательно заклеймили как подлизу и гнусного лицемера. Многие полагали, что Хрящ если и не совратил дядюшку Билли с пути истинного, то, уж конечно, «все его улещал да во всем ему потакал, вот старик и закоснел в пороке».
Без сомнения, именно поэтому их под конец насильственно разлучили, и дядюшку Билли благополучно отправили в ближайший город и препоручили заботам лекаря.
Хрящ, видно, затосковал по нему, два дня где‑то пропадал — как полагают, он навестил старика, но тот уже выздоровел, возвратился на стезю добродетели и потому обошелся с четвероногим приятелем холодно и высокомерно; потрясенный Хрящ похоронил свое прошлое вместе с забытыми, высохшими костями и вернулся к прежней жизни, полной приключений. Рассказывали, что однажды он, точно поводырь слепца, пытался завести в поселок вдрызг пьяного бродягу, но был застигнут на месте преступления — помешал ему сам рассказчик, чьи свидетельские показания, разумеется, остались ничем не подкрепленными.
Соблазнительно было бы на том и закончить живописный портрет рыжего грешника, но я верен истине, а потому вынужден повествовать не только о его проступках и пороках, но и о том, как он в конце концов исправился, хотя совершилось это преображение без всякого блеска и отнюдь не по его вине.
В тот день, когда он начал новую жизнь, на Змеиной горе праздновалось совсем другое событие: впервые дилижанс свернул с большой дороги к нашему поселку, где отныне ему была определена остановка. Над почтой и над салуном «Полька» реяли флаги, Хрящ удирал во всю прыть от ненавистного духового оркестра, и вот из дилижанса вышла почетная гостья — Престон, по прозванию Цветик, дочь окружного судьи, самая прелестная девушка в наших краях, в которую было безнадежно влюблено все население Змеиной горы.
— Почему он убежал? —тотчас спросила она, с искренним изумлением округлив красивые глаза: никогда еще она не видела, чтобы кто‑то от нее убегал.
— Он не любит духовую музыку, — хором объяснили мы.
— Как забавно! — удивилась девушка. — Неужели оркестр так сильно фальшивит?
Уже одной этой шутки было бы довольно, чтобы нас покорить — назавтра мы весь день ее повторяли, — но как описать наш восторг, когда Цветик вдруг одной рукой подобрала свои нарядные юбки и легкими, быстрыми шагами пустилась по рыжей пыли догонять Хряща; он глянул через плечо и остановился, с гневом и омерзением глядя на выходящего из кареты тромбониста. Цветик приблизилась к нему, и мы затаили дыхание. Увернется ли Хрящ от нее, как увертывался в подобных случаях от нас? Или все же не опозорит нас своей неучтивостью и примет ее снисходительно, как новую разновидность пьяницы? Она подошла ближе; он увидел ее; стал весь извиваться от волнения; завилял обрубком хвоста, да так быстро, что почти незаметно было, сколь многого этому хвосту недостает. Цветик вдруг остановилась перед ним, взяла в ладони рыжую голову и заглянула дивными голубыми глазами в его прекрасные карие глаза. Что сказали они друг другу этим всепроникающим взглядом, никто никогда не узнал. Но они вернулись к нам вдвоем; девушка словно между прочим заметила:
— Мы ведь не боимся медных труб, правда?
И он, видимо, согласился: во всяком случае, он скрывал свое отвращение к музыкантам, пока был рядом с Цветиком, — а он почти все время был с нею рядом.
Пока произносились речи, маленькая рука в перчатке все поглаживала рыжую голову пса; потом настал черед самой торжественной церемонии-: золотым карандашиком — подарком конторы дилижансов — Цветик от имени нашего поселка подписала путевой лист Юбы Билла, и нельзя сказать, что в эту минуту восторг Хряща не знал границ, — напротив, боясь переступить эти границы, он не носился кругами, а только взвивался в воздух на одном месте.
Впервые мы, жители Змеиной горы, поняли, что Хрящ — наша гордость, и, нимало не стыдясь врать друг другу, принялись наперебой его превозносить.
А потом настала пора прощаться. Сняв шляпы, мы стояли у дверцы дилижанса, мисс Престон уже готова была подняться на подножку, а рядом с нею Хрящ по–хозяйски заглядывал внутрь и, кажется, выбирал для себя местечко поудобнее— в углу, на коленях у судьи Престона; мисс Цветик мило помахала нам ручкой. Потом сжала ладонями рыжую голову пса и снова заглянула в его влажные глаза.
— Хорошая собака, — сказала она просто, с легким ударением на первом слове и вскочила в дилижанс.
Шестерка гнедых дружно взяла с места, великолепная зеленая с золотом карета помчалась по дороге, оставляя за собою облако рыжей пыли — ив пыли, до самой окраины поселка, огромными скачками несся вдогонку рыжий пес. Потом возвратился, притихший и отрезвевший.
После этого он дня два пропадал, но затем стало известно, что был он в Спринг Вэли — окружном городе, где жила мисс Престон, — и отлучку ему простили. Неделю спустя он снова исчез и на этот раз пропадал дольше, а потом из Сакраменто на имя жены нашего лавочника пришло трогательное послание.
«Будьте так добры, — писала мисс Цветик, — попросите кого‑нибудь из ваших молодых людей приехать сюда и забрать Хряща. Он славный пес, и я не против, пусть гуляет со мной по Спринг Вэли, там меня все знают; но здесь из‑за него всем бросаешься в глаза. Слишком он необыкновенного цвета! Я просто не знаю, какое платье надеть, чтобы гармонировало с ним. К розовому муслиновому он не идет, а мое прелестное коричневое из‑за него кажется гораздо бледнее. Вы же знаете, к оранжевому так трудно подобрать что‑нибудь подходящее».
Все жители нашего поселка собрались держать совет и не откладывая снарядили в Сакраменто депутацию выручать бедную девушку. Все мы были страшно злы на Хряща, но вот что странно, гнев наш умеряло другое чувство: теперь мы гордились рыжим псом! Пока до него никому, кроме нас, не было дела, мы не так уж ценили его незаурядные качества; но теперь в округе все чаще говорили: «Тот рыжий пес — знаете, что из поселка Змеиная гора», — и это непонятным образом нас возвышало, словно мы обладали неким четвероногим талисманом.
Один необычайный случай подтвердил, что так оно и есть. На перекрестке дорог соорудили новую церковь, и на ее торжественное открытие прибыла из Сан–Франциско важная духовная особа, чтобы произнести первую проповедь. Был учинен тщательный смотр всему наличному гардеробу Змеиной горы, произведен кое–какой удачный обмен — и несколько человек отрядили на воскресную службу. В белых штанах, фланелевых блузах и соломенных шляпах мы выглядели довольно живописно, и нас вполне можно было выставить в первых рядах в качестве «честных рудокопов».
Мы сидели по соседству с прехорошенькими девушками, которые охотно давали нам заглядывать в их молитвенники; вдыхали аромат свежих смолистых стружек и свежевыглаженных муслиновых платьев; а в раскрытые окна вливалось терпкое дыхание лесной чащи, и все мы, как и подобало случаю, прониклись кротостью и смирением. И вдруг кто‑то испуганно прошептал:
— Вы только поглядите на Хряща!
Мы оглянулись. Хрящ вошел в церковь и сперва по вполне простительной скромности и неведению поднялся на хоры, но сразу понял свою ошибку и теперь спокойно шел вдоль перил под изумленными взглядами прихожан. Дошел до конца, чуть помедлил и беззаботно посмотрел вниз. Для собаки, выросшей в горах, прыжок в каких‑нибудь пятнадцать футов — сущая безделица. Осторожно, расчетливо и в то же время с ленцой, с небрежным изяществом, словно бы (в переводе на человеческие понятия) заложив одну лапу в карман и управляясь только тремя, он прыгнул, бесшумно опустился прямо перед алтарем, трижды повернулся вокруг своей оси и уютно улегся.
Перед высокой особой (чьи губы, как нам показалось, тронула сдержанная улыбка) мигом предстали трое церковных старост; послышался торопливый шепот:
— Это их общий…
— Здешняя достопримечательность, знаете…
— Не хотелось бы задевать чувства местных жителей…
— Ну, разумеется, — тотчас отозвался высокий гость, и богослужение продолжалось.
Всего лишь месяцем раньше мы бы отреклись от Хряща; а теперь мы глядели чуточку свысока, ясно давая понять, что всякую обиду, нанесенную Хрящу, примем за личное оскорбление и тотчас единодушно покинем храм.
Впрочем, дальше все шло хорошо до той минуты, пока священнослужитель не взял с престола большую Библию и, держа ее перед собой обеими руками, направился мимо алтаря к кафедре. Тут Хрящ явственно зарычал. Священник остановился.
Мы, и только мы одни, мгновенно поняли, в чем дело. Формой и размером Библия походила на куски дерна, которыми мы обычно, развалясь на солнышке, забавы ради запускали в пса, чтобы поглядеть, как ловко он увертывается.
Мы затаили дыхание. Как тут быть? Первым нашелся наш предводитель Джеф Бриге, красавец парень с золотыми усами северного викинга и с кудрями Аполлона. Красота придавала ему уверенности, а самомнение делало его снисходительно любезным; он преспокойно встал и шагнул к алтарю.
— На вашем месте я бы малость обождал, сэр, — молвил он почтительно. — Сейчас он тихо–мирно выйдет отсюда, вот увидите.
— А в чем дело? — не без тревоги спросил священник.
— Он думает, сэр, вы вроде нас — ни с того ни с сего возьмете да и кинете в него книгой.
Лицо у священника стало озадаченное, но он не двигался и так и стоял с Библией в руках. Хрящ поднялся, прошел с десяток шагов по приделу, потом сорвался и исчез — будто рыжая молния мелькнула!
Упрочив таким образом свою славу, Хрящ скрылся на целую неделю. К концу недели мы получили учтивое послание от судьи Престона; собака совсем прижилась у него в доме, писал он; понятно, он не просит нас окончательно отказаться от наших общих хозяйских прав на столь ценное животное, но, может быть, мы разрешим оставить его в Спринг Вэли на неопределенный срок; и сам судья и его дочь, с которой Хряща соединяют узы старой дружбы, будут рады, если мы в любое время навестим своего любимца и сами убедимся, что ему живется недурно.
Боюсь, что столь искусно закинутая приманка и заставила нас в конце концов уступить. Правда, те, кто навещал Хряща, рассказывали чудеса; слушая их, мы только диву давались. Пес живет в роскоши, валяется на коврах гостиной и даже укладывается под письменным столом в кабинете у самого судьи, ночью спит на коврике за дверью спальни мисс Престон, днем полеживает на лужайке перед домом и от нечего делать ляскает зубами на мух.
— Он как был рыжий, так и остался, — рассказывал один из очевидцев. — А все равно его не узнать, даже не верится, как это мы швыряли в него для потехи дерном да грязью да глядели, как он отряхивается.
А теперь я вынужден поведать горькую истину, хоть и знаю, что мне не поверят — уж конечно, на меня ополчатся все любители собак и яростно залают все собаки, хранящие верность хозяевам со времен Улисса. Бесстыжий рыжий пес не только забыл нас, он просто не пожелал больше с нами знаться! Тех, кто являлся в дом судьи в городской одежде, он, бывало, еще соизволит заметить, да и то фыркает, будто презирает самое их существо, скрытое нарядной оболочкой. А остальных даже взглядом не удостаивал. Когда‑то, в редкие минуты нежности, мы дружески называли его Хрящиком — теперь он и на это не откликался. Думаю, кое–кого из молодых это обижало, и, однако, по необъяснимой слабости человеческой натуры, вся Змеиная гора стала относиться к нему куда уважительней. Впрочем, как раз когда он вовсе перестал обращать на нас внимание, в разговорах с посторонними мы начали отзываться о нем весьма бесцеремонно. Увы, мы даже всячески старались подчеркнуть, что он разжирел, стал неуклюж и неповоротлив: тем самым мы намекали, что выбор его был ошибочен и жизнь не удалась.
Год спустя он помер, в ореоле святости и благопристойности: утром его нашли на коврике за дверью мисс Престон, свернувшегося в клубок и уже окоченевшего. Нас об этом известили, и, так как наш поселок в ту пору процветал, мы попросили разрешения воздвигнуть на могиле надгробный камень. Но, когда понадобилось сочинить надпись, мы только и додумались повторить те два слова, которые когда‑то шепнула мисс Цветик и которые, вне всякого сомнения, обратили рыжего пса на путь истинный:
«Хорошая собака!»
МАТЬ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ
Хотя ей самой едва исполнилось девять лет, она была матерью, и довольно примерной матерью, пятерых детей. Двоих из них, близнецов, она называла «детьми мистера Эмплака», имея в виду весьма почтенного джентльмена, который жил в соседнем поселке и, смею думать, никогда в глаза не видал ни ее, ни их. Близнецы, как им и положено, ничем не отличались друг от друга (поскольку в прежней своей жизни были двумя кеглями) и ниже плеч в своих длинных балахонах выглядели как‑то странно, словно их начали делать да бросили; зато головы у них были крепкие и круглые, и очень многие открыто заявляли, что видят в этом несомненное сходство с их предполагаемым отцом. Остальными детьми были куклы разного пола, возраста и вида, но лишь о близнецах можно было определенно сказать, что это — ее собственное произведение. Помимо прочих своих достоинств, она была на редкость беспристрастной матерью и относилась к ним ко всем одинаково. «Дети Эмплака» — это была только примета, которая никаких преимуществ не давала.
Сама она росла без матери, с отцом, Робертом Фоуксом; он был работящий возница на почтовом тракте между Большим Поворотом и Рено, но при этом довольно беспомощный родитель. Ежедневно он пускался в путь в своем фургоне — и, если дочь не сидела неотлучно рядом с ним на козлах, нередко ее потомство оказывалось рассеянным вдоль всей этой дороги. Однако с помощью грубых, но добрых рук, уже привычных к обращению с ее детьми, семья опять собиралась вместе. Я хорошо помню, как Джим Картер ввалился в салун, прошагав по сугробам пять миль с одним из близнецов в кармане.
— Не грех бы нашей Мэри получше глядеть за детьми Эмплака, — проворчал он. — Я подобрал одного на снегу в миле за Большим Поворотом.
— Вот те на! — воскликнул случайный пассажир. — Я и не знал, что мистер Эмплак женат!
Джим хитро подмигнул нам, отхлебывая из стакана.
— Я и сам не знал, — проворчал он. — Нам отсюда не видать, чем там занимаются эти почтенные богомольные болтуны.
Расправившись таким образом с репутацией Эмплака, этот мошенник позднее, наедине с Мэри (или Мэй- ри, как она себя называла), постарался ее разжалобить и до тех пор расписывал, как мучился ее младенец в сугробе, как он из последних силенок звал: «Мэйри! Мэйри!» — пока на ее голубые глаза не навернулись слезы.
— Это тебе урок, —сказал под конец Джим Картер и проворно вытащил кеглю из кармана, — мне ведь пришлось влить в него чуть не кварту самого лучшего виски, чтобы он очухался.
Мэри не только поверила каждому его слову, но еще недели три держала злополучного Джулиана Эмплака в постели, и поговаривали, что после такого героического лечения он стал выпивать.
Ее многочисленное семейство разрослось всего лишь за два года после появления первого ребенка, приобретенного за приличную цену в Сакраменто неким мистером Уильямом Доддом, тоже почтовым возницей, и подаренного Мэри в день, когда ей исполнилось семь лет. Она назвала этого ребенка Бедолагой, быть может, кто знает, по–матерински провидя его будущую судьбу. Поначалу это была огромная кукла (мистер Додд за свои деньги желал получить побольше), однако время и, возможно, чрезмерная материнская забота исправили этот недостаток, и она довольно быстро сбавила в весе и лишилась некоторых не очень нужных частей тела. Потом, когда она упала под колеса фургона и по ней проехал целый обоз, она еще уменьшилась в размере, но больше всего пострадали у нее голова и плечи: румянец облупился и отслаивался толстыми пластами, так что бедняжку стало не узнать. Это продолжалось до тех пор, пока голова и плечи не оказались слишком малы даже для ее отощавшего тела, и никакие ухищрения малолетней модистки не могли скрыть это уродство — ни шаль, накрепко приколоченная гвоздиками, ни шляпка, которая никак не сидела на месте и все время сползала то на лоб, то на затылок. А в одно ужасное утро, после необдуманного купания, верх совсем отвалился, и прямо из позвоночника остались торчать два отвратительных железных стержня. Даже Мэри при всем своем богатом воображении не в силах была принять эти железки за голову. Попозже в тот же день перед кузницей Джека Роупера, что на Перекрестке, появилась заплаканная девчушка в передничке, таком же ярко–голубом, как и ее глаза, — она прижимала к груди свое обезображенное детище. Кузнец узнал ее и сразу все понял.
— А у тебя дома не найдется другой головы, завалящей какой‑нибудь? —сочувственно спросил он.
Мэри печально покачала головой. Детей у нее было много, но по отдельности рук, ног и прочего она не заводила.
— И совсем ничего подходящего нету? — участливо допытывался кузнец.
Глаза любящей мамаши наполнились слезами.
— Нет, ничего нету!
— А может, перевернуть ее вверх тормашками? — задумчиво продолжал Джек Роупер. Воображение истинного художника подсказало ему выход. — Из этих железок получатся отличные ноги. Смотри‑ка… — Он коснулся двух торчащих стержней и уже хотел было перевернуть куклу вверх ногами, но тут девочка испуганно, чисто по–женски ойкнула и поспешно удержала его бестактную руку.
— Вон как! —понимающе сказал Джек. —Тогда приходи завтра утром, и мы что‑нибудь придумаем.
Весь день он был задумчив, больше обычного злился на упрямых мулов, которых привели подковать, и даже кончил работу на час раньше, чтобы сходить к Большому Повороту и заглянуть в кузницу своего конкурента. А наутро полная надежды и тревоги мать семейства появилась на его пороге — и вскрикнула от восторга. Джек искусно приклепал к двум торчкам пустой чугунный шар, выломанный из перил какой‑то старой лестницы, и покрыл его красной огнеупорной краской. Румянец, конечно, получился несколько лихорадочный, и младенец все время норовил перекувырнуться, и ясно было, что другим куклам дорого обойдется соседство чугунной головы и жестких плеч, но ничто не могло омрачить радость Мэри при виде ее обновленного первенца. Даже совершенное отсутствие физиономии — не такой уж недостаток в семье, где черты лица столь непостоянны; зато всякий, кто мало–мальски знаком с законами эволюции, мог видеть, что дети Эмплака состоят в кровном родстве с круглоголовой Бедолагой. Мне кажется, на какое‑то время она даже стала любимицей Мэри. Приятно было посмотреть, как в летний день сидит она где‑нибудь на пеньке у дороги и, слегка покачиваясь, напевает заунывную колыбельную песню; остальные дети послушно расселись вокруг, а жесткая, бесчувственная голова Бедолаги крепко прижата к полному нежности сердечку. Не удивительно, что пчелы охотно подхватывали эту песню и сами сонно гудели ей в лад, а высоко над головой горный ветерок чуть покачивал густые макушки могучих сосен, и от этого (а может быть, и не от этого) солнечные зайчики вперемежку с тенями скользили по чугунному лицу, пока девочке, смотревшей на него со всей силой животворящей любви, не начинало казаться, что оно улыбается.
Остальные двое детей ничем особенно не отличались. Глориана была просто куском брезента с крыши фургона, скатанным в трубку и в двух местах перетянутым так, что получились шея и талия — жалкое подобие человека с грубо намалеванным чернилами лицом; ее смастерил отец, он же и окрестил ее, а Мэри произносила ее имя как два: Глори–Анна. И, наконец, Красавчик Джонни — подозревали, что он изображает некоего Джона Доремаса, молодого лавочника, который изредка угощал Мэри леденцами. Но Мэри никогда в этом не признавалась, и мы, люди тактичные, делали вид, что ничего не замечаем. Поначалу Красавчик Джонни был гипсовым бюстом — френологической моделью, которую для Мэри выпросили с витрины магазина в окружном городе; туловище она, очевидно, приделала сама. Не к добру она всегда наряжала эту куклу мальчиком, и из всего ее потомства он больше всех походил на человека. И правда, несмотря на то, что его лысую белую голову испещряли четкие надписи, он был совсем как живой. Иногда Мэри сажала его верхом где‑нибудь на ветке придорожного дерева, а потом забывала, и, говорят, завидев его, проезжие поспешно соскакивали с лошади, чтобы его рассмотреть, а возвращаясь в седло, задумчиво улыбались, и всем памятно, как Юба Билл, уступая настоятельной просьбе любопытных пассажиров, остановил почтовую карету и хмуро водворил Красавчика Джонни на козлы рядом с собой, а доехав до Большого Поворота, при всех вручил его Мэри, ужасно ее смутив, — никогда еще мы не видели, чтобы ее круглые загорелые щеки заливал такой яркий румянец. Может показаться странным, что, хотя ее все любили и все знали, какая она чадолюбивая мамаша, ей не надарили кучу настоящих, более приличных кукол, но очень скоро выяснилось, что восковые лица, закрывающиеся глаза и локоны из пакли вовсе ей не по душе, и она нарочно забывает дареных кукол в канавах или раздевает и наряжает в их платья своих несуразных любимцев. Вот почему строгий классический профиль Красавчика Джонни выглядывал из‑под модной девичьей соломенной шляпки, полностью скрывавшей его выдающиеся умственные способности, а на круглых головах близнецов Эмплака красовались дамские чепцы; известна даже попытка натянуть на чугунную голову Бедолаги парик из кудели. Куклы Мэри были ее собственным творением, и чем больше фантазии она в них вкладывала, тем больше к ним привязывалась. Возможно, кое–кому покажется странным, что при этом она то и дело забывала их в лесу или в канаве. Но Мэри полагалась на материнскую доброту Природы и вверяла своих детей Великой Матери так же свободно, как вверялась ей сама в своем сиротстве. И доверие это редко бывало обмануто. Крысы, мыши, улитки, дикие кошки, пантера и медведь никогда не трогали позабытых младенцев. Даже стихии относились к ним милостиво: один из деревянных размалеванных близнецов, погребенный под снегом на высоком холме, весной снова появился, как ни в чем не бывало, цел и невредим. Мы все тогда были пантеистами и свято верили Природе. А вот когда приходилось стать лицом к лицу с начатками цивилизации, тут Мэри было чего опасаться. Впрочем, когда коза Петси О Коннора решила попробовать, какова Бедолага на вкус, ей пришлось отступить, не досчитавшись трех передних зубов, а Томпсонов мул вышел из схватки с этим чугунноголовым чудищем, обломав копыто и растянув связки на задней ноге.
И все же то были райские денечки на дороге между Большим Поворотом и Рено, а потом пришли прогресс и процветание и — увы! —принесли с собой перемены. Начались разговоры, что Мэри, дескать, должна учиться, а мистер Эмплак, попечитель Даквилской школы (к счастью, он все еще не подозревал, что имя его поминают всуе), заявил, что бродячая жизнь Мэри — это позор для всего округа. Ведь она росла в невежестве, в ужасающем невежестве и знала лишь рыцарскую преданность, глубокую нежность, деликатность и отзывчивость грубых людей, ее окружавших, и свято верила лишь в Природу, безгранично милостивую к ней и ее детям. Конечно, не обошлось без горячих споров между холостыми парнями с дороги и немногочисленными семейными обитателями поселка, но прогресс и цивилизация, разумеется, взяли верх. Все решилось, когда в наших краях стали проводить железную дорогу. Роберту Фоуксу, назначенному десятником участка, дали понять, что его дочери непременно надо учиться. Но оставался еще роковой вопрос о ее семействе. С такой разноплеменной оравой ни одна школа на порог не пустит, а если ее детей просто–напросто выкинуть или предать торжественному сожжению, сердце Мэри будет разбито. Все спасла находчивость кузнеца Джека Роупера. Мэри разрешили взять с собой в школу одного ребенка, любого на выбор; остальных усыновят ее друзья, а она будет только навещать их каждую субботу вечером. Выбор был для нее жестоким испытанием; хорошо зная любовь Мэри к ее первенцу Бедолаге, мы ни за что не хотели ей мешать, но, когда она неожиданно выбрала Красавчика Джонни, даже самый неискушенный человек понял: вот они, первые проблески женского чутья, первая уступка правилам и приличиям нового для нее мира. Красавчик Джонни, бесспорно, выглядел пристойнее других, его шишковатый, расчерченный череп наводил на мысль о том, что он даже не чужд общему образованию. Приемные отцы ревностно исполняли свой долг. Даже годы спустя кузнец все еще, как святыню, хранил на самодельной полке у кровати чугунноголовую Бедолагу, и никто, кроме него и Мэри, так и не узнал о тайных волнующих свиданиях в первые дни разлуки. Однако о верности Мэри другим детям все же кое‑что стало известно. Рассказывали, как однажды субботним вечером, когда управляющий новой линией железной дороги сидел у себя в кабинете в Рено и вел деловую беседу с двумя членами правления, кто‑то осторожно постучал. И в дверях показалась полная нетерпения детская мордашка, голубые глаза и голубой фартук. К изумлению присутствующих, лицо управляющего неузнаваемо переменилось. Он ласково взял девочку за руку, подвел ее к своему столу, заваленному чертежами новой железнодорожной линии, выдвинул ящик и вынул оттуда большую кеглю, непонятно почему наряженную куклой. Оба джентльмена изумились еще больше, когда услышали странный разговор между управляющим и девочкой.
— Ей уже гораздо лучше, несмотря на скверную погоду, но я еще не рискую выпускать ее на улицу, — сказал управляющий, придирчиво оглядывая кеглю.
— Да, да! — живо откликнулась Мэри. — Вот и Красавчик Джонни по ночам ужасно кашляет. А Бедолага здорова. Я только что от нее.
— Вокруг много случаев скарлатины, — со сдержанной тревогой продолжал управляющий, — лишняя осторожность не помешает. Но завтра утром я все‑таки хочу прокатить ее по линии,
Глаза Мэри заблестели и наполнились слезами, как два голубых озерка. А потом — звук поцелуя, тихий смех, быстрый, пугливый взгляд в сторону любопытных незнакомцев, голубой фартук порхнул за дверь, и разговор оборвался. Она не забывала навестить ни одного из своих детей; лишь тряпичную малютку Глориану, которая обрела свой дом в лачуге Джима Картера на Перевале, слишком далеко, чтобы навещать ее ежедневно, Джим каждую субботу вечером привозил к Мэри, засунув спящую в переметную суму или галантно посадив впереди себя на луку седла. По воскресеньям Мэри устраивала торжественный смотр всем своим куклам, и всю следующую неделю воспоминание об этом скрашивало их разлуку.
Но настала такая суббота, а потом и воскресенье, когда Мэри не появилась, и на дороге узнали, что ее увезли в Сан–Франциско повидаться с теткой, только что приехавшей с Востока. Пустым и нерадостным было это воскресенье для наших парней, им очень не хватало привычной маленькой фигурки. Следующее воскресенье, а за ним и еще одно были и того хуже; а потом стало известно, что зловредная тетка полюбила Мэри и посылает ее в роскошную школу при женском монастыре в Санта–Клара, откуда, по слухам, девочки выходят уж до того благовоспитанные, что их не узнают даже собственные родители. Но мы‑то знали, что с нашей Мэри этого не случится, и письмо, которое пришло от нее в конце месяца, перед тем как ворота женского монастыря закрылись за голубым фартучком, утешило и успокоило наши истосковавшиеся сердца. В этом письме мы сразу узнали свою Мэри; она не обращалась ни к кому в отдельности, и, если бы не тетка, оно было бы сдано на почту незапечатанным и без адреса. Все письмо уместилось на одном листочке, который, не говоря ни слова, передал нам ее отец; однако, когда мы его прочли, нам все стало понятно, мы словно услыхали голос нашей далекой подружки:
«Домов во Фриско не счесть и женщин видимо–невидимо, а мулы и ослы неподкованные, и нигде ни одной кузницы не видать. Белок, кроликов, медведей и пантер тут вовсе и не знают, кругом одни улицы да воскресные школы. Джим Роупер, раз меня там нет, ты будь подобрее с Бедолагой и не сердись на нее, что у нее голова перевешивает, ты всегда сердишься, только это все неправда, меня даже зло берет. А у меня есть желтенькая канарейка и как поет, вы, верно, думаете, это овсянка, а это совсем даже не овсянка, я раньше таких не видала. Дорогой мистер Монтгомери, не держите Жулана Эмплака все время взаперти, ему это вредно. И не мажьте ему голову чернилами, а то вы все озоруете, знаю я вас! Красавчик Джонни, ты смотри слушайся приемного отца, а ты, Глори Анна, люби доброго Джимми Картера очень–очень, ведь он всегда катает тебя на лошади. Я каталась в коляске с одним офицером, который взаправду убивал индейцев. Скоро я вернусь домой, любящая вас, так что ведите себя хорошо, не балуйте».
Но приехала она только через три года, и письмо это было последним и единственным. Однако приемные отцы ее детей были верны своему слову, и, когда открылась новая линия железной дороги и они узнали, что Мэри вместе с отцом будет присутствовать на торжестве, они, не сговариваясь, все как один пришли на станцию, чтобы встретить свою старую подружку. Они выстроились вдоль платформы, бедняга Джек Роупер даже скособочился от тяжелого свертка, который был у него в левой руке. А потом из вагона выпорхнула юная особа, сияющая свежестью своих двенадцати лет, в ослепительном муслиновом платье, точно на картинке, хоть еще и коротеньком, в безупречных башмачках и перчатках, и подала белую ручку по очереди каждому из своих прежних друзей. Улыбка на этом лице, которого больше не касался загар, была самая очаровательная, ясные голубые глаза смотрели открыто и приветливо. И все же, когда она грациозно повернулась и ушла со своим отцом, лица у всех четверых приемных отцов были такие же красные и растерянные, как когда‑то у нее самой в тот день, когда Юба Билл при всех вручил ей забытого Красавчика Джонни.
— Неужели вы сдуру притащили с собой Бедолагу? — спросил Роупера Джек Монтгомери.
— Ну а как же! — ответил тот с принужденным смешком. — А вы?
Он уже заметил, что из кармана управляющего выглядывает кегля. Все четверо усмехнулись и молча разошлись.
Мэри, как и обещала, вернулась к ним, но пятеро детей так и не дождались своей матери.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«САРА УОКЕР» («Sarah Walker»). Напечатано в сборнике 1885 г. «Вдоль берега, в осоке» («By Shore and Sedge»).
Этот рассказ бытового и юмористического содержания, действие которого начинается в США, заканчивается остросатирическим эпизодом, характерным для всего цикла рассказов Гарта об американцах в Европе.
«МИЛЛИОНЕР ИЗ СКОРОСПЕЛКИ» («А Millionaire of Rough‑and‑Ready»). Напечатано в одноименном сборнике 1888 г. («А Millionaire of Rough‑and‑Ready and other Stories»).
«ДРУГ КАПИТАНА ДЖИМА» («Captain Jims Friend»). Напечатано в одноименном сборнике 1889 г. («Captain Jims Friend and other Stories»).
«ДЕДЛОУСКОЕ НАСЛЕДСТВО» («The Heritage of Dedlow Marsh»). Напечатано в одноименном сборнике 1890 г. («The Heritage of Dedlow Marsh and other Stories»).
Направляя рассказ английскому художнику–графику А. Бойду, постоянному иллюстратору его произведений, Брет Гарт писал: «Я немало потрудился, чтобы воссоздать Дедлоуское болото. Я жил поблизости в течение трех лет, когда был много моложе и впечатлительнее. Действующие лица списаны с живых людей, какими они мне казались в ту пору…» Речь идет об окрестностях Юнионтауна, где молодой Гарт жил в 1857—1860 годах. Впервые Дедлоуское болото описано в раннем рассказе Гарта «Наводнение на болоте».
«ПОЧТМЕЙСТЕРША ИЗ ЛОРЕЛ-РЭНА» («The Postmistress at Laurel‑Run»). Напечатано в сборнике 1892 г. «Клиент полковника Старботтла» («Col. Starbottles Client and other Stories»).
«СТАРУХА» ДЖОНСОНА» («Jonsons Old Woman»). Напечатано в том же сборнике.
«НОВЫЙ ПОМОЩНИК УЧИТЕЛЯ В ПАЙН–КЛИРИНГЕ» («The New Assistant at Pine Clearing School»). Напечатано в том же сборнике.
«САЛЛИ ДАУС» («Sally Dows»). Напечатано в одноименном сборнике 1893 г. («Sally Dows and other Stories»).
В этой небольшой повести об американском Юге после Гражданской войны Брет Гарт использует личные впечатления, которые получил во время поездки с лекциями по южным штатам в 1874 году. Он был глубоко озадачен экономическим развалом Юга и удручен общей атмосферой упадка и безнадежности. Взгляд писателя на тогдашнюю политическую ситуацию на Юге, отраженный в двух больших письмах к жене от 7 и 8 ноября 1874 года, нельзя счесть вполне правильным; он преувеличивает готовность южан политически разоружиться, а также недооценивает политическую активность и экономические возможности освобожденных невольников. Однако Брет Гарт был твердым сторонником Севера и убежденным врагом плантаторства; историческая ценность его повести — в живых и острых зарисовках послевоенного Юга.
«НАИВНОЕ ДИТЯ СЬЕРРЫ» («An Ingenue of the Sierras»). Напечатано в сборнике 1894 г. «Питомица Джека Гемлина» («А Protegee of Jack Hamlin and other Stories»).
«НАСЛЕДНИК МАК–ГУЛИШЕЙ» («The Heir of Mc Hulishes»). Напечатано в том же сборнике.
В лице американского консула в Сент–Кентигерне (Глазго) Брет Гарт выводит самого себя; с большим юмором он рисует доставлявшую ему частые беспокойства в годы консульской службы манию американцев добиваться якобы принадлежащих им английских титулов и поместий.
«ЗВОНАРЬ У АНГЕЛА» («The Bell Ringer of Angels»). Напечатано в одноименном сборнике 1894 г. («The Bell Ringer of Angels and other Stories»).
«ДЖИМ УИЛКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОТЧИЙ ДОМ».
Напечатано в том же сборнике.
«ЧУ–ЧУ» («Chu‑Chu»). Напечатано в том же сборнике.
Первый из цикла рассказов, в котором Гарт в эти поздние годы в Англии обращается к своим самым первым калифорнийским впечатлениям. Биограф Гарта Дж. Стюарт, указывающий на автобиографизм этих рассказов, отмечает, что название городка Энсиналь (что по–испански значит «дубовая роща») соответствует английскому Окленд; в Окленде, поблизости от Сан- Франциско, молодой Брет Гарт жил в 1854 году, когда приехал в Калифорнию. Имя рассказчика Панчо — испанское уменьшительное от Франциско; так называли молодого Брета Гарта его испанские друзья. Последующие рассказы того же цикла: «Влюбленный Энрикес», «Уход Энрикеса» и — частично — «Что случилось в Фонде?».
«ВЛЮБЛЕННЫЙ ЭНРИКЕС» («The Devotion of Enriquez»). Напечатано в сборнике 1896 г. «В лощине среди холмов» («In а Hollow of the Hills»).
«СЧАСТЛИВЕЦ БАРКЕР» («Barkers Luck»). Напечатано в сборнике 1897 г. «Предки Питера Асорли» («The Ancestors of Peter Atherly and other Stories»).
«РЫЖИЙ ПЕС» («The Yellow Dog»). Напечатано в том же сборнике.
«МАТЬ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ» («А Mother of Five»). Напечатано в том же сборнике.
1
семья известных американских миллионеров
(обратно)2
Разбитая колонна — принятая в Англии и Америке кладбищенская эмблема рано оборвавшейся жизни.
(обратно)3
Крупного калибра пистолет американского образца.
(обратно)4
Блуждающего огня (лат.).
(обратно)5
Риата — длинная веревочная уздечка
(обратно)6
Дон Кихот — герой романа испанского писателя Сервантеса (1547 — 1616) «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Имя Дон Кихота стало нарицательным для обозначения человека, чье благородство, великодушие и готовность на подвиги вступают в трагические противоречия с действительностью. Росинант — имя лошади Дон Кихота
(обратно)7
Гидальго (идальго) — рыцарь в средневековой Испании
(обратно)8
Нимфы — в греческой мифологии — божества, живущие в реках, морях, горах, рощах
(обратно)9
Родео — ковбойские спортивные состязания, включающие укрощение дикой лошади или быка
(обратно)10
Слуга (исп.).
(обратно)
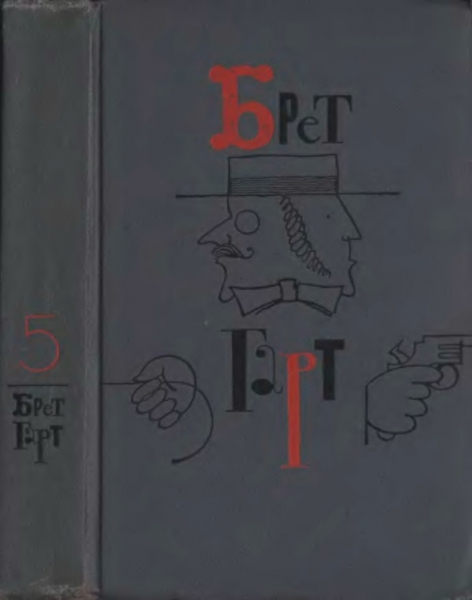

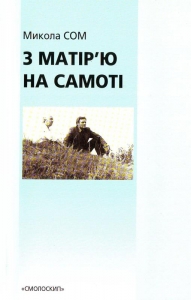
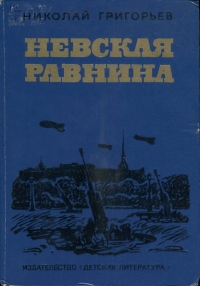


Комментарии к книге «Брет Гарт. Том 5. Рассказы 1885-1897», Фрэнсис Брет Гарт
Всего 0 комментариев