Яков Филиппович сказал:
— Пора. За сырую шкуру дают до сорока рублей. Будем резать Умку.
В октябре бесснежный злой мороз превращал грязь на дорогах в непроходимые каменные торосы. То и дело над поселком играла выставленная в окна музыка — по дворам убивали собак. Колька Хрыщатый, ветеринарный фельдшер, вторую неделю к ужасу старух шатался по улицам в задубевших от крови штанах и к полудню уже бывал пьян в смертельную. Поселок била лихорадка наживы: подпольный скорняк в районном центре скупал на шапки содранные собачьи шкуры. Женщины были возбуждены и перекликались из–за заборов. Коты растаскивали по дворам сиреневые серпантины внутренностей. Спешили. Катили ноябрьские праздники, а с ними торговая ярмарка. Яков Филиппович сонно ждал, подстерегая верхний край хозяйской выгоды, и в последнее воскресенье октября сказал: пора!
Шура у кухонной плиты споткнулась дыханием и развернулась к столу. Брошка жарко заходила у нее на груди.
— Наконец–то! Давно уж посвозили все. Только мы и сидим.
Нагнувшись к окошку, она выглянула в пыльное стекло.
— Бегает, сотона… Хвост не опускает… Уж я устала кобелей с огорода гонять.
Вдруг Шура мешком осела на табурет и всхлипнула:
— Ой, не могу!.. Сколько уж их было, а я каждый раз не могу. Характер до невозможности чувствительный. Да, Яш?
Солнце косо било в окошко и томило глаза.
Яков Филиппович резал ножичком розовое сало и продолжительно жевал его вместе с желтоватой подванивающей шкуркой. Он не знал в себе суеты. Он был по–малоросски нетороплив и презрителен. Шурино хозяйство обещало расцвести при нем тугими тысячными доходами.
Шура не посмотрела на меня, но знакомый злой огонек замерцал в ее глазах.
— Колька, скотина, озверел совсем, — угрожающе заметила она. — Самодельное уже не пьет, белую головку ему подавай. Те, которые с мужиками в дому, не зовут его, если помощник имеется.
Было душно на кухоньке и пыльно. Последняя синяя муха вяло билась между окнами.
— Нет, — сказал я и поднялся, чтобы уйти. — Нет, Шура.
Снимаемая мною комната в шурином доме была сиротлива и убога. Книги на полке, любимые и нелюбимые, казались ненужными теперь и смешными. Пылилась на столе бумага. Я оглядел углы, кровать и пишущую машинку, и вышел во двор.



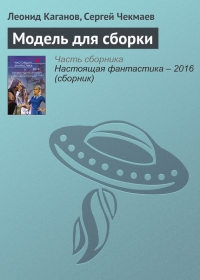
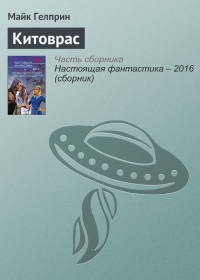

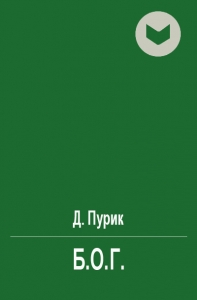
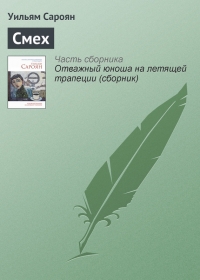
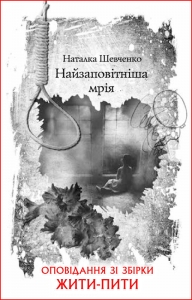


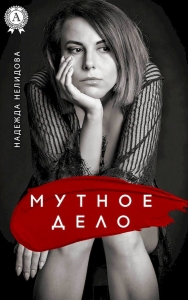
Комментарии к книге «Умка», Павел Верещагин
Всего 0 комментариев