Хорхе Луис Борхес В кругу развалин
And if he left off dreaming about you… [1]
Through the Looking-Glass, IVНикто не видел, как он приплыл в литой темноте; никто не видел, как бамбуковый челнок погружался в священную топь, но уже через несколько дней все вокруг рассказывали, что молчаливый человек прибыл с юга и родился в одной из бесчисленных деревушек вверх по реке, на безжалостных кручах, где язык зенд [2] не затронут греческим и редко встретишь проказу. А на самом деле седой человек пал на топкую кромку, вскарабкался по склону, не отводя (и, видимо, не замечая) раздиравших тело колючек, и, шатаясь и кровоточа, дотащился до круглого сооружения, когда-то цвета пламени, а теперь – пепла, которое венчала каменная фигура то ли тигра, то ли коня. Здание было храмом, чьи стены изуродовали давние пожары и осквернили болотные заросли, а божество уже много лет не принимало людских почестей. Чужак рухнул у цоколя. Разбудило его высоко стоявшее солнце. Он безучастно убедился, что раны зарубцевались, прикрыл поблекшие глаза и снова уснул – не по слабости плоти, но усилием воли. Теперь он знал, что именно этот храм и нужен для его несокрушимого замысла, знал, что бессчетные деревья вниз по реке все-таки не стерли развалин другого, подходящего для его целей храма, чьи боги тоже обуглены и мертвы; знал, что первейшая забота сейчас – сон. Глубокой ночью его разбудил безутешный крик птицы. По следам босых ступней, смоквам и кувшину рядом он понял, что окрестные жители почтительно следили за сном пришельца, ища его покровительства и опасаясь колдовства. Он похолодел от страха и, отыскав в щербатой стене погребальную нишу, залез в нее и укрылся неизвестными листьями.
Ведший его замысел был хоть и сверхъестественным, но не безнадежным. Он намеревался создать во сне человека: создать во всей филигранной полноте, чтобы потом приобщить к действительности. Этот колдовской план поглощал его целиком: поинтересуйся кто-нибудь его именем или какой-то деталью из прежней жизни, и он бы, пожалуй, не «разу ответил. Разрушенный и безлюдный храм вполне устраивал чужака, как и соседство земледельцев, взявшихся удовлетворять его скромные аппетиты. Подношений из риса и плодов с избытком хватало телу, отданному единственной заботе – спать и грезить.
Сны были вначале сумбурными и лишь понемногу обрели связность. Пришелец видел себя посреди круглого амфитеатра, чем-то напоминавшего сожженный храм: тысячи молчаливых учеников томили ряды скамей; лица сидящих на последних проступали в бесконечной дали и уже на высоте звезд, но рисовались в мельчайших подробностях. Он читал лекции по анатомии, космографии, магии; они усердно слушали и старались отвечать толково, словно понимая важность испытания, которое освободит одного из них от бесплодного и призрачного удела, сделав реальным. И во сне, и наяву наставник взвешивал ответы своих видений, не позволяя себя провести плутам и угадывая в замешательстве иных пробуждающийся разум. Он искал душу, достойную причащения к миру.
Ночей через девять-десять он не без горечи признался себе, что от учеников, покорно впитывающих его уроки, ждать нечего – надеяться можно лишь на тех, кто время от времени решается ему осмысленно возражать. Первые, хоть и заслуживают любви и тепла, никогда не поднимутся до уровня личности, последние сумеют несколько больше. Однажды вечером (вечера теперь тоже отводились снам, а бодрствованию – лишь час-другой поутру) он навсегда распустил свою огромную призрачную школу и остался с единственным учеником. Это был молчаливый, смуглый, порою упрямый мальчик с тонким лицом, напоминающим самого сновидца. Внезапное исчезновение однокашников не обескуражило его; успехи, заметные уже после нескольких частных уроков, поразили наставника. Но крах приближался. Однажды человек выкарабкался из топкой пустыни сна, увидел бессмысленный луч заката, который на миг спутал с рассветом, и понял, что не спал. Всю ночь и весь следующий день его изводила невыносимая ясность бессонницы. Он попробовал углубиться в чащу, выбиться из сил, но едва сумел найти в зарослях цикуты несколько минут некрепкого забытья с беглыми полузачаточными видениями. Все было бесполезно. Он попробовал вновь собрать свою аудиторию, но не успел сложить и нескольких поучительных слов, как лица расплылись и стерлись. Почти не смыкаясь, его стариковские глаза горели от злых слез.
Он понял, что придать форму бессвязному, мутящему разум веществу, из которого созданы наши сны, – самая трудная среди задач, выпадающих на долю человека, даже если он постиг все тайны неба и земли; это труднее, чем вить веревку из песка или чеканить бесплотный ветер. Понял, что первый провал был неизбежен. Сновидец поклялся стереть из памяти исполинское наваждение, с самого начала сбившее его с пути, и стал искать другой подход. Но прежде он посвятил месяц восстановлению сил, растраченных в пустом бреду. Он выбросил из головы даже мысль о сновидениях и тут же впал в забытье на добрую часть дня. В редкие минуты, когда сны ему все-таки снились, он старался на них не задерживаться. Чтобы вернуться к замыслу, он дождался полнолуния. На закате омылся в водах реки, почтил небесных богов, произнес заветные звуки всемогущего имени и уснул. Тут же ему представилось бьющееся сердце.
Он видел его – живое, крохотное, затаенное, размером с кулак и цвета коралла, в полутьме человеческой плоти без лица и пола; раз за разом он с терпением и любовью воспроизводил его четырнадцать безоблачных ночей. И с каждой ночью сердце проступало все подробней. Он не касался его рукой, лишь находя, окидывая и порой подправляя глазами. Он обрисовывал, обживал его взглядом, поворачивая то так, то этак, то приближаясь, то отходя. Только после двух недель он обвел пальцем легочную артерию и все сердце целиком, изнутри и снаружи. Создатель остался доволен. Он прервал свой труд на одну ночь, а потом снова представил себе сердце, испросил благословения звезд и принялся за другие части тела. К концу года он дошел до костяка, до глазниц. Самыми трудными оказались неисчислимые волоски на коже. И вот перед ним был весь человек целиком – юноша, пока еще не двигавшийся, не говорящий и не открывающий глаз. Ночь за ночью сновидец любовался им, спящим.
В космогониях гностиков творящие силы замешивают из красной глины Адама, который не держится на ногax [3]; таким же нескладным, грубым и безыскусным, как тот, глиняный, был и этот сновиденный Адам, сработанный кудесником ночь за ночью. Однажды вечером создатель чуть было не разбил свое творение, но удержался. (А лучше бы разбил.) Принеся благодарственные жертвы божествам земли и воды, он пал к изножию фигуры то ли тигра, то ли коня и взмолился о его неведомой поддержке. Тем же вечером изваяние приснилось ему – живое, движущееся: не чудовищный выродок тигра и коня, нет, оба этих диких существа разом, а кроме того, бык, роза и ураган. Многоликий Бог рассказал, что его земное имя – Огонь [4], что в этом круглом храме (и других таких же) ему воздавались почести и приносились жертвы и он в силах своим волшебством оживить сновиденный призрак так, что все, за вычетом сновидца и самого Огня, будут видеть в нем человека из плоти и крови. Он наказал обучить создание обрядам и отправить его в другой разрушенный храм, чьи пирамиды еще сохранились вниз по реке, дабы хоть один голос славил Бога в обезлюдевшем святилище. На этом призрак, приснившийся спящему, очнулся.
Кудесник исполнил наказ. Он посвятил положенный срок (составивший два года) тому, чтобы приобщить новорожденного к таинствам мира и культу Огня. В душе он уже страдал от будущей разлуки. Под предлогом учебы он день за днем продлевал часы, отведенные сну. Взялся переделывать у своего творения правое плечо, как будто не совсем удачное. Иногда его посещало странное чувство, словно все это уже было… И все-таки дни наполняла радость; он закрывал глаза и говорил себе: «Сейчас я встречусь с сыном». А порой: «Мой собственный сын ждет и не сможет жить без меня».
Мало-помалу он приучал его к реальности. Однажды приказал ему водрузить флаг на отдаленной вершине. Поутру флаг полыхал над ней. Устраивал он и другие похожие опыты, раз от разу все рискованней. С горечью он признался себе, что сын готов появиться на свет – и как можно скорей. Той же ночью сновидец впервые поцеловал его – и отправил в другой храм, чьи останки белели вниз по реке, далеко за непроходимой чащей и топью. Но прежде (чтобы тот никогда не догадался, что он лишь призрак, и считал себя обычным человеком) создатель начисто стер из его памяти годы ученичества.
Его удовлетворение и спокойствие перемежались хандрой. В сумерках поутру и на закате он склонялся перед каменным изваянием, воображая, что его призрачный сын, наверно, исполняет эти же обряды в кругу других развалин, вниз по реке; ночью ему не снилось ничего или то же, что всем на свете. Звуки и краски окружающего делались все глуше: как будто далекий сын поглощал крупицы его души. Цель жизни была достигнута, он коротал дни в странном самозабвении. Через какое-то время, которое одни рассказчики измеряют в годах, а другие – в пятилетиях, его разбудили среди ночи двое приплывших по реке: лиц он не различал, а услышал лишь рассказ о человеке из Северного храма, способном чудом ходить по костру, не обжигаясь. Кудесник тут же вспомнил слова Бога. Вспомнил: среди всего населяющего землю только Огонь знает, что его сын – призрак. Воспоминание сначала успокоило, а потом вдруг пронзило его. Он испугался, как бы сын не стал размышлять о своем необыкновенном отличии и ненароком не понял, что он – простая подделка. Быть не человеком, а всего лишь отражением чьего-то сна – какая обидная, мутящая разум участь! Каждый отец беспокоится о детях, которых в замешательстве или радости произвел (а точнее – допустил родиться) на свет; стоит ли удивляться, что кудесник тревожился о будущем сына, жилка за жилкой и черта за чертой созданного им в тысячу и одну затаенную ото всех ночь.
Конец раздумий наступил внезапно, хотя были и предвестья. Сначала (после долгой засухи) – отдаленное, легкое, как птица, облачко над вершиной; потом – небо к югу, тронутое розовым, будто десны леопарда; позже – клубы дыма, проржавившего сталь ночей, и наконец паническое бегство животных. Так повторилось случившееся много веков назад. Развалины храма, посвященного Богу огня, были вновь сметены огнем. Утром без единой птицы кудесник увидел, что он – в кольце стен, охваченных пламенем. На миг он заколебался, не укрыться ли в реке, но сказал себе, что смерть пришла увенчать его старость и освободить от трудов. И шагнул навстречу огненным клочьям. Но они не ужалили тела – они приласкали и обняли его, не опаляя и не пепеля. С облегчением, покорностью и ужасом он понял, что и сам – лишь призрак, снящийся другому.
Примечания
Впервые помещено в сборнике «Сад расходящихся тропок» (1941). Переведено по изданию: PC, I, 435 – 440. Ср. с перев. М. Былинкиной в ПРЛ. В автокомментарии (AOS, 172) Борхес раскрывает замысел новеллы: название возводит к пифагорейской идее циклического времени, сюжет – к опровержению онтологического аргумента Спинозы («нечто может выступать своей собственной причиной»). Новелла может быть рассмотрена как особое прочтение утопической антропологии Бернарда Шоу, воплощенной в философской драме «Назад, к Мафусаилу!» (1919). В пятом акте «У предела мысли» Шоу сближает бергсонианскую Жизненную Силу с творящей идеей, вкладывая мысль об искусственном изобретении людей в уста Пигмалиона («Мне удалось искусственно создать людей»). Как и маг Борхеса, Пигмалион Шоу проходит через долгий опыт неудачного творения людей; как и магу, Пигмалиону не удается достичь полного сходства искусственных людей с живыми («самая совершенная ткань, выраженная нами, не воспринимает столь же высокого напряжения, как продукт естественного развития»); последнее могло натолкнуть Борхеса на сомнение в подлинности Пигмалиона-творца.
В примечаниях мы пользуемся следующими сокращениями: Borges J. L. Obras complеtas. 1923 – 1972. Buenos Aires, 1974. – OC; Borges J. L. Prosa complеta. Barcelona, 1980. – PC; Borges J. L. Textos cautivos. Ensayos y resenas en «El Hogar» (1936 – 1939). Barcelona, 1986. – ТС; Borges J. L. Prologo (con un prologo de prologos). Madrid, 1974. – PPP; Borges J. L. Siete noches. Mexico, 1981. – SN.
Borges J. L. The Aleph and Other Stories (1933 – 1969). Together with Commentaries and an Autobiographical Essay. Ed. by N. T. di Giovanni. London; Picador, 1973. – A OS; Алексеев В. Album romanum. M., 1989. – BA.
1
А если он перестанет грезить о вас… «В Зазеркалье», IV (англ.)
(обратно)2
язык зенд – возможно, отсылка к «Зенд-Авесте», важнейшему источнику зороастризма, а через него – к Зороастру, ницшеанскому Заратустре, намекающему, что деторождение у простых смертных ведет к умалению человека: «Настолько ли ты человек, чтобы иметь право желать ребенка?» (Так говорил Заратустра. Кн. 1. «О ребенке и браке».)
(обратно)3
Намек на голема (см. лекцию «Каббала» и комментарий к ней), способного передвигаться, пока ему в рот раввин не вложит клочок бумаги со священным текстом. Он оживает благодаря магической силе букв.
(обратно)4
Борхес соединяет один из атрибутов Бога в иудейской традиции (Исх. 3:2 – 4) и космогоническую концепцию Гераклита Эфесского (см. комментарий к с. 363).
(обратно)

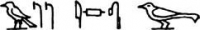






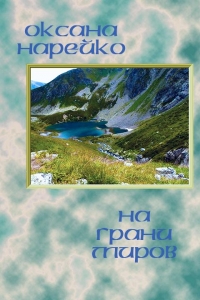


Комментарии к книге «В кругу развалин», Хорхе Луис Борхес
Всего 0 комментариев