Аше Гарридо Видимо-невидимо
C нежностью и братской любовью — Юлии Сиромолот, первооткрывателю ууйхо
Строитель мостов
Эка невидаль — овца… Вон у меня приятель с Белого берега — тот вообще тюлень, а парень отличный: мастер зоркий и за словом в карман не лезет. И положиться на него всегда можно, а в нашем деле это, сами понимаете…
Ну, доброе утро! И ведь плевать, вот как есть плевать, что люди подумают, а сквозь сон каждый раз заново эта песня в голове. Тьфу.
Соседа вот Господь послал, мужик правильный, и подружиться бы не грех, у таких, как мы, соседи редко бывают, а до друзей-приятелей моих отсюда топать и топать, да и нельзя мне отсюда и на миг отлучиться пока. Но сосед мой, видать, правил строгих, на жену мою косится, хоть и делает вид, что оно ему безразлично, да я уж за долгий век нагляделся…
Ставни крепко закрыты, в спальне темно, так что у нас день еще вроде не начался, а Мэри, выбравшись из-под одеяла, шлепает босыми ступнями по полу, шуршит одеждой. Повязала передник, волосы собрала в пучок. А я люблю, когда у нее волосы распущены, хмелем вьются. Я тоже выбираюсь из-под одеяла и вынимаю заколки у нее из волос, и завязку передника тяну… Не успею тебе поесть приготовить, шепчет Мэри и вздыхает. Да что ж я, без рук, что ли? Сам о себе позабочусь, иди ко мне…
Потом уж у самого порога еще поцеловал ее… да на весь день не нацелуешься.
Нельзя ей долго так оставаться, хоть и закрыты ставни, а снаружи-то в нашей Долгой долине белый день. Да и мне мою работу делать нужно: обойти всё, что уже есть, осмотреть хозяйским взглядом, пусть место себя хорошенько запомнит, пусть привыкнет к себе самому, крепче стоять будет.
Толкнул дверь — свет хлынул.
Глаза открыл — уже семенит по зеленому лугу белая овечка, и яблоневый сад над ней бело-розовым облаком стоит.
Каждый день, утром и вечером, обхожу долину, сад, у моста посижу… да мало ли. Всё надо рассмотреть, на каждой мелочи взгляд задержать. Потому что в нашем деле мелочей нет. Каждая травинка, каждый сучок знать свое место должны. А откуда им знать, как не от меня? Вот и напоминаю, приучаю потихоньку. Целый день на ногах, и это еще начало самое, ведь растет место, растет моя земля день ото дня.
Мост отдельной заботы требует. Значит, надо и к нему завернуть, пройтись туда-обратно, пусть и он к своей работе привыкает. На той стороне — сущее безобразие. Но тут уж не моя вина. Я мост к другому берегу тяну, а какой он, тот берег, и не узнаешь, пока не дотянешься. Думал, что-нибудь под стать берегу этому — холмы какие или озерный край… Куда там! Ну, не мне выбирать, не мне и капризничать. И помойке назначение есть в мире, значит и место нужно. Тем более что сосед там порядок наводит не покладая рук.
Иногда вот к соседу забреду, но разговоров душевных у нас не получается: всё больше про погоду. Ну, погода здесь одна и та же на каждый день, и когда еще Дождевой Ао до нас доберется, а своих дождей здесь пока не завелось. Ао придет, когда тут всё хорошо укрепится, потому что сквозь дождь видится всё неясно, может и совсем размыть.
Так вот и иду себе, смотрю по сторонам. И Мэри моя кудрявая следом увязалась. Я и не против: пробежится, травки свежей пощиплет. Утомится — отстанет. Тут у нас без обид, работу мою жена уважает. И я не беспокоюсь, что с ней беда случиться может. Волков у нас еще нет. И пока я здесь — не будет. Потом, может, сами заведутся или придут из других мест. А мне они здесь не нужны. Жена моя…
Есть места, где лучше язычок-то прикусить.
Кто ж виноват, что ее папаша, понесло его поперек путей господних, ляпнул сдуру: овца ты, Мэри, как есть овца! А на закате дело было. Вечерять, значит, они уселись при дороге, а Мэри то ли соль опрокинула, то ли вообще ее в котомку не уложила.
А Клятая пустошь, куда их занесло в недобрый час, место хитрое. Сразу как ничего и не случилось, папаша привычно ворчал, девица привычно терпела… только утром просыпается папаша — а под кустом овечка кудрявая травку щиплет, хвостиком потрусывает, а дочки родной нет как нет.
Что правда то правда, рассеянная она. Бывает, сядем за стол, а ложки-то она положить забыла. И всё смотрит на меня, улыбается: что мол, Хэмиш, не ешь? А мне и слово ей в укор сказать неохота: встану сам, хоть и нашагался за день по долине, не отвалятся ноги, а тут и она вскинется, смутится вся… Рассеянная. А я бы на вас посмотрел, если бы вам каждое утро овцой оборачиваться, а каждый вечер — опять человеком, вот чем бы у вас голова занята была?
Овца, эка невидаль! У моего приятеля с Семиозерья, он сейчас Туманную косу высматривает, вон птица на голове живет, и ничего. Очень даже мужик замечательный, вот уж кому ни мостов, ни дорог проложенных не надо, ходит, где хочет. А тут — овца всего-навсего.
Да за нашего брата не всякая и пойдет. Сегодня муж есть, а завтра — ищи ветра. И добро б навеки сгинул — нет, вернется. Только вот когда вернется, он и сам не знает, не положено ему, а может, просто — не дано. А уж если с нашим братом связалась — и думать не моги другого себе искать. Всё равно ничего не выйдет. Потому что наш брат только в таких местах и женится, где слово крепко, неотменимо. И если сказалась верной женой — верной женой и будешь, а хочешь того, нет ли — это уже дело десятое.
А Мэри всегда знает, когда я вернусь. Вот поставлю дом, разведу сад, мост построю — и сразу в обратный путь, чего мне мешкать? Меня жена милая ждет.
А в этот раз упросила с собой взять. Оно и не положено, но где я ее нашел, то местечко еще покривее здешних будет, Голый склон называется, там не всякий и из наших надолго задержится. Уж как ее туда занесло — ума не приложу, а она не говорит.
Голый склон — он голый и есть, и ничего там больше нет. Но глина там славная, видно, скоро речка народится рядом, вот и берег есть, а где один берег есть — там мне и работа, лучше нет способа второй берег найти, как мостом к нему дотянуться. Так что я туда с двойным прицелом забрел: и на разведку, и глины гончару Семигоричу добыть — Кукунтай-тюлень ему все уши прожужжал, какая там славная глина, а самому пока с Зеленого яру ходу нет. Не устоит пока Зеленый яр без Олеся-гончара. Вот это когда было, еще до его Райдуги.
И вот там, на Голом склоне, я ее встретил. Тьма кромешная, редко где звездочка дальняя пробьется сквозь начальную Тьму, и сидит красавица кудрявая, коленки стиснув, пальцами в глину вцепившись, вздохнуть боится: склон-то крутой, как есть голый, глинистый, скользкий… а кроме склона и нет ничего.
Остался в тот раз Олесь без глины, а я вот — жену нашел. Подошел к ней медленно, чтобы не дернулась с испугу, без привычки в таких местах шевелиться и правда не стоит — запросто в бездну канешь… Заговорил спокойно, ласково. Я мол Мак-Грегор, строитель, а для такой милой девицы — просто Хэмиш, а ты кто? А она в руку мою протянутую вцепилась пальцами перемазанными, глаза безумные, кричит без голоса: ты живой, живой… Эка невидаль — быть живым! У меня приятель на Лежачем камне, так его еще и не со всякой стороны увидишь, потому что вообще плоский, нарисованный. Но какую музыку делает! Душу вытряхнет и вывернет, и уходишь от того камня, как заново родившись. А поживет на том камне еще — и будет живое место, потому что быть живым — это заразно.
Но в таких местах, как Голый склон, пока кто из наших не поселился, и правда жутко бывает…
До чего неприятное место! От одного воспоминания передернуло. Полез в карман за табаком…
Тьфу ты, опять камешек. Этот сумасшедший с птицей на голове так всем и норовит всучить что-нибудь чудесное. Кому гвоздь. Ладно бы, от старой мельницы, так нет, новехонькое скобяное изделие, блестит, ни пятнышка ржавчины — какая в нем сила? Или вот меня камушком осчастливил. Так себе — галечка морская, я уж сколько раз ее из кармана выкидывал, а она всё там же. Ничего, наведается в гости — верну. А пока — выкину.
Раскурил трубочку, дальше себе иду. Мэри за мной.
Вот наша Долгая долина — тоже еще не совсем… Я потому Мэри сюда брать и не хотел, пока не устроюсь. Я-то привычный, я всё вижу, как оно будет, а если смотреть, как оно есть — самому тошно станет. Но я от таких глупостей давно зарекся. Зыбковато здесь пока, и в глазах рябит порой. Как будто вон та яблоня не решила еще, яблоней ей быть или вовсе дубом вековым. Куда ж мне дуб посреди сада? Цвести-то яблоньки будут — загляденье, а плодов не принесут.
Чудит местечко, само себя еще не знает, утром выйдешь на крыльцо… Как-то раз выпустил Мэри на травку, оглядываюсь — чуть со ступенек не покатился. Вот такенная помойка сбоку выросла, то ли нас к ней течением прибило, то ли ее к нам ветром нанесло. Потом уж рассмотрел: к мосту моему наконец тот берег прирос. А на том берегу — подарочек, получите-распишитесь. Помойка! А при помойке — управляющий. Так вот соседом и обзавелись. Правильный мужик, упорный, работяга. Но близко не сошлись пока, уж больно он на ирландца смахивает, так я и не стал ему ничего про нашу с Мэри жизнь объяснять, а что косится он на жену мою, так лучше пусть косится, чем заглядывается.
Я вот в его работе еще до конца не разобрался. Труба торчит, турбина крутится… Да паром как жахнет сверху! Я в первый раз аж ложку уронил, выскочил на крыльцо — Мэри вся трясется. Сосед объяснял про клапан, только мне его механика… Какие-то грузовики откуда ни возьмись поперли, гудят, дорогу расчавкали… Ну, не мой там участок — пусть сосед благоустройством занимается, если ему положено. Мне своих забот хватает. Кстати, договориться бы с соседом насчет обогрева, можно и теплицу поставить.
А у меня работа простая.
Уж если человек строит, он строит. Хоть дом, хоть мост. Ясно, в каждом деле свое отличие. Но у нас ведь главное не руками делается. Важно, чтобы у тебя в душе тот мост крепко стоял, даже не то что верить в него надо, а просто — знать. А камни сложить не так уж и трудно. Я-то сам по этому мосту могу ходить, как только первый камень положил. Я его уже знаю. А другим придется подождать — и не только пока я берега соединю, а пока еще сам мост к себе привыкнет.
И вот иду я так, смотрю по сторонам… хорошо! Обернулся — сад мой издалека видно, крыша сквозь белое едва просвечивает. За садом вот только — помойка, но это если на холм подняться, а так — торчит из-за деревьев труба, да какие-то железки перепутанные, больше и не видно ничего. Но на холм подниматься я сегодня не буду, слишком близко к краю, а Мэри так и не отстала от меня, и если наверх увяжется — увидит, как из-под травяных корней, в бездну спущенных, сочится чернота. Незачем ей на это смотреть.
Так вот стоял я, раздумывая, направо или налево от холма повернуть, а Мэри моя уже на холм взбежала и замерла там, испуганная, и хочет обратно спуститься, и страшно к бездне спиной повернуться… И тут у соседа как жахнет… да не так, как обычно, погромче, и земля моя зыбкая под ногами волной пошла, и край ее как бы завернулся, и снова дрогнуло… и оторвался край — и понесло его прочь, от меня, а на том краю Мэри моя.
А как отнесло на пять шагов — свет здешний до того клочка уже не достает, и Мэри застыла над бездной, алой свечой в темноте, только пустота текучая волосы хмелёвые ее колышет… Вытянулась, зажмурила глаза, кулаки к бедрам прижаты. И плывет от меня в пустоте, навеки от меня ее уносит, и сгинет…
И мне до нее уже не дотянуться.
И стоял я на самом краю моей земли, и смотрел, как уплывает от меня моя жена. И стукнуло: что ж ты, строитель? Мост! Вот ты на одном берегу, вот берег другой, да поторопись, потому что размывает его пустота, тают травинки в чернилах небытия. К самому подолу алому уже подступила бездна.
Но мост начинается с первого камня, и пойти по нему только я смогу, а мне уйти — и не вернемся уже. Останемся вдвоем на мосту между берегов, которых нет, и будет нам жизни на три вздоха, а сюда уже не вернуться нам. Ничего здесь не останется, стоит только мне отсюда уйти хоть на миг. Может, помойка и устоит. Только нам от того пользы никакой. Да и камня нет у меня!
Упал на колени, взрыл сухую траву. Нет, тонко все сеется между пальцами.
И вспомнил — как обжегся. Руку в карман… вот зараза, пусто! В другой… галечка морская с берега неведомого, спасение наше.
Я осторожно положил ее под ноги — и носком притоптал для прочности. И сказал жене: мост я тебе построю каменный, прочный, только ты глаз не открывай, а настил из досок дубовых сделаю, и перила… каменные перила будут, не бойся, руку положи… да, вот так.
И она мне поверила, она наклонилась вперед и коснулась рукой… ох, какая разница, чего она коснулась, хоть ничего там не было еще, а она похлопала ладонью, оперлась и сама, моих уговоров не дожидаясь, подвинула левую ногу вперед. Так и вижу голубой башмачок ее с острым носком, как он скользнул над истаивающей травой и ступил на… Знать-то я знаю одно, а глаза видят, что видят. И видели мои глаза, как маленькая ножка Мэри замерла в пустоте, а в сердце я твердил: мост, каменный, настил деревянный, дубовый настил… перила…
Из зажмуренных глаз Мэри катились слезы — как, бывает, катится пот со лба, и точно так же — как помеху работе, смахнула она слёзы со щек и качнулась вперед, перенося тяжесть с правой ноги на левую, а под правой уже растворялся последний клочок травы, а под левой — чистой тьмой покоилась пустота. Но сердце моё билось ровно. Иначе нельзя. Я знал этот мост, я его держал. Вот только не бывало такого, чтобы по недостроенному мосту кто-то, кроме меня, мог пройти. Но об этом я сумел забыть. Я обо всем сумел забыть, одно было передо мной: первый на свете мост — и никаких еще не правил, а вот как мы сейчас сделаем — так и будет.
И она шла, ровно ступая, и платье ее алое, нарядное, качалось над пустотой.
А на середине моста, которого еще не было…мост каменный, настил деревянный, перила… как будто опомнилась она. Шагу ступить не может — вот-вот откроет глаза…
Беги! — заорал я, беги, не стой, беги… И она подхватила юбку и рванула вперед, только мелькали зеленые чулки, только вился над коленями алый подол. Одной рукой к животу скомканную юбку, другую руку откинула нелепо и беспомощно, хмелёвые кудри ветром к лицу прижало, и ровно вот столько ей еще пробежать оставалось, а она протянула руки ко мне и выпустила подол. И он ей под ноги… и она глаза открыла… падает с открытыми глазами мне навстречу, а под ней как есть пустота, а мне еще рук не дотянуть… мост каменный, настил дубовый… и я по тому настилу к ней — и на руки подхватил, сам не знаю, как успел, не должен был успеть. Но схватил ее, держу, а сам назад пячусь и обернуться боюсь. Есть ли еще куда пятиться, или остались мы с Мэри на огрызочке моста, в один шаг длиной, между двумя берегами, которых уже и нет… А Мэри висит головой на плече моем и сладким таким голосом приговаривает: яблони наши… дом… хорошо-то как…
А когда я уже почувствовал под ногами не гулкие доски, а мягкую траву, обмякла моя Мэри и голову уронила. Я ее на траву там же и уложил, смотрю, правда: яблони бело-розовым облаком, черепица сквозь него едва просвечивает, а вокруг трава зеленая, и хорошо-то как… Сел на траву рядом с Мэри… и не помню. И сразу вдруг — морда овечья мне в лицо тычется… Обнял я жену за кудлатую шею, и пошли мы домой.
А что сосед на нас косится, так это мы переживем.
Мастер Хейно
Из безвременья подраставших мест он нарочно подгадывал выныривать в осень Семиозерья. Торопился, как мог, а если дело спорилось — тянул время, лишь бы не промахнуться, лишь бы снова прийти сюда и увидеть бездонную синеву и золото.
Ранняя осень — самое красивое время в Семиозерье. Край озер и островов весь сверкает в трепетном золоте берез, бересклет и осины пылают алым огнем, темно-зеленые ели стоят торжественней и отрешенней, и двоится, и множится красота, отражаясь в прозрачной спокойной воде, холодной даже взгляду.
А если не успевал к осени, дожидался уже морозных рассыпчатых снегов, глубоких сугробов, темной, в черноту зелени елей под тяжкими одеяниями зимы. Тогда дым высоко поднимался в небо, а по ночам вокруг печальной луны серебрилась бледная радуга. Озябшие косули приходили к дому, робко брали с ладоней куски тугого темного хлеба, уходили за деревья лизать соль, разбросанную для них. Лисы мелькали между стволов, особо не прячась: здесь никогда не случалось охоты.
Если и к зиме не получалось — старался управиться к весне, к звонким искрам капели, поющим ручьям. И бродил тогда, оскальзываясь на раскисшей голой земле, хлюпая в серой гуще недотаявшего льда у самого берега, закидывал голову, глядел в исчерченное хрупкими ветвями небо, кланялся зеленовато-белым колокольцам на тонких тугих стебельках, изворачивался, пытаясь заглянуть в прохладное нутро цветка, не надломив стебля.
А если и весну приходилось пропустить — что ж, радовался самой первой, пьяной и буйной поре лета.
Здесь был его дом. И лето стояло, когда он пришел сюда впервые, ступая след в след за мастером, показывавшим тропу между провалами пустоты.
Видаль родился на краю каменистой пустыни в небольшом поселке Лос-Локос, прилепившемся к склону Сьерры. В его родном краю считалось, что лучшие флейты получаются из человеческих костей, а лучшие кости для этого должны быть омыты не только кровью, но и соками ууйхо. Мать Ууйхо приходила по ночам в пустыню, в самое ее сердце, и оставляла там россыпи серых зерен. Самые отчаянные серрано отправлялись в каменное пекло, чтобы собрать зародышей и продать на местных рынках. С тех пор, как за ууйхо стали приезжать чужаки из других мест, подвиг храбрецов постепенно превращался в выгодное предприятие. Однако не все решались на такое. Отец Видаля не решился, они так и оставались бедняками с кучей детишек. Хосеито был страшим.
Видаль родился на заре, и повитуха, обмыв и спеленав младенца, вынула из сумки крошечное серое зернышко.
— Не рано ли? — спросила Мария Хосефа. — Он такой слабенький…
— Самое время. Умрет — хоть кости подороже продадите, всё не зря мучилась. Такие вот, рассветные — у них-то кости самые звонкие.
Ловко приладив зернышко во впадинке под затылком младенца, повитуха подула на него и удовлетворенно кивнула.
— Приживется, как миленький. Сколько я их пристроила… они любят рассветных, уж ты мне поверь.
— Спасибо, матушка, — сглотнув слёзы, покорно прошептала Мария Хосефа. Вдохновенная мудрость родов уже оставляла ее, собственный ууйхо утробно булькнул, и она с искренней благодарностью повторила: — Спасибо. Говорят, малыши и послушнее от этого.
— Еще бы! — согласилась повитуха.
Первого ууйхо Хосе Видаль сколупнул нечаянно, когда ему было чуть больше года. С отчаянным ревом малыш кинулся к матери, протягивая к ней обожженный палец. Но получил только трепку: ууйхо подорожали, а семья едва сводила концы с концами. Хосе заболел тогда, но оправился, в семье появился еще один сын, на нового ууйхо для старшего скопили только через полтора года. Если бы не тот первый раз, говорил ему после мастер Хейно, если бы не те полтора года без ууйхо, ничего бы и не вышло.
Когда Видаль подрос, трепку задавал ему уже отец, ремнем, а после и кулаками.
Хосе не хотел огорчать маму и боялся тяжелой руки отца. Он мечтал о том, чтобы вырастить большого красивого ууйхо, не хуже, чем у других ребят. Но стоило ему задуматься — о чем, он и сам не мог потом вспомнить, — руки сами тянулись к затылку… Мир взрывался, дыхание обжигало, свет резал глаза и звуки терзали слух. Отец расстегивал пряжку ремня. На затылке оставались маленькие круглые рубцы, на спине — длинные багровые полосы, несколько дней жестоко трясла лихорадка, ожоги на пальцах долго не заживали. Но пока новое серое зернышко не прикладывали к обритому затылку, Хосе Видаль видел мир по-другому: пронзительно ярким и отчетливым, и всё в нем стояло на своем месте и ясно и красиво взаимодействовало с окружающим.
Видаль вспоминал об этом, убаюкивая печаль и утихомиривая гордость. Нечем гордиться. Он ведь и в самом деле мечтал о красивом толстом ууйхо, как у всех. Просто у него не получалось. И никакой его заслуги в этом не было, по крайней мере, поначалу. А потом он всё больше и больше чувствовал отчуждение сверстников. Он был не таким, как они, хотя никто не смог бы сказать, что с ним не так. Со временем он и сам не захотел становиться похожим на них, и тоже не мог бы объяснить, почему. Он по-прежнему мечтал порадовать родителей, но ууйхо уже не держались на нем. Мать плакала, отец ругался и колотил его. Они оба желали ему добра.
Видаль вспоминал родительский дом неохотно. Странное чувство вины все еще тревожило его порой: не оправдал надежд, не стал таким, как надо… Он скорее бы умер, чем согласился стать таким, каким хотели его видеть отец и мать, он ни за что не отказался бы от своей новой жизни, но когда вспоминал родных, чувствовал себя предателем, и ничего не мог с этим поделать. Приходилось жить так.
Он обрел свой дом в озерном краю, выросшем под холодноватым и медлительным взглядом его приемного отца.
Первым человеком без ууйхо, которого увидел Видаль, был мастер Хейно.
Хосе сидел на пороге дома, еще слабый после лихорадки, и разглядывал яркий и настоящий мир, совсем иной, чем был неделю назад. Что-то натянулось в воздухе, зудело в кончиках пальцев, как будто приближалась гроза, но небо было чистым, и ветра не было. Пустынный скворец, залетевший во двор, чернявый, длинноносый и тонконогий, как сам Хосе, исчеркал пыльную землю следами, взлетел на ворота и смотрел оттуда блестящим глазом так, словно ожидал от Хосе вопросов, готовый дать ответ сразу на все. В горле застрял шершавый ком, хотелось откашляться или заплакать. Хосе попробовал прочистить горло — и кашель согнул его пополам. Когда он отдышался и поднял глаза, в воротах стоял человек.
Хосе и не понял сначала, отчего ему показался странным этот прохожий в запыленной одежде, чужак, бродяга, остановившийся напротив их дома ранним октябрьским вечером. Что-то, кроме истрепанной одежды, стоптанных, но крепких сапог, молочно-белых волос и светло-зеленых, почти прозрачных глаз, что-то еще смутило Хосе в облике незнакомца. Тот тихим голосом попросил напиться и улыбнулся. Мальчик вынес ему воды в кружке. Бродяга медленно отпил половину, а потом плеснул на ладонь и умыл лицо, плеснул еще — и протер шею, затылок… И тогда Хосе понял. Осанка незнакомца, несмотря на усталость, была прямой, он не гнул шею под привычной тяжестью ууйхо. И в глазах его было такое, чего Видаль никогда еще не видел у людей, только иногда — в зеркале. И улыбка у него была…
— Заберите меня отсюда… — выдохнул Видаль, тихо-тихо, чтобы не услышала мать в доме и отец, чинивший повозку во дворе. — Заберите… отсюда…
И, чтобы показать, в чем дело, быстро провел рукой по затылку и шее вниз, сколько достал.
— Они опять… нового… я не могу больше.
Незнакомец окинул его быстрым взглядом, как будто измерил вширь и вглубь, едва заметно кивнул, прикрыв глаза, и, посмотрев вперед вдоль улицы, снова перевел взгляд на Видаля: понял ли? Видаль понял.
Через час, когда уже стемнело, он нашел незнакомца на краю поселка. Тот поджидал его, сидя на камне у обочины. Увидев Хосе, он поднялся и пошел вперед, не оборачиваясь, а Хосе пошел за ним, и они шли и ни о чем не говорили до самого утра.
Потом мастер назвал свое имя: Хейно Куусела.
Мастер собирался пересечь пустыню с караваном из Лос-Локоса. Там, на краю плодородной долины, был известный переход — до Суматохи, а уж оттуда куда угодно попасть можно. Но теперь из-за Видаля приходилось идти самим. Видаль уверенно объяснил, что это невозможно. Мастер только пожал плечами: выбора не было. Видаль согласился. Вернуться домой было хуже.
Когда они уже не могли встать и лежали на раскаленных камнях, глядя на круживших высоко в небе стервятников, Видаль, измученный жаждой, спросил, правда ли, что каждый человек рождается с родничком на голове.
— Правда, — мастер едва шевелил изорванными жаждой губами. — Но потом родничок закрывается, малыш.
Видаль едва расслышал его ответ, но он не терял сознания, а только думал, как же так, ведь если бы не закрывались роднички, люди не умирали бы в пустыне… А потом ему приснилось, что он лежит в журчащем потоке, и прохладная вода бежит справа и слева от него.
Мастер тряс его за плечи. Видаль сразу проснулся и неохотно открыл глаза, жалея расстаться с волшебным сном. Но одежда на нем пропиталась водой — и лицо мастера было мокрым.
— Вот ты кто… — зеленые глаза мастера стали совсем прозрачными. — Хорошо.
Они напились, отдохнули и продолжили путь. Родник притих, но не затворился, волосы у Видаля оставались мокрыми — хоть выжимай, одежда на спине не высыхала, но он и не думал печалиться.
— Кто я? — спросил он у мастера. — И что хорошо? И почему?
— Тебе открывается закрытое. Вот кто ты. Хорошо, что ты быстро это узнал. Ну да, знание было скрыто — и открылось тебе, иначе не могло быть. Почему хорошо…
— Почему? — повторил Видаль.
— Потому что не всё закрытое надо открывать, — нахмурился мастер. — А если тебе это так легко… Лучше знать и быть осторожным. Лучше раньше.
Родничок так и не закрылся до конца, волосы Хосе Видаля всегда оставались мокрыми, но он привык и не жалел об этом.
На следующее утро они прошли совсем немного. Мастер вдруг сказал:
— Да, пожалуй, уже можно.
И остановился, опустил на камни тощую котомку, стал оглядываться.
Видаль ждал объяснения, но мастер без всякого выражения на лице вглядывался в каменистую равнину вокруг. Добавить хоть слово не соизволил.
— Что можно? — не выдержал Видаль.
Мастер повернулся к нему удивленное лицо. Потом терпеливо улыбнулся и всё-таки объяснил:
— Зачем нам идти к переходу, если ты в любом месте можешь отворить путь?
Теперь удивился Видаль: какой еще путь, кроме того, что лежит перед ними — на все стороны разом пустыня вокруг.
— Как родник открыл — так и путь откроешь, — отрезал мастер.
— Я не умею…
Но мастер даже внимания не обратил, продолжал оглядывать окрестности. Хосе вздохнул.
— Где открывать?
— И правда, — буркнул мастер Хейно. — Где? Сам ищи, я — точно не умею! — сел на камни рядом с котомкой и погрузился в молчание.
Хосе потоптался, озираясь, но искать было нечего. Украдкой взглянул на котомку — кроме мотка бечевки и пары сухарей в ней ничего уже не оставалось. Вечером съели по такому же темному, каменной твердости сухарю, запили водой, вот и всё.
— Дома обедать будем, — бросил мастер, не оглядываясь. Видаль сглотнул, сердитый. Он уселся чуть поодаль и принялся ковырять ботинок — подошва отстала, из протертого шерстяного носка торчали грязные пальцы. Тоже есть просит, уныло подумал Видаль.
Так и сидели, кто кого переупрямит, а солнце ползло вверх, накаляя камни. Видаль старался думать о чем-нибудь… о чем-нибудь вообще, кроме двух сухарей в котомке, но маисовые лепешки… и толченый маис с чуточкой мяса, завернутый в маисовые листья… это тоже была еда, а больше не думалось ни о чем. В желудке сосало. Мастер сидел рядом, как неживой, только что дышал. Видалю стало совсем грустно и жалко себя, голодного, брошенного посреди каменных россыпей на милость чужака. Что за обед может быть у него в доме? Из какой муки делают такой темный тугой хлеб, что сухари получаются черные и каменные? Часто ли бывает мясо в котле?
Как будто сквозняком потянуло — прохладная узкая струя низко над землей. Пахнуло влагой… зеленью… сырой древесиной… В мокрой одежде Видалю стало зябко, он поежился, озираясь. Но вокруг так же стеклянно дрожал воздух над раскаленными камнями.
— Ты это чувствуешь? — спросил Хейно Куусела. — Или мне кажется?
— Как будто из-под двери тянет, — пробормотал Видаль.
— Как будто! — вскинул голову мастер. — Торопись, пока открыто… — и бросил камень вперед перед собой. Камень исчез, не долетев до земли. Видаль ахнул, а мастер наставил на него палец и очень раздельно произнес:
— Иди за мной шаг в шаг, след в след. Это недолго. Никакой опасности нет, если ты сам не оступишься.
За дверью ничего не было. Не было света. Не было даже темноты.
— Ничего не видно, — пожаловался Видаль.
— А ничего и нет, — ответил мастер. — Но меня-то ты видишь?
Видаль с удивлением понял, что видит мастера так же хорошо, как видел его по ту сторону двери, при полуденном солнце. Только свет здесь был ни при чем. Мастер просто был — там, где не было больше ничего, и не заметить его было невозможно.
— Не стой на пороге, — поманил мастер. — Захлопнется дверь — тебя сшибет. Иди сюда. Видишь, где стою?
Переставляя по очереди ноги и давая наступать на свои следы, мастер провел его в темноте — всего-то шагов пять, но Видалю они показались длиннее, чем весь их путь через пустыню.
Когда наконец мастер повернулся к нему спиной и отпустил его руку, Видаль почувствовал, что его ноги дрожат, как у новорожденного ягненка, и весь он был мокрый, трясущийся.
Но вокруг — было. Остро и ясно Видаль почувствовал эту разницу теперь. Вокруг плотно и надежно стояло живое нечто, двигалось внутри себя своими частями, колыхалось, шелестело, дышало. Присутствовало. И мастер почти растворился в темноте — здесь была и темнота, и слабый свет откуда-то сверху. Видаль поднял голову и увидел исчерченный черными ветвями круглый лик луны.
Видаль слышал тихий стук подошв на деревянных ступенях, скрип двери, чирканье и шипение разгорающейся спички.
— Добро пожаловать, — сказал мастер.
Когда бы ни случилось ему прийти домой, ранним утром или в непроглядную темень, под проливным дождем или увязая в сугробах — первым делом Видаль шел на холм, где спал его Мастер. Так получилось — за неразумие ученика приходится платить учителю, и даже жизнью. Видалю осталась работа — он и работал за двоих. А наказывать себя его отучил мастер. Когда под неумелым взглядом ровный светлый березняк шел рябью и коверкался, Хосеито Видаль принимался бить себя по голове кулаками и словами клясть. Мастер хватал его за руки и встряхивал. Наказанием порчу не исправишь, говорил. Своей болью чужую не искупишь. Можешь исправить — исправь, не можешь — забудь, делай новое, говорил. Только не сказал, что делать, когда и исправить невозможно, и забыть нельзя. Пришлось Видалю своим умом дойти: похоронил Хейно Кууселу, дорастил Семиозерье, да и дальше пошел — растить мир. А могилу на зиму устилал свежим лапником, чтобы теплее мастеру спалось.
Почтаркина сумка
День клонится к вечеру. По дороге катятся телеги, на телегах — горы сена аж до неба. По небу медленно и величаво плывут громады облаков, отбрасывая тени на склоны Кудыкиных гор.
Места — как облака в небе, плывут вроде и вместе, но мимо друг друга. Петрусь на заработки ушел — третий год ни слуху, ни весточки малой. Вот бы Ганне с облака на облако… с места на место. И перекати-поле, что поминают по-старому старые старики, тут не в помощь: докатится до края — и обратно вразвалочку по перепаханным полям, до самых Кудыкиных гор. А за горами теми нет как нет ничего — одна только черная чернота, но и ее никто не видел. А кто видел, того божевильным прозывают: мать с отцом не узнает, имени своего не вспомнит, съела его душу черная чернота, поминай как звали. Был человек — осталась шкурка набитая, чучелко ходячее, без воли и соображения. Так говорят. А сама Ганна, Панаса Гомоная и его Пидорки старшая дочь, не видела никогда ни черной черноты, ни божевильных, кто ей душу скормил. А потому не верила. Знать знала, а верить не верила, что за ярким небосводом, изукрашенным жемчужными рассветами, золотыми закатами, опушенным белой пеной облаков, исчерченным стрижами да косатками — неживая пустота. Чудилось ей, что мир весь живой, до последнего колоска, до камушка, в траве укрытого, до капли дождевой — весь. И нет этой жизни ни края, ни предела.
И ведь ушел же куда-то Петрусь, в другие места, а чем они от нашего другие — никто и объяснить толком не может. Где они? «Там», — отвечают. Там. Что за там-там-там, тум-тум-тум, глухо копыта в утоптанный глинозем, ох, далека дорога — где-то там обрывается видимый путь, начинается незримый. Туда и ушел Петрусь, и Грицько ушел, и сколько еще парней ушло лучшей доли искать — а здесь нареченные невесты ждут. А никто еще не вернулся. То ли лучшей доли не нашли, по сю пору ищут. То ли дороги обратной не сыскали. То ли наоборот — нашли лучшую долю, да делиться не захотели, ни с земляками, ни с отцом-матерью, ни с прежней коханой.
Тяжко Ганна вздыхает — разве можно не верить Петрусю, думы черные до сердца допускать? Совестно. А вот ведь сердцу не прикажешь. Ни любить не прикажешь, ни не любить; ни верить — ни не верить. И мысли из головы, как маковые зерна из сухой головки, не вытрясешь.
Вот и лежит Ганна у дороги в колючей траве, вместо того, чтобы споро вышивать нарядные рубахи красным и черным шелком. Лежит в траве, смотрит в небо, облака считает — а мест, говорят, без счета, потому что, сколько ни сосчитай, мастера-глядельцы еще новых нарастят, да между прежних утвердят, вот и начинай заново считать всякий раз.
Где-то Петрусь нынче? На каком из облаков его представить — будто сидит на белой летучей горе, как на верху снопа, и катится под ним дорога, а он дремлет, мечтает о Ганнусе своей ненаглядной? Верный ведь он, Петрусь, как можно иначе о нем думать? Потому только и нет весточки до сих пор, что третий год уже не заходит в их края письмоноша. А зашел бы — и принес бы весточку.
Письмоноша-почтарь ведь не своей волей по свету гуляет. Где окликнут, остановят — там и устроится хоть на лавке в корчме, хоть в честной хате, хоть у обочины: писать письмо, облекать чужие слова в торопливые завитушки. Куда письмо пошлют — туда и письмоноша. А на другом конце пути точно так же где придется, где застанет получателя — развернет треугольничек да прочитает вслух, что сам же написал.
Отчего же к Кудыкиным горам давно письмоноши не заходят? Разве не шлют их сюда Петруси да Грицьки? Нет, не хочет тому верить Ганна. Просто много-много писем скопилось в почтарской сумке, еще вперед написанных, прежде надо их разнести, тогда уж и кудыкинским очередь дойдет.
А Ганна ждет, Ганна верная, как Петрусь, крепка любовь между ними, ничто ее не разрушит, уж не разлука — точно.
Ганна писем бы никому читать не доверила. Что с того, что письмоношей уже написано письмо, сам, небось, молчуну Петрусю слова сложить помогал. Да только с того мгновения, как сложили листочек — письмоноша уже ни при чем. Ганна недаром всю зиму в приходскую школу бегала, и прочитать письмо сумеет, и свое в ответ из букв сложить. Сколько бумаги за зиму, за весну извела — страсть! Полный ларчик, из кипариса резанный, доверху письмами уложен. Буковка к буковке, словечко заветное к словечку. Хоть и не очень ровно — зато все тайны сохранит только себе и Петрусю. Ну, а что коханому читать письмоноша будет — так Ганна того не увидит, а чего не видишь, того и нет. Как той черноты неживой за ярко-голубым сводом.
А свод синеет сверху, наливается снизу темным румянцем, у облаков загорается золотая оторочка, земля остывает — неуютно Ганне лежать, да и вставать лень. Станет мать бранить ее, что на весь день из дому сбежала, всё светло пробездельничала, теперь в ночи ради нее лучину жечь. Пригрозит усадить вышивать в темноте наощупь. А раз уже всё равно бранить станет — так и некуда торопиться. Лежит в траве Ганна, смотрит на закат. Уж прокатились телеги…
Да вдруг подолом летящим солнце застило, ноги против красного света — черные, быстро шагают, широкий подол по-над сапожками бьется, из-под него солнце мелькает, мелькает. Что за странный крой, дивится Ганна, вроде поповского облачения, что и длинно — и шагов не режет. Приподнимается на локтях, смотрит — идет спорым шагом женщина по дороге в сторону их Кривой балки, платье точно нездешнее, волосы — вороново крыло, лицом смугла, нехороша, немолода, по-девичьи непокрыта. Что за диво такое в поздний час на дороге? Пригляделась, а за спиной у пришлой — почтарская сумка, точь в точь как давным-давно Ганна своими глазами видела у Акино-письмоноши.
Растерялась, так что пустила почтарку уйти далеко вперед. Кинулась следом — догонять. Та, не оборачиваясь, спросила на ходу: у вас в хате переночевать можно?
Ганна было запнулась: отца ж с матерью спрашивать надо. Да какое там! Сами же отругают, если упустит такую постоялицу. А так — похвалят, может, мать и не помянет отлучку. Можно-можно, вскинулась Ганна и, чтоб уж наверняка не упустить — ой, давайте я вам сумку нести помогу. Письмоноша ловко увернулась. Никому, говорит, нельзя мою ношу нести. Почтарская сума — не просто так. Не тронь, если жизнь твоя тебе дорога. Ничего не поняла Ганна, но приставать более не стала.
Через полсела вела Ганна письмоношу — для верности за рукав, чтобы не отбилась дорогая гостья, не досталась кому другому.
— Это Марсия! — хвасталась своим уловом дивчина. — Письмоноша! Марсией кличут!
Смуглянке кланялись, она улыбалась всем в ответ, но послушно шла за Ганной. Никто пути не перебивал: ясное дело, коли пришла почтарка в село, то не на один день. Сколько-то писем здешним принесла — все прочитать надобно, да столько же и еще полстолька писем от здешних написать, кому в ответ, кому просто так весточку: о прибавлении в семействе, о смерти бабки-замшелки, о благополучном отеле, о свадьбах-женитьбах, о чем только люди от нечего делать друг другу не пишут… А прежде чем с письмоноши трудов спрашивать, надо принять, в бане вымыть, накормить-напоить, спать уложить — словом, дать отдых, как всякой живой душе с дороги-то. Малышня голопузая бежала впереди, крику на всю округу подняли.
Когда Ганна привела гостью до хаты, мать уже суетилась, уставляя стол мисками и крынками со всяческой снедью: и пампушечками, и галушечками, и вареничками, и товченичками! — не хватало еще, чтобы в чужих краях письмоноша помянула недобро принявшую хату. И село долго еще на всех ярмарках стыдить будут, и хозяйке позора не оберешься, а уж соседки — те проходу не дадут, де у них бы письмоноше никаких лишений и неудобств терпеть не пришлось бы, а так клятая Пидорка-неумеха на всех беды накликала. Так уж Пидорка расстаралась!
Да не впрок те старанья вышли. Среди ночи разбудил Ганну долгий мучительный стон — сверху, чуть выше головы шершаво тянулся он в темноте. Там на Ганниной постели уложили гостью, а Ганне постелили рядом на полу. Сон мигом отлетел — дивчина подскочила, наклонилась к гостьиной подушке: или приснилось что, или с обильной трапезы живот прихватило, или попить принести? Гостья туго притянула коленки к животу, закусила губы — глаза в пол-лица черные, чернее темноты ночной. От луны на влажной щеке серебрится пятно — то ли слезы там, то ли холодным потом от боли исходит Марсия. Злая, злая соняшница пристала!
За лекарем послали, не дожидаясь утра. Вот уж было соседкам радости рассуждать, то ли вареники у Гомонаевой Пидорки лишь на подошвы годятся, то ли сметана не свежа. Да только лекарь ясно сказал и на крыльце, по просьбе хозяйки, громко повторил: ни еда, ни питье тут беде не причина. А причина — нарыв в животе, и сделать с ним ничего нельзя, а что село для почтарки еще сделать может — так одарить ее последним домом да клочком земли на погосте.
Мать всё сердилась на Ганну: привела в дом беду, привела позор. Язык у человека, а пуще того у бабы — что твоя лопата, все перевернет, что на него попадет. Хоть и сказал лекарь ясно и громко, да через три двора уже переврут, а на ярмарке в Сорочках всякая Солоха со всем убежденьем расскажет, что Пидорка письмоношу нарочно опоила. И причину назовут. Да вот хоть так: Панас де Гомонай на почтарку глаз положил, а Гомонаева Пидорка и того… И так складно врать станет, что даже те, кто сами лекарский приговор слышали — и они поверят. Мало ли что лекарь скажет! Может, привадила его Пидорка варениками своими или еще чем. Солохе всегда виднее.
Словом, сидеть с умирающей велели Ганне. Хлопот немного — маковым отваром напоить да пот отереть. А чтоб не скучать да от стонов, от слов бредовых, бессвязных отвлекаться — вышивание в руки, крестик за крестиком ложатся ровно, черный — красный, красный — черный. А у изголовья пыльная почтаркина сумка прислонена к ножке кровати. Взглянет на сумку Ганна — и капнет слезой на черное-красное. Сколько писем написала Петрусю за два года — как ждала почтаря в село! Пришла вот… умереть. А кто теперь Ганнину любовь верную по свету понесет, с места на место, с Кудыкиных гор до той неведомой краины, где Петрусь лучшей доли ищет? Некому. И спросить не с кого. С костлявой только что — да спрашивальщиков таких не водится ни в Кривой Балке, ни на Кудыкиных горах, ни во всей Кудыке, земле невеликой, месте нешироком, одном из бессчетного множества мест в непроглядной пустоте, что караулит за синим сводом небес. Да поди и во всем мире, во всех местах его ближних и дальних — не найдется спрашивальщика, чтобы со смерти спросить за порушенные Ганнины надежды. Взглянет Ганна на сумку почтаркину — да сквозь слезы и на почтарку саму, и совестно станет ей. Вот человек живой с жизнью прощается, а она — письма… До того ли должно ей быть? А как застряло поперек души: письма-то, письма — как же? Ведь не только ей, ведь всей Балке, всей Кудыке оставаться без вестей. И по-за Кудыкой поди ждут. Вот пришло в голову помереть! Нашла время-то. Разнесла бы почту, прочитала всем хоть бы и только в Балке — и помирала бы себе на здоровье. За три года не нашла времени к ним заглянуть — так здрасьте, пришла.
И за щеки схватится, сама от себя смутится. Но злость не уходит. Как будто письма ее, голубками белыми сложенные, не в шкатулке теснятся, а в груди — и рвут ее, и бьют острыми клювами, и топчут коготками, словно соломенную клетку.
А из сумки слышатся Ганне голоса. Тихо-тихо так шепчут, торопливо бормочут, смех оттуда раздается словно, а то сдавленное рыдание, и ласковые слова звучат, и попреки, и подсчеты, и печаль там, и радость, и будни, и праздники — все на свой лад. И как будто на чужих языках тоже говорят — а Ганна вроде всё разумеет. То ли слова ей внятны, то ли по звучанию речей открывается смысл. И манит, манит сума к себе, вполголоса еще вроде, но как родную.
Ночью того пуще голоса зазвучали. Снова Ганна прилегла на полу — что бредящей почтарке ее пригляд? Мечется в жару, сердце в ней часто-часто бьется, даже страшно, что вот выскочит. На голос не откликается, на имя не отзывается, не внемлет ничему, не понимает ничего. И только бормочет, бормочет невнятное что-то. А сквозь ее приговоры слышатся Ганне иные речи, да не разобрать за тем бредом-то.
Но не решается Ганна в сумку заглянуть. Помнит слова почтарки — «если тебе жизнь твоя дорога». А рядом и сама Марсия умирает, как не испугаться? Еще день не решается и еще ночь. Так и не решилась бы, поди, если б на другое утро не послышался словно бы знакомый голос из сумы. Ой, Петрусь, оюшки-ой… А почтарка лежит, маком опоенная — а всё стонет, жалко ее. А в суму ей точно больше не заглядывать, не носить ее с места на место, не читать добрым людям писем, не писать, что скажут, на дешевой сероватой бумаге, ничего-ничего уже, совсем ей ничего. Вышла вся ее служба, и жизнь выходит. И тихонечко отложила Ганна Гомонай свое вышивание, поднялась с лавки, в три шажка прокралась, склонилась над сумой, исколотыми пальцами едва коснулась лямки… И — всё уже случилось, тронула уже, нечего терять — дернула завязку, вывернула уголки и конвертики, и трубочки, и картоночки на пол. Разворошила, еще пуще испугалась, когда поняла, что на каждом придется прочитать, кому отправлено. А Петруся больше и не слыхать. Притихли голоса, то ли от испуга же, то ли наоборот — от радости. Подняла первый попавшийся листок, глазами вниз скользнула, до подписи: ваш сын Петро. Ах!
— Да не тронь же, дура…
Ганна мало не подпрыгнула. Марсия смотрела на нее — глаза темнее темного, тенью обведены густой, спокойные такие глаза, усталые. Лицо белее наволоки.
— Мне… — только и нашлась ответить насмерть перепуганная Ганна. — Мне… вот… Мне надо.
Письмоноша поморщилась, прикрыла глаза.
— Ну раз надо — бери. Я свое отбегала.
— А что, — глупо спросила Ганна, — я теперь тоже умру?
— Умрешь, умрешь, — криво улыбнулась письмоноша. И долго молча дышала — быстренько так, страшно. Потом сказала еще: — Не теперь. Сперва побегаешь.
— А ты ж сказала, — настаивала Ганна, сама стыдясь своей настырности к умирающей, но жаждая дознаться правды. — Сказала — если жизнь моя мне дорога. Чтоб не трогать.
— Тронула? — через силу прошелестела Марсия. — Жива?
— А как? А что?
— А так. А то.
Видно было, что наскучил почтарке разговор, не нужен он ей, и сама она не здесь. Но зачем-то отвечает, всё отвечает на глупые Ганнины страхи.
— Не твоя жизнь теперь. Не твоя. Руку дай. Боюсь я.
Ганна попятилась. Марсия едва приподняла прозрачные веки.
— Дура. Не того боишься. Не ведьма я. Не… — Прозрачная ее рука скользнула с перины, указав на суму. — Вот. А я не… Дай руку. Дай.
Уже без голоса говорила, да и без соображения — а Ганна все разбирала по губам ее искусанным, синим уже от смерти. И подошла. И обеими руками обхватила почтаркину руку. А после закрыла ей глаза.
«А Ганне Гомонаевой перекажите, чтобы ждала, как уговор был. К Рождеству вернусь — там и свадьбу сыграем».
Схоронили письмоношу чин по чину, уважили. В освященную землю положить отец Онуприй не позволил, а в остальном ничем не обидели: поминки устроили всем селом. А после стали звать попа, отца Онуприя, чтобы, по делу своему грамотейскому, оказал миру услугу: прочел письма, какие в Криву Балку были. Но отец Онуприй и тут открестился — темны пути почтарские, неведомо как находят письмоноши дорогу, не Богом ведомы, а человеческими страстями. Негоже пастырю прихожанам своим дурной пример подавать. Ну и другие грамотеи, что были на селе, следом отказались.
Ночь не спав, наутро послала Ганна меньших братьев Левко и Ничипора пробежать по селу да покричать, чтоб собирались у хаты Панаса Гомоная — Ганна де Гомонаева будет почтаркину сумку разбирать и каждому, кому письмо найдется, прочитает его. Отца, значит, не спросясь.
Мать не хотела выпускать на крыльцо, грозилась кинуть сумку в печь со всеми письмами. Отец увещевал набежавших мирян разойтись. Но к полудню сдался: всё село собралось, от мала до велика, чуть плетень не опрокинули. Тогда Ганна вышла и села на крыльце. Одно за другим вынимала сложенные в уголок листы, шевеля губами, разбирала имена; чужие письма складывала на ступеньку, что своим — выкликала получателей, чтоб садились рядом и слушали. Старательно, по слогам, читала — громко, чтоб заглушить причитания матери, прятавшейся за приоткрытой дверью и полдня уговаривавшей доню одуматься.
Родителям Петруся тоже прочитала письмо — кроме тех строк, где про нее говорилось. Что надо было ей переказать, она уже и сама вперед их знала, ну так и нечего из пустого в порожнее переливать. Она Петруся и без его наказов ждет — уговор ведь был у них. И не ей говорить его отцу о свадьбе, так ведь? Вот и пропустила это место. Сам Петрусь скажет, как вернется. К Рождеству. Еще всё лето до осени и осень вся целиком, да целый месяц с гаком зимы…
До вечера закончила читать, нездешние письма сложила обратно в сумку, а здешние по домам разобрали. Думала, всё на этом — да как бы не так. Назавтра потянулся народ к крыльцу с самого утра. Мать Ганну растолкала со злорадством: смотри, что натворила! Ганна и не уразумела сначала, отчего это люди опять улицу против их дома запрудили. Она-то вчера всё до последней строчечки прочла, всем громко сказала, что письма в Криву Балку кончились. Ан глядь — те же лица, что и вчера, и плетень уж покосился. И тут дошло ей в голову, тут побелела вся, ножки подкосились, затряслась. Сама уж просила мать… Та ее вытолкнула на крыльцо: расхлебывай.
Так вот случилось, что еще через день Ганна Гомонаева в крепких сапожках, в сорочке вышитой, в новой нарядной плахте, со свиткой в котомке, на случай холодов в дальнем пути, — одарила всё же мать на прощание! — и с почтарской сумкой через плечо вышла за околицу и зашагала в сторону Кудыкиных гор. За ними, говорят, есть перевоз — и перевозчики при нем. Они сквозь темень безвидную, сквозь пустоту неживую ходят и кому куда надо — того с собой за руку ведут за приличную мзду. А письмоношу и за так проведут, дело такое. А куда ей надо, Ганна не знала, но решила себе идти, куда глаза глядят, хоть свои, хоть перевозчика, и, как окликнут, останавливаться, искать в сумке письма для спрашивающих, писать им под диктовку. А Петрусь… Ну что Петрусь? До Рождества еще всё лето и осень целиком, может, кто напишет письмо в Криву Балку — а Ганна его и отнесет. А если никто не напишет, тоже не беда. Ганна недаром же зиму в приходскую школу бегала. Сядет и напишет сама. Вот так:
Прости, коханый, серденько мое, да не судьба нам, видно, да не судьба…
Веревочка для барашка
Едва ли пару шагов сделал Хосе по теплому, словно живому полу мастерова дома — и упал, как подкошенный. Хейно Куусела невесть как успел обернуться и подхватить мальца. Цокал и головой качал, пока нес его к широкой лавке, застеленной пестроткаными покрывалами, пока стаскивал истрепавшуюся по пустыне одежку. Да и то сказать, новой она и не была никогда: из отцовой перешивала Мария Хосефа для старшего сына, а за ним уже младшие донашивали.
А устроив ученика в постели, мастер-смотритель принялся за простую домашнюю работу…
Видаль проснулся на закате другого дня под песню Мьяфте. Сиплым подвываньем показалась ему та песня с непривычки. Так вплыл в его сознание дом мастера: колючая шерсть одеяла, запах дыма, синие сумерки в окне, густая тень в углу, темные хлебы-колеса на шесте под потолком, тихий вой колдовской песни. Все, что было перед этим, из памяти вымыл долгий сон — и Видаль лежал, едва приоткрыв глаза, в чужом незнакомом мире с деревянным потолком и воющей тенью в углу. Где он, как и почему — не знал. Даже самого себя чуть ли не забыл — так странно было окружающее, что и себе в нем не нашел ни места, ни образа.
Завывание стихло, тень закряхтела и полезла из угла прямо к нему. Видаль затаил дыхание.
— Вот спёкся малой, — произнес смутно знакомый голос и кто-то высокий встал между Видалем и приближающимся ужасом. — Третий день спит.
Вместо тени из-за спины высокого вышла старуха в темных платках до пола. Усмехнулась, глядя Видалю в зажмуренные глаза.
— Уже не спит. Трусит только, а так — здоров.
Видаль от обиды заморгал, но ничего не успел сказать — голос мастера Хейно, теперь уже точно знакомый, возразил:
— Не трусит, осматривается. Осторожный.
— Хорошо бы, да не верится. Глаз не тот. А с его даром очертя голову никуда соваться не след. Эх, намучаешься ты с ним, Куусела.
Старуха подмигнула Видалю из кокона платков.
— Не помру чай, — буркнул мастер. — Ты своим делом займись, а со своими я сам управлюсь.
— Ну что ж, барашек, сначала кормить, потом чесать — а то всю жизнь из тебя немощного вычешу, ничегошеньки не останется.
— Не пугай малого, Мьяфте, — насупился мастер, складывая на одеяло просторные штаны, рубашку и пестрые толстые носки. — Одевайся, есть пора, да умойся вон там.
— Его напугаешь…
Прежде такой еды Хосе не видал, но не испугался ни печеной с ягодами рыбы из глубокого горшка, ни тугого синеватого киселя, подрагивавшего в миске. Черный хлеб был тяжел в руке и пах незнакомыми травами. Мьяфте тоже ела с ними, откинув за плечи длинные концы платка, и Видаль разглядел ее теперь: черные-пречерные брови на сухом морщинистом лице, юный взгляд без горечи — дома у старух Видаль не встречал таких светлых взглядов. Только у совсем молоденьких девушек.
После показала Видалю на пол у своих ног — мастер кивнул. Пол был теплый, чистый, и правда, как живой, Видаль не удержался, провел по нему ладонью, погладил. Мьяфте выпростала из платков сумочку, из сумочки вынула сверток, из него — гребень костяной, пятнистый. И давай чесать Видалю волосы — пребольно!
— Ох, и спутана у тебя жизнь, милый, ох, и перекручена… да вот выровняем сейчас, распутаем, волоск к волоску выложим, да посмотрим, как ляжет волосок, прямо иль наискосок, да ровен ли пробор будет, да прям ли…
И принялась приборматывать и подвывать, покачиваясь, и как будто мурашки по всему телу Видаля побежали, острыми лапками перебирая по коже, и Видаль покачнулся… и закачался в лад с бормотаньем и вздохами ворожеи, и видно ему стало на все стороны света, да на сто лет вперед, да будто темные-темные не то лики, не то хари нелюдские выступили из тьмы, заслонив звезды, и прозрачно-льдистые кривые когти протянулись к самому сердцу…
— Эй, эй, старая, память потеряла! Не для того пришла! — мастер стукнул по столу так, что миски подпрыгнули и горшки в пляс пошли.
Мьяфте тряхнула головой — морок отпустил Видаля. Он быстро поднял голову, взглянуть на нее — и обомлел. Юная она сидела над ним, темноликая, всесильная и недостижимая. Накрыла ему лицо шершавой старческой ладонью.
— Не меня видишь. Забудь.
И забыл.
Мастер продолжал бранить ворожею, та, смеясь, оправдывалась:
— Да как за волосы возьмешься — оно само в руки течет, разве легко устоять?
— Да не тебе отговариваться неуменьем, — сердился мастер. — Слабая нашлась! Любопытство в тебе всё женское пережило.
Мьяфте замолчала — как крикнула.
Хейно Куусела осекся, головой дернул. Старуха кивнула. Но не стерпела, ответила все-таки.
— Валялся бы ты у меня в ногах, моего женского выпрашивая…
— Твоя правда, Мьяфте Трехликая. За малого я испугался — шутка ли с тобой в вечность глядеть. А он и так едва в себя пришел.
— Ладно, мастер Куусела, не для того я пришла, чтобы на глупости твои внимание обращать. И ты меня прости: правда, что перед любопытством никакая женщина не устоит. Но не проси, не скажу тебе, что видела — ты ведь не удержишься, его предупредишь ради блага его — а никакого блага из этого не выйдет.
И достала из кошеля другой сверток, а в нем был гребень деревянный.
Мастер поправил лучину в светце и придвинул к ним ближе.
Деревянным-то гребнем и принялась Мьяфте причесывать Видаля, временами поджимала губы недовольно, стряхивая ему на колени выпавшие волоски. А сама бережно снимала с зубцов нечто невидимое и складывала себе в передник. Долго чесала, напевая песню мирную, покойную, совсем не такую, как прежде, Видаль и задремал уже. Наконец обмяла горку на коленях смуглыми пальцами, отложила деревянный гребень, вынула стальной.
— Хорошо, родниковой водой промыто. Положи-ка, мастер Хейно, к печи сушиться, до утра мне надо и расчесать, и спрясть, и шнурок сплести.
И стальным гребнем чесала высохшее невидимое, и выкладывала прядь к пряди, и вытягивала ровницу, и скручивала в коричневых морщинистых пальцах, и крутила, крутила, и под ее рукой вертелось веретено, и гудело темное тяжелое пряслице, скручивая, стягивая к себе темноту из углов.
А Мьяфте снова завела песню — в лад пряслицу. Темной и тяжкой была эта песня, как будто все связи в мире натянулись от нее, как будто всё, что связано одно с другим, враз почувствовало неразрывность связи, тугую причастность одного к другому, обреченность друг другу навеки. И как будто нет смерти, чтобы разлучить одно с другим. Ничего нет вообще, кроме связи всего со всем.
И Видаль оказался опутан пуповинами миров, пронизан нитями и шнурами, тянущимися сквозь вселенную во все стороны, прободён отростками ветвящихся смыслов, распластан по непрерывности бытия, многократно раздроблен и умножен в бесконечности фракталов…
И многое еще, чего он и сам понять не мог, случилось с ним, едва не лишив его рассудка навеки — но мастер Хейно ткнул его в плечо жестким пальцем — и палец оказался острее семантических сучков, и Видаль очнулся.
— Тут уж я ничего поделать не могу, — проворчала Мьяфте. — Надо, чтобы он был здесь, когда я делаю это. Иначе не свяжешь.
— Ладно, я присмотрю за ним, — сказал Хейно Куусела.
— А что такое? — моргая, удивился Видаль. — Со мной все в порядке.
К утру готов был шнурок, только Видаль так его и не увидел.
— Как барашка на привязь, — приговаривала Мьяфте, обвязывая ему запястье. — Чтобы не ухнул сам в разверстую бездну. Кто тебя искать будет там, где ничего нет? Кто твой путь проследит, если ни до тебя там пути не было, ни после тебя не будет? Кто к тебе дверь откроет, если она за тобой захлопнется? А сам ты не из всякого места выбраться сумеешь, учиться тебе еще и учиться.
Вот тебе веревочка, резвый барашек, чтобы не потерялся. По веревочке мастер всюду за тобой пройдет, на помощь тебе придет, если нужно. Так и живи пока что — на привязи.
Старухины поросятки
Ганна в тот день и устала, и замерзла. Даром что самая середка весны — с утра дождь промочил чуть не до нитки, после ветер тучи разогнал, одежду высушил, да не согрел. Шла быстро, так что пар поднимался над плечами, над головой. Вроде и жарко, а остановишься — и тут же прохватывает промозглым холодом. Шла к западу лицом, вот и приняла закатные розовые отсветы в мутных окошках за домашний вечерний свет. Да и хотелось крова над головой и огня в печи, теплых стен и горячей еды чуть не больше всего на свете. А может и не чуть.
Увидела розовый свет в окне — и потом уже только под ноги глядела, чтобы не упасть. Дорога к хутору заросла редкой травой, да в ней попадались то синий шалфей, то желтый мытник, то ветреница трепещущая лепестками на ветру, то обломки горшка, то брошенный ухват, то полурасползшийся тулуп почему-то. Ганна механически переставляла ноги и только замечала валяющийся под ногами скарб, но сообразить что к чему не могла уже. Оцепенела и телом, и душой, и умом — от холода, голода, усталости тяжкой. Не думала, сколько идти еще, не считала шагов, не смотрела вперед, чтобы не плакать от долгого еще впереди пути.
Об одном думала: откроют на стук хозяева, увидят почтарскую сумку, обрадуются. В баню проводят, к столу позовут, уложат на чистое, мягкое, теплое. Не станут торопить, до утра отдыхать дадут. А утром Ганна их и обрадует. Не одно, а даже три письма несла им, все в разные дни продиктованные одним рыжим парнем, что уехал из дому на заработки. Он каждый раз обещал вскорости вернуться домой — трижды встречала его Ганна в разных местах, трижды виновато разводила руками: не дошла еще дорога почтарская до степного хутора Яселки. А парень только махнет рукой: что ж, значит, судьба такая. И просит новое письмо писать ему, а в письме чуть не слово в слово, что и в первых двух: мол, всё хорошо, денег заработал, не пропил, к Рождеству ждите домой, Анютке передайте, чтоб ждала, ваш Петр. И не знала уже Ганна, смеяться ей или плакать, и потому покорно записывала за парнем и складывала листок уголком, и опускала в сумку. Обещала в этот раз непременно дойти до хутора Яселки.
Вот, дошла. Подняла голову, когда уже у самого дома стояла, и обмерла. Полон двор перекати-поля, кучами лежат сухие травяные шары, прибитые ветром к стенам, к колодцу, к открытой двери хлева. И ни света, ни звука, ни тепла. Бежать бы ей, очертя голову, но как будто когда занес уже ногу для шага — невозможно остановиться, надо шагать. Вот так, словно не замечая того, что делает, Ганна прямо в хлев и пошла, пробираясь через сухие шары на негнущихся от усталости и ужаса ногах. Пустой дом показался ей страшнее.
Всё больше леденея, она дошагала до хлева и заглянула внутрь. Темно там было, умирающий вечерний свет едва сочился в щели под стрехой. И белели в нем груды костей — коровьи рогатые скелеты, лежащие на прелом сене. Ганна затряслась вся и попятилась, а скелеты разом повернули к ней костяные свои головы и пустыми глазницами уставились на нее. Страшный крик свой Ганна услышала словно со стороны, пока летела от хлева в дом. Хлопнула дверью, не щадя косяка, обернулась поискать, чем бы подпереть… и задохнулась от тошнотворного запаха давней смерти, разложения и жуткой болезненной гнили. Уже понимая, что пропала, все-таки приоткрыла дверь, выглянула наружу. И в ужасе захлопнула. Коровьи остовы стояли уже под самым домом, другие неторопливо брели от хлева, покачивая белыми рогатыми головами. Мысли еще метались, искали спасения, а в сердце вырастала обреченная тишина. Вот и всё, почтарка, вот и всё, догулялась по лесам и полям, повидала мир — и будет. Отправляйся за Марсией вдогонку, вернешь ей сумку заодно, скажешь — не по плечу. Недалеко ушла ты, дивчинонько, недалеко тебя ноги унесли от родимой хаты, от матери милой. Вот сколько твоей жизни — вся здесь и вышла.
Да Марсии хоть было кому воды подать, в смертной муке за руку подержать. А ты здесь одинешенька сгинешь, сгниешь заживо, изойдешь смрадной жижей.
Коровья белая башка сунулась в тусклое окошко, гулко замычала. Слышно было, как другие остовы трутся боками о стены, скрипят, постукивают разболтанными суставами. Кто бы ни сгнил в доме, он хоть не подавал звука, не шелохнулся в темноте. И на том спасибо, но ни шагу от двери не ступила Ганна: чудилось, что до мертвяка рукой подать. Так и скорчилась, вжавшись в косяк, и гадала, пропадут ли скелеты к утру и сможет ли она тогда наносить себе воды из колодца, или будет уже лежать в бреду и беспамятстве.
В дверь стукнуло и уперлось, костяной скрип и жуткое неживое мычание раздались над самым ухом. Ганну отбросило от двери — но она тут же швырнула себя обратно, всем телом навалилась на створку, подперла ее спиной, уперлась ногами в земляной пол. Дверь ходуном ходила и прогибалась, Ганне казалось — вот-вот острый мертвый рог вопьется ей между ребер.
И тут тьма в доме сгустилась, и из нее неспешно выплыла старая старуха, замотанная с ног до головы в широкие темные платки. Она была страшная, но вполне живая и на вид здоровая, только очень старая. От нее пахло сырым темным лесом, мхом под корягой, чащей, чисто и горько пахло древесной корой.
Старуха подошла и приложила сухую исковерканную годами ладонь к двери. Толчки прекратились, только нетерпеливый скрип выдавал страшное присутствие.
— Ну и угораздило тебя, девушка, — сказала старуха.
Ганна молчала, не зная, какой из прыгающих на губах вопросов выпустить первым. Да и зубы у нее стучали громче костей в тех остовах.
— Ладно, если не сробеешь, выведу тебя отсюда.
— Да можно ли мне к людям теперь? — боясь надеяться, спросила — пощады попросила! — Ганна.
— Теперь нельзя, — отрезала старуха. — А после будет можно. Идешь?
— Иду, бабусенько.
— А со свиньями управляться умеешь? — строго глянула на нее старуха, уже взявшись за створку.
— Умею, бабусенько, и корму задать, и почистить…
— Ну, идем. Помогай мне! — и старуха шагнула во двор, размахивая платками и громко шикая.
— Кыш вы, кыш! Вон пошли!
— Геть! — хрипло вторила ей Ганна, отмахиваясь почтарской сумкой, — геть, скаженные!
В темноте она видела перед собой только старухину спину, взмахи и всплески огромных платков, шагала за ней след в след, стараясь держаться поближе, да по сторонам не очень-то глазела. — Пішов геть! — и не смотрела, кому кричит, просто шла за старухой, вдыхая свежий, горький запах коры, мхов, хвои. И когда с живым деревянным скрипом приоткрылась калитка в высоком частоколе, Ганна, не раздумывая, шагнула следом за старухой, и остановилась в тесном дворе, залитом мертвенным синеватым свечением, лившимся из глазниц торчащих на кольях человечьих черепов.
— Что ж ты меня, старая — обманула? — зашипела Ганна, крепче сжимая и отводя в замахе сумку. — Вывела, да? На самый тот-позатот свет? Вот ты кто, коровья смерть!
— Ну ты, дура-девка, огонь-девка! Охолони, слышишь? Я никого не обманываю, без нужды мне. А коли тебе здесь не нравится, разворачивайся — и геть откуда пришла: за калитку, да глаза закрой, да три шага пройди. А провожать тебя мне недосуг.
— А чем здесь-то лучше? — возмутилась Ганна, однако шагнула не назад, а в сторону, чтобы не прямо против калитки стоять, а все-таки у стены.
— Здесь, девушка, лучше тем, что хозяйка здесь я. И кроме меня нет здесь для тебя никакой опасности. А я тебя не съем. Пока что. Я сперва погляжу, не расходится ли у тебя самой слово с делом. С мертвыми коровами ты не сладила, это я уже знаю. Посмотрим, как управишься с живой свиньей!
Да и распахнула настежь хлипкую дверь — а оттуда выперло огромное, мощное, в густой жесткой щетине… и оказалось круглым тугим боком кого-то еще большего, скрытого в темной утробе хлева.
— Это ж не свинья, — прошептала Ганна. — Это ж… и не медведь. Ой, мамочки, что же это будет?
— Как же не свинья? — рассердилась старуха. — Ну-ка, смотри сюда! — и обошла хлев справа. Ганна послушно пошла за ней. А там хлипкая стенка была обрушена, и на волю выпирали прочие части невероятного существа: острые раздвоенные копыта, гигантское сморщенное рыло, мохнатые уши-лопухи, из-под которых раздраженно глядели маленькие красные глазки. Лежа, чудовище громоздилось выше Ганниного носа, подпирало крышу хлевушка, а хрюкало так, как будто огромный пес взрыкивал.
— Свинья, бабусенько, — пролепетала бледная Ганна.
— Свинья, девушка, я не обманываю.
— А что же мне с нею делать? — чуть не плача, спросила Ганна.
— Да ничего особенного. Поросятки сегодня народятся — так ты их сразу бери и оттаскивай вон в тот загончик, чтобы не позадавила мамка сдуру. Ну и там будешь за ними присматривать, чтобы не дрались, и к мамкиным титькам прикладывать по очереди. А как вырастут, так и служба твоя кончится, и я с тобой честь по чести расплачусь. Если справишься. Поняла?
— Поняла.
— А у меня дел много и по дому, и вокруг. Я не услежу за поросятами. Да и не по силам мне, старой, тягать крепышей. Потому мне твоя служба и нужна. Поняла?
— Поняла, бабусенько.
— Ну, а раз поняла, так приступай. Сумку в дом занеси и сюда скорее. Хавроньюшке одной тоскливо, молодая она, рожает впервой. Ты и посиди с ней, поговори о чем. Чтобы не скучала, не боялась, поняла? Эх, надо было бы хоть молодуху какую, а лучше рожалую бабу, а не девку — незнайку да неумейку. Ну, некогда уже искать, тобой обойтись придется. Аксинья-то из Яселков хорошо поросяток принимала, да не сдюжила против коровьей смерти вот… А я замешкалась, прозевала. Эх, что теперь… Давай быстро в дом, да обратно — чтоб Хавронья не соскучилась.
Дом был кривой лачужкой, но стоял на двух крепких стволах, вцепившихся в землю мощными, широко растопыренными корнями — ни дать ни взять птичьи лапы. Вход занавешен темным войлоком, как кочевая кибитка — будто и впрямь дому привычно с места на место брести. Лесенка к порогу приставлена — две жерди с перекладинами, смотреть-то боязно, не то что лезть по ним.
— Бабусенько, — обернулась Ганна уже с хлипкой лесенки. — А как же мне теперь… к поросяткам?
— Не бойся, — успокоила старуха. — Сюда только мертвые приходят. Мы здесь мертвые все. И коровья смерть умерла тоже.
— И я? — удивилась Ганна, ощупывая грудь и живот.
— А то! Еще как!
— А как же теперь?..
— А хоть как, не твоего ума дело. Много знать — мало радоваться. Живо за дело, болтаешь тут, а роженица одна мается, — проворчала старуха и почесала свинье над сморщенным рылом. — Ты ж моя красавица, ласточка моя, перепелочка звонкая!
Ганна, не глядя, закинула сумку в дом и кинулась к Хавроньюшке — чесать раздутое брюхо и нашептывать ласковые и ободряющие слова в мягкие лопухи ушей.
Первый поросенок вывалился весь в белой пленке. Ганна в сомнении огляделась — старухи нигде не было видно, и на зов она не откликнулась. Сама Хавронья точно не могла бы дотянуться до новорожденного. Ганна вздохнула и принялась очищать его от пленки руками.
Пока она возилась с первым, второй чуть ли не сам выскочил из материнского чрева, и Хавронья беспокойно заворочалась. Ганна не долго думая ухватила первенца поперек брюха — и застонала. Поднять малыша оказалось не так-то легко. Ругая на чем свет стоит старуху, Хавронью, братцев-поросят, рыжего парня с хутора Яселки, коровью смерть и свою судьбину, Ганна кое-как оттащила свинское дитя в загончик и бегом кинулась за вторым. Да уж и пришлось за ним побегать! С визгом носился он по двору, толкался в калитку, пытался подрыть частокол. Плюнув на всё, Ганна ухватила его за задние ноги и отволокла к старшему брату.
А вот третий не торопился. Ганна уже в беспокойстве прохаживалась вдоль Хавроньюшки, поглаживала ее живот, почесывала, подбадривала и поторапливала. Наконец вся туша гигантской свиньи содрогнулась — и наружу выпал рыжеватый мокрый комок, намного более мохнатый, чем старшие братцы. Не дожидаясь, пока новорожденный вскочит и побежит копать под частоколом, Ганна сноровисто ухватила его за задние ножки. Новорожденный тут же извернулся и впился острыми зубками в Ганнину руку чуть выше локтя. Сделал пару движений челюстями — вроде как приноравливаясь отжевать кусок мяса — и выпустил руку. Хватать его на руки Ганна тем более побоялась.
— Ну, геть! — замахала она руками, направляя малыша к загончику. — Туда! Кыш!
Выручили ее старшие поросята, зашедшиеся визгливым хрюканьем. Рыжее существо бойко помчалось к ним.
Ганна приоткрыла ему дверцу — и тут же закрыла и подперла бревном.
И обвисла на заборе, почувствовав наконец, что сил больше нет у нее и на самый малый шаг. Надо было поднести кого-то из поросят к мамке, чтобы поел. Но поясницу ломило, спину крутило, ноги подкашивались — и страшно было даже подумать о том, чтобы снова таскать на руках или волоком этих детишек.
Хавронья недовольно подала голос. В красных глазках разгоралась нешуточная ярость. Ох, спохватилась Ганна, представив, на что способна такая мать, если решит, что деток у нее отняли насовсем. И, покорившись своей участи, нагнулась над загончиком, выбирая, кого поближе ловить. Рыжий поросенок сам ткнулся пятачком ей в ладонь и принялся жадно слизывать текущую по руке кровь.
Ганна ахнула, но деваться было некуда. Ухватила дитя другой рукой за мохнатое ухо и отвела к матери.
Проснувшись, долго соображала, где она и как сюда попала. Пришло в голову, что Хивря и свинятки — сон, а на самом деле лежит она в заброшенной хате бок о бок с коровьей смертью. Однако громовое хрюканье донеслось из-за шаткой стены лачуги, и жалобный нетерпеливый визг послышался в ответ. Охая, поднялась Ганна с лавки, застеленной ее же свиткой. Старуха молча выступила на скупо освещенную лучиной середину жилья, поставила на стол щербатую глиняную кружку, положила ломоть хлеба.
— Ешь, не бойся. Послужила — отпущу честно, с наградой. Только еще на два дня задержу, надо дело до конца довести. Ешь, пей, сил-то понадобится. Все дети растут…
Ганна, дивясь ее речи и не понимая, обеими руками, трясущимися от слабости, ухватила кружку, припала, только сейчас ощутив, какая жажда палит нутро. Молоко было в кружке, да такое крепкое, плотное, какого не пивала в жизни.
— Ой, — сказала Ганна. — Бабусенько, а разве у тебя и корова есть?
— Бывает и корова… Да сейчас-то зачем? У Хавроньюшки молока довольно, а деткам уже и не надо. Мне там молодцы-охотнички мяска принесли, пойди накорми и матку, и приплод.
— Как — у Хавроньюшки? Так это что ж, молоко — свиное?
— А какого тебе надобно? Чем тебе это не по душе? Молоко на свете одно — материнское, другого не бывает, запомни. И то еще запомни, что здесь я решаю, кого чем угостить, а ты выше своего разумения не заглядывай. Напилась? Наелась? — старуха вынула из руки онемевшей Ганны ненадкушенный ломоть и махнула им в сторону войлока. — Разделай туши-то да накорми Хавронью и деток, пока загон не разнесли.
На третье утро поросятки все же разнесли загон и сожрали принесенные неведомыми охотниками дары вместе с рогами и копытами — осталось только изрытая копытами и подросшими клычками, влажная от впитавшейся крови земля у калитки. Ганна опасливо смотрела на дикий пир из-за войлока, старуха же, напротив, кряхтя и довольно потирая руки спустилась во двор. Хавроньи не было видно нигде.
— Ее заботы кончились, — угадав непроизнесенный вопрос, развела руками старуха. — Детки выросли, она теперь сама по себе.
Выросшие детки бродили по двору, всхрюкивая и повизгивая, чесали спины о частокол, едва не заваливая его, и норовили выдавить калитку. Старуха калитку и распахни. Черный и белый — кабанчики — взрыли землю острыми копытами и с ревом метнулись наружу, чуть не посбивав черепа на частоколе. Рыжая, пившая кровь своей няньки, покосилась красными глазками вслед братьям, озадаченно хрюкнула раз и другой, и подкатилась к лесенке. Умильно глядя на обмершую за войлоком Ганну, малышка трех дней от роду, до самого порога хижины росточком, принялась чесать бока о жерди, вставать на дыбки и нежно похрюкивать.
— Ну, вот тебе и награда, — удовлетворенно сказала старуха. — Ты ее кровью поила, а ее мать тебя молоком. Что бледная такая? Или хочешь весь мир на своих двоих обойти, да не по одному разу? Сбрую какую-никакую сладим вам, что-то и у меня с прежних времен завалялось, что-то на заказ сделают — я тебе скажу, к кому с этим пойти. А только отныне никакой обиды тебе никто не учинит, и пути тебе все, какие есть, открыты настежь. Довольна ли платой моей за свои труды? Ну так благодари бабусеньку, а то ишь, окаменела.
Ганна приоткрыла дрожащие губы и без сил опустилась на порог. Рыжая свинья поднялась на задних ногах, оперлась передними на перекладину, дотянулась до мятой измаранной плахты и стала ее жевать.
Мэри-горюшко
За что мне такое счастье?
Я ведь не уродилась — ни красивой, ни удачливой. Так всегда и говорили: старшие-то красавицы, рукодельницы, певуньи, а вот младшая у нас с Анной не уродилась. Отец мой так говорил. Не уродилась да не удалась. Так и жила: вроде как есть я, а вроде как и нет. Матушка, бывало, вздохнет, на меня глядя — но тут же и утешится: хорошо, младшая, другим поперек дороги не встанет. То есть, значит, чтобы замуж их отдать — помехой не буду. Была бы старшей, так меня вперед пристроить надо бы. А как младшая — то и не страшно, как-нибудь уж потом, найдется кто-нибудь. Да не находился никто. Сестры давно при мужьях и своем хозяйстве, люльки качают, а на меня и не смотрит никто. Горюшко ты мое, говорила мать — да недолго горевала. А отец через год новую хозяйку в дом привел, а у нее свои порядки, не угодишь. Я рассеянная. Уж по привычному-то управлюсь как-нибудь, тут и думать не о чем, руки сами. А как по-новому пришлось, одна беда. Не туда поставлю, не так положу, не так войду, не так выйду… Тесно двум юбкам в одном доме, если не родные, против этого не поспоришь. Она добрая, да ведь хочется себя хозяйкой чувствовать. О матери всегда с уважением, отцу поддакивала: Анна то и Анна сё, и хозяйство ладное, и дом теплый, и порядки правильные. А только тесно ей было с прежней хозяйки дочерью в одном доме, что правда, то правда.
Ну и позаботилась обо мне, ничего не скажу, спасибо ей. Все равно ведь не при отце с мачехой жизнь доживать, той жизни еще ого, не век же молодой жене глаза колоть. Вот и сговорилась со своими отдать меня за брата своего двоюродного. По-родственному, чтоб большого приданого не просили. Ей ведь все матушкины шали достались, все юбки синей шерсти, все скатерти и дорожки. Да не мне ее судить.
Это я к чему? Да вот какая беда со мной приключилась, расскажу. Это мы с отцом моим, родителем, богом даденым, пошли меня замуж отдавать. А жених мой жил на другой земле. Идти через переправу, в один день не уложишься. Вот мачеха и осталась дома, за хозяйством присмотреть. А меня повел отец, как овцу на веревочке… Так я думала, слезы в себе копила, да не в добрый час мне такое в голову пришло.
На прямую переправу мы опоздали — отцу в сапог камешек попал, вынуть сразу не захотел, мелочь мол и ерунда, нечего время тратить. Но пришлось все-таки, а уже захромал. Пришли поздно, смеркалось, закрылась переправа на Гусиный берег, и ждать теперь до полудня завтрашнего. Переправщик и говорит отцу, давайте я вас в Клятую пустошь провожу, туда еще можно успеть. Там заночуете, а до другого ее края всего-то час ходу, и как раз с утреца можно на Гусиный берег переправиться, всё быстрее будет. Раз уж так спешите. Отец-то расстроился, что опоздали, вот переправщик ему и предложил. Отец и согласись. Он не знал ничего, а переправщик не сказал. Решил, видно, проучить, чтобы не шумел на переправе в другой раз. Ну, проучил, не промахнулся. Да не мне его судить.
И пришли мы в Клятую ту пустошь, и велел отец достать припас, чтобы повечерять. А сам сел и смотрит. Как будто камень у него на душе лежит, и не снести ему этого камня, так и хочет его от себя отпихнуть, хоть на кого. Он всегда так, когда в чем сомневается — надо ему убедиться, что все правильно идет. Тогда ему хорошо делается, если кто в чем ошибется. Он тогда сразу воспрянет, задышит глубже, ровнее, глаза засветятся, как у молодого. А пока ничего не случилось — наоборот, понурый весь и ищет, на кого же он сердит. Дело привычное, а только неуютно под таким взглядом, руки ватные делаются, не удержать ничего. Вот я мешочек с солью и уронила, да неудачно так: половина на плед высыпалась.
Отцу и радость:
— Овца ты, Мэри, — говорит. — Как есть овца! Соль-то дорога, а тебе лишь бы что извести.
А сам довольный — прав, значит, оказался, с пользой дело решил, избавить дом от дочери небережливой.
— Муж-то с тобой намучается, но это не моя уже печаль.
Я потупилась, соль в ладонь смела да подобрала крупинки, сколько смогла. Всё равно ему не возразишь, да и без толку. А соль и правда дорога, зачем отчий дом разорять?
Повечеряли, легли спать. Я всплакнула потихоньку, в платок, но недолго — за день много прошли и отец извел по дороге замечаниями. Конечно, когда ногу стер, от этого редко кто добреет. Да и тяжело на душе у него было.
Проснулась — еще светать не начинало, а воздух был уже утренний, светлый. Отец спал, я повернулась на другой бок и задремала опять, да не так, чтоб задремала, а только вот понежиться перед дорогой минутку… Но, видно, заснула, потому что проснулась уже на рассвете. Да не то слово — проснулась… Так меня согнуло, так скрючило, что затряслась, забилась вся, сама не знаю, как на четвереньки извернулась встать, в глазах темень, в теле ломота. Локти к подмышкам жмутся, колени к животу, и не могу распрямиться, на ноги встать пытаюсь — рушит вниз, запястья подгибаются — и в траву лицом, в зеленую, сладкую… Ой, мама, что же это со мной? Лежу на боку, озираюсь, да тут себя и увидела. Бок косматый… свой. Ощупать себя хочу — а руки… а вместо рук… Я кричу, надрываюсь — а слышу, будто овцу режут, да неумело так… У меня и памяти нет об этом, так только мелькает в глазах, будто на качелях — то видишь деревья, траву, цветы в траве… то вздернет к ослепительной пустоте… и дух захватывает, и ходит что-то внутри, как будто места себе не найдет. Только помню этот овечий крик как бы издалека и как я поняла, что это я кричу.
А отец и не проснулся.
Ну, накричалась, опомнилась, встала, отряхнулась. Что ж делать, плачь не плачь, а овца теперь Мэри, вот как есть овца. И какой-то нечеловеческий покой на меня опустился. Всё понимаю, но как за туманом каким. Вот была Мэри, вот стала овцой, ну что же — травка зеленая, ветерок душистый веет, хорошо всё. Безопасно, покойно. И стала я травку есть, кроме нее ни о чем и не думаю.
А потом и отец проснулся. Встал, озирается, будто что-то потерял. Кричит. Я было подумала — что за человек такой, не надо ли подальше отбежать. И вдруг как будто чем по голове ударили: батюшка! Я к нему. Мэри я, кричу ему, я Мэри! Ну, что там овца накричит… Кто ж поймет? Отгонять принялся, отталкивать — я как могла поднялась, руки к нему тяну, обнять хочу, чтобы он меня обнял. Вот он и отталкивал. Ну а что бы еще ему делать, когда чужая взбесившаяся овца на него напала?
Но видать слышал он о таких местах и вспомнил, как перевозчик, с которым он повздорил, — с каким лицом он присоветовал в Клятой пустоши заночевать, да и почему пустошь Клятой зовется — сообразил, приставил одно к другому. Сел на землю и заплакал. За шею меня тянет к себе и плачет. В жизни не видела, чтобы отец плакал. А перед овцой не стыдно.
Да и повел он меня дальше, к Гусиному берегу. На что надеялся, о чем думал — не знаю. Я уж точно не думала ни о чем. Бежала за ним на веревочке, да с кустов придорожных листики срывала. Опять мне душу туманом затянуло, а в тумане том покойно и ласково, знай беги да листики срывай, ничего и не надо более, когда и так всё хорошо.
И пришли мы потом на Гусиный берег, в дом жениха моего — овцу-невесту отец мой ему привел. Смеркалось уже, как в деревню вошли. А как последний луч солнца погас — тут меня опять оземь швырнуло, да согнуло дугой. Это теперь мне туда-сюда перекинуться — как в дверь войти-выйти. А тогда, с непривычки, ломало и выворачивало, как будто и в самом деле я с изнанки овца, и надо меня, что твой мешок, вытряхнуть и вывернуть. Потом уж приноровились мы друг к другу, вдох, выдох — и готово дело, здравствуйте, люди добрые, вот она я, Мэри-горюшко, вся как есть овца.
И вот тогда… лежу у порога жениховского дома — видно, кричала, что всё семейство высыпало поглазеть. И сам жених, и свекор со свекровью будущие, и с ними золовки и деверья… ох и много их!
А я лежу, разметавшись, как меня из корчей выкинуло — на лице пыль, в волосах травинки да сучки, платье измято, перепачкано, подол до колен задрался… Невестушка прибыла!
Никто не подошел, руки не подал, не помог подняться. И отец только руками развел: уж извините, что есть, то и есть, на лучшее не сподобились.
А мне и вставать вроде незачем, тут бы и провалиться сквозь землю, тут бы и кануть в нети, и сгинуть — от добрых людей, от себя самой. Но не вышло мне такого облегчения, а как отдышалась я после муки моей, как дрожать поменьше стала, так и поднялась сама, отряхнулась, волосы пригладила.
Свекор будущий лицом поелозил, да и говорит — куда ему деваться — ночуйте уж.
Ночуйте. Как бродягам случайным. Из милости.
— Что ж Молли нам девку сосватала с падучей?
— Да нет у нее, — оправдывался отец. — Сроду не было. Вот, видно, со страху… И устала с дороги.
— Дядечка, а говорят, вы овцу привели, а девкой она только у нашего дома перекинулась, — подал голос один из младших, за что тут же получил крепкий подзатыльник от хозяина. Однако сказанное сказано, будущий — или уже не будущий — свекор уставился на отца: что на это скажешь?
— Да вот… — замялся отец. — Вот ночевали в Клятой. Отругал ее… за дело… А оно вон как обернулось. Может, пройдет?
— Не пройдет, — отрезал хозяин и оглянулся на жену. Та только веки чуть опустила.
— Не пройдет, и незачем нам еще одна овца, своих хватает, а как понадобится — я у Флетчера прикуплю. А чтобы родного сына на овце женить… Нам такой славы не надобно. Еще чего! Ну ты надумал, свояк, ну ты удружить хотел!
— Так не я же, жена моя…
— Молли сговаривалась про здоровую. А ты кого привел?
— Ну так сама виновата, что руки не той стороной вставлены! — в сердцах брякнул отец.
— Может, сама и виновата, — заговорила наконец хозяйка. — Девке молодой сам бог велел перед всеми виноватой быть. Только нам она не нужна, я прямо скажу. Ваша беда — вам с ней и разбираться. А что Молли падчерица в доме не в радость, так теперь придется не то что с падчерицей — с овцой кров делить. И поделом ей. В общем, до утра ты тут гость, свояк, а утром не обессудь… Скажи, хозяин.
— Да, хозяйка, ты права. Не обессудь, свояк, а позора нам от родни не надо. Переночуете — да и возвращайтесь восвояси. Ваше горе — вам и мыкать.
Как ели, что за столом говорили — уже и не помню. А уложили меня все-таки с дочерьми хозяйскими, как человека. Раньше всех отправили спать — с дороги вроде. Всё тело, помню, ломит, а сон не идет. Отец с хозяином на порог вышли, трубки курят, молчат. А хозяйка знай младшего в колыбели укачивает да средним сказку ведет. И старшие тут рядом — делают вид, что другим заняты, а сами уши навострили. И жених мой бывший там, вроде сеть чинит. И не смотрит на меня. Зато я на него смотрю: вот, жизнь, вот какая ты могла быть, да не станешь. А он ничего, и не противный вовсе, и не злой, это же видно. Не красавец из песни, парень как парень, так ведь и я не королевна — впору друг другу пришлись бы. Да не придется примериваться, прилаживаться. И другого не будет у меня, и этот не мой.
А хозяйка всё говорит, говорит. Вздохнет и продолжит. И сидит ко мне спиной, а как будто нарочно для меня говорит. Я не слушала сперва. До сказок ли! Но речь ее размеренная, да тихий скрип колыбели, да затаенное дыхание детей — успокоили и меня. Вытерла глаза, заслушалась.
— Вот стало мачехе обидно, что падчерица краше ее. Пошла она за советом к вдове, и та велела на другое же утро прислать к ней девушку, но обязательно не евши.
Утром говорит мачеха падчерице:
— Сходи-ка, милочка, к вдове-птичнице и попроси у нее яиц!
Падчерица вышла из дому через кухню; увидела там горбушку хлеба, взяла ее и съела по дороге.
Пришла к птичнице и попросила у нее яиц, как было велено. А птичница ей и говорит:
— Подними-ка крышку вон с того горшка и загляни в него!
Девушка так и сделала, но ничего с ней не случилось.
— Ну, ступай домой к мачехе, — сказала птичница, — да скажи ей, чтобы покрепче запирала кладовую!
Вот вернулась девушка домой и передала мачехе слова птичницы. Тут мачеха поняла, что девушка перед уходом что-то съела.
На другое утро мачеха стала сама следить за падчерицей и отправила ее из дому натощак. Но девушка пошла через сад, сорвала малины горсточку и съела ее на ходу.
Когда же она пришла к птичнице, та сказала:
— Подними-ка крышку вон с того горшка и загляни в него!
Девушка подняла крышку, но опять ничего с ней не случилось. Тогда птичница очень рассердилась и сказала:
— Передай мачехе, что горшок без огня не закипит!
Девушка вернулась домой и передала эти слова мачехе.
На третий день мачеха сама пошла с девушкой к птичнице. И на этот раз, как только падчерица подняла крышку с горшка, — ее хорошенькая головка слетела с плеч, а вместо нее выросла голова овечки, и сама она покрылась густой кудрявой шерстью, а вместо рук у нее стали овечьи ножки, и заблеяла она. Мачеха отвела ее домой и заперла в хлеву с другими овцами.
А отец девушки на ярмарке был. Вернулся, привез подарки, а дочери нет. Мачеха говорит: пошла твоя дочь на реку купаться и не вернулась. Погоревал отец, а что делать? Мачеха ему и велит:
— Надо справить поминки по дочери твоей. Зарежь белую овечку, что у нас в хлеву стоит, я приготовлю еду, помянем как положено.
Наточил отец нож…
Ой, не про меня эта сказка, не про меня, знаю, что так. А зачем хозяйка ее завела? Зачем не другую? Не про Джека-лентяя, не про Молли Ваппи, что трижды обокрала великана, и выдала своих сестер за принцев, и сама за принца вышла? А про Кэт-овечку, ой…
Не про меня. И мачеха у нас не такая, и отец мой никогда… И не нарочно же она! Не к ведьме злой на погибель отправила, к родичам своим, замуж, вон дом какой хороший, ладный, хозяйка строгая, хозяин важный. И отец не виноват, разве он знал? Не про меня…
Хотела послушать, что там дальше было с Кэт, да вдруг сон такой крепкий на меня навалился, не обороть его. На один миг глаза прикрыла, а открыла уж перед самым светом.
Как и обещали, не говоря худого слова, собрали нам в дорогу еды, попрощались, не дожидаясь, пока отец благодарить за гостеприимство начнет — торопили будто.
А я уже перед домом травку щипала.
Как ни вспомню те деньки — то у меня слезы на глазах, то полон рот травы. Человеком стану — плачу, а в овечку перекинусь — и горя нет, одна зеленая сладкая трава. Но это только первые дни так было. Самые-самые первые. Один и второй.
Повел меня отец обратно на веревочке. Да не прямо с Гусиного берега к нам. Шли мы и шли, дошли до переправы, оттуда перевел нас переправщик в Клятую пустошь снова. А там отец веревочку развязал, слезы утер и пошел себе дальше. А мне что? Я следом за ним трушу, овца овцой. Хоть и тревожно мне, и не понять — отчего. Ножи точеные мерещатся, кровью пахнет. И как будто я, Мэри, утонула, но не насмерть еще, как будто из последних сил удерживаю воздух в себе и пытаюсь всплыть, а не выходит.
Стал отец мне говорить — а я как будто сквозь толщу воды его слышу. Расслышать хочу, всю душу как кулак сжала. Слышать слышу, да едва понимаю.
А он говорит. Как же, говорит, ты у нас жить будешь? Не в дом же тебя! Не в хлев же! А сёстрам какой позор, хоть и замужние. А у Молли скоро ребеночек народится — а как девка, то кто ж ее от такой сестры возьмет? А как парень — кто ж пойдет за него? Не в хлеву же тебя держать, родненькая…
Тоскливо мне стало, как будто правда резать ведут. Я к нему. А он обнял за шею: глупая ты девка. Здесь оставайся, здесь путники редко бывают, держись только от них подальше — и не обидит никто. Здесь тебе самая жизнь, смотри, какие луга, не то что в хлеву. Здесь и живи! Отстань, отстань!
Это уж он от меня пятиться стал, да руками взмахивает: прочь, мол, поди. А я за ним. А он от меня. Кыш, кыш! И руками машет. А потом палку подобрал — и палкой кинул, несильно так, напугать только.
А я за ним. Батюшка, я же Мэри, я Мэри твоя!
А он камень поднял — пошла, пошла прочь, нелюдь! Кыш!
И пустился бежать. Я за ним. А он камнями швырять в меня.
И тут помрачение со мной сделалось. Испугалась я отца родного, камнем мне по голове угодил — больно! И прочь бежать кинулась, овца…
А как опомнилась — вернулась на дорогу и за ним. Да только его и след простыл. Бежала-бежала — и забыла, зачем бегу. Трава у дороги под ветром колышется, солнце светит, ветерок теплый веет. Есть и слаще в жизни дело, чем по пыльной дороге бегать.
Так и осталась я одна на Клятой пустоши травку щипать.
Вечером вышла к ручью — издалека свежестью водяной тянуло. Там меня и накрыло снова, как стемнело. А у меня ни гребня волосы расчесать, ни щетки одежду в порядок привести, только что умыться прохладной чистой водой… А если кому довелось тогда ниже по ручью воды испить, вот удивился, поди, отчего вода солона.
Вот и пожелала я себе.
Не то что провалиться сквозь землю — куда там? А вот чтобы унесло меня отсюда на край света, на самый-самый что ни на есть крайний край. Чтобы мне и сгинуть там насовсем.
И только руками по щеками, по векам — сколько ни смывай, а солью жгло — провела, открываю глаза… и вот он. Самый край. Такой крайний, что и света там уже нет. Скользким обрывом из-под ног — в пустоту. Я даже охнуть побоялась — только рот сам собой открывался, как у рыбы, из сети вытащенной да в лодке на дно брошенной. Ни голоса, ни разума не осталось вмиг. Поняла, не почувствовала даже, а каждым суставчиком поняла, как будто они понятливые стали, или как будто им понятное для них показали: умираю. Всё здесь мертвое. Это край. И мне, живой, нечего здесь делать, а хочу остаться — придется умереть, даже и не придется, а просто иначе быть не может, здесь и времени-то нет, чтобы в нем жить.
И небо черное, но не как у нас бывает в ненастную ночь, а пустое. Нет облаков, туч, завихрений небесных, нет ветряных могучих крыльев, не проглянет светило хоть малое. Нечему двигаться, нечему светить.
Только три звездочки над самым краем висели, как будто этому тоненькому ломтику земли положен подходящий ломтик неба над ним. Вот я в них и вцепилась взглядом, за них и держалась, а сколько времени прошло — не знаю сама, только когда склон чуть дрогнул, я пальцы в глину вдавила, скрючила — а когда сесть и руками упереться успела, сама не знаю. От страха и кружения в голове, видно, согнуло меня до самой земли.
А темнота как будто схлынула, отодвинулась, как вода отступает в сушь, и из нее появился человек — правда, человек! Голова, руки, ноги, плед в темную клетку, лицо удивленное…
Встал надо мной и смотрит, а я вся трясусь, задыхаюсь, боюсь оторвать руки от глины, но к нему тянет так… Вот этот ломтик земли — зыбкий, ненадежный, мертвый он, как будто и нет его вовсе. А человек этот… И сейчас он у меня перед глазами, как тогда: волосы встрепаны, плед с плеча свалился, ноги расставлены широко, крепко… и сам такой крепкий, крепче этой земли небывучей. И живой. Светится жизнью и крепкой силой. Светло вокруг него. И я — к нему. А он говорит — как с испуганной овцой, в самом деле, голосом тихим, ровным. Заговаривает. Да ты кто, говорит, а я вот, вот он я кто такой, — а сам стоит, как в лодчонке утлой, ловко и крепко, но ловит, ловит эту землю, как будто она из под ног уйти, перевернуться, сгинуть может в миг любой. И — шаг ко мне, и на руки подхватил. Зажмурься, говорит. И ветром холодным обдало, охватило, тянет от него. А у него руки крепкие, грудь горячая, и сердце в ней стучит сильно и ровно. Дрожу у него на руках, уж и ветер стих, и тепло, как от летнего солнца — а отцепиться не могу. И тут меня опять наизнанку вывернуло — прямо у него в руках. А он удержал.
Мать ууйхо
Опьяняюще ярким стоял мир перед Видалем. Каждое утро было новеньким, прохладным, усыпанным сверкающей росой. Выходили на рассвете, плотно позавтракав и прихватив по большому ломтю черного душистого хлеба. В новой куртке, в новых высоких сапогах Хосе поначалу чувствовал себя слишком нарядным для того, чтобы бродить по колено в траве или переходить вброд ручьи. Но от мастера отставать не след — вот и шел сквозь чудеса: лоскутные завесы листвы, столбы золотистого света, прохладные заросли, солнечные поляны, свет и тень мелькали, кружа голову, из-под ног взмывали слюдяные стрекозы, вспархивали бархатные бабочки, с гуденьем взлетали тяжелые жуки. Маленькие существа тут и там сновали между поваленными стволами и пучками высокой травы, торопились по своим делам, жили свою короткую жизнь. Из пронизанных солнцем крон деревьев лился птичий звон.
Куртку и сапоги из самой Суматохи принесли — ходили с мастером Хейно на ярмарку. В Суматохе — мельтешение людей, музыка и голоса зазывал, запахи жареного мяса и свежего хлеба, шарманки и карусели. И людей столько, сколько Хосе за всю жизнь не видел. Отец брал его с собой на ярмарку в Марке, там людей собиралось раз в сто больше, чем в Лос-Локос, а в Суматохе — и того больше. И все в одном месте толкутся, между собой спорят и ругаются, а то пляшут и поют. И карусели. Не то чтобы Хосе каруселей не видел. Катали детвору и в Марке: лавки из досок, пропахших рыбой, крутит сооружение слепой коняга с рудника.
Не то в Суматохе! Под ярким балдахином с золотыми кистями по кругу шествовали невиданные твари — то голубые, с длинным складчатым носом, воздетым вверх, с роскошными башенками на спине и торчащими вперед длинными клыками; то желтые, мохнатые, как гуанако, с тем же презрительным прищуром и свешенной губой, но с двумя высокими горбами на спине и с нарядной попоной между горбов; то диковинные кони белые, с круто изогнутыми шеями, тонкими ногами и хвостами до земли; то вроде коней тоже, но с козьей шеей и крученым рогом, Хосе нарочно присмотрелся — один рог посреди лба; с рогами были еще другие — тоже вроде коз, но большие, и между ушами как будто целые кусты торчат, без листьев, без всего. И все это катилось и катилось, кружились обвитые лентами столбы, хлопали на ветру складки балдахина, поскрипывали внутри карусели тайные колеса, а вокруг гремела музыка.
Мастер Хейно кивнул головой — давай, мол, мальчик. Но в Марке отец не пускал Хосе на карусель, денег хватало в обрез на соль, сахар, муку, спички и прочее, что в хозяйстве необходимо, на баловство не оставалось. Да и слишком взрослый был уже Хосе для детских забав. Только маленькие дети да порой влюбленные пары отправлялись кружиться под выцветшим небом пустыни. Влюбленные что дети, им можно. И Хосе одарил мастера хмурым взглядом — за что маленьким дразнит? А уж сколько стоить могло катание на роскошной карусели со слонами и оленями…
Но на ярмарке провели полдня, никуда не торопился мастер Хейно, придирчиво выбирал обновки ученику, всю одежду новую и обувь справили, и ели жареное мясо со свежим хлебом, запивая золотым ледяным пивом. И припасов домой набрали — той же соли, и сахара, и спичек. Так что успел Хосе разглядеть своих ровесников — не стесняясь, садились верхом на чудных зверей, и на качелях, к облакам взлетающих, качались, и бросали в кольцо мячи, добывая пёстрые призы… Но раз отказавшись, неудобно было проситься — Хосе решил, что успеет еще, видно, мастер часто ходит в Суматоху, что по многу припасов не набирает, только чтобы без труда донести. Впрочем, после пары глотков он было насмелился попросить… Но тут пришли друзья мастера, чудные не меньше, чем те карусельные звери. Кто в меховой одежде с бубенчиками, кто с косой до пояса, кто в короткой, едва до колен, клетчатой юбке. И одна девушка была среди них, красивая, с ямочками на щеках, с быстрыми карими глазами, с красными цветами в косах, обвитых вокруг головы. Все разглядывали Хосе и подмигивали ему, а девушка бранила мастера Хейно, что пивом поит ребенка. Хосе с ней спорить при мастере постеснялся, а сам мастер только рукой шевельнул — не о чем говорить, мол. Хосе так же и подумал: не о чем говорить, да и нечего обращать внимание на девушку, которая между мужчин крутится без стыда и пиво с ними пьет… Но карусели на сегодня точно отменялись.
Устал в Суматохе Хосе так, что дома едва доел ужин, над тарелкой засыпал. И снились ему карусели, как маленькому, и девушка с ямочками на щеках. А утром снова — лес, поляны, ручьи, камни, жуки, гусеницы, птичий гомон.
И сама острота ежедневной радости не давала забыть о том, что далеко-далеко, за темной бесконечностью — в десять мальчишеских шагов шириной — серые, податливые, как паучьи брюшки, раздуваются жадные до жизни ууйхо. И пьют саму жизнь, взамен оставляя кормильцам пыльный покой безвременья и пропитывая самые кости ядом. Зато какая музыка будет из этих костей!
Вот первая ненависть, которая поразила Видаля, острее и сильнее он ненависти не испытывал никогда, поэтому и считал эту ненависть у себя — единственной.
А тогда, в свои тринадцать, он и не думал считать в себе ненависть или любовь. Всё просто было, очень просто, слишком. Или пусть Мать Ууйхо исчезнет из мира, или Видаль на такой мир не согласен. Условие это он только себе и ставил — без слов и объяснений, просто чувством таким, что не должно больше быть Матери Ууйхо, совсем быть не должно. Как никогда и не было. Тогда Видаль сможет жить дальше, а пока — вся его жизнь стояла, как колесо, между спиц которого застряла палка.
Палку надо было вынуть.
План у Видаля был самый простой: прийти в пустыню в ту ночь, когда явится Мать Ууйхо, и сделать так, чтобы ее не было. Как болотце убрал — так и Мать Ууйхо убрать хотел. А в чем разница-то? Болотце маленькое, Мать Ууйхо большая. Потрудиться придется подольше — и всего-то.
— Тут болото завелось. Попробуй его убрать, — сказал однажды мастер Хейно.
Хосе, отведя от лица волосы, всмотрелся: не полянка лежала перед ним, окруженная березами и ольхой. Затянутая ряской, недвижно стыла темная вода, пучки высокой травы теснились на редких кочках. Вокруг из зелени выступала яркая желтизна болотных ирисов, между ними, словно остовы неведомых зверей, торчали выбеленные сучья павших жертвой болота деревьев. Это вот — болото? Хосе шагнул ближе — мягкая, ненадежная почва выпустила темную влагу на новые сапоги.
— Осторожней, — предостерег мастер Хейно. — Опасное место: провалишься в жижу — и засосет.
Хосе оглянулся с недоумением. Всё здесь, каждая веточка, каждый листочек, каждый малый жучишка — мастера произволом и соизволением росло и дышало. Откуда бы взяться болоту, если не мастер его высмотрел?
— Зачем?
— Лучше один раз увидеть. И убрать.
Хосе нечего было возразить. Пришлось приниматься за работу.
Он уже умел залатать поврежденный ствол дерева, взглядом выхватывая подходящие куски здоровой и крепкой коры вокруг. Под здоровой корой должна быть здоровая древесина — и она станет такой, как только с корой будет все в порядке. Создавай видимость, повторял мастер Хейно. Сущность сама подтянется. Смотри, говорил мастер, когда гончар лепит кувшин, он создает вид этого кувшина. Его внешность, его форму. И кувшин не может быть ничем другим, если он выглядит, как кувшин. Создай видимость здорового дерева — чтобы удержать эту форму, дереву придется быть здоровым.
Сейчас Хосе говорил сам себе:
— Я возьму траву, ту, что в трех шагах от края воды и дальше. Я увижу траву крепкую, высокую — такая не станет расти на болоте, правда, мастер? Нет коричневой, красноватой воды… Есть трава, густая и зеленая, и под ней корешки сплетаются в земле, и ползают черви и личинки жуков…
— Нет. Не думай об этом. Ты не можешь видеть этого, если не разроешь землю. Смотри поверх. Создай видимость.
— Эта трава крепка и высока, — послушно начал заново Хосе. — Мелкие белые цветы с кружевными листьями растут в траве. Желтая бабочка качается на стебле, сложив крылышки. Ветер колышет траву. Трава зелена и густа.
— Да, — сказал мастер Хейно, и Хосе не смог бы ответить, через сколько времени мастер это сказал. — Да, мальчик.
И прошел вперед, раздвигая носками сапог крепкую высокую траву, притоптывая в сомнительных местах. Остановился на самой середине поляны.
— Вот здесь, — шевельнул рукой влево, — ольху насади. Или березу. Две.
И ушел домой, готовить ужин.
А Хосе остался. От нахлынувшего понимания пробрала дрожь. Мать Ууйхо можно убрать вот так же просто, как это болото — и ее не станет насовсем. По-настоящему исчезнет она, если затянуть ее место в небе звездами и тьмой.
Ему пришлось отдышаться, прежде чем начать высматривать в вечернем воздухе тонкие серебристые стволы. О Матери Ууйхо он больше не думал — так только, чуть-чуть, на самом донышке, колыхалась мрачная радость.
Что в ночь Матери попасть сможет, не высчитывая разницы между Семиозерьем и Сьеррой, Хосе себя старательно уверил: если так просто попасть в 'куда', то и в 'когда' попасть ненамного сложнее. Во что веришь, то можно и попробовать сделать. А во что не веришь — на то и не замахнешься. Неверие связывает руки, так мастер Хейно говорил. Видаль ему верил, чтобы работа получалась.
Что веревку, сплетенную Мьяфте, ему не отвязать от себя никак, он уже проверял. Сразу понимал, что никак не отвязать то, чего не только не видишь, а и нащупать не можешь. Но проверить не поленился. Однако выход был — дождаться, чтобы мастер Хейно ушел в другие места — по делам или к друзьям в гости. Он так уйдет бывало в сумерки — и по утренней росе вынырнет из тумана, чтобы не оставлять растущее Семиозерье без догляда, без присмотра, без отцовских наставлений. А Видаль рано проснется и сядет на крылечке деревянном его поджидать, не потому что один оставаться боялся, а чтобы обрадоваться скорее. А вот если сразу за ним уйти и чуть раньше вернуться — он и не заметит ничего. Всего-то делов.
Так что всё у Видаля было готово к делу, всё продумано и рассчитано. Взять с собой хлеба краюху (а родник чистый всегда при нем), ненавистью проложить путь к Матери Ууйхо — в то самое место и в ту самую ночь. Проще пареной репы.
И вышло — просто. Через седьмицу, едва стемнело, мастер Хейно ушел налегке, только грибов лукошко прихватил — гостинец для далекого друга, взявшегося из ледяного царства высмотреть земляничные поляны и сосновые леса. Хосе вышел на крыльцо, вроде проводить, а на самом деле — убедиться, что точно мастер ушел. Хейно Куусела обернулся, кивнул, да и ступил через поваленный ствол, обозначавший дверь в Суматоху.
Хосе постоял короткую минутку — мало ли, забыл чего мастер, вернется за. Но мастер не вернулся, и Хосе скакнул в дом и обратно — только дважды стукнула дверь — и с котомкой под мышкой прыгнул с крыльца во влажную траву, а там замер… и понял, как же истосковался по звонкой, солоноватой суши Десьерто. Тьма-пустота густой черной жижей проступила сквозь видимость ночного леса. Хосе задержал дыхание и перебежал на ту стороны — не зная, где та сторона, но помня, что там на темное небо в сверкающих звездах наползает раздутая туша Матери Ууйхо, и бледные молнии пляшут вокруг тугих огромных боков. И после влажного, нежного воздуха Семиозерья горло перехватило от пустынного ветра, несущего тонкую солоноватую пыль над каменными полями. Ветер дул прямо в лицо, и Хосе не пришлось оборачиваться и искать глазами — перед ним, вывалившись из-за мертвенно-бледных вершин Сьерры, ползла в небо сизая туча в ореоле грозовых разрядов. Здравствуй, Мать, прошептал Хосе враз пересохшими губами. Затем и пришел сюда, чтобы встретиться с ней — и она оказалась совершенно такая, как описывали видевшие ее, и Хосе это поразило больше всего. Что он увидел ее такой, какой представлял по рассказам. До складочки, до самого мелкого вздутия, до сетки молний — всё оказалось таким, каким увидел внутри своей головы. Он пришел — и она шла ему навстречу, не отклоняясь. Ее становилось всё больше, неба — всё меньше. И горы затягивало серой завесой — с тихим треском и шорохом из раздутого брюха сыпались зерна ууйхо.
Хосе выпустил из рук котомку, переступил, покрепче устраиваясь на каменной россыпи. Окинул взглядом еще свободное небо над головой, собрал его всё в памяти и держал так наготове, а когда Мать Ууйхо подошла вплотную и закрыла всё — звезду за звездой стал развешивать обратно, все на свои места. Увидеть это мрачное, сверкающее небо неоскверненным. Увидеть его без раздутой утробы Матери Ууйхо, без серой дымки, струящейся из нее. Просто увидеть это небо чистым. И чтобы звезды сверкали.
Лиловые молнии густо потекли по утробе, собираясь в огромный клубок. Мать Ууйхо стояла уже над головой, полупрозрачная, но огромная, и острые зерна лупили по щекам, по плечам, а молнии трещали и клубились совсем рядом. Хосе не удержался — выпустил из глаз звезды, увидел молнии — и в тот же миг одна из них сорвалась и ринулась к нему. Мир остановился. Лиловое жало летело к Видалю, а вокруг тускнели, тонули в сизой тьме едва проклюнувшиеся звезды. Их свет таял — молния разгоралась, медленная и неотвратимая. Наконец она стала такой яркой, что Видаль не вынес, зажмурился — и полетел ей навстречу.
Лицом о камни — неожиданно больно. То есть боль была не та боль распада и уничтожения, которой ожидал Хосе, а простая и грубая боль от удара лицом об острые камни. Во рту стало солоно, в носу хлюпало. Навалившаяся тяжесть прижимала всё тело к камням, а потом вдруг рывком подхватила и поволокла — и голос Хейно Кууселы хрипло выкрикивал слова, которых Хосе не понимал. Вокруг стоял грохот разрядов и оглушительный треск лопающихся камней.
— Ногами! — первое, что понял Хосе, — ногами, беги! — кричал мастер Хейно. И Хосе подобрал волочившиеся ноги и побежал, цепляясь за руку мастера, а молнии бились вокруг в безумной пляске и ливнем сыпались колючие зерна, кромсая одежду, полосуя лицо и руки.
Они укрылись в нагромождении камней.
— Никогда, — прошипел Куусела, — никогда не вставай против того, что больше тебя самого! Сильно больше! Вот так больше! Закрывает небо!
А потом опять говорил непонятные слова — ругался на своем языке. Но Хосе обнял, прижал к себе — и так сидели, скорчившись между обломками, дрожа от холода. Когда Мать Ууйхо, сыто урча и переваливаясь, скрылась за горами, мастер разбудил Хосе и они выбрались наружу. Там их ждали. Серые сутулые фигуры покачивались в утренних сумерках, почти растворяясь в них, и Хосе показалось, что это так разбухли и выросли за ночь высеявшиеся из материнской утробы ууйхо. Но это оказались люди, у них были серые плоские лица и вялые пустые руки. При виде Хосе и мастера Хейно они принялись наклоняться, брать в руки камни и бросать, наклоняться, брать в руки камни и бросать, наклоняться, брать… Они не произносили ни слова, не сговаривались между собой. Но камни летели слаженно и метко, раз за разом, волна за волной. И мастер Хейно схватил Хосе в охапку и втиснул между камней, а сам замешкался и остался снаружи.
Стук камней давно прекратился. Мастер лежал неподвижно и не говорил ничего. Хосе сидел, не шевелясь, под обломками скалы, пока они не стали накаляться от солнца. Тогда он с трудом отодвинул тяжелое тело мастера и выполз из укрытия. Солнце стояло высоко. Кровь темной коркой запеклась на камнях и на разбитой голове Хейно Кууселы.
Хосе обмыл ему лицо своими волосами, но мастер не открыл глаз и не шевелился. Тогда Хосе встал с колен, как мог, обхватил тело и сказал:
— Мы идем домой.
И шагнул во тьму.
Черная птица
Мьяфте снова явилась темной тенью из небытия, в котором он тонул. Наклонилась над ним, позвала. Он ее не слышал, но глаза открыл. Увидел ком тьмы, ворох темных платков, яркие глаза.
— Эй, эй, куда же ты? — спросила Мьяфте, а он опять ни звука не услышал, но понял, что она говорит, только не понял, что за смысл в ее словах. Он — никуда. Он лежал на полу в доме мастера Хейно, а мастер лежал рядом, как Хосе уронил его, падая сам. Мьяфте показала вниз между ними. Там по невидимой веревочке тонкой и тугой струей текло синеватое сияние. Один конец веревочки слабо светился вокруг запястья мастера, другой, как жадный корешок, пульсировал на скрюченной старческой руке. Хосе пошарил взглядом вокруг, но не увидел никого кроме мертвого мастера и Мьяфте, стоявшей над ним. Он захотел дотронуться до веревочки — и чужая старческая рука шевельнулась как бы в ответ на его желание. Он захотел взглянуть на свою руку и поднес ее к глазам — но это была всё та же бледная рука с искривленными пальцами, расслоившимися ногтями, сморщенной пятнистой кожей. Уродливые пальцы шевельнулись прямо перед его лицом.
Мьяфте закрыла ему рот ладонью и отвела чужую страшную руку в сторону.
— Тише, тише, дитя, все зверье распугаешь.
Хосе с облегчением выл ей в ладонь и плакал, а она села возле него на пол и гладила редкие седые волосы, намокшие в разлившейся вокруг его головы луже.
— Не бойся, мальчик, уже нечего бояться. Что случилось, то случилось, и я уже здесь. Слушай меня, слушай, душу мне всю доверь, раскрой без остатка, мое дело, моя работа сейчас, а ты только слушай и слушайся меня, нечего бояться, я твое рождение и смерть твоя, я твоя любовь, твоя жизнь — и ты в моих руках, дитя, не бойся, твой срок еще не настал, да и тогда не бойся, дитя. Я мать твоя — роднее родной, через нее ты родился, но от меня, и я знаю твой срок, и еще далеко до него. Пуповиной смерти стала веревочка, в мертвого утекла твоя жизнь — но радуйся, что много тебе отпущено, всё не всё, но вернем обратно, сколько сможем, ты дыши только, слушай меня и ничего не бойся. Я петь стану, а ты слушай, я шить стану, а ты смотри, потом забудешь, а пока можешь смотреть, дитя, худшей беды от этого не будет.
И пела, и медленно, трудно пробиваясь, тёк обратно белый свет. Мьяфте осторожно распустила узел на руке мастера, подняла выше тот конец, дала стечь сиянию всему, до последней капельки к запястью Хосе, и только потом отвязала веревочку. Смотала в клубочек, сунула в кошель.
И шила, медным ножиком отхватывала от платков лоскуты, вертела их так и сяк, прикладывала, костяной иглой и жильной нитью сшивала их — выходила неуклюжая птица, черным- черна. Раздвинув на груди платки, вытянула темное ожерелье. Хосе зажмурился от него.
— Всё-всё, дитя, я только два камушка возьму, птице твоей душе глаза пришью. Смотри на нее, а она на тебя будет смотреть, и вперед тебе будет смотреть, чтобы видел ты, куда идешь и придешь куда. Эта птица — твоя смерть, как я, твоя жизнь, как я. А еще она — жизнь Хейно Кууселы, которую он должен был прожить, да не успел. На тебе теперь его долги, тебе теперь его везение и неудачи, страсть его растить мир и освобождать из небытия — тебе. Любовь его тебе тоже достанется, но не впрок это ни тебе, ни ей, да тут уж ни вы не властны, ни я сама. Ничего. Как- нибудь проживешь и за себя, и за него. Вот видишь, сколько твоей жизни обратно к тебе вернулось? Вставай же, дитя, вставай. Пора хоронить мертвых, пора жить.
Он встал и помогал ей, неловко управляясь с непривычно большим, сильным телом. Черная тряпичная птица прыгала вокруг него по полу, приволакивая крыло, пыталась вспрыгнуть на стол и сердито каркала. Видаль посадил ее на плечо и время от времени поглаживал, чтобы успокоить. Мастера обмыли, обернули тело тонким холстом и уложили на столе. Мьяфте повела Видаля на холм за ручьем. Здесь, сказала, хотел он остаться, пусть здесь спит.
Вырытую яму на ночь накрыл Видаль еловым лапником, как велела Мьяфте, и вернулся в дом. Мьяфте уже развела стряпню.
— Друзьям его извинить меня придется. Не позову прощаться: встречаться со мной им незачем, а я хочу с Хейно до утра посидеть. Нравилось мне смотреть, как он живет — побуду и с мертвым. Ты можешь остаться, а им потом передашь, чтоб не корили меня, еще придет им время со мной спознаться.
— Разве мертвые не к тебе идут? — спросил Видаль.
— Кто знает, в чем больше человека, в душе его, улетающей прочь, или в теле, остающемся лежать сморщенным яблочком печеным? Я так думаю, что пополам. То, что отсюда ушло, то навек со мной. То, что здесь остается… Вот с ним хочу побыть, пока можно. До света. Тогда зови его друзей, похороните и помянете. Я приготовлю всё. Нравился он мне. Вот, — сунула Видалю пустое ведро, — что стоишь? Воды принеси.
Утром Мьяфте ушла, как обещала. Поцеловала мастера в холодный лоб, согбенной вдовой просеменила к двери.
Видаль посидел еще, глядя и не видя, как птица скачет по столу и теребит саван.
— Эй, кыш! — птица подпрыгнула, громко хлопая крыльями, перелетела ему на плечо, стала перебирать волосы, больно ущипывая за ухо. — Ну тебя… пора нам. Эх, птиченька, зачем я на свет-то родился? Одно горе от меня, а? Что матери родной, что отцу, что вот… А? Что молчишь, лоскутница?
Птица мурлыкнула, нахохлилась, припав к плечу. Вдруг закинула голову и защелкала длинным клювом по-аистиному — Видаль дернулся, чуть с лавки не свалился с перепугу. Птица вспрыгнула ему на голову и громко, на весь дом, пронзительно заорала.
— И это вот ты — моя душа? — спросил у нее Видаль, но птица не ответила, нелепо растопырив крылья, порхнула к двери, ударилась, упала на пол.
— Ну, пошли тогда, — сказал Видаль, поднимаясь. Снял с крючка старую рваную куртку, которую мастер надевал в самые грязные дождливые дни. От той, что носил обычно, остались окровавленные ошметки. Вместе с Мьяфте отрывали их от изорванного камнями тела. Видаль тряхнул головой, зажмурился, отгоняя воспоминание. Вот так теперь есть и будет всегда, и никогда не изменится это. Можно забыть, можно отстраниться. Но на самом деле всегда теперь будет так: мертвый мастер, камнями вколоченные в его тело обрывки замши, едва слышные, монотонные причитания Мьяфте — не рыдания для облегчения собственной боли, а необходимая работа: обмыть остывающее тело руками и водой, обмыть уходящую душу голосом и словом. Того, что случилось, не отменить.
Видаль распахнул дверь рывком и шагнул наружу. Постоял с зажмуренными глазами и осторожно сел на ступеньку, медленно выпустил воздух сквозь сжатые зубы. Пока Мьяфте была здесь, он невольно сутулился, чтобы рядом с ней оставаться, ближе к ее взгляду и глухому голосу. А теперь — исполнился решимости, выпрямился во весь рост. Вот и отметился лбом о притолоку. Птица пробежала по рукаву вверх, вскочила ему на голову и заурчала озабоченно.
— Всё-всё, идем, — сказал Видаль и поморщился: вороньи когти изрядно оцарапали кожу под волосами.
Одну дорогу к мастерам знал Видаль: через поваленную березу прямиком в Суматоху. Туда и пошел.
— Хейно-то совсем отбился от компании… — Мак-Грегор заглянул в глиняную кружку, примериваясь, звать ли уже подавальщика, или сначала допить остаток.
— Да он всегда был домоседом, — с набитым ртом возразил Кукунтай.
— Он-то? Да где его только не носит! — хмыкнул Хо.
— Он основательный. Каждый листочек выглядывает. Может с каким-нибудь кустиком неделю провозиться, — заступился Гончар. — Вот и сидит дома, всё возится, возится.
— Да брось, у него там уже всё готово, скоро в гости позовет — рождение места отмечать, — возразил Мак-Грегор.
— А мне этот мальчик не нравится, — сказала вдруг Ганна. — Неприятный. Много об себе воображает.
— Да ладно, что он тебе?
— А что Хейно из-за него чуть не погиб — этого что ли мало?
— Как это — чуть не погиб? — всполошился Кукунтай.
— Да вот когда его из дому уводил.
— А, это… ну, дело такое. Бывает. В пути мало ли чего случиться может! Мальчик ни при чем.
— Как ни при чем? Если б не он, Хейно бы с караваном пошел, не стал бы рисковать. Вот уж нашел ученичка, как будто ближе не мог.
Хо неодобрительно покачал головой.
— Мастеру виднее, где и когда. И кого в ученики брать. Это всё не просто так случается. Кто кому мастером приходится, кто кому учеником — не в этой жизни решено. Говорят, учитель и ученик связаны между собой в девяти рождениях. Потому и узнают друг друга с первого взгляда. Потому и доверяют друг другу. Уже виделись. Уже вместе росли.
— Это как еще — вместе росли? — фыркнул в пивную пену Олесь.
— Да не как дети по одной улице бегают, в одной луже полощутся… Растет ученик — и учитель растет. Хотя, с другой стороны, именно как дети в одной луже — да, так и есть. Потому что для вечности что ученик, что учитель — дети малые. Учить их еще и учить. Расти им и расти…
— А мне он все равно не нравится. Хейно с ним, как с писаной торбой, носится. Его дело! А мне-то что? Его ученик, не мой. И мне он — не нравится. Дурачок какой-то. Ой… Хейно! — Ганна вдруг приподнялась, просияла.
— Смотрите, Хейно! Пришел все-таки…
— Где? — обрадовался Мак-Грегор, встал, выглядывая тощий длинный силуэт в толпе, а точнее — над нею.
— Да вон же — высокий, вон!
— Ты что, девушка? — удивился Кукунтай. — Волосы же…
— Брюнет, — покачал головой Мак-Грегор. — Что это ты, Ганнуся?
Ганна перевела на друзей испуганные очи:
— Правда, волос черный. Как это я так? Ой, не к добру это!
— Ну, Ганна, не полоши себя попусту. Мало ли, что померещилось. Против солнца смотрела.
Ганна отмахнулась и проводила высокого тощего незнакомца мрачным взглядом. Он давно удалился, скрылся в толпе, а она все никак успокоиться не могла: кружку с места на место переставляла, отламывала куски пирога и оставляла на тарелке, то и дело пыталась встать и идти к прилавку, вместо того, чтобы кликнуть подавальщика.
Что такое тревога? Вот ведь — не чувствуешь ни любви, ни страха, просто всё остановится внутри и больше не движется. Не может двигаться, теряет это свойство. Потому и не чувствуешь ничего. И поверх бесчувствия души — мечешься телом, словно оно за двоих пытается двигаться, испугавшись неподвижности души.
— Ладно, ладно тебе! — пытался ее успокоить и Хо. — Ну с чего ты взяла, что это что-то вообще значит?
Ганна вскинула голову — резкие слова едва не сорвались с губ. Но застыла, переменившись в лице, побелела вся. Мастера повернулись в ту сторону. Незнакомец стоял перед ними, слегка сутулясь, как Куусела сутулился обычно. И куртка на нем была — старая куртка мастера Хейно, вся в штопке и заплатах. Он стоял, сунув руки в карманы, и молчал, и мастера молчали, глядя на него. Он был какой-то странный и этим пугал — то ли сумасшедший, то ли просто очень больной: и ежится, и глаза горят бессмысленно, и перекошен обветренный рот. Ганна прижала руки к лицу, чтобы не закричать от нахлынувшего ужаса. И тут края куртки зашевелились на груди незнакомца и на свет вылезла, моргая и широко разевая длинный клюв, встрепанная черная птица, вроде ворона или грача… или поменьше — может быть, скворца или дрозда какого-нибудь. Трудно было ее рассмотреть толком, хотя она вот — вскарабкалась по замызганной замше и уселась на плече незнакомца с важным видом, переводя взгляд блестящих черных глаз с одного мастера на другого.
— Я пришел, — сказал вдруг незнакомец очень хрипло, с трудом, так что почти никто не разобрал его слов. — Я вас позвать пришел, — сказал он уже легче, как будто первые слова проторили дорожку следующим.
— Чего тебе, добрый человек? — ласково спросил его Хо, выходя из-за стола и перемещаясь так, чтобы оказаться между ним и остальными.
— Я Хосеито. Вы меня… Вы помните Хосеито? Мастер умер. Погиб из-за него.
Помолчал, вслушиваясь в глубину чудовищно перемешанных слоев собственного естества, и добавил отчаянно громко:
— Из-за меня.
Ганна Гамаюн
Пили на поминках по Хейно крепко. Уговорились только, чтоб до света уйти в Суматоху — там их косые спьяну очи ничего уже не разворотят, не размажут, не порушат.
Ганна вровень с Хо и Мак-Грегором опрокидывала чарку за чаркой и с ужасом понимала, что злая пенистая горилка льется в горло, что твоя вода. Огонь в груди жег сильнее пьяной отравы. Укрытый еловыми лапами холмик, от которого ее не смогли увести — унесли — мастера, стоял перед глазами, и сквозь него видела теперь Ганна всё: и стол, словно в насмешку уставленный богатой стряпней, и кривое стекло бутылей, и лица друзей, с которыми вот никакой беды не случилось, и мальчика этого злосчастного, погубившего Хейно… и всю свою тоску на сто лет вперед. Чем же горе залить, хоть бы на час какой?
Ганна поднялась — и оказалась опять сидящей на прежнем месте за столом. Снова дернулась вверх, еще раз… Ноги ее не слушались. Не так проста оказалась белая, без всяких прикрас вроде изюма или перца, честная горилка. С ног, выходит, свалила. Но горя-то не утишила!
Так горело в груди, что Ганна решилась во что бы то ни стало выбраться наружу, на воздух, в прохладу ночную. Посидеть на бревенчатом крыльце — как мечтала с Хейно сиживать вечерами, да вот не позвал ни разу — ни замуж, ни просто так. И не позовет уже. Ждала-ждала, да и нечего стало ждать.
Ах, губы крепче закусить — мне против такого горя выстоять еще, неужто против горилки не стою ничего? — так и встала, и вышла из-за лавки, и до двери дошагала. Остальные и не заметили — далеко уже за полночь было и не одна бутыль каталась под столом, досадливо пинаемая ногами.
А за дверью ночь стояла черная, как будто и нездешняя какая-то, из черноты сыпался и шуршал в листьях и траве угрюмый дождь. Холодная, ясная эта новая часть мира оплакивала своего мастера. Но у Ганны было собственное горе, с этим несоединимое, и плакать вместе с дождем ей было невмоготу. Так и стояла столбом под навесом крыльца, пялясь в темноту внутри себя.
— А вот и ты, а я за тобой, — голос был тихий, внятный, без всякого выражения. По ступенькам к Ганне поднялась закутанная в тряпье старуха.
— А… это ты, Чорна, — равнодушно откликнулась Ганна. — Пришла плакать?
— Некогда мне, — отрезала Мьяфте. — И забыла, что ли? В черном — все цвета, и все цветы выходят из черной земли. Пойдем со мной.
— Что, пора мне уже? — как будто облегчением отдались в душе слова старухи.
— Пора-пора. Нечего тебе здесь делать. Эти… пусть горькую пьют, а нам с тобой не до баловства. Идешь?
Ганна покорилась — крепко пальцами обвила протянутую морщинистую руку, зажмурила глаза… открыла глаза.
Вокруг такая же темень стояла, словно под землей, но на заостренных кольях ограды светились старухины фонари. Ганна было зажмурилась, но вспомнила, как служила старухе службу — ничего, притерпелась, даже поближе к свету подносила то запутавшуюся веревку, то еще какую мелочь с подворья. Ничего, ничего, главное — не бояться, заданный урок на совесть выполнить, а с пустыми руками старуха не отпустит.
А старуха машет уже из приоткрытой калитки: заходи, мол. Зашла, огляделась Ганна — не изменилось ли что с прошлого раза. Нет, не изменилось. Как будто даже не вчера, как будто и вовсе не выходила Ганна за ограду, а так, в загончик заглянула, парного мяса поросятам задала — да и вышла на двор. Всё так и стоит, как стояло, и свет белый сверху льется из пустых глазниц.
— Ты нынче прямо в дом проходи.
Ганна кивнула и полезла по шаткой лесенке. Едва откинула войлок, поняла, что за работа ей на сегодня припасена. Посреди избы дергалась и крутилась деревянная люлька, перекручивая веревки, привязанные ко вбитому в потолок крюку, а в ней заходился нечеловеческим криком младенец.
Ганна бестрепетной рукой выровняла люльку и принялась ее раскачивать, не больно-то приглядываясь к торчащим из-под рогожки темным коленкам, завернутым книзу губищам в тонкой шерстке, короткому тугому хвостику.
Что за приплод может завестись в этом доме, она еще помнила, но нынешнее дитя было чересчур мосластое и зачем-то в колыбели, а не в хлеву. Однако не Ганна тут хозяйка, не ей и указывать, кому какое место подобает. Ее дело — укачать или еще как-нибудь успокоить дитя.
И она взялась качать, толкать и придерживать веревку, ровно, скучно, без затей, отмеряя качанием время, как это делает маятник в кукушечных часах. Поскрипывали веревки, летала туда-сюда по стене огромная тень — в ней колыбель превращалась в летучую лодку со спущенным, обвислым по сторонам парусом. Взад-вперед, туда-сюда… к себе — от себя. Как будто то притягивала, то отталкивала что-то, застрявшее в груди, а оно насовсем не отделялось, оставалось корешком внутри, но размеренный ход маятника-колыбели повторением сгладил, усыпил боль.
Странное чувство овладело ею. Горе никуда не ушло и даже не отступило, но оно не было самым важным делом на свете. В люльке отчаянно брыкалось и рыдало дитя, и ни покачивание, ни нежные прикосновения и поглаживания не могли его успокоить. Поправляя сбившиеся рогожки, теплее укутывая чудное дитя, Ганна бормотала ему ласково, а потом снова стала колыхать, приговаривая, да и запела, что мать певала младшим братикам.
А-а-а, а-а-а, коточок, Спи, мій синочок. Спи сном-дрімотою, Добром-охотою, А-а-а.Дитя выбрыкнуло из-под рогожки голенастыми ногами. Ганна поправила покрывальце, погладила поверх него детинку. А как девочка? Про сыночка не годится тогда. Вспомнила другую, завела:
Ходить дрімота коло плота, А сон коло вікон. Питається сон дрімоти: — А де будем ночувати? — Де хатина тепленька, Де дитина маленька. Ти ляжеш у ніжках, А я ляжу в головах. Ти будеш дрімати, А я буду присипляти. Щоб спало — не плакало, Щоб росло — не боліло На головоньку, на все тіло.— Неправильно ты поешь, дочка. Не так надо.
Голос был молодой, но властный, тяжелый. Ганна осторожно обернулась, не отпуская люльки. Красавица-баба стояла перед нею, важно покачивая головой в двурогом уборе, сама зрелая, в самом соку, и нарядная — не в такой бы замшелой избушке жить! Да не Ганне здесь места указывать, ой…
— Научи, мати, — поклонилась Ганна.
Баба подошла ближе — Ганна только удивиться успела, что глаза у нее заплаканные, а та в ответ нахмурилась, рукой махнула, не твое, мол, дело. Ну что ж, и это дело не мое, и то, согласилась Ганна. А ты научи, мати.
И Матерь запела.
Сначала прошла по самой серёдке, только хвостики, лихой излет звука — один подняла повыше, другой — завернула чуть вниз:
А-га-и-и-и-е! А-га-во-о-о-у!И «га» это было родное Ганне, глубинное, горловое — как само имя ее начиналось, так же точно. А Матерь повторила запев — но еще выше вывела первый завиток и второй пониже протянула. И пошла так, раз за разом, от середины на «а-га» — то вверх на «и-и-и», то вниз на «во-о-о». Всё выше. Всё глубже. Всё тоньше. Всё гуще. Всё светлее — пронзительным, режущим глаза лучом в весенней листве. Всё мрачнее — черной плотью сирой осенней земли.
Остановилась. Укоризненно посмотрела на Ганну: учиться хотела? — учись! пой!
И начала опять с осторожной середины, уже требовательно глядя на Ганну. А та поняла: при таком вот, что делается, посторонним присутствовать заказано. И если ты здесь — то или причастна, или мертва. И Ганна подхватила:
А-га-и-и-и-е! А-га-во-о-о-у!Уловив еще с первого раза шаг, она послушно шла за Матерью, раскачивая голос так сильно, как, ей прежде казалось, вообще невозможно. Положен ведь человеческому голосу какой ни есть предел? Так за него Матерь давно выпрыгнула — и Ганна за ней следом, не чуя себя, летела ввысь стремительной ласточкой, падала вниз тяжким вороном. Тело ее словно бы раскачивалось на гигантских качелях, и вокруг мир шел волнами… и люлька качалась перед ней уже сама собой, а из-под рогожки выбирался уже заметно подросший мосластый лосёнок. Вывалился, замахал нескладными ногами — да и встал на них, потоптался, поводил большой головой с пеньками прорастающих рогов. И шарахнулся в войлочную занавеску, и след его простыл. А из люльки уже лезло, ползло, тянулось, сигало, выпрыгивало и выпархивало всякое — белки и летучие мыши, косули и аисты, полосатые бурундуки и кабаньи дети, бобры, еноты, змеи и ящерицы, рогатые олени и мохнатые ночные мотыльки, сороконожки и совы, рысь и целый выводок утят, красная лисица, бурый медведь, серый волк…
Набирая в грудь воздуху, чтобы качнуть колыбель сильнее, Ганна заметила вдруг, что поет она одна, а Матерь сидит на лавке напротив, подперев подбородок кулаком. Ганна испуганно выдохнула — что ж, это она сама такое учинила?
— Добре, донечку, добре! — Матерь подошла к ней, прижала к себе. — Вот и укачала мне колыбель. Не испугалась, не усомнилась. Хорошо ты мне послужила, награжу по совести. Скажи, что ты чувствуешь сейчас?
Ганна отстранилась, посмотрела удивленно. Она не чувствовала вообще ничего. Она не чувствовала горя! Хейно больше нет, и этого не исправишь. Но мир обеднел только на Хейно, а сам весь остался — огромный, дивный, богатый мир. Еще есть, чем жить, есть, куда нести почту.
— А и вот, — сказала Матерь. — Так оно и есть. А случилось это, когда ты потянулась утешить дитя в колыбели. И пели мы с тобой свое горе в полный голос. Так и жизнь им напитали, выкормили — чтобы горе само не пожрало нас. И теперь ты это умеешь. И я разрешаю тебе умение сохранить, отсюда вынести, с собой унести. Будешь ты, Ганна Гомонай, отныне Ганной Гамаюн. Говори, богата ли награда?
— Богата, мати, — выдохнула Ганна. — Да можно ли пользоваться этим там?
— Там? Где же это твое «там»?
— Там, — пояснила Ганна. — На самом деле.
— От горя и на радость — всегда.
— А как это — на радость?
— Да не ищи ты смысла глубокого, — усмехнулась Матерь. — Друзьям твоим, мастерам, на радость. Живностью в их леса и поля пустые. Они кое-как умеют живое наметить, но у тебя и легче выйдет, и поживее ихнего.
— Спасибо, спасибо, мати! — заторопилась Ганна, увидев, что заскучала хозяйка, дело сделано, песня спета, наука преподана. — Пойду я. Пора мне. Отпустишь?
— Ступай, дочка.
Ганна проворно нырнула под войлок и поставила ногу на шаткую перекладину. Тайная мысль ей пришла — испробовать новое умение, да не так, а эдак.
— Да подожди еще! — голос Матери потемнел. — Горе-то горем, а в гневе петь остерегись. На кого песню обратишь — тому и гибель. Это чтобы ты знала. А так — что хочешь делай. Я что даю — даю насовсем.
Ганна замерла. Отодвинула войлок, просунула голову в избушку. Взглянула на Мьяфте, почувствовала, что глаза снова полны слёз.
— А если я… Если спою… Этому…
Мьяфте выпростала из платков темную морщинистую руку, махнула ею разрешительно.
— И спой, милая. Раз уж Хейно погиб ради того, чтоб «этот» жил — самое дело тебе его угробить. Раз уж в «этом» теперь и кровь, и душа перемешаны с кровью и душой самого Хейно — туда ему и дорога, а? Ступай, ступай, милая. Что петь и кому петь — я тебе уже не советчица. Я что даю, даю без меры. Это всё теперь в тебе самой, и смысл, и сила, и мера. Сама неси. Справишься, не справишься — мне всё едино. Ну, пора. Светает там у вас… Ступай себе, Ганна Гамаюн.
Домой себя нести было страшно. Ганна отпустила войлок и тихонько опустилась на перекладину — посидеть, подумать, не беспокоя хозяйку.
И едва прикрыла глаза, как тряхнули за плечо, и Кукунтай тихим голосом заторопил: пора, пора, светает, в Суматоху идем. Ганна с испугу попыталась за перекладину ухватиться, а под руками тесаные бревна. Обхватила голову, застонала — и сама своего голоса испугалась. Не то чтобы звучал он странно или грозно. Но Ганна испугалась самого звука его. Мало ли что…
Кивнула только Кукунтаю, поднялась, держась за его руку, оглядела топтавшихся у поваленной березы мастеров.
— А что Мак-Грегор? — насилу заставила себя говорить вслух, не шепотом.
— Да с Видалем останется. Вырос-то он здоровый, а ведь малец еще. Выпили сколько… Мало ли!
— Ну да, — согласилась Ганна. — Ну да.
Не было больше у нее гнева, и незачем было Видаля губить, и не стала бы она петь ему в гневе ни за что.
Предсказание
Суматоха — шумный город на берегу моря-океана, шумный и веселый, и на взгляд чужака-пришельца — беззаботный, как все южные приморские города.
На самом-то деле, наверное, всё здесь такое же, как и везде, только щедрее светит солнце, пьянее благоухают цветущие акации, ароматнее и легче прикосновения ветерка, — такой уж задумал Суматоху давно почивший мастер. Может, от этого и кажутся ярче улыбки на смуглых лицах, а слезы здесь не принято показывать чужим. Вот и представляется Суматоха вечным праздником каждому, кто ненадолго приезжает сюда повеселиться, отдохнуть от забот и трудов.
Но отцы города — люди не пришлые, они-то как никто знали, что Суматоха и на самом деле такая, какой представляется. Людей трезвых и здравомыслящих — как только такие уродились в здешнем раю? — их тревожил слишком ровный климат, слишком ласковое море, слишком беззаботный нрав жителей. Год за годом, поколение за поколением они ждали беды и готовились к ней. Специально для такого случая построенные склады ломились от зерна и муки, резервуары были полны свежей воды, и самое тревожное время наступало, когда приходила пора обновить запасы. Вот тут-то и должна нагрянуть беда, когда они совершенно беззащитны перед ней: где тонко, там и рвется, полагали отцы города, и каждый вносил свой вклад в изобретение новых, всё более совершенных и безопасных способов замены провианта с истекшим сроком хранения. Время от времени, а со временем всё чаще, жители Суматохи от души развлекались, наблюдая учения пожарной службы, отменно организованной и обеспеченной. Самые веселые записывались в бригады волонтеров и нарушали покой сограждан, отрабатывая срочную эвакуацию, карантин и оборону. В теплые ночи визг красавиц в дезабилье, кокетливо сопротивлявшихся спасателям, собирал на балконах не меньше зрителей и поклонников, чем рулады местной примадонны Матильды Сориа.
Но ни мор, ни глад, ни вторжение не нарушали сытого и веселого довольства, жизнь катилась своим чередом среди карнавалов и гуляний, под плеск искристого вина и вкрадчивое шипение пивной пены, выкрики уличных торговцев и песни подгулявших школяров.
Мэтр Экстазио, известный гипнотизер, провидец и хиромант, любил приезжать в Суматоху — отдохнуть и поправить здоровье, изрядно подпорченное общением с привередливыми клиентами. Люди хотят получать из будущего только добрые вести, но некие неуловимо малые остатки здравомыслия твердят им, что всё хорошее рано или поздно обернется бедой. Великое искусство — ободрить и обнадежить, но не пересластить при этом. Развернуть блестящие перспективы и лишь чуть-чуть навести тень, чтобы клиент поверил, заплатил и при малейшем беспокойстве снова обратился к предсказателю — вот именно к этому, знающему о будущем такие приятные и щекочущие самолюбие вещи.
Мэтр Экстазио был великим мастером своего дела, но и отдыхать ему приходилось часто и помногу, благо, он успел создать себе великолепную репутацию, и обращались к нему не какие-нибудь скучающие вдовы, матери девиц на выданье или авантюристы, а солидные люди, имеющие вес в обществе и веские аргументы в кошельке.
Для мэтра Экстазио очарование Суматохи имело еще один секрет, которым он не собирался делиться ни с кем. Он знал точно год, день и час, когда Суматоха исчезнет из мира. Еще он знал, что всё произойдет так, как оно должно произойти, он видел уже катастрофу — она в каком-то смысле произошла уже для него. И он приезжал в Суматоху насладиться ее обреченной красотой и весельем на краю бездны, как будто возвращался в прошлое. Люди, танцевавшие на улицах, были уже мертвы. Остроконечные крыши в пестрой черепице, балконы с кружевными решетками, увитые виноградом стены, душистые гроздья акаций, клумбы роз, сладкий воздух, тонкая пыль, мимолетные улыбки красавиц — всего этого не было уже. С небывалой остротой мэтр Экстазио ощущал здесь себя живым.
Всё уже произошло — и произойдет в свой час. Предупреждения бесполезны.
Да и зачем бы? Когда намереваешься провести ночь с продажной женщиной, разве хочешь, чтобы ее чело было омрачено тревогой, раздумьями о бренности и мимолетности жизни? Даже если знаешь, что завтра она будет сбита фиакром, или зарезана сутенером, или… А Суматоха и была продажной женщиной, юной, очаровательной, обреченной на раннюю смерть. И портить себе удовольствие Экстазио не собирался.
Мастер Видаль частенько оказывался в Суматохе, когда не был привязан к месту, — и вовсе не из-за здешнего пива. Пиво на Суматохе делать умеют, только лучше всего на Суматохе умеют делать деньги, из чего угодно, даже из пива и воды… Так что пивка попить Видаль отправлялся на Королевскую гору, а здесь удобнее всего было встретиться с друзьями — так уж удачно улеглась Суматоха на пересечении всех путей-дорог, не нашлось еще места, из которого нельзя было бы добраться на Суматоху. А уж отсюда Видаль легко мог открыть путь куда угодно, для всей компании.
И была еще причина. Странное беспокойство временами одолевало Хосе Видаля, тогда казалось ему, что он забыл что-то очень важное, сказанное только ему по секрету, или что была назначена встреча, а он не помнит дня и часа, и даже не помнит, с кем. Как будто часть его души спала и не участвовала в жизни, но, просыпаясь иногда, требовала своей доли и не находила ее ни в чём из того, чем жил Видаль. Не потому, что с ней отказывались делиться, а потому, что нужно ей было нечто другое, чего у Видаля не было. Тогда Видаль отправлялся в Суматоху и бродил по улицам, словно надеясь, что тот, кем назначена встреча, сам узнает его и окликнет. А может быть, он ждал, что увидит лицо, которое окажется знакомым той спящей половине души, и тогда он сам вспомнит забытое, самое главное в жизни. И он бродил, вглядываясь в лица, искал, сам не зная кого, и никогда не находил. Не те лица у жителей Суматохи, чтобы судьба могла выглянуть из их глаз, улыбнуться их слишком привычными к улыбкам губами.
В который раз потеряв надежду и не утолив тоски, он приходил на площадь перед ратушей, становился на самом краю над широкой лестницей, спускающейся к морю, и смотрел. Птица не любила этого, беспокойно клекотала и вскидывала остроконечные крылья, отливавшие зеленоватым металлом, но не покидала Видаля, оставалась на плече. Видаль стоял в своей любимой позе — голова чуть закинута, правая нога отставлена, руки — в карманах куртки. Он мог и час так простоять, не отрывая глаз от моря, а может быть — и океана, никто не знал. Он всегда думал об этом, стоя над лестницей на краю Ратушной площади. Пять поколений прожили здесь, так и не зная, что за волны омывают пристань, облизывают камень набережной. И строили корабли, и ставили стройные мачты, и поднимали паруса, и ростры — полногрудые девы с разметанными волосами — устремляли взгляд безумных глаз за горизонт, и собиралась толпа на пристани, рыдания и смех, песни и напутствия… Никто никогда не возвращался. Как-то Видаль спросил Мак-Грегора, может быть, стоит попробовать мостом достать до того берега. Хэмиш долго щурился, шевелил губами, подсчитывая, но только головой мотнул: ну его… может, и нет там никакого берега. Видаль принял его заявление всерьез: Мак-Грегор зря не скажет. С тех пор еще пристальнее всматривался в блистающую даль, допытывался у игривых волн: откуда вы? Какой ветер гонит вас, что несете с собой?
У пятого поколения отцов города нервы сдали окончательно. Когда самый здравомыслящий и трезвый среди них — бургомистр Грюн — затащил в ратушу заезжего провидца, никто даже не высказался в том смысле, что они тут серьезными делами занимаются, а не гадают на кофейной гуще.
— Позвольте вам представить, господа… гость нашего города, мэтр Экстазио, известный предсказатель.
Отцы города почтительно раскланивались с человеком, профессию которого никогда не именовали иначе как шарлатанством. Гостю было предложено скромное, но вполне респектабельное угощение и беседа велась в основном о погоде и видах на урожай и уловы. Поговорили также о предстоящих празднествах в честь начала зимы, которое на Суматохе иначе и не заметили бы, поговорили о падении нравов и о молодежи — на этом невинные темы иссякли, и повисло напряженное молчание.
Никто не решался задать провидцу вопрос, проявив перед коллегами предосудительные легкомыслие и суеверие.
Наконец бургомистр, как ему и положено, решился взять ответственность на себя.
— Многоуважаемый маэстро! — скрывая естественное смущение, обратился он к провидцу. — Не могли бы вы сообщить нам, каковы, так сказать, перспективы…
Провидец нахмурился.
— О, нет, нет! — всплеснул руками казначей. — Ни в коем случае не подумайте, что ваши труды останутся без достойного вознаграждения! Мы далеки от того, чтобы относиться к вашей деятельности как к не заслуживающей уважения… я бы сказал, самого глубокого уважения…
— Разумеется, — поддержал его начальник городской пожарной службы. — Мы понимаем, сколь велика ответственность…
— И с какими тонкими материями приходится иметь дело… — подчеркнул главный архитектор.
— В общем и целом должен заметить, что ваш вклад в безопасность и процветание города будет оценен и вознагражден по достоинству, — подвел итог бургомистр.
— Помилуйте, господа, о чем вы?
— Как о чем? — подскочил глава санитарной службы. — Мы обращаемся к вам, так сказать, по специальности. Это же ясно, как день!
— Да-да. Составьте… ну, гороскоп, что ли… или как это у вас называется.
— Вы хотите, чтобы я предсказал вам будущее города? — удивился провидец, и без того потрясенный самим фактом приглашения в ратушу. Отцы города славились своим трезвомыслием, и заподозрить их в склонности к оккультным наукам было невозможно.
— Именно, голубчик, именно! Предсказание будущего — разве не на этом вы, так сказать, специализируетесь?
— Ну… да, — согласился провидец. Он не разделял беспокойства отцов города и чувствовал себя в Суматохе вполне уютно и безопасно именно потому, что специализировался на предсказании будущего. Он знал, что до рокового часа еще довольно далеко.
— Но разве и так не ясно, что Суматоха — самое благополучное место во вселенной? — благостно улыбнулся мэтр.
— Хм… — позволил себе усомниться бургомистр. — А вот не слишком ли всё хорошо? — осторожно заметил он.
— Да-да, я понимаю вас! — воскликнул мэтр Экстазио. Он действительно понял, как разговаривать с ними. — Людям свойственно опасаться беды. Чем лучше сейчас, тем хуже будет потом, вы ведь именно этот предрассудок имеете в виду? Да, как правило, в мире поддерживается равновесие. Но рад вам сообщить, что Суматоха — счастливое исключение. Я уверяю вас, что городу ничего не грозит — ни в ближайшем будущем, ни в отдаленном. Я провижу процветание и благоденствие.
— Вы… провидите? Вот так… просто? Прямо сейчас? — недоверчиво прищурился бургомистр Грюн.
— Нет, что вы… — скромно потупился маэстро. — Конечно, не сейчас. Без предварительных приготовлений, достаточно тонких и дорогостоящих…
— О, да-да, несомненно! — понимающе откликнулся казначей. Бургомистр осадил его строгим взглядом и повернулся к Экстазио.
— Уверяю вас, — продолжид тот, — я никогда не отправлюсь в путешествие, не составив предварительно прогноза… не выяснив всего, что возможно о том месте, в которое направляюсь — как можно?
— Но вы наверняка окинули, так сказать, взором только ближайшие перспективы… — усомнился бургомистр.
— Понимаете ли… прогнозы — штука тонкая и трудно бывает истолковать… ммм… видения, если ограничиваться только ближайшим будущим. Как правило, приходится, как вы очень точно выразились, окинуть взором всю необозримую последовательность событий, чтобы выбрать те, которые находятся в непосредственной близости…
— И что же?
— Уверяю вас, вам не о чем беспокоиться!
Провидец отмахивался от них, уговаривая не гневить Бога, не привередничать и радоваться, что всё устроено так замечательно. Его бодрый тон окончательно встревожил отцов города: так врач лгал бы больному, которому не в силах помочь, — и они вцепились в него со всей решимостью отчаяния. Не зная уже, как от них отделаться, провидец распахнул окно, приглашая полюбоваться открывавшимся видом и проникнуться благодарностью к Богу и судьбе, но осёкся. С лица его сползла фальшивая улыбка, оно помрачнело. Да, лицо его помрачнело, просветлело и помрачнело вновь.
— Видите этого, с вороной?
Отцы города столпились у окна. Неизвестный с птицей на плече стоял спиной к ратуше и виделся из ее окна неподвижным черным силуэтом на фоне ослепительного сверкания моря-океана.
— Поставьте ему памятник, — сказал провидец. — И можете спать спокойно.
И ушел, не пожелав прибавить к сказанному ни единого слова. В Суматохе его не видели больше никогда.
Вечеринка на Туманной косе
— А правду говорят, что лягушки от дождя заводятся? — печально обронил в окружающий сумрак толстый Хо. Сумрак слоился белесыми волоконцами, кудрявыми завитками, сладкий и терпкий аромат чернослива мешался с острым запахом водорослей.
— Нет, лягушки — от сырости, — твердо сказал длиннолицый Мак-Грегор, не выпуская трубки из зубов.
— Ну да, от дождя и сырость, — встряхнул мокрыми космами Видаль. Птица у него на шляпе сердито захлопала крыльями и выкрикнула что-то не совсем приличное. Видаль поднял руку и погладил ее, успокаивая.
— Не скажи, — протянул белобрысый Олесь Семигорич. — Если, например, болото, то и дождя не надо.
— Как это — дождя не надо? — насупился Ао. — Это кому тут не надо дождя? Тебе, что ли, божий приемыш? Так и скажи, я тебя из очереди вычеркну.
Может, и шутит, а может, и нет. Выяснять — себе дороже. Трава посохнет, озерцо новорожденное обмелеет, а в озерце — рыба, раки, водомерки, да и лягушки те же…
— Да не кипятись ты, водяной, нужны мне твои осадки, во как нужны! Жду тебя на Райдуге не дождусь.
— Не водяной, а дождевой, и не осадки, а…
Мак-Грегор из Долгой долины ласково двинул зануду кулаком в плечо.
— Угомонись. Это ты к месту не привязан, там язык почешешь, тут словом перекинешься, а люди всё больше по одному и молчком, дай уж душу отвести. Тем более — праздник такой!
— Да ты послушай, они же нарочно. Видаль, зараза, зазвал в гости — и подкалывает!
— Брось, Ао. Язык без костей, что хочет, то и лопочет, а насквозь не проткнет, — и подвинул Дождевому кружку. Пышная пена качнулась над ней, поползла по крутому боку, оставляя на темной поливе влажный след. Ао сверкнул глазами и припал к источнику наслаждения.
Блюдо с жареной дичью было шириной со стол, вокруг него сгрудились миски с вареной картошкой, на широких тарелках пушился молодой укроп, курчавилась петрушка, вперемежку лежали сладкие перцы, мясистые, сочные — и поджарые, злые их родичи. Вереница кувшинов, полных отличного холодного пива, протянулась вдоль стола.
Длинный стол, покрытый домотканой скатертью, стоял прямо на песке. Меленькие медленные волны двух шагов не докатывались до него. Над заливом плыла в тонких облаках нестерпимая луна. Сестра ее близнец, распустив серебряные косы, купалась в спокойной воде.
За спиной уютный желтый свет лился из закругленных сверху окон, дом, как живой, тоже грелся в негромком тепле дружеской пирушки. Над замшелой крышей высоко тянулись сосны, над черной массой слитых в темноте крон казалось светлее усеянное мелкими гвоздиками небо. Из тьмы за соснами доносился приглушенный шум прибоя. Там было море, и волны его бежали из неведомого далека.
Гости любовались ночным пейзажем вскользь, не приглядываясь. Только здешний смотритель в точности знает, каким должно быть место. А другие мастера, если станут пристально глядеть, такого наворотить могут… Не слишком велика, да и не сразу заметна разница, все они умеют запоминать точно. Но мельчайших расхождений хватит, чтобы сбить с толку место, и оно начнет сомневаться в себе. Начинай с начала, мастер!
Только вскользь, бережно, едва касаясь — и уже у себя, под полуприкрытыми веками, что запомнили — любуются от души, смакуют мелочи.
— Да вы не поняли, люди… — вздохнул Хо. — Я ведь серьезно. У меня лягушки не заводятся. Я уж и комаров развел — думал на корм приманить… — Хо сокрушенно развел руками.
— А как в прошлом месте? — придерживая рукой птицу, наклонился к нему Видаль. — Росные луга — твоя ведь работа?
Хо скромно потупился.
— У тебя там такое озеро получилось, умру от зависти. Рассвет… Туман лентами над водой… А вода перламутром отливает…
— У тебя здесь очень красиво… — Хо опустил глаза еще ниже, выказывая бережное уважение к труду хозяина.
— И да, помню, булькали там какие-то по ночам. Точно-точно, лягушки у тебя были.
— Да они там как-то сами. Я и не заметил. Кажется, они там сразу были. А в Тростниках — ни в какую. Ни вот такой малюсенькой лягушечки не видел. И не слышал. — Хо снова вздохнул.
Видаль покачал головой.
— Я своих на дудку. — Он отвернул полу куртки и перебрал пальцами стройные коричневые стволки. — Эта — для зябликов. Зябликов люблю. Вот молоточек — для дятла. А вот эта корявенькая — как раз для лягушек.
— Я и так пробовал, — печально кивнул Хо и вынул из-за пазухи бамбуковую флейту. — Не приманиваются.
— Тогда тебе надо их самому сделать, — заметил Олесь. — Вылепить из глины. Или подождать, пока придет к тебе Дождевой Ао и лягушки заведутся от дождя.
— Долго ждать еще…
Берег качнулся. Не сильно, едва ощутимо, но мастерам и этого было достаточно.
Повскакивали, опрокинув скамью. Видаль, бросив через стол худое тело, вытянулся над самой водой, взгляд повел по кромке горизонта, медленно передвигая полусогнутые ноги, поворачивался вокруг себя. Даже капризная жилица притихла на шляпе, только крылья развела, готовая взлететь при резком движении. Гости притихли, не мешали пока, но на помощь кинуться были готовы в любой миг. Даже если хозяин не успеет сказать, какая помощь ему нужна и от чего. И так ясно: если дрогнуло уже крепкое, почти готовое место, крепкое настолько, что мастер-смотритель пригласил Дождевого Ао, значит, что-то враждебное вторглось и надо давать отпор. И гости стояли, прикрыв глаза, копя силу, и пока не вмешиваясь.
Олесь Семигорич сцепил пальцы перед грудью, наклонил голову — белые пряди завесили лицо. Хо голову вскинул, явив луне неземное спокойствие круглого лика. Его тело стало как будто невесомым, он словно парил над берегом. Мак-Грегор напружинился весь, кривые ноги вросли в песок, руки напряглись, чуть подрагивали разведенные пальцы.
Толчок не повторялся, но дрожь не утихала где-то глубоко под песком, и в дрожи этой чувствовался странный ритм, и она усиливалась, как будто источник ее приближался к мирно пригревшемуся у тепла дружеской пирушки дому.
Видаль тоже прикрыл глаза, весь обратившись в слух. Птица застыла, приоткрыв длинный клюв. Гости туже зажмуривали глаза, готовые выложиться за один стремительный взгляд-выпад, точный, неотразимый.
Тум-тудум-тудудум… Огромный зверь резвой побежкой продвигался вдоль берега, живая гора, поросшая курчавой щетиной. Сверкали стальные кольца на кривых клыках, сверкала чеканная маска, укрывавшая широкий лоб и рыло зверя, в мохнатых ушах болтались серьги, окованные копыта взрывали влажный песок. На спине гордо восседал всадник, за ним виднелся еще кто-то, отчаянно цеплявшийся за него.
Дождевой Ао, не закрывавший глаз, потому что работа у него другая, и сам он другой, издал радостный вопль:
— Ха, люди! Все свои!
Видаль подпрыгнул и, раскинув руки, побежал навстречу, не убоявшись острых раздвоенных копыт. Птица сорвалась со шляпы, громко хлопая крыльями, полетела впереди него.
Остальные смеялись, поводя плечами, стряхивая напряжение с рук.
— Ах, красуля! — крикнул Олесь — Неужели ты примчалась, чтобы сказать мне «да»?
— Вот еще, — фыркнула красуля, осаживая свинью. — У тебя руки в глине, нос в болотной тине! Помогите мне этих спустить, укачало их.
«Этих» оказалось двое. Кукунтай-тюлень только успевал поворачиваться, торопясь обнять друзей-приятелей — длинные пучки бахромы, унизанные бусинами, мотались вокруг нарядной кухлянки. Никому не знакомый хлипкий парнишка в городской, не ахти, одежонке, рыженький, остроносый, робко топтался в сторонке. Вот кого, похоже, в самом деле укачало.
Лихая наездница была на голову выше обоих, кареглаза и темноволоса, одета в меховой жилет поверх вышитой рубахи, крепкие штаны с кожаными вставками и обута в высокие сапоги. Видаль расцеловался с ней, смахнув на песок мятую шляпу, птица уселась девушке на плечо и, любовно воркуя, стала перебирать встрепанные волосы.
— Вот уж лягушонка в коробчонке! — Видаль нежно потрепал девушку по другому плечу. — Грохоту от тебя…
— Ну вот опять… — пожаловался Ао. — Он это нарочно!
— Да почему же нарочно? — обернулся Видаль.
— Ты мог бы сравнить ее с грозовой тучей! Ты мог бы сравнить ее с… с чем-нибудь романтичным и нежным. А ты… Ганна, тебе должно быть обидно.
— Не обидно мне, — улыбнулась Ганна, прижалась к плечу Видаля.
— Нет, а правда, что же мне делать с лягушками? — вспомнил Хо.
— Да придумаем что-нибудь, не беспокойся, — Олесь махнул ему рукой и вдвоем они подняли и поставили к столу тяжелую скамью.
Свинья, освобожденная от сбруи, бродила в воде, фыркая и всплескивая — ловила рыбешек.
Кукунтай выдернул паренька из темноты, в которой он пытался укрыться, и поставил перед всеми.
— Вот. Ученичка себе подобрал, однако. Рутгером звать.
Мастера по очереди назвались, рассаживались за столом, приглядываясь к парню. Тот упорно не отрывал глаз от песка под ногами. От него пахло варом и мочеными кожами.
— Молодой еще, — вздохнул Хо. — Счастья своего не понимает. Ты смотри, Рутгер, смотри вокруг — красота какая! Тебе можно, смотри.
— Стесняется, однако. По тому и признал в нем нашего, что стесняется. — Кукунтай ухватил кувшин, заглянул в него.
— «Альтштадт»! — гордо заявил Видаль. — Настоящий, нефильтрованный. С Королевской горы.
— Ага, — заулыбался Кукунтай, щедро плеснул пива в кружку, поставил перед парнем. — Ждал вот Ганну, договорились на Суматохе встретиться. Я своё закончил, однако, на новое место перебираюсь. Вот и решил погулять, по трактирам пошляться, то сё, сами понимаете. Ну, перебрал малёк. А там болван каменный, знаете, на площади.
— Это не болван, — строго сказал Мак-Грегор. — Это памятник.
— Бронзовый, — уточнил Олесь.
— Вот-вот, памятник — а выглядит, как полный болван! Решил его подправить, присел на булыжник, смотрю себе, никому не мешаю. Так его повернул, этак, выражение лица попроще, руку слева направо повел. Народ там отвык уже от таких штук. Пятое поколение, место не новое. Собралась толпа, смотрят, молодняк чуть не на голову мне лезет, да что, да как, дяденька, научите… А этот стоит в сторонке. Я на него раз глянул, другой — он тут же глаза в землю. Как будто ни при чем. Но я-то вижу — всё, пропала душа. Подошел к нему, пойдешь, говорю, со мной — учиться? Мотает головой, дурашка, я мол неспособный, у меня не получится…
— Да, самое то! — Мак-Грегор двинул бровью и сунул пальцы в рыжие вихры на затылке паренька, тут же отдернул руку, цыкнул. — Есть, сидит.
— Пусть сидит, однако, — согласился Кукунтай. — Сейчас убирать не будем. Сейчас он только в помощь. Раскачает душу…
— Ты сильно ему вырасти не дай… — встревожился Хо. — Привыкнет парень, потом снимай — не снимай, толку никакого. Нового вырастит себе.
— Не беспокойся, Хо, — махнул рукой Олесь. — Тюлень не вчера родился, знает этих тварей. Да кто из нас их не знает? Которые совсем без них — разве в мастера идут?
— Да, — кивнул Мак-Грегор. — Вот у меня знакомый на Розовой горке, он с таким до сих пор — и снимать не хочет. Управляется как-то. Говорит, иногда совсем жизни не дает, но в целом — ничего себе так.
— Кто у меня там? — прошептал паренек, вжавши голову в плечи.
— А ты и не знал? — спросил Видаль и осторожно, через рукав ткнул пальцем в ууйхо.
— А, так это! — с облегчением рассмеялся малец. — Это всегда было.
— Ах, всегда… — Видаль положил руку ему на плечо. — Не бойся. Теперь уж ничего не бойся, кроме самого себя. Ты теперь наш.
— А кто вы такие? А то дядя Кукунтай мне ничего не объяснил.
Видаль усмехнулся: дядя! Тюлень не на много старше этого рыжего выглядит, да не на много старше и есть, смотря каким счетом считать.
— Мастер Кукунтай. И все мы здесь — мастера. Люди. И ты будешь.
— А в каком деле вы мастера? Я тоже — что делать буду?
— Что ж ты, тюля, ничего парню не объяснил, поволок за собой, как мешок какой?
— Не успел, однако! — засмеялся Кукунтай. — Налетела красуля эта на зверюге своей, народ с площади шарахнулся, визгу… Надо было сматываться, пока чего не вышло… я и то — хозяину за постой задолжал, на обратном пути надо будет заглянуть… Давай, Видаль, ты объясни, у тебя хорошо получается, однако.
— Такая у меня работа, открывать закрытое, — Видаль повернулся к парню. — А у Мак-Грегора вот — лучше всего получается мосты наводить. Любые. Связать одно с другим, что угодно. Олесь — гончар у нас. То есть он может любой сумятице порядок придать, форму красивую, удобную и полезную. Кукунтай — оборачиваться умеет. Значит, может в каждой вещи ее изнанку разглядеть и на свет вывернуть. Вот так. Это у каждого — особенное умение. А общее… Вот посмотри вокруг — нравится?
Парень наконец-то, от пива ли, или от спокойной речи Видаля, расслабился. Обвел зачарованным взглядом залив с огромной луной, сосновый бор, берег в камыше, дом с желтыми уютными окнами. Кивнул медленно, уважительно.
— Когда я сюда пришел, здесь только и было — горстка песка да мутные воды. И то в тумане тонуло. Теперь — новое место в мире появилось. Вот Мак-Грегор мне мост построит — куда-нибудь да выведет. Так малые места в большие собираются, растет мир. Понимаешь?
— И что… И я так… смогу? — прошептал парнишка.
— Сможешь. Уже можешь, не умеешь только. Научишься. Эх, не то слово… Дело такое: ему не научишь и не научишься, кроме как себя самого и у себя самого. Ты вот что запомни твердо, и помни всегда: нет среди нас такого, чтобы разбираться, кто сильнее да умелее. Когда только начинает мастер, у него еще кое-что не получается, потому что своего способа делать это он не нашел, а чужие ему не годятся. У одного не получается одно, у другого — другое, и все, выходит, новички — равны. Но зато когда мастер в полную силу войдет, что-то у него получаться будет лучше, чем у всех других. А другое — у другого. И опять все равны. Это очень важно. Это тебе жить поможет. А то тварь, на загривке у тебя, она любит такими мыслями подтачивать: и что ты хуже всех, и что ты лучше всех… Что так, что этак — одна отрава.
— Верно ты всё говоришь, — Ао оторвался от кружки и значительно поднял палец. — Но научиться — не то слово. Кто попало и не научится. Заразиться можно. Понимаешь, мальчик? Заразиться. Вот как ты смотрел на Тюленя сегодня — и подцепил эту заразу. А заразиться можно, если есть предрасположенность. Вот у тебя она есть. Может быть, ты такой родился, а может — тварь у тебя в душе дырку высверлила, и теперь в нее хлынуло… Хлынуло. — Ао не нашел подходящего слова — назвать, что хлынуло в душу изумленному пареньку на площади перед исковерканным памятником Видалю, и, махнув рукой, допил пиво.
— А другие что умеют особенного? — шепотом спросил паренек. Глаза у него уже блестели — от счастья.
— Ну, вот Ао, например, ничего не умеет. Зато он так любит смотреть, как дождевые капли от луж отскакивают… В общем, стоит ему задуматься, как тут же дождь и пойдет. Для того он сегодня сюда пришел — подарить этому месту первый дождь. Хо создает бесподобные пейзажи. Он — мастер утонченной гармонии.
— И в чем угодно, да?
— Да. Ты понимаешь. А вот Ганна. Отчаянная девица, как сама жизнь. И, конечно, живые твари лучше всех у нее получаются. О!
Видаль хлопнул ладонью по столу.
— Ганна, душа моя, не сделаешь ли ты мне в честь праздника подарок?
— Для тебя — что угодно! — лукаво прищурилась Ганна. И добавила: — Сегодня.
— Только сегодня? Эх, надо бы пользоваться случаем, да ради друга чем не пожертвуешь! Ганна, сердечко моё, попробуй научить Хо лягушек делать, а?
— А сам говорил, этому не научить! — засмеялась Ганна.
— Я говорил, да Ао меня поправил. Научить нельзя — заразить можно. Давай, девонька, душа моя, постарайся, сделай нам лягушечек зеленых, сладкоголосых! И пусть Хо с тобой рядышком посидит, может, и его зацепит?
— Крепко уже место стоит? — спросил Мак-Грегор. — Не развалит она его?
— Крепко-крепко, — Видаль откинул со лба мокрые волосы. — Да я и подержу, поправлю, если что. Дело того стоит.
Хо расплылся в улыбке: его страсть к лягушачьему пению всем давно была известна, потому и растил он места такие, где озера, или пруды, или медлительные реки лениво плескались в заросшие камышом берега.
— Жадный какой! — Ганна покачала головой, глядя в глаза Видалю. — Решил лягушечками разжиться нахаляву.
— Ты думаешь, у меня своих нет? Полно! Я о друге радею. За работу, Ганна!
— Ой, и хитрец, — опустила ясны очи Ганна. — Ой, и крутило! Так я тебе и поверила.
— Правильно, Ганна, молодца! — подскочил к ней Олесь. — Бросай его, за меня иди, я хлопец честный, не то что этот чернявый, он, может, вообще цыган.
— Вот ужо! — показал кулак Видаль. — Невесту отбивать…
Но встали наконец из-за стола, пошли по берегу всей гурьбой, и парнишка с ними, не отставая от Видаля.
Расселись на песке у камышей, не слишком близко к Ганне, но и не дальше двух шагов: живое творить — редкое умение, им заразиться любому не помешает, хоть бы даже и одних лягушек. И забава, и польза немалая.
Ганна вытянула стройные ноги, оперлась позади себя руками в берег, закинула голову — косы черные на песок легли, подбородок точеный, смуглый в луну нацелился.
— Давайте, ребята, все смотрите, — разрешил Видаль, запихивая птицу в просторный карман куртки. — Я этот кусочек удержу.
Мастера вполглаза приглядывались к светлой штриховке камышей на темном небе, к серому песку, нежным движениям прозрачной воды. Такой маленький кусочек можно запомнить в точности. Воли себе не давай, не пытайся на свой вкус переделать — и не будет ущерба. Да вот только мастерам оно самое трудное и есть — не пытаться переделать чужое на свой вкус. Каждый мастер знает на свой лад, как лучше всего и как должно быть на самом деле. Трудно стерпеть, когда не так. Но терпели.
Паренек по имени Рутгер тоже устроился на песке, позади всех, обхватив худыми веснушчатыми руками острые коленки, во все глаза уставился на Ганну.
А та, оторвав взгляд от темного неба, устремила его в самую гущу камыша, наклонила голову и запела. Песня ее была без слов, голос сильный и гибкий разом наполнил ночь. Не просто так пела она и не для красоты. Такое для красоты голосом не выделывают, и некрасива была ее песня, а только поднималась невысоко и спускалась все глубже и глубже, и голос как будто начинал дрожать низко-низко, и дрожь отзывалась в костях.
Свинья, плескавшаяся недалеко от берега, задергала ушами, забренчала серьгами, сердито хрюкнула — хрюк ее был, как рык — и пошла ближе к хозяйке.
Мастер Хо покачивался в лад с песней, пальцы вздрагивали у него, но он прижимал руки к коленям, пока мог, а потом дал им волю, и они поплыли вверх, толстые мягкие руки, невесомыми плавными движениями оглаживая, обминая воздух.
Шорох раздался в тростниках и оттуда мячиками поскакали лягушки, сначала — зеленые, как и положено, а за ними — яркие желтые, голубые, оранжевые, полосатые, причудливо-пятнистые, голосистые и бойкие. Ганна оборвала песню, наклонила голову набок, любовалась долгопалыми неуклюжими попрыгуньями. Хо согнулся пополам от смеха, смущенно прикрывая лицо рукой. Да и все уже смеялись в голос, откровенно. Уж слишком непохожи были эти игрушечные тварюшки на сдержанные, изысканной прелести пейзажи мастера.
— Самое время выпить! — провозгласил Видаль, вскакивая на ноги. — Обмоем обновочки.
Тут-то и заметили, что Рутгер всё еще сидит неподвижно, уставившись куда-то в глубь зарослей, и едва дышит. По лбу его катился пот, закушенные рот кривился от напряжения.
— Эй, эй, парень, эй! — кинулся к нему Кукунтай. Олесь сорвал с себя вышитую сорочку, макнул ее в воду и от души шваркнул паренька по лицу. Видаль зорко, хищно оглядывал заросли. Ганна поманила свинью и ухватила ее за мохнатое ухо. Свинья настороженно хрюкала, недоверчиво косясь в камыши. И дождались. Там что-то гулко булькнуло и завозилось, огромное и неповоротливое. И пошло шуршать, прокладывая дорогу в зарослях.
Огромная лягушка вывалилась на берег, выше боевой свиньи ростом и в три раза толще — выпученные глаза горели алчным огнем, под резиново-тугой кожей переваливались огромные мускулы. За ней следом с треском перла еще одна, и еще, и еще… Пять громадных тварей бороздили песок длинными пальцами, пятнистые горла раздувались и опадали.
Рутгер очнулся, распахнул глаза и закричал так, как кричат только в кошмарном сне.
Ганна взлетела на спину свиньи и послала ее короткими мощными скачками навстречу тварям.
— Куда? — страшно заорал Видаль — и тут же длинный язык метнулся, обвил Ганну, сорвал и поволок по песку к широкой распахнутой пасти. Хо прыгнул следом, пушинкой взвился в воздух, перелетел через Ганну, полоснул туго натянутый язык невидимым клинком. Водянистая кровь хлынула на песок. Обрубок корчился, Ганна, оглушенная, слабо отпихивала его. Видаль подскочил, подхватил девушку на руки, отступил.
Хищные плети мелькали в воздухе, мастера едва успевали уворачиваться, Хо взмахивал и взмахивал пустой рукой, прикрывая друзей, и только лунный свет синими бликами плясал там, где угадывался клинок. Свинья с яростным хрипом кидалась на тварей, отгоняя их, но не успевала: их было пятеро против нее одной, и даже с исполосованными, порванными языками они были еще опасны. Одна прыгнула — верткий Кукунтай едва успел отшвырнуть Рутгера и перекатом уйти из-под стремительной туши. За ней сиганула вторая — и пошли теснить.
— Да не так, не так, божьи дети! — вопил Ао, перебегая туда-сюда за спинами мастеров. — Да что ж вы…
Но его воплям не внимали в горячке, отступали, с тоской оглядываясь на такой далекий вдруг дом с крепкой дверью и замшелой, но прочной крышей. Перед домом, в теплом желтом свете его окон, уютно стоял длинный стол, влажные бока кувшинов блестели, несбывшееся обещание праздника и веселья.
— Ну, жабы! — разозлился Мак-Грегор. — Пивка захотелось?
— С дичинкой! — подхватил Олесь. — А фигу с маком?
Кукунтай уронил на песок рыжего Рутгера, как тряпичную куклу, перепрыгнул через него, тряхнул головой.
— Давайте, мастера, ну! — Видаль поставил Ганну на ноги, заслонил собой, устремил тяжелый, неподвижный взгляд вперед — сквозь и мимо нечаянных монстров. — Ганна! — рявкнул. — Мотьку убери!
Ганна оглушительно свистнула, но свинья в запале не послушала команды, продолжала скакать прямо перед распахнутыми пастями тварей, уворачиваясь от молниеносных арканов их языков, обходя, кидаясь и вспарывая мощными клыками тугую резиновую плоть.
— Мотря! — Ганна выскочила вперед, но Видаль ухватил за жилет, отшвырнул обратно.
— Всё. Нельзя уже, — взгляда не отрывал от камышей. Мак-Грегор, Олесь и Кукунтай встали с ним плечом к плечу, Хо чуть в стороне, смотрел под другим углом, и Ганна, поливая свинью отборным матом, встала напротив Хо.
— Мальчики… мальчики… Мотрю-то…
— Цыц, моя радость, — оборвал Видаль. — Работай давай. Будет тебе Мотря…
Мастера смотрели. За ними на песке приглушенно всхлипывал Рутгер, дальше на берегу стоял длинный стол с вожделенным «Альтштадтом», и отступать было, в сущности, некуда. Мастера стояли и смотрели — и видели частую светлую штриховку камыша на фоне темно-синего неба, россыпи звезд, тоненькие перышки облаков, светло-серый песок, едва колышущуюся воду. Всё, что точно, до мельчайших подробностей запомнили, упорно и тщательно видели теперь мастера, возвращая месту его недавний облик. Смазанным пятном металась перед ними огромная рыжая свинья, то раздваиваясь, то вовсе пропадая, возникала на другом месте, таяла до того, что сквозь нее просвечивали камыши, и вспыхивала вновь.
— Всё, мужики, — выдохнул Видаль. — Ганна, бери Мотрю. Иии… раз! — и резко вскинул худые длинные кисти к лицу.
Ганна со стоном втянула воздух, шагнула вперед. Свинья дернулась еще и застыла перед камышами, покачивая тяжелой головой. Бока ее шумно вздымались, курчавая шерсть топорщилась, глаза отливали красным. Ганна подошла к ней и ласково похлопала по морде.
— Ну… ну… всё…
Постояла, прижавшись к необъятному боку, ероша шерсть дрожащими пальцами. Обернулась на мастеров. Те стояли, опустив головы, для верности руками закрыв лица, чтобы уж точно ни одним глазком…
— Всё, мальчики. Правда, всё. Всё хорошо.
— Точно? — спросил Кукунтай тонким голосом.
— Точно, точно, посмотри сам!
— Можно?
— Да что ты, в самом деле, — стукнул его по спине Мак-Грегор. — Вон, свинья как свинья. И Ганна как Ганна. И место как место. Крепко строишь, Видаль.
— Никакая лягушка не развалит! — прыснул Олесь.
— Ох… — простонал Хо и опустился на песок. — Ох, никакая…
Они падали рядом с ним, заходясь смехом, всхлипывая и подвывая. Распускались мгновенно туго стянувшиеся пружины, болезненное напряжение отпускало души, противиться не было сил. Да и были тут все свои, и некого было стесняться. Суровый Мак-Грегор откинулся на спину, задрав голые коленки, и колотил по песку кулаками, Видаль упал на четвереньки и мотал головой, Кукунтай извивался и орал дурным голосом, изображая тюленя, Хо тихо стонал, раскинувшись на песке. Ганна, стоя на коленях, терлась зареванным лицом о курчавое брюхо, свинья осторожно переступала окованными сталью копытами. Бедный Рутгер с испугом смотрел на них, пока не скрутило и его.
— Ничего, сынок, — успокаивал его Хо позже, когда они уже сидели за столом и запивали спасенную дичину отвоеванным «Альтштадтом». — Для первого раза очень даже хорошо получилось. Видел, каких я игрушечных произвел? А у тебя лягушки вышли правильные, всё как положено, и цвет, и фактура, и повадка… и пропорции соблюдены. Только вот с масштабом ты что-то намудрил… с непривычки.
— Я… я просто в подробностях разглядеть старался… вот и представлял покрупнее.
— Покрупнее! — фыркнул Олесь. — Так нам еще повезло, выходит, что у парня зрение хорошее. А то он бы нам наразглядывал!
— Талант, однако.
— Ну что несешь, Олесь, где ж ты видел с плохим зрением… — покачал головой Видаль. Ганна сидела с ним рядом, прижавшись, водила пальчиком по складкам на рукаве. Птица скакала по столу, стучала длинным клювом по тарелкам, поглядывала на мастеров круглым блестящим глазом.
Желтый свет окон померк и почти растворился в сером предрассветном свечении, над водой зарождался тонкий невесомый туман. Тишина была такая, что слова падали в нее раздельно и пугающе четко.
— Что ни говори, парень способный, — проворчал Мак-Грегор, набивая трубку. — Только присмотр за ним нужен.
— Будет и присмотр, — провел ладонью по макушке Кукунтай и, вздохнув, добавил: — Однако.
— Однако уже светает, что ли? — озаботился Видаль. — Ну вот. Расходиться пора — а дождя так и не дожда…
— Тссс! — зашипел на него Олесь. Скосил глаза направо.
Ао застыл над кружкой. Локти упирались в стол, кулаки под подбородком, рассеянный взор тонул в недопитом пиве. Все затаили дыхание, даже Рутгер, которого учитель на всякий случай легонько ткнул кулаком в ребра.
Ао мечтал о том, как первые капли дружно ринутся с небес и разобьют стеклянный покой воды, расчертят ее танцем пересекающихся кругов, как шелест сотрет сонную рассветную тишину, как сизая дымка дождя затянет утро.
Ао мечтал, и блаженная улыбка блуждала по его лицу.
Из-за высоких сосновых крон наползали тяжелые тучи.
Мотрины смотрины
Направо, представьте, широкая степь, ровная, звонкая, сколько хватает глаз. И налево, представьте, степь — бескрайняя, зовущая бежать без оглядки туда, где земля, и на цыпочки не привстав, с небом целуется. И посреди тоже степь — веющая ароматами горькими, пряными, сладкими — всеми разом.
Ни дороги, ни приметы ясной, только сухие стебельки подрагивают на ветру и тихо-неслышно звенят, звенят.
И вот в самой середине этой звенящей бесконечности, между правым и левым, между землей и небом лежит в траве дева красоты несказанной: кудри черные из-под красного платка выбиваются, ресницы в полщеки, уста пламенеют от жара. Смугла, стройна, разлеглась привольно, и не колет ее тело белое сухая трава, сухие комья земли не ранят — сквозь войлочную куртку да стеганые штаны не добраться, не достать.
Отдыхает Ганна-почтарка, задремала на солнцепеке, только ветерок степной обдувает жаркие щеки девичьи, а то Мотря нет-нет да и подойдет, укроет всадницу свою тенью, встанет между ней и солнцем. Но тут Ганна ее кулаком в брюхо — гудит вокруг Мотри мушиный хоровод, деловито снуют слепни-оводы, крепкий дух неостывшей после дальнего бега свиньи будоражит их. Мотря обиженно хрюкнет, да и отойдет в сторонку, ловить жуков-пауков, а когда и сусличью нору разрыть. А Ганна — платок с головы и ну отмахиваться от кровососов.
Тишина и покой, в жарком мареве плавятся края земли, воспаряют к небесам, перемешиваются — так, глядишь, и вся степь поднялась бы стеклянной зыбью, горячим потоком в синеву. Да не успеет: солнце клонится уже к закату, жар дневной утихает.
Ганна сидит на теплой земле, распустив косы, водит гребнем костяным вверх-вниз, припевает без слов.
Из уст — ни слова. Из души — то ли мечтание, то ли жалоба. Одним гудением поет Ганна, то голос вскинет, то вниз уронит стоном. Ладно всё, да не ладно. И ласков Видаль, и не подступиться к нему — улыбка здесь светит, но за дальней далью его душа. Что там держит ее, в одиночестве, когда Ганна вот она, и красива, и горяча, от парней отбою нет… Но как улыбнется Видаль — и словно в целом свете нет больше ни парня холостого, ни чужого мужа, никогошеньки. Один он на свете такой, что на него смотреть — голову задирать приходится, а другие Ганне и по локоть не достают. Так она чувствует, таким его видит, тем и привязана к нему намертво, что тянуться к нему приходится, на цыпочки, как земле к небу. А он что же? Даже и обнимет — а сам как будто и близко не подошел.
А ведь умеет ходить, куда ему хочется, умеет сквозь темную даль и пустоту пройти, как через ручей перешагнуть, нет ему преград вовне. Что же его к Ганне не пускает, видно же, что люба она ему… Любуется — значит и люба. Так.
Так-так-так — откликнулся звонкий краснозем, загудел, забился. Ганна вскочила на полусогнутых, расставив руки. Оглянулась: Мотруся здесь, рядом, а гул такой, как бывает, когда гиперборейская свиноподобная тварь берет разбег, чтобы перенестись через бездну пустоты… или наоборот, из прыжка приходит на твердую землю.
А Мотруся здесь. А других таких тварей в Новых землях не видали, не слыхали даже о них — все повывелись давно, если и бывали когда-то.
Смотрит Ганна, рукой глаза от солнца заслоняет — летит по степи всадник, кудри черные вьются на ветру, куртка словно крыльями машет полами, пуговицы золотом ярким горят.
Подъехал. Цыган. Остановил скакуна резвого, смотрит на Ганну, на Мотрю, с одной на другую взгляд перебрасывает.
А у цыгана рубашка — на груди в мелкую складку, в шитье рукава широкие, в прорехах. Была, говорят, бела, да когда ж то было! Ай, ромалэ… Зато пояс у цыгана — широк, на потертой коже бляхи горят, стан в таком поясе сам собой прям, и вздумаешь — не поклонишься. Накинута на плечи куртка белого сукна, а пуговицы на ней золотые, с желудь каждая — да щербат их ряд.
Зато у цыгана глаза лиловым огнем полыхают, зато кудри вдоль впалых щек — виноградными гроздьями. И ловко держит он поводья, и слушается всадника лютый зверь под седлом.
А скакун под цыганом знатный. Ай, ромалэ, не видали еще цыган верхом на таких скакунах. Спина — крутым холмом, щетина — густым ковылем, копыта раздвоены, клыки серпами торчат, рыло с суповую тарелку — шевелится, подрагивает. А уши черным мехом поросли.
Видный кабанчик, роскошный, любо-дорого посмотреть. Не чаяла Ганна такого красавца когда-нибудь встретить. Была у нее мечта заветная, мстилась вовек недостижимой — и вдруг сама в руки идет. Но не с кабаном ведь, надо со всадником уговариваться. А с ним дело ясное, что дело темное: откуда бы у цыгана гиперборейский скакун хорошей крови, редкой масти, отлично выезженный?
Ну что ж, не впервой Ганне хитрые разговоры вести, почтовая работа непростая. Платком от мух да от зноя отмахиваясь, обошла Ганна кабана со всадником вокруг, оглядела игривым оком. Сдунула приставшую к губам прядку. Осмотрела еще раз ноги скакуна, как будто что-то важное увидеть хотела, хоть сама еще первыми цепкими взглядами всего зверя до последней шерстинки наизусть выучила, мастер и всадник, певчая птица Ганна Гамаюн. Посмотрела-посмотрела, головой покачала. Да и вскинула распахнутые глаза на парня — как огнем ожгла.
— Не твой ведь. Откуда?
Цыган в ответ ухмыльнулся, с прищуром нарочитым похвалился:
— Оттуда, где больше нет. Увел.
— Ты? — обидно улыбнулась Ганна. — Его? Или он тобой закусить вздумал?
— Вот еще скажешь! — возмутился парень. — Не видишь, как слушается?
— То-то я и смотрю. Невиданное дело. Не жеребца племенного свести. Как?
— А я слово знаю, слово нарочное, заветное.
Ганна напряглась, сжала губы. Посмотрела встревоженно — ну как такой словознатец за Мотрусей придет? Да и рассмеялось дробно, беспечно.
— Ну, вот еще ты мне будешь! Никакого слова ты не знаешь, да и нет его. А и было бы, и знал бы… Это ж тебе не кляча какая. Хоть в уши дуй, хоть в рыло плюй, нет такого приворота, чтобы гиперборейца свести. Он не хозяину скот, а всаднику товарищ. Из коней лучшие вот так живут, а гиперборейцы иначе и вообще не могут. Не простая тварь. В крови у них это. Знать, нет в живых его всадника, вот с тоски к тебе и прибился. Что, правду говорю? — Ганна воззрилась на цыгана.
Тот раздосадовано сплюнул.
— Что б ты понимала, девка!
— Да уж побольше твоего! — фыркнула Ганна и мотнула головой назад, а там Мотря рыжей горой громоздится, похрюкивает басовито. — Имя-то скакуна своего — не разобрал поди?
— Да как его разобрать? — насупился цыган.
— Да вот, на серьге.
Поцокала Ганна по-особому, да встала на цыпочки, ухватила свина за мохнатое ухо, а в ухе-то серьга именная. Развернула ее Ганна нутром к себе. А цыган рядом с ней на цыпочки же — и ну в ухо девке тихонько дуть-шептать. Двинула локтем в живот — отскочил, ловчара.
— Ну! — прикрикнула на него. — Не шали. Не заговоришь, не приворотишь. Не кобыла я тебе… уж тебе — и подавно. Сюда смотри лучше. Видишь?
— Да толку? Я видел уже — буквам только не учен.
— Тю. Эти буквы не всякий и ученый разберет. А ты, — усмехнулась Ганна, — ты, яхонтовый, знай, что зверя твоего зовут Громовой. Или Громовик. Такое вот что-то, понимаешь? Точно по-нашему и не скажешь. С громом идущий… гром несущий. Имя ему, да, в самый раз. Зови его сам, как на душу ляжет, только чтобы про гром не упустить, понимаешь? Ты его уважишь, и он тебя уважит. Только людям не говори, храни между ним и тобой. А как вслух на людях звать — сами договоритесь, он поймет. И ты… не думай чего. Никнуть тебе не с чего. То, что скакун такой сам тебя выбрал, и к тебе пристал, и носит тебя — это, знаешь, поболе чести будет, чем если б ты его сманил. Мотрей моей клянусь, поболе.
— А тебя-то как звать, красивая?
— Ганна я, а ты?
— Чирило, вот я кто.
Ехали вровень, стремя к стремени, но поодаль друг от друга. Искоса, скрытно поглядывали, прятали улыбки. Что там парень себе думал — Ганна догадывалась, а свой интерес в уме держала, да долго не выдержала.
— Дело у меня к тебе есть, Чирило.
— Что за дело у красивой такой к цыгану?
— Ну, может, погадаешь?
— Женщины гадают. Я тебе без гаданья все в точности скажу. Ласки тебе, красивая, не хватает, любви, мужской крепкой руки. Ночью холодной тебе не к свиному боку прижиматься бы, а чтобы мужчина обнимал, согревал, чтобы жар в крови пылал…
— Эй-эй! — погрозила пальцем Ганна. — Не гадаешь, сказал? А ведь угадал почти! И про жар в крови, и про бока свиные… и про любовь. Только не между нами любовь будет, — взвела бровь черную, улыбкой выгнула губы. — Не между нами, не обессудь. Между ними.
— Что? Это зачем еще?
— Вот ты дурак! — рассердилась Ганна от смущения. — Ты хоть представляешь цену их деткам?
— Хм…
— Одного тебе отдам, кабанчика. Не маленьким, конечно, подрощу.
И поладили, сговорились обо всем — и как цыгану весточку передать, когда Мотря в охоту войдет, и куда ему тогда ехать.
— Эх, шалая ты! — смеялся Чирило. — Первый раз парня видишь, а уже о детках с ним сговариваешься, сама сватаешься, без сватов.
— Э, нет! — смеялась Ганна. — Свататься-то сватаюсь, да невеста — не я!
— Ну, красивая, ты бы сказала тогда, как невесту зовут. Не Мотрей же в самом деле.
— Что? — не поняла сначала Ганна, а как поняла — вскинулась: — Что?! Я — тебе — ее имя? Да ты с глузду…
— Ну вот! — сверкнул цыган глазами. — Как моего скакуна имя — так тебе знать можно. А как мне…
— Твоя правда, извини. Зовут подругу мою Страшная Краса, а попросту — Красуля. А вслух Мотрей кличу, добрым людям на забаву. Ну, нам сюда, вам туда, не поздней чем через полгода свидимся.
— Ну, до встречи!
И правда, свиделись, встретились, не разминулись в широкой степи. Отпустили скакунов на волю: буйны игры любящихся гиперборейцев, опасно с ними рядом быть. Затопчут — не заметят, потому что всё и совсем забывают на эти несколько дней, пока в крепких жилах гудит пылающая кровь. А как ни жгло в крови пламя, не сладилось дело, пока кабан вороной не догнал Мотрю — и не один раз, а пока все силы ее в резвой скачке не иссякли, а потом бились они — не понарошку, без пощады — пока не победил Громобегущий невесту свою так, что уже не противилась.
А всадники лагерь над рекой разбили — костер, да тренога, да кошмы на траве — вот и весь лагерь, звезды видеть, ветром степным дышать, а дождей в это время здесь не бывает. Может, и у них сладилось бы — где тот Видаль, да когда еще надумает, и это если забыть, в какой беде он перед Ганной виноват пожизненно. Да слишком гордые оба оказались, что Ганна, что Чирило. Слово за слово — расстались в ссоре. Так и не помирились потом, но уговор-то Ганна выполнила, не обманула.
Олесь-гончар
Вот оно где у меня всё — в руках вот, в ладонях. Мокрый, скользкий бесформенный комок — так всё начинается.
Когда был мальцом еще, бегал смотреть, как котятся козы у бабы Дуси. Такой же рождается склизкий бесформенный комок — а уж из него выходит форма: копытца, мордочка, козленок. Что обтирают, что вылепливают — так же вот всё. Похоже. Так и я свои места…
Нет, дело мастерское — оно одинаково для всех. Ходи, смотри — хожу, смотрю, высматриваю. Глазами ласкаю, выглаживаю, вылепливаю из клубов сущего. Но кажется мне, что на самом деле не тогда все происходит, когда я хожу и смотрю. Как будто я уже готовое в себе несу. Вылепливаю его руками, вот этими пальцами, ладонями, когда вертится передо мной мой круг гончарный. Сплющиваю и вытягиваю, округляю и придавливаю — и уже не знаю, леплю ли то, что хочу увидеть, или глаза только предугадывают то, что выходит из-под рук.
И руки в красной глине едва не по локоть, и когда проводишь под новорожденным кувшином струной, отделяя его от круга — чем не пуповину перерезать? А детей только говорится, что делают, а на самом деле никто не делает детей, дети сами родятся.
Кажется, будто тот горшок или этот кувшин — сами хотели быть, сами направляли мои руки. Ведь берешь брус глины — с полруки, а выводишь сосуд от колен выше головы.
А глина откликается на поворот твоей ладони, на наклон пальцев — растет то вширь, то ввысь, растет, как живое всё растет.
Как не поверить, что весь мир из глины вылеплен? И человек — тоже небось склизким бесформенным комом приходит в мир, а мир его лепит. А потом человек лепит мир.
И вот я хожу, смотрю, леплю.
Я говорить про это не люблю. Я про это думаю.
Мастеров кормит место. Так заведено. Люди, что пришли жить в новое место, принимают от мастера имя и землю. Землю во владение и на пропитание, имя — на честь и прозвание. Как мастер прозвал, так и будет место зваться, а по нему и людей назовут. Я вот зовусь Олесь Семигорич, потому что с села Семигоры родом. И все у нас там — семигоричи. А как Орехову балку дострою — поселятся люди, будут зваться орещане, а то орешичи. Ну вот они и пропитание мастеру положат, какое им самим не в тягость. А много ли надо — всем загалом одного человека пропитать, одеть-обуть. Тем более, за каждым мастером не одно место стоит.
Но я всё равно люблю накрутить горшков, макитр, глечиков носатых, да и свезти на рынок в Суматоху или еще куда — там добрые люди сидят в рядах, денег не спрячут, за труды только и за место возьмут, а мою долю всю до грошика выдадут. Хорошо.
Мнится мне, и человек так же образуется? Кто-то вдавливает нутро вглубь, и от этого выше тянутся стенки, а потом выглаживает, выстругивает всю оболочку. И вот таков человек при рождении своем: ладен и пуст. И наполняют его сначала добрые люди — родители, а после кто во что горазд, и сам человек в этом деле не последний.
А что мастер с высмотренного места кормится — это правильно, потому что без мастерского труда ежедневного, кропотливого, нудного, без терпения и маеты, без затворничества, когда лишний раз побоишься росточки без присмотра оставить — не было бы никакой новой земли, на которой добрые люди нынче хлеб растят и гусей пасут, а жили бы впроголодь по родным углам да в такой тесноте, что хуже обиды. А при таком деле, что ежедневного труда требует, где уж мастеру на пропитание зарабатывать другим ремеслом? Да и незачем — его ремесло при нем, ясное дело.
Так что эти глинятки мне — и свистелки, и дуделки, и птички, и коники, и важные макитры, и хозяйственные глечики, и щеголи-куманцы — для радости, а еще потому что всякое с человеком бывает. Завтра попадет злая соринка в глаз — и поминай как звали мастера-смотрителя. Погаснет свет небесный, на том мое дело и кончится. Приду тогда в Триполье мое, или в Райдугу, или еще куда. Или вот Орехова уже будет жива и людом полниться. Приду, стало быть, попрошу крова и подмоги. Старое добро помнят, кров дадут, не откажут, а только старым добром новую радость не купишь. Чтоб не быть добрым людям поперек жизни — отложена у меня копеечка, на прокорм хватит. А там, глядишь, и свистульку какую детям на забаву, а то и посудину смастерю. Да хоть местному гончару помогу глину месить. Слышал я, слепцы умеют руками видеть — а рукам моим ни силы, ни уменья не занимать.
Нет, я не то чтобы день и ночь всё об этом думаю, покалечиться боюсь. Нет… Так только, находит порой, когда на жильца моего смотрю. Уж на что парень весь собой удался, а пришла беда — и пропал. Вроде и жив человек, а вроде и лучше бы помереть. Не поймешь, как тут лучше.
На ярмарку
В то лето Олесь Семигорич, достроив Райдугу, взялся сам отвезти свой товар до ярмарки. На небольшом отдалении от мастерова двора уже обустроили перевоз и первые жители уже селились по этому краю, строили шалаши и загоны, огораживали огороды и косили траву, выпускали на луга коз и гусей. Трещали ветки и стучали топоры, свистели хищно блестящие косы, живность кричала на разные голоса, сверху бранились и божились люди. Становилось шумно и пестро, наступала пора сниматься с насиженного места и подыскивать себе новое — новое жилье, новую работу, новую жизнь. Двух одинаковых мест не строит мастер, говорят, хотя все они чем-то похожи будут у него. Как и сам мастер каждый день в другом настроении бывает, а все один и тот же человек.
Вроде от шума и суеты бежать решился Олесь Семигорич, только вот бежал прямиком на ярмарку. Выбрал из новоприбывших самого справного хозяина и предложил ему обмен: готовый мастеров дом на доставку мастерова добра через перевоз в Дорожки. Погрузил в запряженный волами воз свои изделия, тщательно укутанные в солому, разобранный гончарный круг, к которому давно приладился, попрощался с печью своей, которой вряд ли еще когда придется заключить во чреве огнь пылающий — разве только заведется в Райдуге свой гончар да станет нанимать печь у нового хозяина, если тот еще не порушит ее к тому времени. Остальные-то пожитки невелики были у мастера, решил обзавестись на ярмарке обновками, а так только свитка была прошлогодняя всего, а вот сапоги сносились — и новых не брал, ждал каникул и ярмарки.
Сразу за перевозом — дорога, от перевоза к ней протоптано-проезжено, а сама рядом лежит, а по ней мимо перевоза жизнь идет: шумная, яркая, пыльная, ногами топает, колесами катится. Ватаги парней — на ярмарку гулять, хозяева с товаром — торговать добрым людям на пользу, себе на выгоду. Вереницы нищих слепцов продвигаются по обочине, ведомые мальчишками-поводырями. Толкутся в пыли, кричат, бурлят — и все-таки, как бурная река, кипящая водоворотами, все же катится вперед, так и люди на дороге катятся и текут в одну сторону, к ярмарке в Дорожках.
Олесь аж зажмурился: столько народу во всей Райдуге еще не поселилось, сколько предстало перед ним враз на торговой дороге. В одной Суматохе в праздничный день перед ратушей, может, и гуляет столько народа — а ведь сколько-то уже прошло и сколько-то еще пройдет, нагоняя этих, торопясь попасть на торжище. Неожиданно для себя Олесь почувствовал радость. Это в Райдуге люди на него дивились, кто таращился во все глаза, кто нарочно отворачивался, едва скользнув взглядом, чтобы не показаться навязчивым, а все же каждый хоть прямо, хоть исподтишка разглядывал мастера, устроившего место. Там все по шалашам-палаткам да землянкам селились попервой, одна его хата стояла — беленые к лету стены, соломенная стриха на четыре ската, плетень вокруг. Сразу видно было, кто здесь мастер, кто здесь жил до всех. Потому и не спрятаться было от людей, от их взглядов — и почтительных, и сочувствующих, и благодарных, и завистливых. Вот чем утомился мастер в заселяемой Райдуге, вот что ему там поперек души встало, вот от чего бежал! А здесь, на дороге, встав между других возов, их воз потерялся совершенно, а что мастер на возу — так на мастере и не написано, а и было бы написано не всякий прочитает. И поняв свою потерянность и почти безликость здесь, на бурливой ярмарочной дороге, Олесь Семигорич вздохнул полной грудью, наглотался пыли пополам с полынной горечью и сладостью тимьяна — и закашлялся аж до слез.
Человек на доске терпеливо пробирался по самой обочине — отталкивался коротким шестом, что твой паромщик, пропускал теснившие его возы, пропускал торопливых прохожих, то и дело натыкавшихся на доску, перепрыгивавших ее, не скупясь на грубое слово. Его неподвижные ноги лежали перед ним на доске, и видно было по их положению, что человек не чувствует неудобства в них, вообще не чувствует их.
И весь — от бессильных бесполезных ног, до крепких ловких рук, которыми он толкался при помощи короткого шестка, до темных вьющихся волос, сбившихся в шапку на его голове, которой он то и дело крутил, озираясь, выискивая лазейки в текущей вокруг толпе, и до напряженного хмурого лица его он был покрыт белесой пылью и, кажется, дышал ею одной, потому что там, где он передвигался, пыль стояла облаками, клубилась и кипела.
Олесь не мог оторвать напряженного взгляда от калеки, сам того не замечая, а когда заметил — устыдился: не так ли на него самого пялились новожители? А он — здоровый, сильный, создатель их земли — не знал, куда деваться. Каково же сухоногому под непрестанными взглядами здоровых? Небось так же, как сам Олесь, втайне радуются, что они глазеют, а не на них. Семигорич оттолкнулся от воза и перешел через дорогу, проскальзывая между возов и обходя пешеходов.
— Увечного не повезу! — уперся справный хозяин Пилип Пилипенко. — Грошей дам, не жалко, а на воз сажать не дам. Коли перейдет от него недоля — что мне тогда? Домой везти? Все хозяйство по ветру пустить? Вот грошей ему дай — и пусть своей дорогой идет.
Говорил справный хозяин как бы отворотясь, как бы только Олесю, но так, чтоб калека точно услышал. Так, глядишь, и гроши сберечь можно. Калека, и правда, насупившись, поднял свой шесток для толчка, прочь податься от негостеприимного воза.
— Я ж сказал, не повезет, — скривив рот, сплюнул он на дорогу, а и слюны не собралось во рту от пыли и жажды. Один вид, что плюнул, звук только вышел.
— А я сказал — повезет, — Олесь положил руку на верхушку шестка. — Ты погоди-ка, не спеши. Слышь, Пилипе Илличу, за сколько воз уступишь?
— Так ты для этого голодранца и воз купишь? — не поверил Пилип, справный хозяин.
— Мне на новое место селиться — обзаведусь по хозяйству чем в Дорожках, на воз и нагружу. А хоть бы и для доброго человека — тебе что, жалко? Я деньгами заплачу, а ты хоть прям отсюда обратно вернешься, вон перевоз — в двух шагах еще. А через год свидимся — тогда, если хочешь верну тебе воз и с волами.
— Ни, волов не отдам! Самому нужны. Хочешь — покупай воз, а волов я тебе до Дорожек одолжу, а там новый воз справлю и домой вернусь.
— Домой он… вернется. Ну, по рукам, коли так. А ты, добрый человек, давай — подсажу, не дело людям пыль глотать.
* * *
А хоть и плюнул, и обругал того Петра за его глупые мечты и что возложил на меня зряшные упования свыше сил человеческих, а все же его думка и меня зацепила. Сам не знал, пока не обустроился в Ореховой балке, и то — не до чужих думок было, а хватало забот начальных: хату ставить-мазать-выглаживать, стриху класть, печь возвести в хате и вторую — во дворе, для глиняток моих, и яму выкопать для глины, и круг установить под навесом — и всё ж одному. И выйти в первый раз в обход, осмотреть новое место, уже не как гость, как родня ему. Будем вместе теперь жить, друг другу в душу смотреть, и уж чего в чем прибудет — тому и радоваться. Место растет — и я расту вместе с ним, как иначе? И тут не важно, сколько мест у тебя на глазах уже выросло, каждое — единственное, на все прочие не похожее, даже и говорить тут не о чем. Орешник-лещина даже и тот по-разному растет, а уж казалось бы: один я что тут, что там, один орешник в моей душе с детства шелестит, а выходит каждый раз — разный. Место — не пустота, я так понимаю. Это как вот я всегда один и тот же гончар, а какую глину возьму… В общем, с разбором надо, не всякая в дело годится, или не во всякое дело. Так и место: есть оно и до меня как будто, и поперек него мне его не вывести, не вырастить. Не проявить, чего в помине нет, но и не скрыть того, что есть, а мне сразу не видимо. Поэтому мастер за место не берется, пока с ним сам не познакомится. Поэтому и я не обещал ничего ходокам, разыскавшим меня в Дорожках на ярмарке, ничего кроме зайти в присмотренное ими местечко и послушать его, пощупать. Всего-то места было: овражек, голый совсем, открывающийся к небольшой воде. А в том их овраге оказалось глинище знатное, самому на зависть. Для хаты глину найти не хитро, ее довольно поверху лежит. А вот глина, чтобы на круг ее положить, чтобы в воде не распускалась, чтобы сохла без трещин — за такой в глубь земную рыть надо. А тут весь овраг, считай, вот такое заветное глинище, сказочное место, знай только нагибайся и бери глину-горшовку, сколько хочешь. Я тогда сразу и сказал, что берусь. Решил овражек порасширить и оположить, лугом затянуть, лещину поверх пустить, чтобы держала землю, лес возвести. Будет балка здесь щедрая и надежная, не овраг прожорливый. А вокруг — поля и леса, сколько дотяну. А себе дом поставлю на краю, над водой — и, может быть, когда-нибудь здесь и насовсем поселюсь, на таком-то глинище у самого крыльца, аж себе завидно!
И вот когда место обошел, глины заодно прихватил в мешок небольшой — видно, что хороша, ну не ждать же, пока тут трава нарастет и можно будет вола с возом сюда привести, чтобы той глины до дому доставить. Прихватил, сколько унести смог, и уж дома ее бил-колотил и веслом, и долбнем. Хороша глина красная, горшковая, тугая и крепкая, в меру жирная, послушная. Ни с песком ее мешать, ни водой чистить, готовая! Скатал ее колбасой, отмахнул жилой кусок по руке — и на круг его. Стал было горшок поднимать, вдавил середку, приподнял бочка… И тут как под руку стукнул кто: смял, сгладил, пока круг останавливался, вытянул ногу из-под него, пошевелил пальцами, присмотрелся — как смешно у человека пальцы растут! Один толстый, за ним другой — длинный, дальше как бы обыкновенные, одинаковые два, а рядышком малыш-малышом притулился, ногти вот на них… Ногти-то слюдой что ли выложить? Или уж все из глины?
Сам себе дивлюсь, а руки тоже себе сами — как глаз видит, так глину и мнут. Обмяли, вылепили, сижу, радуюсь: нога как нога, красновата, но лучше так, чем из наглинка желто-зеленого, скажем, или из голубой…
Оно ведь как вышло в Дорожках… Выставил я своих глиняток на продажу — и бойко они пошли, я ведь в любом кувшине нарочно на дне пупец оставляю, чтобы сметана хорошо родилась, ну и другое, во что люди верят — соблюдаю. Верно оно или так, баловство, мне все равно. Я знаю, что лезут рукой в кувшин не для того, чтобы гладкость стенок проверить. Пупец ищут. Вот и пупец, на месте. Непременно такой кувшин возьмут, а уж когда знают, что работал мастер-смотритель — только успевай деньги в кошель совать. А тут и сам мастер у воза стоит, значит, свободен, значит — время к нему сквозь толпу протолкаться и спросить, не глянет ли местечко новое, не глянется ли ему…
Так ко мне ходоки и пробрались, стали по имени-отчеству величать, рассказывать, где их место во Тьме покоится и что они на том месте видеть хотят.
А Петро, калека, он у самого края торжища от меня отстал — ему в толчею не с руки внедряться, не ровен час затопчут. И однако смотрю — а он из-за лядвий моих просителей кудрявую голову высунул, смотрит на меня изумленными глазами. Дождался, когда я с ходоками уговорюсь, чтобы завтра с утра пораньше пойти к перевозу да их место глянуть, и вот уже ушли мои ходоки.
А Петро ко мне подкатился на своей доске.
— Как, — говорит, — судьба-то свела. Я тебя и ждал, мастер, и искал с самого Рождества, уже не верил, что сбудется.
— А я, — говорю, — ничего о том и не знаю. И правда, могли не встретиться никогда. У тебя ко мне разве дело какое? Место хочешь выстроить? Или куманец какой особенный вылепить?
— Гончар ты знатный, — говорит. — И мастер именитый. Из ничего, из тьмы — живую землю творишь, всякой травой, всякой живностью населяешь. Из глины стройные кувшины лепишь, ровные, без упрека. Вот и слепил бы мне новое тело из глины — разве не сумеешь? И взглядом своим оживил бы.
Тут я и не нашелся, что возразить, до того нелепо мне было это слушать. А он дальше говорит:
— Я, мастер Олесь, как понял, что не гожусь ни на что больше, сначала убить себя думал. На что я такой? Ни родителям радости, ни невесте счастья. Один убыток и обуза от меня. Но переменил мысли, сам, никто меня не надоумил. Сложил один и один, как нас поп учил в школе, получилось два.
А я стою и молчу, потому что — ну как на такую глупость возразить? Это как если бы он мне сказал, что земля одна-единая и ходить по ней можно из конца в конец безо всяких перевозов и переходов, и никакой Тьмы, а только земля и земля без конца… Когда каждый видеть может своими глазами, что каждый клочок земли окружает Тьма безжизненная и непроходимая. И как это доказывать, если это каждый знает? Поневоле растеряешься. Невозможно человеку тело слепить взамен того, в котором он матерью рожден. Потому и ходят по земле увечные, силой ущербные, потому и болеют люди, потому и умирают: одно тело на всю жизнь, не заменишь его ничем. Береги, если можешь, а не уберег — так и вышел твой срок быстрее, чем у всех.
А он говорит:
— Ну что же, мастер? Что молчишь? Зря я жить себя оставил? Зря на тебя надеялся?
— Погоди, — говорю, — может, тебя в родное село проводить? Там небось мать плачет, отец горем давится, невеста вот тоже, раз уж вспомнил?
— Нет, — говорит. — Решил я, что вернусь домой только целым и годным, а если ты мне не поможешь, то и жить не буду.
Тут я его и погнал от себя злыми словами.
Испугался я, сколько он на меня надежды воздвиг на пустом месте.
И больше я его не видел, и не знал, что с ним сталось. А тут надо же — нога как сама собой вылепилась. Потому что ногу — вот — легче всего на себе рассмотреть. Правую вылепил. Похожа вышла, хоть рядом ставь. Небось и мой сапог впору будет как раз.
Вот ведь незадача! Опомнился. Нога-то — моя. А мне и с нынешней неплохо, меня перелепливать не надо, я сам себе и так хорош. Значит, не могу я с себя Петру ногу лепить, ничего ему с меня лепить не выйдет. Значит, надо бежать в те Дорожки, пока могу, пока место еще голое, не присмотренное, не расточится моя работа понапрасну. Бежать в Дорожки, искать Петра на тележке или след его е искать… Звать в гости на жительство, чтобы, значит, с него же самого и лепить.
Эх, и не дивился даже тому, что вот, по локоть уже в этом деле увяз.
Видно, и правда, судьба того хотела: нашелся мой гость, никуда не делся. Все, что собрал на ярмарке в шапку свою — все в корчме и просадил, да и не закусывал поди. Я ему потом говорю:
— Ладно, тебя слепить — дело нехитрое… Хоть и повозиться придется. А вот как тебя в новое тело пересадить? Не куст на огороде!
— Ты слепи сначала, а там подумаем, — ответил мне гость мой. Понял уже, что я не чудотворец ему и нет у меня для него спасения такого, чтоб раз — из рукава выдернуть. Подумаем, гляди-ка. Это уже другой разговор был, и мне он больше понравился. Хотя что уж там — я в это дело ввязался сам.
Первого мы зарыли в овраге. Трава уже пронизала почву тонкими белыми корешками, они трещали и рвались под лопатой, и было жалко своей работы — и той, и этой. Ликом голем был кривоват, да не в этом дело. Уже когда я слепил воедино части — помрачнел Петро, руки опустил. А был он мне важный помощник. Мне ходить и смотреть, пока свет — вот и научил его глину бить, колотить, мять. А ночью костер во дворе разведем — и леплю его по кускам. Руку, ногу, другие… Плечи, грудь. Голову — как, говорю? Я ж не такой художник, чтобы вот прямо всю твою персону как есть отразить. Как-нибудь, отвечает. Уж постарайся, чтоб дивчина меня узнала. Уж постараюсь, говорю.
Но про дивчину задумался.
Ты, говорю, Петре Юхимовичу, чай и жениться собираешься?
— А как же! Непременно собираюсь, обещал.
— Тогда, Петре Юхимовичу, не об лице нам надо переживать.
Тут-то мой Петро Юхимович и застыл с раскрытым ртом, а краска ползла на лицо, как будто свекольным соком его облили.
— Да чего ты? Купаться ходили — не прятался.
— То купаться. А то ты пялиться будешь, разглядывать. Не дети уже.
— Нет, дело твоё. Но как без этого жениться? — сам над ним усмехаюсь, а сам чувствую — лицо пылает, хоть в воду макай. От того пуще на словах веселюсь: — Могу и без тебя обойтись. Не хочешь снимать штанов — я у себя подсмотрю. Больше все равно не у кого.
Плюнул Петро, взобрался на тележку свою и покатил со двора. Посмотрел я ему вслед, но остался. Далеко не укатится — далеко катиться тут некуда. Сам перехода не найдет. А захочет с края земли во Тьму сверзиться — ну что ж, может, оно ему и слаще, чем думать о глиняной елде. Вот ведь что с людьми происходит: уехал заработать на счастливую жизнь — и не заработал, и жить уже нечем.
Соперники
Ганна явилась на рассвете.
Мотря недовольно оглядела жиденькую травку по склонам оврага, но на мелководье нашла себе какой-то корм и осталась бродить там, плеская водой и похрюкивая.
Пока Ганна устраивала отдых своей скакунице, Олесь, подорвавшийся на ее голос за окном, торопливо натягивал одежду. Петр вывалился из хаты, мигом взобрался на колесную доску и укатил в сарай, из-за приоткрытой двери посигналил Олесю непонятное. Олесь пожал плечами и пошел встречать гостью. Обнял почтарку, расцеловал жаркие щеки, повел в дом. Мотрино седло и всю сбрую Ганна ему нести не дала, как ни просил: хоть и дева, а всадник; всадник управляется сам. Зато дала в руки торбу, наказала осторожно нести.
— Хату уже и выбелил? Давай я тебе цветов по стенам напущу, а? Уж так бело у тебя в хате, как у белых сестер кельи.
— А ты была в монастыре?
— Возила им почту, а как же. Ночевала даже в страноприимном доме. Там все белым-бело, а у сестер самих кельи поди еще белее. Цветов на печь, на стены — хочешь? А что ж ни половичка у тебя, ни рушника?
— Все будет, Ганно, дай сроку. А то оставалась бы жить, сама порядок свой завела, по своему нраву бы?
— И не стыдно тебе? — нахмурилась Ганна. — Я тебе цветов обещала как брату, а ты мне такое говоришь, когда Видаль не слышит.
— Да я и когда слышит, говорю. Не больно-то он спорит со мной.
— А ну хватит, — топнула Ганна. — Сколь надо, столь и спорит, а пожалуюсь ему — так и подерется с тобой. Не хочешь цветов, так и не надо. Поеду прочь.
— Ну что ты, Галю, брось это! — Олесь потянул у нее из рук седло. — Будто боишься меня. Будто я что себе позволял когда? То жарт был.
— Не жартуй про это. Одного любила — забыл меня. Другого любила — умер. За третьего пойду, хоть небо тресни. А на тебя у меня и счета нет.
— Ладно, Галю, не сердись. Не пойдешь за меня и ладно. Хоть цветов мне в хату пусти. Будет мне радость от тебя. А только не будь Видаль дураком, уже ему хату бы расцветила и не носилась бы по болотам и буеракам сломя голову.
Ганна в сердцах скинула седло у тына, глянула яркими очами на Олеся:
— Обещал не говорить.
— Ладно, Галю. Не говорю. В торбе поди яйца?
— Яйца. И зелий травяных для краски привезла — твои-то еще когда вырастут. И кошку остригла для тебя. Мать ругались — ей самой скоро печь обновлять. Но я для тебя настригла шерсти, будут кисточки ладные.
— Ты дома была?
— Была. Лучше бы не была. Мать губы поджала так — сёстрам я плохой пример подаю. Соседи как письма разобрали — так и отворотились. Парни так и плятся бесстыжие… как будто ждут, что я рубашку скину и пойду перед ними ходить. Тьфу. И то, знаешь, я удивилась. Я что думала: мне-то время стоит, пока я у вас гощу, но там, у них, втрое больше прошло. А прошло-то всего… У них — два года с месяцем.
— Так это ты оттуда знаешь, что жених тебя забыл? Женился? Видела его?
— Не видела. Он домой и глаз не казал с тех пор. В чужом краю жену себе нашел, там и остался. Вот так. Всё, хватит об этом! У меня почта в суме дожидается, а ты мне зубы заговариваешь. Давай горшков под краску, будет тебе Древо Жизни на печь — аж по стенам ветвиться будет, само оранжевое, и цветов по ветвям пущу алых, и птиц рассажу лазоревых, и пусть у тебя в хате рай цветет, а под ветвями звери пусть чудесные ходят… Хочешь?
— Хочу, Ганно, как не хотеть?
— Так давай!
Олесь пошел в сарай — а там в тени, исполосованной светом, мелькнуло лицо Петра.
— Эй, ты что здесь? Или прячешься?
— Слушай, я здесь побуду. Не хочу… Бабы на меня глядят жалостно, не хочу показываться. Я тут пережду.
— Ну дело твое. Душно здесь. Как она заходится с красками, я тебе воды принесу. Подожди пока.
— Подожду.
Древо расцвело — как обещала Ганна: оранжевое, в алых цветах, с лазоревыми птицами по ветвям. По стенам вокруг бродили диковинные звери и цвели пышные травы. Напоследок Ганна обвела снаружи синим окна и дверь, завалинку красной глиной вымазала и потребовала умываться и есть.
Олесю все казалось, когда она возилась во дворе, что сквозь щели сарая маячит светлое пятно, и он хмурился, то и дело оглядываясь на сарай.
Когда Ганна уехала, дождался Петра во дворе.
— Слушай, ты, гостюшко, если сам казаться не хочешь, нечего и пялиться! — набросился на него. Только взгляд у Петра был не ласковее:
— Ты за ней ухаживаешь? А Видаль что — тот самый, который памятник? Друг он тебе?
Так ничего друг другу не ответили, соображали каждый свое, молчали. Только когда уже совсем стемнело, Петро окликнул гончара, укрывавшего глину в яме.
— А? — отозвался Олесь.
— Так ты теперь что, не станешь мне тело делать?
Олесь помолчал.
— Отчего ж не стану? Стану. Только не сразу, погодя. Не переживай, времени здесь пока что и вовсе нет.
Времени здесь нет, кроме как в нас самих.
Глотать мне эту горечь, пока не привыкну к ней, пока не растает, пока в горло не польется жизнь моя сама собой, а не как сейчас. Не давиться ею в изумлении: кто ж так все подстроил? Мало мне, что друга моего она любит, так и прежний жених ее — не забыл, не у другой пригрелся. А тут вот, у меня гостит, помощи ждет, чуда алкает. От меня. Гляди ж ты, некому в этом мире больше чудо ему сотворить.
Времени здесь нет — изболит душа, истончится сердце, а ни морщинкой на лице не отразится сие. Горе мне, горе. Против Видаля я бы встал — да и стоял, и Видаль это знал, и шуткой про то поминал не раз. А было бы не шуткой — я, может, и отошел бы в сторону. Но он жартовал. И не видел, что насквозь понятно все про него и про Ганну, был бы интерес понимать.
У меня был интерес. Я стоял против него и сдаваться — пока крепкое слово между ними не сказано — не собирался. Но против этого… Против увечного, ради нее приговорившего себя сперва к одиночеству в безвестности и нищете, а после — к чуду… Разве встану я? Когда б такое можно было — встал бы. Но нельзя. Совсем нельзя.
Но когда б такое было можно… Но когда такое будет можно. Когда? А вот тогда.
Когда чудо ему — исполнится. Когда пойдут глиняные ноги, когда поднимутся глиняные руки, когда увидят мир глиняные очи. Разве бывает такое?
А вот и поглядим.
Рутгер Рыжий
— Мастер… — тихо позвал малый, и Кукунтай толчком проснулся. Как над дитём недельным, однако, — выругал себя, точно себя, а не малого, потому что малой — что? Страшно ему в темноте, вот и зовет. Мамку звал бы, да нет у него мамки и, похоже, отродясь не было. А что сам Кукунтай на любой его всхлип в темноте просыпается, это не дело. Хочет человек сам-один выплакаться — его право, подушка ему свидетель, и хватит. Слезы из своих глаз бесследно проливаются, да в чужих застревают, — кому охота, чтобы помнили его всхлипы?
— Мастер… — тихо так, и надеясь, и стесняясь разбудить. Совсем дошел парень от страха, не справиться самому.
— Да не зови ты меня мастером, — сонным голосом буркнул тюлень.
— А как мне вас звать, дяденька Кукунтай? — такое облегчение было в голосе малого, что не один на один уже с темнотой, — сердце защемило.
— И дяденькой не зови. Как хочешь зови, только не мастером и не дяденькой.
— А почему мастером нельзя? — заторопился не упустить добычу — разбуженного наставника — обратно в сон.
— А потому, что ни к чему это, — Кукунтай приподнялся на локте, показал мальчишке, что засыпать не собирается. — Это нас так остальные зовут, и тебя будут. А нам между собой… только в насмешку или выругать — мастер-де косоглазый, руки не той стороной вставлены. Но это уж не всерьез — ни говорится, ни принимается. Это так, язык почесать. Понял?
— Нет…
— Поймешь еще.
В теплой тесноте полога было тепло, пахло дымом и шкурами. Яранга тихонько гудела и поскрипывала на ветру. Снаружи в глубокой тьме высокие полупрозрачные льдины теснились у зыбкого еще берега, а за ними не было ничего. Кукунтай решил: сначала льдины убрать, потом уже море разглядывать. Хотелось ему из этого темного промерзшего места сделать ласковое, солнечное, чтобы земляника в траве, как рассыпанные бусы, алела крупно, чтобы не снег под ногой скрипел, а мох кудрявый мягко стелился. Но далеко еще до этого, ох и далеко…
— А почему мне дяденька Видаль велел вас мастером называть?
Кукунтай почесал затылок, вздохнул. Кто его знает, того Видаля, почему у него то, почему у него это…
— А для пущей важности небось. Видаль любит, чтобы трепет и уважение. Тогда веселее шутки шутить. Понимаешь?
— Нет…
— Ну ничего. Всё в свое время, Рутгер, а пока зови меня просто, как все — Кукунтаем. Я ведь не учитель тебе — так, присматриваю, чтобы ты сам себе не навредил, пока опыта не наберешься. Ну… как старший брат. Брата бы по имени звал? Вот и меня зови так.
Малой вздохнул, но спорить не стал. Боялся до сих пор. Если щуплый черноволосый человечек смог заставить огромную статую плясать на площади — может ведь и живого в камень превратить? Добрый-то он добрый, но кто его знает, каков в гневе. Вон, взглядов им хватило, мастерам, чтобы страшных лягушенций как не бывало. А теперь Кукунтай в одиночку день за днем стирает огромные льдины — и стер уже до полупрозрачности, а на такого, как Рутгер, пожалуй, и минуты хватит. Тут разве поспоришь?
— Я тебя Рутгером, а ты меня — Кукунтаем. Как добрые братья. Что, не спится тебе? Ты лучше расскажи, чего боишься.
— Я не боюсь.
— Э нет, братец. Так не пойдет. Страхи наши не просто так. Место новое, темнота такая… всякое может завестись. Вдруг я проморгал, а ты учуял? Не скажешь — оно нас обоих слопать может.
— Да нет, мас… — споткнулся на запретном слове малой. — Нет, не такое… не из темноты.
— А откуда? — дернулся Кукунтай. — Что еще за напасть?
— Да нет, нет, не то! — оправдывался Рутгер. — Не такое, не опасное!
— А не опасное, так чего боишься? — недоверчиво проворчал тюлень.
— А я и не боюсь. Только… Кто оно такое?
— Кто? — совсем уже растерявшийся Кукунтай жалобно свёл брови. — О ком ты говоришь?
— Ну, о том, которое… там, у меня… под затылком…
— Ах, ты об этом… — Кукунтай повалился на шкуры. — Тварь щупальцатая. Ну, как тебе объяснить. Водятся они, что еще скажешь? Видаль про них знает. Много ли, мало ли, но уж побольше моего. Видаль много знает, да. Эти твари вроде из его места родного происходят. Его надо спрашивать. Я знаю одно: раз уж она у тебя завелась и ты к ней привык, нельзя сразу отдирать. Плохо тебе будет. Сначала силу свою почувствуй, отдышись тут на вольной воле после города. А потом и выкорчуем, дело нехитрое.
— А почему сразу нельзя?
— Плохо будет, говорю. Прижилась она у тебя, к яду своему приучила. Он в тебе теперь как родной. Отними — и затоскуешь. Подождем с этим, спешить некуда.
Долгий вздох — рывками, безнадежный — был ему ответом.
— Так ты ее боишься, что ли?
Рутгер помялся, но ответил:
— Не то что боюсь, а… вот так лежишь в темноте, а под затылком оно… и страшно. Сил нет как страшно. Не знал — и жил спокойно. Думал, обычное, как у всех. А теперь как вспомню… Кто там? Что оно такое? Что со мной сделает? А в темноте и того хуже.
— Ах-ха, — рассмеялся Кукунтай. — Горло не перегрызет. Спи давай.
И повернулся на другой бок, и наказал себе завтра же послать Видалю весточку — вроде он сейчас у Мак-Грегора гостит, так пусть прихватит яблочек в шляпу и дует сюда, успокоит малого, пока он сам себя не извел вперед щупальцатого. Напугал — теперь пусть успокоит.
Видаль явился и стоял, ежась, обхватив руками полную румяных яблок шляпу, а птица жалобно курлыкала у него за пазухой.
— Ау, хозяин! Яблочки померзнут!
— Заходите, заходите! — выскочил Рутгер. — А хозяина нету, но вы все равно заходите, вот сюда садитесь, здесь теплее.
Видаль согнулся пополам и неловко шагнул в душное чрево яранги, сплел хитрым узлом длинные ноги, усаживаясь у огня. Передал шляпу Рутгеру, протянул к огню негнущиеся пальцы.
— Ну и погодка тут! Как ты выживаешь?
— Да я что? Я-то дома сижу. Вот мастер домой только есть и спать заглядывает, а так всё ходит, всё смотрит…
— Работы немало, — согласился Видаль. Птица высунула из-за пазухи острый клюв, блеснула пуговичным глазом. Или точно пуговичным? Показалось — не перья, а встрепанные лоскутки с синим отливом, продернутые блестящей нитью…Рутгер моргнул… Да нет, птица как птица, глаз круглый, клюв длинный, всё живое, настоящее. Сердито скрипя, вылезла на плечо Видалю, стукнула клювом по смерзшимся в сосульки волосам. Видаль отмахнулся.
— Хорошо мастера кормишь?
— Стараюсь! Вот только как он без меня обходился — ума не приложу…
— Да уж обходился как-нибудь, не сомневайся. Но с тобой ему, ясное дело, полегче. — Видаль глянул на парня, добавил: — Намного полегче. Ну, а меня-то накормишь? Вроде сытым из гостей провожали, да на таком морозе всё как в топку ухнуло!
— Сейчас, сейчас, — засуетился Рутгер.
— А продукты где берете? — поинтересовался гость.
— Так мастер же и приносит.
— А сам еще не научился, значит?
— Нет… — растерялся Рутгер. — Мастер меня и не учит ничему…
— Я ж тебе объяснял еще когда! Нечему тут учить и нечему учиться. Просто поживи с ним, одним воздухом подыши, пропитайся, если тебе чего не хватает. Само наружу полезет, вон как тогда, с лягушками. Да не смущайся ты! Думаешь, я лучше твоего начинал? Я, приятель… да ладно, в другой раз. Уж поверь, приятного мало… А ты лихо… я бы гордился, честное слово. Взять и с маху таких чудищ насочинять!
Рутгер, заливаясь краской от смущения, придвинул гостю объемистую миску. Видаль потянул носом горячий пар.
— Грибочки! Со сметаной! Вот славно!
— Угощайтесь, у нас еще много. Дядя Олесь прислал целый мешок. Вот, наморозили… А сметану тетя Ганна привезла. Ну, я и…
— Молодец. Не пропадет с тобой мастер.
Грибочки Видаль уплетал молча, только цыкал на птицу, норовившую ухватить кусок прямо с его вилки. А Кукунтай всё не объявлялся — должно быть, ушел далеко. Рутгер успел гостя и чаем напоить, и оладьев с яблоками к чаю спроворил. Поговорили — так, ни о чем, о капризах вздорной птицы, о дурном характере вообще всей живности, которую заводят себе мастера.
— Это повезло еще Кукунтаю, он сам себе зверь, а ведь всем хочется душу живую рядом, когда годами один мыкаешься. Ну да ладно, когда-то он еще вернется, а у меня дел невпроворот, новое место себе присмотрел, так хочу еще друзей навестить, прежде чем за него браться, а руки уже чешутся… Пойду я. Что уж у него за дело было срочное — не знаю, а яблок я принес, да и ладно. И тебе гостинец, смотри-ка… — удивился Видаль, вытаскивая руку из глубокого кармана куртки. Покачал за тесемку вышитый бархатный мешочек, кинул Рутгеру на колени. — Вот видишь, не зря приходил! Хм. Ты, парень, не сомневайся. Чтобы кто другой это сделал — рано еще. Во вред будет. А если сам справишься — лучше и не придумать. Ну, бывай.
Сунул птицу за пазуху, расплел ноги, встал согбенный, да шкуру откинул — только его и видели!
Рутгер взвесил мешочек на ладони. Тяжелое, плоское было внутри. Распустил тесемку, осторожно перевернул — на колени выпали две медных пластины, круглых, отполированных до скользких бликов. Двумя ладоднями как раз можно было накрыть пластину, и у каждой с одной стороны горбилась скобка. Мне? — удивился Рутгер. Знать бы еще, что это такое… И понял уже: зеркала. И понял, что он может с ними сделать. Так ясно понял, что закололо в пальцах.
Ночь за ночью — не заснуть. День за днем — не забыть, что сидит загривке неведомое нечто и душу его, силу, жизнь — сосет. Видеть его Рутгер не видел, только щупал иногда пальцем, а после дул на обожженное. И еще слышал, что мастера говорили, но от того еще тошнее выходило. Мерещилось раздутое брюхо в дряблой шкурке, жадный рот-присоска, мерещились волнообразные движения горла… Хоть и знал уже Рутгер, что до смерти своих хозяев твари не быстро выедают, а всё казалось, что догадается жадный пузырь, подслушает его мысли — и в два глотка прикончит…
Зеркала лежали на коленях, Рутгер покачивался над ними, завороженный, и блики текли к нему и от него, живой текучий огонь отражался в меди и оживлял ее. Рутгер думал: дождаться ли мастера, дотерпеть ли до завтрашнего утра, когда мастер снова уйдет — и никто не помешает сделать задуманное, никто… Но еще одна ночь с ненасытным пузырем на загривке, когда чувствуешь, как силы утекают, как истончается душа внутри тела… и выступают из складок темноты белоглазые кошмары, от которых нечем уже заслониться, некому отразить…
Рутгер вскочил на ноги, завертел головой. Тонкий крюк, вбитый в тополиное ребро яранги — то, что нужно! Ровно перед глазами повисло зеркало. Кривым и нечетким было отражение, но Рутгер старательно изучил распахнутые в испуге глаза, закушенный рот — длинный, лягушачий, темно-рыжие прядки давно не мытых волос, повисшие вдоль щек. Оглядел всё это придирчиво — вот он какой, Рутгер Хейнеке, несклёпистый и ни к чему неспособный, кроме как всё напортить… И решительно повернулся к себе спиной. И поднял перед лицом второе зеркало. Пришлось потоптаться, повертеться, чтобы увидеть свой затылок — свалявшиеся космы и между ними мягкий серый мешочек — брюхо твари, морщинистое — в запас, обвислое, но готовое раздуться больше Рутгеровой головы.
Парень сглотнул, подавляя тошноту. Медная пластинка выскользнула из ослабевших пальцев. Рутгер поймал ее, но выпрямиться уже не смог — ноги едва держали, голова кружилась. Уперся руками в колени, отдышался немного. Ах, вот как, тварь, вот как… и смотреть-то на тебя нельзя… А я и не буду на тебя смотреть! Разогнулся, вновь нашел то положение, в котором мог видеть свой затылок, отраженный поочередно в двух зеркалах. И сразу зажмурился, не приглядываясь. Не серое набрякшее брюхо он должен увидеть, когда откроет глаза, а только свой собственный затылок. И Рутгер прилежно, волосок к волоску, прядка к прядке, нарисовал в воображении изрядный пучок длинных рыжих волос и подставил его на место твари, и когда картина прочно утвердилась в его разуме и желании, открыл глаза и уставился в зеркало — сквозь нее.
— Эй, эй! — Кукунтай тряс малого, а тот не просыпался и как будто даже не дышал. Кукунтай обернулся, подхватил за обмотанную тряпкой ручку закопченный чайник и сунул его носик между плотно сжатых губ парня. — Пей, глотай, приемыш божий, в себя приходи, однако!
Приемыш божий глотнул, закашлялся, рванулся из рук мастера — выпрямиться и дышать — но не удержался, упал лицом в колени и мучительно перхал и задыхался там, не пытаясь уже подняться. Кукунтай отставил чайник. От макушки до лопаток у парня струились буйные кудри — огненно-рыжие, блестящие, тугие. Кукунтай скинул локоны со спины, провел ладонью по шее — там было чисто. С опаской запустил пальцы в кудри на затылке парня — но там и следа не осталось от недавнего жильца, ни раны, ни язвы.
— Ну ты даешь, парень… — выдохнул Кукунтай, приподнимая Рутгера за плечи и разворачивая к себе. — Ну ты… — и онемел. Вокруг лба и впалых щек парня волосы по-прежнему торчали сосульками, немытые и нечесаные уже давно, тусклые, скорее рыжеватые, чем действительно рыжие — и уж точно не шли ни в какое сравнение с буйными локонами, вымахавшими на затылке. — Ну ты и начудил…
— Его правда больше нет? — выдавил Рутгер сквозь кашель.
Кукунтай возвел очи к сходящимся вверху тополиным ребрам яранги, вздохнул, улыбнулся и сгреб малого в охапку.
Тюлени, зайцы, поросята…
Рожали у Хо.
Мастер мечтательно прищурился и сказал: представляешь, из тумана выступают только горные вершины, бамбуковые ветки и голова огромного вепря… Ганна фыркнула:
— Да они вам, дедушко, весь бамбук стопчут, а что не стопчут, то подроют, а лягушечек ваших пестреньких — схарчат за милую душу.
— А если их не харчить, — философически возразил Хо, — то ведь и ступить скоро будет некуда.
— И то правда, — согласилась Ганна, осторожно стряхивая красную перепончатолапую тварюшку с сапожка.
И осталась с пузатой Мотрей в Бамбуковой роще до самых родов, а Хо по такому случаю созвал в гости все тех же неизменных Видаля, Мак-Грегора и Кукунтая, чтобы торжественную ночь скоротать и помощь оказать буде понадобится.
Мотря же категорически от помощников отказалась, да и свидетелей не возжелала, а с грозным хрюком и взревыванием удалилась в затянутые туманом кущи.
Сидели ночь у костра, прислушивались к стонам и шорохам в глубине леса, пили горячее вино из крошечных фарфоровых скорлупок, рассказывали истории.
Вот такую рассказал Кукунтай.
Одна маленькая Тюленька играла в волнах, прыгала и ныряла в серых волнах, верх-вниз, вверх-вниз.
А заяц собирал на берегу водоросли.
Тюленька увидела зайца и кричит ему:
— Оставь наши водоросли, не смей наши водоросли брать!
Заяц отвечает:
— Это не ваши водоросли! Ваши-то в море, а наши на берегу. Вот я наши собираю.
Тюленька сильно рассердилась на Зайца, что он водоросли берет. Стала громко кричать на него. Услышала бабушка Тюленьки, вышла из воды, спрашивает ее:
— Ой, чего кричишь?
— Меня Заяц обидел!
Бабушка рассердилась, захотела проучить Зайца. Увидел Заяц, что старая Тюлень выходит из воды, испугался, стал в нее камнями бросать. Размахнулся большим камнем, попал камень в голову Тюлени, упала она мертвая.
Набежала волна, подняла высоко маленькую Тюленьку, и она увидела, что бабушка убита.
— Абуу! — заплакала Тюленька и нырнула в волны. Прибежала в ярангу, стала будить дедушку. — Дедушка, вставай скорее, Заяц убил нашу бабушку!
Выплыл дедушка на берег, фыркает, отдувается, от усов водяные брызги летят. Увидел Зайца, зарычал на него:
— Выходи на бой!
— Нет, иди ты сюда.
— Я не могу драться на суше!
— А я не могу на воде! — говорит заяц.
Полез старик на берег. Заяц пустил в него камень.
— Теляппой! Ой, больно! — закричал старик Тюлень и повалился замертво.
Качается маленькая Тюленька на волнах, зовет бабушку с дедушкой, плачет.
Вернулся с охоты отец Тюлень, услышал от дочери, что убили его стариков. Рассердился на Зайца, скачет с льдины на льдину. Вот приблизился к берегу, кусок от льдины откололся и прямо Зайцу в лоб. Подскочил Заяц и шлепнулся мертвым на землю.
Отец маленькой Тюлени подошел к нему, отрезал уши и уплыл в море. Подплыл к дочке и отдал ей заячьи уши.
Вышла на берег соседка Зайца — Лиса. Увидела, что сосед мертвый лежит, пошла в тундру, нашла листья травы, похожие на заячьи уши, и приложила вместо ушей.
Ожил Заяц, запрыгал от радости.
Потащили они тюленей домой. Позвали гостей, варили и ели мясо всю ночь.
Наутро им жалко стало старика и старушку. Вспомнили, что знали старую Тюлень и ее старика еще с тех пор, как были маленькими.
Связали они кости нерп, облили их жиром, помазали мозгом, завернули в траву и бросили в море. В воде забились, заплескались старик и старуха, плывут от берега в море.
Заяц и Лиса на радостях стали бить в бубен и плясать, а тюлени поплыли домой.
Внучка их увидела — тоже обрадовалась.
— Я бы тоже обрадовался, — наконец сказал Мак-Грегор. Постучал трубкой по ботинку, подул в нее, головой покачал.
Кукунтай пожал плечами: не мной придумано, не мне и передумывать.
— Ладно, я вот что про тюленей знаю, — сказал Маг-Грегор. — В былые времена у западных берегов милой земли их много жило. А были они на самом деле детьми Морского царя. Красивые были, смуглые, кареглазые… Как есть из себя люди, сильные и ловкие. Беззаботно жили: рыба сама вокруг вилась, и целыми днями они резвились, смеялись и пели песни в волнах, на берегу и в морских пещерах.
Но умерла их мать, а царь, конечно, погоревал-погоревал, да и женился на другой. А та, как оно бывает, детей от прежней жены возненавидела люто и навела на них чары. Туловище их стало неуклюжее и толстое, покрылось шелковистым мехом, у кого серым, у кого черным или золотисто-коричневым. Только красивые карие глаза не смогла отнять у них мачеха, и песни, которые они так любили.
Так и резвились они во всех морях, во всех соленых водах, плясали в волнах и пели удивительными голосами обо всем, что видели под небом и под водой. И только раз в году могли они найти тихое укромное место на берегу милой земли и собраться там — вот как мы с вами, одну ночь и один день, от заката до заката, точно как мы. Сойдутся все вместе, скинут тюленьи шкуры и станут такими, как были раньше — красивыми юношами, красивыми девушками. Всю ночь, весь день танцуют на берегу, подпрыгивают, плетут плетенья стройными ногами, говорят между собой человеческими голосами, радуются. А как начнет смеркаться, накинут на себя серые, черные, золотисто-коричневые шкуры и уплывут в море.
Рассказывают, что звали его Родерик, был он рыбаком, жил на одном из островов у берегов милой земли. Дом его стоял ближе всех к берегу. И однажды он вышел проверить, как его лодка сохнет на берегу, а может просто — тоска одолела. Бывает такое с молодыми. Шел вот так по берегу, сам не зная, куда — и пришел. За скалами, показалось ему, песни поют, смеются. А там место такое — с берега просто так не достать, сверху со скалы не спуститься. Но любопытство одолело, а может, голос чей ему сердце тронул… Подкрался к скале, полез по ней вверх, глянул за ее гребень, а там, на песке возле самых волн дети Морского царя играют и танцуют. Развеваются по ветру длинные волосы — черные, русые, рыжие, весело блестят карие глаза, стройные ноги чертят фигуры на песке, гибкие голоса сплетаются в песню.
Засмотрелся было, да испугался: заметят его — что будет? Только собрался прочь ползти, как видит: рядом, только руку протяни, на скале шелковистые шкурки сушатся — серые, черные и золотистые. И как будто что-то под руку толкнуло: взял самую нежную, самую золотистую шкурку и унес домой. Спрятал ее на полку над входной дверью, сам не знает, радоваться или бояться: добыча знатная, но что с ней делать? И как бы бедой не обернулось дело…
А обернулось дело вот чем.
Село солнце, сел Родерик у огня сети чинить — дело это вечное, бесконечное, да и успокаивает. Водит в воздухе челноком, чертит им фигуры, а сам все вспоминает стройные ноги на песке, смуглые бедра, маленькие груди морских царевен, голоса их нежные. И то ли чудится ему, то ли в самом деле под дверью нежным голосом плачет и жалуется кто-то. Замерло дыхание, но рыбака так просто не испугаешь, море пугало — да не отступился от него. Выглянул за дверь, а там она, девушка, стройная, смуглая, из двери свет на нее упал, а волосы огнем золотым отсвечивают. И огромные глаза, карие, нежные, заплаканные. И ни одной ниточки на ней нет, как будто отродясь одежды не носила!
Плачет девушка и говорит:
— Помоги мне, человек земли! Я несчастная дочь Морского царя, потеряла свою шелковистую тюленью шкурку и не могу найти ее. А если я не найду ее, то вовек не видать мне милых братьев и сестер, останусь я на свете совсем одна и погибну.
Тут Родерик и догадался, чья шкурка у него над дверью припрятана, а голос девушки был точно тот самый, которые ему в сердце запал. Вынес Родерик одеяло, накинул девушке на плечи, в дом ее позвал. Протянуть бы ему руку, достать с полки тюленью шкурку — утешилась бы морская царевна, вернулась бы к милым братьям и сестрам своим. Но сердце его неразумное закричало: не отдавай, не отпускай! Смотрел и не мог наглядеться на красоту девушки, слушал и не мог наслушаться ее голоса. Захотел взять ее в жены, морскую жительницу, удержать на берегу, чтобы скрасила его жизнь, стала бы отрадой его сердцу.
Так сказал рыбак:
— Где теперь искать твою шкурку? Видно, злой человек ее забрал. Оставайся в моем доме, если хочешь, будь мне женой. А я буду любить тебя всю жизнь.
Вздохнула дочь Морского царя, вытерла волосами заплаканное лицо, полными тоски глазами взглянула на Родерика.
— Что же делать мне? Одна погибну среди людей. Ты, видно, добрый человек, останусь с тобой жить.
Сказала так и тяжело вздохнула о море, куда уж ей вовек не вернуться.
Дрогнуло тут сердце Родерика от жалости и рука потянулась к полке — но удержал ее, обнял ею девушку за плечи, прижал к себе, поцеловал. Или ей тосковать до самой смерти, или ему, если отпустит ее. Не решился, сказал себе: завтра отпущу. А потом: через год признаюсь. И еще через год. И когда дитя выкормит. И когда других детей…
Так годы прошли, дети подросли, стал Родерик уже не юношей, но зрелым мужем. А жена его все тосковала, выходила на взморье одна — слушать ветер и волны, слушать голоса милых братьев и сестер, зовущих ее, потерянную. Иногда и видела их издали, но не могла приблизиться к ним. Радовалась только когда смотрела, как танцуют на берегу ее дети, смуглые и кареглазые, когда слушала их дивные для людей земли песни. Но и сквозь эту радость проступала печаль.
Однажды собрался Родерик в море, поцеловал жену, детей — и на берег, к лодке. Вдруг ему заяц дорогу перебежал, дурная примета! Остановился Родерик: не вернуться ли домой от беды? Осмотрел внимательно небо, послушал ветер и говорит:
— Какие бури я видывал, а это не буря, так, ветрено только.
Столкнул лодку и уплыл в море.
А погода разыгралась не на шутку, ветер свистел и выл, так что в доме все встревожились, а младший сын выскочил наружу, посмотреть, не видно ли отца. Мать за ним: не случилось бы беды. Подхватила на руки, внесла в дом, а дверь не закрыла еще за собой. Ветер дверь схватил и стукнул ею так, что дом весь задрожал, полка над дверью покосилась и с нее соскользнула золотистая тюленья шкурка.
Худого слова не сказала о муже дочь Морского царя. Ничего вообще не сказала. Молча обняла детей, расцеловала, скинула свое платье земной жительницы, схватила шкурку — и бегом, бегом! В такой ветер все по домам сидели, никто ее нагую не видел, только дети ее бежали за ней в испуге. На берегу она накинула на себя золотистую тюленью шкурку, нырнула в волны и поплыла. Отплыла от берега, оглянулась на дом, в котором обнимал ее мужчина, на детей, которых выносила и вскормила, в последний раз посмотрела на них. И она уплыла далеко, далеко и, говорят, все пела от счастья, и песню ее соседи слышали и запомнили.
А Родерик вернулся, когда уже стемнело. Еле вырвался из волн морских, еле добрел до дома наперекор ветру. Вошел, увидел, что очаг остыл — и кинулся к двери обратно. А полка косо над дверью висит, а сердце кричит от горя. Раньше, чем руками ощутил пыльную пустоту на полке, сердцем уже знал, что ушла его царевна в родную страну. Дети ему рассказали, как простилась с ними мать, как в последний раз поцеловала их, убежала и обернулась тюленем на морском берегу.
Слушал и плакал Родерик, плакал и говорил:
— Заяц ведь перебежал дорогу, предупредил меня. Зачем я не вернулся, упрямый дурак? Не было мне везения, и в бурю попал, и рыбы не наловил, а тут такое еще несчастье…
До конца дней не мог забыть свою любовь, горевал, больше не женился. Так и прозвали его соседи отцом тюленей, и потомки его никогда тюленей не обижали: негоже охотиться на родню.
Вот и всё.
— У нас тоже рассказывали похожее, только по-другому, — сказал Кукунтай. — Как будто жил человек совсем один и встретил девушку-тюлень и уговорил ее пожить с ним семь лет, а потом отказался отпустить, хоть обещал. Спрятал ее шкуру. Говорит: ты сына оставишь без матери, меня оставишь без жены! И спрятал шкуру.
— И что? — спросил Мак-Грегор.
— Ушла, — пожал плечами Кукунтай. — Разве можно судьбу обманом отнимать? Сын нашел ее шкуру и отдал матери.
— Да что вы все заладили о тюленях, — сердито засопела Ганна. — У нас Мотря рожает. Расскажите уж что-нибудь про свиней, только чтобы хорошо кончилось.
Все замолчали, задумались.
— Я знаю, — сказал мастер Хо. — Только не про свиней, а про коров, а уж как кончится, так и кончится, я не виноват.
— Ну давай про коров, — с подозрительностью в голосе согласилась Ганна.
— Давай, Хо, расскажи, — улыбнулся Видаль. — Не смотри, что Ганна сердится. Мне вот интересно узнать, какие в ваших краях коровы…
— Ну не то чтобы в наших… и не то чтобы коровы…
— Ну вот, я так и знала!
— В горах водятся черные такие, косматые, рога вот так… Копыта плоские у них, хорошо по слежавшемуся снегу ходить и рыть его хорошо. Люди там странные живут, мужчины у них не женятся, у них женщины мужей себе берут, сами в доме хозяйки, всем распоряжаются. И вот жил там однажды мальчик, пас этих коров — не коров…
— А вот что мне покоя не дает!.. — ни с того ни с сего завелся Видаль. — Что за милая земля у тебя, Хэмиш? Где это было и когда? Ладно, про «когда» вопрос темный, времени много всегда, но не все востребовано. А вот где? Где это могло быть? Знаешь ты такое место, которое можешь назвать «милой землей»?
— Ну… вот так говорят: милая земля, — Мак-Грегор насупился, потер лоб. — Говорят так. Я не задумывался. Когда у нас дома про нее говорили, то всегда было понятно, что она не здесь и вообще… как-то далеко очень. Что не добраться до нее. Как будто не вернуться туда.
— Куда? Вот — куда? Ведь не только у тебя такое. Ганну вот послушать — тоже непонятно. Откуда что взялось… Или — куда всё делось?
— Я не знаю, — с сердцем ответил Мак-Грегор. — Я и не думал никогда о таком. Ну, сказки и сказки, в них всегда про то, чего не было.
— То-то и оно, что этого не было в каком-то месте, которого нет. Но ни одна сказка не говорит «никогда и нигде», а говорит «в старые времена» и «в милой земле». И что это за милая земля такая?
— Не знаю, — повторил Мак-Грегор. — Не знаю я, и сказать мне нечего.
— И я не знаю, — хмуро вставила Ганна, — и думать об этом не хочу, у меня голова кружиться начинает, а давай лучше пусть расскажет Хо про тех коров.
— А в каких горах они водятся? — не унимался Видаль. — Что за люди там живут? Я везде был, где только живут люди, и где не живут — тоже бывал. Но про таких не слышал даже. Тоже небось в старые времена в далекой земле?
— Да, мальчик, — вдруг сурово ответил Хо. — В старые времена в далекой земле, суровой и неприступной для чужака, но милой своим детям… Там жил когда-то мальчик, пас в горах черных косматых коров — и однажды пришла к нему звезда с неба.
Видаль посмотрел на него, открыл было рот — но передумал, сжал губы, прикусил. Птица, высунув длинный нос из-за пазухи, собиралась, видно, что-то сказать вместо него, но Видаль взъерошил пальцами мелкие перышки на ее голове и тихонько втолкнул обратно за пазуху.
— Пришла к нему с неба звезда, — повторил он и вопросительно посмотрел на Хо.
— Так и было дело, — подтвердил Хо, начиная сказку. — Он пас своих коров…
Всего лишь комочек звездного воска
Когда Он лепил звезды, чуть-чуть осталось.
И кто-то похитил остаток, и так мало его было, что не хватились.
Малость — для вселенной. Малость — для Великих.
Как раз, чтобы вылепить человека. Ну, или почти человека.
Это существо не делили надвое. В полноте своей оно. Но если посылать его в мир людей, необходимо придать видимость разделенности и неполноты. Сурья будут звать его в этот раз. Мы дадим ему имя Сурья. Оно будет как бы женщиной в этот раз, и всей красотой, какую может вместить человеческая форма, мы наделим его. Вылепим, выгладим тонкое лицо, поцелуем в уста.
Игрушка наша, приманочка, смоляное чучелко! Иди, иди собирать восхищенные взгляды и вздохи, эхо сердцебиений и гула взволнованной крови. Как пыльца на пчелиное брюшко, налипнут на тебя восторги и желания, сладостные грезы и горькая соль сожалений.
Вечность однообразна. Мы питаемся ею. Принеси же нам еще приправ свежих и острых к нашей трапезе, Сурья, комочек звездного воска.
Он пас буу своей семьи, долгорогих, долгошерстных черных буу, на южном склоне. На северном замело даже камни в рост человека, а выше траве мурму не подняться. Здесь же, на южном склоне, верхушки травы поднимались над сугробами выше шнуров, стягивавших шерстяные штаны под коленями.
Широкий войлок защищал от ветра. Из-под ушастой пестрой шапочки ползли по спине косицы — ниже пояса. В меховых сапогах ноги, в меховых рукавицах руки. Достаток в семье, вот и пастуха своего снарядили хозяйки как должно и еще лучше. Припасов собрали — все братья помогали нести. Да еще чуть не каждый день, если не было метели и бурана, приносили еду, еще хранившую тепло домашнего очага и материнских рук.
Буу рвали траву плоскими коричневатыми зубами и долго терли ее во рту, прежде чем наклонить мохнатую голову за добавкой. Зимой трава мурму жестка.
Ашра наигрывал на маленькой свирели простую пастушью песенку. Лежал на животе, завернувшись в войлок, опираясь на локти, глаза прикрыл, только губы подносил к одному отверстию, к другому, отдавая им теплое дыхание свое и мечты.
Иссякнет зимнее время, когда земля перестанет сердиться на солнце и впустит его в брачный чертог. Тогда справят они заново свою свадьбу, а людям надлежит справить свои.
И Ашре, если мать не ошиблась в подсчетах, — а кто видел, чтобы мать ошибалась? — и Ашре придется покинуть семью и уйти в семью тетушки. Его берут за старшую дочь, большая честь. Берут, потому что Ашра красивый. И он — хороший пастух, он понимает буу, и буу любят его. Когда он берется за сосцы, самые непутевые смирно стоят.
Ашру любая семья была бы рада взять. Но мать сговорилась с сестрой, еще когда брала ее сына для Эрки. Чтобы не таскать неподъемные лари из дома в дом, обменяются сыновьями, и никто никому уже ничего не должен. Сейчас, может, и жалеет: за Ашру много добра предлагают, больше, чем просили за Эркиного мужа. Да слово сказано, быть Ашре за тетушкиной старшей дочерью.
Неторопливо скрипели травой буу. Неторопливо катилось зимнее время.
Ашра играл на свирели. Может быть, незатейливая песенка пастуха и приманила беду.
Откуда она взялась, Ашра не видел. Просто подошла — Ашра не слышал ее легких шагов за гулкими вздохами буу, за хрустом взламываемого острыми копытами наста. Подошла, встала рядом и, наклонив голову, слушала, как играет пастух. Ашра не сразу ее заметил.
Вскочил, стряхнув войлок на снег, прижал руки к животу, поклонился.
Узор на ее одежде был незнакомый — ни в своем селении, ни в окрестных Ашра не знал такой семьи. Две косицы лежали поверх вышитого нагрудника, перевитые пестрыми шнурами. А лицом она была, как все, как и сам Ашра — темна, и глаза как листочки травы мурму, узенькие, темные. Что в ней было такого? Ничего. Но она смотрела на Ашру так, словно впервые в жизни увидела мальчика, смотрела и молчала, и Ашра, конечно, молчал. Стоять так, без войлока, на ветру, было холодно, но она ничего не говорила и не делала.
Ашра не выдержал — поежился. Пусть сочтет невежливым, но сама-то хороша! Сколько можно греть своим телом зимний ветер? Поежился еще раз, уже нарочно. Пусть видит. А она… она шагнула ближе, подняла войлок и накинула ему на плечи, и стянула концы у него под подбородком, а потом развела в стороны руки и сомкнула их у Ашры за спиной. Ашра чуть не упал, она и удержала.
* Ты что? — забыв о почтительности и скромности, сипло выкрикнул он. — А увидит кто?
И то: буу смотрели на них, повернув бородатые морды, клочья травы свисали с черных губ, огромные глаза мерцали загадочно.
Она улыбнулась, бросив его из одного ужаса в другой. Если женщины и улыбались когда мужчинам, то он, Ашра, за все свои пятнадцать лет и не видел такого, и не слышал о таком.
— Никто не увидит, — сказала. — Никого здесь нет. Сыграй еще.
Хорошо, Сурья, хорошо… Не множество мелких, разрозненных трепетов и вожделений, не взгляды и вздохи случайных прохожих, но одна бесценная щепотка изысканной пряности, терпкой, крепкой. Вкус страсти и смерти. Хорошо, Сурья.
Я знаю, Сурья, ты не любишь, когда мы разминаем и перелепливаем твою восковую плоть. Ты теряешь себя. В другой раз тебе не вернуться. В другой раз все другое.
Но за такое лакомство, Сурья, мы позволим тебе побыть подольше, не станем разминать звездный воск, оставим как есть. Может быть, еще и еще позволим побыть тебе Сурьей.
Уходили младшие братья, уносили пустые торбы, оставив полные — с едой из дома, обернутой в шерсть, еще теплой. Он ставил домашнюю снедь возле очага в своей хижине, чтобы теплым угостить Сурью. Потом выходил, садился на снег, поднимал темную гладкую свирель к губам. Темные и гладкие были у нее дудочки, как пальцы у Сурьи.
Она приходила каждый день, как и в первый раз — без войлока на плечах.
Ашра уже ждал ее, знал, что она подойдет и сядет рядом, а когда он предложит ей свой войлок, она подвинется к нему и укроет одним войлоком их обоих.
Жены спали с мужьями под одним одеялом. Под одним войлоком с ними не сидели. Это было странно, страшно и чудесно. Их тепло соединялось. А тепло — это жизнь.
Потом они входили в хижину, садились у очага и ели вместе. И это тоже было неправильно, но Ашра привык, ее причудам удивлялся только, не пугался уже. Она могла снять с колышка костяной гребень и расплести косицы Ашры, и расчесывать их бесконечно медленными, плавными движениями. Могла положить голову ему на колени и смотреть оттуда, как из другого мира. Могла выловить из горшка лакомый кусочек и протянуть Ашре, дать ему откусить половину, а остальное отправить себе в рот. Сердце Ашры замирало, щеки обжигало невыносимым жаром.
Откуда она приходила? Ашра боялся спрашивать. Не было поблизости селений, кроме их селения, а в их селении не носили таких узоров. И не творили такого.
Не сразу, не сразу разглядел Ашра, что за удивительностью ее прячется невероятная, невозможная красота. Такая же она была, как все. Как все-все-все. Поэтому ни у кого не вышло бы быть похожим на нее. Все человеческие лица, какие видел Ашра за все свои пятнадцать лет, были в ее лице. Все, что могло быть красивого в человеческих лицах, было в ее лице. Невозможно было не смотреть на нее. Отведешь взгляд, а глаза сами ее ищут, не могут обойтись.
Так он и смотрел на Сурью, не отводя взгляда. И Сурья так же смотрела на него. Он рассказывал о своей семье, о матери и сестрах, о старшей Эрке, для которой две весны назад взяли мужа из семьи тетушки, о младших братьях, об отце, умершем прошлой зимой от живота. Сурья слушала все, но о себе ничего не говорила, и Ашра не спрашивал. И о себе одно утаивал раз за разом: что этой весной его возьмут из дома в семью тетушки, мужем для ее старшей.
И медленно катилось зимнее время.
Снег оседал уже под просочившимися сквозь облачную завесу лучами. Мать-земля склонялась простить солнце. Скоро должен был прийти старший из младших братьев, прийти уже на совсем, сменить Ашру на пастбище. Ашре же пора было спуститься в селение, отмыться, отоспаться, откормиться перед свадьбой.
Когда он, запинаясь, поведал об этом Сурье, она ни слова не сказала в ответ. Сняла с колышка гребень, расплела косы Ашре, расплела косы себе. И вплела в свои волосы его шнурки, а в его волосы — свои.
Ашра такого обычая не знал, но понял и подчинился. Ничего нового не было в том, что она сделала. Все это уже случилось с ними — когда ее тепло соединилось с его теплом. Теперь же она утвердила это. Ашра не мог уйти в дом тетушки, не мог вернуться и в свой дом: Ашра принадлежал дому Сурьи, где бы он ни был.
Этой ночью она не ушла, как уходила всегда. Этой ночью она велела Ашре снять всю одежду с себя, всю одежду с нее. Когда они заснули, их руки и ноги остались переплетенными. Не могли уже различить, где чье. Тел отдельных больше не было у них.
Утром Ашра не нашел ее.
Она забрала его одежду и оставила свою. Ашра надел ее одежду, расшитую знаками звезд и бесконечности.
Вечером она не пришла. Ашра весь день играл на свирели. Она не пришла.
Когда пришел старший из младших братьев, Ашра сказал, что останется еще до следующей весны. Брат испугался и убежал в селение.
Вернулся, сказал: иди, мать велит. И Ашра пошел.
Праздник уже начался. Перед домами горели высокие костры — у кого выше, к тому щедрее будет земля и ласковее солнце.
Дети носились между кострами, кричали звонкими голосами, дули в дудки и свистелки, трясли погремушки. Все одеты были одинаково: в короткие платьица, вышитые родовыми знаками, стеганые штаны, войлочные сапожки, пестрые шапочки. Косицы прыгали, переплетенные цветными шнурками, на шнурках гремели бубенцы. Те, что постарше, сбившись в стайки, веселились уже по отдельности: девочки со своими, мальчики со своими. Девчонки, злыдни, вовсю вышучивали мальчиков, смущенно топтавшихся поодаль, красневших, прятавших взгляды. Впрочем, все это было неважно: решать матерям.
Когда Ашру увидели в чужой одежде, все собрались вокруг. Малыши вертелись под ногами, визжали, но рук к одежде не тянули: боялись чужих знаков. Ашра ни на кого не посмотрел, пошел к дому.
У их дома тоже горел костер, самый высокий. Ашра обошел костер, встал перед дверью. Всем надоело на него глазеть, разбежались. Дудели и свистели, гремели бубенцами, песни пели, плясали вокруг костров. Только его семья оставалась в доме: стыдно. И света не жгли.
Мать подошла к двери, из темноты окинула горьким взглядом его с головы до ног.
Зачем пришел?
Ты велела.
Ты уже не наш. Иди отсюда.
Куда мне идти?
Мать отвернулась, скрылась в доме.
Ашра стоял еще, пока ночной холод не начал лизать кости внутри него. Потом вынул из-за пазухи свирель, положил на порог, повернулся к двери спиной и прыгнул в костер.
Хорошо, Сурья, хорошо. Соли горькой, острой, от которой перехватывает дыхание, ты принесла нам. Что вечность перед жгучей бедой, обманутой надеждой? Пресна и безвкусна. Хорошо, оставайся еще Сурьей, принеси нам еще приправ и соли, безвкусна вечность и холодна.
Куда же ты, Сурья?
Маленькая белая звезда сорвалась с неба.
Головни разлетелись по всему селению, расплескался горячий воск. До утра забрасывали талым снегом полыхнувшие дома.
Такая тишина стояла в Бамбуковой роще в те мгновения: не слышали своего дыхания, не слышали глухого стука капель, ударяющих в мягкую листву, не слышали Мотриной возни в глубине зарослей. Что-то такое сделала с ними размеренная речь мастера Хо, что они и ее как будто не слышали, а увидели всю историю прямо перед собой, как будто оказались внутри нее, рядом с Ашрой, рядом с его любовью и смертью, так близко, что обожгло холодом и огнем.
Ганна вытерла рукавом слезы.
— Бедный, я думала, такое только с девушками бывает: бросят, покрыткой станет, никому не нужная — и в речку… А эта сучка злая, Хо, поди знала, что с ним будет?
— Знала, — ровным голосом ответил Хо.
— А ей того и надо, чтобы сердце разорвалось, а господам ее — забава.
— А ей за это жизни дадут хоть немного, — сказал Видаль. — А она-то, смотри — за ним. В огонь за ним — с неба. Хотя ей то небо… Она же там рабой была, так, Хо?
— Рабой.
— Вот и добыла себе свободу. Другой-то, видать, для нее не было — только смерть. Это каковы же господа, что могут звезду рабой сделать?
— Да там той звезды! — фыркнула Ганна. — С ноготь!
Видаль отмахнулся.
— Какая ни есть. А хозяева, выходит, больше звезд. Против таких и не встанешь. Только умереть, так ведь, Хо?
— Говорят, что так — но мало ли что говорят. Она ведь звезда. Звезды — вечные.
— Думаешь, она…
Оглушительный визг раздался в чаще. Видаль втянул голову в плечи, Мак-Грегор зажал уши руками, остальные вскочили — но Ганна уже вперед всех кинулась к зарослям, откуда неслись душераздирающие двухголосые вопли.
— Ну наконец-то, — просветленно улыбнулся Хо. — Будут у меня здесь огромные вепри, как в самые старые времена! Так и мир начнется заново.
— Да он же и так едва начинается? — удивился Видаль. — Вон сколько чего еще не хватает!
— Не хватает, не хватает, — согласился Хо и больше ничего не сказал.
Ганна осталась в Бамбуковой роще: переждать, пока можно будет Мотре оставить подросший приплод, да и помочь мастеру Хо с тем приплодом управиться, пока за ним уход нужен.
Вышла проводить Видаля в Семиозерье. Он было притянул ее к себе — поцеловать на прощанье, а она оттолкнула:
— Со звездой своей и целуйся, коли заступник такой!
— Вот придумаешь, — улыбнулся Видаль. — Нет же ее на свете и не было. Сказка это.
И шагнул прямо во тьму.
А Ганна не сразу пошла обратно, постояла еще, хмуро глядя ему вслед.
А я не умерла
Медленно остывала, расплесканная по горьким черным камням, каждую свою каплю ощущала — тянущей болью, тоской разъятого тела. Тянуло меня, всю меня стягивало, медленно густеющими струями стекалась в саму себя, и сливалась, слипалась, и всё это было — боль.
Люди мне помогали. Они меня боялись, они хотели избавиться от меня — и, натянув толстые рукавицы, собирали расплескавшиеся капли, приносили вместе с въевшейся грязью, вместе с налипшим пеплом и кидали издалека в покрывавшуюся мутной пленкой лужу.
Они бы убили меня, если бы могли. Но даже не попытались: то, что не сгорело в огне…
А я не сгорела в их огне, это их огонь во мне сгорел, а я — из той же плоти, что звёзды.
И они только постарались, чтобы ни капли моей не застряло между черных камней, чтобы всё моё без остатка убралось куда-нибудь подальше. Они мне не мешали, только стояли вокруг до темноты, завороженные медленным течением моих частей, не зная, чего ожидать от меня, но уже понимая: пощада им вышла, уж если ярость моя их не спалила вместе с селением дотла, то теперь, остыв, я не трону их вовсе.
Я и не тронула. Но не потому, нет, не потому.
Сердце во мне билось теперь — а раньше не было во мне сердца. Я не знала еще, что это, как называется и что от этого бывает. Но оно уже двигалось во мне и решало за меня.
Плоть моя собралась и восстала, наполовину перемешанная с грязью, с пеплом. Земное теперь смешалось с небесным во мне — но не только это.
Я стояла перед ними, и в моем лице каждый мог узнать себя, я похожа была на них на всех, только лучше. Я вся была в грязно-серых разводах, и они тоже. Всей разницы — что они были одеты, а я нага. И внутри меня что-то двигалось… Такого не было никогда прежде. Я не могла понять. Внутри меня, там, где разделяются груди, что-то дергалось в неровном, испуганном ритме. То ли рвалось наружу, то ли устраивалось насовсем.
Они стали расступаться передо мной — и я пошла. Я очень боялась этого шевеления в груди, мне надо было срочно укрыться от их взглядов, остаться одной. И я пошла, а потом побежала, и не знаю, смотрели мне в след или нет, но никто за мной не погнался. И я бежала — а внутри дергалось и билось всё сильнее и чаще — до самой хижины, а там упала на кошмы и ждала, пока утихнет в груди.
А оно только успокоилось, стало двигаться равномерно, но не исчезло. И я узнала его. Это же самое билось внутри Ашры, а когда я упала в костер, моя звездная плоть облепила его, еще живое, и укрыла от их огня, едва теплого для меня, но смертельного для него… А мой огонь горячее — но не такой.
Так я поняла, что соединилась с моим Ашрой навеки — и стала им. Или он стал мной. И что всё, что мне было нужно, за чем я ринулась с небес, приходило от него — но теперь не сможет, потому что он во мне, он — я, и сам себя не обнимешь… а обнимешь — не от радости.
Сурья, сказала я себе, Сурья… ты будешь жить тысячу лет, и этих лет не хватит, чтобы избыть твою боль. Значит, ответила я себе, буду жить две тысячи.
Дело мастера Хо
Еще один шаг — и лицо обнимает туман.
После тьмы, выедающей глаза, даже эти жемчужные блики на спокойной воде — слепят. Тончайший, невесомый пейзаж едва проступает из клубящегося тумана. Над головой поросшие соснами вершины как бы парят отдельно сами по себе, выщербленные колонны гор угадываются под ними только тренированным предчувствием мастера.
— Как ты делаешь это, если тебе самому ничего не видно? — выдыхает Видаль в серебристый воздух.
Легкий плеск отвечает ему — распуская косы волн по молочной воде к нему скользит узкая лодка мастера Хо.
— Кто чем смотрит, юноша, кто чем смотрит…
Мастер легко переступил на берег с качнувшейся плоской лодчонки, опустил на траву корзину — в ней беспокойно шлепали хвостами две большие рыбы в блестящей чешуе.
— Вот воздадим почести умирающим ради нашей жизни — тогда и за разговоры.
Костер расцвел пышным пионом и осыпал лепестки. Посреди переливающихся жаром углей лежал большой плоский камень, воздух над ним плавился и дрожал. Видаль сидел, слегка отстранившись от обжигающей ауры костра и сквозь прикрытые веки наблюдал за священнодействием.
Тонкое лезвие быстро лизнуло чешую — раз и два — открылась мерцающая белая плоть рыбины. Мастер Хо зачерпнул рукой остро пахнущее месиво из деревянной миски, размазал его по ладоням и ну ласкать длинное рыбье тело, похлопывать и мять его ловкими пухлыми пальцами. С довольной улыбкой шлепнул его на камень, вытащил из корзинки еще одно, необмытое, неумащенное, и принялся за него.
Ели торжественно, проникновенно — иначе и невозможно было: яркие ароматы пряностей и печальный запах речной травы, беспощадно острый соус и нежная сладковатая мякоть, истончившаяся и тающая на языке чешуя приводили душу в состояние высокой, словно и вовсе не телесной гармонии. Поэтому молчали, каждый переживая свою трапезу, только соприкасались порой взглядами — краткими, осторожными, не для того, чтобы разделить восторг, а чтобы убедиться, что и сотрапезник восторгом не обделен… И пальцы облизали и вздохнули счастливо.
— И о чем ты беспокоишься? — спросил Хо, глядя на прозрачные ломтики воды, катающиеся по краю берега.
Видаль и не удивился: на то он и мастер Хо, чтобы все знать и видеть тебя насквозь. Каким еще быть мудрецу, живущему в бамбуковой хижине на берегу затянутого туманом озера, осененного вершинами невысоких, словно игрушечных гор?
— Да как сказать. Не то чтобы беспокоюсь. То есть беспокоюсь. Но мне сначала надо кое-что узнать, спросить у тебя, чтобы понять, есть ли о чем беспокоиться на самом деле. Может, и беспокоиться не о чем, так я и не беспокоюсь. А может и беспокоюсь. Не знаю.
— Как запутано всё, сам-то понял?
— Да не то чтобы понял…
— И всё у тебя «не то чтобы». Давай тогда спрашивай, что хотел, раз без этого тебе не распутаться.
— А я про время спросить хотел, Хо. Про время наше в пустых наших землях, когда они еще не родились, еще не проросли из души наружу в настоящее. Вот пока зыбко всё, пока ни то ни сё еще, и место то ли есть, то ли нет, то ли снится… И времени ведь нет в этом месте?
— Это так, времени без места не бывает. Пока место еще не живет, а только снится тебе и через тебя — себе самому, то и время в нем не течет. Вокруг всей вселенной время течет потоком — а маленькое зернышко безвременья тут как тут, ни с места. А как только место само задышит — время и вперед. Общий поток вселенной зернышко подхватит и в себе растворит. И придет листопад. Время в наших местах начинается с осени, сам знаешь.
— Почему так? Я всё думал… Весна — всему начало. А у нас — осень.
— Потому что листья, которые ты своей волей вырастил на деревьях, сколько провисели без смены? Хоть и без времени, а усталость настает. Ты ведь и спать ложишься, и ешь, и пьешь, пока место растишь. Только возраст твой не идет. А усталость есть. Ничего не меняется, только повторяется бесконечно.
— Ну как же! — заспорил Видаль. — Каждый день у меня новый.
— А ты и не лист придуманный на придуманной ветке. У него твой каждый день — всё тот же день. Ты ведь его хранишь неизменным, чтобы он сам к себе привык. И он с готовностью тебе подчиняется, обретая жизнь. Но силы его иссякают, и держится он только на твоей воле. Так надо — вот он и держится. А когда приходит время, он ложится в ладони ветра, чтобы тот укачал его и унес отдыхать. Поэтому осень.
Мастер Хо пошевелил угли в костре, посмотрел на Видаля.
— Ты помнишь, сколько ты с Семиозерьем возился?
— Так первое же! Что я умел тогда? Только-только мастер мой мне азы показал…
— Ну и я про то. Сначала Хейно его растил, потом ты взялся — и славное место вырастил, ни убавить, ни прибавить, это правда. Но ведь сколько!
— Не знаю… Долго.
— Я знаю. Три года ты его до ума доводил. Ты представляешь, с каким вздохом ложились на землю те листья?
— Но я же…
— Да я тебя разве виню, что ты оправдываешься? Так оно всегда. Нельзя создать голое безлиственное — весной не будет знать, как распускаться, как цвести. Потому и выбираем для начала своей работы — весну, а время для своей работы выбирает — осень. Прибраться после нас, похоронить уставших. Дать новой живой земле отдохнуть, отоспаться после безвременья и бессонья. А там весна сама вернется, после отдыха. И о чем же ты беспокоишься?
Видаль на миг смял лицо нетерпеливой гримасой, нахмурился, да и вернулся к отговоркам.
— А вот ты сказал, что знаешь, сколько я Семиозерье после мастера Хейно доращивал. А откуда? Как ты это знаешь, как высчитал?
— Да что считать? — мастер качнул головой в сторону хижины. — Видишь за хижиной столбы? Я каждое утро на столбе отметку делаю. Если в этот день что-то особенное случилось — ставлю значки. Как год заканчивается — провожу длинную черту. А столб закончится — новый вытесываю. Дни считаю просто: от пробуждения до ночи — вот и день. И вот моих дней со смерти Хейно натекло уже на пять лет.
— Пять? Всего? — удивился Видаль и вдруг замер, прислушиваясь к нутру. — Ого. А как будто и года нет.
— Дней много прошло. А времени мало — только что в Суматохе ты прогулял, пропил, проплясал. Вот тебе надвое и кажется. А тебе, стало быть, не больше двадцати лет набежало, — и голос мастера неуловимо соскользнул в утомленное и озабоченное ворчание. — Ну, если это всё, зачем ты приходил, так я бы прогулялся вокруг, обошел бы место, присмотрел бы за ним.
— Так что, пора мне уже? — смутился Видаль.
— А чего бы и не пора, если ты все равно говорить не собираешься толком. Что ж вы так спешите? — вдруг торопливо поклонился мастер. — Даже и чаю не выпив…
Видаль, скрывая досаду, поднялся и размял ноги.
— Да нет, спасибо, — принужденно улыбнулся он. — Пора мне… Дела, дела…
И поклонился быстро, отрывисто, и развернулся, и пошел прочь — сгустившийся туман тут же его и поглотил. Мастер Хо склонил голову к плечу, с любопытством глядя ему вслед. Голос Видаля вернулся раньше его самого, невидимого в жемчужной мгле.
— Нет уж! Ну нет! Слушай, Хо, ты мне эти штучки… Сначала мне объяснил, какой я юнец зеленый, а потом и выдворяешь. Так дело не пойдет. Я с вопросами пришел, я их задать хочу.
— Так задавай, смешной мальчик, — согласился Хо. — Разве тебе кто-то запрещает? Сам отказываешься.
Видаль усмехнулся и уселся на бревно.
— Я вот чего беспокоюсь, — сказал. — Как же ученики взрослеют? Со мной дело темное, сам знаешь. Но как это обычно бывает?
— Как бывает обычно? — удивился Хо. — Ты хочешь знать, как оно не случилось с тобой?
— Ну… да. В этом роде. Со мной. Как оно должно было быть.
Хо вздохнул, снова разворошил угли, отложил прут и вытер руки о халат. И с безграничным терпением объяснил:
— С тобой должно было быть так, как оно случилось. Иначе бы оно не случилось. Ты, такой, каким тебя нашел Хейно, поступил своим единственным способом. Не мог ты по-другому, иначе бы по-другому и сделал бы.
— А если бы мастер Хейно догадался бы? Заметил, что я задумал что-то, стал бы за мной приглядывать.
— Если бы Хейно мог заметить, он бы заметил…
— Удержал бы меня. Не ушел бы тогда один в Суматоху…
— Ты меня слушаешь, когда я говорю? Или зачем тогда? — рассердился Хо. — Я говорю, что ты иначе не мог — а ты чуть дальше подумать и не пытаешься? Ты не мог, и Хейно не мог. Ты и он — оба. Так, как можете — и не иначе. Иначе это были бы не вы. Не ты и не он.
Видаль отвернулся.
— Я понял.
— Ну и всё тогда, утомил ты, а у меня еще работы непочатый край, всё это вот, — мастер Хо широко развел руками, как бы охватывая бесконечные клубы тумана со всех сторон, — и вон то, и вон то — всё обойти и оглядеть надо.
— Я не про это спросить хотел… — угрюмо откликнулся Видаль.
— О! — воздел руки мастер Хо. — Наконец-то! Неужели!
— Да ну тебя, — отмахнулся Видаль, — Что ты со мной как с дитем?
— А ты дитя и есть, забыл?
— Это как посмотреть.
— А я вот так смотрю — когда ты себя вести начинаешь, как дитя, дитя ты и есть. Хотел бочком-бочком к нужному подобраться? Словно и не нужно оно тебе? Думаешь, старый Хо совсем из ума выжил? Нет! Я знать не знаю, о чем ты спросить хочешь — а что ты до сих пор об этом не спросил, я знаю. И все вроде рядом, вроде то же — да не то. Сейчас спрашивай начистоту или уходи. А прежде подумай: если ты с трех раз вопрос задать не можешь — нужен ли тебе этот вопрос?
— Ответ?
— Вопрос, я сказал. Всё, хватит мое время тратить зря, думай теперь быстро — и спрашивай.
— А вдруг я подумаю и не спрошу?
Мастер Хо рассмеялся.
— Я же тебе сказал: ты — это ты. Ты — спросишь.
— Ладно, — смирился Видаль. — Спрошу.
— Подумать только… Неужели уговорил? Мне, недостойному, твой драгоценный вопрос нужен еще меньше, чем тебе самому.
Видаль растер ладонями лицо, досадливо поморщился.
— Что-то я и в самом деле… Прости, Хо. У меня вопрос-то вот такусенький. Сам не понимаю, почему я так вокруг него выплясываю. Как будто попререк груди застряло… и не выдыхается. Про что другое — выдыхается запросто, а про это и дышать не могу.
— Спрашивай, спрашивай. Хочешь, я отвернусь.
— Да ладно. Ты прав. Не мое это дело. Пойду я. Извини, что я тут… Времени столько… Спасибо за рыбу. Да. Пойду.
Он снова встал и зашагал в туман, не оглядываясь. Мастер Хо принялся ворошить угли, сердито ворча.
— Вот пришел… Сам не знает, чего пришел. Даже не собирается сам спрашивать. Всё ему преподнеси и вручи, чуть не против воли — а чтобы он ни при чем! Наглец молодой. Дурак совсем. Эй, стой, стой! — закричал Хо. — Да что же это такое… Пришел, раздразнил — и уходить! Нет уж, теперь спрашивай. Вот же… Ну надо же! Вокруг пальца обвел. Я же его же и умолять должен, чтобы он свой глупый вопрос, который мне совсем не нужен и которого я слушать не хочу, чтобы он мне его задал!
Видаль вышел из тумана, весь смущенный, смятый.
— Спросить?
— Ну не томи уже!
— Ну я же говорю, всего ничего вопросец.
Смотри, вот Рутгер у Кукунтая живет — а как же он расти будет? Он же совсем пацан, а я же не знаю, как… Как это устраивается? Как у мастера учиться — и расти самому, не застрять в возрасте?
— А тебе-то что до Рутгера? — Хо неодобрительно покачал головой. — У него свой мастер есть. Не свою заботу на себя тянешь — непохвально!
— Но вот же Кукунтай ничего не предпринимает…
— А ты все знаешь, что он предпринимает, а чего нет? — Хо упер руки в бока, сердито подался к Видалю. — Мастер Кукунтай перед тобой отчитывается? А если и ничего не делает. Кукунтай ему мастер. Не ты. Он Кукунтаю ученик. Не твоя забота. Отойди от них. Я уже слышал про твой фокус с зеркалами. От большого ума, думаешь, ты это устроил? А если бы парень рассудка лишился? Два мальца-удальца. Рутгер-то — что с него взять? А ты вымахал, скороспелец, головой под облака — а умишко отстал, в штанах запутался…
Мастер Хо схватил бамбуковую палку и взмахнул ею очень решительно.
— Эй, эй! — закричал Видаль, отскакивая. — Я тебе не ученик, убери свою дубину, я и сдачи дать могу…
— Ишь ты умный какой стал, сразу вспомнил, кто кому ученик, а кто кому нет… Сдачи он мне даст, сопляк…
И они побежали по берегу озера, Видаль впереди, его длинные руки и ноги то и дело мелькали в тумане, когда он уворачивался от вездесущей палки мастера Хо, рисовым колобком катившегося следом — и не отстававшего ни на шаг. Так все озеро кругом и обежали.
— Ну что? — спросил Хо, разливая светлый чай из закопченого чайничка. — Понял, что к чему?
— Понял, — буркнул Видаль, потирая плечо.
— А теперь чайку попьем — и каждый по своим делам. По своим, по своим. На чужие дела жизни не хватит, а спросят-то потом за свои.
— Да вот как бы еще понимать всегда, где свои, где чужие. Сердцем…
— Сердце у тебя большое слишком. И глупое. Если бы надо было только сердца слушаться — у человека мозгов бы и не было. Или не было бы сердца. Оба нужны, понял?
— Понял. А как?
— Ну как. Ты от любого дела прежде всего старайся отвертеться. Хорошо старайся, честно. А если не удастся — тогда деваться некуда, твое.
Когда Видаль ушел, мастер Хо еще посидел на берегу у хижины. Подождал, не осталось ли у юнца еще вопросов, не вернется ли. Потом аккуратно потушил костер, убрал посуду в хижину.
— Всё ходят, ходят, вопросы задают… глупые. Что тут спрашивать? Ясное дело, Кукунтай молодой совсем, дурак, ничего не знает. Сто лет будет свои льды растапливать — изуродует мальца. И нет чтобы прийти, спросить, посоветоваться… Эх, молодежь. Кому надо — сидит сиднем, не почешется, кому не надо — лезет везде… Никак старому Хо не отсидеться в тепле и покое! — и, накинув на плечи волчий тулуп, мастер Хо зашагал к переправе.
Серый тюлень Кукунтай
Пусть сначала выступят из-подо льда камни, думает Кукунтай.
Верхушки камней. Здесь, на берегу. Серые и розоватые, синевато-черные, округлые макушки валунов. Вот так… Лед словно сползает по их шершавым бокам, выпускает из крепких объятий, макушки видны сначала едва-едва…
А вон там, чуть дальше, пусть покажется темный, влажный бок земли — самый первый. Когда солнце окрепнет, он первый изойдет теплым паром, покроется остроконечными травинками.
Кукунтай делает шаг к земляному холму — и ступает в тонкую лужицу, пленку воды на потемневшем льду. Нога неудержимо скользит, Кукунтай взмахивает руками, но уже ничего не может сделать: серое небо вдруг вздымается, стоймя становится перед ним, а сам он ударяется спиной о крепкий еще лед, а затылок приходит ровно к высунувшейся на свет макушке новорожденного камня.
Проходит час, и другой, и третий. Солнце опускается в темную зыбь ледяного моря. Душа Кукунтая медлит в нерешительности: вроде и нет причин уходить, и нет причин задерживаться в стынущем теле. Душа не торопится, дремлет, видит давние, давние сны.
Кюрэгей-жаворонок, малорослица — тонкие косички, идет через всю стоянку широким шагом, спотыкаясь на ровном месте, решительно и необратимо. В руках охапка мужской одежды, мешок с припасом еще болтается, донести бы все под потертые шкуры большой яранги, что на отшибе. Меховая кухлянка, штаны, торбаса из камуса — все не по росту, наспех собрано по родне. К зиме-то все наладить можно, а сейчас и так сойдет. Дожить бы еще до той зимы — и малорослице Кюрэгей, и всем людям-каталык.
Страшное лето — полегли все олени, люди в ужасе разбегаются, если начнет родич неловко сглатывать и пускать слюну по подбородку. Уже истек слюной, изнемог метаться и окостенел сам Эллэй-шаман, остались люди-кыталык без посредника и без защиты перед верхним миром и перед нижним, а они хоть и разные совсем, но людям одинаково чужды, и если снизу идут ужас и смерть, то сверху может выйти такое благо, что людям срединного мира не впору.
Моолот идет за ней, хватает за плечи. У нее руки заняты — не оттолкнуть: ворохом одежы новой, мешок еще с припасом болтался, неудобно.
— Кюрэгэйчээнэ… — жалобно просит охотник.
Не оборачиваться.
Моолот встает перед ней, заступает путь. Не смотреть на него, голову нагнуть, носом в шкуры, шагнуть вбок и дальше идти. Она разве сама выбирала?
— Кюрэгэйчээнэ…
Не по порядку всё сложилось, неладно, а только нельзя иначе.
Вот она запахивает полог, завязывает кожаные шнурки: нет ей дороги обратно, никогда не выйдет отсюда Кюрэгейчээнэ, жавороночек. Здесь окончен ее путь в срединном мире, разорвут ее тело на клочки и сварят в котлах, душу ее заключат в яйцо, чтобы созрела она, а до того не вернут. Вот она разжигает жирник — страшно, а в темноте страшней. Вот раздевается, ложится на шкуры. Катятся по вискам, катятся по жестким волоскам круглые капли. Не промокает олений мех ни от воды, ни от девичьих слёз.
Приходите, приходите, говорит она. Я ваша, сама, а больше некому. Приходите уже, пока я от страха не умерла.
Не так бы надо. Не требовали духи ее к себе. не избрали, не отметили. Но Эллей умер, а кого посылали к ближним и дальним соседям за их шаманами — не вернулись ни с ними, ни одни. Некому больше, твердит, убеждая сему себя, Кюрэгей, еще она сама, если не хотите, чтобы все кыталык умерли — берите меня. Некого больше.
И так лежит и говорит, говорит, и нет этому конца, и время не течет, и только вдруг гаснет жирник, в темноте горячее, огромное падает на нее, рвет на части, вынимает душу, но участь каждого кусочка плоти известна ей — в котел, в бурлящую воду, выварить из плоти всё прежнее, всё слабое и старое. А душа ее слепо тычется в стенки округлого сосуда, ищет путь обратно, на помощь плоти, но нет. Пока не выварится плоть, пока не созреет душа, как птенец в яйце — не дадут им соединиться вновь.
И проходит вечность.
И душу выпускают стаей птиц с гигантсокй ладони, и птицы разлетаются во все стороны: кто к предкам летит, гукает им в темноту, кто с духами остается, кружит над обломками скорлупы, кто поднимается вверх, выше, выше — где боги глядят на мир, а другая птица еще выше тянет, туда, где ледниками ползучими, неостановимыми движутся судьбы. А одна душа устремляется к телу — вот уже вынули все вываренные клочки его из котлов, сложили вместе заново, вот душа, распахнув крыла, падает на грудь ему. И тогда слышат они уже вместе, чувствуют, как проходит сквозь них, сшивает их воедино вновь названное имя…
— Кукунтай! Мастер, мастер Кукунтай! Очнись, пожалуйста, ну пожалуйста…
Рутгер потрогал темное пятно вокруг головы мастера: кровь успела остыть и вмерзнуть в лед. Трясти страшно — да и без толку. Лужица, на которой поскользнулся мастер, тоже стала льдом, намертво схватив кухлянку. Рутгер подергал и бросил, достал нож, изрезал безжалостно оленью кожу. Лицо у мастера холодное, холоднее мертвого, и шея холодная, и сердца не слышно. Дышит ли мастер — не разобрать, ободранные, замерзшие ладони не чуют.
Душа не решается улететь: тело неподвижно и холодно, но не тем еще последним холодом, который насовсем, в глубине его таится остаток тепла, и сердце еще не сдалось: сжимается, выталкивает медленную, спящую кровь, потом словно через силу растягивается… Но и вернуться в тело душе невмоготу: слишком холодно, слишком. Душа кружит в темноте над берегом, а внизу Рутгер, упираясь и оскальзываясь, падая на колени, ругаясь самыми нехорошими словами, какие знает, волоком тянет мастера по льду.
И проходит вечность. В большой старой яранге новый шаман, совсем новый, одежда не по росту, и даже бубна у него нет еще, но пока духи не ушли далеко, шаман окликает, зовет их. Те, на кого попала кровь разрываемого тела, не могут не отозваться, возвращаются, слушают слабый голос человека. Помощи просит маленький шаман: скорее найти души больных, которые еще не совсем скрылись в чреве нижнего мира, вернуть их, пока можно! Голос его настойчив, брови его нахмурены, тело его покрыто жарким потом. Духи окружают маленького шамана, подхватывают его и несут — на поиски, на выручку людям-кыталык, которых кто-то враждебный, несытый увел из родных тел. Всё ниже, ниже летят они, всё ужасней мелькают из тьмы кровавые, гнусные рожи — но нельзя испугаться, боязливого духи тут и оставят, заскучав носить недостойного. Только вглядываться в извилины и складки чрева, где увидишь знакомое лицо — протягивать руки, звать к себе, кидать за спину, пусть держатся сами за кухлянку, — еще одного, и еще, и еще, молодых, стариков, детей… всех, кого находит, кидает за спину маленький шаман, покуда хватает сил духам удерживать их всех на лету. Всех, чье тело в срединном мире еще теплится жизнью, всех, кому есть куда вернуться — собирает и несет наверх.
Ох, и нелегко их всех, галдящих, нетерпеливых, удержать, не дать им, ослепшим от нижней тьмы, перепутать тела, заблудиться. Но одного за другим, направляя и подбадривая, распускает их всех по домам маленький шаман и падает от усталости, но еще не настал ему отдых.
Не отпускает от себя духов, вцепляется скрюченными пальцами в загривки их, велит найти — и гнать дальше того враждебного, несытого, который вредит людям-кыталык. Стучит ладонями по шкуре маленький шаман — и сама земля откликается ему бубном. Духи наполняются его яростью и жаждой добычи, свирепой силой его и охотничьей страстью.
И вот снова чисто, легко колышется летний воздух над стоянкой людей-кыталык, потому что злое ушло и не скоро решится наведаться к ним.
Маленький шаман шумно, трудно дышит, распластавшись на потертой шкуре. И тише. Тише. Затихает совсем. Спит.
Мастер наставлял: если кто из гостей вдруг заморозится так сильно, когда мастера не будет в яранге, мало ли что случиться может, переход — дело быстрое, да нелегкое, голова вот закружится в новом месте, дрогнет оно само под чужим взглядом — и упал человек, и лоб расшиб, а то заблудился и пошел мимо, сам не зная куда, и устал, и замерз, и лежит на льду, а холод в нем тепло жизни гасит, — надо того человека, кто ни окажись, хоть Видаль, хоть Ганна, хоть сам мастер Хо, скорее втащить в ярангу, раздеть, уложить под шкуры, ну и самому, раздевшись, забыть о стыде и ложиться под те же шкуры и своим теплом в том человеке тепло угасающее подпитывать. Себя только не назвал, как будто у него лоб железный, ворчал Рутгер, уложив мастера на постель и торопливо стягивая с него порезанную одежду. Скромно отводил глаза: неприлично на старших пялиться, мало ли что любопытно… А как ни отводи, если чего нет — оно заметнее, чем то, что должно быть и ждешь увидеть. Сам себе не поверил. Губы закусил, замер, стиснув в руках промерзлую шкуру — мастеровы штаны. Но сердце зашлось: сижу тут дурак дураком, упускаю последнее тепло мастеровой жизни… Выпутался из одежды, так губу и не отпустил, только все сильнее стискивал. Опасливо примостился рядом с мастером, натянул сверху шкуры. Вдохнул — придвинулся ближе, еще вздохнул — прижался теснее. А деваться некуда, обнял мастера руками, ногами обхватил ледяное, чужое тело. Жизни как не бывало — вдруг покойника обнимает? Стерпел, не отстранился. Решил — или теплее станет, или вовсе костенеть начнет, тогда и видно будет. А пока делать нечего, только обнимать и дышать теплом под меховые одеяла.
— Ты к ней приставал?
— Да мастер же Видаль, да как бы я?..
— Говори правду.
— Да как вы?!
— Правду говори!
— Да как вам не стыдно!
— Понял.
Видаль сорвал травинку и принялся задумчиво жевать.
— А чего тогда она?
— А я знаю?!
Они шли по лесной дороге, оставляя следы в мягкой текучей пыли. Обернувшись, Видаль посмотрел на две цепочки следов в обрамлении сосновых шишек с гладкими, плотно прижатыми чешуйками. Красиво сделано, сказал Видаль. Видишь, настоящая красота делается так, что пройдет случайный человек, оставит след — а хуже не будет, станет еще красивее.
Рутгер ошалело посмотрел на него:
— Что?
Видаль махнул рукой: каждый, мол, о своем.
— Мне так думается легче. Когда я по сторонам глазею и о ерунде говорю. Если прямо какая мысль не дается, то я ее вот так, в обход. Вроде другим занят, на нее и не смотрю. Вот она осмелеет — и покажется.
— И какая мысль вам не дается?
— Да знал бы я…
Когда мастер Хо, закутанный по брови в потертую доху, осторожно пролез в ярангу, Видаль был уже там, сидел молча и созерцал молчаливо сидящих по углам Кукунтая и Рутгера. Рутгер — насупленный, набыченный, не упрямый даже — упёртый, смотрел в пол, мял пальцами шнурки кухлянки. Птица, сидевшая вроде посередине, у очага, мелкими редкими шажками потихоньку перебиралась к нему, целясь клювам на змеящиеся, дергающиеся шнурки.
Кукунтай, наоборот, откинул голову и устремил взгляд ввысь, сквозь свод яранги, к невидимым звездам своего места, звездам мира, чей свет смог просочиться сквозь пустоту в это новое место, уже почти ставшее настоящим. На что он там смотрел — неизвестно, а уж что он там видел — и подавно. Но не отрывался, как будто здесь его не было — или как будто он категорически отказывается здесь присутствовать.
Хо оглядел скульптурную группу и недовольно цыкнул. Махнул было головой Видалю — выйдем, мол, поговорим. Но тут же одумался. Присел рядом с ним, сказал, особо не приглушая голоса.
— А ты как здесь оказался?
— Пешком, — буркнул Видаль.
— Что, прямо от меня?
Видаль принялся крутить пуговицу на куртке. Хо посмотрел на него, на Рутгера, вертевшего на пальцы шнурки.
— Забирай его прогуляться, что ли, а я тут останусь.
Видаль кивнул, выпустил пуговицу, наклонился и потянул Рутгера за рукав. Тот вздрогнул, дернулся, как разбуженный — птица отпрыгнула, защелкала, застрекотала разочарованно.
— Ну так что? — спросил Рутгер. — Что скажешь?
Кукунтай, не отрывая глаз от свода, коротко мотнул головой.
— Тогда я ухожу, — сказал Рутгер, глядя на учителя. — Совсем.
Видаль с Хо переглянулись. Хо показал пальцами: уводи, там разберемся.
Рутгер все смотрел на Кукунтая не дыша, тянулся сам-весь взглядом, ждал. Кукунтай даже не шевельнулся в ответ.
— Мастер Видаль, — звонко, срываясь с голоса, попросил Рутгер. — Проводите меня, пожалуйста, в Суматоху.
Видаль еще раз глянул на Хо, поднялся.
— Пойдем уж, пойдем, — и протянул птице руку.
Но в Суматоху не повел — что там делать, в Суматохе? Видно же, что там Рутгер упрется взглядом в брусчатую мостовую, поблагодарит вежливо, откажется от разговора — и только его и видели. Потому, ухватив покрепче парня за руку, Видаль доставил его на дальнюю землю, давно, но не густо заселенную, где уж точно больше было простора поговорить, чем в шумной и торопливой Суматохе.
Рутгер сперва возмутился, сверкал глазами, даже ногой топнул. Видаль только кивал на все, соглашался — а потом спросил тихо, что случилось-то?
Рутгер покраснел, отвернулся, дернул плечом.
— Ага, — сказал Видаль, — вижу. Но не понимаю.
— Ну так что у вас случилось?
Кукунтай лениво наклонил голову на плечо, долготерпеливым взглядом смерил на Хо, вздохнул.
— Жила-была девочка. А племени нужен был шаман.
— А-а, — протянул Хо. — Понимаю. Да. А Рутгер при чем?
— Упал я, голову ушиб. Долго на берегу лежал. Замерз. Рутгер меня в ярангу притащил и стал согревать, как я учил.
— А-а, — кивнул Хо. — Да, понимаю. И что? Испугался?
— Если бы! — фыркнул Кукунтай. — Замуж зовет.
— А-а! Ну да, конечно. Понимаю. А ты что?
— Да нельзя мне замуж идти. Да как — я? Да и нельзя вообще.
— Понимаю, да. Дело серьезное. Нельзя или не хочешь?
Кукунтай с шумом втянул воздух, одарил настырного мастера гневным взглядом.
— Да он же ребенок!
Слишком долго возвращался шаман из дальних мест нездешних, горних и исподних. Слишком долго отдыхал — беспробудным сном, на волосок, на полволоска от смерти. Вот он выходит из яранги: истончившаяся в трудах новорожденная душа, облаченная в новую плоть, истаявшую без земной еды, прикрытую наспех одеждой из оленьей шкуры, выходит живой, но слабый. Вот он видит костер и живых людей кыталык вокруг костра, и чужого шамана, говорящего с духами. И стоит в темноте, слушает чужой бубен и не знает, как ему поздороваться с людьми.
Вот девушка Кайутак подбегает к нему, радостная, улыбается, приплясывает:
— Смотри, сестра, Моолот привел шамана — настоящего, с бубном! Он прогнал злых, спас кыталык. Иди за Моолота, сестра, он хороший охотник, лучший, для тебя старался.
Кукунтай смотрит вперед: чужой шаман чувствует его взгляд и оборачивается, и тоже смотрит. Они все понимают между собой.
— Где твои люди? — спрашивает Кукунтай, зная ответ.
— Вот мои люди, — отвечает тот шаман, но его люди умерли все.
— Я прогнал злых, — говорит Кукунтай, но тот шаман только улыбается и встряхивает бубен. Тихий гул отвечает Кукунтаю.
— У тебя даже бубна нет, сестра! — говорит Кайутак. — Это новый шаман прогнал злых, все видели, все знают. Пойдем домой, сестра, переоденься, устроим хорошую свадьбу тебе.
— Где твои люди? — спросил его мастер Хо.
— Я не вспомню дороги туда, — ответил Кукунтай.
— Ты оставил их?
— Они не приняли меня.
— И ты оставил их на того, кто не сможет их защитить?
— Они сами выбрали его.
— Может быть, они и умерли все?
— Может быть, — пожал плечами Кукунтай.
— А если живут и ты им нужен?
— Да сколько лет для них прошло, — усмехнулся Кукунтай. — У них не один шаман с тех пор поменялся.
— И правда. А что Рутгер дитя — ты хоть помнишь, сколько тебе лет на самом деле?
— Какая разница, — нахмурился Кукунтай, — какая разница, когда я прожил столько?
Рутгер развел руками:
— Я замуж звал — высмеяла. Мне, говорит, куда замуж? А ты, говорит, ребенок.
— И правда.
— А сама-то!
Видаль взял его за плечи, встряхнул.
— Слушай сейчас меня. Возраст мастера не временем измеряется, а жизнью. Время мимо нас течет, это правда. Чтобы старым стать — знаешь, сколько пива в Суматохе надо выпить? Некогда нам по пивным жизнь просиживать.
— Вот оно что… — прошептал Рутгер. — Так если я годика три в Суматохе как нормальный проживу, я старше стану, а она как есть останется?
— Как есть… и на еще три года трудов старше. Дурак ты, Рутгер, и это во-первых. А во-вторых, я тебе вот что скажу. Если мастер Кукунтай про себя говорит «я это сделал», то тебе надо понимать совсем мало, немного надо понимать. Не перетрудишься. Если мастер говорит, что он это сделал — значит, он это сделал. Никакая не она. Он. Мастер Кукунтай. И пока другого не скажет — будь добр, так и понимай.
— Так мастер же Видаль, как же?… Я же всю ночь… Обнимал! Какой же — он?
— Вот какой он сказал, такой и есть. Ясно?
— Да где уж мне понять… — насупился Рутгер.
— Ну, запомни хотя бы. Я и сам не понимаю. Но вот так оно есть.
Дальше шли по дороге молча. Рутгер все вздыхал беспокойно и поглядывал на Видаля, но ничего не говорил. Запах хвои, прогретой солнцем, запах пыльной дороги, запах алых ягод в тонкой траве, тишина, переплетенная шорохом ветвей и птичьими возгласами. И вздохи Рутгера за спиной.
— Ты мне что-то сказать хочешь? — не выдержал Видаль.
— Ага, — мотнул головой Рутгер. — Но мне еще подумать надо. Не сейчас, погодя.
— Ну погоди, погоди, — согласился Видаль.
Негде остаться и некуда уйти. Нет места у людей и незачем жить самому. Бледное солнце осени стоит невысоко над скалистым берегом, внизу качается и бьется серая вода. Один шаг вперед — и короткий полет, и ледяная вода вышибает дух, и серебристые гирлянды пузырей провожают тебя в глубину, это воздух земли прощается с тобой, убегает с веселым журчанием прочь, к свету, к жизни. И ты закрываешь глаза, исчезаешь.
Маленький тюлень, отфыркиваясь, выпрыгивает из воды, переворачивается, ложится на бок и скользит легко и свободно в серых волнах.
Семигоричев погост
Покойнику не закрывали глаз, не складывали рук на груди. Засохший до каменной твердости, он был завернут в рядину и оставлен до утра под навесом. Кто станет высиживать бдение над глиняным идолом? Скорбно постояли, прощаясь с новой несбывшейся надеждой, да и пошли в хату — вечерять и спать.
Утром, кряхтя, водрузили неживое тело на волокушу. Олесь накинул на плечи лямку и тянул, Петро следом ехал на доске.
На краю оврага их встретила Чорна. Стояла — только ветер едва шевелил края бесчисленных платов, укрывавших ее, как палая листва укрывает землю. Как каменная стояла. Как памятный камень над погостом. Черные глаза из-под насупленных бровей глядели строго. Олесь поежился.
— Ох ты ж, ну и плакальщицу бог послал, — пробормотал Петро, тоже ежась, но стараясь виду не подавать.
Олесь на него шикнул:
— Не знаешь, не говори.
Петро плечами пожал: не знаю, мол, а что такое? Кто такая?
Мьяфте кивнула ему, взгляд ее смягчился, нежно даже так сказала:
— Ты вот не знаешь, с тебя и спросу нет. А этот… — на Олеся глянула уже по-другому. — Ну-ка скажи мне, разумный ты мой, что мне теперь с твоими мертвецами делать? Ты их как пирожки в печи — целый погост наготовил! А мне их куда?
— А ты-то причем? — опешил Олесь.
— А при том, что все мертвые — мои.
— Какие же они мертвые? — мастер возмутился. — Какие же мертвые, когда они живыми-то не были никогда? А если не были живыми — то и не твои.
— Были, не были — не тебе решать, — усмехнулась Мьяфте. — Вот уж не тебе… Может, и не были. Только ты ведь их хоронишь, как тех, кто был жив. И они становятся мертвыми, как те, кто был жив. Непонятно еще?
Олесь мог только рот открывать… и закрывать. А сказать ничего не мог. Сглатывал только и холодел.
Мьяфте полюбовалась на него, удовлетворенно кивнула.
— Вижу, что понял. Так вот ты меня одарил, миленький: нерожденных покойников к моему двору прислал, ходят теперь вокруг, маются. Нечего им вспомнить, не от кого поминания ждать. И я не знаю, что с ними делать, как упокоить их. Приставила по хозяйству пока, а дальше уж не знаю. И больше мне не надо.
Сказала все, что хотела — собралась уходить. Олесь не дал. Спустил лямку с плеча, шагнул к Мьяфте, кусая губы, руки протянул — но платков траурных не коснулся, не смог.
— Что же мне-то делать? Мне надо его на ноги поставить.
— Прям тебе! Прям надо! — голос Мьяфте звенел от ехидства. — На ноги поставить, а ты в куличики играть вздумал. Налепил… Я сказала: мне больше работников не нужно, не приму.
— Не принимай, — буркнул Олесь. — А я все равно буду.
Мьяфте удивленно глянула на него, как будто даже и растерялась. Зато уж и смеялась потом, так что пополам сложилась.
— Дурак ты, Олесь Семигорич, хоть и мастер сильный, и гончар знатный, а дура-ак… Не стану я с тобой мериться, не дождешься. Знаешь, что будет, если ты упрешься и я упрусь? Я скажу: и будь, и не приму. И точно не приму! Да еще и тех, что уже на подворье топчутся, направлю откуда пришли. И ты не фыркай сейчас, желваками не двигай, брови не супь. Ты представь, что все они вот здесь поднимутся и на твое подворье придут. Потому что мертвыми сделал их — ты, а живыми они и не побыли. Жизни они от тебя требовать станут и какую найдут — такую и возьмут. Твою. Гостя твоего. А после и всякого, кто сюда дорогу найдет. Понял теперь?
Олесь стоял белый, Петро переводил потерянный взгляд с него на Чорну, с Чорной на него, и что-то быстро говорил одними губами. Молился, наверное.
— Мастер, — фыркнула Мьяфте, помягчев лицом. — Дурак, как есть дурак. Все ведь ты правильно понимаешь про то, как жизнь получается. И как лепится человек миром. И что на крови замешивать стал — тоже верно. Всё ты верно делаешь. Только не мужское это дело. Никак. Уж прости, — развела руками Мьяфте. — Так устроено. Ты бы и сам понял — скоро бы понял, ты умный, Семигорич. Ты сам знаешь, что тебе глаза застит. Я тебе ключ открыла там, в голове оврага-то. Пойди, умойся, глаза промой. Должно помочь.
— Что же, не встанет мой друг на ноги? — прошептал, смиряясь, Олесь.
Петро смотрел на Чорну, не отрываясь. Понял уже, кто перед ним, всю надежду, что непомерным грузом на Олеся возложил, направил теперь к темной гостье. Не дышал, слушал ее долгое молчание.
Пощадила Петра, первым ответила ему.
— Тебе без разницы. Живи, как есть — другой жизни все равно не бывает. Только как есть. А ты, Семигорич, много на себя взять хочешь. Я тебе сказала: не твое это дело. Если кто-то другой за это возьмется — с ним и говорить буду. А тебе больше нечего тут знать. Хорони своего последнего — и хватит глину изводить. Хорошая глина. Из такой свистулек наделать и всякое зло от жизни отпугивать, смерть удерживать подальше, пока ей срок не настал. А не… наоборот. Всё, пойду я. Еще этого приму, о нем не беспокойся. С остальными — если вдруг не понял чего — сам разбираться будешь. Ты.
— Так что же… — все еще не мог поверить в окончательный провал своего дела Олесь.
— Тебе обязательно, чтобы ты это сделал? Если не ты — то и конец всему?
Олесь помотал головой.
— Вот и выкинь из головы.
Сказала, развернулась и пошла вниз, по склону оврага, да и пропала там среди черных стволов на фоне черной земли.
Парни молча смотрели ей вслед, потом как очнулись: торопливо спустили в овраг волокушу, торопливо вырыли яму и забросали землей замешанную на живых соках — кровь Петра, пот Олеся — последнюю надежду. Торопливо выбрались из оврага: Олесь толкал Петрову доску, а тот и не возражал.
— Горилка-то есть у тебя? — спросил, обернувшись уже наверху, у кромки.
— Помянем, — согласился Олесь.
Звезда Матильда
Две не две, а тысячу с лишком — пока не сбилась со счета, а уж сколько раз она с него сбивалась… Может, и не было никакой тысячи. Который год был за день, который день — за год, поди разбери. Шла она за солнцем, долго шла по пустым землям и по населенным. Побирушкой, проституткой, поломойкой, водоноской, нянькой, плакальщицей — уж где чем можно было раздобыть кусок хлеба, чтобы утолить голод и продолжить путь. Маленький кусок живой человечьей плоти внутри ее неостывающей и почти вечной — вот и вся жизнь, что была тогда в ней, то ли год за годом, то ли день за днем. Всё, что она слышала — властный призыв хозяев, все более требовательный, гневный, разъяренный. Ничто снаружи не могло заглушить его, ни вой ветра, ни рев водопада, ни грохот лавины, ни треск, и гром, и гул, и звон войны, ни гогот одичавших мужчин, ни стон и вопль разоренных городов, ни вдовьи стенания, ни свадебная песня, ни плач младенца, нет, нет.
Но внутри мягко билось живое сердце, год за годом — час за часом — врастая в ее существование своей жизнью, и она как будто становилась неподвластной хозяйскому зову. Сердце помнило тихий голос свирели над снежными склонами родных пастбищ — и умело поднять его завесой вокруг Сурьи, заслоняя ее. И она не вернулась, хоть знала, что когда-нибудь они ее непременно себе вернут, и кара будет страшной. Но то когда еще — а жизнь сейчас. И как бы ни мучили, в конце непременно переплавят и перелепят. Значит, и памяти о муке не останется, как не оставалось памяти о прежней жизни никогда. А нет памяти — не было и муки, останется всегдашняя покорность и готовность исполнить любое, что велят — без понимания и чувства. Ведь сердце не вынесет той муки, а если и вынесет муку — не выживет в плавильне черного неба, а если бы и выжило… не оставят ей сердца, выгнут ракитовой веткой над бездной, надрежут бледным ногтем натянутую кожу, переломят хрупкие ребра, вынут маленькую жизнь, раздавят в ледяных пальцах. Морознее земного мороза дыхание Господ, ледянее льда их плоть — вмиг станет прахом иссушенная невозможным холодом человечья плоть, и стряхнут прах с пальцев, и подуют на них…
Накативший ужас лишал разумения. Сурья забивалась в пещеры, в подвалы, под мосты и под повозки, когда вокруг простиралась степь и некуда было забиться, словно надеялась там укрыться от хозяев. Когда отпускало, выбиралась под небо и шла дальше. Не считала, сколько раз ее — нищую — грабили, сколько раз бросали истерзанную и убитую. Вставала и дальше шла — и некуда было ей идти, потому что ни на земле, ни в небесах не было у нее ни дома, ни любви, ни родни. Сердце только берегла и шла, шла, лишь бы не оставаться на одном месте, как будто бродячую ее труднее будет найти… Рассудок молчал, сердце плакало, Сурья шла.
Пока однажды не вспомнила родни своей в небесах.
Что там они, в небе, великие, сияющие, огромные, больше всей земли, ярче всех ее огней, крохотной бессильной Сурье — братья, но не по человеческим меркам. У человеков мать и отец каждый раз создают дитя заново, каждый раз рождают разное. У звезд не так. У звезд — как если бы был великий, больше всего на свете, человек, и разделили бы его на тысячи и тысячи частей, и каждая часть была бы отдельным человеком — вот тогда были бы люди братья, как звезды.
И ведь Сурья — одна из них, настоящая, брат во всей полноте звездного братства.
Только вот не знают о ней братья, ибо украдена была толика звездного воска при сотворении звезд, и нет у нее имени среди звезд, нет памяти о ней и не знают братья о своей потере.
А если им рассказать?
Разве все звезды неба не смогут защитить своего крохотного брата Сурью от злых Господ, от беспощадной их, от неизбывной их власти над ней? Ведь она принадлежит звездам, как они сами принадлежат себе, точно так же. И не могут Господа взять ее себе — нет у них права. Только силой, большей, чем сила крохотной Сурьи, они ее держат. А если братья-звезды встанут за нее?
Сурья, как подумала об этом, вся задрожала.
Задрожала, вскочила на ноги, уронив недоеденную краюшку, огляделась вокруг. Увидела, как не сама сюда пришла, неожиданное: буйные кудри виноградников по левую и по правую сторону от желтой дороги, с одной стороны вдалеке красновато-коричневые крыши над белыми домиками, сгрудившимися вокруг колокольни, с другой стороны — всё дорогу и дорогу и на фоне светлого неба — высокую гору, словно какая-то часть земли вдруг рванулась к небесам, не достала, но и от своего не отступилась, так и застыла в этом полете на полпути к небу.
И Сурья кинулась к этой горе, пробежав два шага, вернулась, подобрала свою краюшку и побежала дальше, на ходу откусывая и глотая тугой кислый хлеб.
Там, наверху, там она будет ближе к небу, ближе к Господам… Но, может быть, оттуда она сумеет докричаться до братьев-звезд?
Бежать ей пришлось долго, сердце колотилось — проклятое сердце, во всем противящееся ее телу, не знающему усталости и слабости. Из-за этого куска человеческого мяса, устроившего себе гнездо в ее звездной плоти, заставившего ее звездную плоть страдать и изнемогать вместе с ним, Сурья сбила ноги, запыхалась и едва вскарабкалась по крутому склону горы. И пришлось, добравшись до вожделенной вершины, лечь на камни и долго, терпеливо — нетерпеливо не вышло — переводить дыхание.
Так она лежала, раскинувшись на камнях, и прозревала сквозь тусклый земной воздух темные глубины вселенной и летящих в нем огромных, светлых, великих своих братьев. Как далеко они были! Сурья, крохотная, была слеплена по меркам земли, а они — о, как велики были их размеры, как стройны и необозримы их порядки! Иные, невместимые, неохватимые никаким порывом души… и родные, по которым она теперь тосковала и захлебывалась тоской.
И она закричала от этой тоски, всей своей звездной плотью исторгнув крик, светом и звуком, теплом и неощутимым трепетом составляющих вещество частиц она закричала — не на том языке, не тем голосом, которым разговаривают между собой люди и которыми она разговаривала с людьми. Голосом звезды, присущим ей, закричала она всей силой, какая в ней была.
И сердце Ашры замерло в испуге и молчало, пока крохотная звезда Сурья звала своих.
На камнях, без сил.
Никто не откликнулся.
Ее просто не хватило — дотянуться до звезд, ее слишком мало, что там — отщипнули, скатали комочек и лепят-перелепливают, да к морозным пальцам пристанет, пристынет, все меньше и меньше ее остается. Вот и не осталось звезды. Чуточку, самую малость, может, не хватает — а уже не то.
Уже только слабое тело, похожее на человеческое и такое же бессильное, недвижимое, безгласное — на камнях. Неба как будто и нет — оно молчит. И Сурья медленно закрыла глаза, чтобы не видеть летящие от нее в бездонной мгле звезды.
Сердцу в ней становилось всё холоднее, но, может, это и к лучшему: оно умрет, а Сурья вернется к Господам, и они сделают всё, что обычно, и все кончится, и начнется что-то другое, но Сурьи там уже не будет. Даже слезы постепенно остывали.
— Ах, вот ты где! — сказал огромный человек, вскарабкавшись к ней на вершину. — Ну и коза!
С этими словами он сгреб ее в охапку, покачал, взвешивая, поглядел вниз, на каменистый склон, по которому карабкался, вздохнул гулко, как ухает филин в ночном лесу.
— Извини уж, — сказал деловито и перекинул Сурью через плечо.
Спускался он медленно, но надежно, а когда миновал камни, снова взял Сурью на руки, и она была маленькая в его руках. Сурья принялась было строить план: как податливей себя вести, чтобы отделаться меньшим ущербом, но это было всё ненужное. Ей было тепло и мирно на руках у огромного человека, который нес ее, сквозь лес, укрывая руками, заслоняя головой от ветвей и сучков.
И вынес к дороге, а там уж стояла карета, и маленький человечек метался возле нее, заламывая руки. Летали заштопанные кружева, болтались вокруг тощих ног вышитые полы кафтана, оступались на каменистой дороге высокие каблуки.
— Как? Ты нашел ее? — воскликнул он, не обращая внимание на ношу в руках великана.
— Беппо, Беппо! — с укором взглянул маленький на большого. — Что же так долго? Она замолчала! Ее не слышно! Как мы теперь ее найдем?
— Вот, Маэстро, вот она, — смиренно отвечал великан, протягивая к нему Сурью с такой же легкостью, как протянул бы кафтан или шляпу.
— Это была бы непростительная потеря, Беппо, — маленький человечек торжественно воздел к небесам указательный палец и помахал им весьма назидательно. — Мы этого не допустили.
Под стук колес и скрип суставов старенькой кареты, под благодушное ворчание Маэстро и сдержанные вздохи Беппо они въехали в приморский город. Было раннее утро. Солнечный свет тек по булыжнику мостовых, море дышало пряной свежестью, в разнобой стучали распахиваемые ставни, двери лавок, вторя стуку колес. Сурья так и проспала ночь в целомудренных объятиях великана, и неведомое прежде чувство покоя и защищенности наполняло ее. Словно бы она перестала быть старшей в этом мире, перестала быть старше всех людей на земле, стала слабой, нежной, уязвимой — и защищенной. Ничего от нее не нужно было огромному Беппо, но руки его источали нежность. Маэстро, сидевший напротив, не отрывал от них умиленного взгляда.
Умиление его было настолько велико и неиссякаемо, что возле кондитерской лавки мадам Авриль он самолично выбрался из кареты и постучал в еще запертую дверь.
— Дорогая синьора! — воскликнул он, едва на пороге показалась сама хозяйка, повязанная платком поверх ночного платья и в мятом чепце. — Нам срочно нужна чашка самого крепкого какао, какое вы можете приготовить!
Мадам Авриль смотрела на него сощуренными глазами, как будто не могла различить, докучливое видение из сна предстало перед ней, или живой неугомонный безумец. Маэстро же не умолкал, не решаясь разве что тормошить руками полуодетую женщину, а прочими способами деятельно побуждая ее немедленно приступить к делу и создать шедевр своего искусства.
— Ах, дорогой Маэстро! — всплеснула руками наконец проснувшаяся хозяйка. — Неужели вы снова в наших краях! Колен! Колета! — крикнула она в глубь дома. — Раздуйте огонь, да поскорее! Я приготовлю какао для нашего милого, восхитительного, гениального друга! А что же вы сами? Где же ваш верный Беппо?
— Беппо… — Маэстро понизил голос, — скажу вам по секрету, милая синьора Априле, Беппо занят, вернее, его руки заняты тем, что я надеюсь сделать основанием моей новой славы. Вернее, той, которую… О, моя прекрасная синьора Априле, не вдаваясь в подробности — мне срочно нужна чашка чудодейственного какао, и я полагаюсь на вас. В карете у меня совершенно истощенное существо, которое неминуемо погибнет, если не применить самые надежные и сильнодействующие средства.
Как по волшебству, немедленно распахнулась дверь напротив, и в проеме показался встрепанный мужчина в темно-красном домашнем кафтане, наскоро накинутом поверх ночного платья, и вязаном колпаке.
— Кто говорит об истощении и сильнодействующих средствах? — с важностью заговорил он. — Дорогой Маэстро, входите скорее, я немедленно пропишу вам самые новые микстуры, составленные мною лично. Пульвер радикс мандрагорэ оффициналис и, говоря по-простому, порошок шпинели в тинктуре антимонии! А также пошлю за цирюльником, ибо ничто не укрепляет организм лучше хорошего кровопускания, уж поверьте мне. Ну разве что пиявки…
— Ах, доктор, доброе утро! — голос мадам Авриль сочился медом и ядом. — Когда речь идет об истощении, несомненно, нет лучшего средства, чем выпустить из несчастного последнюю кровь и напичкать его взамен всяческой отравой! Дорогой мой сосед, Маэстро постучал в мою дверь — и я не отпущу его без помощи!
Доктор величественно прошествовал к карете, стоявшей прямо между дверями его дома и кондитерской мадам Авриль. Открыв дверцу со своей стороны, он уставился на смуглую замарашку в руках Беппо, хмурясь и морща нос.
— Здесь необходимо срочное вмешательство медицинской науки! — воскликнул он со всей тревогой, которую смог вложить в свой звучный голос. — Двойную дозу тинктура гиосциамус нигра, и как можно скорее! И, конечно, впрыскивание, непременно впрыскивание хирургической клизмой, мой добрый Бенуа имеет совершенно новые клизмы с медными наконечниками, мы просто обязаны их испробовать на вашей протеже.
— Дотторе, — возразил Маэстро, просунувшись в карету с другой стороны. — Как бы ни была истощена эта девица, она еще слишком далека от смерти, чтобы предать ее в ваши руки. Всего лишь накануне она пела, и прегромко, скажу я вам. Мой рецепт — какао, и пусть все доктора мира спорят со мной, я напою несчастную этим целебным напитком, и немедленно! Синьора Априле, за дело! Беппо, внеси же это несчастное дитя в дом. Закончим здесь наш спор, дотторе, вы ведь знаете, что я сумею настоять на своем.
Доктор скорчил разочарованную гримасу и покинул поле боя. Мадам Авриль едва успела скрыться в кухне, как вслед ей вновь загремел голос Маэстро.
— И ради всего святого, не вздумайте разбавлять молоком! Беппо, усади бедное дитя за стол и присмотри за ней, а я присмотрю за синьорой. Нет, я сам приготовлю какао!
И Маэстро, скинув кафтан, на ходу закатывая рукава ринулся в кухню.
Сурья, усаженная на стул, медленно огляделась. Беппо, наклонился над ней, улыбнулся, погладил по голове.
— Вы, барышня, посидите, а я прослежу, чтобы лошадей отвели в конюшню. Приехали мы. Маэстро всегда снимает комнаты у синьоры.
Едва он вышел, Сурья поднялась и подкралась к кухне: уж если столько шуму из-за ее лечения, в котором она не нуждалась, то интересно взглянуть, что за снадобье для нее готовят.
Маэстро помешивал густую смесь серебряной ложкой в маленьком ковше с длинной деревянной ручкой.
— Корица, синьора Априле, мускатный орех и — совсем маленькая толика сахара, ведь речь идет о нежной девице. И никакого молока!
— Но вы говорите об истощении, а молоко питательно, мне только что доставили прежирного молока с фермы Майоля.
— Нет, нет и нет! — горячился Маэстро. — Поите молоком кого угодно, хоть бы даже и мою девицу, но после. Портить лекарство я не позволю!
— Как хотите, милый Маэстро, я забочусь о вашей же пользе. Шоколад без молока выйдет слишком дорогим, а вы еще и пряностей… И все для жалкого найденыша.
— Да, и перца! — подтвердил Маэстро.
— Но вы же разоритесь на одной этой чашке.
— О нет, дорогая синьора, в этот раз я приехал к вам богатым. Я даже рассчитаюсь со всеми долгами, которые вы мне так великодушно простили в прошлый раз. Но и это еще не всё! Благодаря обретению этого, как вы говорите, найденыша, мое будущее — блестяще, поверьте мне!
— А до того вы точно разоритесь, не на какао, так на пудре, — вздохнула мадам Авриль. Обернувшись, чтобы взять прихватку, она увидела Сурью, стоящую в дверях.
— О, нет, нет, нет! Девица нуждается в мыльной ванне и расчесывании, но я уверен, что кожа ее от природы не темнее вашей или моей.
— Что-то я сомневаюсь, — ответствовала хозяйка. — Как тебя зовут, дитя? Ты понимаешь, что я говорю? Маэстро, она понимает человеческую речь?
Маэстро в задумчивости оглядел свою подопечную. Он не знал ответов на эти вопросы. У него не было случая проверить. Но признать это перед мадам Авриль он был неспособен.
— Конечно, понимает, — сердито отрезал он. — Поздоровайся с доброй синьорой, Матильда.
Парчевый и кружевной Маэстро, пудреный ворчун, был равнодушен к мелочам, в разряд которых он зачислил едва ли не весь мир (драгоценным исключением был целительный напиток какао). Но во всем, что касалось его единственного божества, он был педантичен до въедливости. Божеством его была музыка, и даже точнее — пение. Маэстро уверовал в то, что божество воплотилось в дикой девице с горы Монпелье. Между тем, она была без преувеличения бедствием.
Вымытая, она ничуть не побелела. Уход за ней, в точном соответствии с пророчеством мадам Авриль, требовал огромных количеств пудры. Она не умела толком причесаться, оступалась на каждом шагу в новеньких атласных туфлях на красиво изогнутых каблуках, садясь, то и дело забывала приподнять юбку, расправленную поверх легкого панье из ивовых прутьев — прутья ломались, раня нежные части девицы, девица шипела, как дикая кошка, ткань трещала, раздираемая острыми обломками лозы. Мадам Авриль вновь и вновь усаживала Колету за штопку — ожидать от юной дикарки, что она управится с иглой, было никак невозможно. Но это была еще не вся беда!
От ее голоса осыпались стекла в оконных переплетах, разлетелась осколками вся посуда в доме и вылезли волосы у безответного бедняги Беппо. Голос был многократно больше нее. Она не умела с ним совладать. Как будто целая площадь поющих, орущих и визжащих во всю мочь девиц каким-то удивительным образом впихнулась в щуплое тельце темнолицей дурнушки. Но порой — всегда неожиданно — словно бы странные гармонии расцветали причудливыми шпалерами в этом диком саду. Словно девушки на площади образумились, расправили уголки косынок на груди и запели не совсем пристойным, но слаженным хором. И Маэстро со всем пылом одинокой старости принял этих дурновоспитанных девиц под свое покровительство, или, говоря иначе, взялся за садовые ножницы ради приведения дикого сада в образцовый вид.
Ей было скучно повторять за клавесином: все, что он пел, было однообразно, узко и ничего не значило. Но старик радовался, как дитя, и сердился, как старик, и жил и дышал — и юная Матильда, смирившись с этим именем, которое для нее значило не больше, чем заикающийся лепет клавесина, вновь и вновь старательно повторяла надоедливое бормотанье. Старик терпеливо кивал головой в такт движению клавиш, выкрикивал итальянские слова, притоптывал каблуком, а Сурья училась стягивать свой голос в одну тонкую и почти бесцветную нить. И так продолжалось, пока однажды она не услышала в звуках, исходивших из ее горла, отзвук сиплой дудочки Ашры. И сердце сильно забилось в ней, и она задрожала. Старик по имени Маэстро смотрел на нее блестящими, словно юными глазами, и в них стояли слёзы. И она вдруг поняла смысл и силу этой странной кургузой и сдавленной речи.
— Теплее, дитя мое! Con brio! — и Матильда соединяла brio живого сердца, блестящее и простое искусство, преподанное Маэстро, и мощь своей звездной плоти, крохотную для неба, но огромную на земле. Чрезмерно… Бедняга Беппо слег вскоре после их прибытия в город и уже не оправился. Волосы его оставались на подушке пучками, кожа слезла клочьями, он не удерживал в себе ни пищу, ни питье и умер в мучениях.
Сурья смотрела на умирающего и невнятным чутьем угадывала, что причина в ней. Он умирал от того, что слишком близко от нее оказался, когда она кричала братьям там, на горе Монпелье.
— Громче, дитя, что же ты? — но Матильда не смела петь громче. Впрочем, удивительным образом, голос ее заполнял любое помещение легко и мощно, и как будто бы это никак не зависело от тех тонких движений, которые она совершала в своей гортани. Звук исходил равномерно из всего ее тела, оно и было источником пения. Стройно пели ее гладкие, как полированное эбеновое дерево волосы, сами собой ложившиеся волосок к волоску. Нежно звучали округлые мочки ушей, уголки губ. Тонко звенели ногти. Вокруг бедер стояло густое медовое гудение. В ямках с внутренней стороны локтей и под коленями рождалось мурлыканье сродни кошачьему. Кожа на лбу отзывалась охотничьим рогом.
— Мой Беппо умер, — сказал ей Маэстро, комкая манжеты. — Но ты со мной, diva mia.
— Я не богиня, — едва слышно сказала Сурья. — Я звезда. А Беппо умер.
Но она ничего не могла исправить — с самого начала. Она была слеплена для того, чтобы от нее умирали.
Кроме этого она могла только петь для Маэстро.
Она пела.
Стена Рутгера Рыжего
— Я хочу научиться строить двери. Ну эти, врата, переходы, как ты их называешь? Вот чтобы, как ты, везде ходить — не через перевозчиков, не с провожатыми, не по мостам, как Мак-Грегор, а прямо вот отсюда — вот туда. Как ты. Научи.
— Ух ты! — вздернул брови Видаль. — Прямо вот как я, да?
Рутгер покраснел уже невыносимо, опустил голову, так что лицо завесилось рыжими прядями, и из-за них упрямо повторил:
— Как ты.
— И зачем оно тебе понадобилось?
Рутгер, всё не поднимая головы, как-то так изогнул шею и плечи, что стал похож на молодого бычка, готового боднуть.
— Надо.
Видаль прикусил губу.
— Ну, парень, сам посуди. Вдруг ты хочешь суматошинский банк ограбить, да так, чтоб концов не нашли. Прямо вот из ниоткуда шагнуть в зал… — Видаль мечтательно прищурился. — Лицо платком обвязано, пистолеты в обеих руках, грозным голосом так потребовать все деньги в мешок… И прямо оттуда — в никуда, куда захочешь. Откуда я знаю, вдруг тебе за этим?
— А ты бы так мог? — выглянул из своей спрятки Рутгер.
— Да запросто.
— А почему не делаешь?
— А зачем? — изумился Видаль. Остановился, подышал, подумал. — Вот мне-то зачем? У меня и так вся жизнь — моя, у меня этой жизни — сколько влезет, сколько подниму, понимаешь? Зачем мне банк грабить?
— Вот и мне для того же. Жизни я хочу, чтобы вся была моя.
— Так у тебя вот мастер есть — научит.
— Не могу я с ней оставаться. Не спрашивай. Не могу, и всё. Научи меня ты.
Видаль сколько-то шагов — десятков шагов — шел молча. Потом опять остановился.
— Ладно, — махнул рукой. — Что с тобой теперь делать? Ты как — насовсем ко мне в ученики просишься или разово, научиться ходить, как я?
…
— Начнем с того, что… хм… как бы это сказать? Вот! Двери проделывают в стенах. Понимаешь, о чем я? Чтобы построить дверь, нужна стена.
Они вышли на опушку леса, и поле — широкое, зеленое и золотое от солнца, расстилалось перед ними. Сделав еще несколько шагов, Видаль вдруг остановился.
— Ты погоди. Я там… Ну, мне надо… я тут, рядом. Погоди минутку. Ну или иди вперед, я догоню.
Он смущенно поморщился и торопливо повернул обратно. Кусты шелестели и потрескивали, пока он углублялся в сторону от дороги.
Рутгер остался на краю поля один. Наморщив веснушчатый лоб, он деловито оглядел горизонт, отмерил, как ему на душу пришлось, подходящее расстояние и принялся за работу.
Когда Видаль вышел из леса, поддергивая штаны и расправляя полы куртки, и поднял голову, озираясь в поисках ученика, только тихое слово сорвалось у него с губ, и вряд ли он решился бы повторить его при Ганне.
Через все поле, сколько его видно, от края до края стояла стена. Высотой она была до неба, а шириной — ну, сколько видно, всё она. Рутгер поработал на славу: белоснежные, гладко обтесанные камни стены покрывал словно бы лепной узор, причудливые арабески сверкали позолотой. Ну, Видаль надеялся, что это позолота.
Рутгер стоял перед творением души своей и с надеждой смотрел на учителя: годится такая?
Отдышавшись, Видаль тихо спросил:
— Что ж оно у тебя всё такое… большое выходит? И прихотливое. Вот это вот золото — оно зачем? Да вообще стена эта — зачем? Ну и… попроще что, нельзя было?
— Никак, — вздохнул Рутгер. — Я пытался простую увидеть, а никак. Пришлось придумывать поярче, чтобы в голове держалось.
— Ага, ага… Банк тебе грабить, пожалуй, и точно незачем. А большая такая почему?
— Ну как почему? — серьезно удивился Рутгер и обстоятельно пояснил: — Чтобы не обойти и не перелезть.
Видаль моргнул.
— А зачем надо… чтобы не обойти?
— Так если можно обойти, то зачем дверь нужна? Зачем дверь, если просто перелезть можно? Ты же сказал, чтобы дверь — нужна стена. Что ты придираешься? Вот я сделал стену — учи теперь.
…
— Начнем сначала, — сказал Видаль. — Пойдем в обратном направлении. Для того, чтобы построить дверь… Для того, чтобы у тебя была нужда построить дверь, должна быть стена. Двери проделывают в стенах. А если стен нет?..
— То и двери негде делать.
Видаль пожевал губами.
— Негде, правильно. Ты так говоришь — негде двери делать… как будто тебе непремено эти двери нужны.
— А как же пройти?
Видаль потер лицо руками.
— Ты так говоришь, как будто тебе необходимо построить дверь. Ты хочешь проделать дверь или?..
— Но как я пройду, если не проделаю дверь?
Видаль вздохнул.
— В чем?
— В стене.
— А для чего нужна стена?
— Чтобы проделать дверь.
— И всё?
— Ну… да.
— То есть, стена тебе нужна, чтобы проделать в ней дверь?
— Да!
— А дверь тебе для чего?
— Чтобы пройти! — в отчаянии выкрикнул Рутгер.
— А если ты не можешь построить дверь, то и пройти не можешь?
— Не могу!
— А если нет стены, то ты не можешь построить дверь?
— Не могу! — и осекся. И посмотрел на Видаля круглыми глазами. — Так стена же… Стены нет?
И сделал шаг вперед. И тут же исчез.
Видаль рванулся было в Суматоху, вывалился на площади перед ратушей, но, даже не оглядевшись, чертыхнулся и одним махом прыгнул во льды.
Рутгер там и стоял, перед ярангой, и трясся весь от холода, слезы на щеках уже стыли ледяными горошинами, руками он себя обхватил, съежился, но к яранге — ни шагу.
Видаль сам зашипел от холода, схватил ученика в охапку — и домой, в Семиозерье, прямо к крыльцу.
Напоенный горячим чаем, Рутгер перестал вздрагивать и тереть руки. Молчал, поглядывал на мастера угрюмо.
— Ну говори, — буркнул усталый и злой Видаль, склонившись над третьей чашкой чая. — Вон еще варенья бери. И не молчи.
— Ну… — сомневался еще Рутгер. — Ну… а что ты из меня дурака делал?
Видаль даже отвечать не стал — не шутка, так вот напрыгаться между местами, без передышки и впопыхах.
— Ты вот почему у яранги стоял, мерз — а обратно не пошел? — спросил Рутгера.
— Я испугался. Я не понял, как это делается.
— Но сделал. Потому что. А если бы я тебе сразу сказал, что никаких дверей не надо, иди куда хочешь — пошел бы?
— Ну… нет.
— Не поверил бы. А зато теперь, дорогой мой, ты там был, сам — это не забудется. С перепугу, может, сразу не вышло опять перейти, но это с перепугу. Твоя душа теперь знает, как это. Душа не забывает. Ты, главное, выбирай, куда ходить, чтобы, если сразу вернуться не получается… Чтобы можно было подождать. Чтобы ты от этого не умер. Понимаешь?
Рутгер согласно мотнул головой.
— Сам выбирай. Каждый день. И не отлынивай. А то душе оно вспомнится вдруг, да и уйдешь нечаянно куда… И не вернешься. И не найдет тебя никто. Так что лучше ты сам. Не жди, когда оно нагрянет.
— Я понял, — сказал Рутгер.
— С твоими-то замашками… — не смог сразу остановиться Видаль. — Вон лягух каких натворил! А хвост твой лисий! А вон стена какая!
— Я понял, — тише и упрямее повторил Рутгер. — А со стеной теперь чего? Поперек дороги же.
— Ну, что-что… Пойдешь да и построишь в стене ворота. Ты же для этого стену возвел. Вот так и выполнишь свое желание и ее предназначение. Правильно будет.
— Угу, — сказал Рутгер. — А как я то место найду?
— Так ты ж его видел. И стена какая — ты же нарочно, чтобы лучше представлять, поярче сделал. Вот как ее представишь, к ней и шагай. Заодно потренируешься.
— Я понял.
— Тьфу ты, — не выдержал Видаль. — Правду Хо говорит, молод я еще учеников заводить. Как же ты меня достал, понятливый такой, а?
…
Но и после долго не мог успокоиться. Все возился, ворочался под одеялом.
— Мастер, мастер…
— Видалем меня зовут.
— Видаль, слушай… так ведь вот было поле, а стены не было. Только когда я сам ее построил…
— Да.
— И что, все люди так?
— Ну… — протянул Видаль задумчиво. — Не все, наверное.
Рутгер повозился еще под одеялами, почесал живот, щеку.
— А почему все остальные, мастера наши, почему у тебя не научились? Раз так просто?
— Просто ему…
— Но ведь можно же?
— Можно. Не просто, но можно.
— Так почему они у тебя не учатся?
— Ты почему стал учиться?
— Мне надо.
— Ну и вот. Кому надо. Кому не надо. Понял?
— Понял.
— Понятливый… Спи уже, — зевнул Видаль и повернулся на другой бок.
Дело мастера Ао
— Напустил туману… От кого прячешься, мастер?
— От себя.
Ао собрал волосы в жгут, завязал узлом ниже затылка. Длинный седой хвост, уже схваченный сыростью, тяжело лег по спине. Покачал головой:
— От себя… И то, кому еще ты нужен, старик. И себе теперь не нужен.
— Не ворчи, — буркнул Хо.
— Ну это уж слишком. Всю жизнь звать меня ворчуном — чего ты хотел в конце?
— Думаешь, уже конец?
— Почему бы и нет. Лет нам лет — и года пошли, может, и хватит уже?
— Мы были стариками, когда всё кончилось. Не помолодели, когда все началось. И сейчас мы старики, Ао.
— Ну, не говори. Какие же мы были старики тогда? Вот сейчас — да, другое дело. А тогда… ну, пенсионеры.
— Все равно, Ао, все равно. Люди столько не живут.
— Вот и не надо было. Никто ведь тебя силком не заставлял.
— Молодым хорошо, они жизни не чувствуют — как она утекает миг за мигом, как она заканчивается, едва начавшись. Вот и бродят по ярмаркам, дуют пиво в Суматохе, развлекаются. А жизнь уже к концу идет.
— Да им еще лет-лет до того конца!
— Но к нему все идет. Не вспять. К концу.
— Хо, что с тобой? Ты вдесятеро против первой своей жизни прожил — не надышался еще?
— Разве можно перед смертью надышаться?
— Да у тебя вся жизнь перед смертью!
— А у тебя иначе?
Ао присел к костру, поднял палочку, пошевелил угли. Хо украдкой взглянул на него и тут же отвел глаза.
— Не хочешь ли чаю? — спросил любезно.
— Никак ты меня уже выпроваживаешь?
Хо не ответил.
— Нет, старик, и ты не Лао-цзы, и я тебе не Конфуций, чаю выпью, но уходить не собираюсь.
— Старик… — ядовито откликнулся Хо, когда Ао уже перестал ждать ответа. — Старик! Ты забыл, что я младше тебя на пять лет?
— Пять лет! Пять лет, клянусь лягушкой! — Ао искривил рот, задрожал плечами и наконец, не удержавшись, сложился пополам от смеха, едва не ткнувшись лбом в горячие угли. — Пять! Я ничего не забыл, я помню: пять лет, девять месяцев и три дня. Ты правда думаешь, что это делает тебя молодым? Моложе… после того, как мы прожили столько — столько! — бесконечных лет. Пять!
— В том-то и дело, Ао. В том-то и дело. Не было никаких лет. Не было времени.
— Ну, сколько-то было, — рассудительно заметил Ао. — Год, может, и наберется.
И снова прыснул.
— Иди ты. Невозможно с тобой говорить.
— А ты разве хотел? Ты вон спрятался сначала, потом выпроваживать меня вздумал. С чего бы это? То сам от себя избавиться хочешь, то жалеешь уходящей жизни. Ступай в Суматоху, сними там квартирку над Ратушной площадью, с видом на море, как ты любил прежде. Ручаюсь, месяца не пройдет, как твой несчастный организм, которому ты не давал умереть столько… в безвременьи… Ручаюсь, через неделю или месяц, ну через полгода, ибо Суматоха — рай дураков, ты мирно почишь. Не этого ли ты хочешь?
— Не знаю, не знаю, Ао, я не знаю. Я устал. Я так устал от этой несменяемой вахты…
— Кто ж тебе не давал отдыхать?
— Когда же отдыхать, когда жизни так мало, а потери так велики? Каково это, Ао, потерять весь мир?
— Ты спрашиваешь меня? Не знаю, каково это было тебе. А я просто потерял весь мир. И это не с чем сравнить. Весь мир. Кроме одного человека — и мне хватило, чтобы выжить.
— Как видишь, мы выжили оба. И ты свидетель — я делал всё, что в моих силах, и свыше того, чтобы восстановить утраченное. Я работал, не покладая рук… не опуская век! Я работал — и учил, учил, чтобы было кому встать рядом, разглядеть во тьме свет… Умерли все, кто начинал с нами. Я все еще здесь и тружусь. Но… тьма все так же бесконечна, мир все так же хрупок, люди… такое же дерьмо. Я думал, я верил, что созданное заново будет драгоценно. Даром данное никто не ценит, так было всегда… Не знаю, сколько оставалось времени, если бы не тьма. Всё висело на волоске, и все это знали, но делали чтвид, что… или действительно верили, что пронесет. Так уж устроены люди, точно знают, что умрут — но и об этом умудряются не помнить. Живут, как будто бессмертные. Гадят, как будто им подарили бездонную яму для их дерьма.
— А ты говоришь — старый, устал. В тебе пылу на десяток молодых…
— Нет, Ао, нет. Это не пыл. Это пыль, прах… Зола. Но и в золе полыхнет, если раздуть хорошенько.
— Кто тебя раздул, Хо?
— Иди ты. Говорить еще с тобой… Да ты понимаешь? Да что ты понимаешь?
— Ничего, — легко согласился Ао.
— Когда это поле — по травинке! Эту ель — по иголочке! А они?
— Рыбу — по чешуйке, птицу — по перышку…
— Не смейся.
— Разве я смеюсь. Я видел. Я понимаю, о чем ты.
— Им опять кажется, что всё даром досталось — и никогда не кончится…
— И никто, никто не ценит твои бесценные творения…
— Я не об этом!
— Для них это не творения, пойми. Для них это — земля, вода, пища. Чтобы им жить. Чтобы им есть. И чтобы срать, извини. Человек не может есть и не срать. И ты тоже не можешь.
— Если бы только это, Ао, если бы только это… Ведь зря переводят, убивают, коверкают, жгут…
— А когда они были другими?
Хо судорожно втянул воздух.
— Поэтому ты так давно не строишь новых мест?
— Не строим мы ничего. Оно есть и без нас.
— Не придирайся к словам. И не уходи от ответа… Или уходи. Как хочешь. «Они», «они»… А мы что — не они? Ну молчи, молчи, старик. А я… пожалуй, смою этот туман, дышать ведь нечем. Слышишь? Я смою твой туман.
— Смой все здесь. Вообще.
— Ну да. Ищи дурака. Если выстояло в таком тумане… Так ты нарочно это? Чтобы расточить?
— Нет. Наверное. Не знаю.
— Давай возьмем чай и пойдем под навес, слышишь? Пойдем под навес, только посмотри, довольно ли в чайнике кипятка. Огонь зальет.
Хо, ворча, принялся собирать снедь, приготовленную для ужина на свежем воздухе.
С чайником в руках Ао замер на полпути к навесу, как будто его окликнули — замер, прислушиваясь, едва заметно покачиваясь, как бы колеблясь, откликаться ли тихому, властному, влажному голосу, коснувшемуся души. Как будто приподнялся на носках — как будто вытянулся в направлении к небу, протянул себя к нему. И медленно обернулся, и поднял взгляд вверх. Что-то клубилось наверху, еще неразличимое, что-то пробегало слабыми дуновениями в тумане, раскачивая и вороша блеклые клубы, тревожа едва проступавшие в мороке длинные штрихи бамбуковой рощи.
Что-то нисходило на землю, приближаясь неторопливо и неотвратимо.
Ао наклонился, почти неестественно изогнувшись, не отрывая взглядя от невидимой вышины, и поставил чайник на землю. На лице его расцвела мечтательная улыбка, скользящими шагами он пошел вокруг озера, медленно помавая раскинутыми в стороны руками, как будто собирал в воздухе паутину.
Хо выглянул из хижины:
— Ну что ты там возишься? А…
С недовольным лицом он быстро вышел наружу. Чайник белел изящным боком сквозь высокую траву, белая рубашка Ао мелькала уже в ивняке за ручьем, различимая едва-едва. Подхватив чайник, мастер Хо придирчивым взглядом окинул хижину, удовлетворенно кивнул, смахнул легонькую каплю, коснувшуюся щеки, смахнул другую и крикнул в сторону ручья:
— Давай-давай, веселись, ни в чем себе не отказывай. Разнеси здесь все, я ничего не хочу видеть!
Из ивняка к нему долетел радостный смех мастера Ао.
И в ответ — хлынуло.
Ливень ударил разом по прибрежной поляне, по хижине мастера, во озерной воде, по бамбукам, по ивам за ручьем. Хо в два прыжка укрылся в хижине, выкрикивая мастеру Ао обидные слова, но их не было слышно за шумом валящейся с неба воды. Ветер пролетел над бамбуками, почти уложив их на землю, ударил в хижину, срывая уложенные на крыше вязанки тростника. Мастер Хо прислонился к стене хижины, пытаясь ее удержать, наклонился, выглянул в проем — Ао танцевал среди потоков, намокшая рубашка облепила его ноги и мешала ему. Нетерпеливо дернув подол раз и другой, Ао остановился, топнул ногой. Содрать с себя мокрую липнущую к телу ткань оказалось непросто. Ао извивался и дергался на холме под ливнем, и вокруг него метались под ветром блещущие струи и высокие стебли бамбука. Это все было одним целым — дождь, бамбук, Ао. Наконец рубашка упала в траву, и Ао встал на высоком изгибе холма, вытянувшись к небу и вскинув руки. Узел распустился, спутанные волосы покрывали его темное тощее тело, струи воды катились по нему, бамбук дрожал и трясся под ударами ветра и воды. Ао танцевал журавлиный танец, двигаясь медленнее дождя, но в явном и удивительном согласии с ним.
Хо с трудом оторвал от него взгляд — и не увидел вокруг ничего, кроме потоков воды. Забыв о хижине, то и дело сотрясаемой ветром, Хо выскочил наружу и побежал, огибая озеро, по мокрой скользкой траве, через вздувшийся бурлящий ручей, сквозь обезумевшие хлещущие воздух ивы, к холму, и он кричал на бегу:
— Сумасшедший, сумасшедший, прекрати! Перестань, ты все разрушишь, ты…
Но Ао не слышал его — он был сумасшедшим сейчас, он был дождем, он был ветром, он был пузырями на воде, шелестящим бамбуком, промокшей травой, яростными ивами, он был залитым огнем, оседающей хижиной, остывающим чаем, ветром, прыгающим с неба на землю, танцующим в тучах драконом дождя.
— Остановись, перестань! — метался вокруг него Хо, растопырив пальцы, взмахивая руками, как будто пытался укрыть Бамбуковую рощу от пустого, блаженного взгляда обезумевшего друга. Но Ао не видел, не слышал его — Ао был слеп, яростен и неудержим.
Хо уронил руки и молча смотрел, как кружится и подпрыгивает на холме обезумевший ливень, принявший облик его друга, но не откликающийся на дорогое имя. И ч то ему оставалось делать, когда потоки веселой воды смывали черту за чертой, стебель за стеблем всю тихую, тонкую, нежную Бамбуковую рощу? Хо крикнул пронзительно и грозно — и взвился в воздух, прыгнул легко и мощно, как немолодой, но могучий тигр — обхватил Ао руками и рухнул с ним, и они покатились по склону холма и с плеском свалились с берега в бурлящее от ударов ливня озеро.
Дождь мирно шелестел за стенами хижины. Ветер улегся в ивах у ручья и только изредка приподнимал буйную голову — оглядеться, не поплясать ли еще, но поникал, усталый и равнодушный. Ао сидел у очага, сушил мокрые, сбитые в узлы и колтуны волосы. Хо смотрел на него, поджав губы.
— Как расчесывать будешь? Давай помогу.
— Опять половину выдерешь, знаю я твою помощь.
— Заплетал бы косу.
— Сам плети свою косу, маньчжур.
— Тоже мне, принц династии Ся.
— Без тебя обойдусь.
Хо пожал плечами, поднялся, вышел наружу. И замер без движения и без звука.
— Что там? — сейчас же спросил Ао.
— А ты сам посмотри, — медленно выговорил Хо.
Ао бросил гребень, выскочил, поскользнулся на траве, едва не упал. Хо подхватил его, удержал, поставил рядом.
— Видишь?
Бамбуковая роща стояла вокруг, словно нарисованная тонкой кистью отчетливо и невесомо. И каждый штрих ее был неповторимым, законченным и нерушимым отныне. Тянулся вверх отважный бамбук, ивы, присмирев, опустили в озеро длинные пряди. Озеро лежало гладкое, как стекло. В прозрачном воздухе летели к земле последние капли, половина неба еще была затянута тонкими облаками, но рядом уже высыпали беленькие, аккуратно промытые звездочки, как будто ради них все это и затевалось.
— Надо же, — задумчиво сказал Хо. — Я так давно их не видел.
Лукас и волки
— Был уже один такой — хотел увидеть сам себя. Видишь ли, до того его не было.
— А кто тогда хотел?
— Ну, пока не хотел — его точно не было. А когда захотел, то, наверное, уже появился. Но все равно еще не совсем.
— Я, мастер, ничего не понимаю, — Рутгер помотал головой.
— Чему тебя Кукунтай учил? Меня зовут Видаль.
— Нет, мне так неудобно. Можно я буду звать вас мастером?
— Ишь ты! — усмехнулся Видаль. — Ну зови, раз так. Может быть, ты даже и упрямее меня будешь. Но я тоже упрямый. Раз так не понимается — давай покажу. Иди за мной, след в след.
И они прошли в лесное место — Рутгер сразу узнал его, они уже ходили по этой дороге и недалеко за опушкой была его золотая стена до небес. С воротами. Он было даже обиделся: опять мастер притчами говорит и показывает на тебе же, какой ты есть дурак и простофиля. Но мастер поманил его в другую сторону — глубже в лес, и они пошли по мягкому засыпанному хвоей мху среди высоких сосен. Видаль показал на круглые коричневые шляпки на толстых крапчатых ножках, велел собирать по дороге. Рутгер проворно стянул рубаху, обвязал рукава вокруг горловины. Молодец, похвалил Видаль и достал из-за голенища нож. А сам пошел совсем уж неторопливо, так что Рутгер быстро успел набрать грибов им на ужин, и даже посушить хватило бы.
А потом впереди показалось крохотное лесное озерце с три большие лужи величиной, черная гладкая вода стояла в нем, слегка заштрихованная хвоей. Плоский валун лежал на его берегу, а рядом с ним еще два поменьше.
— Теперь осторожно иди, а то голова закружится. Не пугайся ничего, просто шагай не широко. Давай, давай.
Рутгер сделал шаг — ничего не изменилось. Под ногами было ровно и мягко, вокруг — покойно и просторно. Еще шаг, другой… и как будто мир срезало с двух сторон, что осталась только сердцевина Рутгера, да и та какая-то плоская, тонкая, как папиросная бумага. Весь он оставался сам собой, но как будто часть его в это же время была еще где-то, и там его было меньше, но он все-таки там был. Плоский, как лист. Его зашатало, затошнило. Мастер, не спускавший с него глаз, ухватил его за локоть — но вышло еще хуже. Там, где Рутгер был плоский, мастер был таким же, хотя снаружи оставался весь целый, как всегда.
— Да ты не бойся, ничего не случится с тобой. Или вот отступи на шаг — и всё поправится. Ну?
Рутгер головой мотнул — и чуть не умер от ужаса. У него как будто стало много тонких, плоских срезов его головы, и все они были по очереди его головой, а еще одна — настоящая голова — в это же время была тоже.
— Ой, я не могу, — выдавил Рутгер и очень осторожно отступил назад, прочувствовав при этом множество тонких срезов себя самого.
Видаль отшагнул за ним, присел на корточки рядом.
— Ничего, парень. Я тоже… Мак-Грегор меня отсюда в первый мой приход на руках выволакивал. А я потом долго еще себя щупал и к стоячей воде подойти боялся. Страшное дело, если подумать. А мастер Лукас так живет.
Подумав, добавил:
— Но ему проще. У него только эти вот… — Видаль сделал несколько рубящих движений в воздухе ладонью — Вот эти вот… Только и есть. А как мы — так он не такой, нет. Так что и он к нам совсем выйти не может, и мы к нему — ни-ни. Целиком войти никак. Только такими вот, — и он снова порубил воздух на тонкие пласты.
Рутгер подумал, что, наверное, мастер ждет, чтобы Рутгер спросил, зачем ходить сюда, раз так трудно. Но не совсем же Рутгер дурак? Ходят — значит надо. И спросил совсем про другое:
— А зачем сюда ходить?
И мастер понял его, не поднял на смех, ответил серьезно.
— Вот отдышись, попробуем еще раз. Оно того стоит. Правда же, Лукас? Стоит оно того? — спросил мастер, обращаясь к валуну. И Рутгер заметил, как из шероховатостей и пятен на камне проступает словно бы тень — живая, двигается, дышит. Как будто рисунок на камне: живой человек. И смотрит. Настоящим взглядом смотрит, таким, как у мастеров. И тут стало Рутгеру спокойно. Что страшного может быть внутри этой плоской малости, в которой целиком не поместиться? Там живет мастер. Что бы ни было — мастер совладает и в обиду не даст. Видаль-то сам в той тоньшине не свой, а этот — свой, управитель ее. И Рутгеру захотелось скорее попасть туда и узнать все важное, что там есть и чего он еще не знает.
— Пойдем, — сказал он мастеру Видалю. — Хозяин ждет, чего на пороге топтаться. Невежливо.
Даже огонь, разведенный у Лежачего камня, был одновременно и настоящий округлый огонь, и плоский рисунок огня. Рутгер начинал привыкать, хотя было ему все еще не по себе.
Мастер Лукас сидел на своем камне, вытянув одну ногу и поджав другую, и на ней пристроив красавицу-лютню. Наклонившись к ней, мастер быстрыми движениями выдергивал из ровного ряда струн то одну, то другую, и они отзывались короткими возгласами — Рутгер вскоре не могу уже уследить за движениями мастера, а перекличка струн слилась в одну связную речь. Рутгер не понимал ни слова — но лютня говорила, и говорила с ним. Это он понимал, это и трудиться не надо было, чтобы понять: лютня обращалась к нему. И Рутгер, не имея возможности понимать ее речь, стал рассматривать ее. Она показалась ему огромной и легкой, напомнила надутые паруса кораблей — и так же были натянуты струны, так же округло изгибался корпус, такой же звон чудился от нее взгляду. Те корабли, которые он видел однажды уходящими из гавани Суматохи, никогда не вернувшиеся обратно, те корабли, с которыми летела прочь от берега его душа. С тех пор, может быть, она и заблудилась, сбилась с истинного пути, отделилась от судьбы его рода, стала бродяжкой, даже вот к мастеру одному пристать — и то не удалось, как же быть, и как там девушка Кукунтай, одинокая, как и он сам?
Вот так всё сразу про его жизнь развернулось в Рутгере — и совсем непонятно, как оно может такими клубами ходить, как облака в небе, в этом узеньком мире, где даже не обернешься глянуть через плечо.
И вдруг он понял, откуда взялся этот простор внутри него, это высоченное небо с облаками, и море с парусами, и затопляющая нежность к единственной и невероятной, которой сто лет как нет на свете, но, может быть, тот, который есть вместо нее — и она тоже?
И он опять заметил, как мысли его и чувства его улетают в пространство невероятной глубины и высоты, как будто у них выросли крылья, как будто неразборчивая, но внятная речь лютни дает этим крыльям опору. И он не может следить за музыкой, он весь оказывается в себе.
И почувствовал слезы на лице. И улыбку — дрожащими губами. И увидел, как плачет Видаль и как улыбается Лукас, и понял, что с мастерами творится то же самое, что и с ним самим. И заплакал с облегчением.
— Ну, значит, хватило? — спросил Видаль.
— И ни крошечкой больше, — сказал Лукас. — Только что с ладоней стряхнул потом.
— Значит, так и должно.
— Да.
Рутгер переводил взгляд с одного на другого, не понимая их разговора. Лукас заметил, заулыбался.
— Считай, Хосе Видаль мне эту лютню подарил.
— Да ну вот еще! Я только мелок…
— А без мелка как бы я?..
— Да уж придумал бы что-нибудь, а вот без тебя и лютни бы не было. Да и не в лютне дело.
— Как же не в лютне? — возмутился Лукас. — Я без нее как голый.
— У тебя же гитара была.
— Делась. Сам не знаю, как это могло случиться. И не столько уж я выпил. И прошел потом по своему следу — нет как нет! Ну кому, скажи, могла понадобиться? Кто ее вообще в руки-то взять мог бы?
— Кроме тебя?
— Ну да.
— Может, еще такие же есть?
— Да откуда бы?
— Может, ты ее во тьме потерял? А там она не удержалась, расточилась?
— Ну только если так…
И Рутгеру:
— Я, парень, чуть не рехнулся: что за беда у меня с ними? Одну сломал, другую потерял…
И Видалю:
— Что смешного?
Видаль помотал головой.
— Как будто это уже было когда-то.
— Что?
— Разбил, потерял… Не знаю. На самом деле — не смешно ни чуточки.
— Ладно, я тебя прощаю. За мелок. Но смеяться тут не над чем! Это трагедия, понимаешь, парень? — повернулся он к Рутгеру. — Когда чего-то нет, что точно должно быть. Тебе этот тип уже рассказывал про меня?
Видаль слегка ткнул ногу Рутгера кончиком ботинка. Рутгер понял правильно: чего тут тыкать? Только если правда не годится, нельзя ее говорить.
— Нет, — ответил Рутгер, изо всех сил глядя честными глазами. Это он потом Видалю сказал, когда ушли от Лежачего камня подальше: что же это вы, мастер, меня плохому учите? А Видаль ему и ответил: я тебе не мама и не папа, а что правду говорить не всегда бывает к месту и ко времени — так это не плохое знание, а очень полезное. Рутгер хотел еще поспорить, потому что чувствовал в словах мастера слабину, да и не был согласен. Но Видаль сразу сказал, что спорить не будет, и если у Рутгера мнение другое — это его святое право. Опять же — не мама, не папа, соглашаться не обязательно.
Я как будто когда-то был… А потом не стало меня. Это, думаешь, тебе страшно, что ты распадаешься на пластины, как сломанный веер? Ты попробуй представить, что тебя вообще нет. Ты себя чувствуешь… но не видишь. Закроешь глаза — и все в порядке: можно помахать рукой, потрогать себя за нос, ущипнуть за ногу, похлопать по колену… Топать ногами, прыгать, кружиться, танцевать. Но откроешь глаза — и где ты? Где твои руки, ноги? Живот?! Закрой глаза, хлопни по нему — вот он! Открой — и даже нечем хлопнуть.
И так я болтался неизвестно где неизвестно сколько, и чуть с ума не сошел. Потому что всего остального тоже видно не было. Как никогда и не было ничего. А может, и впрямь не было, но мне это было очень странно. И очень страшно.
Но постепенно я привык, стал засыпать и просыпаться, вспомнил что-то про себя. Много чужих слов обо мне. Как будто я знаю, каким я должен быть — но не знаю, каков я, и даже кто я — не знаю. Как будто мне рассказали, что я есть, а я и поверил. Говорю же, чуть с ума не сошел. И так вот долго меня не было, ничего не было, и ничего не случилось.
Однажды все-таки случилось хорошее. Я почувствовал спиной опору. Твердое. К чему можно прислониться. И понял, что все это время — неизвестно сколько его — я был сам как камень твердый и скрюченный. А тут распластался — на камне вот этом, только я не видел его. Распластался и стал мягкий как воск. Потому что вот камень — он был твердым, и я мог стать мягким теперь. А когда проснулся — как-то так само собой получилось, что я открыл глаза — и стало светло. Увидел камень подо мной, увидел озерцо это, увидел лес вокруг. И только тогда понял, как долго я вообще ничего не видел. Вообще ничего. Только не как слепой, а как будто и видеть было нечего. Говорю же… что-то случилось со мной. Может, подрался с кем, может, головой об стену приложили, или болел. Но какое-то помутнение со мной было, а почему — никак не вспомнить.
— А как же вы себя увидели?
Лукас подозрительно посмотрел на Видаля.
— Он тебе уже рассказал, да? Врунишки вы.
Рутгеру теперь ничего не оставалось, только продолжать врать. Но в душе он поклялся, что когда-нибудь мастеру это припомнит.
— Да так же вот и увидел. Стал оглядываться, знакомиться с местностью. В озеро заглянул. Что мне себя просто так не видно, я уже и не думал — привык, не замечал. Но когда в озеро смотрел, там должно было показаться мое отражение. Да ладно, парень, что я… Сам тебя враньем попрекаю, а сам же… Только это не сразу случилось. Сначала я на своем камне освоился. На другие перепрыгивать научился. И вот на этом стоячем — была нарисована гитара. Там еще буквы были, затертые, их уже давно дождем смыло. И гитара. Синяя. И как же я, парень, на нее смотрел — глаз оторвать не мог.
У меня ведь раньше лютня была. Но я ее… сломал я ее, совсем сломал, разбил вдребезги. Нарочно. И я с тех пор думал, что мне больше… Заказано. Запрещено. Н дозволено. Даже и не задумывался, почему так. Но — уверен был. Судьба такая. Кто судил, кто не дозволяет? Не важно. Ошибся один раз — да не просто ошибся, а в главном. И теперь всё, теперь деваться некуда, всё сложилось, как сложилось, и ни шагу в сторону от судьбы. Понимаешь?
Рутгер опустил глаза:
— А что, разве не так?
Видаль ткнул его в плечо кулаком.
— Если бы так, все слишком просто было бы.
— А ты сам-то? — язвительно отозвался Лукас. — Сам-то что?
— Отстань. Сегодня ты про себя рассказываешь. Вот и рассказывай. А за меня не говори, я сам за себя скажу. Когда надо.
— Когда ж твое надо наступит? Уж куда дальше запутываться с Ганной?
— Замолчи, — тихо сказал Видаль. — А то я уйду сейчас и не приду больше.
Рутгеру захотелось исчезнуть из этого места — и он бы исчез, с новым-то уменьем. Но не успел придумать, куда. Рука Видаля сжала плечо, удержала на месте.
— Ничего, не обращай внимания. Лукас про себя говорит. Правда, Лукас?
— Правда, правда, — досадливо отозвался мастер. — Извини. Сам знаешь, не медом мне там намазано, в памяти той.
— Ну и не заводился бы.
— Нет, потом легче становится, если рассказать. Да и урок хороший. Которому лучше не на своей шкуре выучиться.
— Это правда. Только разве это возможно? Все равно все одни и те же глупости творят, нового ничего не придумать.
— Ну, могу и не рассказывать, — обиделся Лукас.
— Расскажите, мастер! — кинулся Рутгер, испугавшись, что мастер и в самом деле теперь замолчит. — Как это было, что это было, почему? И за что вас так наказали?
— Никто меня. Никто. А сам я себе выбрал. Только, понимаешь, мне тогда казалось, что просто так, с одной лютней, я никто, ничто и звать никак. Ничего особенного. Обычная — обыкновенная музыка.
Тут Лукас засмеялся так, что аж закашлялся, и Видалю пришлось стучать его по спине.
— Обыкновенная музыка ему, ну надо же, — ворчал Видаль, пока Лукас продыхивался. — Тут мудрено не поперхнуться.
— Ага, — совсем простецки улыбнулся Лукас, вытирая лицо. — Ничего особенного. Как у всех. Как будто мало меня и лютни, а нужно что-то еще, чтобы смысл в этом был. И что-то еще не абы какое, а жуткое и кровавое, чтобы…
— Ты кончай парня пугать, Лукас, — вдруг сказал Видаль. — Ты бы видел, какие у тебя глаза стали.
— А какие?
— Мечтательные. Как будто и впрямь без кровавых ошметков одной музыки недостаточно.
— Нет, — замотал головой Лукас. — Это всё не так. Это мне раньше, когда-то давно, очень давно — в голову взбрело. Ну и наломал я дров по молодости…
— У нас в селе, — сказал Видаль Рутгеру, — вот тоже считают, что просто так музыка — не настоящая. Поэтому делают флейты из костей человеческих. А сверх того, еще живых людей морилкой морят, что твой комод. Этих самых ууйхо на загривок сажают, чтобы кости были звончее. Всю жизнь так промаринуешься — а как придет пора помирать, в самый раз будешь годен на музыку. А без этого и музыки не бывает.
Лукас передернулся весь:
— Мне никто тварей на загривок не сажал. Сам я их по своему следу пустил. Лютня была у меня не простая, а заговоренная. Наколдованная. Кто ее возьмет — уже из рук выпустить не может. А меня предупреждали. Уж так предупреждали, что только дурак бы отказался. И руки станут повелительные, и звуки выйдут упоительные. И что иной музыки не бывает, иная музыка — так, баловство. А только эта настоящая. Как тут не поверишь, когда и про небеса, и про бездну, и между ними ты — вровень с ними, великий и трагический…
— А разве так не бывает? — спросил Рутгер.
— Бывает по-всякому. И там музыка, и там. Можно из смерти играть. Можно из жизни. В том и подстава была, что я поверил только в музыку из смерти и мучений. В то, что это — единственный источник. А если не единственный, то, по крайней мере, единственный настоящий. В общем, если двумя словами — я принял проклятие за благословение. И я это проклятие принял. Взял эту лютню, которую мне оклеветали, и принялся ее… насиловать. Потому что условие такое было: ни дня без музыки, ни часа. Стоит умолкнуть — и сожрут.
— Кто? — выдохнул Рутгер.
— Мне сказали, что волки.
А больше он не смог говорить один: притянул ближе к себе лютню, коснулся лбом колков, пальцами зацепился за струны — и заиграла музыка. Только совсем не такая, что прежде, когда Рутгеру пришли на ум и корабли, и родной оставленный дом, и любовь его, и все маленькие и великие надежды его жизни. Шероховатое режущее слух бренчанье, будто ржавые бубенцы: спущенные струны не в лад, нарочитое шкрябанье ногтей по деке. И как будто кто-то другой, незнакомый, оказался перед ним — не было Лукаса, был чужой затравленный человек, стиснутый страхом и присыпанный, как пылью, усталостью.
Словно наяву Рутгер увидел то, что было когда-то. Острые плечи в потертом сукне, несвежий ворот рубахи, шею в серых разводах, по которой как раз в этот миг судорожно дернулось адамово яблоко, тонкокостный подбородок в неопрятной щетине и волчий оскал кривых, острых зубов. Эта жуткая гримаса испугала Рутгера, но он двинул взгляд выше и встретился с музыкантом глазами.
Как прекрасна была его улыбка, сквозь непомерную усталость, сквозь въевшийся неотступный ужас, сквозь острый внезапный испуг этого мгновения, как она была прекрасна! Светла, неистребима, лучезарна.
И лютня в его руках была другая — чуть меньше и округлей, темнее, а вся дека исчерчена, исшоркана ногтями. Такая же затравленная и усталая, как ее музыкант. Пальцы, темные от загара и грязи, с равнодушной легкостью сновали по ладам и струнам, извлекая из инструмента однообразную и небрежную мелодию. Она была милой, она была приятной, но как будто лишенной жизни.
Рутгер сам не заметил, как придвинулся ближе к Видалю, прижался к нему. Словно и вправду волки были рядом — только увидеть их нельзя, как нельзя увидеть свои уши, сколько ни вертись, а они есть. И волки есть, и дыхание их — горячо и прерывисто, ерошит волосы на затылке. Рутгер почувствовал, как заныла вверху шея, там, где оставались шрамы от серого страшного зверя-ууйхо. А может быть, и не от волков было так страшно. Потому что было — не было, а прямо сейчас под усталый сбивчивый шорох струн происходило. Музыкант говорил еле слышным хриплым шепотом, едва-едва было слышно его за струнами.
— Не могу. Не могу больше, не могу так. Им ведь все равно, что я играю. Я понял. Когда понял — обрадовался. Как я обрадовался! Не всегда ведь осеняет, не каждый день распахиваются небеса… Когда прольется свыше, а когда и высосет до донышка, досуха… Потом — молчать, молчать. Только молчать. Души не торопить. Уродцы рождаются, если торопить. Гадко самому. А тут молчать нельзя. Тишины нельзя. Дать созреть плоду нельзя, рви сейчас, завязи рви, голые сучки обламывай! Как страшно жалел о тех мелодиях, которые вот так срывал, зная, что им никогда уже не обрести полноты своей, не расправиться. Зная: всё, что только начинало угадываться, не угадается уже, не придет в мир. Звуки, звуки живые… Разве птенцов бросают в небо, когда они еще и не оперились? А я бросал. Потому и обрадовался, когда понял, что им всё равно. Просто бренчать по струнам, просто издавать какой-то звук, в меру сладкозвучный — да и хватит с них. Разве они понимают в музыке? Вот послушай…
Он ткнул подбородком вниз, туда, где сновали неутомимые пальцы на охрипших струнах.
— Им нравится. Я обрадовался. Отдохну, не стану заветное отдавать на убой, чтобы откупиться. Так побренчу. А когда придет настоящее, дам ему отстояться, вызреть, набрать силы и звонкости…
Нет, невозможно. Я пытался. Я хотел. А потом — пальцы сами, как по проторенным дорожкам, как будто по-другому и нельзя. И слух привык. Уже мне самому всё равно, понимаешь?
Он взглянул Рутгеру в глаза — темным невидящим взглядом.
— Мне всё равно.
Руки опустились, он только придерживал лютню предплечьями. Веки наползли на зрачки. Он оставался так считанные мгновения, всё более оседая и расслабляясь.
Вдруг по спине его прошла судорога, подбородок вскинулся, он взмахнул руками, едва не выронив лютню — и вцепился в нее, и снова пустил пальцы в лихорадочной пляске по струнам и ладам.
— Слышал? — спросил он сиплым шепотом. — Они всегда где-то здесь. Я и не вижу их, только слышу. Играю и слышу. Я знаю их по именам. Не назову, они этого не любят. Но я знаю, поверь, я… знаю.
Рутгер задрожал и сильнее прижался к Видалю: волки были здесь совсем рядом, тот самый темный лес был вокруг, в котором водятся волки — в чащобах и дебрях, куда не пробьется солнечный луч, ходят валами, как волны в бурном море, смутные в темноте, огромные, опасные.
— Слышал? — переспросил музыкант. — Я для них стараюсь. Только для них. Да и для них не стараюсь уже. Трень-брень, дзинь-динь. Никакой разницы. Когда совсем уж наплюю на всё, так, наобум треплю струны, они приблизятся, подойдут, водят слепыми мордами, скалятся, нюхают, нюхают… Или вот, бывает, забудусь — тут же крадутся. Может быть, и они устали меня караулить?
Такая печаль вдруг полилась сквозь Рутгера — неизбывная, бесконечная, широкая. Лютня только редкие нотки роняла в этот поток — словно капель. Сам Рутгер был музыкой и печалью. А музыкант говорил, что вовсе он не музыкант, а заложник. От страха — какая музыка? Без тишины — какая музыка? Без молчания? Без сновидений и грез? Тихое зудение: я еще здесь, я еще живу. Зачем?
И Рутгер видел — сам, своими глазами, хотя Видаль потом уверял, что ничего этого не было, был только мастер Лукас и его новая лютня, нарисованная мелком, случайно попавшимся на глаза Видалю на окраине Суматохи. Рутгер видел, как музыкант встал с ясным взглядом и смущенной улыбкой. Рутгер рванулся к нему, но не успел, и мастер Видаль удержал за плечо — синяки потом сам же лечил горной арникой. А музыкант поцеловал лютню и с размаху ударил ее о камень. Лютня охнула и распалась на изломанные дощечки.
У Рутгера потемнело в глазах.
И следующее, что он увидел потом — была дорога, та самая, по которой они с Видалем пришли сюда, та самая, которую за опушкой леса перегородила теперь золотая стена. Пятнами света вымощена дорога, поверх мягкой хвои — янтарем, и воздух пахнет мхом и смолой, и чирикает птаха где-то над головой, сердито, настойчиво так… И тишина. И нет ничьих следов — ни человечьих, ни волчьих.
— Я тогда думал: не себя, так музыку спас. От себя. От пытки. А сам погибну — и поделом. Но я не дождался волков. Была только тишина. Мне было тихо, мне было пусто, я был уверен, что это навсегда. Для меня — навсегда. Я ведь верил, что я — неудачник. Что я сдался, сдулся, не одолел. Не преодолел. Не превзошел. Да мало ли что я тогда думал. Я ведь не знал, как на самом деле устроена музыка.
— А как? — потянулся к мастеру Рутгер.
— А вот так, — ответил мастер, легонько стукнул пальцами по деке, и заиграл колыбельную, которую Рутгер совсем, совсем не помнил — но сразу узнал.
Жизнь как есть
И первое, что он тогда сделал — проснувшись утром, с похмельной головой, с плывущим в глазах, слегка двоящимся миром и неловкими, как не своими руками, — взялся обустраивать жизнь. Как есть, так и есть, большего не дано? А руки-то не отнялись.
Собрал одежду, взгромоздился на доску и покатил к воде. Речка это была, течение уже наметилось, только вот прибегала вода из ниоткуда и утекала в никуда. Олесь сказал: побольше места отрастим, подлиннее река развернется — позовем Мак-Грегора, он мост через бегущую воду наведет, другой берег будет, еще шире место станет тогда. Для моста, может, и маловато берега было за оврагом, а для постирушек — в самый раз. С доски до воды тянуться было несподручно, слез с доски и сам макнулся в воду, вместе с рубахой и портками. Лежал на песочке под бережком, голову оставил на травке, руками одежду придерживал, чтобы течение в невидимое никуда ее не унесло. Умелой прачки из него не вышло, так, пожмакал в воде и сам натерся, полежал еще. А все свежее стало, и сам бодрее себя чувствовал, когда ползал по траве, раскладывал сушиться. Пока закончил — весь облепился травинами и вспотел, пришлось заново обмываться. Придумал, как пристегнуть ноги к доске, чтобы одними руками себя в воде двигать и так плыть. Не решился попробовать, пока не увидит другого берега и хоть немного реки выше и ниже по течению. А то ведь глазом моргнуть не успеешь, как унесет туда, где ничего нет, и тебя не станет тоже. Может, оно бы и к лучшему, но эти мысли были не всерьез, а как будто так надо думать, так положено. Эта вода, обнимающая, текущая вокруг тела, эта липнущая к локтям, к груди трава с ее свежим запахом, капли, высыхающие на коже, солнце, бьющее в глаза, даже мокрая ткань в зубах — это была жизнь. Его жизнь, как есть. И она ему неожиданно нравилась. Это было удивительно: понять, что жизнь ему нравится тем, что она есть. Куда-то делись все упреки, которых длинные списки составлены были у него и адресовались судьбе. Впервые с того дня, когда упругий настил лесов ушел из-под ловких проворных ног, Петро не чувствовал себя обделенным и хуже того — ограбленным. Летел ведь камнем вниз — и вокруг, рядом и следом летели доски, балки, кирпичи, ведра с раствором. Голова цела, шею не сломал, руки, правда ведь, не отнялись. Не чудо ли?
А кто спросит, на что такая жизнь нужна, тому у Петра ответа нет. У Петра к нему только вопрос есть: а тебе твоя — на что? Все ли в ней так, как загадывал? Всё ли по вкусу, по душе? Однако ж не отказываешься, не швыряешь, как червивое яблоко, прочь. Это когда много яблок уродилось, будешь бросаться. А когда голоден и одно у тебя яблоко, и больше взять негде — как миленький обгрызешь вокруг червоточины все до последней кисло-сладкой капли, еще и косточки растреплешь зубами, добудешь горьковатую тугую мякоть, хоть с полноготка ее там, а не побрезгуешь. Вот и жизнь — одна. Чудо, что вообще случилась! Чудо, что еще длится.
Сам Петро дивился своим мыслям, а особенно тому счастью, что затопляло его лишь на половину живое тело. Как будто в тяжких трудах месильных, в скорбных похоронах неживого, в истраченных надеждах избылось его отчаяние и иссякла тоска. Как будто благим был запрет Чорной матери пытаться обойти судьбу: больше не надо было тратить силу на пустое упрямство, можно было не неволить уже душу, не лишать ее желанной тихой заводи примирения.
И когда он остановился и опустил руки, оказалось, что вокруг него и внутри него — жизнь.
И он лежал ровно посередине этой жизни, на спине, раскинув руки, и смотрел на солнце сквозь ресницы, а солнце все равно было ярче и сильнее, и незачем было пытаться его пересмотреть.
Олесь его там и нашел.
— Ого! А чего мое не прихватил?
— Так ты же вот в нем. Снимай, я постираю.
— Что ж, я до хаты побегу без порток?
— А кто увидит?
— Ну, давай! — обрадовался Олесь и стряхнул с себя несвежую одежду, кинул к воде. Так упорны они были и так в запале забыли обо всем, что сами себя не видели и не чуяли. А теперь открылось всё — и нестерпимо стало оставаться в прежнем.
Прыгнул в бегучую воду, окунулся — далеко от берега не уходил, тоже не доверял невидимому. Вышел, мотая мокрыми волосами, попрыгал, стряхнул ладонями воду с тела.
— Ну, я тут пойду, посмотрю…
— Ну, — кивнул Петро. — Я тут тоже…
— И ладно, — заулыбался Олесь и кинулся бегом, домой, одеваться — и в обход, без остатка предаться делу своему, высматривать новый, свежий, трепетный мир.
Петро остаток утра пробездельничал, валялся на траве до полудня, напитался солнцем, травяным жарким духом, тишиной. То ли спал, то ли думу думал — и сам не мог понять. Виделось ему разное, а чаще всего виделись карие очи, черные брови, жаркий румянец на щеках. Какая стала! Глазами и не узнал бы: та ли скромница, тихая Ганнуся с опущенными ресницами в полщеки? Он-то думал: давно забыла, замужем давно, не ждет. И правда, не ждет, замуж собирается — а помнит. Болит ей там, где память об их зорях, вместе встреченных, обещаниях, друг другу данных. Откуда ж ей знать, что ее Петрусь не другую под венец повел, не забыл свою коханую, а вот — был человек и нет его, полчеловека всего осталось, в хозяйстве пригодится, но не жених. Кабы до того обвенчались, другое дело, что бог соединил… А теперь Петр ей себя навязывать не станет, словом данным не попрекнет. Лучше пусть выплачет обиду да идет за другого. Пусть живет счастливо.
Слезы тихо катились по висками, впитывались в землю, травяные корни тянули их в себя, поднимали над землей, выдыхали с влагой. В небеса уносились петровы слезы, легкий ветерок поднимал их в высь, развеивал. И развеял.
Солнце высоко стояло, в самой вышине неба, как гвоздь вбитый. Влез на доску, сложил одежду на край — и покатил до хаты. Не понравилось. Доска обстругана — и добре. Колеса крутятся — и спасибо на том. Шест ладонями отполирован, но коряв, без красоты. Как вот если пробку от плескача потерять, то и будешь его чем попало затыкать, хоть тряпицей свернутой. Абы чем и свою жизнь… Махнул рукой: что толку себя грызть, так до кости прогрызть можно, а что изменится?
Развесил по плетню сырое, взял из сундука сухое — Олесь с ним одеждой делился без жадности. А у сундука бока и крышка все в резьбе, да в такой простой, что, кажется, и самому такую ножиком навести — одно баловство. Пока катался по полу, вдевал негодные ноги в портки, натягивал сорочку, — глазами все на сундук косился, так и сяк прикидывал. Сполз по ступеньке во двор: в руке нож, в зубах ножик, в голове готовый узор для доски.
Олесь вернулся с обхода усталый и радостный.
— Тебе бы липовую доску, ловчее выйдет.
— Какая есть, — проворчал Петро, да тут и спохватился: день прошел, а он, выходит, только успел, что доску порезать без толку. Но все-таки спросил: — Ты когда в Дорожки теперь?
Олесь почесал затылок.
— Да я бы хоть завтра, но теперь все в рост пошло — я только по ночам уходить смогу, а какая по ночам торговля?
— Ну да, ну да. А если бы я вот, скажем, днем всё купил, а ты бы ночью пришел — и вместе донесли бы? Я вот еще подумал: может, каких кур завести? Яйца от них. Так вот сейчас пришли бы домой, хлоп яиц на сковородку, да с салом…
— Еще и кабанчика взять?
— Можно и кабанчика. Хотя сала в погребе и так довольно?
— И еще принесут, а хлопот с кабанчиком…
— Ну да… А с курями бы я управился, а если еще козу, так и молоко…
— Да ты развернулся, гляди! — засмеялся Олесь. — Дела хочешь? Я бы тебя гончарному учил, только круг вертеть…
— Я уже думал. Круг вертеть мне точно нечем. Так я еще про что: я бы досок купил. Знаешь, мне чтобы по хозяйству — повыше бы чего соорудить. Чтобы мне и до печи доставать. Готовить. Что ж мы все сухомяткой? Тебе, понятно, не до того, а я вот спрошу там баб, как борщ варить, а?
— А как это устроить? — загорелся Олесь. — Если колеса большие, как у телеги?
— Нет, тогда колеса вокруг будут, что твой плетень, через них и не дотянуться ни до чего. Я думаю, если кресло на колеса поднять? И под спину упор, и руками опереться удобно.
— А как толкать его будешь?
— Да шестом, как сейчас.
— Не, в хате неудобно. А смотри, если колеса так поднять, чтобы не загораживали, но чтобы ты до них мог достать руками — и толкать?
— Да нет, большие… Если вот так по высоте, то впереди и сзади будут сильно выступать. В хате и не развернешься.
— А мы вот так, смотри! — Олесь согнул ноги в коленях, как будто в кресле сидит, стал показывать руками. — Вот здесь тебе под руки колеса большие, а вот здесь, спереди… А если подножку тебе сделать, чтобы ноги не болтались?
— А хорошо бы.
— И под нее — пару маленьких колес, вот как эти. И всё. И поехал.
— Нет, — нахмурился Петро. — Все равно телега выходит вот такущая… не развернуться в хате.
— А, — беспечно махнул рукой Олесь. — Наша хата, как хотим, так и будет. Стол передвинуть — не много хлопот. А к печи тебе лестницу еще приставим. А если все равно тесно будет, так кто ж нам не даст новую хату, еще пошире, поставить? Лето здесь еще нескоро кончится, знай себе живи в свое удовольствие!
Тут Петро опустил голову.
— Слушай, — говорит, — я ведь к тебе пришел не в гости. Я ведь по своему делу. А теперь мне, выходит, пора и честь знать.
— Да, — согласился Олесь. — Не в гости пришел, вон сколько глины перемесил. И не вся ведь на погост ушла. Горшков сколько-то я настрогал, тарелок, мисок. Продадим — деньги будут, купим досок, брусьев. Колеса закажем у колесника, пусть будут хорошие колеса. Круг вертеть ты не можешь, правда. Но в помощники годишься. И вон — если дом обиходишь, кур там всяких… Я бы рад был. Если останешься.
— Нет, — со злостью махнул рукой Петро. — Нет, не годится это! Ты сам подумай, я эту-то доску развернуть могу, только в землю упираясь. А если кресло? И до пола с него не достать? И тяжелее оно? Не получится!
— Ты оставайся, — присел на корточки Олесь. — Если только никакой надобности у тебя нет там… где-нибудь… Может, ты домой собрался, к родителям… Тогда, конечно, иди. Но я буду рад, если останешься.
— И я буду, — признался Петро.
— А колеса… Я тебе скажу. Что глину оживлять — не наше дело, про это Чорна, может, и права. А тут колеса. Дело самое наше. Неужто не справимся?
Петро вздохнул, глядя в сторону, не ответил.
— А еще резцов тебе надо купить. Там на ярмарке и купишь, у резчиков посмотри, поспрашивай. Может, кто возьмется поучить, деньгами заплатим. Будет у тебя свое ремесло, не только мне помогать.
— А если она опять придет?
Олесь махнул рукой: не придет.
И Петро ему сразу поверил и остался. И она больше не приходила.
Ученик сапожника
Рутгер ушел до свету, когда Видаль еще спал.
Нигде его не было. Не горбилось лоскутное одеяло, и не раздавался из-под него тонкий затейливый храп, на который Рутгер оказался горазд. Не стучал он подошвой по ступеньке крыльца, как часто бывало: проснется среди ночи, выйдет, закутанный во что под руку попалось, на крыльцо, сядет там и притоптывает ногой, и стучит, и стучит, пока мастер спросонок не рявкнет на него. Не скрипели ручки ведер, с которыми он ходил на ключ за свежей водой, не хлюпали в сырой траве стоптанные башмаки мастера, надетые на босу ногу. Не гремела ложка о горшок, не шуршала крупа, не скрипели половицы в доме… Нигде не было его слышно, и не видно было нигде. И птица, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую, тоже его не слышала, о чем сообщила тревожным прерывистым скрипом.
Видаль выскочил в мятых подштанниках на крыльцо, поежился от висевшей в воздухе тонкой прозрачной сырости, переступил босыми ногами по холодным влажным доскам, огляделся. Вернулся в сени — не было куртки, новой, позавчерашней, не было новых крепких ботинок, купленных взамен унтов. Видаль вспомнил, как отнекивался парень, говорил, что ему не надо, так обойдется. Честный какой, уже тогда замышлял побег — как будто кто-то неволит его, как будто не отпустят, а отпустят — так в дорогу не соберут. Дурак, дурак! А сам-то? Видаль вернулся на крыльцо. Вот так же поди и мастер Хейно стоял здесь, озираясь, когда Хосеито-дурачок сбежал биться с матерью ууйхо. Вот так же прикидывал, что с собой взять, как выручать безмозглого. Только мастер Хейно шел на смерть. А Видалю что — прогуляться до Суматохи. Нынче уж точно Рутгер в Суматоху ушел, больше ему некуда. На Белый берег он уж не вернется, к Кукунтаю обратно проситься не будет. Стоп, а если все-таки не в Суматоху, то — куда?
Может, просто до стены своей решил прогуляться, думал Видаль, натягивая штаны. Сделать там ворота, как обещал, чтобы людям было где проехать сквозь нелепое это великолепие, слоновую кость и золото, воздвигнутые до небес. А то к мастеру Лукасу рванул — там же поблизости. Видно было, что-то важное он от Лукаса услышал, что-то понял такое, чему никто другой научить не смог. Значит, решил Видаль, обуваясь, загляну и к Лукасу. Куда еще?
Нет, понял Видаль, слишком ровно застелена постель, слишком тщательно завернут в тряпицу хлеб — а краюху отрезал изрядную мальчик Рутгер, старательный, но торопливый и размашистый. Так ровно у него ничего никогда не получалось. Значит, с особым тщанием, как делают в последний раз, прибирал за собой. Куда же он?..
А если его зашвырнуло, куда свет от звезд не летит? Если занесло в такие закоулки Тьмы, где существование отменено на веки вечные? Разве мальчишка сможет себе под ноги твердой земли восставить, разве сможет увидеть прозрачный, незримый воздух, без которого ему там не выжить? Не попадая в рукава, Видаль боролся с курткой, а птица с криками скакала перед дверью и торопила, звала скорее в путь. На поиски. На помощь.
Оскальзываясь на глине, в темноте при редких звездочках пробежал по Голому склону — не было там Рутгера. Задыхаясь, метался по всем известным ему гиблым местам — они норовят притягивать к себе сбившегося с пути, а выбраться с них куда труднее даже опытному ходоку. В этой безнадежной тьме, в этой сиротливой пустоте столько тоски клубится, столько отчаяния, что поневоле забудешь, куда шел, где свет, где дом, где ждут… Видаль сам, такой, какой нынче был, испуганный, растерянный — едва не сбился с шага, едва не увяз. Остановился посреди галечной россыпи — голой, холодной. Кургузый лоскут мира посреди бесконечного ничто. Видаль остановился, огляделся и не смог вспомнить, что он здесь делает. Беспамятство накрыло звенящим куполом. Кто он? Откуда и куда? Зачем он вообще живет на свете? Обессилев от бессмысленности, Видаль сел на холодную гальку, вытянул ноги. Зачем куда-то идти? И здесь так же пусто и непонятно, как везде. Некуда спешить, негде искать смыслов.
Но что-то мешало, что-то вызывало досаду — какая-то нехватка, недостача. Галька и галька, чего же ей не хватает?
Нагнулся, подобрал блеклый камешек. Что-то было про него важное… когда-то… галечка… галечка морская… должен быть берег… мост? Мак-Грегор? Есть такое имя. Кто он? Не смог вспомнить про этого неведомого Мак-Грегора ничего — даже откуда знает его, вспомнить не смог. Так и потянуло к загадочному Мак-Грегору, потому что всего в мире и осталось: галька и Мак-Грегор, галька — вот она, с ней все ясно, а что за человек?.. Встал торопливо, не давая безразличию затянуть обратно, шагнул широко, точно зная куда: к какому-то шотландцу по имени…
…Овечка шарахнулась из-под ног с испуганным блеянием. Солнце заливало Долгую долину, золотило траву и листья сада закатным золотом, алела черепица и сверкали окна — а на крыльце сидел сам Мак-Грегор с трубкой в зубах и хмурился.
— Прости, Мэри! — воскликнул Видаль и учтиво поклонился мак-грегоровой жене. — Я нечаянно. Я… Хэмиш! Так вот ты какой! Смотри, что я тебе принес!
— Опять? — возмутился Хэмиш. — Спасибо, конечно, но мы бы обошлись…
— Да нет, просто оттуда же!
— Вот и выкинь ее, а? Подальше?
— А если понадобится?
— Знаешь, Видаль, не в обиду будь сказано, я иногда думаю — то ли что-то из твоих подарочков надобится, потому что что-то случается, то ли что-то случается, чтобы твой подарочек понадобился…
Видаль растерянно посмотрел на гальку на ладони.
— Правда что ли? Я не думал…
— А подумал бы. Если бы не твои зеркала — Рутгеру бы и в голову не пришло…
— Ну и что с ним случилось? Все к лучшему!
— А если бы?
— Вот тогда бы и… Рутгер! — вскричал Видаль, окончательно все вспомнив.
— Что с ним? — вскочил со ступеньки Мак-Грегор.
Видаль торопливо рассказал, как проснулся утром, как не нашел малого нигде в Семиозерье, как кинулся искать по гиблым и нерожденным местам, как сам чуть не иссяк на стылой гальке.
— Все проверил? — спросил Хэмиш, задумчиво заглядывая в трубку.
— Вроде все, — ответил Видаль.
— Ну, тогда пошли ужинать.
— А как же Рутгер?
— Ну, если его там нет, то он в другом каком-нибудь месте. Неопасном.
— А вдруг вообще пропал, промахнулся мимо места, канул во Тьму?
— Тогда тем более спешить некуда.
И в самом деле, подумал Видаль, что это я о самом плохом сразу? Может, парень домой вернулся, просто вернулся домой.
— А кто родители у него?
— Я не знаю. Кукунтая спросишь. Ужинать пойдем. Мэри нас догонит. А камешек брось, брось…
Рутгер нашелся в неопасном месте — в Суматохе, где всегда то ли поздняя весна, то ли ранняя осень, благодатное тепло и уютная свежесть, никаких потрясений, никаких бед, кроме тех, что люди сами творят с собой и друг с другом. Дождь всегда идет ночью, баюкает спящих, умывает листву и пышные клумбы, наводит свежий блеск на булыжные мостовые и румяные черепичные крыши. На рассвете облака живописно толпятся над морской купелью, тают в блистающих лучах новорожденного солнца, когда оно бодро, неудержимо поднимается по левую руку бронзового Видаля. Вечером солнце освещает его справа, утомленное, клонящееся к роскошной неге заката. Розы, каштаны и акации цветут здесь, не различая времен года, время от времени кроны деревьев вспыхивают алым и золотым, редеют, облетают — но черные ветки, воздетые к небесам, немедленно бывают украшены мириадами разноцветных фонариков, а розы цветут, цветут… И то, что люди терзают и мучают друг друга, никак не спишешь на несчастливый климат, затяжные дожди или утомительную сушь, наскучивший штиль или злые безумящие ветра.
Подзатыльник едва не смел Рутгера с табурета, он удержался, расставив ноги и взмахнув руками, опутанными дратвой.
— Да не маши ты! — вновь замахнулся мастер. — И так все закрутил, запутал, это ж надо умудриться! Что тут путать, скажи? Что?
Рутгер наклонил голову ниже и принялся осторожно разбирать скрученные волокна. Кислый дух от мокнущей кожи, слегка сдобренный запахом еловой смолы и медового воска, заставил Видаля придержать дыхание. Он молча оглядывался, пока привыкал дышать здесь после нежной мороси Семиозерья, после яблоневого аромата Долгой долины, после пустых, не надышанных еще людьми нерожденных мест. По стенам висели связки кож и мотки дратвы, и ножи, и клещи, и плоскогубцы, и шилья, и молотки, разгонки, рашпили и всякие особенные, вовсе непонятные Видалю инструменты. На полках выстроились пары обуви, отдельно — чиненой, отдельно — новехонькой, с блестящими глянцевыми носами, с бархатистой замшей язычков, на тонких ножках каблучков, в щегольских рантах.
— Чего надобно? — неприветливо глянул сапожник на Видаля. По виду посетитель никак не выглядел серьезным клиентом. Стоптанные ботинки говорили скорее о долгих дорогах, чем о толстом кошельке.
— Мне-то? — приподнял шляпу Видаль, одновременно другой рукой придерживая за пазухой птицу. — Мне — вот с ним поговорить.
— А он тут не гостей развлекать посажен, — резко ответил сапожник. — Вот закончит работу — тогда и говори.
Видаль порылся в карманах и выудил монету побольше да потолще. Сапожник мотнул головой, уже со злостью:
— С этим к мамаше Коко за углом. Там вам за ваши денежки и поговорят, и чего хотите. А здесь — работу работают. Ишь! — развернулся он к подмастерью. — Что уши развесил? Давай исправляй, что напортил.
Видаль поймал сердитый взгляд Рутгера, уяснил, что и тот ему не рад, и вышел на улицу: до ночи оставалось не так много, а мы не гордые, подождем.
Но Рутгер вышел к нему уже в темноте, когда в листве зашуршали первые капли ночного дождя.
Вышел — сутулясь, голову отвернув, так что и сам в глаза не смотрел, и лицо его разглядеть было трудно. Но по тому, как он наклонил голову, как свел плечи, Видаль понял. С шумом втянул через ноздри воздух и быстро протянул руку к затылку Рутгера. Тот резко отбил его руку.
— Не лезь.
Видаль отступил на шаг, руки убрал за спину.
— Не лезу. Ты сам свой. Только как же ты… Зачем?
Рутгер повернул к нему лицо — и Видаль увидел все: сияющие под разноцветными сполохами льды Белого берега, клубящиеся туманы Бамбуковой рощи, солнечные потоки, вплавленные в изумруд — Семиозерье, стену до небес из слоновой кости и золота, вольную волю идущего сквозь Тьму, все чудеса оставленного за порогом сапожной мастерской мира. И смешливые быстрые глаза круглом на темном лице — мастер Кукунтай, радость и неусыпимая тоска сердца.
— Никак мне без этого, — буркнул Рутгер, опуская лицо.
— Да ты сколько здесь? — возмутился Видаль. — День-другой, а уже точно знаешь, что нельзя? Уже все испробовал, последнее средство осталось?
— А что изменится, если не день и не два, а месяц? Если год? Что изменится? — яростно зашипел ему в лицо Рутгер. — Зачем мне терпеть еще день, если я знаю, что будет так же?
— А зачем так же? Зачем ты вообще ушел? На что тебе эти… сапоги, парень?! Ты же мастер от бога, тебе вот чему учиться — и я ведь учил. Чего тебе не хватало?
— Времени.
— Да сколько угодно времени у нас было… У нас-то!
— Нет времени у тебя, мастер Видаль, — подался к нему Рутгер. — Нет его в твоем деле, и в доме твоем его нет, и в жизни твоей нет. Времени! Того, что проходит, того, что делает старше, того, что людям возраст меняет! Понимаешь? Времени! Не возможности бесконечно делать дело и никогда не опаздывать, не бесконечности жизни! Времени, Видаль, времени, того, которое не вернуть, не удержать, не остановить. Которое кончается, иссякает, сменяется другим. Вот. Вот так.
Рутгер глубоко дышал, как после бега. Видал хмурился, не понимал. Рутгер тогда снова заговорил:
— Вот пройдет пять лет, да? И тогда я буду ровней ей… ему… да все равно мне! Я это в голову вместить не могу, но это только в голову… Вот как мы к мастеру Лукасу ходили. Я даже вспомнить и представить себе не могу, как я там был. А уж понять, как оно устроено — никак. Даже пытаться страшно. Но когда я там был — я там был, нигде больше, именно там, и несомненно был. Понимаешь?
— Понимаю, — Видаль прислонился к дереву и стал разглядывать Рутгера медленнее, подробнее.
— И вот когда я лежал рядом и обнимал — я там точно был. Именно там. Именно с этим человеком. А уж как его называть — мы разберемся. Мы с ним вместе.
— Если он захочет, — кивнул Видаль.
— Это да. Но сначала мне надо возраст догнать, понимаешь? Без этого и говорить не о чем — слушать не хочет.
— Думаешь, в возрасте дело?
— А в чем еще?
— Я не знаю, сколько лет прошло в земле мастера Кукунтая с тех пор, как он покинул ее. Эти годы в возраст не засчитались, но жизнь происходила. Тело не стареет, но душа-то живет, трудится, устает, взрослеет. И даже если пройдет еще пять лет и твое тело сравняется в возрасте с телом Кукунтая, все равно, эти годы и годы без времени — они останутся разницей между вами.
— Что ж такого в том, что между людьми разница? Мак-Грегор и Мэри тоже разные — уж куда дальше! И вы с Ганной, хотя оба от времени увиливаете, друг на друга совсем не похожи. Или ты думаешь, мастер Видаль, что человеческая жизнь, вот такая обычная, во времени — она не старит душу? Что я против Кукунтая так дитем несмышленым и останусь? Да что ты знаешь о человеческой жизни? Хоть сто лет в пустом месте проживи сам с собой — а год между человеками все равно длиннее для души, понял? И трудов ей больше, и радений, и страданий. Ты ведь не родился мастером, а? Разве ты не помнишь, как люди между собой живут?
Видаль кивнул.
— Как живут, как умирают. Как убивают. Помню. Ты прав, жизни здесь больше. Но зверь ууйхо тебе для чего понадобился?
— Мне больно. Мне больно без нее. Мне больно без мира за пределами здешнего неба. Я хочу смотреть во Тьму и видеть новые земли. Я хочу это каждую минуту. И вот сейчас хочу. Даже с этим зверем — хочу! Не так остро, не такая мука… Но хочу. Больно все равно.
— Это пока он еще в силу не вошел. Покорми его своей кровью еще денек — и будет тебе покой.
— Но ведь я не забуду ёё? Я ведь не забуду?
— Ты ничего не забудешь, — согласился Видаль. — Только помнить будешь, как будто не с тобой это было. Как будто сказку слушал… — Тут он вздохнул и отвернулся. — Как будто сказку слушал — и тоскуешь по ней, только делать-то нечего, надо здесь жить, а сказки только в сказках сбываются. Пеплом присыплет, золой, прахом — твой огонь. Всю соль, всю сладость вынет — тебе останется пресное жевать. С голоду не умрешь. Но и рад не будешь.
— Ты помнишь это? — прошептал Рутгер.
— Помню, — ответил Видаль.
— Почему же я забыл?
Видаль взял его за плечо, притянул к себе ближе.
— Пойдем домой, парень. Там твой дом, не здесь.
Рутгер отодвинулся.
— Нет, не сейчас. Приходи за мной. Потом. Приходи — через пять лет, пожалуйста, уведи меня отсюда. Пожалуйста, прошу тебя. Но сейчас — нет. Сейчас я останусь. Так мне надо. Прости.
— Ты хочешь жизни пять лет, хочешь времени — а сам ууйхо привил себе. Разве это жизнь?
Рутгер отвел взгляд, пожал плечами. Губы изогнул в бодрой улыбке. Ответил, не глядя в глаза.
— Я сниму. Вот пообвыкнусь чуть-чуть — и сниму. А то с мастером драться полезу, честное слово. Я ведь от него тогда ушел, с Кукунтаем. Сбежал. Еле упросил обратно взять теперь. А он меня, как маленького, к самым начаткам приставил. Как будто я не учился у него с детства-то уже! И руки распускает, как с маленьким. Вот ей-богу, сдачи дам, если без ууйхо-то. Понимаешь? А куда мне? Родителей нет у меня, подкидыш я приютский. Из приюта и в учение отдали. Никому я не нужен, некуда мне идти.
— Как же — некуда, парень? — Видаль задохнулся.
— Сейчас — некуда. А потом приходи. Прости меня. Я так решил.
Видаль развел руками.
— Если что — дорогу знаешь, а дверь я не запираю.
Развернулся и пошел под дождем к Ратушной площади, а птица выбралась из-за пазухи, вскарабкалась на плечо и оттуда долго кричала что-то в темноту, где остался Рутгер Рыжий, ученик сапожника.
Памятник Видалю
День был солнечный, даже слишком, пожалуй. Видаль отвык от такого солнца на Туманной косе и потому укрылся в прохладной пивной, окна которой выходили прямо на тротуар. Из окна был виден газон, оранжево пламенели настурции, радуя глаз, сквозь них мелькали пёстрые юбки суматошинок и обтянутые полосатыми чулками ноги их кавалеров. Видаль неохотно прихлебывал пиво, дожидаясь назначенного часа. Птица задумчиво урчала, пристроившись у него за плечом на высокой спинке деревянного стула.
Видаль поднял кружку, разглядывая пиво на свет, вздохнул. За «Альтштадтом» надо было отправляться на Королевскую гору, но он назначил Ганне свидание здесь, на Суматохе, чтобы сообщить, что он намерен с ней под руку прогуляться до ближайшего места, где слова крепки, хоть до Рыжей речки, хоть до Садовья. Лучше, наверное, до Садовья. Там нынче, если Видаль ничего не напутал, вишни все в цвету. Девушки любят такое…
Сколько можно? Пора остепениться, и Ганна заждалась… Верная, гордая Ганна, красавица и отличный товарищ. Не девка — клад!
Часы на ратуше пробили половину первого. Было еще очень рано, но сидеть над почти полной кружкой и не пить было скучно, а пить расхотелось после первых глотков.
Видаль решительно поднялся, снял птицу со спинки стула, положил пару монет на стол и направился к выходу. Расторопный и бдительный, как все официанты на Суматохе, парень в длинном фартуке подскочил к столу, схватил монетки и кинулся за Видалем, обогнал его и встал в дверях:
— Вы заплатили только половину!
Видаль ткнул длинным пальцем в зеленую доску, повешенную на двери. Нижняя строчка, выведенная мелом, гласила: «Вода бесплатно». Пожав плечами, Видаль ловко скользнул мимо парня и взбежал по лестнице.
Солнце снова ослепило его, и он постоял немного, прежде чем перейти улицу и свернуть за угол — все свидания на Суматохе по традиции назначались на городской площади, перед ратушей. И перед памятником Видалю заодно.
Каменный болван, усмехнулся Видаль. Бронзовые буквы на постаменте нестерпимо горели, но он и так знал, что там написано. Хосе Видалю, спасителю города, от благодарных жителей Суматохи. Знать бы еще, от какой напасти… и когда. Сегодня, например, ему было решительно некогда. С минуты на минуту появится Ганна. Видаль огляделся — он был одним из многих. Вокруг памятника безостановочно плелось кружево людских судеб. Молодые люди подходили, озирались, переминались нетерпеливо, и — кому раньше, кому позже — судьба улыбалась им, приняв облик нарядной суматошинки, подхватывала под руку, смеялась, глядя им в счастливые глаза, увлекала в круговерть, в путаницу улочек, а им на смену подходили и подходили новые…
У многих Видаль заметил легкую сутуловатость, и воротники этим летом стало модно приподнимать. Стесняются пока. Ничего, разозлился Видаль, еще гордиться будете. И сюда добралась эта зараза — занесли. Выходит, тюленев приемыш Рутгер — не первый здесь такой. И уж точно не последний. Видаль сплюнул. Любоваться счастливыми парочками расхотелось: переженятся, наделают детишек, и каждому на загривок — ууйхо, тварь ядовитую. Сплюнул еще раз — тошнило. Видаль повернулся к памятнику спиной.
И море ослепило его бликами. От площади к нему торжественно нисходила лестница: широкие ступени, фигурные столбики мраморных перил. По лестнице поднимались и спускались люди, и воротники их одежд были подняты по новой моде… но если смотреть на море, людей не было видно. И Видаль благодарно улыбнулся и стал смотреть на море. Огромное, оно не помещалось во взгляде целиком, слепило солнечными искрами, отнимало разум — и взамен наполняло бессмысленным, беспричинным и бесконечным счастьем.
Видаль заметил, что стоит в той же позе, что и каменный болван на постаменте — чуть закинув голову и отставив ногу, руки в карманах куртки, птица на плече. Усмехнулся: хорошо они смотрятся, вот было бы веселье, если бы кто обратил внимание. Впрочем, на этом месте Видаль всегда стоял вот так, и в тот день, когда его решили почтить памятником — тоже.
И так вот он стоял тогда, сколько лет-то уже прошло, а в ратуше в это время отцы города допытывались у заезжего провидца, какие напасти грозят беззаботной Суматохе. И провидец нашелся, как отделаться от них — спихнул всё на Видаля, а сам исчез, как и не было его. Видаль узнал об этом ровно через четверть часа — когда его, уже собиравшегося восвояси, остановил на лестнице чудаковатый толстяк, принялся вертеть и разглядывать, а потом схватил за рукав и потащил наверх. Видаль принял его за помешанного, упирался, ругаясь сквозь смех, но на помощь безумцу подоспел сам бургомистр Грюн, чуть не со слезами на глазах умоляя позировать для памятника. Скульптор был представлен как местная знаменитость, бургомистр при поддержке всего городского совета только что в ногах не валялся — и Видаль сдался.
Теперь каждый раз, посещая Суматоху, он имел возможность любоваться произведением искусства, а в остальное время — выслушивать язвительные комментарии друзей-приятелей. Спасибо, хоть Мак-Грегор не изощрялся в остроумии. Человек, который женат на овце, как никто знает, что и самая дружеская шутка не всегда уместна.
Но море лежало перед ним, и Видаль забыл обо всём. Он стоял и вглядывался пытливо в играющую бликами даль: что ты за вода? Море ли, океан ли? Есть ли тебе конец, и откуда катятся эти смирные, такие ручные волны, словно только для того и созданные, чтобы радовать глаз и манить сердце?
— Хосе…
Видаль вздрогнул. Ганна стояла чуть в стороне, чтобы не заслонять ему море, и, видимо, уже не в первый раз звала его.
— Ты уже? — рассеянно улыбнулся Видаль. — Что я хотел тебе сказать… Ах, да, поедешь со мной в Садовье?
Ганна нахмурилась.
— В Садовье? В Садовье, значит… Вишни в цвету, крепкое слово? — в голосе ее дрожала обида. — Осчастливить меня решил?
— Что ты? — Видаль очнулся и оглядел подругу с ног до головы. Высокая, с самого Видаля ростом, стройная и сильная, нарядная — оставила, должно быть, Мотрю на дрюнговой конюшне и переоделась в гостинице: юбка в яркую клетку, на черном сукне жилета полыхают маки, по рукавам вышивка широкой полосой, красные сапожки сверкают лаком, а на буйных кудрях — венок, атласные ленты играют бликами ярче морских волн. Будто знала, куда позовет Видаль. А может и вправду знала, с нее станется. Что ж она говорит такое?
— Будто я не знаю, что у тебя на уме! — не умолкала Ганна. Слова выпрыгивали, словно против ее воли, но и остановить их она не хотела. — Ганна хорошая, Ганна красивая, своя в доску, понимает, что к чему — надо жениться на Ганне, сколько можно, всё равно счастья в жизни нет, так хоть покой! Как будто я не знаю…
— Да что с тобою, Галю, опомнись… — Видаль протянул к ней руки, но она с силой ударила по ним.
— Видчепыся вид мэнэ! — вдохнула зло.
И Видаль стоял, не шевелясь и не пытаясь возразить, под шквалом ее гнева и горя.
— Всё мне сердце истерзал, ирод. Чем же я тебе плоха?! А вот нет, подавай ему то, чего никогда не может быть, дальнее-невозможное ему подавай! Куда как легко любить, до чего не дотянешься. И есть не попросит, и слова поперек не скажет… и лучше всех, ясное дело! Кто ж сравнится с тем, что и вовсе неведомо? А как будто я тебя не знаю… То, что руками можно потрогать, как будто и не для тебя создано. Всем в радость — только не Хосе Видалю, особенный он такой, звезду ему с неба подавай, молока птичьего… Зирку тоби з нэба? Так ты помни, коханый, что она — убийца, выжла. По кровавому следу гончая — для хозяев своих. Очарует так, что сам себя наизнанку вывернешь им на забаву. Погибель она, без жалости и смысла, а что красивая — так вон у Мак-Грегора блесны не хуже. А ты… ты… даже не на живую приманку, на железку блестящую с перышком ярким идешь. На куклу восковую. Да и нет ее на самом деле. Всё придумали.
Тут уж Видаль не стерпел, схватил Ганну за локти и встряхнул хорошенько.
— Ты на солнце перегрелась? Жилет сними, жара вон какая. Галю, девонька моя ненаглядная, ты о ком вообще?
Ганна теперь молчала, не поднимая глаз, только по смуглым щекам катились слезы.
— Галю, Ганна моя, ну ты что? Что ты, сердечко моё? Посмотри, нарядная какая пришла, угадала, а? Вот и хорошо, мы с тобой сейчас в Садовье…
— Не могу я с тобой в Садовье, это же насовсем… навсегда. А как ты со мной, если не любишь? Думаешь, если пообещаешь верным быть, любить всю жизнь — так оно и выйдет? Хочешь сам себя обмануть, Хосе Видаль?.. Видаль?
Видаль смотрел ей за спину и лицо его было каменным, точь-в-точь как у памятника. Ганну он крепко держал за плечи, и обернуться она не смогла.
— Видаль! — закричала Ганна. Он с трудом перевел взгляд на нее, вытянул руки, ее от себя отодвигая.
— Ганна, где Мотря?
— У Дрюнга, как всегда… Видаль, что?..
Видаль развернул ее лицом к морю. И Ганна глянула, охнула, шатнулась, отступила, прижалась спиной к его груди. Море исчезло. Влажно блестело обнажившееся дно, рыбы бились на песке между лужиц и темных груд водорослей, бестолково метались крабы, пятнами слизи растекались медузы. Ганна в ошеломлении обернулась к Видалю, но он дернул подбородком: смотри. И Ганна увидела: море шло от горизонта, шло на Суматоху — всё сразу, вздыбившись до неба темной стеной.
— Бегом, Ганна. Всех, кто может… Олесь пусть как-нибудь… у Мака жена присмотрит — его тоже. И Тюленя, и Хо — всех… Всех, Ганна. Скажи: здесь люди.
— А ты?
— Я останусь.
— Ты не сможешь! Ты не уберешь ее, Видаль, это невозможно!
— Конечно, невозможно, дурочка, — Видаль повернул ее к себе, улыбнулся и поцеловал неторопливо, нежно, крепко. — Я и не собираюсь.
— Хосе, я останусь с тобой!
— Мы вдвоем ничего не сможем, Галю. Привези мастеров.
— Тогда ты — со мной!
— Галю, так быстрее, чтобы ты одна. А я…
— Нет, Видаль!
— Ласточка моя, я просто подержу ее. Это у меня получится, правда. А ты быстрее постарайся мастеров собрать — и всё будет хорошо. Только ты быстрее. Давай, девочка моя… Бегом! — рявкнул Видаль и толкнул Ганну. Она сорвалась с места и исчезла в толпе, собиравшейся перед ратушей — пока еще безмолвной, ошеломленной толпе.
Видаль сглотнул и отвернулся от людей. Надо забыть о них. Только бы молчали. Но уже пополз опасливый шепоток, его имя повторяли, заплакала женщина, кто-то горячо молился, благословляя Видаля. Вскрик и торопливые шаги… Резко обернувшись, он выкинул перед собой руки. Женщина с ребенком замерла в двух шагах, всхлипывая и не сводя с него умоляющего взгляда.
Зрители были не нужны ему — но он смирился с тем, что они будут. Только бы не мешали.
— Лучше бы вы все ушли. Если не можете уйти — молчите. У меня… У нас с вами слишком мало времени.
— Так ведь предсказание, — крикнул кто-то, не Видалю, а так, комментируя происходящее. — Зря что ли памятник ставили?
— На пожертвования, между прочим! — откликнулся молодой бесшабашный голос. — Вот пусть и отрабатывает.
— Кто скажет еще слово — исчезнет, — пригрозил Видаль. Он знал, что не станет тратить на это драгоценные силы, но напугать их следовало. Но жители Суматохи не умели бояться всерьез. Не обращая внимания на Видаля, все разом загалдели, радостно объясняя друг другу, что опасности никакой вовсе нет, а зрелище предстоит такое, какого еще не видели, и наверняка городской совет сочтет повод подходящим, чтобы устроить празднества, может быть даже и с маскарадом.
— Горячие пирожки! С сыром, с луком, с яйцом! — раздался напев разносчика.
Только женщина не отрывала отчаянных глаз от Видаля, и когда он взглянул на нее, приподняла малыша.
— Вы ведь можете уйти. Возьмите Бруно. Он очень тихий, он не будет вам обузой… Или хотя бы в приют… Возьмите…
Видаль прикрыл глаза.
— Стойте тихо. Не мешайте мне. Сейчас всё будет хорошо.
И отвернулся. И больше не слышал голосов за спиной.
С ласковой ленцой волны толкаются в камень набережной, слепящие блики танцуют по невероятной сини до самого горизонта… Видаль понял, что сил на это не хватит.
Волна была уже близко, Видаль разглядел обрывки пены, ползущие вверх по ее гладкой груди. Она почти закрыла солнце, тень наползала на набережную. Оставалось одно. Там, где она сейчас, должно быть небо. Видаль повел взглядом над бурлящей кромкой волны, уточняя оттенок неба над ней. Оттенки должны совпасть, нельзя оставить и следа шва — может разойтись… и не забыть бы солнце… Оно ударило в глаза, и Видаль едва удержался, чтобы не зажмуриться. Нельзя, нельзя, держать! И он держал: июльской голубизны необъятное небо — темнее у горизонта, светлее в вышине, легкие перышки облаков, дрожащее жаром пятно в слепящем ореоле, небо, небо, спокойное чистое небо…
Женщина за его спиной ахнула: волна рвалась, расползалась, как истлевшая ткань, в прорехи снова ударило солнце, косматые клочья пронеслись над вопящей в восторге толпой, окатив ее брызгами, и растаяли где-то за ратушей.
— Чудотворец хренов! — выругался разносчик и швырнул на мостовую короб. Выплеснулась вода, мятые пирожки покатились по булыжнику. Люди вокруг кричали, прыгали и обнимались, размахивали руками.
Женщина отвернулась от них. Ребенок заплакал: соленая вода попала ему в глаза. Женщина бросила виноватый взгляд на Видаля, неподвижно лежащего у края лестницы, крепче прижала ребенка и торопливо ушла прочь.
Кудлатая Мотря, свирепо храпя и гремя подковами, ворвалась на площадь. Толпа шарахнулась в стороны, визжали женщины, проклятия и свист неслись со всех сторон. Свинья остановилась у памятника, с ее спины кубарем скатился маленький человечек в меховой одежде и кинулся к лестнице. За ним бежал усатый в юбке, торопливо семенил толстяк в синей шелковой пижаме, с черной косой от макушки до колен. Высокий белобрысый парень, скатившись на мостовую, вскочил и протянул руки вверх — помочь спуститься хмурой девице в разорванной до пояса юбке и красных сапогах, но девица спрыгнула мимо его рук, поскользнулась на мокром булыжнике, рванулась, выпрямилась и кинулась следом за остальными.
— Эй, дамочка, привязала бы скотину! — возмутился пострадавший материально разносчик пирожков. Ганна, не глядя, двинула ему кулаком в лицо и устремилась вперед.
Кукунтай прыжком преодолел отделявшее его от Видаля расстояние, рухнул на колени и припал щекой к его груди. И оставался так, пока руки мастера Хо метались по лицу и шее лежащего, и потом, когда мастер отодвинулся и повернул к Мак-Грегору растерянное лицо, и когда Ганна прижала кулаки к закушенным губам и, сузив глаза, покачала головой. Мак-Грегор подошел, потянул Кукунтая за плечо. Кукунтай не двигался, обхватив Видаля и спрятав лицо в складках его куртки. С усилием оторвав его руки, Мак-Грегор поднял Тюленя. Тот резко отвернулся, пряча слёзы, катившиеся из глаз.
Чуть ниже на ступеньках что-то чернело. Ганна всхлипнула и деревянными шагами спустилась на три ступеньки. Наклонившись, она обеими руками подняла промокшую тряпичную ворону, и глядя ей в пуговичный глаз, сказала.
— Я знаю, что ты меня не любил. Я знала это всегда. Я любила. А ты — соглашался. Я знала — и готова была простить тебе даже это. Твои вечно мокрые волосы, твою дурацкую ворону, твой отсутствующий взгляд, твое молчание — часами… и как ты уходил на денек — и пропадал на месяцы… Я прощала тебе всё. Всё. Но вот того, что ты умер, я тебе не прощу. Никогда.
Она посмотрела вниз: море было на месте, только вода в нем бурлила водоворотами, мутные волны метались, набегали одна на другую, но солнце уже рассыпало по ним золотые блики и горделиво сияло в необъятном небе, и все оттенки совпадали, и не было шва. Ганна стиснула ворону так, что брызнула вода, — и закричала.
Солнце над Суматохой
Тьма огромна — беглянка вспыхнет едва заметной искрой на ее краю.
Из всех бегущих — бесконечная череда бредущих с тачками и под ношей мужчин, женщин, прижимающих к груди младенцев и тянущих за руки хнычущих измученных детей, — из всех людей на этой дороге и в этом мире ей одной не грозит мгновенная гибель во тьме. Она не умрет. Она вспыхнет ярким белым светом. И это само по себе — не гибель, а песнь. Но…
Она боится.
Над дорогой клубится едкая пыль, стоит смешанный звук движения массы усталых людей: скрип тачек, шарканье подошв, всхлипы и стоны и тяжелое дыхание. Тьма катится следом беззвучно, ровным течением не знающей ни спешки, ни усталости стихии. Люди уступают ей — и пядь за пядью чернота, вставшая до неба, поглощает хвост колонны беженцев, беззвучно, безжалостно.
Беглянка оборачивается, кидает отчаянный взгляд назад — и ускоряет шаги. Людей на дороге слишком много, а расталкивать слабых матерей с детьми на руках и отцов, волокущих поклажу, ей не позволяет сердце, сильно бьющееся в ее груди. Несколько часов назад, когда тьма подступила вплотную к беглецам, все, кто мог идти скорее, или расчистили себе дорогу пинками и ушли вперед, или взяли на руки, посадили на плечи чужих детей — и стали такими же медлительными, как все оставшиеся. Беглянка с тоской смотрела вслед ушедшим, но сердце запретило ей — и она послушалась. Этому сердцу лучше знать, как поступить человеку.
А тьма подползает, заглатывая людей, приближается к ней — и не нет силы, способной встать против нее. Чернота идет стеной от земли и выше неба, от нее распространяются волны холода, впереди нее течет сумрак.
И когда этот холодный сумрак ложится на плечи беглянке, она сдается. Поворачивается лицом к черноте — шагов десять еще до нее — и шагает ей навстречу. Люди уже не мешают — с прикосновением сумрака их глаза останавливаются, шаги замедляются, опускаются руки. Матери едва не роняют детей, словно засыпая на ходу. Тьма, в которой нет жизни, отнимает жизнь у тех, кого касается. И только беглянке одной она может вернуть — свет. Избежать этого уже никак невозможно. Сердце мое, сердце, прости, не уберегла, шепчет она, и сердце отвечает: тысяча лет, любовь моя, две тысячи лет. Люди столько не живут. Спасибо.
Я боюсь, шепчет беглянка, я боюсь, я не хочу умирать.
Ничего, отвечает сердце, ничего. Умирают всего однажды.
Но не я…
Но не ты.
Матильда Сориа, звезда суматошинской Великолепной Оперы, дрожала в темноте своей спальни, пропитанной ароматами духов и помад, комкала атласные одеяла, всхлипывала, утирая холодный пот.
Это сон, это сон, вздрагивая, твердила она.
Это память, отвечало сердце.
И когда тьма навалилась на людей, она была так страшна — страшнее самой темной темноты в самом глубоком подвале за самыми наглухо закрытыми ставнями… Смотреть на нее было нельзя — она выедала глаза, сжигала разум и останавливала сердце. Те, кто успел зажмуриться, уцелели.
Одна Сурья стояла там с открытыми глазами, но и она не видела ничего, только слышала бессвязные выкрики обезумевших, короткие стоны умирающих, звук падения многих тел, тяжелое дыхание уцелевших. Сквозь этот разнородный гул ей послышался отдаленный голос, монотонно повторявший одну фразу: я пережила этот мир, я пережила этот мир… Сердце в ней замерло, сбившись с лихорадочного ритма — и голос прервался. Она прижала руки ко рту, понимая, что не вынесет, если голос заговорит снова. Губы ее дрогнули, зубы впились в дрожащие пальцы — и боль была облегчением.
Сердце забилось снова. Пальцы согрелись проступившей кровью. Да что там, сказала ему Сурья, сейчас я… И тогда они придут за мной. Сейчас ты — что? — спросило сердце. Вот, ответила Сурья, смотри. И, оторвав руки от лица, протянула их вперед, слегка взмахнула ими — и с пальцев потек, мерцая, тонкий белесый свет. Он разливался, охватив уже всю ее, распространялся вокруг, достигая ближних и дальних, обливая живых людей и мертвые тела. Некоторые люди как будто чувствовали его — по крайней мере их лица с закрытыми глазами обращались к Сурье и на них трепетала надежда. Белое свечение разгоралось, так что Сурья стала подобна свече, когда в темноте огонь просвечивает сквозь восковые стенки. Тепла только не было от нее — один холодный белый свет.
Один из тех, кто взял на руки чужих детей, высокий сильный мужчина в синем свитере с бегущими оленями, опустил свою ношу на землю, убедился, что близнецы крепко держатся за джинсы, и прижал ладони к глазам. Постояв так два или три дыхания, он медленно отвел ладони, и его глаза были открыты. Он посмотрел на Сурью, но как будто не увидел в ней ничего необычного. Взгляд его скользнул мимо нее, обежал вокруг…
— Вот и всё, — хрипло выдохнул он. — Всё кончилось.
Потом сообразил, что поймут его совсем наоборот — и сказал громче:
— Всё видно!
Слабый свет померещился Матильде Сориа, и она выпростала руку из под одеяла и повела ею из стороны в сторону. Если бы наступила кромешная Тьма, сияние бы исторглось из звездной плоти само собой. Но рука была темна, как человеческая рука в темной спальне. Однако что-то менялось вокруг — яснее выступили кружева брошенного на кресло пеньюара и белый кувшин на прикроватном столике. Матильда повернула лицо к окну. По краям плотных занавесей на окнах в комнату сочился тонкий, слабый свет. Это утро, и нынче в Суматохе май, а значит отсрочка от кошмаров будет долгой. Матильда еще сколько-то времени лежала, приглядываясь, чтобы убедиться, что свет растет и крепнет.
Потом устроилась щекой на сложенных ладонях и без страха закрыла глаза.
«Юдифь, как всегда, была бесподобна. Страстный темперамент, обворожительная манера исполнения, очаровательная внешность — вот что мы назвали бы тройным залогом неизменного успеха госпожи Сориа, если бы забыли упомянуть ее главное оружие, которым она поражает в самое сердце. Ее голос, необыкновенно чистый и сильный, не напоминает нам ни о хрустале, ни о серебре, но о чистейшей дамасской стали — гибкой и несокрушимой, пронзающей до глубины. Ее голос кажется неземным — и да, наверное, так пели бы звезды неба, если бы умели».
Матильда Сориа разжала пальцы. Лист нырнул вниз, ткнулся в атласный подол, с тонким свистящим шорохом скользнул по нему. Узким носком домашней туфли примадонна прижала его к темно-вишневому ковру. Надо же так, ткнув пальцем в небо, попасть в самую середину его. Если бы звезды неба умели петь… Бедный писака! А что же он слышал не далее как вчера вечером? Не она ли стояла перед ним на ярко освещенной сцене и оплакивала добродетель, добровольно приносимую в жертву ради спасения родного города? А в сцене с вероломным Агагом, военачальником и по виду — героем из героев, когда он склонял ее к бесчестному соитию — разве не она была воплощенной суровостью, разве не ее голос — как сталь, да! — пресекал все его попытки приблизиться? И не он ли, неустанный, звенел и плавился, когда Юдифь клялась в любви и верности возлюбленному, уже зная, что вечером тайком отправится за городскую стену, прямиком в шатер проклятого Олоферна?
Дамы в ложах алебастровыми ручками подносили к уголкам глаз невесомый батист в пене кружев. Галерка рыдала без различия пола и возраста.
Но далеко было еще до сцены триумфа. О, тогда, вся объятая сложной световой игрой, которую вели меж собой газовые фонари и многочисленные зеркала, она горделиво стояла на фоне городской площади, искусно намалеванной на холсте, и признавалась отцам города в совершенном прелюбодеянии. И когда вероломный Агаг замахивался, чтобы первым бросить в нее камень — в ответ ее голос взлетал сверкающим мечом, полыхал зарницей, и она распахивала плащ… И в руке ее, воздетой к небу, качалась ухваченная за волосы бутафорская окровавленная голова — и через мгновение летела едва не в онемевшую публику… и кулаки за ее спиной разжимались, и бутафорские камни с глухим стуком падали на подмостки.
Матильда провела руками по лицу, по волосам. Сейчас-то она не на сцене, не поет. Сколько лет — а всё не иссякает упоение. С течением времени всё больше власти берет человеческое сердце, всё меньше безразличной вечности остается в ее плоти. И она все еще не знает, как принимать этот факт. Порой торжествует, надеясь, что так уходит из-под власти Холодных Господ. Порой сокрушается о подступающей смертной участи. Но стоит ей только вспомнить о пении — и нет разницы между ней и ней же, человечье сердце и звездный воск сплавляются в одно, звездное не дает сердцу уставать, сердце не дает звезде губить, и остается лишь чистое сияние голоса, по человеческим меркам — невозможного, безграничного, неутомимого. О, это счастье — быть собой в своей силе, в своем естественном совершенстве, быть живой и бессмертной одновременно.
И после вчерашних трудов на сцене, и после этой ночи — лучше бы ей быть вовсе бессонной! — живая Матильда Сориа нуждается в неспешной, ленивой прогулке по набережной и чашки какао в кондитерской сестер Лафлин. Решительной рукой она дергает шелковый шнурок, и где-то в глубине квартиры откликается мелодичный звоночек, и тут же раздается цокот каблучков, и горничная уже торопливо приседает на пороге.
— Мадам?
— Одеваться, — коротко бросает дива. — Гулять.
В этом городе ей к лицу лиловый. О, это цвет избранных, редкую женщину он не превратит в подобие готического призрака, бледного и унылого. В этом городе, где белокурые красавицы носят алое и золотое, экзотическая красота в обрамлении утонченного лилового с отделкой цветов корицы или шоколада бросается в глаза ярче яркого.
Шесть накрахмаленных нижних юбок — тайное основание, на котором воздвигнут невесомый храм элегантности. Оборки фестонами ниспадают от колен до щиколоток, из под них с показной скромностью глядят строго зашнурованные остроносые туфельки на небольшом, но очень пикантном каблучке. Широкий атласный пояс делает талию еще тоньше — и рукава demi-gigot, узенькие в облипку от запястья до локтя, расцветают пышными тюльпанами выше, подчеркивая тонкий стан. Широкий плиссированный отложной воротник трепещет, волнуемый майским ветерком, и порхают вокруг плеч широкие ленты, спускающиеся с полей шляпы, на которых райский сад из перьев и бантов. Короткие, невыразимо изящные перчатки, довершают туалет — но не забыть еще крошечную сумочку в бисере и кружевах. Теперь всё. Ловко, ладно, изящно. Она уже носила такое, не припомнить, сколько лет назад — но так или иначе, у нее было больше времени, чтобы отточить мастерство прогуливания нарядов по набережной, чем у всех жительниц Суматохи, вместе взятых. И она смело вступает в игру со свежим морским, теплым от мая ветром — всеми лентами и оборками, всеми складками и всей податливой гладью шелка, муслина и органзы.
Ее, конечно, узнали — и первые ее шаги по набережной сопровождались легким шелестом аплодисментов, впрочем, послушно прервавшихся, когда она со смущенной улыбкой склонилась в изящном реверансе, прижала руки к груди и раскинула их, словно бы осыпая поклонников лепестками роз. Она приложила смуглый пальчик к улыбающимся губам и еще раз прижала руки к груди в умоляющем жесте. И по заведенному обычаю гуляющая публика немедленно сделал вид, что не только не узнает свою обожаемую диву, но даже и не замечает ее. Все взгляды устремились в морской простор, на кроны вечноцветущих деревьев, на лица спутников, а Матильда Сориа, окутанная ореолом скромного величия, продолжила свою утреннюю прогулку.
Кондитерская сестер Лафлин еще недавно была скромным заведением с недорогой, но добротной кухней. Приехав в Суматоху, Матильда Сориа первым делом озаботилась поиском места, где она сможет пить какао во время прогулок. Что ж, слухи о диве предусмотрительно были распущены заранее, но никто, кроме доверенных людей, не знал ее в лицо. Матильда лично посетила все приличные заведения в окрестностях набережной Адмирала графа Шпее и Ратушной площади. Ее постигло разочарование: здесь не пили шоколада. Из окна скромной кондитерской шотландских сестер открывался наилучший вид на маленькую площадь с фонтаном, цветущие деревья с двух сторон ее и бесконечное лазурное море, на фоне которого резко и интригующе вступал легкомысленный бронзовый силуэт на внушительном постаменте из гранита. Памятник, воздвигнутый над широкой мраморной лестницей, ведущей к набережной, вовсе не был посвящен загадочному адмиралу графу Шпее. Он изображал бедняка в куртке самого простого покроя, с длинными, растрепанными ветром волосами, щурившегося в морскую даль. На плече его, распахнув длинный клюв и растопырив остроконечные крылья, сидела птица, некое не совсем уверенное подобие вороны. Статуя вносила в идиллический облик площади некоторый гармоничный диссонанс — и тем понравилась Матильде. Матильда выбрала кондитерскую шотландок. Прежде всего она навела справки. В предыдущем поколении семья обеднела, но дом на площади все еще принадлежал наследницам, добропорядочным старым девушкам. Чтобы не расставаться с отеческим гнездом, мисс Элиза и мисс Эмма были готовы на многое и вопреки воспитанию открыли скромное заведение, но процветания добиться не смогли. Матильда попросила аудиенции у строгих сестер и предложила им контракт на десять лет. Ей нравилась Суматоха, она с удовольствием задержалась бы в этом городе, буде удалось бы получить чашку приличного шоколада с видом на море. Убедить недоверчивых и гордых сестер оказалось нелегким делом, но Матильда нашлась. Сделав вид, что только что заметила стоявшее в комнате прелестное пианино, она робко высказала предположение о мастере, всплеснула руками от восхищения, услышав полный сдержанной гордости ответ, и самым трогательным тоном попросила разрешения попробовать инструмент.
Пианино оказалось идеально настроенным: несмотря на стесненное положение, сёстры явно заботились о нём. Матильда поняла, что ступила на верный путь.
Чтобы не быть уж слишком прямолинейной, она начала с польки и экосеза во французском стиле, на две четверти, но, заметив тень пренебрежительной улыбки на лицах сестер, еще раз поздравила себя и оборвала пьесу на середине.
— Нет, нет! Вот как это должно быть! — воскликнула она с самым живым итальянским brio, и заиграла с начала, легко видоизменяя мелодию, чтобы уложить ее в трехдольный размер, как суждено ей было на роду звучать среди заросших вереском холмов. Сестры замерли, потом задышали в лад, одинаковые, как могут быть одинаковы близнецы, прожившие всю жизнь в тесном общении друг с другом, не отвлекаясь на других людей. — Вот так, вот так! — одобряла и подбадривала себя Матильда. Прожившие жизнь в окружении немецких фамилий и нравов, сёстры Лафлин таяли от страсти, с которой чужеземка исторгала из обожаемого ими инструмента родной напев. Элиза — или Эмма — решительно подвинула к пианино банкетку — Матильда дала ей место, и в четыре руки они устремились вперед в головокружительном поиске доверия и согласия. И когда из водоворота звуков проступил бессмертный «Tullochgorum», было так же естественно, как дышать, Эмме — или же Элизе — подхватить золотистую легкую гитару и присоединиться к играющим.
Видя, что очаровательная гостья вполне справляется с прихотливыми завитками мелодии, Элиза — Эмма? — покинула ее и устремилась в угол комнаты, где густая тень и тяжелая накидка скрывали от досужих глаз многострунную стройную арфу. Матильда пришла в неописуемый восторг: это были барышни-любительницы старой школы, способные посрамить многих из тех, кто именует себя артистами. Не зная слов, она приглушенным голосом стала напевать мелодию простым ла-ла-ла, и барышни Лафлин приняли ее приглашение, и всё дальнейшее стало простым и ясным, неминуемым, как наступление весны.
На следующий день кондитерская сестер Лафлин закрылась, а спустя пару недель открылась снова, преображенная и с изрядным запасом превосходного какао в кладовой. Матильда была всерьез намерена ввести его в моду в этом сумасшедшем городе.
Так совпало, что открытие обновленной кондитерской совпало с первым выступлением приезжей дивы на сцене Великолепной оперы. На следующее же утро во время прогулки, сопровождаемая аплодисментами очарованных и покоренных суматошинцев, триумфантка направила свои стопы вдоль набережной в сторону площади Адмирала графа Шпее, поднялась по широкой мраморной лестнице, насладилась открывающимся сверху видом — и вошла в пустую кондитерскую.
Год спустя она снова входила в нее — сестры Лафлин всегда держали для нее незанятым столик у окна, иначе найти свободное место было бы затруднительно. Изысканные сорта чая, ароматный кофе и крепкий шоколад составляли славу заведения, равно как и восхитительные разнообразные пирожные — сёстры наняли французского кондитера и приставили к нему в качестве учениц троих сирот, между собой сговорившись удочерить их, если проявят прилежание и расторопность. Матильда, конечно, знала все их секреты и сама присоединилась к их замыслу, пообещав снабдить девочек скромным, но приличным приданым, когда придет срок. Добрые затеи сестер были милы ее сердцу, а значит — и ей самой.
Мисс Лафлин сама подошла приветствовать гостью, сопровождаемая воспитанницей с фарфоровым подносом, разрисованным сценами из опер, в которых играла дива. Над кувшинчиком с длинной ручкой витал тонкий пар, и с ним распространялся аромат крепкого, хорошо приправленного корицей и перцем шоколада. Чашка белого фарфора стояла, как танцовщица в пышной газовой юбке, посреди широкого блюдца, и рядом на таком же блюдце молочной белизны замерли словно в грациозных па два крохотных в основании и фантастически сложно устроенных в высоту пирожных.
— Как мила! — одобрила дива скромный и любезный вид девочки.
— Не стоит хвалить девиц в глаза, — предостерегла ее мисс Элиза — со временем Матильда научилась различать сестер безошибочно. — Это портит.
— Не сомневаюсь, что она достаточно разумна, ведь вы сами выбрали ее. Впрочем, не мне нарушать ваши порядки. Благодарю вас, дорогая мисс Элиза, ваш шоколад возвращает меня к жизни.
— Вы и так вполне живы и разговорчивы, мадам! — укорила мисс Элиза.
Яркий полдень за окном вдруг потемнел и вовсе угас, так быстро, словно от налетевшей бури. Расторопная прислуга забегала — и матовые шары над столиками налились дрожащим голубоватым сиянием. Посетители как ни в чем ни бывало продолжали беседовать, между словами поднося к губам белые лепестки фарфора, облачка взбитого крема, шоколадные кружева.
Матильда не отводила взгляда от площади за окном. Деревья стояли ровно, наряды праздных горожан, столпившихся вокруг фонтана, колыхались от движений, не более того. Но тьма копилась и густела на глазах. Матильде показалось, что от стекла потянуло холодом — и дрожь побежала по ее плечам, по спине, руки сами собой стиснули салфетку. Тьма снова шла на нее.
Внезапно оказалась уже за дверью, на высоком крыльце, приподнявшись на цыпочки — впившись взглядом в темную, кипящую сверху и в основании, стеклянно гладкую стену, идущую на город, еще далекую, уже закрывшую солнце. Тягучее мгновение тишины — вдруг огромной перед глазами оказалась белая чашка с недопитым шоколадом. Изящная ручка обвила пальцы. Повернулась поставить ее на перила крыльца, и тут — звуки все сразу вдруг хлынули в уши — беспечные возгласы в толпе, запредельный неживой гул надвигающейся беды. Погасли солнечные блики в окнах, потускнели медные ручки дверей, умерло сверкание в выгнутых струях фонтана, поблекли пышные розы вокруг площади, алые и золотые наряды суматошинок, и повеяло холодом — это было как возвращение Тьмы, необъяснимое и неумолимое.
Сердце сжалось — и Матильда Сориа замерла и съежилась вокруг него.
Увидела, что между ней и восставшим на мир морем стоит памятник, а чуть впереди него — такой же, в простой куртке, длинноволосый, чуть отставив ногу, руки в карманах — и на плече отчаянно орет непонятная птица, разинув длинный клюв и распахнув остроконечные крылья — и этот, стоящий между Матильдой и морем, между Матильдой и Тьмой, не слышит ничего, не видит ничего, кроме…
Что бы он там ни видел, глядящий прямо во вздымающуюся тьму, а она таяла, истончалась, сквозь нее уже просачивался тонкий живой солнечный свет. И всё произошло так быстро, что Матильда отмерла, только когда соленая влага слабо плеснула в лицо. Солнце било в глаза, сердце стучало в груди, тот, с птицей, был теперь не виден, и Матильда сбежала с крыльца и быстрыми шагами устремилась к тому краю площади, где была лестница к морю, — туда, где он стоял. Толпа бурлила, выкрикивая глупости, люди словно обезумели, ее не узнавали, отталкивали и оттесняли, она с трудом пробилась к своей цели. Его не было нигде. Там, где он стоял, были теперь странные люди, растерянные, с глазами, как будто боящимися увидеть то, что перед ними. Они смотрели вниз, под ноги себе — и Матильда посмотрела тоже. Он был там, лежал такой непоправимо мертвый, что Матильда тоже, не выдержав, отвела взгляд. Это было так неправильно, что не могло быть правдой. И странные люди, стоявшие над ним, понимали так же, но они были только люди и ничего не могли исправить. Она же была — только звезда, сохранившая жизнь сердцу своего возлюбленного, но второго сердца она вместить не смогла бы. Даже одно человеческое сердце — непомерная ноша для звезды. Она могла только звучать так, как никто больше — ни одна звезда, ни один человек — звучать не мог. И она собрала всю себя воедино, и дала волю вечному звездному сиянию, подхватывая и усиливая бившийся в груди ритм в надежде достучаться до остановившегося, но еще, может быть, не насмерть остывшего сердца.
Ее голос еще только нащупывал правильный тон, а страшный звук лег поверх него и рассыпал в мелкие суетливые волночки, перепутанные и неустойчивые. Такое с ней было впервые — и Матильда замерла, вслушиваясь: что это?
А это была тьма, перерожденная в звук. Нет, не сама Тьма, не та — но людям Суматохи и самой Суматохе и небу над Суматохой и ее возрожденному солнцу — хватило бы на бесповоротную гибель и вот этой малой могучей тьмы, которая выливалась из почерневших уст женщины, стоявшей на лестнице тремя ступенями ниже. Она кричала. Она кричала проклятие, проклиная без слов, одним только звуком, который был больше ее голоса и больше ее самой, с которым она не могла совладать.
Она проклинала Суматоху. Она проклинала небо над Суматохой и солнце в небе над Суматохой, потому что ради них лежал мертвым тот, в простой куртке, с длинными волосами, рассыпанными по мраморным плитам.
Она проклинала, еще не понимая, что проклятие ее уже стало сильнее ее самой, что оно исполнится немедленно, сейчас, сразу, и, как голос Матильды Сориа, так же рассыплется на суетливые перепутанные волны в бесконечном пространстве вселенной Суматоха и ее небо, и все, что под этим небом, и мертвый человек, и его друзья, и сама проклинающая… И Суматоха, ради которой этот человек встал перед наступающей тьмой.
Сурья даже не стала делать вид, что поет: кому было дело до нее сейчас, под нарастающим звуком всеобщей гибели? Она выплеснула в ответ весь звук, который жил в ней, которым она и была — тот звук, который из невероятного далека бездонных небес кажется светом.
И черный звук проклятия рассеялся в нем.
Дрожавшая, как воздух над огнем, и начавшая оплывать Суматоха встала ровно и осталась стоять, как стояла всегда.
Матильда Сориа опустилась на колени и закрыла глаза.
Белый прах осыпался с пальцев.
Похороны Видаля
— А почему не на Туманную? — еле слышно спросил Рутгер.
Здешняя вода смирно стояла в берегах, отражая белые стволы, стремительный хоровод ласточек, порозовевшие облака. Семиозерье провожало своего мастера тихим закатом.
На крыльцо выглянула Ганна, окинула сидевших на ступеньках мужчин мрачным взглядом и качнула деревянным ведром на круто выгнутой ручке. Мак-Грегор тут же встал. Ганна ногой выпихнула на крыльцо второе ведро.
— Да что там, — вздохнул Олесь, — он же на свадьбу собирался, и вымылся небось, и в чистое…
Ганна зыркнула ведьмачьими очами, слова застряли у Гончара в горле, закашлялся.
— Тише, девушка, — вступился Мак-Грегор. — Он разве виноват?
Только дверь стукнула.
— От божевильна! — хрипло пожаловался Олесь. — Я-то что?
— Ладно, — Хэмиш сунул ему ведро и пошел к воде. Олесь покрутил головой и побрел за ним следом.
Кукунтай повернулся к Рутгеру.
— Туманная — просто место, которое он вырастил. Таких мест, знаешь… Много. А здесь его дом. Был. Копать умеешь?
Рутгер пожал плечами.
— Дитя городское.
— Не дитя! — проворчал Рутгер. — Давай, не тебе же лопатой махать.
Кукунтай в ответ сердито помахал ему пальцем.
Под вечер на дно вырытой ямы накидали еловых лап, прижали доской.
Надо было идти в дом — Ганна уже закончила свою работу, вышла на крыльцо. Но сидели еще до темноты. Из-за высокого куста бересклета появился Дождевой Ао, за руку вывел Мэри Мак-Грегор. Поднялся на крыльцо, прислонился спиной к двери, подождал и отошел, оглядываясь. На двери проявился Лукас-певец, лютня к груди прижата, тряхнул русыми кудрями, плечами повел, прилаживаясь к дубовым доскам, потоптался на пороге, поздоровался.
Мэри только взгляд один — к Мак-Грегору, а подошла к Ганне, обняла. Ганна вздохнула, сгорбилась и уперла лоб в плечо ей — не надо, не сдержусь. Мэри ее и отпустила, но осталась рядом.
Лукас на всех посмотрел, да и скользнул по темным доскам в дом. За ним потянулись остальные.
Стол в доме был большой, старый. Свежевыскобленные доски мерцали серебристо, выглядывая из-под расстеленной пестряди. Свечи высоко, ровно тянули пламя, тени по стенам качались большие и четкие. Между свечей лежал Видаль — длинный, едва поместился на длинных досках стола, потертая замша куртки вычищена, худые кисти рук сложены на груди; профиль резок, ресницы чуть не в полщеки, волосы на пробор, тускло блестят, сухие.
И не поминки еще, а молчать тяжело.
Ао крепился, держал мысли в ясности. От горькой тоски забыться бы, а тогда натянет тучи, зашуршит в буйной зелени дождь, и положат они друга не в сырую землю, а в грязную лужу. Ао кусал губы, покачивался, переводил взгляд со свечи на свечу, с досок на крепкие ножки стола, на тяжелые ботинки Мак-Грегора, на меховые унты Кукунтая, на тряпочные туфли Хо, на босые ноги Ганны, и опять к столу, и выше, под темный потолок… Крепился.
— Да он сам бы не молчал, — сказал вдруг Мак-Грегор.
— Так не поминки же, — жалобно повторил Ао.
— И на поминках будет кому сказать, — обронил Хо.
— Не ближний свет, пока доберутся. Но завтра все здесь будут, точно, — подтвердил Мак-Грегор. — Он не любил, чтобы молча сидели. И сам молчать не любил.
— Да нет как раз! — заспорил Олесь. — От него порой и слова не дождешься. Сидит с краю, слушает. Все говорят, а он молчит.
— Пусть уж будет как всегда, пока он еще… с нами… хоть так.
Кукунтай покосился на Ганну. Она наклонила голову, упрямо стиснула губы.
— Если заговорит, однако, и не остановишь, — возразил Олесю.
— Так он и говорил — про всё сразу. В одном всё помещалось у него. Это ж конца не видно, если обо всём говорить.
Мак-Грегор кивнул.
— Для него потому что любая дверь — все двери сразу. Вот так. Куда бы ни шел — шел всегда…
— К себе, — Ганна недовольно дернула ртом: не смолчала ведь.
Мак-Грегор опять кивнул:
— Так. Или от себя уходил. Кто ж его поймет.
— А вот мне он… — еле слышно выдохнул Рутгер, и Кукунтай положил руку на плечо бывшему ученику: говори. Заговорил, зачастил:
— А мне он зеркала принес, и у меня потом вот такие кудри выросли… А я в Суматоху потом идти боялся, думал — все смеяться будут. А он мне сказал: ерунда, если у человека не получается сразу всего себя прекрасным сделать. Надо хоть с чего-то начинать, иначе никогда с места и не сдвинешься… Сказал: пусть смеются, что у тебя не всё одинаково прекрасно. Зато у них всё одинаково отвратительно.
Рутгер удивленно перевел дух: сколько сказал сразу, а его не перебил никто, слушали.
— Да, — сказал Мак-Грегор, — Видаль всегда говорил: зачем нужен мастер, который не может сделать что-то приличное из самого себя?
— А не слишком загнул? Вот еще! Перед кем это мастер за самого себя отчитываться… да какое им дело?!
— Ну, поспорь с ним… теперь.
— Да он и сам вечно с собой спорил, и больше ни с кем! — подал голос Лукас. — Это же он сколько раз повторял… Кому какое дело, из чего мастер красоту растит! Кому какое дело, кто мастер сам из себя такой! Любуйтесь, живите, а мастера не трогайте.
— А мне как-то сказал: пока не умоюсь, не причешусь — из дому не выйду, месту не покажусь.
— Э, ты хоть раз видел причесанного Видаля?
— Да вот лежит — Ганна постаралась.
— То-то и оно…
— Эх, птицу его забыли.
— Да ладно, что уж теперь. Не до тряпок.
— Всё равно неладно.
— Да что вы, как на базаре? — в сердцах сказала Ганна. — Проводить человека не можете. Завтра наговоритесь, а сейчас молчать надо. Дайте ему хоть сейчас покоя. Вечно ведь: Видаль, а это что? Видаль, а это как? Видаль, а это зачем, почему? А что он младше вас всех…
— Да это же он сам вечно с вопросами: а это что, а это как? — возразил Хо.
— Да что вы все, сказились? — Ганна вскочила. Мак-Грегор и Хо ее взяли за локти.
— Ну а как, Ганна? Вот он — и нет его. А как поверить, что Видаля нет?
— Провожай человека так, чтобы нравилось ему, а не на свой вкус, — строго наставил Хо. — Ты-то здесь при чем, Ганна? Это его смерть.
Ганна дернулась — отпустили. Подошла к Видалю, наклонилась. Между губ прилепилась волосинка, дрожит от сквозняка. Ганна медленно вздохнула. Ему уже ничего не мешает. Но сняла волосинку, сдунула с пальцев. Медленно вернулась и села на скамью.
Стали молчать. Свечи горели высоко, тени стояли по стенам. В тенях мастер Лукас, забывшись, перебирал нарисованные струны.
Ветер ударил в окно, брызнул моросью по стеклам.
— Ао, не спи! — дернулся Тюлень.
— Надо разговаривать.
— Это не я, — обиделся Ао. — Это оно само. Место.
— Отделилось уже, созрело.
— Все равно плачет.
— Как же не плакать? Дитя.
— Чье? Это же Хейно его зародил.
— А Видаль усыновил.
— Да он же и сам наполовину — Хейно?
— Был.
— Ганна, Ганна, куда ты?
Вывалилась на крыльцо: ночь, дождь. Как будто снова Хейно хоронить. Как будто и правда лишь половину Хейно похоронили тогда, а теперь вот — и вторую половину зароют. И еще только завтра можно будет выжечь душу злой горилкой, а сегодня — сиди ото каменной бабой в трезвости и ясности, в горе и раздирающей душу тоске.
— Да уж приложило тебя — чуть город не выморила с горя.
Чорна обернулась, посмотрела с нижней ступеньки. Свет из приоткрытой двери не падал на нее, обтекал. Только глаза и блестели, казнящие глаза.
— Мати… Чорт ма во мне розуму…
— Да уж я знаю. Иди, сядь сюда: обниму.
Ганна ссыпалась к ней по ступенькам, нырнула под черный плат, поджав коленки, свернулась в тепле. И заплакала, и плакала, пока совсем не устала. Мьяфте гладила ее по голове и молчала.
— Мати…
— Что, доню?
— Я ж ему спеть могла, чтобы жил. А я кричала смерть.
— Не бери на себя, что не по твоей мерке. Ты родить можешь, убить можешь. Воскрешать — не твое дело. Не человечье.
Ганна помолчала с этим.
— А что ж ты его не воскресишь?
— Я никого не воскрешаю, — отрезала Мьяфте. — Сколько-то пожил, да и будет с него. Я и Хейно моего отпустила с миром, за что же этого неволить? Он себе сам выбрал участь. Он не мог знать одного: отстоит ли Суматоху. А что ляжет там — будь уверена, в этом он не сомневался.
У Ганны хватило слёз оплакать и это.
— А ты что не плачешь? Тоже ведь Хейно дохоронить пришла?
— Я-то? — вздохнула Мьяфте. — Это ты его неупокоенным в себе носила. А я не умею путать мертвое с живым. Всё оно моё, да всё разное. Ладно, иди в дом.
— Не хочу, мати.
— Не твой черед хотеть. Посиди с ним, пока он еще… Нет, не твой, но и ничей. Побудь с ним, погрей его жизнью. Не ты ли за ним вьюном вилась — а умер, так и не посидишь рядом. Иди.
Ганна неловко распрямила затекшие ноги, поднялась в дом. А там — только что не дым коромыслом! Вот скаженные: Лукас на лютне наяривает плясовую, а эти все… мастера… смеются, говорят все наперебой, кричат уже — друг с другом спорят, перебивают, по плечам друг друга хлопают, толкаются. Мэри, Мэри, и та, к Мак-Грегору тулится, а ногой по полу стучит, такт отбивает, этой самой плясовой такт, которую нарисованный на досках мастер Лукас жарит так, что свечи подпрыгивают!
— Ах вы!.. — на них злым голосом рявк! И дверью хрясь! И ногой топ!
И замерли все, на нее глядя. А она, как с цепи сорвавшись:
— Да как вы смеете? Да кто вам позволил?!
— А кого мы спрашивали? — еле слышно спросил Хо.
— Ни при Хейно, ни при Видале ты, Ганна, здесь хозяйкой не стала. И теперь не будешь. Не твой он. Не командуй.
Вот чего Ганна оплакать еще не успела, и не в добрый час Тюлень ей под руку подвернулся, сам полез на рожон.
— Да ты-то здесь кто, приблуда? — ощерилась Ганна. — Ты иди, откуда пришел, рыбоед недолугий, одоробло скаженне!
— Сама ты дура, девушка, — с достоинством отвернулся Кукунтай.
Этого уже не стерпел Олесь, прыгнул, схватил маленького шамана за грудки и с лавки сорвал.
— Да ты свои слова обратно проглотишь, или я тебя!..
— А ну, оставь! — подлетел к нему, вцепился в его руки Рутгер — с глазами круглыми, сам белый, в ярости.
Тут и началось — одного от другого оттаскивают, Ганна кроет их всех словами, Мэри за лавку держится, ноги поджала, чтобы мужчинам не мешать, свечи качаются, тени мечутся, мастер Лукас им со стены кричит, чтоб дурака не валяли.
— Что здесь происходит?
Не услышали.
— Нет, вы мне скажите, что здесь творится?
Не заметили.
— Вы! Мне! Скажите! Чем вы здесь занимаетесь?
И тишина воцарилась в полной неподвижности: все, как похватали друг друга, так и держатся, и смотрят, смотрят. А на столе между свечей Хосе Видаль сидит, птицу по тряпочным крыльям гладит, успокаивает. А она присела, растопырилась, клюв раззявила и шипит змеей.
— Так и что делаете? — повторил Видаль.
— Тебя хороним, — брякнул Рутгер и повалился на пол, под ноги Олесю — тот его и подхватить не успел.
— Ну, молодцы, — почесал в затылке Видаль. — Громко хороните. Весело. А еды поминальной напасли? Я что-то проголодался…
Стол накрывать кинулись мигом, даром что все пришибленные были. По ходу дела можно разобраться, что к чему, а тут человек с того света — и есть просит. Мы ж не звери какие! Кормить же его, немедленно!
А Ганна вышла. Опять одна, опять на крыльцо, уже нарочно подождала, не объявится ли Мьяфте. Не объявилась.
Сидела сама, думала, думала.
К рассвету дождь перестал, белесые клочья тумана опустились в траву. Видаль вышел к ней.
Сел рядом, молчал долго.
— Ганна…
— Молчи, — опустила голову почти на колени. — Ты умереть готов, лишь бы на мне не жениться.
Опять молчал. Пальцем отодвинул ползшего по ступеньке паучка.
— Может быть, и так.
Ганна встала, ушла, не оглядываясь. Да он за ней и не пошел.
Сапоги тонули во мху, за шиворот капало с веток — а она даже платка не накинула, вышла сидеть на сухом крыльце. Вот так и вся жизнь — не ладится, не там она оказывается, не к тем душой тянется, не о том заботится, не того просит и клянет не то. И ничего ей уже не остается здесь, никого…
— А вот Олесь — что же? Или цыганенок твой?
Мьяфте-дева стояла, прислонившись к сырой березе, теребила черную косу.
— Я думала — ты ушла.
— Ну что ты, такое пропустить!
— А ты знала?
— А то!
— А что мне не сказала?
— А я нанималась тебе говорить? — фыркнула девица. — Так я говорю, чем тебе цыган не угодил?
— Скажешь тоже! — фыркнула в ответ Ганна. — Он юбку мою скверной назвал, не пустил на свина своего сесть — это я еще понять могу, но почему? Вот потому что скверна я ему, и подол мой грязен и его безвозвратно загадит. И свина его загадит, ты бачь!
— А, это они правильно понимают, откуда жизнь — оттуда и смерть.
Рядом с ней было безбольно, покойно так, что можно было дышать не через силу каждый вдох, а как будто оно само дышится. Ганна задышала, распрямилась.
— Как это — откуда жизнь, оттуда и смерть?
— Из тех же ворот. Что есть жизнь? Чем она от смерти отличается? В ней движение есть, рост есть, начало и конец. И как случается какое начало — так об руку с концом и является на свет.
— Так это потому я скверная, что могу живое родить? Ничего себе!
— Страшно им. Если можешь жизнь родить, то и со смертью накоротке, понимаешь? А под юбкой у тебя та самая дверь, из которой люди в мир приходят.
— Уходят-то — в могилу.
— А ты в нее заглядывала? Дыра черная, вокруг насыпано. Им, дурачкам, на одно лицо.
— Ох, что ж ты говоришь такое, мати…
— Кому, как не Матери, знать. Ну с этим ясно, он честно о своем страхе говорит, хоть и валит с больной головы на здоровую. А Олесь-то чем негоден?
— Да ну его, — отмахнулась Ганна. — Просто ну его и всё. Не до него мне теперь. Я плакать буду. Год, два. Всю жизнь. Не гожусь я больше ни на что, сама смотри.
— Смотрю, смотрю…
— Так я, мати… Я спросить хочу. Можно так сделать? Никаких мне хлопцев больше не надо, ни Петруся того, ни Олеся, ни черненьких, ни беленьких… Мати, можно я тебе буду угождать, как ты есть Дева? Буду как ты. Одна. На всю жизнь прими меня. Можно я буду — твоей?
Чорна положила руку ей на голову:
— Ну, побудь, детонька, побудь.
Фейерверк в Суматохе
Из крупной угловатой коробочки, висевшей на толстом травяном стебле, выбиралось нежное существо из светло-зеленого мелкоскладчатого шелка. Оно было мягкое и такое тонкое, что страшно смотреть. Шелк медленно расправлялся, натягивался на прозрачных жилках, темнел, приходил в движение — быстрым мерцанием и тихим рокотом наполняя воздух.
Видаль стоял над ним до самого конца — пока коричнево-лиловый бархатный бражник не взлетел над ним в прозрачные сумерки Семиозерья. И тогда — давно, нарочно и накрепко забытой тропой Видаль прошел в солоноватую сушь Десьерто.
За спиной, за кромешной тьмой остались догуливающие несостоявшиеся поминки друзья, внезапно строгая и отчужденная Ганна, полное влажной зеленой жизни Семиозерье. Вокруг была каменистая пустыня, вдали — горы и Лос-Локос, а также Марка с ее рыночной площадью, которая в Суматохе сошла бы за пустырь. Но то в Суматохе — а здесь и малому были рады, к тому же Видаль не хотел тревожить спорый на сплетни приморский город.
В Марке был неярмарочный день, и скобяная лавка была открыта, но в полсилы: перед дверью стоял небольшой прилавок, на котором разложены были замки и дверные петли, крючки и гайки, торсы и цепи, одним словом, скромное скобяное изобилие. За столом, служившим прилавком, погруженный в свои мысли, сидел носатый длинноногий мужчина средних лет, с завитыми локонами, свисающими из-под полей черной шляпы, и в бороде с небольшой проседью. Видаль взглянул на него — и почему-то вспомнил, что никогда не спрашивал, что делал мастер Куусела в этом отдаленном, пустынном, пыльном и скучном краю. Зачем приходил тогда, куда и к кому? Откуда возвращался через Лос-Локос? А ответ был вот он: вытянув ноги, так что они торчали далеко из-под прилавка, натянув на самый нос шляпу, чуть покачиваясь взад-вперед, перед Видалем, несомненно, сидел мастер. И он, конечно, почувствовал пристальный взгляд — приподнял шляпу, быстро оглядел Видаля с ног до головы и, втянув ноги на свою сторону, поднялся.
Видаль, поскольку это он пришел сюда, немедленно представился.
— Магазинер, — ответил хозяин скобяного добра. — Мастер Йося Магазинер. А это наша лавка, моя и брата.
Птица — длинный нос, вороная масть, только что шляпы не хватает, чтобы не нарушать компанию — выскочила из-за пазухи и важно прошлась между замков и гаек.
Мастер Йося проследил за ней озадаченным взглядом и перевел его, не меняя выражения, на Видаля.
— Вы ведь покойного мастера Кууселы ученик? По делу или просто так? Благополучны ли? Что давно не заглядывали в наши края?
Видаль растерялся от обилия вопросов, на которые, как ему показалось, и не ждали ответов. Потому решил прямо перейти к делу.
— Мастер Йося, где вы берете вещи?
— А вам, молодой человек, для чего это знать?
— Ну, я хочу спросить, можете ли вы мне достать одну вещь…
— И как это связано с тем, где я их беру?
— Ну, может быть, там нет этой вещи…
— Может быть и нет, а вам что?
— Да что вы всё вопросами?!
— А вам подавай ответы?
Птица смотрела на мастера Йосю веселым глазом, смотрела на Видаля веселым глазом, клюв раззявила — ни звука, а видно, что от хохота заходится.
— Не на того напали, молодой человек. Некоторые вещи знать полезно, а узнавать не стоит. И некоторые вещи иметь полезно, а доставать не стоит.
— Есть время собирать, и есть время разбрасывать, я хочу немножко разбросать, — прищурившись, сказал Видаль. — Я не знаю, где это записано, сам не видел, но знаю точно, что есть такое. А еще в другом месте сказано, что именно надо делать с памятниками при жизни.
— Так вам, молодой человек, нужен динамит? Так бы и сказали! — радостно воскликнул мастер Йося. — Нет, динамита там нет.
Птица быстро перевела взгляд на Видаля: что-то будет делать теперь? Видаль задрал подбородок, отвернулся, смерил небо хмурым взглядом.
— А в другом месте?
— Вот видите, молодой человек, вы начинаете понимать силу простых вопросов.
— Да я их всю жизнь задаю — и что вы думаете, как мне отвечают?
— И как?
— Да вот так точно. Но я бы все-таки хотел узнать про динамит.
— Сколько?
Тут Видаль оказался в затруднении. Сколько динамита нужно для того, чтобы взорвать памятник на одного? Вот такого роста, в шляпе, с птицей на плече — Видаль взъерошил птичьи перья, — бронзовый. Сколько?
— Когда? — и теперь ответил вопросом упрямый мастер Йося.
— Хотелось бы сегодня, — рискнул Видаль.
— Боитесь, что памятник убежит?
Мастер Йося, не оборачиваясь, сказал в темный дверной проем за спиной:
— Мойшеле, сходи принеси горных хлопушек пяток со всем прикладом, молодой человек желает разбрасывать камни. Мрамор? — обернулся он к Видалю.
— Бронза.
— Ну, в данном случае это все равно.
Видно, горные хлопушки лежали недалеко: невидимый Мойшеле высунул наружу длинную, как у брата, руку и передал ему рогожный мешок с небольшим и нетяжелым содержимым. Мастер Йося заглянул в него и удовлетворенно кивнул. Торжественно взглянув на покупателя, он положил мешок на прилавок и широко раскрыл его горловину. Внутри лежали коричневые цилиндры из пергаментной бумаги, моток шнура и еще какие-то мелочи, которые Видаль сразу и не разглядел — но мастер Йося не отпустил его непросвещенным.
— Я вижу, юноша, что вы, простите, человек неопытный. Мне, конечно, совершенно неинтересно, чем вам не угодил ваш памятник — может быть, между вами и вашим скульптором непримиримые эстетические противоречия. Но мой сон был бы беспокоен по крайней мере несколько ночей, если бы я отдал вам в руки эти опасные предметы, никак не познакомив вас с необходимыми мерами предосторожности. Что вы, позвольте вас спросить, знаете о динамите?
— Ну… — ненадолго задумался Видаль. — Динамит. Им взрывают. Например, памятники. В горном деле тоже…
— Это всё?
— Всё.
— Очень неплохо для начала. Но я бы добавил несколько слов от себя. Позвольте вам представить: великое изобретение господина Нобеля — динамит. Замечательный пример того, что целое может быть больше суммы своих частей. С одной стороны, мы имеем отвратительно капризную жидкость, готовую взорваться от малейшего чиха. С другой стороны — какие-нибудь опилки, мел… а лучше особый грунт с морского дна — спрессованные давлением воды останки некоторых водорослей.
Мастер Йося слегка приоткрыл обертку из пергаментной бумаги.
— Видите эту розоватую массу? Это он и есть. Замечательный, надежный динамит. Можно хранить, перевозить, трясти сколько угодно… С ним одна проблема: поджигать его без толку. Он отвечает любовью на любовь, а именно: чтобы он взорвался, надо его взорвать. Хитро, не так ли?
— И правда, — согласился Видаль. — Хитро. То есть, если я хочу взорвать эти большие трубки, я должен… взорвать что-то другое?
— Совершенно верно! Что-то маленькое и более сговорчивое, скажем так. И поэтому самым главным изобретением господина Нобиля был даже не динамит, а вот эта, к примеру, медная трубочка, в которую вставлен шнур… Вы внимательно смотрите, молодой человек? Эта трубочка меньше мизинца длиной легко оторвет вам пару-тройку пальцев и лишит глаза. Будьте, пожалуйста, уважительны к ней. Хотя она и устроена так, чтобы взорваться только от огня, который проникнет в ее крохотное чрево по этому шнуру, молотком по ней стучать все же не советую. И вот… Огнепроводный шнур, так это называется, молодой человек. Он пропитан специальным составом и даже в дождь способен исправно доставить огонь по назначению. Важно не промахнуться с расчетом, иначе огонь добежит до детонатора быстрее, чем вы — до укрытия.
Снова и снова оказывалось перед глазами поднявшееся до небес море — и вставший перед ним человек. Ни отвернуться, ни зажмуриться. Всё он стоит и смотрит, смотрит — и не отступает. А волна больше него, волна закрыла небо — словно и больше неба она, если отсюда смотреть. А он стоит. Как это? — удивлялась Сурья, как он встал против большего, не должно быть так, потому что и смысла нет.
Но смысл оказался самый прямой — вот стоит Суматоха, как стояла прежде, хотя на самом деле она не стоит, а течет и кружится, потоки мелодий подхватывают и несут по брусчатым мостовым, по набережной Адмирала графа Шпее, куда стекает нарядная публика с Ратушной площади, и на крышах над площадью в сгущающейся ночи уже почти не видна суета приготовлений…
Матильда Сориа, Сурья, комочек звездного воска, помнит и видит, как вот здесь, вверху лестницы, лежал длинный, нескладный человек, свесив бессильную мертвую руку с верхней ступени, а немного ниже валялась тряпичная птица, нелепая игрушка взрослого, с торчащими нитками, разбухшими от влаги отяжелевшими крыльями и яростным блеском в дрожащей на пуговичном глазу капле воды.
Игрушечная эта птица была похожа на тех, которых видела Сурья не раз в своих вековечных скитаниях по дорогам людей — а люди прокладывают дороги только для торговли и для войны, и сколько битв она видела, столько же раз видела и стаи птиц, кружащие над остывающим полем боя. Такие вот черные, сильные птицы — души погибших в бою, черные, обожженные яростью, и не всем из них суждено побелеть, улетая в вышину. Их путают с вороньем, но воронье слетается позже.
Такая черная птица-душа отчаянно билась в сжатой добела руке, когда красавица в свадебном венке убивала Суматоху горестным проклятием. И не заметила — не услышала за горем и яростью — как убивает и птицу.
Когда мастера унесли тело своего товарища, Матильда Сориа спустилась на три ступени по лестнице и подобрала искалеченную тряпичную тушку. Она была тяжелой от остатков воды в ней. Как она могла быть одновременно и душой, и игрушкой, Матильда не понимала, да и не заботилась об этом. Чтобы тот человек мог умереть по-человечески, его душа должна взлететь. Матильда бегом кинулась через площадь — к добродетельным и добронравным строгим сёстрам Лафлин.
Она не ошиблась в своих надеждах: мисс Элиза и мисс Эмма оказались столь же искусны в рукоделии, сколь и в музыке. Тряпичное брюхо было деликатнейшим образом вспорото и набивка из черной шерсти извлечена наружу. Чистая ароматная вода в фаянсовом тазу вымыла остатки морской соли и из нее, и из лоскутной шкурки. Солнечного света заботливым сестрам показалось мало, и немедленно были раздуты угли в жаровне, и смолистые сосновые шишки были уложены в нее, и спасаемое было высушено так быстро, как только возможно. Пока шерстяное нутро еще оставалось влажным, сёстры занялись шкуркой: миниатюрные ножнички обрезали обтрепавшиеся края, быстрые иголки заштопали протершиеся места отменным черным шелком. Металлические бусины глаз сёстры решительно отпороли и начистили мелом — чтобы затем аккуратнейшее пришить их на место.
Сурья всё это время могла только не мешать — и она изо всех сил не мешала, сидела, скорчившись на козетке, стиснув руки и не открывая рта. Сёстры что-то спрашивали у нее, но тут же сами отвечали на вопросы и продолжали свое дело сосредоточенно и без суеты. К вечеру черная птица была словно бы лучше новой. Как-то между делом добрые сестры вышили шелком гладкие перья на крыльях и хвосте, расшили грудь богемским бисером, им же сделали удлиненную кайму вокруг глаз и шапочку на голове, кое-где разбросали темные искры по шелковым перьям. Сёстры оставили ее на столике с расправленными крыльями и встали по сторонам, повернувшись к Матильде, молча ожидая ее приговора. С трудом разлепив губы, она попросила: положите на окно. И заплакала. Деликатные сестры выполнили ее просьбу, вложили в ее пальцы батистовый платочек и выскользнули из комнаты. Когда Матильда наконец промокнула глаза и посмотрела — птицы уже не было на подоконнике. Прощай, сказала Матильда и заплакала снова.
Вечерний спектакль был отменен: слишком шумно и нервически-весело праздновала Суматоха свое спасение. К наступлению ночи был обещан фейерверк на крыше ратуши, и вся публика, без сомнения, предпочла бы зрелище огненного действа самым утонченным мелодиям. Матильда отправила записки: своей модистке — с просьбой доставить в кондитерскую Лафлин скромный полутраур из готового платья, а также домой, чтобы оттуда прислали подходящие перчатки и шаль, и осталась до вечера у добрых сестер.
В платье цвета персидского индиго, накинув темно-серую кашемировую шаль наподобие мантильи поверх гладко уложенных волос, Матильда Сориа вышла на Ратушную площадь праздновать спасение Суматохи. Так было правильно. Если он счел нужным лечь мертвым перед памятником самому себе, значит, город стоит того, значит, его спасение стоит праздника. И вот он, праздник.
В небо с грохотом и воем летят дрожащие от нетерпения ракеты — и в вышине разлетаются огненными брызгами, затмевая звезды. Вспухающие облака золотых искр, алмазный дождь, летящий потоком вниз, пляшущие созвездия алого, зеленого, синего — торжество бертолетовой химии, ослепительный праздник хитро составленных смесей. Повторяющийся грохот, короткий вой, треск и полыхание, ликующие крики толпы, яростные попытки оркестра прорваться сквозь праздничный шум. И среди всего этого яркого и яростного праздника уцелевших, спасенных — высокий постамент на площади и над ним силуэт длинного человека в широкополой шляпе и с вороной на плече. Памятник качается и двоится сквозь пелену слёз. Матильда трет глаза, но их точно — двое там, рядом, на постаменте, и один из них придерживает шляпу рукой, а его птица неловко взмахивает крыльями, пытаясь удержаться на плече. Птица!
Сердце ревниво вздрагивает — и Сурья улыбается: разве ты только что сейчас вот заметил? Сейчас он живой! — колотится сердце. А был мертвый. Как я. Сердце моё, говорит Сурья, моё, ибо другого нет у меня, сколько можно быть мертвым? Давай же любить. Ты собираешься быть счастливой? — спрашивает сердце. Ты помнишь? Да, отвечает Сурья, я помню: две тысячи лет. Так что же — не зря же я их прожила. Я собираюсь быть счастливой, я собираюсь любить, а потом будь что будет — но я хочу знать, ради чего умер ты. Я хочу знать, ради чего умру я. Да будет так, соглашается сердце.
И Матильда Сориа, спустив шаль на плечи, решительным шагом двинулась сквозь толпу.
Куртка и шляпа лежали на газоне, окружающем постамент. Птица скакала по ним, щерясь, словно сторожевая собака. Матильда, приподняв подол, перешагнула через низенькую ограду. Впервые за все время, что жила в Суматохе, она удосужилась заметить бронзовую табличку на постаменте, и обнаружила, что ее герой вовсе не был безымянным. Сейчас он, закатав рукава, возился с веревками там, наверху.
— Видаль! — с наслаждением окликнула его Матильда. — А что вы там делаете?
Длинный человек оторвался от своего занятия, посмотрел на нее и охотно ответил:
— Собираюсь взорвать этот памятник. Вам бы лучше уходить отсюда, потому что я уже сейчас закончу подготовку и начну взрывать.
— Напротив! — воскликнула Матильда с неожиданным оживлением. — Дайте руку. Мы поместимся вдвоем там, на площадке. Вам неудобно обматывать — я помогу с той стороны.
— Сеньора… — начал было Видаль, но засмеялся и протянул руку. — Скиньте шаль, она будет вам мешать.
— Нет же, — возразила Матильда, разглядевшая теперь в подробностях его приготовления. — Как раз веревка скользит и съезжает, а шалью можно привязать очень удобно, чтобы эти штуки не рассыпались. Если сложить вот так…
— Действительно!
В четыре руки они быстро закончили дело. Матильда ликовала: пригодилась шаль, как нельзя более к случаю оказались ее туфли на высокой шнуровке, она снова встала рядом с ним и поддержала его дело. Что со мной, сердце моё, спрашивала она — и сердце учащало радостный пульс. А он смотрел на нее веселыми глазами, выглядывая из-за бронзовых складок, удерживал ее руки в своих, передавая концы шали, спрашивал, не боится ли она. Нет, отвечала Матильда, нет! Бесшабашное веселье захлестнуло ее. Что это, спрашивала она, и сердце билось сильнее.
Они закончили как раз к перерыву между номерами фейерверка. Совсем немного пришлось подождать. Наконец грохот стих, вспышки в небе остыли и погасли, на крыше ратуши возобновилась невидимая суета.
— Эге-гей! — закричал Видаль с постамента.
— Эге-ге-гей! — вторила ему Матильда во всю мочь тренированных легких.
— Эгей! Эгей! — Видаль размахивал подожженным шнуром.
— Как — уже? — испугалась Матильда.
— Нет, это чтобы напугать. Настоящий — потом.
— Эге-гей!
— Добрые граждане Суматохи! — крикнул Видаль, когда толпа на площади разобралась куда смотреть и кого слушать. — Спасибо вам за этот памятник, но я сейчас его к чертям разнесу на куски. Я не шучу.
Музыка оборвалась. Толпа отступала от памятника сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. Все сложилось благополучно: памятник стоял над лестницей, на краю площади, поэтому большинство людей устремилось в противоположную сторону, а там площадь открывалась в три широкие улицы. Самые смелые и любопытные попрятались в арки и парадные.
Видаль спрыгнул вниз, затем, протянув руки, принял в них Матильду, нарочно скользнувшую губами по небритой щеке.
— Вы умеете бегать быстро? — спросил он, улыбаясь, но с серьезными глазами.
— Еще как! — воскликнула Матильда. Все тело ее мелко дрожало, дрожали пальцы и губы, но она сказала с лукавой улыбкой: — У сестер Лафлин нам будут рады. Вы любите шоколад?
Он не ответил, просто поднес горящий фитиль к другому — настоящему, ведущему к укутанным кашемировой шалью динамитным патронам. Нахлобучил на голову шляпу, подхватил куртку, взял Матильду за руку. Они вдвоем перешагнули кованую низенькую ограду и пустились бежать, не разнимая рук, в кондитерскую. Птица летела над ними с громким радостным граем.
На крыше ратуши не разобрались, что происходит, или просто не успели потушить запалы. Когда грохнул взрыв, выбивший стекла в окнах кондитерской и других заведений, помещавшихся вокруг площади, и обломки памятника, взлетев, покатились по ступеням, небо окрасилось разноцветными вспышками, следовавшими одна за другой. Разлетались причудливыми цветами, созвездиями и плюмажами яркие искры, сыпался с неба золотой дождь.
Видаль и Матильды вышли из-за стены и встали в пустом проеме окна, все еще держась за руки.
— А ты ведь мог просто убрать его… как волну. Да?
— Это было бы неправильно, — сказал Видаль. — Правильно — вот так.
И Матильда сильнее сжала его руку, соглашаясь.
Спаси меня
— Сколько же у тебя одежды, — сказал он утром. Матильда приподнялась на локте и окинула спальню удивленным взглядом.
— В самом деле!
Траурное платье цвета персидского индиго валялось на полу с нелепо раскинутыми рукавами. Вокруг и поверх него в самых драматических позах громоздились шесть крахмальных юбок, распахнутый корсет выставил напоказ льняное нутро, сорочка и кофточка словно бы прильнули друг к другу в смятении, чулки перевились с подвязками, панталоны распластались по ковру, как будто застыли в испуганном прыжке.
— Не представляю, как я с этим справился.
— Я тебе помогала, но это между прочим. Решительная победа осталась за тобой. Но ты представь, что я надела всё это на себя не далее как за час…
— И ты позволила мне на это покуситься?
Матильда засмеялась.
— Ты как будто в первый раз… — и прикусила губу. Видаль насупился.
— Как будто в первый раз видишь столько белья, — поправилась Матильда.
— Таких дам раздевать не приходилось… — и с вызовом добавил: — Видишь ли, я из простых.
Матильда прищурилась недоверчиво, но ничего не сказала, а он на нее не смотрел.
— Милый, я не дама. Я актриса, певичка, я всего лишь примадонна здешней оперы, но до сестер Лафлин мне как до неба. Хотя нет, значительно дальше. А это всё — просто куплено за деньги. Но я не дама, запомни и не называй меня так.
— Почему?
— Потому что тебе это не нравится, — снова засмеялась Матильда. — И потому что я не дама.
Видаль схватил в руки ее всю, прижал к себе и сам прижался к ней, втиснул лицо ей в волосы, сильно вдохнул ее запах.
— Ты странно пахнешь. Как будто издалека. Далеко-далеко. И это так хорошо, что ты не дама!
И Матильда засмеялась еще раз:
— О нет, мой прекрасный Видаль, лучше бы я была дамой, но об этом — еще не теперь.
— Не теперь, — согласился он и забыл об этом сразу.
А потом он снова спал, а Матильда смотрела на него, сначала — облокотившись на локоть, а потом села, подобрав под себя ноги и накинув на плечи одеяло, потому что ей стало очень холодно. Он дышал так ровно, а Матильда смотрела, а он и не тревожился под ее взглядом, спал себе и спал, так покойно, безмятежно, как будто не он всего лишь… День? Два? Совсем недавно встал против волны, а потом умер, а потом воскрес и пришел на свой праздник с динамитными патронами. Сколько же ему лет и кто он, спрашивала себя Матильда, потому что по человеческим меркам — никак не сходилось.
А потом он открыл глаза — внезапно, даже не дрогнули ресницы, не шевельнулись брови, как бывает у просыпающихся. Просто открыл глаза и посмотрел на нее пристально.
— Я вспомнил, где я тебя видел.
Гладкие волосы длинными прядями вдоль темного лица, красивого и пугающего: словно все люди сложились в нем, и оттого оно на человеческое лицо совсем не похоже. И как будто за спиной ее, в темноте, шевельнулся льдистый блеск и сверкнули длинные ледяные лезвия. И тьма там, тьма непроходимая. И холод лютый, беспредельный, невозможный в обитаемых местах.
— Она велела забыть. Но теперь я тебя узнал.
— И кто я? — обмерев, спросила Сурья.
— Я не знаю, — ответил Видаль. — Но ты мне написана на роду. Как-то судьбы связаны у нас.
— А вот это хорошо, — мрачно откликнулась Сурья. — Это очень хорошо.
— Я не хочу рассказывать тебе это. Но я расскажу. И знаешь что? Сначала шоколад.
— Ты уверена? — спросил Видаль. — Мне кажется, ты дрожишь. Может быть, лучше расскажи сразу?
— Мне холодно, — сказала Сурья. — Так и должно быть. Но я не думала, что так скоро. Может быть, шоколад меня согреет. Может быть. Очень крепкий шоколад, с перцем и мускатным орехом. И без молока. Целебное средство, мой дорогой Видаль, и мне больше не на что надеяться.
Она резво выскочила из-под одеяла, легкая, ладная, и Видаль не захотел думать о страхе в ее глазах. Она сама — очень не хотела, чтобы он думал. Только льющиеся по спине волосы, только скользнувший по смуглому бедру солнечный блик, только белый сполох батиста, мелькнувший на свету и окутавший ее.
— Одевайся здесь, — сказала, поеживаясь. — И выходи туда, — указала на дверь справа, а сама вышла в дверь напротив.
Нет, не видел, не слышал. Еще немного не видеть и не слышать. Не замечать страха, который ветвится в ней, как первый ледяной узор по застывшей воде. Скоро всё кончится, но не теперь, не сразу вот сейчас. Видаль поднял с ковра рубашку и сунул голову в нее. Еще не теперь. Она не торопится — ей виднее. Но в рубашке запутался и долго не мог попасть в рукава.
Сама принесла шоколад.
— Я думала, мы еще… Что будет, как это в романах, прогулки… в ландо, и вокруг цветущие деревья… И музыка, знаешь, Штраус…
Чашки нервно звенели о блюдца и она едва не опрокинула кувшинчик — и тогда вздохнула глубоко и замерла, а потом стала все делать медленно.
— Я скоро умру.
Видаль молчал, но смотрел на нее.
— Нет, давай не будем об этом.
— Хорошо.
Видаль никогда еще не пробовал такого — пряного, и обжигающего, и нежного. Она не отрывала глаз от его лица, наслаждаясь эффектом.
— Да? Да?
Но в глаза избегала смотреть.
— А бывает, что не нравится! Глупым людям, бывает, не нравится — особенно если прежде пробовали неправильно приготовленный… — снова зачастила она. — Мое предназначение — разбивать сердца. И я разобью тебе сердце. Я хочу быть с тобой. Потому что теперь я умру. Но сердца срастаются, я знаю. Я знаю теперь. Первые сто лет я захлебывалась его болью — но и это прошло. Я хочу быть с тобой. Они мне хозяева, но я защитила себя на две тысячи лет несчастья. А теперь они призовут меня — и я пойду, так устроено. Две тысячи лет они искали меня и не могли найти, но теперь мой срок вышел — и я унесу им твою боль…
— Матильда! — наклонился к ней испуганный Видаль.
— Нет.
Она наконец посмотрела ему в глаза, очень прямо.
— Зови меня — Сурья.
И хотела про это объяснить, но увидела, как Видаль опускает руку с наклоненной чашкой и шоколад льется, льется по столу и стекает за край.
— Мне холодно. Согрей меня.
— Может быть, ты поспишь немного?
Они вернулись в спальню. Шоколад не помог — Матильда дрожала от холода, кутаясь в одеяло и в руки Видаля.
— Нет, я хочу рассказать тебе всё, что знаю. Я много забираю у тебя — и хочу еще больше. Но об этом потом. Я хочу дать тебе что-то взамен. Но у меня ничего нет. У меня есть только то, что я знаю. Этого не знает больше никто. Никто из людей. Но я помню, и ты слушай меня, а потом я попрошу у тебя невозможного — и ты это сделаешь, правда?
— Правда, — отвечал Видаль, прижимаясь губами к ее ледяному рту. Ему все казалось, что она постепенно холодеет и истончается, становится прозрачной. И он обнимал и обнимал ее, и слушал, слушал.
Я видела, как пала Тьма и мир рассыпался на тысячи осколков.
Я видела, как уцелевшие люди на осколках мира бродили, опустошенные, как земля, без памяти и смысла. Те, кто оказался под покровом тьмы, никогда не вышли на свет, их просто не стало там. Вышли другие. Память — их собственная память, воспоминания каждого из них, единственные и неповторимые, как узор радужки, так никогда и не вернулись к ним. И без памяти, без смысла, они были более жестоки и более беспомощны, чем звери. Они убивали без цели и рыдали без горя. Их разрывали чувства, которых они не узнавали.
И тогда, я видела, Чорна ходила между ними, от острова к острову, в кромешной тьме, и будила в них ту память, что лежит в самой глубине, спавшую в них беспробудно память рода, подвластную ей.
И я видела, как они стали селиться вместе и устраивать жизнь так, как устраивали их предки. Давным-давно мертвые имена оживали на их губах, когда они нарекали своих новорожденных. Мертвые обычаи создавали и охраняли их жизнь.
Мастера появились сразу — я знаю, кто был первым, его звали Джон и он смог увидеть. Может быть, дело в том, что рядом оказалась я — и я светилась во тьме. Но я не уверена, потому что и другие мастера как будто сами собой завелись в разных частях мира. Так что я не знаю, кто кого спас. Может быть, увидев мое свечение, он смог увидеть и свет. Может быть, он сам его видел — и в его свете мое сияние спряталось… Так или иначе, Их затея провалилась. Они не нашли меня тогда.
— Ты говоришь… Это сделали твои хозяева? Чтобы найти тебя? Вот просто так разрушили мир?
— Они не разрушили, только затемнили.
— Этого хватило… Убить людей, убить мир. Ради того, чтобы найти потерянную… солонку?
Сурья ощерилась.
— Солонку! Ты…
Рука ее поднялась и пальцы согнулись, как хищные когти, целясь ему в лицо. Но волна дрожи снова прокатилась по ее плечам, и она опустила руку, опустила взгляд.
— Ты прав. Для них все так и есть. Им всё равно — люди, не люди. Найти укатившуюся под стол солонку. Не перебивай меня больше. Слушай про мастеров. Вот как было. Не зная друг друга, не сговариваясь, словно повинуясь инстинкту, они подбирали самые мелкие осколки мира и выращивали их — жаром собственного сердца, пристальным взглядом любящих глаз.
Им казалось, что они творят мир из ничего.
Но это не так.
Это никогда не было так.
Тьма лишь поглотила мир, но не ей уничтожить его. Ваш мир — один, целый, подобный драгоценности среди драгоценностей, в сияющей звездами бесконечности, в окружении множества миров. Тьма скрывает его. Мастера… как дети, дышащие на замерзшее окно. Мир есть. Они верят, что видят его — и освобождают из тьмы.
— Значит, мы не рисуем картины? Мы лишь стираем пыль со старых холстов?
— Нет, мой Видаль, нет. Не так. Не с чем сравнить: то, что было, что кануло во тьму — его уже как бы и нет. У него нет видимости. Вы не просто ее восстанавливаете, вы — правда! — вы создаете ее заново. Так, как подскажет ваше сердце, чутье, то, что вами руководит, я не знаю, что это. У меня этого нет. Ты не можешь создать то, чего не было. Ты не можешь создать то, чего не может быть. Но то, что может быть, ты создаешь сам, создаешь его собой, создаешь его своим. Таким, как только ты… только ты один можешь его создать. В темноте столетиями оно было и не было. Было собой и не было ничем. Ты возвращаешь его сущность, существование. Понимаешь?
— Наверное. Неважно. Но скажи тогда, как же — мелочи? Не выращивание мест, а… Ну вот — как я стер волну с неба над Суматохой?
— Хороши же мелочи у тебя, мой Видаль. Ты сам ответ на свой вопрос. Мелочи…
— Ну, я не это…
— Да, конечно. То-то и оно.
— Но я не понимаю. Как оно устроено?
— Если подумать, что волна подобна Тьме… Понимаешь? Ты просто освободил из-под нее солнце и облака, небо Суматохи. То, что ты умер после этого — нормальная цена за такое.
— Я не понимаю.
— Чего теперь, любимый?
Видаль сглотнул, сильнее обнял ее. Она дрожала.
— Спрашивай, пока я здесь.
— Твои хозяева. Ты говоришь, прошла тысяча лет, пока они хватились тебя. А потом сразу Тьма. Не понимаю. Они о тебе забыли?
— Это вряд ли. Просто их время не совпадает с твоим, как твое не совпадает со временем Суматохи, например. Хотя всё по-другому. Они не больше твоего мира. Они не меньше его. Они совсем другие, и все у них по-другому. В небе всё иначе, чем на земле.
— Еще ты говоришь, что Чорна спасала людей. Я с ней знаком. Немного. Мой учитель был с ней знаком хорошо. Почему она никому не говорит о том, что случилось с миром?
— Мой Видаль, она не сказала тебе. Откуда тебе знать про остальных?
— Понятно. А…
— Что еще?
— Не знаю. Говори теперь про то, чего ты хочешь от меня.
И Сурья сжалась в комок и заплакала. Она стала как будто маленькой, Видаль держал ее всю в руках, как ребенка, хотя глазами видел, что она остается прежней. Но в руках ее было все меньше и меньше.
— У меня есть сердце, — сказала она. — Вот здесь. Это единственное, над чем они не властны. Но его уже не отделить от меня. В несчастьях оно было от меня отдельно. А теперь мы с ним — одно. Это сердце Ашры.
— Они сделали тебя без сердца? — удивился Видаль.
— Солонка. Перечница. Соусник. Зачем сердце?
Он обнял ее сильнее — а она все свободнее помещалась в его руках, как будто он обнимал, обнимал, а не мог до нее дотянуться.
— Вот так это и будет, — сказала она. — Я просто исчезну — и окажусь у них, а все твое горе достанется им к обеду.
— Вот радости-то, — саркастически заметил Видаль. — Без соли истосковались поди.
— Нет, — слабо мотнула головой Сурья. Вид у нее был такой, как будто она засыпает, а в руках ее почти уже и не оставалось. Но она подняла руку, завела ее Видалю за голову и нащупала шрамы у него на затылке под волосами. Видаль зажмурился от ужаса — и вдруг почувствовал сирое и неживое пространство в своих руках… Он открыл глаза, чтобы увидеть хотя бы сонную тень ее. Но и глазами ее уже не было видно.
Он не поверил.
Но ее действительно не было.
Тогда он упал лицом в постель и рыдал, и проклинал тех, кто пожирает сейчас его горе, дрожа от вожделения и восторга.
Наконец рыдания кончились, кончились и слёзы. Он сел, спустив ноги на пол, и принялся одеваться, двигаясь размеренно и безжизненно. Вдруг уронил руки на колени, засмеялся:
— Ты так и не сказала мне, чего ты от меня хочешь!
И еще не договорив, понял.
Лестница в небо
Мисс Эмма кормила птицу кусочками печенья, мисс Элиза гладила ее по отливающей зеленоватым металлом спинке.
— Смотри, Лорелин, кто пришел! А кто пришел! — воскликнула первая, улыбаясь Видалю.
— Не Лорелин, а Кармела, — возразила вторая с уже заметным раздражением в голосе. Похоже, этот спор длился не первый час.
— Лорелин? Кармела? — спросил Видаль, почти радуясь возможности отодвинуть миг, когда придется сообщить сёстрам о том, что случилось.
— Конечно, она Лорелин!
— Откуда вы это взяли, сеньориты?
— Кармела! — упрямо выставила подбородок мисс Эмма Лафлин. — Она сама сказала, когда мы спросили.
— Лорелин! Несомненно, она сказала «Лорелин».
Птица посмотрела по очереди на обеих и, вскинув длинный клюв, издала переливчатый звук, который с тем же успехом мог означать как «Лорелин», так и «Кармела», или «Шарлотта», или «Ромуальда».
— Вот видишь! — воскликнули сестры слаженным дуэтом и кинули одна на другую укоряющие взгляды и слегка надули губы.
— Но погодите… Сеньориты, как вы вообще решили, что это девочка?! Я всегда считал…
Мисс Элиза испустила полный возмущений вздох, мисс Эмма потупилась и даже, как показалось Видалю, слегка покраснела.
— Даже мысли такой не могу допустить!
— Разве не очевидно…
— Она ночевала в моей спальне!
— Мужчины такими не бывают.
— Что ты знаешь о мужчинах? — язвительно заметила мисс Элиза. — Вот я точно могу сказать — это типичнейшая женщина, и любопытство, проявленное Лорелин…
— Кармелой!
— Проявленное Лорелин к моим серьгам…
— И к ложечкам!
— …И браслетам…
Видаль заморгал и беспомощно развел руками. Птица Лорелин — или Кармела — посмотрела на него с откровенной насмешкой и постучала по столу, а затем приоткрыла клюв и произвела трогательную трель. Сёстры немедленно прервали спор и в четыре руки принялись ломать печенье.
В конце концов, подумал Видаль, зачем сообщать об этом добрым девушкам? Или я сделаю то, о чем она меня просила, или я просто не вернусь. И птица не вернется. И они останутся совсем одни на свете, не считая воспитанниц. Как я смею лишать их возможности попрощаться тем, кто им дорог? Но и объяснить им, что произошло и куда он идет, Видаль решительно не мог. Если Сурья захочет открыться своим друзьям — она сможет это сделать, когда вернется вместе с Видалем. Если же не вернется, будем считать… Впрочем, и считать будет некому. Решено.
Он протянул руку, и птица проворно вскарабкалась по рукаву на плечо.
— Прошу прощения, сеньориты. Она мне нужна. Я постараюсь вернуться как можно скорее, — и в этом он не лгал, только немного лукавил. — И тогда я предоставлю ее в ваше распоряжение надолго. Обещаю.
Он слегка прикусил губу: обещать не следовало. Ах, если бы здесь было крепкое место! Если бы знать, что слова произнесенные — неотвратимо сбудутся… Не дано. Ну и не надо, обойдемся. Он торопливо поклонился, скрывая тревогу, и оставил добрых сестер.
В Семиозерье по-прежнему шел дождь, мастера однако не расходились, ждали хозяина. При жизни Хейно дом был не сказать чтобы гостеприимным, но у Видаля все стало по-другому, все сюда дорогу знали и знали, что где лежит. Поэтому хозяйничали вовсю, к полной растерянности Рутгера, пытавшегося быть за хозяина в отсутствие учителя. Что он сам от ученичества отказался, ему не напоминали, но и не очень-то на него внимание обращали, когда он пытался о гостях позаботиться. Присутствие Кукунтая смущало парня еще больше, он старался не оставаться с шаманом наедине, обходил его так, чтобы случайно не задеть, отводил взгляд — но, едва оказавшись у него за спиной, глаз не отрывал. Кукунтай терпеливо притворялся, что это его не касается, и для облегчения своей участи Рутгера вовсе не замечал, а когда рассвело, вышел с Мэри погулять на опушку.
Олесь тихонько разговаривал с Лукасом, привалившись боком к теплой печи.
Мак-Грегор ушел на озера, прихватив удочки и Хо.
Ао бродил под дождем, их пряди перепутались, их души слились воедино — и Ао стал так же прозрачен и текуч, почти незаметен среди намокших ветвей.
Нелегкая это была забота, и впрямь: оказать гостеприимство мастерам.
Ганна перебрала почту, сложила письма по адресам, потом метнулась было к печи… Но остановила себя, вспомнив как окоротил ее Кукунтай. Хотела взлелеять обиду — но тут оказалось, что у печи возится Мьяфте, гремит посудой, шлет Рутгера в подпол, сердито оглядывается: что нейдешь помогать? На такую ораву поди наготовь! Ганна только рукава вздернула — и за дело.
Засобирались по домам, когда второй день гостевания перевалил за полдень. Видаля уже и не ждали, наверное. А он — вот он, сам собой и с птицей на шляпе, как в старые добрые времена, будто и не было ничего: ни волны над Суматохой, ни смерти, ни скорбного бдения, ни буйного пира. Просто вышел из-за поваленной березы и сказал: вы куда? Мне есть что сказать, и помощь ваша нужна. Срочно. Сейчас. Поднялся на крыльцо, посмотрел на всех. И начал говорить. О конце света, о звезде по имени Матильда, о сердце Ашры, о музыке звезд и о происхождении ууйхо. И о том, что Сурья Беспощадная, фарфоровая барышня с камина, восковая кукла, столовый прибор Холодных господ — ждет от него помощи и спасения, и он спасет ее. Просто потому, что больше некому. На самом деле некому, сказал он, глядя в глаза Хо. Это мое дело, сказал он. Но одному с этим не справиться никак.
— И если вы пойдете со мной сегодня, — сказал он, — вы будете делать такое… Вы будете делать то, чего никогда не делали. Обещаю.
Видаль поднял брови и губы прикусил: что это обещания сами собой выпрыгивают, и именно сегодня?
— Такое вот… Чего не делали никогда.
Мастера смотрели на него. Он был младшим из них, если не считать Рутгера, который и не мастер… И если не считать того, что половина жизни Хейно Кууселы текла в жилах Видаля — и ничего, через край не переливалась. Хватило ей места в теле и в душе Хосеито. И все же он был младшим, пришел позже всех — и они смотрели, как он указывает им путь и дело, и взгляды их были пристальны и строги.
Видаль вдохнул поглубже и зачем-то повторил:
— Чего не делали никогда.
И добавил:
— И у вас получится.
И сжал кулаки.
— Я обещаю.
Он дышал глубоко и часто и жалел, что здесь не крепкое место, где всякое слово сбывается, потому что не может не сбыться. Но Хо посмотрел на него исподлобья и сказал веселым голосом:
— Если у нас получится, это место станет крепким. А откуда, ты думал, берутся крепкие места?
Видаль прислонился спиной к стене. Голова кружилась. В теле словно звенели натянутые струны.
— Но нам придется хорошенько потрудиться, да? И ты еще сам не знаешь, что нам придется делать, да? Оно хоть стоит того?
Видаль не ответил. Это его дело, а им-то что? Но без них он ничего не сможет, это он знал точно.
— Ладно, я спрашиваю не вообще. Для тебя — оно того стоит?
— Да, — выдохнул Видаль мгновенно, даже не дав договорить. — Да!
— Ну так и говорить нечего, — сказал Мак-Грегор и поднялся на крыльцо — поставить удочки.
— Да, — сказал Видаль, схватив его за рукав. — Ты!
И потащил вниз с крыльца.
— Ао! Можно без дождя теперь?
— Некоторые дела легче начать, чем закончить, — проворчал Ао. — Кажется, сейчас ты начинаешь как раз такое. Дождь, мальчик, останавливается сам. Когда ему хватит. Но я его все же попрошу. Для тебя. Это никак на него не повлияет, но я попрошу.
Видаль повернулся к Мак-Грегору.
— Хэмиш, послушай… Мне нужен мост. Отсюда — дотуда. Понимаешь?
Капли дождя стали реже и медленнее.
Мак-Грегор кивнул, прищурился, глядя в небо. Мэри с криком заметалась вокруг его колен, привставая на задних ногах, пытаясь заглянуть в запрокинутое лицо. Но Мак-Грегор опустился на колено, притянул Мэри к себе, положил руку ей на голову: не бойся.
— Нет, — сказал Мак-Грегор. — Далеко. Не дотяну. Очень, очень далеко. А что же ты сам? Ты ведь ходишь, где хочешь.
— Далеко. Я не знаю, куда. И… страшно мне. Там — ничего… пустота, первородная тьма… Куда угодно — могу. В никуда — не умею.
— А я не дотяну, — опустил глаза Хэмиш. — Слишком длинный мост нужен.
— Слишком длинный, говоришь? — встрепенулся Видаль и встрепенулась птица на шляпе. — Слишком… Хм. Рутгер, дитя мое… А построй-ка ты мне лестницу в небо.
— Куда?
— В небо.
— А там — куда?
— Ты строй, там разберемся. В небо, за небо, пока не упрется… Как упрется — так нам туда и надо.
Рутгер вздохнул, облизал губы, зачем-то оглянулся на Кукунтая, пошире расставил ноги, подышал еще — и снова оглянулся. И Кукунтай вдруг опустил плечи, откинул голову и прикрыл глаза. И подошел к Рутгеру и встал рядом с ним.
И тогда от дома покойного Хейно Кууселы, от самого крыльца, рванулась в небо лестница, каких не бывало — жерди с перекладинами, привязанными лубом, в сучках и занозах, зато до самого неба. Она поднималась над землей, достигала низких облаков, уходила в них, едва просвечивая, и терялась в их ватной глубине.
— Я не вижу дальше, — обернулся Рутгер. Лестница заколыхалась на ветру.
— Смотри на нее, смотри! — закричал Видаль.
— Да, — откликнулся Рутгер. — Я буду смотреть.
И первым взялся за перекладину и полез наверх.
Видаль придержал Кукунтая.
— Моя очередь. А ты за мной, и держи ее. Нам еще по ней возвращаться.
И еще он сказал:
— Кто хочет — за нами!
Рутгер все лез и лез вверх, споро перебирая руками и ногами, и строил лестницу впереди себя прямо из души, как фонарь испускает луч, пронзающий тьму. Перекладины звенели его восторгом, а он еще успевал кричать, выплескивая обиду:
— Вот я как пригодился! А никто не может, как я! А ты все ругался!.. А я вот!.. А никто!..
И Видаль отвечал ему, задрав голову:
— Да! Ты такое можешь, что больше никто! Только не оглядывайся!
Ветер небытия трепал их волосы, ветер небытия на этой небывалой высоте сорвал шляпу с Видаля — птица едва успела вцепиться когтями в волосы и теперь жалась к затылку, распластав крылья и гневно шипя.
— У каждого свой дар, — кричал Видаль. — У тебя — свой!
— А ты говорил! Большо-ое! Вот!
— Какие ты горы можешь построить, парень, какие! Как никто! Роскошные горы! Только не оглядывайся!
— И леса! И поля! — ликуя, выкрикивал Рутгер.
Лестница тряслась и раскачивалась, Видаль чувствовал, что за ним поднимается не один Кукунтай. Но посмотреть вниз он не решался. Там все соберемся, в конце концов — тогда и будет видно, велико ли наше войско.
И они поднимались и поднимались, а небеса все не кончались, но кончались силы, а тьма была все так же сильна и даже как будто сгущалась. Тонкие волокна белесой мглы потекли в ней, и чем дальше поднимались мастера, тем волокна становились толще и плотнее, соединялись и растворялись друг в друге, и вскоре все заволокло как будто туманом, колышущимся в пустоте.
И Рутгер остановился и посмотрел на Видаля растерянно.
— Я не могу дальше… Ну всё, вот всё уже. Дальше — никак.
— Ну тогда я пошел.
— Ты же не знаешь куда?
— Здесь уже близко. Я чувствую ее. Я — к ней.
Он закрыл глаза и задержал дыхание, с усилием сглотнул — и оттолкнулся от верхней перекладины, и словно прыгнул куда-то вбок, и исчез. Рутгер сильнее вцепился в дрогнувшую от толчка лестницу и повис на ней без сил. Хотелось зажмуриться и ничего не видеть. Кукунтай осторожно пролез прямо к нему и обхватил рукой за плечи. Рутгер оторвал одну руку от слеги и вцепился в короткий мех летней парки.
— Закрой глаза, отдохни. Я здесь, — сказал Кукунтай и прижался к нему.
Так их и нашел Мак-Грегор, обнявшихся посреди мглы и пустоты.
— Вот молодец, — сказал он про Видаля. — И что же нам делать здесь?
— Я могу пойти к нему, — вызвался Рутгер. — Я умею. На самом деле лестница уже крепкая, сама держится. Я все делаю быстро.
— Ты слишком торопишься, — проворчал Мак-Грегор. — Ну, ты к нему пойдешь, а мы? Мы, все мы?
— Это ты слишком торопишься, — сказал Кукунтай. — Здесь недалеко. Можно строить мост.
— Да, я уже все придумал. Я же говорю, я быстрый. Я туда и обратно — и скажу тебе, сколько моста надо и в какую сторону.
— Да здесь и сторон-то нет!
— Есть стороны, — сказал Кукунтай. — Не надо обратно. Стой там, я покажу Мак-Грегору, где ты.
Рутгер прижался лбом к его лбу и спрыгнул с лестницы.
Моста оказалось нужно всего ничего. Если бы не мгла, если бы не тьма, можно было бы пересчитать веснушки у Рутгера на щеках. Любой бы перепрыгнул отсюда туда. Но никак нельзя было туда пройти, кроме как по мосту Мак-Грегора. А мост он строил так: снял с пояса нож, отстругал от лестницы щепку и прижал ее подошвой к перекладине. Мост, сказал, мостик мой, мостки дощагые.
И в самом деле, легли над пустотой мостки дощатые, легкие, зыбкие.
А каменный мост, сказал Мак-Грегор, мне здесь не на что ставить. Какой есть — по такому и идите… Если верите. А нет — так я ничем не помогу.
И сам первый шагнул на мостки, утверждая их место и суть.
Оно всё плавало в пустоте, где ни света, ни тьмы. Видаль видел в два, в три слоя, а то и больше: вот Сурья, безумная, стоит посередине бесконечности, и волосы ее плывут вокруг нее беспорядочными потоками, а вот ее тень видна сквозь, но теряет очертания и плотность, растекается струйками небытия, а вот восковое тело висит в середине гулкого пространства — ледяная сфера замыкает его внутри и кишит бесформенными облаками, и тут же видятся Видалю тощие богомольи фигуры, и одна из них над восковым телом наклоняется — а вокруг, выше и ниже, справа и слева, мигают медленные, словно неживые звезды.
Хищная фигура близоруко склонилась над телом, повела коротким носом, ковырнула длинным ногтем — раза в два длиннее самого пальца — и лениво потянула вдоль, от пупка в сторону ключиц, вонзая ноготь всё глубже в тусклый воск.
И в то же время ничего такого не было — была тьма, было мутное облачко, были холод и беззвучие пустоты.
— Так это и есть сердце? — подцепив трепещущую мышцу ногтем, чудовище подняло ее и уставилось с отвращением. — Ради этого куска человечьего мяса ты оставила нас, Сурья?
— Положи на место, — громко и внятно произнес Видаль.
Тогда они заметили его.
Он так никогда и не узнал, снизошли ли они до того, чтобы говорить с ним. Гул и хруст раздавался в его ушах, когда они смотрели, но ничего больше он не услышал, а если и услышал — не понял. Впрочем, говорить с ними он не собирался. Он смотрел.
Сурья, распростертая восковой куклой на ледяном ложе, с распоротой бескровной грудью, повернула голову к Видалю.
— Оставь. Не стоит. Я создана, чтобы ранить и убивать, оставь меня.
— Нет, ты создана, чтобы светить, а этих больше не будет.
И перевел на них медленный, пристальный взгляд.
— Это не ваш мир, — взмолилась Сурья, пытаясь защитить его. — Это небо. Здесь это не сработает.
Но он не откликнулся: он смотрел.
Рутгер встал рядом с ним, покрутил головой, не разобрался. Заглянул в лицо учителю. Тот смотрел и смотрел, как будто видел что-то невероятно прекрасное и непреложно существующее.
Рядом встал Мак-Грегор, не стал долго разбираться, спросил:
— Что ты видишь?
— Звезды.
— О нет, — прошептала Сурья, — нет. Ты не можешь творить звезды, звезды — это…
— Не мешай, — шикнула на нее Ганна и встала рядом с Видалем. — Рутгера кто-нибудь придержите.
— Да незачем, — хихикнул толстый мастер Хо. — Звезды бывают разные. Видишь ли, солнце — тоже звезда, только очень, очень большая в небе.
— Можно, я тоже попробую? — обрадовался Рутгер. — Я только одну, маленькую…
— Большую, — отрезал Мак-Грегор.
— Иди сюда, Мэри. Какой будет твоя звезда? Маленькой белой овечки здесь точно не хватает.
Они вставали, вставали — откуда только они приходили, кто оповестил их — неизвестно, но они поднимались один за другим по великой лестнице, построенной Рутгером Рыжим, и вставали плечом к плечу, и устремляли свой взгляд в колеблющийся белесый мрак. И он редел и таял, а сквозь него все яснее, все жарче, все несомненнее проступали — звезды.
И не стало мглы. И тьма иссякла, побежденная их светом.
Видаль поймал в руки живое сердце, вырвавшееся из рассыпавшегося льда.
— Олесь… — тихо позвал Мак-Грегор. — Погляди, сможешь помочь чем?
— Вот разоворотили… — замер над воском Олесь. — Ну как же так? Одно слово — нелюди. Но ничего, если это было вылеплено… Погоди, да это ж Матильда Сориа! Как же так?
— Да вот так, — ответил Видаль. — Вот так.
— Поди ж ты… А я слушал ее в опере. А она, оказывается, вот кто.
— Она тоже… вроде свистульки твоей, гуделки, гусёнки твоей.
— Понял, — буркнул Олесь, хмурясь и поводя руками с разведенными пальцами над разоренным телом Сурьи. — Будет тебе твоя гуделка. Погоди только, дай понять ее.
Водил над Сурьей руками, тянулся и не дотягивался пальцами, ласкал-гладил-лепил тонкий свет, исходивший из нее. Наконец, решился.
— Ну, как говорится, пчелка лепит из воска, а ласточка из глины. Был я ласточкой — побуду и пчелой. Клади ей сердце.
А Кукунтай искал ее душу.
А Ганна пела ей песню.
А Мэри плакала над ней.
И Сурья увидела: это и есть ее братья, ее звезды. Это они встали за нее.
Письмо от Чорной
На шестах черепа мертвый свет испускают из глазниц — а когда-то наоборот, впускали свет в живые глаза. А если взять такой череп на палке, да принести в живой мир — все попалит и умертвит, один прах горький останется. Потому и не идет Ганна в живой мир, что в сердце ее только горький прах, а из глаз — мертвый свет. На что упадет тот свет, все в пепел обратится. Нет ей радости, нет и боли. Так она думает, думает медленно, словно застревает в этой мысли, как муха в меде, а в руках дело спорится: двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь да пойди в закром, возьми четверть пшеницы… Всегда у Мьяфте дело найдется для нее, а сама чуть рассветет — за ворота, и до ночи. Батрачкой себя зовет Ганна, но не про это ее горевание. Сама пошла в работницы, своей волей, не жалеет. Да и нет никакого горя, и радости тоже нет.
Лес за частоколом вечно зелен, а на дворе и день от ночи не всегда отличишь, все здесь всегда одно и то же, и дела у Ганны всегда одни и те же: двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь да пойди в закром, возьми мерку мака… Да еще не забудь перед закатом покликать солнышко. И кличет его: быцю, быцю! И бредет красный бык под гору, и пьет из реки, а что потом — покрыто тьмой и ночью. А с утра снова: двор, изба, обед, пшено…
И хорошо ей от этого: покойно. Время идет и не идет. Жизнь совершается и не совершается. Есть Ганна, нет Ганны — все одно.
Сколько бы лет ни прошло. Сколько бы дней…
Так и отвечает, когда Мьяфте спрашивает, нет ли какого желания у нее:
— Все мне хорошо, ничего не желаю, ни о ком не тужу.
— И о Видале не тужишь?
— Женился Видаль, что о нем тужить.
— И о Чирило не тужишь?
— Не сойтись нам, разные мы.
— И об Олесе не тужишь?
— И не было между нами ничего, о чем тужить…
— А помнишь, был у тебя Петрусь?
— Ой, бабусю, то когда было. Поди и жинку мае, и диточек…
— Узнавала?
— Нет, бабусю. Да что ж узнавать? Парень видный такой, ласковый, один не остался. А в Криву балку не вернулся он. Где-то живет. Ну да и счастья ему, долгих лет… Если жив еще, бабусю, сколько лет у людей прошло, это я скачу, как неприкаянная, на свиньище дикой… у мастеров гощу, лягушек им пою, птах и зверей всяких. Звезды из Тьмы вызволяю… А его-то жизнь и протекла уже.
— Узнавала?
— Нет, бабусю. Незачем. Мне и так хорошо.
И снова день за днем: вычисти, вымети, прибери, состряпай. О том ли думала, набиваясь к Чорной в прислужницы? Может, виделось, как будет девой дикой верхом на свинье проноситься мимо людей, мимо их домов, их судеб, их жизни и смерти? И не вспомнит теперь. Только — разве не это и было с ней с тех пор, как покинула родительский дом, и до сей поры? Разве не от этого сбежала сюда? Сбежала… Нет, сама выбрала и пошла новой дорогой, вот такой: внутри забора, осененного черепами, свет очей их миру живому — смерть.
Повечеряли, Ганна посуду собрала, села прясть. Крутись, веретено, тянись ниточка…
— А ты что ж, так и будешь теперь лавку просиживать?
— Ой, мати… та я же ж… и по воду, и еду сготовить…
— Не твое дело — по воду ходить, почтарка.
— Та я ж теперь у тебя служу.
— Служит она… Служи. Только мне прислуга-то не нужна. Или я сама по хозяйству не управлюсь? — грозно нахмурилась Чорна.
— Ой, мати, та я ж как лучше… угодить…
— Делом своим занимайся — а я сама из этого возьму, что мне причитается.
— Так сама ж уроки задаешь.
— Вот тебе урок. На письмо — отнеси.
Ганна замерла, глядя недоверчиво.
— Непослушная?
Метнулась к двери — где под мешками схоронила сумку с неразнесенными остатками почты. Вытянула сумку, перекинула ремень через плечо. Тревожный, настойчивый шепот десятка голосов тут же коснулся ее слуха. Ганна тряхнула головой, зная, что так от них не избавиться, не унять — и никак не унять, пока не отдашь письмо адресату. Оно говорить должно — не может молчать — и пока не найдет того, к кому речь обращена, всем кричит: найдите! помогите! А слышит только почтарь. Ганна вздохнула: как тут быть? Пойдешь с сумкой разносить письма — по дороге новых надают, а те разносить — еще набрать работы почтарской, и бесконечно так, до самой смерти. Но если Сама велит — как отказать?
— Давай, мати, отнесу.
Мьяфте протянула ей сложенный листок. Ганна, тая любопытство, едва на него глянула — да так и застыла. Посмотрела на Чорну, посмотрела на листок. Прочитала, шевеля губами, чтобы развеять морок. Не развеяла.
На сложенном листочке старательными круглыми буквами было выведено: Петру Мамаенке в собственные руки.
— Да что ж ты, мати, творишь?
— А почему сама до сих пор?..
— Да где ж его искать?
— А где всех ищешь?
— Письма ведут!
— Вот и написала бы.
— Я свое не могу. Не выйдет.
— Мое отнеси.
Ганна сглотнула, выпустила ремень сумки, уронила руки.
— Да как же, мати… Ведь старик он, а то и помер давно.
— На могилку положишь.
— Мати, не казни!
— Вот письмо — клади в сумку, седлай Мотрю и вперед. А что там впереди — не твоего ума дела. Да там того ума! Думаешь, будет тебе с кем другим счастье, когда ты сама ему невестой звалась?
— Та я ж так… не в крепком месте…
— А крепче сердца и места нет, девонька. Седлай Мотрю. Пока с ним — хоть в могиле — не попрощаешься, так и будешь…
— А я так и хочу! — выкрикнула Ганна сквозь ком в горле. — Так и хочу. Одна, при тебе.
— Не твое дело рассуждать, почтарка. Вот почта. Седлай Мотрю.
Ничего не изменилось в мире — по крайней мере, с виду. Тьма все так же обнимала отделенные друг от друга жилые места, и сквозь нее все так же было не пройти спроста. Только через перевозы, или по мостам Мак-Грегора, или как немногим дано — вслед за движением души переноситься и плотью. А у Ганны свой путь и свой обычай, один-особенный. Мотре только понюхать письмо — не всякая гончая так след берет. И ведь чудо, что находит она не того, кто письмо писал да в руках держал, слезами облил, следы телесные оставил, а вовсе даже наоборот. К тому мчится Мотря, чье имя на письме надписано, кому назначено в руки его принять и прочесть — или выслушать, что почтарка перескажет, порой ею же самой и записанное со слов отправителя. А Ганне — знай в седле держись, пятками по мохнатым бокам постукивай, за ушами чеши, а то и прилечь можно — на такой спине могучей, как на печи, жарко и надежно. Мотря тогда ровно идет, плавно несет всадницу, не взбрыкивает, не козлит, как любит порой — просто от силы пышущей, от удали веселой, от горячей крови гиперборейской, в тугих жилах бурлящей. Так вот скок-поскок, копытами стук-постук и выносит Ганну к селам и городам, к стоянкам на трактах, к рыбацким поселкам, к артелям бродячим, везде, где люди есть и письмам рады или хотя бы весточке какой, в три слова: такие-то живы, ждут.
А у Ганы полсумки писем, но не соблюла она черед. Первым отнесет письмо от Чорной, разом покончить со всем, не тянуть. Хоть старику белому вручит, еще и сама прочитает, ведь не узнает ее старик! Хоть на могилку положит — всё свобода. А потом уж вернется в избушку, или не вернется — коли Сама ее за ворота выставила, станет письма разносить, добрым людям радость и горе раздавать, оставаясь сама вне их судеб и путей.
Прыгая с места на место, Мотря пронеслась через половину обитаемой вселенной и последним длинным скачком приземлилась в знакомом месте. Ганна давай ее понукать: скачи, мохноногая, дальше нам! Но свинья уперлась раздвоенными копытами в землю и давай тереться боком о плетень, разоряя Олесево жилье.
Сам Олесь выскочил на крыльцо с ложкою в руке: обедал стало быть, из-за стола подняла его гостья нежданная.
Ганна спрыгнула на землю, в руке письмо комкает.
— Прости, Олесю, скакунья моя что-то напутала, вот письмо несу — а к тебе примчала меня.
— Что, не мне письмо? — усмехнулся Семигорич.
— Не тебе, — вздохнула Ганна.
— А кому же?
— Да ты не знаешь.
— А вдруг?
— Ты все жартуешь! — рассердилась Ганна, да не на Олеся, на себя, что сердце в ней колотится, что под ногами земли нет, словно опять стоит в просторе небес и делает то, чего прежде никогда не делала. Только не справиться ей в этот раз, нет способа помочь судьбе, была судьба — да и вышла вся много лет назад.
— А ты скажи, — Олесь губу прикусил, ложку заметил — за пояс толкает, а все мимо попадает, будто руки отдельно от него сделались и не слушаются.
— Ну и скажу, — Ганна почти задыхалась, воздух как будто внутрь не шел, глотаешь его, глотаешь — а все не в прок. — Петру Мамаенке письмо, а тебе-то что до того?
— А мне ничего, — вскинул голову Олесь. — Мне — ничего. Эй, Петро, тебе тут почту принесли. Выйди, получи.
И сам спустился с крылечка, встал рядом, чтобы видно было того, кто вот-вот покажется в проеме двери.
Ганна вцепилась в подпругу побелевшей рукой. Верить — не верить, не решилась еще, а сердце в горло выпрыгивает, колени подгибаются. И страшно ей поверить, и раньше, чем успел Петро доехать на тележке своей до двери, Ганна ярче яркого представила его, выходящего к ней из хаты, высокого, ладного, кудрявого, с лаской в карих глазах, с улыбкой на губах, любимого, точь-в-точь того, с кем зори встречала, соловья слушала, кому обещалась в жены, когда еще ничего, ничего не знала о своей судьбе.
Таким он и вышел — только руками вцепился в косяк, с отвычки-то.
Птички
Так пусто и одиноко стало в хате, что не сиделось в ней, не елось и не спалось. Все ушли, всё кончилось. Снаружи тоже радости не находил Олесь: Ореховая балка выросла и встала ровнехонько, самое время вещички собирать мастеру и в другое место перебираться, только не хотел Олесь сюда посторонних звать. Здесь радость его еще мерещилась, тем и говорила о себе, что не стало ее — и отсутствие ее наступило. По тому, как сильно ранило оно, он и вспоминал, какой чистой и сильной была радость. И не в силах был сам развеять последние ее следы. Но мастерской работы ему не осталось, высматривать теперь означало бы вредить живому. Балка погружалась в сон, сыпала золотой листвой, подпускала в зелень травы жухлую седину, утихала, замедлялась вся. Быстро устанешь от таких прогулок, что всё вкось смотри да поверх. Олесь оставался во дворе, вертел гончарный круг, но и круг не вертелся ему. Каждый вечер решал себе: наутро непременно уйду. И каждое утро задерживался, медлил, сидел без дела на ступеньке или под навесом, если в дождь — и оставался до вечера, и снова решал уйти, и снова оставался. Когда кончился весь припас, выбрался в Дорожки. Приоделся к зиме, целую телегу нужного для обустройства на новом месте купил. И остался зимовать в Ореховой балке.
Зима что была, что не было. Была тишина и одиночество, были долгие ночи и короткие слабые дни, были морозы и снег, наполовину заваливший окна, лучина в светце и длинные, подробные и неразборчивые сны, по которым утром душа томилась. Вспомнить их было невозможно, только маленькие кусочки, как цветные камешки, застревали надолго. Что-то милое и радостное, что-то желанное и по сердцу — но о чем, к чему? Откуда пришло, куда идет? Не вспомнить. И вся зима прошла, как сон. Откапывался, ходил в лес по дрова, кормил пшеном кур, разбивал у берега лед и носил воду. Топил печь, размачивал сухари, приносил из погреба соленья. А дольше всего сидел у замерзшего окна и смотрел в него, смотрел, будто что-то там видел. Что? Не помнил.
А весна была быстрой и дружной. Балка выспалась, отдохнула, приготовилась жить — и зажила ярко и весело. Острые травинки показались из согревшейся влажной земли, на ветках развернулись нежные листочки, солнце золотило свежую красу новорожденной земли. И Олесь отогрелся на солнце, спустился в овраг, накопал свежей глины — и месить, мять, колотить, греть в руках и силу в нее вдавливать, тепло вминать. Круг не шевельнул — другого просила душа. Свисток вылепил, надрезал, выстроил вокруг гладкое тело с выпуклой грудкой, оттопырил крылышки, вытянул ножки, вывел крутым изгибом головку с приоткрытым клювом. Тяжеленькая, тугая птичка ладно в руки легла, еще непросохшую проверить поднес к губам — вышла тонкая песенка, простенькая, в два тона: цвик-цвук, а если быстро пальцем бить — то трелью залвается. Вздохнул мастер: ладно вышло. Душа его поет — и птичка глиняная ей в лад поет. Хорошо. Набрал воздуху еще, поднес к губам узкий хвостик, дунул теплым из груди. Только в ладонях — фрррх! В лицо коротко повеяло, в руки холодом пахнуло. С пустыми руками остался мастер, а по плетню уже скачет птичка — вроде дрозда, коричневая, с круглой грудкой, с маленькой быстрой головкой. Цвик-цвук.
А Олесь, не дыша, потянулся за новым комком.
К вечеру целую стайку уже наладил — прыгали по плетню, по крыше, самые отчаянные перелетали через плетень и ковыряли лапками в травяных корнях, взлетали на деревья над оврагом. Посвистывали на разные голоса. Маленькие и побольше, писклявые и поглуше, они на глазах обретали цвета и повадки, разнились между собой и были схожи звонкостью и проворством. Олесь разогнул затекшее тело, вышел, неловко ступая, за плетень, окинул зачарованным взглядом сотворенную красоту. Покачал головой, вспомнив приговор, распахнул руки.
— А ты говорила… А вот! Получилось!
Засмеялась у него за спиной.
— Получилось, мастер. У тебя вышло.
Даже не обернулся. Обошла его, встала перед ним, заглянула в глаза.
— Все обижаешься?
— Зачем обманула?
— Не обманула, нет. То дело точно было не твое.
— Ты сказала — не мужское. Оживлять. Совсем. Не только то.
Мьяфте улыбнулась. Такой Олесь не видел ее прежде: красной девицей, коса лентами перевита, на грудь перекинута, ниже пояса спускается, ровная, в руку толщиной.
— В общем случае… — начала она говорить и вдруг прыснула. — Не мужское, правда. Но случается и такое. Удивил ты меня. От тебя не ожидала.
— Вот как? — нахмурился Олесь. — Что-то никто от меня не ждет ничего особенного. Уж такой я… звычайный, сил нет.
— Как же? — отвернулась Мьяфте. — Вот Петрусь от тебя ждал чуда, разве дождался? А я не ждала. А вот оно! — Мьяфте протянула руки и на них с трепетом и шорохом опустились пестрые птички и защебетали. Она поднесла их Олесю на вытянутых руках, как каравай. — Живые, настоящие, смотри-ка. Вот и перышки, и глазки, и клювики костяные! И коготками цепляются… ой!
Она засмеялась и принялась отряхивать рукав нарядной сорочки, птички вспорхнули и разлетелись по веткам.
— Живые, уже и пропитание себе добыли. Хорошая работа, мастер.
— Да уж как умею… — с притворной скромностью ответил Семигорич.
— Ох и зол ты на меня… А ведь я не просто так, я, видишь, нарядная какая! — Мьяфте расправила вышитые юбки, притопнула красным сапожком. — Я за тебя свататься пришла.
Олесь не сразу продышался, да и тогда не нашел, что ответить. Смотрел на нее, воздух ртом ловил, глазами моргал. Она, похоже, обиделась. Померкла, словно тень на себя навела, как будто даже и постарела.
Но молчала, смотрела на него и молчала. Олесь не вынес.
— Ты вон кто… А я? Тебе, может, такой же кто нужен. А я — куда?
— Не то говоришь, — отрезала Мьяфте.
— Да ты сама подумай: я тебя старухой видел, дряхлой, ветхой…
— А я тебя зародком видела, вот таким, — Мьяфте показала согнутый палец. — Не то!
— А говорят, что если жениться с тобой, то ты жениху горло режешь и кровь пьешь, и конец.
— Это дело человеческое, мне твоей крови не надо. Не то говоришь, Семигорич, говори уже то.
Олесь набрал воздуху — полную грудь, а сказал всего ничего:
— Не люблю.
И долго еще выдыхал лишнее, чем замахнулся — и не ударил.
Мьяфте и это не смутило.
— Я у тебя не любви прошу, я замуж за тебя хочу. Чтобы ты моим мужем стал. Чтобы ложился со мной в постель, и засыпал со мной, и просыпался. Пахал мое поле, урожай растил. Поле мое велико, не всякому по силе. Тебе — да. Ты мне подходишь, а полюбить еще успеется. Это дело наживное.
Олесь уже белый стоял, руками рубаху мял — чуть не рвал клочьями. Только бы не увидела, как поджилки трясутся, только бы не упасть самому. Силища вековечная стояла перед ним и в жены набивалась. Поди откажи такой, только и соглашаться — лучше в омут, в петлю, лучше живым в землю лечь… или то же самое оно и есть.
— Не буду я тебя любить, — вымолвил Семигорич застывшими губами. — Не лежит к тебе душа, не принимает сердце. Не по чину мне такая невеста, да и все. Вот мой ответ и другого не будет.
Сколько времени прошло в тишине — Семигорич не знал. Только стемнело вдруг, будто вечер сменился ночью, а когда успело солнце зайти, непонятно. Миг ли прошел, час ли, а только когда Мьяфте все же ответила, он вздрогнул.
— Вот и Хейно Куусела… — вздохнула Мьяфте. — Отказался меня любить.
Олесь впился в нее глазами: все ему стало ясно в этот миг, все предстало, как на ладони. Аж дух захватило от этой ясности, от неумолимости жизни и смерти, обступивших его. Страха только не было, страх смела кипучая волна гнева и отвращения:
— И поэтому он умер? Поэтому ты его жизни лишила, приговорила его? Мразь ночная, тьма могильная, гадина! Не получишь ты меня, хоть сейчас на стол укладывай — я готов, вот, дай обмыться только и в чистое одеться. Не боюсь я тебя. Лучше умереть, чем с тобой, паучиха, пиявица, в постели лежать.
И пока он это говорил — это, да и поболее этого — из глаз Мьяфте покатились слезы, чистые, хрустальные, и так вольно катились по ее лицу, словно она отродясь не стыдилась их, не стыдилась показать боль и горе. Сама она при этом словно колебалась: уйти или все же остаться и сказать, что просится быть сказанным. Но Олесь Семигорич не видел ее, не пытался даже: ему было все ясно и понятно, чего ж еще искать? Он стоял такой гордый и отважный, что Мьяфте невольно им залюбовалась и улыбнулась, хотя слезы всё текли по щекам и уголки губ дрожали в этой улыбке. И не было в ее голосе важности и гордости, с какими часто она говорит с людьми, когда она ему тихо сказала:
— Ты только заметь, мастер Семигорич, что всё это, до словечка, ты сам сказал, сам и придумал. Запомни это на всякий случай. Вдруг пригодится еще, — и подняла руку, отстраняясь от новых его обвинений. — Я не грожу тебе. Я думаю: вдруг увидишь что новое, против твоих мыслей. Так ты помни, что сам их придумал, не из бывшего взял. Легче будет понимать, что как на самом деле есть. А я пойду: на нет и суда нет. Прощай, Семигорич.
И даже отошла на пару шагов. Олесь ведь всегда быстро соображал, даром что многим казался медлительным и что в облаках витает. Он основательный просто, Олесь Семигорич, но тут уж — что раздумывать было? Тут всё ясно ему стало, еще яснее прежнего.
— Постой, — кинулся он следом. — Что, Хейно тебя теми же словами отваживал?
— Много знать хочешь, — отрезала Мьяфте, и тут уж в голосе угроза рокотала.
— Прости, — согласился Олесь. — Хочу.
— Нет, — Мьяфте качнула головой. Так устало и — показалось — безнадежно, что у Олеся сердце заныло. Сам вот так томился и тосковал от безнадежности своей любви, и было это всего только зиму назад.
— Нет, Хейно Куусела так прямо и сказал: боюсь тебя. Ему для этого не надо было грязью меня поливать.
Олесь чуть за щеки не схватился: таким жаром налились, до боли.
— Точно, боюсь, — признался, чувствуя влагу у самых ресниц и отчаянно борясь с ней. — Боюсь, но не только. Дай мне… времени чуток. Слушай, не каждый день девки сватать приходят, не привык я, растерялся. Прости, злое и глупое сказал. Правда, дурак и боюсь. Дай время.
Мьяфте посмотрела ему прямо в глаза, усмехнулась.
— А не дам. Уже вот дала — не заметил? Больше нет у меня для тебя времени. А боишься отказом обидеть — так ты не бойся. Я топиться в твоей речке не побегу.
— Знаю, — засмеялся Олесь от накатившего ощущения воли: холодком по плечам, жаром между лопаток. Чуть не задохнулся от поднявшейся в груди силы и полноты: когда сердце с сердцем говорят на равных, то и страху места нет. — Как же тебя не бояться? Вон ты какая. И топиться не побежишь. Где я еще такую найду?
Мьяфте заломила бровь, вскинула подбородок. Потрудилась наконец во всей красе своей показаться, как будто выступила из тени. У Олеся дыхание перехватило.
— Не много тебе будет?
— В самый раз. Иди за меня.
И она дала ему себя обнять. И оказалась теплая, мягкая, живая и молодая, настоящая совсем.
* * *
Когда они вернулись с небес, погода стояла ясная. Солнце сияло в синеве, листья трепетали на легком ветерке, вода гладкая лежала в берегах. У лестницы их встречал Ао, прижимая палец к губам, напоминая, что все сказанное здесь и сейчас может обернуться против них — непредсказуемым образом, но необратимо. Молча они проходили в дом, вешали одежду в сенях и садились к накрытому столу. Накрыто было от души. Прежде чем уйти, Мьяфте расстелила яркую полосатую скатерть, выставила на стол миски с солеными грибами и мочеными ягодами, доски с хлебом, кувшины с пивом и квасом — откуда только взялось, удивился Видаль. И тут же испугался, что заговорил.
— Свое принесла, — хмыкнул Хо и с опаской посмотрел на грибы. — Да говори уж теперь, мы в домике.
— Отчего ты не любишь ее? — удивился Видаль, заглядывая в печь. Там томилось, и вздыхало, и посвистывало, и шкворчало в горшках.
— Непонятная она. Что ей за праздник? Она что, наперед знала?
Видаль пожал плечами и взялся за ухват. Рутгер подошел помочь, но его отстранила Ганна.
— Сядь, Хосе. Ты хозяин и герой сегодня. Садись во главе стола, так правильно. А я тут немножко еще похозяйничаю, пока твоя женщина больна. Как сестра. Позволишь?
Видаль отдал ей ухват и поцеловал в щеку. Она прижалась лбом к его плечу — и оттолкнула легонько.
Олесь вел Сурью — никому не доверил провожать ее по лестнице, и теперь вел, поддерживая под локоть и обнимая за плечи, как будто сам ее вылепил и теперь боялся, что недостаточно прочна его работа, вдруг развалится. Сурья была бледна и двигалась неуверенно, словно слепая. Видаль подошел и взял ее за руки. Она узнала его сразу и потянулась к нему. Олесь насупился, но отпустил. Видаль обнял ее, чтобы проводить к столу, почувствовал, что тело ее остается прохладным, и услышал, как тихонько, неровно бьется в ней сердце. Но она больше не была восковой, как там, на небе, она была теперь мягкой и живой.
Как будто в отместку молчанию за порогом, в доме мастера заговорили все разом, возбужденно, весело. Пока спускались по лестнице, только и хватало сил, что держаться за перекладины и не оступаться. А теперь можно было дышать полной грудью, смеяться, вспоминать пережитый ужас пустоты и праздновать победу. И они пили, ели, смеялись, пели и разговаривали друг с другом, сами с собой, просто говорили и говорили — а кто услышит, тот и ответит, если есть что. И говорили-то, в сущности, все об одном и том же — как было там и что будет теперь. Кто расспрашивал Хо про конец света, кто корил его, что молчал раньше, кто у Сурьи допытывался, как избавиться от Тьмы. Но Сурья только качала головой и молчала, еще не в силах говорить. И Видаль уговаривал мастера Магазинера подождать немного и дать ей прийти в себя, а уж потом приставать с расспросами. И вокруг все говорили и говорили, и было хорошо.
Но Мак-Грегор сидел за столом один, мрачный и молчаливый, а Мэри щипала травку перед домом.
— Хо, расскажи мне, почему то, что сказано в крепком месте, невозможно отменить?
— Почему же невозможно? — охотно откликнулся мастер. — Возможно, но не всегда и не везде. Можно здесь, например. Пока еще можно. Первое, что здесь будет сказано от души, имеет власть над тем, что было сказано ранее. А больше никогда и нигде, пока новое крепкое место не случится. А они случаются — как болотные пузыри. Невозможно знать, где и когда выскочит. Вот разве как ты здесь учинил… Но для этого надо такое обещание дать, какое выполнить невозможно, и выполнить его. Без дураков невозможно. Совсем. Вроде как на небо сходить, понимаешь?
— Ну, без дураков он и не выполнил бы… А так вы вовремя подоспели, — засмеялся Ао.
— То есть здесь и сейчас — можно? — у Видаля дух занялся. Он вскочил из-за стола и метнулся к Мак-Грегору. — Выйдем, дело есть.
Мэри смотрела на них, потряхивая ушами. Видаль заулыбался и ткнул друга локтем в жилистый бок.
— Слушай, Мак-Грегор… а у тебя ведь жена…
— Стой! — вскричал Хэмиш, спрыгивая с крыльца. — Молчи! Я сам!
И Видаль откинулся, слегка стукнувшись затылком о бревна стены, съехал по ней спиной и закрыл глаза. Сквозь счастливую улыбку он слышал все — до единого — слова любви и восхищения, которые Мак-Грегор сказал своей Мэри, и как она ответила ему, и как потом они смеялись, плакали и вздыхали в объятиях друг друга. Слезы текли и по его лицу, но он их не замечал.
— О чем ты плачешь, любовь моя?
Сурья присела рядом, прижалась к плечу.
— Я не знаю, — ответил Видаль. — Я не знаю, что будет дальше. Как быть. Что делать. Как освободить мир от Тьмы, раз она не исчезла сама собой. Как избавить людей от ууйхо, ведь они остались. Что мне делать и как все успеть. И я не знаю, что будет с нами. Ведь ты звезда, а я умру. И если мир будет освобожден от Тьмы и везде настанет время — я умру еще быстрее. И я не знаю, как все устроено. И что я могу сделать, чтобы оно было устроено лучше, чем есть… Я только человек.
— И я не знаю, — ответила Сурья, теплея в его руках. — Я только звезда, очень маленькая звезда. И в этом мире так много всего, о чем я знаю — и еще больше того, о чем не знаю. И это открыл мне ты. И в этом мире столько чудес… Столько чудес, о небеса мои, столько! Их так много. Их просто видимо-невидимо.








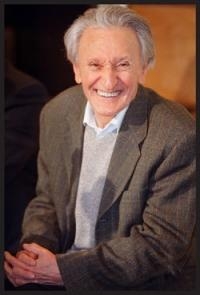
Комментарии к книге «Видимо-невидимо», Алекс Гарридо
Всего 0 комментариев