Юхан Харстад Где ты теперь?
And never stop, go back to start,
And never say when I fall apart.
Vortex Surfer/Motorpsycho[1]First Band on the Moon[2]
1
Любимый твой на 72,8 % состоит из воды, а дождя вот уже как несколько недель не было. Я стою посреди сада, прямо на земле. Наклоняюсь к тюльпанам — на руках перчатки, в руках ножницы, а на ногах калоши. Сейчас апрель 1999 года, предрассветное утро, становится теплее — я замечаю это в последнее время, будто что-то сдвинулось с места. Я это почувствовал, когда вышел сегодня из машины прямо в утренний сумрак и когда открывал дверь цветочного магазина: воздух стал мягче и нежнее, и я наконец вылез из зимних сапог и обул голубые кроссовки. Сейчас я в саду, посреди цветов — всходы, прижавшись друг к дружке, теснятся в кадках и ящиках, поросль поднимается, переползая за края. Я запрокидываю голову. Последние деньки выдались солнечными, солнце светит прямо на меня, но сейчас откуда-то с Северного моря набежали тучи — тучки из Селлафилда,[3] — которые заслоняют солнце: сначала всего на пару секунд, а потом оно стало скрываться за облаками все дольше и дольше. Запрокидывая голову, я щурюсь, потому что проглядывающие сквозь пелену облаков лучи слепят глаза. Я жду. Просто стою и жду. И вот, наконец, где-то наверху, на высоте тысячи — а может, и трех тысяч футов — я вижу ее, первую каплю. Вижу, как она формируется, отделяется и падает, нацелившись прямо на меня, а я по-прежнему стою, запрокинув голову. Вот-вот пойдет дождь, через пару секунд уже хлынет ливень, и конца ему видно не будет — по крайней мере, мне так кажется. Будто бы прорвался наконец наполненный водой воздушный шарик, я смотрю наверх, а одна-единственная капля летит прямо на меня, набирая скорость, от быстроты вода меняет форму, первая капля падает, а я так и стою, пока она не ударяется о мой лоб, разбившись на маленькие частички, которые садятся мне на куртку, ботинки, перчатки и растущие вокруг цветы. Я опускаю голову. И тогда начинается дождь.
Сегодня вторник. Безо всякого сомнения. Я осознаю это, глядя на свет и на машины, бесцельно и лениво проезжающие перед окнами. Люди едут куда-то скорее по привычке, а не из-за необходимости. Вторник. Самый ненужный день недели. Он почти теряется среди прочих дней. Где-то я читал — уж не помню где, — что согласно результатам исследований в среднестатистический вторник заключают на 34 % меньше сделок, чем во все остальные дни. И это по всему миру. Так уж оно сложилось. С другой стороны, отмечается, что вторник занимает первое место по проведению похорон. Так тоже сложилось — и пойди догадайся почему.
У меня был друг.
Не будь у меня друга, в кармане у меня не оказалось бы кругленькой суммы, меня не сбило бы машиной, я не полез бы в море и не спас бы утопающего и меня не выгоняли бы из баров. Я бы не оказался тогда в двух шагах от того, чтобы спрыгнуть с горы высотой в тысячу сто метров, не выстроил бы корабль и, что немаловажно, я, может, не исчез бы.
Но друг у меня был.
Йорн.
Йорн играл в музыкальной группе.
И я согласился. Это произошло пару недель назад. Был вечер, мы сидели у него дома в Стурхауге, там он мне все и рассказал. Йорн, Роар и их группа — «Перклейва» — и еще норвежцы из Трондхейма, «Култа Битс», собрались на Фареры, там вроде должен быть какой-то фестиваль. Это Ставангер решил отправить их туда от округа: я так понял, что Ставангер и Торсхавн — города-побратимы, и поэтому Ставангеру хочется помочь с проведением фарерского национального праздника, Ольсока. Туда еще пригласили одну датскую группу — вечно забываю, как она называется, и еще всяких фарерских артистов. Вот об этом-то Йорн мне и рассказал. Что-то вроде того. И еще пригласил меня поехать с ними в качестве звукооператора. Йорн вообще-то всегда пытался меня привлечь, вытаскивал меня на концерты и рассказывал о том, как круто выступать перед публикой. Он постоянно твердил о том, как здорово было бы выступать вместе — чтобы он играл, а я пел. Он так хотел, чтобы я пел. Но я молчал как рыба. По официальному объяснению, представленному организаторам фестиваля, все дело было в Клаусе. Клаус был в «Перклейве» звукооператором, но его жена должна была вот-вот родить, роды могли начаться в любую минуту, и поэтому он, ясное дело, от поездки отказался, его сейчас больше интересовали рифы ультразвука, а не какие-то там гитарные. А я, ну да, у меня ведь отпуск, и мне всегда нравилось ездить, ага, и никаких других планов у меня и правда не было.
И я немного разбирался в звуках.
Нет, по образованию я никакой не звукооператор и с музыкантами никогда раньше не работал. Но в звуках всегда хорошо разбирался. Я различаю каждый тон. Когда я сижу на диване и слушаю музыку, я слышу каждый инструмент по отдельности. Не знаю, как это у меня выходит, но так уж получается. Гитара, ударные, басы и вокал — они складываются у меня в голове как отдельные цвета, я чувствую, что вот здесь нужно бы побольше голубого, а здесь — слишком много коричневого, а там можно было бы усилить вот этот оттенок розового на заднем плане. Я слышу, когда фальшивят. Я видел все части «Контрапункта». Меня не обхитрить.
Как только пошел дождь, я прекратил работу в саду. Однако не успел я поднять ведра с сорняками и отнести ненужную теперь канистру с водой, как хлынувший из туч ливень промочил меня до нитки. Отряхиваясь, я прошел по каменным плитам в магазин при оранжерее и поставил тюльпаны в вазу, стоявшую на одном из двух больших деревянных столов посреди комнаты. Потом я зашел в раздевалку и снял мокрую куртку. Снял брюки и натянул один из оранжерейных комбинезонов — такой темно-синий, а на спине выдавлен цветок магнолии. Эти комбинезоны хранятся еще с тех пор, как владельцу вздумалось одеть всех сотрудников одинаково и создать таким образом некое рабочее единство, как он это называл. И, что немаловажно, это должно было способствовать укреплению наших отношений. Мы должны были почувствовать, что все мы — коллеги. Одна команда, которая работает над общим делом. Сотрудничество, единство. Однако ничего из этого не вышло, униформу никто надевать не захотел, она вроде как и не нужна была, у нас ведь маленькое предприятие, всего-то несколько сотрудников. И вот сейчас, четыре года спустя, почти неношеные комбинезоны по-прежнему висят в раздевалке, даже складки на них еще видны. Мы ходим в обычной одежде. И начальник тоже. Он любит яркие рубашки. Гавайские. Хорошим он был человеком, хотя и приходил на работу не раньше полудня. Любил поспать.
Я надел комбинезон с магнолией, он чуть-чуть жал, и пахло от него новой одеждой. Прошел назад в магазин, сел за стойку, включил радио и открыл книгу заказов, чтобы посмотреть, что мне предстоит сделать в этот обычный апрельский вторник.
Радио.
Новости.
Бомбардировки Косово и Войводины, НАТО все никак не попадет в цель, и тут я увидел первый Заказ — отвезти цветы в больницу, кому-то из пациентов. Я посмотрел на часы. Остальные придут только через полчаса, а открываемся мы через сорок пять минут. Но заказ надо выполнить срочно, а других дел у меня не было, поэтому я собрал заказанные цветы, сделал два букета и положил в коробку из-под фруктов. По радио пели «Кардиганс», что-то незнакомое, но, запирая дверь, я мычал что-то себе под нос, пытаясь повторить мелодию, потом уловил тональность, но потерял саму мелодию, после чего подошел к радиоприемнику, выключил его, огляделся в последний раз — ага, все в порядке: цветы красивые, и пахнет хорошо, приятно здесь находиться — открыл входную дверь, вышел, закрыл дверь, запер ее, открыл дверцу машины, сел, захлопнул дверцу, завел машину и поехал в больницу, что за четыре поворота отсюда.
Отвозить цветы в больницу нужно было почти каждый день. Это плохое предзнаменование. Я часто туда ездил, практически каждую неделю. Именно здесь дедушка жил перед смертью, и букеты туда заказывали, если только кто-то собирался умереть. Тогда умирающему все прощалось. Медсестры заходили в палату, принюхиваясь, чувствовали притаившуюся за обоями смерть и предлагали приукрасить палату: «Фру Такая-то и Такая-то, может, поставить у вас цветы, что скажете? Ой, что-то здесь темновато, может, немного раздвинуть шторы?» Они вытягивали руки, раздвигали шторы, комнату заливал свет, а вскоре должны были доставить цветы, и тем самым все уже было предрешено — через пару часов или дней к тебе спустятся ангелы или демоны, а вокруг твоей кровати соберется народ помоложе. Скрестив руки, они будут смотреть на тебя добрыми или злыми глазами, ожидая, когда ты безвозвратно исчезнешь.
Я вез два букета — тюльпаны и белые нарциссы, эти цветы многим нравятся, людям они о чем-то напоминают, не знаю уж, о чем именно, но мне говорили об этом, когда я заходил с ними в палату и помогал больным поставить букеты в вазу. «Какие красивые», — восхищались они и потом начинали про свои воспоминания, и так было каждый раз, словно они показывали эдакий мысленный фотоальбом, в котором умещались все годы жизни.
В этот раз цветы для фру Хельгесен, пришел ее черед.
Ее дни сочтены.
Кто-то все подсчитал и пришел к выводу, что пора и честь знать.
Однако ей об этом не сказали. Она лежала в постели и смотрела в белый потолок.
— Это мне? — спросила она, когда я, постучав и услышав тонкий скрипучий голос, ответивший «войдите», открыл дверь.
— Ну конечно вам, — ответил я.
— Мне что, пора умирать? — Сомнения в ее голосе не было, только легкое удивление.
— Нет, что вы, — ответил я, — вам просто-напросто надо слегка оживить палату.
Я умел ладить со всеми, умел подстраиваться под других в зависимости от ситуации. Предупреждение я понял. Присев на стул, я достал из-под раковины вазу и начал расставлять цветы.
— Подойдите, — сказала она.
Я подошел. Старушка сжала губы.
— Цветы приносят только умирающим, — сказала она.
— Нет, что вы, — ответил я, — многим приносят цветы.
— Но никто дольше них не живет.
— Дольше цветов?
— Да.
— Нет.
— Но цветы все равно красивые.
— Да.
— Действительно, они мне напоминают о чем-то таком, не знаю, по-моему, у нас в саду такие росли. Нет, не помню. Но они все равно красивые. Правда.
— Это тюльпаны и нарциссы, — сказал я.
— Очень красивые. И такие белые. А ты, наверное, садовник?
— Да, садовник. Работаю вон там. — Я махнул рукой в направлении оранжереи.
Как будто она могла видеть через стену, будто у стариков глаза — как рентгеновские лучи.
Она посмотрела на цветы, которые я поставил на стол. Букет был составлен бестолково, и она это заметила. Цветы дешевые, одни из самых дешевых, такие быстро вянут, в лучшем случае проживут пару дней.
— Они долго простоят? — Женщина показала на букет, попытавшись дотронуться до листьев, но не дотянулась. Поэтому я приподнял вазу и поднес к ней, чтобы она прикоснулась к ним, попробовала на ощупь. Она с шумом втянула их запах, будто принюхиваясь ко всему вокруг.
— Да, — ответил я, — они простоят долго.
— Хорошо.
Когда я, собираясь уходить, ставил вазу на стол, старушка продолжала тянуться к ней, и даже когда я закрывал за собой дверь, рука все еще была протянута к столу. «Хорошо».
Выйдя в комнату отдыха, я подошел к пожилой женщине, которая работала в больнице. Она расписалась на квитанции и, поблагодарив меня, предложила кофе, но я отказался, мне хотелось побыстрее оттуда уйти.
— С вами очень приятно работать, — начала она, нервно огляделась, подыскивая слова, а те почему-то словно завалились куда-то в угол или в мусорную корзину. — Но теперь это дороговато для нас. Ну, то есть, ну да, мы, конечно, понимаем, что цены у вас вполне разумные, но мы все равно… — Я ждал. Я понял, о чем она, и вполне мог уйти, но я ждал.
— Ну, пожилые часто умирают, и так уж получилось…. Так уж получилось, что мы решили теперь заказывать цветы подешевле, в… в супермаркетах. Поэтому…
— В «Рими»? — спросил я.
— В «Реме», — смущенно ответила она, уставившись в столешницу. — Ну, там теперь дешевле, и они предложили нам контракт, поэтому, в общем… — И, будто эта мысль пришла ей в голову впервые, она добавила: — Мы ведь просто хотим немного скрасить их последние дни. Ты ведь понимаешь, что… ну… — Она почти уткнулась носом в крышку стола.
— Конечно, — ответил я, — да сейчас почти никто и не покупает цветы в оранжереях.
Она неуверенно посмотрела на меня:
— Разве?
Она как будто не знала, что еще сказать.
— Забудем, — сказал я. Я развернулся, вышел из больницы, поехал назад в магазин, открыл дверь и сел за стойку, включив радио. Никаких новостей, никаких смертей, только музыка.
Но ведь у меня все было хорошо, разве нет?
Да, у меня все было хорошо.
Все было очень хорошо.
У меня было все, что нужно.
Меня звали Матиас, мне было 29 лет.
Я был садовником.
Я любил свою работу.
Я на самом деле ее любил, частенько приходил в оранжерею пораньше, самый первый, может, за час до начала, и морозным утром выходил в сад. Изо рта валил пар, а я садился на лавочку и слушал, как мимо проезжают машины, прислушивался к шуму изношенных двигателей, пока эти несчастные ехали на ненавистную работу. На переговоры, которые ни к чему не приведут, к ценам, которые не удастся сбить, предложениям, которые невозможно принять, к неотложным делам и идеям, от которых придется отказаться по экономическим соображениям, к планам, которые никогда не воплотить. И каждый раз, когда вы будете встречаться с новыми людьми, рассказывать им о новых невоплотимых проектах и пожимать им руки, планы эти, как маленькие ранки, будут саднить ваши ладони.
Если бы мне разрешили загадать одно-единственное желание, я пожелал бы, чтобы ничего не менялось. Чтобы все навсегда так и осталось. Чтобы все было предсказуемо.
Я пришел раньше, посидел в саду. Через час появились остальные, и началась рабочая суета. Нас было всего четверо, включая одну довольно энергичную девушку примерно моего возраста, она окончила сельскохозяйственный институт в Осе, больше я почти ничего о ней не знал, мы о таких вещах мало разговаривали, мы вообще мало разговаривали, уж не знаю почему, так сложилось. А если и разговаривали, то только о цветах да о делах, которые надо сделать, напоминали друг другу о том, что надо полить молодые растения в саду, те, угловые, или подрезать кусты. Ты не забыла про венки для похорон? Не забыла про тот букет? Не забыла про открытки — «выздоравливай», «скорее возвращайся», «поздравляем с праздником», «поздравляем», «поздравляем», «с наилучшими пожеланиями»… Нет, она не забыла. «Правда ведь, в это время года хризантемы особенно хороши?» И я отвечал, что «да, они всегда хороши». Я все это ценил, это было моей действительностью, мир мой существовал только здесь, в работе, за магазином, в саду, который простирался до перекрестка Хиннасвинге и 44-го шоссе, которое вело к центру Ставангера. Я был одним из винтиков, на которых держится мир, и все у меня шло хорошо. Я делал то, что должен был делать. Я был добрым.
Но чего мне хотелось?
Именно этого мне и хотелось.
Быть полноценным винтиком.
Делать то, что нужно.
И ничего больше.
Это было признаком трусости?
Да неужели?
Не всем дано руководить корпорациями. Не все становятся первыми спортсменами страны, не все входят в состав различных правлений, не на всех работают лучшие адвокаты, и не каждый видит свое имя в газетных заголовках в связи с каким-нибудь торжеством или трагедией.
Кто-нибудь захочет стать секретарем и сидеть в приемной, глядя на закрывающиеся двери, кто-то даже в пасхальные каникулы будет водить хозяйскую машину, другим придется вскрывать труп пятнадцатилетнего подростка, покончившего с собой одним январским утром, тело которого неделю пролежало в воде, прежде чем его обнаружили. Кого-то вы не увидите по телевизору, не услышите по радио, о ком-то не прочитаете в газетах. Не всем сниматься в кино, кому-то придется его смотреть.
Кто-то захочет быть зрителем.
А кто-то захочет стать винтиком.
Не потому что обязан, а потому что ему так захотелось.
Расчет прост.
Так вот, я сидел там. В саду. Сидел в саду и вовсе не желал оказаться где-то в другом месте.
Вообще-то странно, что мы с Йорном вот так сошлись. Общались мы и в начальной школе, и в средней. Мы познакомились совершенно случайно, просто на какой-то перемене оказались рядом на школьном дворе. Я часто, почти каждую перемену, стоял там просто так, довольный собой, раздумывая о своем. Однажды Йорн, подойдя ко мне, спросил о чем-то, уже и не помню о чем. Потом я понял, что он подошел ко мне, потому что его приятель Роар, с которым мы потом тоже стали общаться, как раз в тот день заболел. Йорну было скучно, а я стоял один, и, похоже, он был обо мне неплохого мнения. Мы поболтали, и мне показалось, что он неглупые вещи говорит. Мы обсуждали луну, вселенную и весь тот мусор, который люди набросали в космос, тысячи спутников, каждый из которых выполняет какую-то свою функцию. Мы с ним стояли и просто болтали, не то чтобы о нас самих, скорее о постороннем. Так и пошло: мы трепались почти только на переменах, в другое время не очень-то много общались, во всяком случае, пока не перешли в среднюю школу. У Йорна были совсем другие цели — он рвался вперед и ввысь. Он хотел получить от мира все. Я его за это не винил. Просто мне непонятно было, зачем человеку все это. Мы не совсем друг друга понимали. В том числе и когда разговаривали про База Олдрина. Меня еще с детства привлекала жизнь астронавтов, я кучу всего о них прочел, изучал все, что под руку попадалось, я все знал про космос, про полеты на Луну в шестидесятых и семидесятых и про программу «Аполлон». Я по-прежнему могу рассказать о запуске ракет в мельчайших деталях, о выходе на земную орбиту, про углы и измерения, про то, как происходит вращение вокруг Луны, могу объяснить, почему каждый раз, когда корабль берет курс на восток, астронавты теряют связь с землей. Про Олдрина, второго человека на Луне, я знаю все. Могу рассказать, что его жена, Джоан Арчер, думала в тот момент, когда по телевизору показывали, как ее муж вышагивает по лунной поверхности. Читая биографии Нила Армстронга и других знаменитостей, между строк вы найдете и жизнеописание База Олдрина, оно будто вынесено за скобки. Его отец дружил с пионерами воздухоплавания, Оруэллом Райтом, который первым поднялся в воздух, и Чарльзом Линдбергом, в 1927 году совершившим в одиночестве перелет через Атлантику из Нью-Йорка в Париж почти за двое суток. Сам Олдрин учился в Вест-Пойнте, потом стал майором ВВС, побывал в 66 рейсах над Кореей, сбил два МИГа и только потом решился взлететь еще выше. В 63-м он стал астронавтом НАСА, потом была запущена двенадцатая и последняя капсула программы «Близнецы», а он — внутри нее. Пролетев насквозь атмосферный слой, участок абсолютной черной пустоты, он провел пять с половиной часов вне капсулы, доказав тем самым, что человек может существовать в вакууме.
Ну а потом он принял участие в программе «Аполлон».
Баз Олдрин ждал, пока взлетят десять первых ракет.
Баз Олдрин проходил тренировки.
Баз Олдрин готовился.
Баз Олдрин снова и снова изучал все детали.
Баз Олдрин был назначен пилотом посадочного модуля, ПМ. Модуль должен был отделиться от командного отсека, которым управлял Майкл Коллинз, и выйти на лунную орбиту, откуда Олдрин и капитан Нил Армстронг отправятся на Луну, посадят модуль, выйдут из него на поверхность Луны, установят флаг и позвонят домой.
Когда состоялся запуск «Аполлона-10» и тот приблизился к Луне на 15 000 метров, трое астронавтов, затаив дыхание, ждали, чем кончится дело. А потом стало ясно, что только одиннадцатая ракета сможет высадить человека на Луну. Статьи. Интервью. Снова тренировки. Этого дня ждали.
16 июля 1969 года. В том году доходы от продажи мороженого в США превысили бюджет НАСА.
В тот день, спустя ровно 97 лет со дня рождения Руальда Амундсена и 51 год со дня казни большевиками последнего русского царя, — где ты был тогда? В 14.32 по норвежскому времени, когда ракета «Сатурн-5» вспыхнула и оторвалась от земли, увлекая за собой «Аполлон-11» с Олдрином на борту, — где ты был тогда? А где ты был в 14.33, когда ракета уносилась ввысь со скоростью одиннадцать километров в секунду, а пульс Олдрина составил 88 ударов в минуту?
Они везли с собой даже посылку от Советского Союза. Медальоны с портретами погибших космонавтов Юрия Гагарина и Владимира Комарова. Армстронг взял с собой магнитофонные катушки с любимыми песнями жены. Олдрин взял фотографии детей и иголки оливкового дерева, которые он привезет обратно на Землю.
Где ты был 20 июля 1969 года, в 21 час 17 минут 42 секунды по норвежскому времени, когда человек впервые ступил на Луну?
Пятьсот миллионов человек сидели перед экранами телевизоров. Еще больше — прислушивались к радио.
Я находился у мамы между ног.
Где ты был, когда в 04.15 второй человек покинул «Игл» и шагнул в Море Спокойствия?
Ты уже выключил телевизор и ушел спать?
Значит, ты так и не увидел, как Баз Олдрин шагал по Луне. Подошвы его ботинок на три миллиметра ушли в пыль, а я лежал на столе и ничего этого не знал. Среди миллиардов людей, живущих на Земле, Баз Олдрин стал вторым человеком, ступившим 21 июля 1969 года на Луну. А семья его тем временем за триста восемьдесят тысяч километров от него смотрела, как в телевизоре их папа в скафандре пытается описать то, что видит вокруг.
Magnificent. Magnificent desolation.[4] Так сказал Олдрин.
Наверное, из всех описаний пейзажей это самое прекрасное.
Он начал передвигаться по зернистой поверхности.
Рассказывал, что чувствует при ходьбе.
Фотографировал пейзаж, Армстронга.
Брал камни на пробу.
Вселенская Антарктика.
Баз Олдрин.
Потом они установили флаг. Из Овального кабинета позвонил Никсон. Он сказал, что небо стало частью человеческого мира, что теперь мы, вдохновившись, должны удвоить наши усилия в борьбе за мир и гармонию на планете и что все люди Земли на один миг стали единым целым. Потом он положил трубку и возобновил бомбежку Северного Вьетнама. На лунной поверхности исчезал и вновь появлялся Майкл Коллинз. Жена Олдрина смущенно попросила разрешить ей запустить дома пару фейерверков. Ей разрешили. Армстронгу и Олдрину сообщили, что Тур Хейердал вынужден был отказаться от плавания через Атлантику на тростниковой лодке. Олдрин сказал: «Okay, adios, amigo»,[5] а потом забрался вслед за Армстронгом в лунный модуль. Они стянули скафандры, лунная пыль пахла мокрым пеплом и порохом. Задраив люки, они на пару часиков заснули. А потом завели двигатели, волнуясь, а вдруг не получится. У них была только одна попытка, одна-единственная возможность. Выйди что-нибудь из строя — и они остались бы там навсегда, но двигатель ракеты работал безотказно, поэтому они взлетели, во вращении присоединились к Коллинзу, заползли в командный отсек, отсоединили модуль приземления и смотрели, как тот уплывает навсегда. У них было такое замечательное настроение, что хотелось насвистывать, но там насвистывать нельзя, поэтому, как мне кажется, они молчали, хотя я знаю, что ошибаюсь — работа у них кипела, надо было многое наладить, а на земле их ждали жены и дети — ждали, запрокинув головы и глядя, как папы возвращаются с небес. И те, наконец, вернулись, 24 июля 1969-го раздался всплеск, и они опустились в Тихий океан, где их подобрали водолазы. Последним на вертолет поднялся Олдрин — сначала он помог подняться двум другим. Несколько минут в полном одиночестве, в полусгоревшем космическом корабле посреди Тихого океана, и лишь потом его тоже подняли на вертолет и доставили на авианосец. Их ждал президент Никсон и недели в карантине, а потом слава о них обойдет весь мир. По заданию НАСА астронавты с женами объедут весь свет, принимая под восторженные крики ключи от городов. Посетят они и Норвегию, где отобедают с королем Олавом — у меня и фотография есть, все, похоже, было очень мило, но если приглядеться, если посмотреть на эту расплывчатую газетную фотографию через лупу, то что же вы увидите в глазах Олдрина? Уж не тревога ли это? Не зарождающееся ли беспокойство?
Однако Йорн был совсем другим. Как-то вечером я спросил его: «Если бы ты был в экипаже „Аполлона-11“, на чьем месте ты бы хотел оказаться?» Я потом его часто об этом спрашивал. И каждый раз Йорн поднимал брови, смотрел на меня так, будто вопрос казался ему смешным, и отвечал: «Нилом Армстронгом».
— Но ведь командиром лунного модуля был Олдрин. Ведь это же он был капитаном корабля, — возражал я.
— Но ведь на Луну первым ступил Армстронг, так?
— Да.
— И все помнят именно Армстронга, согласен? Как он сначала сделал один маленький шажок, а потом пошел дальше.
— Но Олдрин был во всех смыслах более опытным астронавтом.
— Ну и что из того? Первым же был не он. Колумбом стал Армстронг, так? Он летел туда, не останавливаясь, а потом шагнул на Луну и так далее.
— Но без Олдрина ничего бы не вышло. Он даже часть бортовых приборов разработал.
— Ну и что? И вообще, почему ты так уверен, что они были на Луне? Почему тогда все записи такого плохого качества? Честно говоря, я почти уверен, что все это было снято где-нибудь в Калифорнии, на какой-нибудь студии. И «Уорнер Бразерс» наверняка приличную зарплату выплачивало всему экипажу. Тогда сразу ясно становится, почему у Олдрина потом возникли проблемы. От осознания того, что он обманул весь мир.
— Ты что, совсем сдурел?!
— Ты сам-то в это все веришь?
— Господи, да естественно. Ясно же, что они были на Луне, зачем им врать?
— Может, чтобы обмануть русских или чтобы увеличили оборонный бюджет, мне-то откуда знать?
— Нет, ну в самом деле!
— Ведь на космонавтике же можно заработать астрономические суммы!
Вот так мы и общались, эта вечная тема всегда крутилась на нашей орбите.
Мы никогда не соглашались друг с другом.
Может, мне стоило заняться чем-нибудь другим?
Может, я не честолюбив?
Да нет, у меня есть честолюбие.
Мечтал я о том же, о чем и ты. Мне тоже хотелось ездить по миру, гореть на работе, повидать Прагу, прожить год в Гватемале, помогать земледельцам с уборкой урожая и бороться с нечистой совестью. Хотелось спасать тропические леса, чистить моря от нефтяных загрязнений и продвигать в стортинг именно эту партию, а не другую. Свой голос я отдал. Мне тоже хотелось работать на благо людей. Хотелось быть полезным.
Но мне не хотелось выступать против кого-то. У меня нет ничего против тех, кто у всех на виду. Честь и хвала тем, кто отваживается отстаивать интересы, кто закрывает авиакомпании и оставляет без работы тысячи людей, тем, кто по ночам слышит полные ненависти голоса в телефонной трубке. Тем, кто принимает ответственность на себя, когда остальные отказываются.
Они тоже винтики. Не менее важные, просто их лучше видно. Мне не требовалось, чтобы на меня смотрели и говорили, что я способный. Потому что это мне и так известно.
Когда ты ходил в начальную, среднюю и старшую школу, мы с тобой были в одном классе. Когда через десять лет ты захочешь показать своему избраннику, каким ты был в школе, мое имя ты не сможешь вспомнить. Я был тем парнем, который сидит почти в центре класса — одна парта от стены, — который никогда не забывает физкультурную форму, всегда готовится к контрольным, никогда не шумит на уроках, но всегда готов ответить. Тем самым, кто не заслуживал на переменах особого внимания и чья кандидатура не выдвигалась на выборах старосты класса, ведущего выпускного вечера или представителя в совете учеников. Как зовут меня, ты узнал, лишь проучившись со мной полгода в одном классе. По мне ты не скучал, когда я перешел из твоего класса в другой или когда пропускал какой-нибудь праздник. И когда я стоял в зале и хлопал, вызывая группу на бис, меня никто не слышал. Ты полагал, что жизнь у меня самая что ни на есть скучная. Вы с друзьями и поверить не могли, когда вам через несколько лет сказали, что у меня появилась девушка. «У него? А-а, у этого, ясно. Чего-о? Девушка? Ну, если уж у него девушка…»
Ты меня помнишь?
Можешь представить себе мое лицо?
Ведь хуже меня почти никого не было. Я был обычным.
Меня почти никто не замечал, ведь верно?
И я, вероятно, был счастливейшим из твоих знакомых.
Потом один за другим пришли остальные сотрудники, мы коротко поздоровались, по утрам все мы были не особо разговорчивы, остальные еще до конца не проснулись, только-только встали и мыслями пока еще оставались дома. Они окончательно придут в себя только к обеду. Мы разошлись, составляя букеты, делая венки и пробуждая к жизни сад.
Ближе к полудню я загрузил машину и поехал развозить заказы — в основном венки для похорон. К вечеру, когда проходят процессии, флаги по всему городу уже приспущены, темные костюмы очищены от пыли, а те, кто собирался произнести речь после священника, сжимают в руках листочки с неловкими словами прощания. Потом они сидят за столом на поскрипывающих стульях в ожидании того момента, когда с последним прощанием будет покончено и можно будет уйти. Среди заказов были и букеты с написанными шариковой ручкой пожеланиями вроде «успехов на новой работе», «поздравляем с шестидесятилетием», «выздоравливай», «люблю тебя». На записку можно заранее и не смотреть — когда заходишь в дом, сразу ясно, по какому случаю букет. Ты видишь людей в засаленных халатах и с темными кругами под глазами или радостных девушек, у которых сегодня второй рабочий день на фирме, в которую их наконец-то приняли, слышишь «ура» в честь юбиляров. В одном доме меня однажды пригласили выпить кофе — хотя я в тот раз прочитал открытку и в ней были соболезнования. Я зашел следом за открывшей мне женщиной, которая взяла цветы. Она, очевидно, была матерью семейства. Шмыгая и утирая рукой нос, она провела меня в гостиную, где все остальные члены семьи сидели опустив головы вокруг стола, на котором стоял маленький гроб. В комнате витал дух детской смерти. Я, в одних носках, остановился немного позади и стал смотреть на семейство. Мне налили кофе, я молча выпил, а потом они вытянули из меня речь. Я так и стоял в одних носках перед родителями, которые только что потеряли дочь, а затем ее отец — он выглядел на несколько лет младше меня — поднялся, подошел и слегка приобнял меня, а за ним, как по сигналу, поднялось все семейство и прошагало ко мне. Меня, разносчика букетов, обняли по очереди все члены этой чужой семьи, а их был не один десяток. Я чувствовал их объятия через куртку, их пальцы сжимали ткань, а когда я через несколько минут ушел, никто из них не обернулся. Осторожно прикрыв за собой дверь, я сел в машину. Куртка была влажной, я сам — несколько растерян. С тех пор я решительно отказывался, когда меня приглашали зайти, и никогда не переступал порога. Отказался и тогда, когда мне открыла девушка в одном нижнем белье, которой исполнился 21 год. Она купила себе новую квартиру в Воланне и устроила по этому поводу вечеринку. Цветы ей послал отец, девушку переполняла радость, и жизнь ее была прекрасна. Однако я остановился на пороге: в том доме мне тоже было не место. «Оставь надежду, всяк сюда входящий».
Пару часов спустя я вернулся в магазин на Хинне. По-прежнему лил дождь. Поеживаясь, я забежал в магазин и сел. Начальник, Карстен, сидел за стойкой в клеенчатом фартуке и обрезал розы.
— Хорошо, что дождь пошел, — сказал он, не поднимая головы.
— Наверное.
— Будем надеяться, так и дальше будет.
— В смысле — дождь?
— Ага. В саду так все высохло, поэтому чем больше воды, тем лучше. Одновременно и жара и дождь — это лучше всего.
Гавайи. Этого ему хотелось. Тропический климат. Клуб «Тропикана». И в сад выходить в москитной сетке.
Не успел я ответить, как он спросил:
— Много заказов сегодня было?
Я рассказал, куда ездил, какие заказы развозил и что больница больше не будет с нами работать. Стул под ним скрипнул, он отложил цветы и уставился в столешницу.
— Да.
— Да?
Воцарилась тишина. Только новости по радио. Сербия в огне.
— Нет… плохи дела.
— В Косово?
— В магазине.
— Сегодня же вторник, — сказал я.
— Ты о чем?
— Сегодня вторник, а по вторникам почти ничего не происходит.
— Не знаю, Матиас.
На нем была голубая рубашка с пальмами. Под тяжестью кокосов листья свисали вниз. «Дела идут не очень-то хорошо». Он снова взял цветы и принялся за работу. Я прошел в комнату отдыха, включил кофеварку, сел и стал слушать, как вода шипит в фильтре. Потом кофеварка всхлипнула, требуя новой порции воды, и затихла. Кофе сварился. Я выключил кофеварку, вылил из термоса старый кофе — термос был почти полный — и налил новый. Ожидая звонка, я уселся на стул. Должна позвонить Хелле. Она обычно в это время звонила. Наверное, еще рановато. Я взглянул на часы. Четверть третьего. Так и есть, рановато еще.
1986 год. Хелле. Осень 1986 года, вот про что мне надо рассказать, про самую холодную на моей памяти осень, когда мне было семнадцать лет. Этот год все запомнили, сам я уже подзабыл, в каком порядке все происходило, но в том году прямо посреди улицы застрелили Улофа Пальме, это было на Свеавеген, в Стокгольме, и уже на следующее утро весь тротуар был усыпан цветами, ступить было негде. Убийца бежал вверх по лестнице — достаточно крутой, — и мы теперь знаем, сколько в ней было ступенек, а Пальме, кажется, застрелили из 45-го калибра, но точно никто не знает; а убийцей оказался Кристер Петтерсон, а может, и не он. В любом случае это не спасло семерых астронавтов «Челленджера», который взорвался через 73 секунды после взлета, при прямой трансляции по всем телеканалам. И только спустя год выяснят, что экипаж не погиб при взрыве, они находились в модуле, и это их спасло. В течение трех минут и сорока секунд, пока корабль не упал, падая со скоростью 260 км/сек, в море неподалеку от Флориды, они еще были живы. А может, погибли от нехватки кислорода во время падения, но, по-моему, кто-нибудь из них вскрыл бы кислородный баллон. В любом случае, когда нашли их тела, они сидели в креслах, раскинув руки и широко распахнув глаза. Программа освоения космоса закрывается, в Швеции хоронят премьер-министра, в Чернобыле взрывается четвертый атомный реактор, а Советский Союз ничего не слышит и не видит. Однако шведские системы слежения, ведущие поиск убийц, регистрируют громадное облако радиоактивных выбросов, которое движется вперед, людей эвакуируют, коров забивают, лес сжигают, но для мира все это просто так не проходит. Оливер Стоун завершает «Взвод», а мир готовится узнать, как же в действительности обстояло дело с войной во Вьетнаме. А тем временем на экранах по всему свету заканчивается «Карусель», Том Круз сидит в баре аэропорта, его навигатор мертв, сейчас зайдет Келли Мак-Гиллис, сядет рядом с ним и скажет, что все ошибаются, что на ошибках учатся, чтобы идти дальше. А Том Круз узнает, что навигатор мертв, что шведского премьер-министра убили и убийца убежал со Свеавеген вверх по лестнице, что «Челленджер» и Чернобыль взорвались и что в космос полететь почти невозможно. И Келли Мак-Гиллис спросит: «Am I too late? Have you already left?»[6] И у всего мира перехватит дыхание, потому что на дворе 1986 год и все на свете рушится, даже несмотря на то, что Марадона стал чемпионом мира по футболу и всеобщим кумиром. Мир трещит по швам, и спустя три года платформу «Александр Кьелланд» затапливают и хоронят в Недстрандфьорде, хотя тридцать человек с нее так и считаются пропавшими без вести. Тот год — словно чаепитие в Сахаре, когда чашки набиты песком.
Но кое-где в Ставангере, в середине восьмидесятых, в 1986-м, произошло одно событие, которое ничего в мире не разрушает. Прямо посреди всей той суеты.
Хелле.
В Ставангере я ходил в среднюю школу Хетланд, был первый учебный день второго года обучения, но почти никто не знал, как меня зовут и кто я такой. За лето они меня забыли, однако мне было все равно, мне и нужно-то было только сидеть среди других, где-нибудь в середине класса. В любом случае у меня оставался Йорн, а у Йорна был Роар, и хотя мы и не были лучшими друзьями, все равно общались друг с другом. Йорн и Роар.
И Хелле.
Она пришла к нам в класс на втором году обучения. Было прохладное, сырое утро, третий день после каникул. Я только-только зашел в класс и положил рюкзак у дверей, шла перемена, и я собирался бросить его и пойти постоять на крыльце вместе с остальными перед началом урока, это был норвежский, первый урок норвежского языка на втором году обучения, осенью 1986-го. Мы знали, что придет кто-то новенький и что кто-то ушел — из тех, с кем никто не разговаривал, кто вечно ходил поодиночке и не выдержал, кто не нашел своего места и кого не просили остаться. Такие всегда уходят, в последний школьный день перед каникулами они выходят из школы и понимают: «Я сюда никогда больше не вернусь», и никто не смотрит им вслед, никто не замечает их, они выходят за ворота с ужасно тяжелым рюкзаком, испытывая, наверное, необыкновенное облегчение, но точно не знаю. Кто-то уходил, а кто-то приходил и занимал освободившиеся места.
Хелле.
Хелле пришла, собираясь занять свободную парту, занять пустое место, занять весь мир.
Но я об этом не знал. Я положил рюкзак, выпрямился, повернулся и посмотрел прямо на нее, заметил, что она красивая, во всяком случае, мне так показалось. Я знал, что запомню ее, но подумал, что у них здесь был урок и она что-то забыла или что она на первом году обучения и поэтому я не видел ее раньше. Я вжался в дверной косяк, пропуская ее в класс. Она проскользнула мимо, бросила сумку на пол, развернулась и вышла во двор. Цок-цок — зацокали по асфальту ее ботинки, и тут только я и смог додумать мысль до конца.
Она входит в класс.
Черт.
Ты ведь тоже там был, ведь был же, ты тоже ходил в этот класс, где ты влюбился, прямо в первый или третий день после каникул, и комната вдруг стала казаться такой бесконечно маленькой. Тебе тесно и невыносимо сидеть за партой, ты не знаешь, куда глаза девать, потому что если ты посмотришь на нее или на него, то всем станет ясно. А если ты будешь отводить взгляд, смотреть в стену или на доску и будешь вести себя так, будто этого человека не существует, тогда все тоже догадаются и будут считать тебя идиотом, который пытается делать вид, что ничего не происходит.
Постояв пару секунд, я огляделся. Где она будет сидеть? Стоит ли мне сразу броситься в бой и попытаться сблизиться с ней, или лучше сначала немного подождать? Она, похоже, будет сидеть далеко сзади. Наверняка. Я положил свой рюкзак на одну из парт в переднем ряду, а потом поднял рюкзак Йорна, который тоже валялся у двери, и положил его рядом. Вот так.
Потом я побежал на улицу, спустился по лестнице, перепрыгнув последние две ступеньки, и прошел мимо одноклассников. Никто из них не поздоровался со мной, никто ничего не сказал, они что-то обсуждали, и, незамеченный, я прошел мимо них и отыскал Йорна и Роара. Они сидели на лавочке, школьный двор наводнили первогодки — ребята расселись на асфальте по двое, трое, четверо, цепляясь за свою компанию и стараясь выглядеть покруче. Некоторые девочки украдкой поглядывали на Роара, который считался одним из самых симпатичных мальчишек в школе. Он прославился еще в начальных классах, у него была куча друзей, он знал всех и, судя по всему, ничуть этим не кичился. Для Роара не существовало разницы между людьми важными и незначительными, главное, чтобы они были нормальными и адекватными.
— Хренов сраный дождь, — сказал Йорн, пытаясь свернуть сигарету. Бумага прилипала к его пальцам и губам, а табак просыпался на ботинки — он явно старался уже давно.
— Давай помогу? — предложил я, показывая на его сигарету. Он протянул мне упаковку с табаком, отскреб с пальцев кусочки бумаги, скатал из них шарики и запустил в кусты — раз, два.
— Ты чего-нибудь знаешь насчет того, кто ушел? — спросил Йорн.
— Нет, — ответил Роар. Я скручивал сигарету. Это я умел, пальцы у меня ловкие, хотя я и не курил. Я быстро скрутил две штуки, толстенькие — прямо как надо. Вот так мы и сидели на мокрой лавочке, на втором году обучения, дожидаясь, когда начнется норвежский, убивали время.
— По-моему, Бертине ушла. Не уверен, но, кажется, я слышал что-то в этом духе, — сказал Йорн.
— Надо же, — ответил Роар, — ну, этого и следовало ждать. И в какую школу она ушла, не знаешь?
— Без понятия.
— А с чего ты это взял тогда?
— Анникен сказала. Не знаю, откуда она узнала, не спросил, — объяснил Йорн.
— А разве Анникен сама не собиралась уходить? По-моему, ее должны были перевести в Конгсгорд, так?
— Да, верно, — ответил Йорн, — должны были. Но она все еще здесь.
— Надо же, — сказал Роар.
Дождь почти кончился, слегка моросил, но воздух был по-прежнему влажным, и рукава курток липли к рукам, словно болотная тина.
— А из новеньких-то пришел кто-нибудь? — поинтересовался Роар.
— В класс?
— Ага.
— Я не видел. А ты, Матиас?
— Не знаю, — ответил я и добавил: — По-моему, пришла новенькая девчонка. Я ее видел, когда рюкзак относил.
— Симпатичная? — спросил Роар.
Я уставился вниз, тело запылало, и я почувствовал себя громадным и неуклюжим.
— Угу. Ничего так. Вполне.
Повернувшись, они посмотрели на меня. Долго смотрели. Йорн соскребал с губ табачную крошку.
Нужно думать, что говоришь. Я всего один раз на нее посмотрел, да и то всего пару секунд. Может, я ошибся. А может, и нет. И поскольку я назвал ее красивой, у них теперь есть над чем подумать. Пусть сами оценят — в худшем случае у меня будет преимущество. Им придется придерживаться моей оценки, и если она на самом деле не такая уж и красивая, то они подумают, что это они ошибаются. Это был хитрый стратегический план. Зазвонил звонок, начинался норвежский.
Однако мы ждали. Не торопились и ждали, Йорн медленно докуривал, а мы смотрели на первогодок, которые решительно поднялись, взяли рюкзаки и поспешили в школу, зажав в руках расписание и план кабинетов. Мы здесь не в первый раз, мы знали, где у нас урок, и знали, что учитель всегда опаздывает. Я подумал, что мы уже давно знакомы с местными правилами, мы участвовали в решающих битвах и целый год жили по закону этих джунглей, поэтому и взгляды наши такие мрачные. Чистенькие и нарядные первогодки зашли внутрь. Xin loi.[7] Над нами пролетел вертолет, разметая рыжеватую пыль и обертки от жвачек с пальмами. Йорн затушил окурок, и мы двинулись в класс.
Я старался идти за Йорном и Роаром, чуть на расстоянии, чтобы проскользнуть в класс незаметно вслед за ними, оглядеться, посмотреть на новеньких и, самое главное, выяснить, там ли Она. Я осмотрелся. Она была там. Естественно, она сидела далеко сзади, как я и предполагал, мне показалось, что одна, но потом вошла Анетте и села рядом с ней. Они достали книжки, начали болтать, и я подумал, что они с Анетте подружатся. Совсем неплохо. Анетте, похоже, была одной из самых приятных девчонок, хотя мы с ней ни разу и словом не перекинулись. Я подошел к Йорну, который сел там, где я положил его рюкзак, уселся рядом и начал искать учебник по норвежскому. Зачем — не знаю, мне ведь было хорошо известно, где учебник, он лежал в рюкзаке, третий снизу. Так всегда было — чтобы не забыть что-нибудь, я всегда таскал с собой все, так и проходил все эти годы, перекосившись.
Йорн забыл пенал, поэтому попросил у меня карандаш, нет, ручку, у меня и то и другое было. А потом пришел учитель, за время каникул он совсем не изменился, выглядел так же, как и в последний день перед каникулами, — все такой же бледный, только черты лица заострились, та же девятидневная щетина, тот же взгляд. И, если я не ошибаюсь — а это маловероятно, — он и одет был так же. Он поставил сумку на стол, и в классе воцарилась тишина. Все ждали, что он вздохнет и утомленно опустится на стул. Но учитель Холгерсен, Стареющий Холгерсен, улыбнулся. Он улыбнулся нам и сказал: «С возвращением!»
Потом он начал рассказывать о произведениях Дага Сульстада, о школьных преподавателях, которым в военные годы приходилось нелегко, о предательстве, о решающих выборах в ЕЭС и о тех, кто все это выдержал. Я сидел спереди и пытайся, как обычно, конспектировать, но затылок мой будто жгло и щипало, и я никак не мог сосредоточиться, настолько было жарко. Я потер затылок, и, посмотрев на меня, Йорн оглянулся проверить, не бросили ли в меня чем-нибудь, но все было спокойно, а я сидел, уставившись в столешницу и думая о том, что где-то позади меня находится человек, которого я еще толком и не знаю, который почему-то перешел в наш класс и который хочет разрушить мое анонимное существование. Каким же маленьким и тесным стал наш класс, когда она вошла.
В тот день на переменах я бесцельно бродил по школе или сидел во дворе на лавочке с Йорном и Роаром. Йорн рассказывал о своем брате, Роар что-то отвечал, от меня нить беседы ускользала. Я, словно сидя в засаде, поджидал, когда появится она, и она появлялась. Она выходила на каждой перемене, чуть погодя, подходила к группе девчонок из класса «С», которые стояли посреди площадки, рядом с баскетбольной корзиной, она, очевидно, знала кого-то из них, и я решил, что именно поэтому она перешла в нашу школу. Для того, чтобы перейти в Хетланд, должна была быть причина — это все знали. В отличие от школ Конгсгорд, Св. Олава и, может, еще Св. Свитуна, в Хетланд переходили те, кто не хотел за три года заучиться до смерти и кому уроки уже порядком надоели. О Хетланде знали многие. Знали, что в старшую школу Хетланд попадают средние ученики, те, кто идет на контрольную со шпаргалками, кто просыпает экзамен, кто приходит только к третьему уроку, уходит пораньше, работы сдает с опозданием и не знает, на какой факультет будет поступать через пару лет. Вообще-то я собирался в Конгсгорд, а может, в Св. Олава, я-то был способным учеником: делал уроки, готовился к контрольным, писал конспекты, старался без надрыва выучить все, угодить всем, хотел быть добрым и легким в общении. Поэтому я в результате попал в Хетланд: там хотел учиться Йорн, потому что, как он сказал, в Хетланде есть школьный театр, «Мунин». Он считался более прогрессивным, чем столетний «Идун» в Конгсгорде, поэтому Йорна больше тянуло туда. Продвинутый Йорн любил театр, ему нравилось стоять на сцене, произносить монологи, любить или ненавидеть, все равно что. Естественно, в театр его приняли, а немного погодя Роар тоже туда устроился, оформителем. Йорну дали роль, не главную, как он хотел, главной роли он так ни разу и не получил. Это была одна из второстепенных ролей, «Как насчет ревю?», четыре реплики во втором акте, в феврале 1986-го. Билета на премьеру мне не досталось, очередь перед школьным театром выстроилась еще в январе, и билеты все расхватали. Я дождался, когда пьесу стали ставить регулярно, и однажды в середине февраля, в среду вечером, сел в автобус до Хетланда, зажав в руке билет, а руку засунув в карман куртки. Я протопал по снегу до спортивного зала, где проходили представления. В глубине зала висел занавес, а за ним, на возвышении, находилась сцена. Я отыскал свое место — специально просил в середине — и уселся, не снимая куртки, под тепло огромных висевших под потолком прожекторов. Спектакль начался. Ничего особо выдающего в нем не было, Йорн неплохо произнес свои реплики, хотя говорил он слишком тихо и чуть запинался, а одна из декораций, которые устанавливал Роар, была плохо закреплена и шаталась, когда кто-нибудь топал ногой. Но это было «ревю», и я был там, среди радостной и смеющейся публики, которую я не знал и которая не знала меня, но там, в темном зале, я стал ее частью. Мы смеялись, толкали друг дружку в бок на самых сальных шутках и самых издевательских песенках, а когда спектакль закончился, разошлись в разные стороны: я пошел своей дорогой, а остальные — своей. На следующий день я понял, что популярность Йорна немного возросла, но совсем чуть-чуть. Свои четыре реплики он произнес хорошо. На переменах к нам подходили — поболтать с Йорном или, если тот был занят, с Роаром. Я тогда сразу отступал в сторону или назад, пропуская других, подыскивая слова, но так и не находил. Не знаю — мне нравилось просто стоять и слушать, быть наблюдателем, притворяться, будто меня нет, будто я невидимка, и поэтому никто, кроме Йорна и Роара, не обращался ко мне и не смотрел в мою сторону. Мне это нравилось. Я был в своей стихии. Все было под контролем.
Но где-то глубоко-глубоко, в самой глубине души, мне, большому винтику, хотелось привлечь к себе внимание всего света. Пусть хотя бы один раз.
После школы я сел на автобус и поехал в центр, чтобы забрать велосипед, который стоял рядом с Ромсе, а потом покатил на нем к Стурхаугу. По утрам я обычно ехал на велосипеде из Кампена в центр, оставлял его там и садился на автобус до Хетланда, и таким же образом добирался из школы. Кроме среды — по средам у меня были занятия с фру Хауг, которая преподавала вокал на дому. Жила она на Нюманнсвейен и ненавидела, когда опаздывают или приходят слишком рано, но зато ей нравились мальчики, у которых чистый голос, аккуратная одежда и которых она считала современными.
Заняться пением меня побудил не кто иной, как Александер Л. Кьелланд.[8] Не тот, который писатель — к нему у меня никогда не было особого интереса, я не извлек ничего поучительного из «Яда» и никогда не понимал учительских восторгов по поводу «Гармана и Ворше». Нет, не из-за него — а из-за платформы, помните тот случай? Произошло это в 1980 году, 27 марта, в Северном море, в половине седьмого вечера, вспоминаете? Из-за урагана в море одна опора платформы подломилась, остальные пять оторвались вследствие естественного износа или взрыва в несколько шагов, платформа «Александер Л. Кьелланд» пошатнулась и меньше чем через полминуты накренилась в море под углом 40 градусов, а через двенадцать минут схватился за голову весь мир: нефтяная вышка пошла ко дну, налицо величайшая катастрофа в офшорной промышленности. Ставангер замер. У Ставангера дух перехватило, но это не помогло, из 211 лишь 88 человек спаслись и вернулись домой, 123 человека поглотила вода, они оказались заперты в кинозале, в хаосе и кромешной тьме, и не смогли выбраться. Всего какие-то двенадцать минут отделяли обычный день от ужаснейшей катастрофы. Тишина, опустившаяся на город, была всеобъемлющей. Почти у всех на платформе были знакомые или родственники знакомых, но никто не мог подобрать подходящих слов утешения. Прошло время, платформу подняли, но не всех пропавших смогли отыскать, хотя прошло уже три года. Некоторые ушли навсегда. И вот опять лето — лето 1983-го. Йорн подарил мне первый подарок ко дню рождения. Пока я разворачивал сверток, Йорн, ухмыляясь себе под нос, сиял от гордости, и вот уже через пару секунд у меня в руках был диск «Модс» «Америка». Мне было тринадцать, для нас и для всех остальных наших ровесников практически только «Модс» и существовали. Это был их второй альбом, и на нем была песня под названием «Александр», довольно-таки мрачная вещица. Слова в ней были, на мой взгляд, мягко говоря, туповатыми, рассказывалось о брате и сестре, которые убежали из дома, и всякой сентиментальной семейной чепухе. Связи я не видел до тех пор, пока однажды вечером не пошел в гости к Йорну, мы тогда прослушали этот диск три раза подряд, и я начал говорить, что альбом — совершенство, но эта песня — самая слабая.
— Ты только послушай, — сказал я и делано пропел: «О, Александр, как мог ты умереть?» Или вот еще: «Погибший брат — это вечная рана, она не заживает никогда». Нет, ну честное слово!
— Это они о платформе поют, — сказал Йорн.
— О чем?
— Об «Александере». О катастрофе на платформе, так ведь? Она же упала. И когда он поет «Александр, почему ты пал», он имеет в виду, что опора подломилась и платформа рухнула.
— Я думал, что про брата.
— Это все образно. Типа метафоры. Платформа и Ставангер — это вроде как братья. Если вдуматься, то сравнение охрененно хорошее. Если хочешь петь в группе или писать песни, надо использовать метафоры.
— С чего ты решил, что я этого хочу?
— В группе петь?
— Да.
— Да ни с чего, я же сказал, если хочешь петь в группе, то должен делать именно так.
— Я не хочу петь в группе.
— Нет так нет, но я же говорю — если.
Вот так я и начал петь. «Александр». Я пел эту песню, представляя, что спасаю в море нефтяников. Но сам я не писал и пел только наедине с собой. Я перепел все песни «Модс», поскольку почти всегда был один, я вызубрил все слова, перенял манеру Мортена Абеля и затер винил до дыр, когда мама наконец решила, что мне нужно всерьез заняться вокалом, а может, ей просто до смерти надоели одни и те же песни. Ни она, ни отец не требовали от меня каких-то особых успехов в этом деле, они просто радовались, что мне нашлось занятие. Однажды я заболел и когда уже шел на поправку, мама присела ко мне на кровать и сказала, что у одной ее хорошей подруги есть другая подруга, которая преподает вокал. Вот так мы и решили, что пару часов в неделю я буду заниматься пением. Она была очень хорошим педагогом и обучила многих молодых талантов, а у ее мужа, ко всему прочему, были связи на студиях звукозаписи, он приносил сначала студийные записи «Дюран-Дюран», а потом «А-ха». И фру Хауг учила меня петь, как они, рассказывая, что голос должен исходить из живота, и объясняя, как брать самые высокие ноты, те, что, по ее словам, лежат под самым потолком. Занятия я любил, времени у меня было предостаточно, поэтому я занимался с фру Хауг четыре года, ходил к ней каждую неделю. «Модс» давно стали пройденным этапом, стала угасать слава «Дюран-Дюран», «А-ха» начали приобретать известность. Но для других я не пел никогда. Я и дома-то перестал, пел только раз в неделю, в квартире на Стурхауге, за запертыми дверьми и толстыми стенами. Концерты давал только господину Хаугу и его жене, которые со временем стали мне улыбаться и аплодировать. В конце концов, фру Хауг начала класть ладонь мне на голову, продолжая похлопывать. В гостиную приносили кофе с печеньем, а иногда господин Хауг залезал в свой дорожный чемоданчик и всегда вытаскивал оттуда что-нибудь для меня — автограф группы, с которой он работал, барабанные палочки с подписью, диски или бандану. Я кивал и благодарил, а когда приходил домой, прятал все это в коробку, задвигал ее поглубже в шкаф и забывал об этом. Йорну я и словом не обмолвился, чем занимаюсь.
В тот день после пения я съехал на велосипеде к Педерегата, пронесся через город и протопал под горку на Кампен, Сеесхюсгате. Машин в гараже не было, я остался дома один. На кухне лежала записка: ужин в холодильнике, и желательно разогреть его в микроволновке. Мама собиралась прямо с работы поехать в бассейн, а папа работал долго и обстоятельно, так было всегда, сколько я себя помню. Родители мои были людьми аккуратными и серьезными.
Мама работала в комитете по опеке и попечительству. Присматривала за детишками. Пару раз в неделю она со старыми подругами выбиралась поплавать в спортивный центр Хетланда. Сколько себя помню, она всегда занималась синхронным плаванием, а когда я был маленьким, мама, бывало, брала меня с собой. Подвернув брюки, я садился на краешек бассейна, свесив ноги в воду. Помнится, мне нравилось смотреть, как они кружат в воде в одинаковых купальных шапочках, это было похоже на цветы. Мне нравилось, что моя мама так умеет, и нравилось, что все они зависят друг от друга, от движений того, кто рядом. Чувство общности. Ни мама, ни ее подруги эти еженедельные заплывы всерьез не воспринимали. Им просто нравилось плавать. Однако когда я был уже постарше, помню, они несколько раз участвовали в местных соревнованиях по женским видам спорта, что ли. Мы с папой сидели на трибуне и смотрели, как мама выполняет правила, повторяет движения и на воде появляются узоры. Папа никаким спортом не занимался, говорил, что отбегал свое еще в армии, поэтому ему больше нравилось смотреть. Он работал в центре города в страховой компании, в отделе компенсаций, и очень боялся слов «страховая выплата», будто они были какой-то заразой, которая могла поразить всех и каждого и против которой не помогали таблетки. Еще в молодости он начал лысеть, он любил передачу «Окно в мир», выписывал научный журнал, но и этого ему было мало, он увлекался новыми технологиями и рассказывал маме, как устроен мир, про сокровища инков в Южной Америке и арктические дрейфующие льды. Мама же, в свою очередь, еще в семидесятых запретила ему покупать одежду самостоятельно. До этого он несколько раз честно попытался было, но, по маминым словам, покупал каждый раз нечто такое серое и унылое, что сразу сливался с окружающей обстановкой и невозможно было понять, дома он или нет. Вот так я и рос, а они были замечательными родителями, друг с другом разговаривали вежливо, никогда серьезно не ссорились, даже когда стоило бы.
Я разогрел в микроволновке ужин, сел перед телевизором, как послушный мальчик, съел все, вымыл и убрал тарелку, но мне что-то было неспокойно, не удавалось сосредоточиться. Я пытался смотреть какие-то телепередачи, по НРК шел «Обзор кинофильмов», а по Эс-Кей-Уай показывали «Ангелов Чарли» и «Рассказы о Уэллсе Фарго», но у меня ничего не вышло. На улице начался спорый дождь. В конце концов я встал, вышел в коридор и позвонил Йорну, но того не оказалось дома. Наплевав на погоду, он пошел куда-то вместе с ней, и на секунду меня охватила болезненная ревность, мне привиделось, что они сейчас вместе, сидят где-нибудь с друзьями, веселятся и больше им никто не нужен. Какие-то мгновения эта мысль терзала меня, но я прогнал ее, поднялся к себе в комнату, но не стал ни уроки делать, ни пластинки слушать. Тем вечером я лег рано, в девять, потому что заняться мне было нечем, и событий никаких той ночью не происходило. И мне приснилось, что море вышло из берегов и хлынувший в мое окно поток унес меня в океан.
Той осенью я стал шпионом. Наблюдателем. Я подглядывал за Хелле, на переменах выходил из класса первым, а заходил последним. Той осенью я чуть до смерти не замерз, отморозив руки и ноги. И мне для разнообразия захотелось, чтобы меня рассекретили. Заметили.
Но я ничего не сказал.
Я не разговаривал с ней. Не то чтобы у меня смелости не хватало. Я, скорее, боялся, что ей не захочется со мной разговаривать, и тогда вся эта затея, мое хобби, станет ненужным.
Хотя нет.
У меня все же смелости не хватало. Все это слишком много для меня значило.
Трус?
Может, и так. Как и все остальные.
Я трусливо прятал голову в песок.
А потом я совершил поступок, о котором мне пришлось горько сожалеть.
Долгие годы.
Я высунул голову.
Идея эта появилась у кого-то из администрации театра.
И она оказалась неудачной.
На редкость неудачной. Они решили по случаю Рождества создать атмосферу праздника и устроить костюмированный бал-маскарад. В последний день перед рождественскими каникулами. Билет стоил двадцать пять крон, и я вообще-то не собирался туда идти, но остальные собирались, они со своей раздачей приглашений словно растревожили осиный рой, и однажды в октябре я обнаружил, что и в мой улей подбросили приглашение.
Собирался ли туда Йорн? Собирался ли Роар?
Ясное дело, собирались.
— Не знаю, — сказал тогда я.
— Ох, прекрати ты, — ответил Роар, которому казалось, что я просто выпендриваюсь. Мы стояли на крыльце, и я пялился на приглашение, идти мне не хотелось, но, как это ни банально звучит, там будет она, а я уже чуть было не подхватил воспаление легких из-за своих вылазок на улицу в ожидании, что она меня заметит, и мне надоело каждый божий день напяливать для утепления кальсоны.
Но костюмированный бал-маскарад? Черта с два.
Чертасдвачертасдвачертасдва.
И я позволил вот так запросто себя уговорить.
Придумать костюм оказалось легко. Я оденусь астронавтом. Однозначно. На мне будет скафандр и золотистый шлем с тонированным стеклом, чтобы я видел всех, а мое лицо — никто. Белый дутый скафандр с надписью «НАСА», а на ногах — белые снегоступы.
На то, чтобы изготовить костюм, у меня ушел почти месяц — скафандр не так-то просто сделать, — но я нашел выход, и мало-помалу все встало на свои места. Я нарисовал костюм, а почти все остальное сделала мама, на скафандр пошел старый белый парус для серфинга, который папа купил как-то летом, но так и не использовал, он был сшит из белого нейлона, достаточно плотный и при ходьбе замечательно шуршал. Парусину пришили к костюму для плаванья с аквалангом, а внутрь набили шерсти и пенопласта. Шлем мы сделали из старого отцовского мопедного шлема, который оказался достаточно круглым, выкрасив его белой краской, лицевую часть обклеили тонкой золотистой пленкой, и когда я поднимал и опускал стекло, смотрелось это на удивление хорошо. К внутреннему краю шлема мама пришила горло из парусины, чтобы его можно было заправлять в скафандр, и выглядело все это как единое целое. На подошвы снегоступов мы с папой наклеили большие магниты — клеем Карлссона, — и при ходьбе они издавали потрясающее цоканье, если уж делать, то пусть все будет как по правде. У Йорна был старший брат, Петер, а у того, как оказалось, имелись хоккейные перчатки, а так как Петер лежал в психиатрической лечебнице в Дале, далеко за городом, Йорн полагал, что никто и не заметит, если я одолжу у него эти перчатки. Ко всему прочему, Петер и в хоккей-то ни разу не играл.
— Ни разу? — спросил я. Мы были в моей комнате наверху, я как раз впервые примерил готовый костюм, сидел он хорошо, как влитой. Был вечер четверга, за день перед балом.
— Ни разу, — ответил Йорн. — По-моему, он и шайбы-то в руках не держал.
— А зачем ему тогда понадобились хоккейные перчатки?
— Откуда ж мне знать.
Я задумался — брат Йорна, который уже многие годы прожил в психушке и который, может, уже и не вернется на землю, представлялся мне эдаким клоном Дэвида Боуи, Зиги Стардастом. Майором Томом. Lost in space.[9] И потерявшим хоккейные перчатки.
Йорн ушел, а я осторожно пришил на грудь скафандра полоску с именем, которую мама вышила синими нитками. На ней было написано: «Баз Олдрин». Только так и должно было быть. И смотрелось неплохо.
Наступила пятница. Погода стояла замечательная, настоящий погожий декабрьский денек. Сегодня я с ней опять не разговаривал, не знаю, в чем было дело, повода не нашлось или перепугался до смерти. Я размышлял, к чему это может привести. Думал, что потревожу ее мир и в моем мире нарушится порядок. Что поезд мой сойдет с рельсов и вода помутнеет. Я пытался придумать, как мне ее забыть. Перестать тревожится о ней, попытаться сосредоточиться на общеизвестных фактах — что планеты крутятся вокруг солнца, что вот сейчас по всему миру взлетают и садятся самолеты и ничего им не мешает. Я искал вескую причину, чтобы бросить все эти мысли, и не находил.
Пятница.
Часы, проведенные перед телевизором в ожидании.
«Пернилла и мистер Нельсон».
«Звездные войны».
Шоу Пэта Шарпа.
Прощальный концерт Уэм по НРК.
Like the sand in an hourglass, there are the days of our lives.[10]
Я позвонил Йорну, он уже собрался, ага, он через полчаса выходит, а Роар уже отправился в школу, Роар всегда приходил пораньше, так оно и было, и мне это нравилось. В семье Роара всем всегда было некогда, у них всегда была куча дел, может, поэтому он и пытался опередить всех, будто стараясь проскользнуть незамеченным.
Пятница.
С пятницами надо поосторожней.
Они обещают слишком уж многое.
Они словно рецензия на кинофильм.
Лишь в редких случаях предсказанное ими сбывается.
Большинство пятниц — просто-напросто продолжение недели.
«Назад в будущее. Часть 3».
Я вышел из дому пораньше и сел на автобус. Мне не хотелось тащиться через весь город в костюме, поэтому я положил его в большую сумку и собирался переодеться прямо в школьной раздевалке.
Шел сильный снег, я прямо-таки продирался сквозь метель, низко наклонив голову, чтобы снежинки не попадали в глаза. Снег под белыми снегоступами хрустел, а я шел на праздник, на который в обычном случае ни за что не пошел бы. Но случай был необычным, потому что осенью 86-го обычаи не соблюдались.
Подойдя к школе, я увидел на снегу многочисленные следы, а это означало, что кто-то уже пришел. Я решил пройти в раздевалку не через спортивный зал, как думал сначала, а обойти вокруг и войти через заднюю дверь. Хорошо бы она была не заперта.
С сумкой в руках я обежал вокруг здания и подошел к двери, которая вела прямо в раздевалку. Дернул за ручку. Заперто. Черт… Я огляделся. Эта дверь была единственной. Я немного потоптался на месте, представляя, как пойду через спортивный зал без костюма. Этого мне не хотелось. Я попытался открыть окна в раздевалке. Не получилось. Передо мной лежали ключи, палки, которыми можно поддеть щеколду, но окна не поддавались. Я пошел вдоль стены. Дерг. Заперто. Дерг. Заперто. И тут я, наконец, добрел до окна, которое было закрыто неплотно. Всего на один крючок. Я отодвинул раму на пару сантиметров с одной стороны, положил в образовавшуюся щель камень, отломил от дерева ветку и поддел ею второй крючок. Приоткрыв окно, я протиснулся в образовавшийся проем и оказался в полутемной раздевалке для девочек.
Странно было вот так там оказаться. Не знаю уж, чего я ждал. Что там все окажется по-другому. Может, хотя бы другие краски и другая мебель. В начальной школе я никогда не подглядывал, лежа на полу в мужской раздевалке и просунув зеркало под перегородку. Никогда не залезал на батарею в душе и не выворачивал шею, подсматривая через вентиляционную решетку за девочками, когда они моются. Желающие выстраивались в огромную очередь, а я всегда оставался в хвосте, пропуская других вперед.
Однако смотреть было особо не на что. Самая обычная раздевалка. Здесь и девочками-то особо не пахло. Пахло мылом. Мастикой для пола. Спортивный зал! Поставив сумку на лавку, я начал раздеваться, аккуратно сворачивая одежду и складывая ее рядом с костюмом. Я натянул то, что когда-то было комбинезоном для плаванья с аквалангом, проверил, все ли на месте, надел шлем, поднял стекло и застегнул все молнии. Тут дверь раздевалки открылась, кто-то протянул руку к выключателю, и вот посреди комнаты стоит она, а в руках у нее сумка. На мне скафандр.
Houston, we have a problem.[11]
Engine off.[12]
Увидев меня, она попятилась.
— Ой, прости, я думала, здесь никого нет, — сказала она, а я поднял руку в хоккейной перчатке, соображая, что бы сказать.
— Привет, — сказал я.
Она повернулась:
— П-привет.
Я снял шлем, и она подошла поближе.
— Я просто… просто переодевался, — сказал я.
— Тебя ведь Матиас зовут, да?
— Ага.
— И кем же ты будешь? — Она подошла еще ближе. — Астронавтом?
Я стоял посреди комнаты прямо напротив нее, зажав под мышкой шлем.
— Базом Олдрином, — ответил я.
— Кто это?
— Второй человек, ступивший на Луну. «Аполлон-11». 1969-й. The Eagle has landed.[13]
— А почему не Армстронг? Разве не он был первым?
— Его костюма у меня не нашлось, — ответил я.
— А-а. — Она окинула меня скептическим взглядом. А потом улыбнулась, и всю комнату залило светом, так что мне даже захотелось опустить стекло.
— Хелле, — сказала она, протягивая мне руку. Я взял ее руку и легонько потряс, сделав вид, что понятия не имел, как ее зовут. Мне приятно было держать ее за руку.
— Красивое имя.
— У тебя тоже, — сказала она, показывая мне на грудь. — «Олдрин».
— А ты кем будешь? — спросил я, указав на ее сумку.
Она посмотрела на мою руку:
— А ведь это же хоккейные перчатки, да?
— В космосе бывает прохладно.
Она снова засмеялась, и я подумал, что все не так уж и плохо.
— Я буду Жанной Д’Арк, — сказала она, вынимая из сумки доспехи. — Это мама предложила, а то я и не знала, что придумать. Но наверняка неплохо будет.
— Ну, конечно.
Она начала расстегивать рубашку, и мне стало жарко. Она опять взглянула на меня:
— Я… Э-э… Ты иди. Мне надо переодеться.
— А, ага. Да пребудет с тобой Господь!
— Чего?
— Жанна Д’Арк считала, что она действует по веленью Бога. Она руководила французами в основной битве, которая определила ход Столетней войны. А потом ее сожгли на костре. Она сделала ошибку.
— А-а.
Я переминался с ноги на ногу:
— Ну, ладно… Я пойду. Пока.
— Пока. Увидимся.
Я вышел из раздевалки и отправился по лестнице в космос.
Это был мой первый настоящий праздник. Таким он и остался в моих воспоминаниях. Начальная школа — праздники в классе. Средняя школа — праздники дома в одиночестве, когда все остальные уезжали на ночь к морю, где были поцелуи и грубые обжимания под пиво, и кусты, за которыми спускали лучшие брюки, и пьяные девушки. Я оставался дома, потому что мне так хотелось, и про меня никто не спрашивал. Но на этот раз это не подростковый день рожденья. Это бал. И его я запомнил.
Я прошагал в спортивный зал, украшенный по случаю бала воздушными шариками. Позже здесь должен был состояться концерт, поэтому на сцену поставили ударную установку, гитары и синтезаторы. В другом конце зала расхаживал диджей, норвежский Пэт Шарп, одетый принцем Валиантом, там же стоял стол, а на нем — чашки и стаканы с пуншем. А в центральной части зал словно колыхался от танцующих учеников. Я опустил стекло и взял курс на стол с пуншем. Магниты цокали о пол, но никто, ясное дело, не обращал на это никакого внимания. Я взял стакан пунша, неловко зажав его хоккейной перчаткой, и отхлебнул глоток. Привкус лета, Гавайских островов, будто на дворе и не декабрь вовсе. Я повернулся лицом к танцующим. Magnificent. Magnificent desolation.
А потом кто-то хлопнул меня по спине. Я повернулся. Это был Йорн, одетый Люком Скайуокером, причем получилось довольно похоже.
— Luke, — произнес я, копируя низкий голос Дарта Уэйдера, — I am your father, Luke.[14]
— Xa-xa. Hello, spaceboy,[15] — Йорн был и правда в ударе, — ты не видал Роара?
— По-моему, нет. А он кто?
— А как по-твоему? Он, ясное дело, Соло.
— Ну, естественно. Я тут уже видел одного Оби-ван Кеноби, — сказал я, — и принцессу Лею. Вроде бы.
— Ничего себе, Лею. Вот уж есть на что посмотреть!
— А Лея и Люк разве не брат с сестрой?
— Ну да, но, черт, это все не настолько серьезно. И кто она? То есть кто в костюме Леи?
— По-моему, она из класса «С». Не уверен.
Йорн посмотрел на пластиковый стаканчик у меня в руках. Пунш.
— Ты уже был внизу?
— Внизу?
— Пошли.
Мы с Люком вышли наружу, обогнули школу и опять спустились внутрь, в тепло, в школьный театр. Там сидело человек десять — двенадцать, мальчики и девочки, а на столе стоял спирт. Я быстро огляделся, пытаясь отыскать Хелле, я ведь так и не видел ее в спортивном зале, но нет, здесь ее тоже не было.
Йорн усадил меня за стол и, указав на меня, сказал:
— Это Матиас.
Только некоторые кивнули мне, в основном там были актеры, оформители, реквизиторы и все остальные, кто занимался театром. Мне в стакан налили спирта, а из туалета вышел Роар. Хан Соло.
— Хан! — выкрикнул Люк, а Хан подошел ко мне поздороваться и присел рядом.
— А где же Чубакка? — бросил в нашу сторону высокий парень, одетый Конаном.
— На псарне, — ответил Йорн.
— А-а. Ну а ты? — продолжал тот, кивнув на меня. — Где Армстронг?
Мне неохота было отвечать.
— Армстронг присматривает за Чубаккой, — сказал Йорн.
— Прикольно. Жутко прикольно. А ты прикольный чувак, Йорн.
И опять спирт из стакана. Или пиво. Или вино. Я не обращал внимания. Прямо буря в стакане воды. Прошло довольно много времени, прежде чем мы вернулись на поверхность из нашего подполья. Ректор уже давно произнес речь, а учителя исполнили более или менее сносные номера. Группа, которую очень удачно называли «Героями Хетланда» играла «Запятнанную любовь», а несчастные ученики пытались уловить ритм, что было довольно сложно, почти нереально, и их вины в этом не было. Пошатываясь, я пробрался мимо танцующих, пол подо мной шатался. Mare Undarum.[16] Такое было ощущение, что из этого зала медленно, но верно выкачали гравитацию, шлем мой изнутри запотел, по прозрачному пластику медленно потекли крупные капли, но щиток поднимать я не стал. Я протискивался сквозь толпу, а группа заиграла «Космические причуды», Боуи на балу, болезненная суета, вокалист неприятно фальшивил, нагло стоя у самого края сцены и пытаясь попасть в тон, а потом они переключились на «А-ха», но лучше от этого не стало. За шведской стенкой Люк и Оби-Ван затеяли лазерную битву, и Люк совершил «отцеубийство», Лея совсем расклеилась, Хелле нигде не было видно, поэтому я протиснулся через битком набитый зал обратно к выходу, дверной проем шатался, и я взглядом попытался удержать его, кто-то дернул меня за руку и заговорил со мной, но шлем не пропускал звуков, а костюм аквалангиста лип к коже, мне надо было в туалет, надо было на свежий воздух, надо было найти Хелле. По коридору и лестницам я пошаркал к классу, сдвинув своим неуклюжим костюмом пару столов и стульев. Музыка из зала выползала на другие этажи, в класс, а потом просачивалась в мою голову, я, весь взмокший, развернулся и направился обратно в зал, Oceanus Procellarium.[17] Когда я вернулся, народу там оказалось вдвое больше. Мне стало дурно, группа настукивала «Сладкие мечты», пытаясь воскресить память об Энни Леннокс, и сердце мое заколотилось вдвое быстрей. Я пару раз развернулся в поисках, за кого бы зацепиться, но знакомых вокруг не оказалось, потом я устремился к бокалам с пуншем, нашел там Роара в образе Хана Соло и наклонился к нему, и он поддержал меня, не давая упасть. В зале все смолкло.
— С тобой все в порядке? — спросил он, пытаясь поднять щиток моего шлема, но я отвел его руку, и щиток остался на месте.
— Ну, только… проблемы с оборудованием, — сказал я.
— Чего?
— Чего? — переспросил я. Я видел, что его губы шевелятся, но не слышал ни слова, зал наполнился голосами и шумом из динамиков.
— Ты о чем? — прокричал Роар.
— По-моему, нарушена связь с центром управления, — сказал я, — но мы уладим это за несколько минут. Stand by.[18]
А потом из микрофона раздалось заявление, что сейчас можно присоединиться к группе, что если кто хочет попробовать себя в пении, то вот она, такая возможность, сказали они, ну, желает кто-нибудь подняться на сцену? Скрестив руки, вокалист отошел в глубь сцены. Желающих не было. В зале слышалось бормотание, а там, прямо рядом со сценой, среди всяких Зорро, Суперменов, ковбоев и чехословацких инопланетянок Маек, я увидел Жанну Д’Арк. Хелле возникла вдруг из ниоткуда, и тогда я, быстро передвигая намагниченными ступнями, сделал то, чего совершенно не должен был делать.
Я поднял руку.
Я подошел к сцене.
Я поднялся по коротенькой лестнице.
Повернулся к группе.
Сказал им название, и они кивнули.
Повернулся к зрителям. Что-то забормотал.
Поднял щиток.
Подумал о фру Хауг.
А потом запел.
Пел я громко, в полную силу легких, и пел хорошо. Просто потрясающе хорошо. Голос мой смел стены и людей в зале, снес с них шляпы, косынки, фальшивые бороды и парики, и я видел, как Роар и Йорн, которые стояли вместе в углу, разинули рты и вытаращили глаза, я видел, как мои одноклассники там, в зале, покачивают головами, не веря своим ушам. И я пел громко, пространство было заполнено моим пением, потому что это я умел, у меня был сильный голос, не знаю уж почему, но я всегда хорошо пел, только вот никогда особо не любил, не нравилось мне вот так стоять на сцене и петь для рукоплещущей публики. Однако в тот раз я пел, как с детства пел для себя, и песня моя летела наружу прямо через вентиляционные решетки в потолке, летела через метель на улицы, и я представлял, как на перекрестках останавливаются машины, а водители выключают радио, опускают окна, в салон летит снег, а они недоумевают, откуда же взялся этот звук. Представлял, как семейные пары перестают ссориться, замолкают, открывают окна, приближаются друг к дружке и обнимаются, как в кроватках просыпаются дети, прижимая к себе плюшевых мишек, потому что слышат где-то там песню, и снег наконец прекращается, тучи уходят, и небо светлеет, а я пою, стараясь изо всех сил, и воздух наполняет мои легкие, группа почти не успевает за мной, вокалист отходит все дальше и дальше в глубь сцены, а потом и вовсе уходит. Широко раскрыв глаза, я смотрю на слушателей, я не понимаю, что делаю, нахожу глазами Хелле, а она улыбается, тоже стараясь изо всех сил, но на этот раз я не могу опустить щиток, я же пою, и пою я необыкновенно красиво, и я думаю, что мне следовало бы стать певцом, потому что больше я ничего не умею, как следует я умею только петь, голос разносится по залу, и песня приближается к завершающему моменту, эта песня была одной из самых популярных в том году, году, в котором все шло не так, как надо. Я раскидываю руки в стороны, и она завершается, я оборачиваюсь к группе, машу рукой, и они повторяют последний куплет еще раз, ударник делает последний удар, и вот я один, я тяну последнюю ноту, тяну ее, давая последнему звуку раствориться в воздухе, и песня заканчивается.
А потом я опускаю щиток.
А потом раздаются овации.
А потом я поворачиваюсь и ухожу.
Я прошагал в заднюю комнатку, спустился по лестнице в женскую раздевалку, сел на лавочку, где лежала моя одежда, поднял щиток, наклонился вперед, и меня вырвало, я опустился на колени, из меня на дощатый пол вырывались потоки пива, вина, спирта и всего того, что целую осень во мне копилось.
Вот это я и помню. То есть, по-моему, это я как раз запомнил хорошо. В какой-то момент время побежало очень быстро, или мозги заработали медленнее. Но я точно помню, что я стащил наконец с себя костюм, сунул голову под душ, открыл кран и на голову мне полилась ледяная вода. Помню, что я переоделся, забросил костюм в сумку и вылез в окно, сквозь метель дополз до дому, шесть километров с мокрой головой, заболел, провалялся неделю дома, встал с постели только за пару дней до Рождества, пошел к Йорну, а тот не знал, что и сказать.
— Надо же, — только и смог произнести он. — Господи!
Я ничего не ответил.
— Но, Матиас, почему же ты раньше ничего не рассказывал?
— А зачем?
— Но, господи, мы же можем создать группу, я — на гитаре, Роар на ударных, а ты…
— Господи, Матиас, ты должен петь. Черт, в этом же нет ничего плохого. Я такого не слышал уже… ну, не знаю сколько, но довольно давно.
— Нет, — повторил я.
— Нет?
— Нет.
— Точно нет? Или просто нет?
— Точно нет.
— Ну и чем же ты тогда собираешься заниматься, чтобы всенепременно раскрыть свои возможности?
— Буду садовником.
— Садовником?
— Да.
Мы сидели и пялились в потолок, Йорн ставил пластинки, а к вечеру пришел Роар, который сказал примерно то же самое, а я опять ответил, что не буду этим заниматься, и попытался объяснить, как я вижу свою жизнь, медленно, но верно рассказал им о своих планах стать садовником, планах, окончательно сформировавшихся у меня в голове в последние недели, но впервые появившихся почти три года назад. Я рассказал о Хелле, рассказал больше, чем рассказывал за последние десять лет, я словно сбросил на них своего рода информационную бомбу.
На малый сочельник[19] я опять пошел к Йорну, мы сидели с его родителями внизу, в гостиной, пили пиво, смотрели «Графиню и дворецкого» — фильм уже тогда немного устарел, — и я все думал о том, где эти люди сейчас, вот графиня — стала ли она настоящей звездой или оказалась актрисой-однодневкой? И дворецкий — что с ним теперь? Может, он наряжает елку и вспоминает о былом успехе? Знает ли он вообще, что эту пьеску показывают в Норвегии на каждый малый сочельник и она стала какой-то традиционной формальностью? Я потопал по снегу домой мимо «пивного дворика», где пиво продавалось даже после часу дня по субботам, а потом поднялся к школе Кампен, на улице было темно, школьный двор завален снегом, и фонари выхватывали из темноты белые хлопья, бесшумно опускавшиеся на землю. Я набрал в пригоршню снега, слепил из него снежок и, высоко подкинув его, зашвырнул на крышу начальной школы, посмотрел, как он падает и разбивается, а потом пошел дальше. И тут кто-то окликнул меня:
— Эй, подожди.
Кто-то бежал ко мне.
Хелле бежала ко мне.
Ну конечно, это Хелле бежала.
Так оно и было.
Повернувшись, я ждал, когда она догонит меня, потом набрал еще одну пригоршню снега и начал мять его варежками.
— Куда ты пропал? Тогда, на балу? — спросила она, подойдя поближе. — Ты сразу исчез.
— Меня вызвали обратно на Землю.
— Ты так хорошо поешь.
— Спасибо. А ты где была?
— Я осталась на балу, — она засмеялась, — когда ты ушел, все затихло. Группа больше так и не играла. Вместо нее был диджей. А где ты научился так петь?
— В Стурхауге.
— Ничего лучше я не слышала!
— Правда?
— Да. А ты сможешь забросить этот снежок на крышу?
— Наверное, смогу.
— Если сможешь, получишь приз.
— Идет.
На ее ресницы, должно быть, опускались снежинки, и она могла бы смахнуть их своими красными варежками, но не смахивала. Сняв одну варежку, она потерла нос, затем надела ее назад и поежилась от холода. Я долепил снежок и закинул его на крышу. Шлеп.
А потом она обняла меня и поцеловала.
И я обнял ее.
Вот так, на малый сочельник, мы с Хелле и начали встречаться.
На Рождество мы с мамой и отцом сидели в гостиной и смотрели диснеевские мультфильмы.
When you wish upon a star.
A gift from all of us to all of you.[20]
Это было замечательное Рождество, и я получил в подарок то, что хотел.
Новый год мы встречали вместе с Хелле, на Мадла, ночевал я у нее дома, а наутро мы ели свежие булочки, испеченные ее отцом, у которого было тогда хорошее настроение, и первые январские дни я провел у них.
Хелле. Из Аугленда. Хелле, чей отец работал в полиции, а мама преподавала географию в университете. Хелле, у которой была комнатка на чердаке, которая слушала «Полис» и которая постоянно ходила в кафе «Стинг» пить красное вино. Хелле, которая стала моим миром, его душой, вплоть до того самого дня, когда она потопила весь корабль целиком, безвозвратно, так что не уцелел ни один человек, даже крыса.
Занятия опять начались во вторник, и я помню, что когда тем утром я зашел в класс, все затихли. Разговаривали со мной по-прежнему только Йорн, Роар и Хелле, но когда во дворе я вдруг поворачивался, то ловил на себе взгляды, они мне дырку в спине просверлили. Когда я шел на урок по коридору, те, кто был в коридоре, отходили, уступая мне дорогу. Проходили недели и месяцы, а ситуация только ухудшалась: я вдруг стал необыкновенно популярным, на каждой несчастной перемене со мной заговаривали о том, как я пел, а я выходил на улицу и мерз там, пытаясь казаться незаметным, но, естественно, безуспешно. Мир открыл для себя Матиаса, и с этим почти ничего нельзя было поделать. Поздно было раскаиваться в своем поступке, даже учителя стали обращать на меня больше внимания и чаще спрашивать. Я чувствовал, как стены подступают все ближе и ближе, загоняя меня в угол, даже если я находился в просторном помещении, и поэтому, наверное, однажды посреди одной из бессмысленных бесед с человеком, которому вообще-то не было до меня никакого дела, я решил, что больше никогда не буду высовываться. Я скучал по своему собственному мирку, где все зависело только от меня, где был только я и космос, Вселенная, Buzz & me.[21] Разговаривал я по-прежнему мало и на уроках делал по возможности даже меньше обычного, но, конечно, это лишь усугубляло ситуацию — они хотели, чтобы я вступил в школьный театр (вот только этого не хватало), а всем начинающим группам вдруг срочно понадобился новый вокалист, но я отказывался. Так просто меня не сломаешь. Хелле тем не менее относилась к этому по-доброму и изо всех сил старалась понять, почему я хочу избавиться от всеобщего внимания, хотя на самом деле она так и не поняла. Я сидел дома, у себя или у нее, выходил куда-то еще реже, чем раньше, и когда к концу третьего года начали обсуждаться планы дальнейшей учебы, я врал, что поеду в Осло и буду поступать там в университет, на такой-то и такой-то факультет — уж не помню, что именно я плел. А в тайне ото всех я заполнил заявление в школу садоводства, курсы и все остальное. Знали об этом только Хелле, Йорн и Роар. И они молчали.
Некоторым не нужен весь мир, даже если он у них в руках.
Некоторым не нужна собственная страна.
И некоторым не нужна даже школа в Ставангере.
Некоторым нужна только часть от целого.
Это полезно, хоть и бывает так из-за застенчивости.
Не все хотят обладать целым миром.
Мне нужно было лишь мирное существование.
Я сидел на стуле и смотрел на цветы, тянувшиеся к входной двери. Завтра их предстоит развозить — не забыть бы. Было половина третьего, и скоро она должна позвонить, как обычно, Хелле скоро позвонит, мы договоримся встретиться, я выключу свет, запру двери и поеду домой в Стурхауг, в нашу квартиру.
Цифры на электронных часах над дверью показывали 14:31.
Я сидел на стуле и пил кофе.
14:32.
Я сменил позу.
14:33.
Закрутив крышку термоса, я положил его в пакет.
14:34.
Позвонила Хелле.
— Привет, — сказала она, привычный мягкий голос в трубке, летящий через километры кабелей, соединительных узлов и электрических импульсов с другого конца города.
— Привет, — ответил я с каким-то детским нетерпением, хотя детство давно уже закончилось.
Голоса на заднем фоне, ее мир, наполненный голосами.
— Ты телевизор смотришь? — спросил я.
— Да, — ответила она.
— Что показывают?
— Да ничего особенного, просто так включила. Опра, по-моему.
— Ясно.
Молчание.
— Ну, — начал я, — пойдем куда-нибудь вечером или как? — Я поправил цветы и стряхнул со стола пыль. — Может, в кино или еще куда?
— У меня тренировка, — сказала она, — а потом мне сегодня вообще-то надо с Карианне встретиться. Вечером.
— Ясно.
— Ну, я…
— Нет-нет, все в порядке.
— Правда?
— Ну конечно. Естественно. Можем завтра сходить куда-нибудь. Или на выходных. Что думаешь?
— Да, наверное, — только и сказала она.
Цветы, лежащие на столе, надо поставить в воду. От такой жары они погибнут. Я поднес трубку к другому уху.
— Ага… ну, тогда до встречи, — сказал я.
— Ладно.
— Ладно. Люблю тебя.
— Я тоже.
— Пока.
— Пока.
Я положил трубку, еще полчаса повозился в магазине, потом запер двери и поехал домой, оставив цветы на столе умирать.
Я сидел на диване в гостиной. Смотрел новости. Телефонный звонок. Репортаж о крушении корабля у Филиппинских островов. Кто-то звонил. Я выключил звук, поднялся и взял трубку, глядя на безмолвный экран телевизора. На другом конце провода мама. Привычный голос. Я смотрел на экран.
— Алло, — сказала она.
Общий план — волны крушат корабль, азиаты в панике сбиваются на носу.
— Как дела?
— Да все в порядке, — отвечаю я.
Крупный план — мать с ребенком в спасательной шлюпке, глаза широко раскрыты.
— Как на работе?
— Все цветет и пахнет.
Молчание.
— Это хорошо. А как Хелле?
— Да и у нее тоже все хорошо.
— Да, она всегда держалась молодцом.
Над водой кружит вертолет, сбрасывает лестницу, в порывах ветра людей поднимают наверх, из воды высовываются руки.
— Да.
Теперь показывают репортера, который стоит на берегу в мокрой куртке, волосы развеваются.
— Ты уже поужинал? Сегодня?
— Ну-у, — отвечаю я, — не так чтобы. Перекусил.
— Да-да.
Фотограф снимает плавающие в воде спасательные жилеты.
Вода поднимается.
— Может, приедешь? К нам?
— Сейчас?
— Да. Я… я булочек напекла.
— Булочек?
— Да.
На палубе нефтяного танкера выжившие, кутаются в шерстяные одеяла. Пустые глаза.
Корабль уходит под воду.
По телевизору уверяют, что это был прямой репортаж.
И все это происходит сейчас. Булочки и море.
— Хорошо, — ответил я. — Только сначала душ приму, а потом сразу поеду к вам.
Она помолчала.
— Прекрасно. Тогда увидимся. Пока.
Я:
— Пока.
Прежде чем положить трубку, мама пару секунд помедлила — она всегда так делает, на случай, если я что-нибудь еще скажу. Как правило, я больше ничего не говорил, я же знал, что она не очень любит телефонные разговоры, ей нравится видеть лицо собеседника, его губы, а вот папа — да, он настоящий телефонист, может часами просиживать с трубкой и разговаривать, разговаривать, рассказывая обо всем на свете, ему только и надо найти какого-нибудь собеседника на другом конце провода, который тоже мог бы столько времени просиживать на телефоне.
Через час я сидел в машине, я сделал небольшой крюк и поехал через центр, вечер был ясным, владельцы кафе выставили столики на улицу, народ выпивал, многие уже надели футболки и солнечные очки, хотя до лета еще было далеко, а на дворе коварный месяц. «Не верь женским взглядам и улыбкам, они переменчивы, как апрельская погода», — любят приговаривать все мамаши. Лужи после дождя уже высохли, и вот-вот должна пронестись волна лесных пожаров, лето будто выплачивает Ставангеру аванс — прекрасная погода в кредит, а в июле он возмещается.
Я проехал мимо отеля «Атлантик», мимо строящегося отеля «Бючардт», мимо гостиницы «САС», наверх, к Кампену, мимо церковной школы на Мишунсвейен и еще чуть-чуть до Сеехюсенсгате.
Позвонил в дверь.
Передумал.
Нет.
Просто вошел, не дожидаясь.
Обычно я заходил к ним где-то раз в месяц, может, при случае, два раза, иногда просто забегал на пару минут, иногда оставался на весь вечер, сидел и смотрел с ними телевизор. Все зависело от того, что мы с Хелле собирались делать — нет, не то чтобы собирались, скорее, были ли у нас какие-то другие планы, или я был предоставлен самому себе. Мы с Хелле — мы долго жили по отдельности. Я — в квартире в Стурхауге, а она снимала комнату в квартире с тремя девушками, они были моложе и учились в педагогическом колледже. Я, бывало, представлял, что у каждой из них есть дневник и они делают там записи или зачитывают вслух, какие отговорки и болезни ученик может выдумать, чтобы не прийти в школу, или ставят друг дружке оценки за мытье посуды — «двойку», например, если кто-нибудь забывал повесить полотенце или ополоснуть столовые приборы. В нашей теперешней квартире мы прожили уже четыре-пять лет, мы сняли ее после того, как мне пришлось съехать из предыдущей, поскольку тот дом должны были сносить. Это был старый дом в Воланне, с низкой квартплатой, я переехал туда в 89-м году, Хелле тем летом уехала в Берген изучать юриспруденцию, а я начал работать. Я въехал в квартиру, в ней было почти сто чудесных квадратных метров, я занимал целиком второй этаж, и места там было предостаточно. Комнаты начали приспосабливаться ко мне, подстраиваться под меня, и я знал, где на полу неровности, в каких местах доски потрескивают, что свет на кухне загорится только через 10–12 секунд после того, как нажмешь на выключатель. В те годы я курсировал между Ставангером и Бергеном, ночевал в ее маленькой комнатке на Нюгордсгатен, совсем рядом с залом Грига. Я сходил с ней на несколько лекций и праздников, сидя среди студентов, слушая их шутки и анекдоты и глядя на незаметные рукопожатия и мрачные киноафиши на стенах. Я ходил с ней в Драгефьеллет,[22] сидя рядом на лекциях, словно какое-то инородное тело. Когда она вернулась наконец в Ставангер, захотела жить с подружками, с хорошими старыми подружками. «Нужно чуть-чуть подождать, — сказала она, — я еще не готова делить с кем-то зубную щетку». — «Да, — ответил я, — ладно», — но мне так хотелось, чтобы она была рядом, в моей квартире, в моих комнатах, а когда Хелле согласилась, дом уже готовился под снос. Тогда она уже бросила карьеру юриста и начала заниматься рекламой, нашла хорошую работу, на которой проработала несколько лет, а потом перешла на другое место, еще лучше. Реклама и юриспруденция. Две стороны одной медали, так она считала.
Когда Хелле не было дома, я часто сидел один. Изредка я, правда, ездил к Йорну, но чаще навещал родителей, других детей у них не было, я был в единственном экземпляре, настоящий живой сын, и когда я заходил в дом, отец весь сиял, он выходил из гостиной с газетой в руках, улыбаясь, и снимал очки. Он всегда так делал, разглядывая меня, прямо как в рекламном ролике.
Возвращение блудного сына.
Каждый раз.
И сейчас тоже.
В дверь я не звонил, обычно я никогда этого не делал, это был по-прежнему мой Дом, хотя я уже давно там не жил. Дом-дом. Не позвонив в дверь, я прошел в прихожую, «Привет», — и я услышал, как отец поднимается со стула в гостиной, а потом он появился в дверях, в руках газета, очки, «Привет». «Здорово, что ты пришел», — сказал отец. Я сбросил ботинки и прошел за ним в гостиную, совсем как раньше, от моих шагов скоро уже бороздки на полу появятся, из прихожей к дивану. Я так много раз здесь проходил, по этому вот полу, больше двадцати лет я тут ходил, размер моих ступней менялся, и сам я тоже менялся, и рост, и возраст, и настроение, когда я проходил по этому вытертому паркету в гостиной. И вот мы снова собрались в гостиной вместе, отец подошел к стулу у окна, он всегда садился на него, это был отцовский стул, в этом доме для всего есть особый уклад или ритуал, мама крутилась, как обычно, на кухне, и она, как всегда, выйдет из кухни, как будто случайно, «О, привет!» — словно она и не ожидала, что кто-то придет сейчас в гости. Когда я открыл входную дверь, я увидел, как мама скрывается на кухне, а когда я занял свое место в гостиной, она вышла оттуда, вытирая руки одна о другую, как будто отряхивая муку или еще что-нибудь, чем можно запачкать гостя, хотя на самом деле она стояла там и ждала, по привычке.
Это мама.
Это отец.
Это мы.
Это Семья.
Я поинтересовался, как у них дела на работе, мама занималась детьми с замедленным развитием, работала в центре города. Она устроилась туда, когда я закончил начальную школу, и я часто задавался вопросом, не из-за меня ли она выбрала такую работу, но никогда не спрашивал. Были ли у меня проблемы с развитием? Я полагал, что не больше, чем у основного населения в нашей стране. Но тем не менее. Мама. И эти дети. Которые не могли найти себе места, которые не умели сидеть тихо на уроках и беспокойно бродили по классу, пока их, неугомонных, не выставляли за дверь. А через десять минут, когда учительница возвращалась забрать ребенка — почти непременно мальчика, — его уже не было, ну конечно, он уже убегал в лес, или домой, или в город. Ребенок восьми лет от роду и неспособный к общению, и вот учительница, вроде как расстроенная (но на самом деле она на это и надеялась — что он улизнет), возвращается в класс, а другие ученики спрашивают, куда он делся, а в ответ слышат: «Нет, ну теперь давайте-ка сосредоточимся, ладно?» И я думал, что вот сейчас он поднимается к лесу за школой, куда остальные ученики боятся заходить, они ведь уже наслышаны обо всех ужасах, таящихся в лесу, — о наркоманах, маньяках-насильниках, привидениях, да бог знает что там еще может быть. Именно в этом лесу и встречаются все те, кого выставляли в коридор. Туда стекаются дети с задержками развития из всех школ города. Как Робин Гуд со своими ребятами, они собираются в большом лесу и там, в чаще, строят планы, разрабатывают тактику нападения на особо усидчивых учеников, планируют все в подробностях, капитошки и гнилые помидоры, и как бы облить чужие ранцы водой. А может, они планируют вовсе не это, а как бы вырваться из школы, которая совершенно им не подходит и которая не рассчитана на их возможности и на их беспокойные головы.
— А на работе как? Все хорошо? — спросил я маму.
— Много работы. Очень много.
Потом — раньше или позже — этих детей находили и выкуривали из их нор, получался эдакий школьный Вьетконг. А когда их переводили в среднюю школу, они были уже в некоторой степени подавлены. В классе таких сажали за перегородку, чтобы их не было видно и чтобы они не смущали своим присутствием других учеников, но рано или поздно перегородка падала, прямо посреди урока или экзамена, и их опять выводили в коридор, откуда они ускользали, прежде чем их успевали позвать обратно. И никогда не возвращались.
— Столько людей мучается, Матиас. Их просто ужасно много.
— Да, — сказал я.
— У них почти ничего нет. А родителям их, да, ведь так оно и есть, им же почти все равно. Конечно, они беспокоятся, но дело не в этом, большинство и правда переживает о детях, но они никак не могут понять, в чем дело. Они просто думают, что все, ну, плохо, что ли. И они словно выпускают детей из рук. Тебе повезло, понимаешь? Твои родители о тебе заботились, верно ведь?
Маме нужно еще раз в этом убедиться. Это часть моих посещений.
— Да, — ответил я, — мне повезло. — Мне ведь действительно повезло.
Я никогда не бродил беспокойно по классу во время уроков, хватая девочек за волосы и издавая резкие горловые звуки. Я был таким, как надо, на физкультуре, по вторникам и четвергам, я никогда не цеплялся за канат и не вис на нем, и меня никогда не сажали за перегородку.
Мне этого и не нужно было.
Меня все равно никто не видел.
— Еще кофе? — предложила мама, постукивая по чашкам и сервизу.
— Да, спасибо. Он у тебя вкусный.
Отец выглянул в окно. На дворе было почти лето.
— Да-да, — произнесла мама, пытаясь вновь вернуться к разговору о работе, чтобы было что обсудить. — Знаешь, нам нужны такие, как ты.
— Правда?
— Ты всегда был очень ответственным, с самого первого учебного дня. Помню, ты тогда пришел домой, а задали вам, по-моему, завязать узелок, верно ведь? Ты расположился за столом в столовой, — она показала на стол, — маленький зайка, ты пытался продеть шнурок в дырочки на ботинках, а потом завязать его. Ты весь вечер просидел, завязывал и завязывал, так что даже шнурок под конец задымился. Вот тут-то я тебе и пригодилась. — Глядя на меня, мама засмеялась. — А потом, помнишь, ты считал себя Суперменом?
— Нет, — ответил я, — неужели?
— Да, у тебя был целый ворох таких картинок, как там они назывались? — спросила она, обращаясь к отцу, но потом сама вспомнила. — «Комиксы про Супермена»! К куда они подевались, комиксы эти? У тебя их столько было!
Я пил кофе, не перебивая, мне казалось, что я поэтому и любил в детстве комиксы, те брошюрки, которые так долго собирал. Молния. Супермен. Человек-паук. Все они делали добро, оставаясь неизвестными. Появлялись в нужное время в нужном месте. Спасали мир от гибели. Санитары города. И даже визитной карточки не оставляли. Им не нужна была благодарность, вознаграждение или общественное признание. Они просто делали свое дело.
— А, да, они наверняка лежат на чердаке, там еще много всего. Если хочешь, в общем, я их как-нибудь могу достать.
— Да ладно, не надо, — ответил я.
— Ну, мне это не так уж и сложно.
Молчание.
— Да, Матиас, тебе бы надо работать у нас. Нашим детям как раз нужен супергерой.
— Нам всем он нужен, — сказал я.
— Да уж.
Отец, сидя на стуле, повернулся к нам.
— Да, хорошие были комиксы, — сказал он.
— Какие?
— О Супермене.
— Да, хорошие, — согласился я.
— А у Супермена была аллергия, да? На тот камень, который лишал его сил? Как он там назывался? Кристалл?
— Криптонит.
— Ага, точно. Криптонит. Так и было.
Кроссворды. Кофе. Разговоры. Я дома. Но я в нем больше не свой. Это все равно что зайти в школу, которую давно закончил, сесть за свободную парту, упираясь коленками в крышку стола. Ты все равно не станешь частью происходящего вокруг, твои плакаты давно уже сняли с доски, а уроки свои ты давно уже сделал.
Мы поговорили о цветочном магазине, о Хелле, о наших планах на лето, мама с папой собирались во Францию, там жил папин брат, в Сен-Ло, он там уже шесть или семь лет, и отец решился наконец съездить к нему в гости.
Путешествовать папа не любил, ему единственному в нашей семье нравилось сидеть дома, и мама часто ездила куда-нибудь с подругами. Еще два месяца оставалось до их отъезда, этого решающего дня, но я знал, что отец уже начал переживать. Он считал дни, убеждая себя в том, что все пройдет хорошо и они проведут во Франции почти три недели. Отец имел обыкновение считать оставшиеся дни: 18 дней, дни идут, сколько там до демобилизации? Осталось 16 дней, 10 дней, 10 ночей в чужой кровати, а потом домой, и первую неделю он думал об этом все время, не важно, хорошо ли им было, это не играло никакой роли, тоска по дому всегда тянула его обратно. Сидя у моря в Нормандии, отец будет автоматически думать о том, как дорого ему все то, что осталось дома. Он будет скучать по дому, машине, забору и траве, будет скучать по сорока- или пятидесятисантиметровой пробоине в асфальте на Рогаландсвейен, на которую он каждый день натыкается по дороге на работу. Однако примерно спустя неделю тоска отступит, отец и думать забудет о доме и почувствует себя во Франции как рыба в воде. Это вторая фаза. А в Париже, в аэропорту Шарля де Голля, его нужно будет практически отрывать от стены, потому что он не захочет возвращаться домой. Отец. Мой отец.
Ну а я?
Куда поеду я?
— Я поеду на Фареры, — сказал я.
— Фареры? — переспросил отец.
— Фареры? — переспросила мама, — нет, вот там мы никогда не бывали.
Отец:
— Что ты там будешь делать?
Я объяснил им, что, с кем и где и что Хелле поедет с нами, ясное дело, Хелле поедет, если ее с работы отпустят, ей сложно было уладить расписание отпусков, но она вроде все устроила, сказал я, отпускные дни — это всегда сложно, все хотят в отпуск в одно и то же время.
— Да уж, с этим трудно бывает, — согласился отец.
— Кто-нибудь всегда должен быть на месте, — сказал я, — иначе ничего не выйдет.
Я посмотрел на отца.
— Это верно, — ответил тот, ерзая на стуле.
— Еще кофе? — Мама уже привстала с дивана.
— Нет, спасибо, — сказал я.
Она опять опустилась на диван. Положила руки на колени.
— А Хелле? — спросила мама.
— Что?
— Ну, почему ты без нее пришел?
— Она должна была с подругой встретиться.
— А-а, ясно. У нее же всегда было много подруг, — сказал мама, посмотрев на меня и опустив глаза.
— Да.
— Друзей можно завести много, но немногие из них будут близкими. Лучшими. Я это всегда говорила.
— Так оно и есть, — подтвердил отец. У него больше не осталось друзей. Только коллеги. Я тогда подумал, что многим до него и дела нет.
Мы сидели, пытаясь подобрать слова, никто из нас не знал, как склеить беседу. Отец поправлял очки, мама стряхивала со скатерти невидимые крошки. Я потирал пальцами виски.
— Съешь булочку, — сказала мама, протягивая мне блюдо. Я взял одну, чайной ложкой проделал в ней дырочку, положил внутрь клубничного варенья и попытался залепить дырочку пальцами. Такие булочки вкуснее всего, когда варенья не видно, про него забываешь, и оно как будто становится частью булочки. Но у меня что-то во рту пересохло.
— Может, все-таки нальешь мне еще кофе? — спросил я маму.
— Ну, ясное дело, налью, — ответила она, поднимаясь. И поспешила на кухню варить кофе.
Мы с отцом остались в гостиной. Мы думали, о чем бы поговорить. Так всегда было. Мы могли друг другу о многом рассказать, но нам всегда сложно было начать.
Отец показал рукой на пол:
— Ах да — мы тут недавно паркет отполировали, но ты, наверное, знаешь.
— Красиво стало, — сказал я.
— Да, нам очень нравится. — Он слегка нагнулся и провел рукой по гладкому полу. — Да, очень.
— А на работе как? Все в порядке? Или может, кто-нибудь утопил машину в озере и хочет страховку получить?
— Да все в порядке. Нет уж, такое не часто случается. — Молчание. — А что ты на самом деле сделал с теми комиксами про Супермена?
— Я их продал. В комиссионку сдал. А вместо них купил лунный глобус. С подсветкой.
Он хитро посмотрел на меня:
— Я так и думал.
— Ничто не остается навечно, — сказал я.
— Из тебя вышел хороший супергерой…
— Я старался, как мог. Но вот летать я боялся.
Потом мама принесла кофе и присела, разливая его в чашки. От него поднимался пар.
Потом мы вновь задзынькали чашками, заскребли ложками по блюдцам и опять принялись класть в булочки варенье, залеплять их и подносить ко ртам, которые наконец заговорили так, как полагается в настоящей семье. И я был счастлив, родители мои были красивыми, хорошими людьми, и мы сидели, кто на диване, кто на стуле, я чувствовал этот дом, в котором вырос, здесь был наш, мой запах, и царапины на подлокотниках кресла — это я их сделал самое меньшее десять лет назад, а может, и все двадцать. Не помнил как, но точно знал, что эти линии я процарапал. Я знал, что маленькое горелое пятнышко на паркете перед камином появилось оттого, что однажды на Рождество из камина выпал уголек. Мы тогда ужинали в другом конце комнаты, спиной к камину, поэтому никто из нас не замечал его, пока пол позади нас просто-напросто не загорелся. Дымок поднимался к потолку, проползая мимо нас и нашего рождественского ужина, и хотя паркет совсем недавно отполировали, все равно то горелое пятнышко сохранилось как след нашего существования. А на втором этаже, в моей комнате, все осталось нетронутым с тех пор, как я переехал. Родители почти ничего там не меняли, ну, может, поставили сушилку и перенесли компьютер, которым все равно не пользовались. Эта комната — по-прежнему моя, мне даже не надо заглядывать туда, я и так знаю, что внутри. Там почти ничего не изменилось: на окнах по-прежнему висят уродливые шторы, я настоял на том, чтобы их повесили, когда мне было четырнадцать, безнадежно пытаясь показать маме свое видение мира, естественно, шторы были абсолютно отвратительными, прямо-таки кошмарными. И старое красное одеяло, узенькое и тонкое, которое постоянно вываливалось из пододеяльника, а потом у меня появилось большое теплое голубое одеяло, которое все еще лежит там, наверху, на кровати. В ногах стоят две старые тумбочки, а когда спускаешься в кухню, лестница поскрипывает. Когда по утрам по ней спускался отец, он коротко кашлял два раза, он наверняка кашляет так и сейчас. Все лето напролет по утрам мама выходила на улицу и развешивала белье, а в лесу за домом, в Бюхаугене, приятно в конце лета выпить пива, а зимой он похож на бастион, и в детстве мы играли в там войну, ползая по снегу. Где-то там, в лесу, я потерял одно из моих любимых ружей, винтовку, почти точную копию М-1, которую мне купили на Майорке в конце семидесятых. Став трофеем, она пропала зимой 1979-го, во время одной из самых крупных битв в лесу Бюхауген, и мы с отцом несколько раз подряд ходили ее искать, но не нашли. Ее засыпало снегом, и она пропала, а когда пришла весна, я уже забыл о ней или начал считать себя достаточно взрослым, чтобы снова отправляться на поиски. Мне так хотелось найти ее, бредя по зарослям, вдруг споткнуться о нее, но я ее так и не нашел, она навсегда исчезла в той вечерней суматохе, потерялась в бою, который был никому не нужен, как и многие другие вещи, по которым потом все равно скучаешь, потому что по прошлому надо скучать, такие уж правила установила тоска.
С приходом весны, когда в лесу воцарился мир, я уже начал поглядывать вверх, на небо: на Рождество мне подарили книжку про полеты на Луну. Раньше я об этом не думал, но тогда осознал, что родился как раз в ту ночь, когда посадочный модуль «Игл» отделился от «Аполлона-11» и опустился в Море Спокойствия на передней стороне Луны. Отец не мог избавиться от чувства досады: той ночью он пропустил телетрансляцию, ведь он все время был с мамой в роддоме. Ясное дело, пришлось поскандалить, чтобы ему позволили остаться там на время родов, уж не знаю, как ему такое удалось, но его не выгнали, он все время находился рядом с мамой, а одна из акушерок бегала взад-вперед из родильной палаты в коридор. В коридоре стоял телевизор, и она держала их в курсе того, что происходит наверху, во Вселенной. Несколько часов подряд смотреть было почти не на что, почти сплошная чернота, и лишь спустя некоторое время в ней проступило что-то серое, непонятных размеров. Звук в трансляции был плохой, и когда акушерка зашла в последний раз, отец уже грыз костяшки пальцев. Остановившись у двери, она оставила ее открытой, чтобы маме с отцом было слышно телевизор.
Contact light.
Shutdown.
Okay, engine stop.[23]
Акушерка смотрит прямо на маму.
Аса — out of detent.[24]
Мама смотрит на акушерку.
Нажимает на живот.
Mode control both auto. Descent engine command override — OFF.[25]
Отец стоит рядом в полуобморочном состоянии, хватается за железный столик. Он не знает, куда смотреть. Должен ли он остаться в палате и поддерживать маму до конца? Или все же лучше выйти в коридор и увидеть собственными глазами тот миг, которого ждал долгие годы? Эра повторных показов еще не настала, это происходит сейчас, а потом исчезает.
Engine arm — OFF.[26]
Отец стоит прямо посреди палаты.
Мама кричит.
We copy you down Eagle.[27]
Мама посылает всех астронавтов к черту, ей и без них есть о чем подумать.
Отец никак не решит, уйти ему или остаться, он оглядывается, смотрит на маму, смотрит в коридор…
Houston, uh… Tranquility Base here, the Eagle has landed.[28]
…его лицо делается все бледнее и бледнее, пот течет ручьем и разъедает глаза. Звук телевизора из коридора, пациенты и врачи переводят дух и обнимаются.
Roger Twank… Tranquility, we copy you on the ground, you got a bunch of guys about to turn blue, we ’re breathing again, thanks a lot.[29]
А потом отец хлопается на пол. Глухой удар от его приземления, отец без сознания лежит на полу.
Thank you.[30]
Вскоре он открывает глаза и видит высоко над собой двух медсестер.
You’re looking good here.[31]
Потом он собирается с силами, садится, а двое медсестер, помогая подняться, берут его под руки и сажают на стул, пододвигают к маме, он берет ее за руку, мама кричит, мама рожает, отец сжимает ее руку, а акушерка готовится принять роды.
Ok, We’re going to be busy for a minute.[32]
Худшее было уже позади.
В 1978-м году на Рождество мне подарили мою первую книгу о Луне. Меня так захватило, что я до нового года просидел, рассматривая фотографии и карты. Именно тогда я начал собирать такого рода книги, рыская по магазинам и антикварным салонам. Мне нужно было непременно все прочитать и все узнать. И вот весной 1979-го я решил затеряться в толпе, стать вторым номером, не выпендриваться, а наслаждаться жизнью, делая то, что должен. Но, естественно, я лишь потом, пытаясь четко определить начало моей жизни, осознал, что было это именно тогда. Внезапно жизнь начинает меняться только в кино или книжках. В действительности же мы делаем выбор постепенно, наше мировоззрение меняется медленно, и в первый раз я осознанно решил, что у меня не будет собственного мнения, только в первом классе средней школы. Некоторое время спустя кое-кто начал считать меня чокнутым и отводить взгляд, когда я проходил мимо, или меня просто-напросто не замечали. Мне было все равно. Меня, по крайней мере, оставили в покое.
Чем больше у тебя друзей, тем чаще потом придется ходить на похороны.
Тем сильнее ты будешь скучать по людям.
Чем лучше тебя видно, тем более заметная мишень из тебя получится.
Одинокие расстраиваются только из-за себя самих.
Вот так я и рассуждал.
Кофе был допит, а на блюде осталась лишь пара булочек. Я наелся, просидел уже довольно долго, и мама с отцом выглядели немного уставшими. Похоже, пора было ехать домой, завтра меня ждет много работы: пересаживать цветы, развозить заказы — «люблю тебя, поздравляем с праздником, сожалею о вчерашнем, спасибо за поддержку в трудный момент, завтра опять будет светить солнце», — а ведь летние заместители придут только через три месяца, и тогда весь сад будет принадлежать им.
Я сказал, что «ну вот, мне пора возвращаться домой», а мама ответила, что «да, здорово, что ты зашел». «Мы тебе всегда рады», — добавил отец, и мы вышли в коридор, все втроем, и обнялись. Мы были похожи на картинку из каталога «ИКЕА», глядя на которую хочется купить новую мебель в светлых тонах.
Я сел в машину и отправился домой, проехав по центральным улицам Ставангера. Опять начался дождь, но последние из Могикан все еще сидели на углу Хансен. Дождь в Ставангере всегда косой, поэтому они промокли насквозь, хотя и сидели под зонтиками, прикрывая ладонями пивные кружки. Рано или поздно до них доходило, что лето еще не началось, еще не время, пусть даже с утра казалось, что день выдался погожий. От таких мыслей становится грустно — это как снег в апреле. Нужно просто смириться с этим, так уж оно сложилось, а вот через пару месяцев — тогда, может, и распогодится по-настоящему.
Я лег спать совсем поздно: сначала смотрел по ТВ-2 «Друзей» (так телевидение пытается спасти вторники от вымирания), потом ел овсянку, пил воду и ждал, когда вернется Хелле. Однако она, как всегда, оказалась сильнее и выносливее меня: я заснул, так и не дождавшись ее, а наутро проснулся раньше и, не желая ее будить, оделся и поехал на работу. Когда я приходил, то видел, что она, как правило, уже побывала дома и оставила записку — ушла. Я подумывал, не договариваться ли нам о встречах заранее, но свободного времени на меня у нее не находилось, встречались мы редко и совершенно случайно — в спальне или за столом, а она говорила, что «слишком много работы», ей очень жаль, но «надо столько всего сделать», а я прижимал ее к себе и отвечал, что «все в порядке, все хорошо, мы это переживем». Чувствовал я себя так, будто затаскивал слона вверх по лестнице, я любил Хелле, мне хотелось, чтобы она почаще бывала дома, проводила там все время, как прежде. Как же давно это было, столько лет уже прошло, а Хелле все повторяла: «Да, понимаю, это нелегко», так она говорила, у нее постоянно столько работы, и я отвечал, что все нормально, «я так рад, что ты нашла работу», вот что я говорил. «Такая уж в нашей отрасли специфика», — сообщала она и рассказывала про рекламу. Сегодня — про рекламу молочного шоколада или чипсов в больших пакетах. Лучшее молоко страны. Получи за свои деньги больше. Завтра — о низкокалорийных продуктах. Почувствуйте легкость: всего 44,90 за упаковку в супермаркетах «Рема 1000». Или о дрянной музыке, которую раскручивали на телевидении, или о никому не нужных наборах кухонной утвари, среди которой были вызывающие рак тефлоновые сковородки, из-за чего в Индонезии их сняли с производства. А когда через три года рак обнаружат, то на смену этим сковородкам уже придут другие, и никто не поймет, что каждый раз от нее отделялись крошечные частички тефлона, которые попадали в пищу, а потом проникали в организм, перемещались с лимфой и разрывали клеточную ткань. Но никому и в голову не придет обвинить в этом дешевый набор посуды, потому что только на этой неделе «Никоретт» выступает со спецпредложением, рекламная кампания окончена, и к следующей неделе нужно уже успеть с крупным и дорогим заказом на целый газетный разворот от датской «Принс»,[33] надо только вовремя успеть, а это совсем непросто, почти все в этом деле очень сложно, можно ведь и упустить что-нибудь, а сковородки сами о себе не расскажут.
Вот так бежали дни, сплошной пеленой, прямо до самого провала, безостановочно обращаясь неделями, а затем месяцами, которые скакали куда-то за горизонт на календарных спинах, и я почти всегда приходил в оранжерею рано, ведь настали самые лучшие месяцы — апрель, май и июнь, когда с каждым днем становится все теплее и теплее, а воздух прогревается и, несмотря на беспрерывный дождик, становится сухим, и когда я расчищал садовую землю для новых растений, пальцы уже не мерзли.
И вот когда однажды июньским вечером зазвонил телефон, я как раз копал пальцем землю в единственном цветочном горшке, который был у нас дома. Продолжая одной рукой рыться в земле, другой я снял трубку.
— Алло.
— Привет. Как жизнь? — Йорн звонил с мобильника, и связь была плохой.
— Да ничего. Все в порядке, — ответил я.
— Вечером дома будешь или как?
— Ну… да… наверное, — ответил я, раздумывая, придет ли Хелле вечером домой.
— Пошли в «Цемент?»
— Ну… даже не знаю….
— Почему это? Тебе что, там не нравится?
— Да нет, нравится… я просто…
— Ну а чего тогда?
Мы с Йорном то и дело ходили в «Цемент». Вообще-то мне там нравилось, и однажды, года три назад, там даже выступила группа с потрясающим названием «Баз Олдрин Бэнд». Но только не сегодня. Сегодня совсем не подходящий вечер для общества малознакомых людей, поэтому я предложил местечко поспокойнее и менее людное.
— Может, сегодня сходим в «Александр»? — спросил я.
— Ты серьезно?
— Ну да.
Йорн сначала заупрямился, ему в «Александр» не хотелось, но потом он передумал, так и не спросив, почему мне приспичило пойти именно туда, мы ведь там уже добрых лет двенадцать не были.
— Ладно. Через час, пойдет?
— Пойдет.
Я попытался дозвониться до Хелле, но ее мобильник был выключен, поэтому я оставил на столе записку, сообщив, куда и с кем ушел и что она может к нам присоединиться. Люблю. Матиас.
Однако Хелле не пришла, а Йорн на двадцать минут опоздал. Я уже пил второе пиво, в одиночестве сидя за столиком на пятерых, а может, и на шестерых. Зал был практически полупустым, тут и мамонту хватило бы места разгуляться, ничего при этом не задев. Я с минуту так и сидел, уставившись на дверь, будто ожидал, что сейчас ввалится нечто огромное, но ввалился лишь какой-то престарелый алкаш. Видок у него был такой, будто его сначала прокрутили в стиральной машинке при девяноста градусах, а потом пару раз прогнали через сушилку. Он был таким щупленьким, что казалось, даже собственное туловище было ему великовато, а в обеих руках он сжимал по пиву. Сначала он поозирался, подыскивая место, а потом засеменил к моему столику, поставил пиво перед собой и сам сел с другой стороны, так что над столом виднелась только его макушка.
— Я моряк, — раздался писк из-под стола.
Вот этого только и не хватало. Именно этого. Так что я отвел глаза в сторону и посмотрел на часы, пытаясь показать, что жду кого-то.
— Я моряк, — повторил он.
Я ничего не ответил. Я смотрел на часы.
— Я моряк. — Он даже привстал.
— Эй, на борту! — ответил я.
— ЭЙ, ТАМ, НА БОРТУ! ТАМ, НА БОРТУ! — заорал он в ответ. Мыслями он, должно быть, был где-то далеко, в морях, а может, просто чувствовал себя беззащитным.
— Так оно и есть, — сказал я.
— Я моряк, — вновь произнес он. Его репертуар был, похоже, скудноват.
— Ты моряк? Надо же, вот никогда бы не подумал.
— Я служил моряком… сорок лет. И пятьдесят лет, — прогундосил он.
— Долго. А морской болезнью ты не страдал?
— Морской болезнью… Ха! Не-ет… Нет. Моряк. Америка… Аф… фир… Африка, Азия… Америка. — А потом он затянул какую-то песенку про Сингапур и сингапурских красоток. Это я уже проходил: городские алкоголики, все до одного, ходили в море, все до одного были в Сингапуре и всенепременно, если находились слушатели, затягивали эту песенку. Без нее никогда не обходились, и мой алкаш, отстукивая по столешнице такт кружкой так, что пиво переливалось через край, уже дошел до середины третьего куплета, когда к нам подошел бармен. Придерживая алкаша за лацканы, бармен оторвал пальцы этого замухрышки от кружки и потащил его к дверям. Хотя бармен, очевидно, проделывал такое не в первый раз, это заняло немало времени, и, прежде чем исчезнуть за дверью, моряк осилил куплет до конца. Вернувшись, бармен вытер со стола пиво, искоса посматривая на меня.
— Моряк, — сказал я, — наверняка много чего повидал в Сингапуре.
— Все они такие, — коротко пробурчал в ответ бармен.
Потом пришел Йорн. Он взял в баре кружку пива, подошел к моему столику и сел, а я сообщил ему, что не знаю, куда пошла Хелле.
— Фареры — дело решенное, — сказал Йорн. — Сегодня уже последние детали по телефону обсудил. «Перклейва» будет на этом фестивале, Улавсекане, гвоздем программы.
— Отлично, — сказал я, — супер!
— Билеты я тоже уже заказал, поплывем на корабле из Бергена через Шетландские острова.
Корабли я не любил. Не нравились они мне. И Атлантику я тоже не любил. Я любил ощущать под ногами твердую поверхность.
— И сколько времени он идет? Корабль?
— Та-ак… сейчас посмотрим. — Йорн порылся в сумке и вытащил маленькую записную книжку.
— Двадцать четыре — двадцать пять часов. А до Шетланда где-то часов десять.
— А самолетом не лучше будет?
— Самолетом охрененно дорого, почти как в Нью-Йорк слетать. А нам с собой еще аппаратуру везти. Да расслабься ты, Матиас, ты же поплывешь в каюте со всеми удобствами, ничего с тобой не случится. Если бы погода там была совсем жуткая, то корабли бы туда и не плавали. Позволь напомнить, что со времен эмигрантских кораблей, уплывших в Америку, все немного изменилось. Я думаю, все будет зашибись как круто. Ты представь: датский корабль, и прямо до Фарер, с болгарско-фарерской группой, а в баре будут наливать «Шетланд-Ларсен».
Я прямо даже не знал, стоит ли ему верить.
Поэтому я ответил:
— Ну, может, и так.
— И это же нам ничего не стоит! Переезд и все остальное за счет организаторов. Нам осталось только сесть в машину и — р-раз — и мы в Бергене, р-раз — и мы на корабле, р-раз — и мы на Фарерах! Ты как, поговорил уже с Хелле? Она с нами?
— Я еще точно не знаю, по-моему, она еще не все на работе уладила, — ответил я, понимая, что нам с ней надо обсудить это поскорей.
— Хорошо бы ты с ней поговорил и сообщил мне завтра уже точно. Это из-за гостиниц, билетов и всего такого. И надо выяснить, возьмут ли организаторы на себя расходы еще на одного человека.
— Да, — ответил я, — но это не особо страшно, мы с Хелле наскребем ей на билет.
— Это хорошо, но я все равно уточню. Как же я рад!
— Я тоже, — соврал я, предвкушая путешествие на корабле и заранее переживая.
Потом мы еще обсудили, во сколько надо будет выехать из Ставангера, чтобы успеть на корабль, который отходит из Бергена в три часа, на чьей машине поедем и кто сядет за руль. Мы еще заказывали пиво, планировали поездку, болтали о Фарерах и раздумывали, почему же мы до сих пор туда не съездили — прямо даже не известно почему, просто как-то в голову не приходило. Мы пили пиво и говорили, что «Перклейва» — одна из лучших современных групп. Концерт наверняка пройдет отлично, и на Фарерах все будет супер, мы вновь заказывали пиво, было это в «Александре», в июне 1999-го, мы сидели там вместе с Йорном. А потом ночью я поплелся домой в Стурхауг, и когда я вошел в спальню, Хелле уже спала. Я бесшумно прилег рядом, но заснуть мне не удалось, и я опять пытался утихомирить сердце.
Мы с Хелле были вместе двенадцать в половиной лет. Четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять дней. 109 416 часов. Шесть с половиной миллионов минут. 6 564 960, если быть точным. Долго. Очень долго. Через полгода будет третий десяток лет, как я ее люблю. Однако замуж за меня она пока не хотела. Совершенно не хотела. Помню, как я попытался в первый раз: было нам тогда по двадцать пять, был вечер Иванова дня, и мы стояли на башне Воланн, а перед нами открывался вид на Воланнский лес и центр города. Мы стояли обнявшись. Было холодно, и мы оделись потеплее. Виднелись разожженные в лесу костры, а у меня был насморк, и я чихал. Романтики это, наверное, не прибавляло. Я помню, что стоял сзади, обняв Хелле. Я смотрел на нее, на ее короткие светлые волосы и на довольно-таки уродливую куртку, которую она носила, когда летом внезапно холодало, в эту куртку я все равно был немного влюблен. А она стояла впереди, она была ниже меня, и она не отталкивала мои руки. Хелле покачивала головой, напевая себе под нос песенку, которую только она и слышала. Я вдруг почувствовал себя таким счастливым и подумал, что такое счастье сложно будет удержать. Я уже сказал ей все ласковые слова, какие знал, и это должно было произойти сейчас или никогда. От мысли об этом вспотели ладони, начали подгибаться колени, но я все же слегка разжал объятия, встал перед ней и приготовился, но у меня ничего не вышло, слова застряли в горле, и даже регулярная езда колонной[34] не помогала. Хелле поинтересовалась, в чем дело, на что я сказал: «Все в порядке, мне просто в туалет надо». Писая на дерево в лесу Воланн, я смотрел вниз на поляну, где стояли люди, и видел среди них Хелле, будто на каком-то балу в какой-то иной, далекой-далекой галактике. В кармане у меня оказались бумага и ручка, они-то мне и были нужны, и я написал: «Ты выйдешь за меня замуж?» Вернувшись, я сунул записку в карман ее куртки, так ничего и не сказав, но чувствуя себя замечательно, совершенно потрясающе, хотя, по-моему, Хелле обнаружила записку только на следующий день. Она ничего не сказала. Мы пошли куда-то перекусить, пили пиво, я ждал и ждал, но она делала вид, будто ничего не произошло, а с меня ручьем тек пот, под глазами появились мешки, я не мог сосредоточиться, но спрашивать не хотелось. Когда я вернулся тем вечером в свою квартирку, я обнаружил в кармане куртки, за подкладкой, записку от нее. Я осторожно развернул бумажку и попытался прочесть ее медленно, хотя мне это плохо удавалось. «Спроси как-нибудь в другой раз». Я так и сделал — спрашивал ее каждые два года, по-моему, постепенно я привык, мне уже было совсем не сложно, но Хелле не соглашалась. Она считала, что это состарит ее, а я отвечал, что ничего страшного, обсудим это попозже. Во всяком случае, я уговорил ее переехать ко мне, и мы поселились вместе в Стурхауге, где жили и сейчас. Мне хотелось, чтобы у нас появились дети, но у нее не было времени, реклама не одобряет декретных отпусков, поэтому я ждал, потом отпустил бороду, потом сбрил ее и продолжал ждать.
Первые годы нашей совместной жизни мы много ходили. Почти каждый день. Это было почти единственным нашим занятием. Мы обошли весь город вдоль и поперек, так что за лето подошвы кроссовок стирались, мы измерили весь город шагами, а зимой снег покрывался следами от наших ног. Мы гуляли и разговаривали, я лучше узнавал ее, Хелле была самым прекрасным человеком из всех, кого я знал, во всяком случае, я так считал. Она умела чистить апельсины одной рукой и ездить на велосипеде без рук, не умела надувать пузыри из жвачки, у нее не получалось сворачивать язык в трубочку, но зато пальцы гнулись в обратную сторону, она играла на пианино, хотя и не очень хорошо, зато в занятиях балетом преуспела больше. Я ходил на ее выступления, сидел и смотрел, как Хелле движется от одного края сцены к другому, но все же не до конца понимая ее восхищения балетом. Однако в ее исполнении это выглядело очень мило, как она поднималась на носочки, а после выступлений я смазывал ей мазью пальцы на ногах и утирал слезы. По воскресеньям я ходил к Хелле в гости, а ее отец, полицейский, всегда готовил воскресный ужин. Хорошим он был человеком — он получил статус отца-одиночки, после того как развелся с матерью Хелле, та потом уехала в Нидерланды — видно, нашла себе нового полицейского и практически исчезла из виду. Хелле получала лишь рождественские открытки каждый год и ее фотографии в шапочке рождественского ниссе, из-за которых очень расстраивалась каждый адвент.
Лето мы проводили в Серланне, в летнем домике ее родителей. Я сидел на берегу, свесив ноги в воду, а Хелле плавала, периодически ныряя к самому дну. На секунду передо мной мелькали ее загорелые ноги, потом исчезали под водой, а затем она выныривала, держа в руках старое велосипедное колесо или какой-нибудь другой хлам, который достала со дна. Весь мусор Серланна она непременно собиралась вытащить на берег и развесить на стенах в домике. Так мало-помалу у нас в сараюшке на заднем дворе скопилась целая коллекция велосипедных колес, и мы не знали, куда их девать.
Еще я помню подарки, которые она мне дарила. У нее это хорошо получалось — она всегда попадала в самую точку, даже когда я и сам не знал, чего мне надо. Ей с первого взгляда понравились Йорн и Роар, да и у нее самой были подружки, так много, что я всегда путал, кто есть кто. Они любили ее, ту самую Хелле, в которую я был влюблен уже тринадцать лет, которая почти не бывала дома и засыпала до моего прихода, которую гравитация медленно, но верно уносила прочь от меня, а я не знал, что делать.
Только я вошел в дом, как вышла Хелле и обняла меня. Она выглядела веселее обычного. Улыбаясь, она сказала, что разговаривала с Ниной, та как раз недавно звонила и пригласила нас встретиться. В субботу. «В эту субботу?» — спросил я. А она ответила: «Да, в эту».
Итак, в ту субботу я сидел на причале в Ставангере и ждал корабля до Люсефьорда, который должен был пойти через электростанцию Флерли, а потом подняться с обратной стороны до Кьерагболтена.[35] Это Йорн придумал, обычно мы так не делали, а вот в этот раз решили проехаться этим путем, я стоял и ждал, когда лодка войдет во фьорд и причалит, а Хелле стояла чуть позади и пыталась дозвониться до кого-то, может, до Клауса: он еще не подошел, и мы беспокоились, он всегда опаздывал, а вдали уже появилась наша лодка. Машинально нагнувшись, я поднял рюкзак, повесил его на плечи и напрягся: я не любил опаздывать, не любил лодки и не любил воду. Я предпочитал быть готовым ко всему. Хорошо бы на лодке прошло все спокойно. Хелле дозвонилась до Клауса, тот уже подходил, вот он уже вывернул из-за угла, и они оба отключили телефоны.
Мы были вшестером. Друзья. Мы ехали на прогулку. Было начало июля, суббота, мне не особо хотелось ехать, но этого хотела Хелле, и я отправился с ней. Я был там. Дул ветер. Нагонял волны. Мне не хотелось, но я согласился. Никогда не сердился.
Волны были все же не сильные, выбраться на свежий воздух — это хорошо, я отметил это, когда мы все стояли на палубе под редким дождиком, застегнув поплотнее куртки. Мы с Хелле обнимались, рядом стоял Клаус, он в тот день взял выходной, обычно приходя домой, он нервничал и суетился вокруг своей беременной девушки и готов был в любую минуту броситься к машине и ехать в роддом, хотя до родов оставалось еще более трех недель Он записывал старой «Нагрой» шум парома, свет лодочных прожекторов и грохот мотора, — собирался все это смикшировать и использовать как фон для одной из песен «Перклейвы». Еще там были Йорн с Ниной. Нина тоже ждала ребенка, срок у нее был в январе, и мне казалось, что они отлично смотрятся вместе. Прямо как на рекламе пленки «Кодак». А вот у нас с Хелле дела шли не так уж замечательно. Мы считали, что у нас все прекрасно, но на самом деле все было не так. Мы не понимали, в чем дело, но где-то между нами будто образовался какой-то пузырь, который никак не лопался, а только разрастался и разрастался, словно опухоль. Я вспоминал Стива Мартина. Мой любимый фильм «Лос-Анджелесская история»: Let us just say I was deeply unhappy, but I didn’t know it, because I was so happy all the time.[36] Вот так было и с нами.
Но тогда мы вели себя как влюбленные, прогуливались вместе по палубе, и я машинально обнимал Хелле за талию, думая о чем-то постороннем. Поиграем. All you need is love.[37]
Вообще-то мне всегда нравилось путешествовать, ездить куда-нибудь. Если отец мой цеплялся за кресло, вжимал голову в подушки и ныл «не поеду, не поеду», то мне частенько хотелось поездить по миру. В конце восьмидесятых — начале девяностых мы с Йорном объехали на поездах почти всю Европу. Йорн и поезда. Мы выехали из Дании в Польшу, потом в Западную Германию, Францию, страны Бенилюкса, Италию — мы взяли тогда отпуск на полгода. Весной 1992-го мы стояли на пристани в Бари, на юге Италии, смотрели в направлении Югославии и раздумывали, не съездить ли нам на пароме в Дубровник, Мостар и Сараево. В детстве, в семидесятых, мы оба были в Дубровнике, ездили на море, но вот каково там теперь? Совсем не факт, что мы сможем вернуться, даже если доплывем дотуда. Босния-Герцеговина объявила себя независимой, мир мог в любую минуту начать рушиться, однако Йорн уверенно говорил, что в Сараево ничего не случится. Он разглагольствовал о том, что народ в Сараево самый что ни на есть разномастный — там живут и боснийские мусульмане, и сербы, и хорваты, поэтому он считал, что Сараево станет городом свободы. У меня, однако, такой уверенности не было, и я уговорил его подождать пару дней, поэтому мы бродили по Бари, сидя в ожидании на берегу, выжидали, и время, наконец, поменяло наши планы: корабли до Югославии ходить перестали, и въезд туда закрыли со всех сторон, поэтому мы решили вместо этого проехать через Испанию по Гибралтару до Танжера, в Марокко. Йорну хотелось заехать в Касабланку и найти свою Илсу Лунд, я же мечтал побывать в пустыне. Мы осуществили оба маршрута: сначала блуждали по Марокко — ни карты, ни планов у нас не было, зато был юношеский задор и почти непрерывная обратная дорога на поезде через всю Европу. Мы ехали на ночных поездах и просыпались, только когда приходили в какой-нибудь город и сквозь купейные занавески пробивался свет. Поездов, на которых мы проехали в те полгода, нам на всю оставшуюся жизнь хватит. А в последующие годы мы летали: Азия, Вьетнам, Япония, Токио, США, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Пару раз мы спорили: Йорну во всех этих странах больше всего хотелось изучать людей, стать эдаким дядюшкой Маком, неутомимым путешественником, мне же нужно было всего лишь влиться в толпу, пройтись незамеченным по Пятой авеню или как-нибудь пятничным вечером пробежаться в Токио по Синдзюку, стать одним из миллионов, вести себя не как турист, а как человек, который там родился и вырос. Я хотел стать неотъемлемой частью пейзажа — конечно, в Нью-Йорке это проще, чем в Токио, но попытка — не пытка, для меня важнее было слиться с окружающим миром, не вторгаясь в жизнь, принявшую нас. Планы мои были просты: пришел, увидел, исчез. И, возвращаясь с пляжа в гостиницу, я заметал за собой следы.
Доехать до Флерли было проще: паром причалил там возле электростанции. Она уже не работала: в горах выстроили новую, более современную. На этом причале сошли только мы, все остальные — туристы — поплыли дальше, фотографируясь на фоне вершины Люсеботн. У них деревенели шеи, а они все смотрели наверх, на отвесные горы, высматривая Прекестулен, мимо которого мы уже полтора часа как проплыли, о чем и прошипели микрофоны на своем скрежещущем диалекте.
По горной тропке мы поднялись вверх, идти было тяжело, но мы шли — Хелле с Йорном и Ниной далеко впереди, за ними, тяжело дыша и отдуваясь, — мы с Клаусом, я чувствовал тяжесть, пот ручьем стекал по спине, дождь кончился, сейчас прямо над нами жарило солнце, а позади всех шел Роар, замыкая строй.
Мы поднялись на потрясающее большое плато, нашли подходящее местечко, уселись на камнях и съели бутерброды с сыром и колбасой, которые взяли с собой, запивая их газировкой. Хорошо там было, удивительно хорошо, на многие мили вокруг — ни души, а плато простиралось на сотни метров во все стороны, и нам было видно даже другой берег Люсефьорда, там, где находился Прекестулен. Наверняка там сейчас полно народу, целая толпа стоит вдоль края, это словно бочка с селедкой в горах, которая вот-вот сорвется вниз из-за всей этой толчеи, я так прямо и представлял, как они скользят вниз, по горе, зажав в руках фотоаппараты.
Хелле была разговорчивее, чем в последнее время, больше радовалась и шутила, хотя все еще оставалась далекой, и я думал, что, может, в ее работе появился наконец просвет, что она теперь сможет передохнуть, мы начнем больше времени проводить вместе, будем ездить куда-нибудь, заниматься любовью на столе в гостиной, — если ей захочется, я на все согласен, ко всему готов, абсолютно ко всему. Я сам верил в это и чувствовал себя так, будто все у меня хорошо. Мне действительно было хорошо — я двигался с какой-то необычной легкостью, чувствовал себя сильным, тоже стал более разговорчивым, болтал с Ниной и Клаусом, хотя я не очень хорошо их знал. Со мной всегда было легко, и мне казалось, что, может, у нас с Хелле все не так уж и плохо, просто нам нужно еще немного времени, а ведь впереди целое лето.
С плато было 10–20 минут ходу до Кьерагболтена, того большого камня, застрявшего между скал. Идеальное место, чтобы написать синими чернилами открытку с завитушками: «Привет вам, там, внизу. Сегодня были на Люсефьорде, на Кьерагболтене. Это такой камень, который застрял между скалами. Когда стоишь на нем, под тобой 1100 метров пустоты. А в диаметре камень всего 2–3 метра. Когда-нибудь камень упадет вниз, но сегодня не упал. У нас все хорошо. Всем привет». Первым на камень запрыгнул Клаус, Нина сфотографировала его, а потом мне пришлось фотографировать Йорна с Ниной, которые стояли на камне, прижавшись друг к дружке под сильным ветром. Мне на него лезть не хотелось, он казался скользким, а пока мы шли сюда, у меня ботинки намокли от снега, который все еще лежал кое-где в горах. Но Хелле хотела, чтобы мы забрались на этот камень, ну конечно, Хелле очень хотелось туда, «мы ведь ради этого сюда и поднимались», — сказала она, «пойдем, обязательно нужно на него залезть», — так она сказала. Взяла меня за руку и потянула за собой, а я послушно пошел следом. Она забралась туда первой, залезла на камень, а потом протянула руку мне. Я крепко держал ее, прижимая к себе, а Йорн крикнул, что сейчас он нас сфотографирует, велел смотреть в объектив, и мы повернулись к фотоаппарату. Хелле смотрела чуть в сторону, я поцеловал ее в шею, но она отвела мою руку и неловко засмеялась, а я подумал, что люблю ее, вот уже двенадцать с половиной лет прошло, а я по-прежнему ее люблю, и момент был как раз подходящий. И вот Йорн фотографировал, Нина с Клаусом стояли и смотрели на нас, а я уверенно — даже голос у меня не дрожал — прошептал ей на ухо: «Ты как, выйдешь за меня замуж?» Хелле повернула голову, лицо ее казалось усталым, она посмотрела на меня, прямо в глаза, и, заплакав, сказала: «Нет, Матиас», — и дальше, тихо и спокойно: «Нам надо расстаться». Потом она отвела взгляд, опустила голову, и я понял, что она говорит всерьез.
Emergency lift off.
Game Over.[38]
Ты и глазом моргнуть не успел.
Примерно через десять секунд учащается пульс. Через десять секунд дыхание перехватывает. В желудке появляется ощущение тошноты. Я не знаю, что сказать в ответ. Вообще не знаю. В голове появляется двоичный код, который высчитывает все мыслимые причины, по которым мы должны расстаться, и возможности избежать этого. Мне нехорошо. В глазах щиплет. Мне ужасно жарко. Хочется стянуть свитер, но здесь, на камне, не развернешься, здесь еле-еле умещаются два человека. Я поворачиваюсь, собираясь вернуться на гору. Протискиваюсь мимо Хелле, мы оба машинально отшатываемся, ее нога вдруг соскальзывает с камня, а я хватаю ее за руку, чтобы она не упала, и вот мы вновь стоим на камне. «Никто больше об этом не знает», — говорит она, я поднимаю голову и смотрю на остальных, фальшиво улыбаясь Йорну, который все фотографирует и фотографирует, и эту пленку я ни за что не буду проявлять.
Моей первой мыслью было просто отступить на шаг. Осторожно сойти с камня. Упасть с тысячеметровой высоты, а может, и ее утащить за собой. И все решится само собой, надо только слегка наклониться. Свист ветра в ушах, пока тело достигнет максимального ускорения, а потом я разобьюсь о камни. Меня целую неделю будут оттуда соскребать. Может, и найдут не все. Может, голова оторвется, скатится во фьорд и исчезнет навсегда.
Мы вернулись на твердую поверхность, и Йорн протянул мне фотоаппарат. Я взял его и повесил на шею. Хелле сказала, что ей надо бы найти какое-нибудь местечко и пописать. «Матиас, пойдем вместе поищем?» Я апатично шел следом за ней. Я знал, что ей не хочется в туалет. Я ни о чем не думал.
— Матиас, — сказала она.
— Да, — ответил я отстраненно, — да?
Она вздохнула. Легкие у нее были большие. Я же больше не мог дышать.
Мы были вместе почти тринадцать лет. Шесть с половиной миллионов минут. Сегодняшний день оказался последним. День номер ноль. Она водила сапогом по гравию, звук был неприятным, но я не просил ее прекратить, в страхе, что вместе с этим прекратится и все остальное, все жизненные механизмы остановятся.
— Я собиралась… — начала она, потом вздохнула и огляделась. Я не понимал, как она может что-то видеть. Мне вообще казалось, что все вокруг может отправиться курьерской почтой к чертям. — Я собиралась сказать тебе сегодня вечером или завтра… когда мы вернемся домой, потому что…
— Потому что что?
Скрежет гравия. Дыхание. Слезы. Я не знал, что сказать. Даже зацепиться не за что.
Стив Мартин.
— Потому что хотела, чтобы у нас было последнее счастливое воспоминание, — сказала она. — В последнее время все шло плохо. — У нее был маленький нос, чуточку вздернутый, и большой рот с очень тонкими губами.
Момент для пленки «Кодак». Или нет?
— Нет, — сказал я. Дальше не надо.
— Матиас, я влюбилась.
— Вот как?
Я погладил фотоаппарат. На секунду задумался, стоит ли сейчас сделать снимок на память. Как меня бросили на высоте тысячи метров.
— Он… — Хелле кашлянула, — он курьер, заезжает к нам на работу почти каждый день. — Не понимаю, зачем она сообщила мне именно это.
Я мог бы рассмеяться, но сил у меня не было, а горло забито гравием или, скорее, валунами.
— Ясно, — сказал я, — и сколько уже… сколько уже вы знакомы? То есть…
И тут она расплакалась. Слезы ручейками текли по щекам, падали на гравий, сползали к краю горы и падали во фьорд. Вообще-то плакать надо было мне. Но я не могу плакать, когда на меня кто-нибудь смотрит. И ситуация была абсурдной — я не знал, стоит ли мне обнять ее или просто развернуться и уйти. Или может, мне надо написать сценарий и продать авторские права — получился бы неплохой эпизод дневной мыльной оперы для домохозяек в цветастых фартуках.
Я никак не желал признавать свою гибель.
Я был как Дональд Дак, который свалился с обрыва. Как и он, я не падал, потому что еще не увидел, что оказался в воздухе.
— Полтора года, — всхлипнула она. Посмотрела на меня. — Полтора года, Матиас… я не могу так больше. — Ее речь становились все более невнятной. Я не все разобрал из ее рассказа, но в целом она рассказывала о том, как переживала из-за предстоящих объяснений со мной, как она ждала, постоянно откладывала, какое невероятное облегчение почувствовала, когда решилась наконец все рассказать. Она собиралась сделать это после поездки, нашей последней счастливой совместной поездки. Именно поэтому Хелле в последнее время была более веселой. Она уже решилась, так она сказала, а потом рассказала про курьера, парня, с которым встречалась больше года, а я пытался в растерянности подыскать актрису, которая могла бы сыграть ее в моей мыльной опере, но от этого только больше расстроился. Она спала с ним уже больше года, она позволила ему быть с ней, в ней, водила его в наш дом, может, в наши комнаты, а я даже не знал, кто он такой. Курьер, думал я, не стреляйте в почтальона, думал я, звали его Матс, так она сказала, Хелле рассказывала про Матса, прямо какой-то дьявол на велосипеде, Матс был более открытым, Матс любил ходить куда-нибудь, Матс не боялся мира, Матс высказывал свою точку зрения, и, стоя на горе с сопливым носом, в великоватой ей отцовской куртке, с такими маленькими ручками, Хелле казалась такой крохотной, а я любил ее сильнее, чем следовало. В глубине души я попытался настроиться против неведомого Матса, но у меня ничего не вышло, потому что я даже не был с ним знаком, и — кто знает — он вполне может оказаться самым замечательным человеком на свете. Хелле плакала. Мне хотелось подойти к ней, обнять, но теперь уже было нельзя, потому что она произнесла волшебное заклятие, двери закрываются, и на этом маршруте больше остановок не будет. Моя станция, мне пора выходить, на вершине Норвегии, среди прекраснейших гор во всем мире, обрезанных и отшлифованных на снежных кручах, которые потом соскоблят в бутылки и продадут нам же под видом родниковой воды из чистейших источников. И жизнь моя, которая только недавно наконец наладилась, растаяла под горным июньским солнцем, и я вспомнил одну программу, которую недавно показывали по шведскому телевидению:
В наше время особенно важен оптимистический взгляд на жизнь.
Да, верно, думал я.
Вам самим следует решить: стакан наполовину пуст или наполовину полон.
Да, все верно.
Скажи себе:
Сегодня будет замечательный день.
Сегодня ничто не сможет расстроить меня или выбить из колеи.
Я подумал: Нет.
Я подумал: Нет.
Я подумал: Что же мне теперь делать?
Я подумал: Черт возьми весь этот хренов мир.
Хелле хотелось рассказывать. А мне слушать не хотелось. Но я не смог попросить ее замолчать. Поэтому она рассказала все, что посчитала нужным. О Матсе, о том, что ей не хватает меня, что в последние годы я для нее словно исчез, и я спросил:
— Ты меня видишь сейчас?
— Да, — ответила она.
— Значит, я перестал быть невидимкой, — сказал я.
— Да.
Я собрался. Я решился попытаться. Новый ледниковый период мог наступить в любую минуту.
— Ты абсолютно уверена? Не хочешь чуть-чуть подождать? — спросил я. — Я тоже мог бы подождать.
— Это не пройдет, — тихо ответила она, — это не то же самое, что переболеть чем-то.
Нет уж, именно это: ты заболела и сама этого не замечаешь, — думал я.
— Я так тебя люблю.
Больше, чем следовало бы, тебе никогда и не узнать, насколько сильно.
— Я знаю. Я тебе за это благодарна.
— All I know is, on the day your plane was to leave, if I had the power, I would turn the winds around. I would roll the fog. I would bring in storms. I would change the polarity of the earth so compasses couldn’t work. So your plane couldn’t take off.[39]
— Но это не в твоих силах.
— Не в моих.
Я спросил, помнит ли она эти слова из «Лос-анджелесской истории», но Хелле не ответила. Она отвела взгляд и вновь стала смотреть на норвежскую природу. Если бы я только мог сейчас запеть, если бы песня могла вернуть ее. Мне хотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Где угодно. В Иностранном легионе. На Фарерах. Во Флориде. Кто же, к дьяволу, утешит Малютку?
Никто не утешит.
— Нам было хорошо вместе, — сказал я, глядя на нее.
Потом повернулся. Я прошел по плато, спустился к остальным, поднял рюкзак и повесил его на плечи. За мной по тропинке спустилась и Хелле, глаза у нее покраснели, она сказала, что ей нездоровится. Спускаясь, мы почти все время молчали, три часа до электростанции во Флерли, а потом — пока ждали лодку. На ней мы плыли еще три часа до Ставангера. Домой мы доехали на такси. Мы с Хелле. Она положила рюкзак в коридоре. Переоделась. Собрала вещи. Маленький чемоданчик. Прошла в коридор, обулась. Чемоданчик в руках. Мой маленький Паддингтон. А потом она ушла. Поехала к какой-то подружке. И мне хотелось, чтобы Матс оказался хорошим человеком, чтобы он не знал о том, что вода в море поднимается на один сантиметр в год, а на полюсах постоянно тает снег. О том, что Землю может уничтожить один-единственный метеорит, если выйдет на земную орбиту. И окажется достаточно большим. И если нас никто не будет охранять.
А в другом месте, на юге Калифорнии, в доме, построенном в пятидесятых, Баз Олдрин обнимал свою вторую жену, Дриггз Кэннон, девушку из Феникса, Аризона, которую он наконец повстречал и на которой женился в 1988-м, в День святого Валентина. Вокруг них собрались шестеро его детей от двух браков и единственный пока внук, а дни пробегали, погружаясь в Тихий океан или, если хотите, забираясь на вершины гор в Сан-Вэлли, Айдахо.
А потом, да, потом я начал приходить домой позже. Моя орбита проходила между квартирой Йорна и Нины в Воланне, домом моих родителей на Кампене, и только поздно вечером я возвращался домой в Стурхауг, когда точно знал, что не застану там Хелле. Я не возвращался, пока она не уйдет. Это она так решила. И с каждым разом, поднявшись по лестнице на второй этаж и открыв дверь, я видел, что квартира опустела еще чуть-чуть. Хелле перевезла свои вещи, мебель, и мир мой сделался теснее, а комнаты — просторнее.
Маме с отцом я ничего не рассказывал. Говорил только, что устал. Тогда меня укладывали на диван. Отец сидел рядом в кресле, смотрел новости и пил кофе, ставя с величайшей осторожностью чашку на стол после каждого глотка. Мама переживала, что я мало ем, и все время готовила что-то на кухне. Выпекала булочки, доставала варенье, готовила на ужин потрясающие блюда и стелила на стол самые красивые скатерти, постоянно спрашивая, что со мной такое, но я не отвечал. Аппетита у меня почти не было. Я старался есть как можно больше, хотя мне не хотелось. Меня тошнило, я извинялся, бежал в туалет, склонялся над унитазом и выблевывал все мамины ужины, в горле у меня свербило, каждый день я блевал по пять-шесть раз и думал о Хелле. Она окончательно съехала с квартиры, и я хотел бы стать твоей собакой, нет, не так, — я стал Лайкой, которая вертится в капсуле вокруг Земли со скоростью 6000 километров в час и умирает мучительной смертью от кислородного голодания. Я сидел в ванной на полу, всхлипывая, втягивал воздух, доставал из шкафчика полотенце, умывался и возвращался в гостиную. Я ложился на диван, а отец говорил, что это пройдет, «все пройдет», так отец говорил, и я сидел у них, а когда им пора было ложиться спать, они провожали меня до двери.
— Ну а Хелле? Давненько она не заходила, — говорила мама, и я отвечал:
— Да.
— Но она как-нибудь обязательно придет, — говорил отец, такое ведь вполне могло произойти, запросто, заранее не предугадаешь.
Иногда по вечерам, когда родители уже ложились спать, я ехал к Йорну. Он ложился поздно, мог до утра провозиться с гитарой и четырьмя синтезаторами. Мы с ним сидели в гостиной. Смотрели телевизор. Не особо разговаривали. Смотрели сериалы, которые крутят всю ночь. «МЭШ», «Джек и толстяк», «Уокер», «Техасские рейнджеры». Я рассказал Йорну, что произошло, да он и сам догадался — когда Хелле начала вывозить вещи. Он спросил, не передумал ли я ехать на Фареры. Я сказал, что нет, я поеду, так я сказал, плыть по морю я боялся, но не говорил об этом. Я вообще почти ничего не говорил. Йорн и «Перклейва» дописывали свой первый альбом, «Трансатлантика» он назывался, у них уже была пробная версия, и Йорн мне ее пару раз ставил. Звучало красиво, мощно, будто гром, и мне казалось, что, вероятно, у них все получится, они прославятся и все такое, я ловил себя на том, что улыбаюсь: ведь вокалист-то у них — не я, не мне придется долгие годы разъезжать по Норвегии с турне, не мне таскать аппаратуру взад-вперед из грузовика, а потом, когда мы прославимся, — постоянная суматоха аэропортов, таможенные досмотры, проверки багажа, опоздания, гостиничные номера, настройка звука — это же бродячий цирк, только звуковой. Почти каждый хочет стать звездой. Но почти никто не хочет быть ей. Ну а я? Даже и говорить не о чем. Кошмарная идея. То, о чем мечтаю я, ты и знать не пожелаешь.
В начале июня мама с отцом отправились наконец в Сен-Ло. У меня тоже начался отпуск в цветочном магазине, наконец-то на лето наняли двоих помощников, я показал им оранжерею и объяснил, что от них потребуется, хотя я все равно не знал, чем заполнить дни, поэтому продолжал ходить на работу. Просыпался. Где-то около шести приезжал в оранжерею. Садился в саду и ждал. Ждал, пока придут остальные. Пару раз развез заказы, когда летние помощники еще осваивались — они слишком туго стягивали букеты, слишком коротко обрезали черенки роз и заворачивали цветы в гофрированную бумагу.
За последние месяцы работы ощутимо поубавилось. Дел становилось все меньше и меньше. В следующем году должно было наступить будущее, поэтому большинство хотело с надежностью прожить то время, которое осталось. Дорогие цветы, которые рано или поздно завянут, стали никому не нужны. А в супермаркетах теперь продавались цветы из ткани и пластмассы всего за 49,90 — вдвое дешевле, до пяти букетов в одни руки, или же дешевые живые цветы, розы и тюльпаны большими партиями. Теперь мы обслуживали почти одни только похороны. Я заметил, что в последнее время с Карстеном что-то неладно: мешки под глазами стали отчетливее, магазин приходил в упадок, но ничего поделать не мог. Я продолжал составлять букеты и собирать венки, но на дворе было лето, и народу умирало мало, все решили подождать до зимы. Венки лежали в комнате отдыха, засыхали и отправлялись на помойку. Карстен приходил на работу все позже и позже. Я приходил все раньше и раньше. Но все без толку. А летние помощники ничего не понимали, они подолгу сидели за обедом, и никто им за это не выговаривал. Они здесь все равно только на три недели. А потом они вернутся к учебе. К займам на обучение. В маленькие квартирки в Ставангере, Бергене, Осло и Трондхейме. А возможно, и в Тромсе. Или может, уедут за границу, потому что планы у них грандиозные, им надо многое успеть, работы мало, а учиться предстоит долго. Не многие уместятся на самой верхушке пирамиды. Им надо набрать баллы, как можно больше баллов. Времени у них в обрез, им уже двадцать или двадцать пять, а они только начали учиться, потому что до этого просто смотрели на жизнь, пытаясь попробовать себя во всем. А сейчас надо быстрее, так они говорили, потому что иначе время уйдет, а вершины достигают к двадцати семи годам. А потом развитие медленно, по спиралям, идет в обратном направлении. После сорока работу уже не поменять. За день до моего отъезда, в понедельник, в магазине остались только мы с Карстеном. Остальные уже ушли, а мы еще оставались, это Карстен попросил меня остаться, а мне торопиться было некуда. Вещи я уже уложил. Много дней назад. Найти мои вещи в квартире было теперь совсем несложно, она наполовину опустела, остался только стул, пара коробок и телевизор. Карстен разлил кофе по чашкам, поровну разделив последние капельки, и выключил кофеварку. Красный огонек погас. По радио передавали, что ожидается дождь.
— Матиас, — сказал он.
— Да?
— Дела идут плохо.
— Знаю, — сказал я, глядя в окно. Машин почти не было.
— Мне так жаль.
— Ты же не виноват.
— Нет, не виноват. Я…
— Не бери в голову.
— Я сегодня подсчетами займусь, а потом выставлю магазин на продажу. Так дальше продолжаться не может.
— Ага, — только и выдохнул я в ответ. Я чувствовал усталость. Мне хотелось поехать домой и лечь спать. Мир вокруг начал по-настоящему рушиться, я отметил это почти с облегчением.
— Да… Я… Ну, с тобой приятно было работать, Матиас. Ты был лучшим сотрудником…
— Спасибо.
— И еще… Ну, я поговорил с Яном, из Аугленда, порекомендовал ему тебя, на случай если ему еще потребуются люди в оранжерее. Но, понимаешь, ему сейчас тоже туго приходится. Хотя все еще вполне может измениться. Может, на следующий год.
— Может, и так. Спасибо тебе за все, Карстен.
— Было бы за что!
— Ну а ты? — сказал я, пытаясь изо всех сил изобразить участие. — Ты сам-то что будешь делать?
— Я? Вообще-то в моем возрасте уже можно на покой уходить, мы поэтому… у нас с Ториль есть домик на Квитсее, мы все обсудили и, может, переедем туда, там очень мило. Ей там очень нравится.
— Да, там замечательно, — тихо подтвердил я, — очень хорошо. Хотя, может, цветы там не особо растут, ну, из-за ветров.
— Это верно. Ну, тогда буду рыбу ловить.
— Угу.
Молчание.
— А у тебя планы на лето какие?
— Я уезжаю завтра… на Фареры, — ответил я.
— Фареры?
— Там почти ничего не растет, — сообщил я, — даже деревья.
— Ни единого деревца?
— Ни единого. Можешь начать дело — цветы и деревья на Фарерах.
— Нет уж, Матиас… И сколько ты там пробудешь?
— Всего неделю. Мы отплываем завтра. Из Бергена.
— Мне казалось, ты не любишь плавать.
— Не люблю, так и есть.
— Ну, удачи тебе тогда, держись.
— И тебе тоже.
Карстен поднялся и на минуту вышел. Мне слышно было, как он распаковывает какой-то ящик, разворачивает бумагу, отрывает липкую ленту. Когда он вновь появился в дверях, я встал и надел куртку.
— Вот, — сказал он, протягивая мне сверток. Что-то мягкое. — Это, пожалуй, единственное, что я могу тебе подарить. На память. Сложно угадать, что в жизни пригодится.
— Спасибо, — ответил я, пожал Карстену руку, порылся в карманах, достал ключи и передал ему. Я вышел и прикрыл за собой дверь. Открывая машину, я видел, как он, надев клеенчатый фартук, перевязывает букет. Он не сдавался. Честно отрабатывал последние часы.
Машину я завел далеко не сразу — долго сидел просто так. Уровень воды в мировом океане увеличивается. На один сантиметр в год. Каждый год уменьшаются ледники на побережьях Шпицбергена. Страдают от экологических загрязнений белые медведи, а в Нурланне осталось лишь десять особей песца. Растет население Ставангера, и мэр Севланд уже локти кусает от страха, что первого января 2000 года в отделениях Статойла на Форусе отключат электроэнергию и Ставангеру придет конец, город погрузится во мрак, компьютеры выйдут из строя, суда навсегда осядут у побережья Суластранден и все закоулки зальет нефтью. И Хелле — она ведь сказала тогда, в горах, что я начал исчезать в ее глазах? Именно так и сказала. И чем больше я размышлял, тем отчетливее понимал, что расклеиваться я начал еще до того, как она решила порвать со мной, сказав, что все кончено. Разве нет? Я затрещал по швам уже давно, материковые плиты моей жизни раскололись и начали двигаться, образуя совершенно новые страны, которых не было в старых атласах.
В первую очередь скорости не выдерживает аварийный тормоз мозга. Срабатывая, он останавливает весь механизм, поэтому последние сутки я помню отрывками. Наша квартира. Моя квартира, совсем опустевшая. Только один стул и остался. Я сижу на нем. Я сидел и ничего не делал. Смотрел стоявший на полу телевизор, перед глазами маячила программа о равнине Серенгети. Не помню точно. На коленях лежал еще не открытый подарок Карстена. Потом открыл. Развернул, содрал бумагу. Комбинезон. Тот самый, с магнолией, который мы так никогда и не надевали. Абсолютно новый. Мыслей у меня в голове не было. Смотрел телевизор. Серенгети. Сатана. Поднес телевизор к окну и, открыв его, выбросил телевизор на улицу, тот пролетел два этажа и стукнулся об асфальт. Телевизор взорвался. Красивый звук. Плохой был телевизор. Вот так. Теперь все в порядке. По-моему, я долго так просидел. С комбинезоном на коленях. Уставившись в стенку. Собранная сумка стояла возле двери. Я сидел так, пока на следующее утро в дверь не позвонили. За ней стояли Йорн и Роар, остальные сидели в машине. Меня везут в Берген, я сижу на заднем сиденье, я засыпаю, дороги, паромы, корабль в Бергене. «Смирил Лайн».[40]
Мы поднимаемся на борт, и речь меняется: я больше не понимаю, о чем говорят вокруг. Некоторые сразу же узнают Йорна, молодежь, нас просят дать автографы, я отхожу, говоря, что не вхожу в состав группы, «это не я», но все бесполезно, и Йорн говорит: «Только посмотри, от чего ты отказываешься», а корабль оседает в шершавом море, готовый пойти ко дну в любой момент. И Йорн снова просит меня подумать об этом, хоть одну секунду, о том, чтобы петь в их группе, ради него. Мне холодно. Я сижу в баре, на мне вязаная шапка. Я дрожу всем телом. Из носа течет. Я бегу в туалет, качаясь из стороны в сторону, мы вплываем в сумерки, разрезая Атлантику, а бородачи в шерстяных свитерах с Шетланда выпивают, смеются и орут. Я сижу в баре, вместе со всеми остальными, внизу, под нами, есть еще дискотека — там в синей комнате разливают синюю выпивку. Я чувствую необыкновенную злость и необыкновенную, невыносимую усталость. Вытаращив глаза, Йорн смотрит на меня, что-то кричит, и вот мы уже на палубе, ветер здесь такой сильный, что мы хватаемся за леера. Мы стоим на кормовой палубе, я зову остальных, но никто не слышит. Йорн что-то кричит в ответ, но я слышу только шум воды, ветер, винт, мне протягивают стакан, и я пью, не ощущая вкуса. Боль в руках, жжение в суставах. Я хочу спать — и больше ничего. Перегибаясь через поручни, я прищуриваюсь и смотрю на воду. В волнах корабль оседает, а с другого борта снова поднимается. Темно, поздняя ночь. Вдалеке, слева, что-то темное, это вполне может оказаться сушей, в первый раз за десять часов. Может, Шетланд. Или Гренландия. Может, Нью-Йорк. Сингапур, может статься, — кто его знает. Я не знаю ничего. Я сажусь, сажусь на холодную палубу, медленно поворачиваю голову, вижу Йорна и Роара, остальных членов группы и коллектив из Трондхейма, они стоят вокруг меня, я откидываюсь назад, на спину. Мягко ударяюсь головой о палубу. На лицо капает дождь. It’s the end of the world as we know it (and I feel fine).[41]
2
Мне было плохо, причем продолжалось это долго. Я лежал посреди дороги, уткнувшись лицом в асфальт, шел дождь, была ночь, и на целые мили вокруг не видно ни единого деревца, лишь холмы и крутые горы, поросшие мелкой зеленой травой, которая шевелилась на ветру и в темноте казалась почти серой. Я чувствовал голод и не мог вспомнить, сколько уже не ел, но, скорее всего, примерно сутки. Мы доплыли до берега, до Торсхавна, но я не мог вспомнить ни что мы делали потом, ни как я здесь очутился, — все это утонуло в какой-то жидкой каше, наполнившей мою голову. Меня тошнило, а когда я попытался подняться, все там же, на дороге, у меня загудело в голове. В левой руке появилась пульсирующая боль, пальцы были грязными, а костяшки содраны непонятно отчего. Я что, с кем-то подрался? Может, на корабле со мной что-то произошло? Я помнил, что злился, — а вот почему, интересно? Шел дождь. Прицеливаясь с высоты четырех тысяч футов, капли падали мне на спину и волосы, постукивали об асфальт, образовывая небольшие ручейки, которые потом утекали прочь. Я поднялся. Спина сразу заныла, но я все равно поднялся. Я стоял, меня шатало из стороны в сторону. Я вспомнил вино, стаканы, смех, рты, разинутые так, что видно было глотки, вспомнил корабль. Я помнил, что выпил не так уж и много, но все равно чувствовал себя паршиво, качка была ужасная, болгарская группа сыграла «Я всегда буду любить тебя» и еще что-то вроде «Десять тысяч красных роз», хотя пели они ее не по-шведски, а на каком-то славянском языке. Я прислонился к стоявшему рядом дорожному знаку. Ограничение скорости: 80 км/час. Слишком быстро для меня.
Некоторое время я стоял, не зная, что делать теперь. Огляделся. Надо мной висели тучи — темные, тяжелые и низкие, они сливались с туманом, который медленно сползал с гор и окутывал на своем пути все что ни попадя. С моря дул ветер, брызги летели на дорожное ограждение, подтачивая металл и асфальт.
Опустив голову, я посмотрел на ноги. Ботинки промокли насквозь. Рядом лежал пакет из магазина в Ставангере, и я смутно припоминал, как что-то там покупал. Подняв пакет, я раскрыл его и заглянул внутрь. Там лежал мой комбинезон с магнолией из оранжереи, он был по-прежнему аккуратно сложен и сверкал чистотой. И почему я взял его с собой? Пытаясь выяснить, чем я занимался последние несколько часов, я принялся шарить по карманам, но мало чего обнаружил. Скомканный чек из «Сити Бургера» и сложенная вдвое квитанция от карточки «Виза» за счет — довольно приличный — из какой-то забегаловки, куда я, по всей видимости, заходил. В заднем кармане — смятая пачка сигарет, тоже насквозь мокрая, но это не мои сигареты. Сквозь куртку я нащупал во внутреннем кармане бумажник, вытащил его, раскрыл и проверил содержимое. Все на месте. И тут — заталкивая бумажник обратно — я нащупал в кармане еще что-то — что-то плотное. Бумага. В моих руках оказался маленький коричневый конверт. Я осторожно открыл его. Внутри лежали деньги, целая пачка купюр. Пятнадцать тысяч крон. Мои ли это деньги — я не знал. Сложив деньги обратно в конверт, я убрал его в карман.
Я стоял под дождем, прислонившись к знаку. В кармане у меня лежали пятнадцать тысяч крон, а зонтика не было. Только полиэтиленовый пакет. И я не знал, что произошло и где все остальные. В обе стороны дорога убегала одинаково далеко, так что я побрел налево. Не знаю почему, у меня не было цели попасть в какое-то определенное место, мне было все равно куда идти. Может, я шел по направлению к городу, не могу точно сказать. Я побрел налево, навстречу ветру, держа в одной руке пакет, а другой придерживая отвороты куртки, я брел вдоль дороги, вдоль ограждений. По-моему, я не собирался прийти куда-то конкретно, поэтому что в одну сторону, что в другую — мне было без разницы. При каждом шаге в моих ботинках хлюпало, я чувствовал, что в этих легких ботинках леденеют пальцы ног, потом их шершавая поверхность начала до крови натирать набухшую от влаги кожу.
С того момента события в голове путаются, поэтому сложно сказать, сколько я прошел, может, всего тридцать минут, а может, несколько часов. Так мне казалось. Пейзаж вокруг почти не менялся — голые горы и равнины, поросшие одной лишь мелкой травой, и ветер дует со всех сторон. По-моему, я все же прошел довольно много, потому что в какой-то момент начало смеркаться, а спустя некоторое время вновь рассвело, или, может, это просто тучи разошлись, и засветила луна. Помню, что постепенно я стал различать грузовики задолго до того, как они проезжали мимо меня. Я мог бы попытаться голосовать. Мог бы остановиться у дороги, вытянуть руку и остановить грузовик, в надежде, что меня подбросят до города. Но я не голосовал. Уж не знаю почему. Вместо этого я продолжал шагать, согнувшись от ветра, чувствуя, как холодные капли падают на лоб, а затем стекают по лицу, и щуря глаза, чтобы хоть что-то видеть.
Наверное, я думал о Базе Олдрине, о его первых шагах по Морю Спокойствия, сделанных тридцать лет назад. Там-то не было плохой погоды, там вообще никакой погоды не было, все было абсолютно спокойно и тихо, никакой атмосферы, ни капли дождя, отпечатки его ног в лунной пыли, на базальте, останутся там еще на миллионы лет и, возможно, переживут всех нас. Мои же следы смывало сразу, так что во всей этой неразберихе ни один индеец не смог бы меня найти.
Вот так я и прошел — может, полчаса, а может, несколько часов, согнувшись под ветром. Пальцы ныли, в голове стучало, меня тошнило, я безо всякой цели плелся по дороге. Я заметил пару овец, которые выбежали из-под небольших каменных укрытий, построенных земледельцами, чтобы защитить животных от подобных ливней, когда все разумные люди и скот сидят дома. Завидев меня, овцы наклоняли головы, останавливались и провожали меня взглядом до тех пор, пока их не отвлекало что-нибудь еще, или просто исчезали в тумане. И тут я кое-что придумал. Вообще-то не следовало бы, но я придумал. Я замерз. И, когда на склоне появилась очередная овца, черная, с длинной шерстью, я повернул к ней, взобрался на пригорок и начал подбираться к ней ближе и ближе, но по мере моего приближения овца медленно, но верно начала отступать назад. Наконец она резко развернулась и побежала в горы, а я, по-моему, изо всех сил несся за ней. Изо всех остававшихся силенок, под дождем, по скользкой траве, покрывавшей крутой склон, я бежал за ней в надежде, что она приведет меня к стаду и овцы согреют и высушат меня своей шерстью. Однако овца оказалась проворнее меня, она знала, куда бежать, а у меня не осталось сил, выронив пакет, я пробежал за ней еще чуть-чуть, а потом споткнулся о камень и упал, обрушив весь свой вес на руку. Пальцы пронзила резкая обжигающая боль, на минуту потемнело в глазах, а когда я вновь пришел в себя, обнаружил, что лежу на мокрой траве, куртка окровавлена, рука тоже, а овцы и след простыл. Ни одной живой души вокруг, даже мухи.
С трудом поднявшись на ноги, я подобрал пакет и расстроенно поплелся обратно к дороге. Я пошел дальше, совсем перестав осознавать, что делаю, просто включил автопилот и опять слился с пейзажем. Опустив голову и свесив руки, я наверняка мог прошагать несколько дней, не замечая, где иду, метр за метром машинально переставляя ноги вдоль белой разделительной полосы, промокнуть сильнее было все равно уже невозможно.
Помню, что в какой-то момент я зашел в туннель и шел, вдыхая застоявшиеся выхлопные газы и балансируя, как канатоходец, по узкой пешеходной полоске. Когда я вышел из туннеля, то увидел справа большое поле, а перед собой, с противоположной стороны — автобусную остановку. Спотыкаясь, я подошел туда и сел на лавочку. Посмотрел на часы. Они стояли. Стрелки замерли на половине восьмого, и я не мог определить, недавно это было или давно. Я аккуратно расстелил пакет и лег на него. Вытянулся. Лавочка была длинная — это своего рода сигнал: чем длиннее лавочки, тем дольше ждать автобуса. Эта лавочка была длинной, а внутри остановки на стене висел листочек с расписанием автобусов. От воды буквы расплылись, и разобрать их было почти невозможно, но, похоже, автобус до Эйстуроя ходил два раза в сутки, кроме воскресенья, когда его вообще не было. Я не знал, где этот Эйстурой, и испугался, подумав, что сегодня вполне может оказаться как раз воскресенье, но прогнал эту мысль. Я приехал совсем недавно, мы сели на корабль в Бергене во вторник, поэтому сейчас среда или, в худшем случае, четверг. Ну, может статься, суббота, — точно-то не определишь. Но самое вероятное, что среда. Свернувшись на мокрой лавочке калачиком, я попытался заснуть, но не удалось: было холодно, шел дождь, меня заливало все больше и больше, и я вдруг вспомнил, что уже больше суток не ел. Поняв, очевидно, что переваривать ему нечего, желудок мой начал отчаянно сжиматься. Последнее, что я помнил, была чуть теплая безвкусная пицца, съеденная в кафе на корабле. А потом мы вышли на палубу. Помню, мы стояли там — Йорн, Роар и я, а еще группа из Трондхейма — и пили пиво, глядя на полоску воды, оставленную нашим кораблем. Вот так мы и стояли, глядя, как полоска между нами и Норвегией становится все длиннее и длиннее, и, насколько я помню, мы обсуждали, какая здесь может быть глубина, и что если кто-нибудь из нас вдруг свалится за борт, насколько велика будет вероятность, что его спасут. По-моему, мы решили, что глубина там порядочная и что вероятность спастись будет очень маленькой, и стали обсуждать, каково это — погибнуть вот так, опуститься на глубину в несколько сотен метров, волны накроют тебя, а паром будет удаляться все дальше. Утонуть в кильватере, слыша, как остальные отчаянно зовут тебя. И сколько времени потребуется, чтобы остановить корабль, развернуться, проплыть обратно, вероятности спастись почти что не было, и упавший за борт тоже вынужден будет прекратить свое существование, под волнами, под водой, всего через несколько минут. В это время года обычно холодно, морская вода не замерзает даже при минусовой температуре, и ты погрузишься в воду, пару раз вынырнешь, а потом пойдешь ко дну, и тебя никогда не найдут. И если кто-нибудь героически попытается тебя спасти и прыгнет следом, то он тоже утонет, а на дне образуются целые штабеля утопленников, будто невидимая гора. По-моему, мы об этом разговаривали, пили пиво, подбрасывая пустые банки над водой и считая, через сколько секунд они упадут. Еще мы обсуждали, что лучше делать, если корабль тонет, а спасательных шлюпок не осталось, — сидеть, запершись, в каюте или стоять на палубе. Кажется, я сказал, что мне было бы лучше сидеть в каюте, смотреть, как вода заливает иллюминатор, осознавая, что на верхней палубе по-прежнему сухо. Потом можно лечь на койку, прямо в одежде, наверное, даже в выходном костюме — кто знает, и спокойно лежать и ждать, пока корабль не погрузится в воду, иллюминатор в моей каюте под действием атмосферного давления не разобьется, а вода не наполнит каюту и двери не слетят с петель. Звуки в коридоре и топот на трапах исчезнет, вода устремится к двери, и на одно мгновение перед тем, как я утону, она поднимет меня, я и все мои вещи, какие есть в каюте, — мы поднимемся и беспорядочно поплывем, ну, вроде как в безвоздушном пространстве.
Сколько я пролежал на лавочке? Не знаю. Может, несколько часов. Откуда-то извне до меня доносился шум автомобиля, он сначала усилился, затем стало слышно, как автомобиль сбавил скорость и затормозил. Я слышал, как дверца открылась и снова захлопнулась.
Кто-то окликнул меня. Слов я не разобрал. Меня вновь окликнули, и понадобился же я кому-то, кому-то хотелось, чтобы я ему ответил, но сказать мне было нечего, поэтому я отвернулся, уткнувшись лицом в стену. Но свет фар от этого не исчез — он отражался в стеклянных стенах автобусной остановки и слепил мне глаза, а потом его на миг что-то заслонило, кто-то тронул меня за плечо и заговорил, но я ничего не понимал, вообще ни слова.
Человек повторил.
Я не реагировал. Он вновь потрогал меня за плечо. Я неохотно развернулся на лавочке — прямо надо мной склонился высокий светловолосый мужчина лет сорока, одетый в теплый шерстяной свитер.
Он что-то говорил, но понимал это только один он.
— Чего?
Он сменил пластинку и заговорил по-датски:
— С тобой все в порядке?
— Чего?
— С тобой все в порядке?
Я понятия не имел, все ли со мной в порядке. Нет, не все.
— Помочь тебе встать?
Я поднялся, теперь я сидел перед ним на лавочке, положив на колени пакет, будто ребенок, который, возвращаясь из школы, опоздал на последний автобус и хочет, чтобы ему хоть как-нибудь помогли. Человек стоял передо мной, раздумывая, что делать дальше.
— Ты куда едешь? — спросил он.
— Не знаю, — ответил я.
— Ну, тогда откуда ты едешь?
— Не знаю.
Он тяжело вздохнул — как будто сожалел, что притормозил здесь, или что такое случалось с ним каждый раз, когда он куда-нибудь ехал, или, например, ему приходилось убирать с дороги овцу.
— Ты турист?
— Да.
— Может, ты живешь в гостинице в Торсхавне?
— Нет… не знаю.
Начал ли он проявлять нетерпение? Может, и так. Он стоял под дождем. У него намокли волосы.
— Так ты здесь один?
Я на секунду задумался. Напрягся. Рука заныла.
— Нет, — ответил я, — с друзьями. Я… они… я не знаю, где они.
— Если хочешь, я отвезу тебя в порт.
— Спасибо, не надо.
— Ты так и будешь здесь лежать?
— Да.
— Но так же нельзя.
— Нельзя.
Затем я опять опустился на лавочку и, прикрыв глаза, отвернулся от него. Но я так недолго пролежал. Меня начали трясти, и это вновь оказался он, он опять поднял и усадил меня. Мои брюки были в крови. Изо рта текла слюна. Выглядел я не особо привлекательно.
— Знаешь что, поехали со мной, — сказал мужчина.
Ехать мне не хотелось.
— Со мной все в порядке, — промычал я, — я и сам отлично справлюсь.
— Непохоже на то, — ответил он, показав на мою руку, — пошли. Поедешь со мной, пока не утонул тут.
Протянув лапищу, он схватил меня за здоровую руку, поднял на ноги и поволок к машине, усадил на сиденье и положил пакет мне на колени. Я засунул руку в карман. На минуту я подумал, что, может, отдать ему все деньги и попросить отвезти меня отсюда, в гостиницу, домой, куда угодно. Но рука моя шевелиться не хотела, и я положил ее обратно на колени.
— Хавстейн, — сказав это, он взял мою руку и потряс.
— Иззз… извини?
— Хавстейн Гардалид.
По-моему, я ответил: «Матиас».
Потом он завел машину, проехал через долину, а затем свернул направо, мы ехали вдоль моря, через деревни и однообразный пейзаж, в машине играло радио, оно тихо говорило на непонятном языке, а в перерывах я слышал песни, которые когда-то напоминали мне о каких-то вещах и событиях.
Большую часть времени я проспал, а когда просыпался ненадолго, сидел, глядя в окно на дороги, лениво петляющие вокруг холмов, на машины, быстро проносящиеся мимо, и на приближающийся свет фар, и слушал шум двигателя, музыку, тихо доносящуюся из автомагнитолы, тихий шепот песенок кантри и этого Хавстейна, подпевающего не в такт. Тэмми Вайнетт.
Мы остановились, и я проснулся. В окна бил свет, по стеклу стекала вода, я выпрямился, и вот так вот наступил день первый. Он сам дождливым не был, просто с остатками вчерашнего ливня. Я по-прежнему мерз и так и не высох, волосы прилипли ко лбу, а во рту стоял привкус тошноты. Я взглянул на часы в машине: десять минут десятого. Где мы находились, я не знал. Вообще даже никаких идей не возникало. Воздух был необыкновенно чистым. Открыв окно, я высунул голову наружу, в плавные потоки кислорода, потом вылез целиком, ухватившись руками за мокрую крышу, — весь мир залило водой, и мне было все равно, где я, я вдыхал и вдыхал свежий воздух. Мне немного полегчало, я чувствовал себя лучше, чем вчера, чем когда-либо вообще, насколько я помнил. Я отстегнул ремень, открыл дверцу и осторожно ступил на асфальт. Я стоял. Ни больше ни меньше. Я не падал. Рядом была автозаправка, в глаза мне светило солнце, а из заправки выходил человек по имени Хавстейн, он шел по направлению ко мне, потом махнул мне рукой, и я махнул в ответ, но моя рука оказалась более вялой.
— Привет.
— Привет.
Он купил хлеба, газировки и молока, продукты первой необходимости. Я прислонился к машине, а он указал мне на еду, сложил пакеты в багажник, захлопнул его и, обойдя машину, подошел ко мне.
— Доброе утро, — сказал Хавстейн.
— Привет.
— Посмотри вокруг, — сказал он.
Развернувшись на триста шестьдесят градусов, я огляделся. Прямо как на открытке.
— Эйстурой, — сказал Хавстейн.
— Угу, — ответил я.
— Есть хочешь? Или может, кофе? Я бы выпил кофе.
Мне ничего не хотелось.
— Давай.
— Пошли.
— Угу.
Я зашел вслед за ним в здание автозаправки, мы прошли через магазин и подошли к самой дальней двери. За ней оказалось маленькое грязноватое кафе с коричневыми пластмассовыми стульями и столами и занавесками в стиле семидесятых, пропитанными табачным дымом и дорожной пылью. Кроме нас в кафе была только женщина средних лет, одетая в красный фартук, когда мы вошли, она стояла в ожидании за стойкой. Хавстейн поздоровался с ней, а потом меня посадили на стул и сунули в руки чашку кофе.
— Вот, пожалуйста.
— Спасибо.
Мы долго сидели молча. Хавстейн откинулся на спинку стула.
— Ну как, лучше? — наконец сказал он. — После кофе?
— Да, — ответил я, — немного.
Опять молчание. Тихое жужжание кофеварки. Солнечный свет в окнах.
— Ну как?
— Угу, — сказал я.
— Ну вот, ты здесь.
— Ага. Я здесь. Здесь хорошо.
Я был вежливым. Я подыгрывал. Чувствовал я себя по-идиотски.
— Все мы тут это место очень любим.
— Охотно верю.
— Ну и?..
— Ну и — что?
Хавстейн достал пачку сигарет и закурил.
— Что с тобой произошло?
Все смолкло. Мы посмотрели друг на друга, взгляд прошел мимо, посмотрели в окно, повсюду летали птицы, вот только что в кафе их не было, скоро здесь наступит настоящее лето. Здесь, внутри, время остановилось, будто притихнув.
— Не знаю, — тихо ответил я.
Хавстейн промолчал, прихлебывая кофе. Мне слышно было, как жидкость течет по глотке, попадает в горло, слышно было, как он глотает.
— В отпуске? — спросил Хавстейн.
— Вроде того, — ответил я, — мы здесь должны были на концерте выступать. В пятницу.
— Сегодня четверг.
— Вот как.
— Так ты музыкант?
— Нет, я… я садовник.
— Садовник? Это хорошо.
Тот момент стоило заснять на пленку: вот сидит Хавстейн, которого я не знаю и чье имя еле вспомнил, а вот напротив него на пластмассовом стуле сижу я. Мне хотелось заговорить, рассказать ему обо всем, так чтобы слова потоком вылились на стол, и будь что будет. Однако я молчал. Пил кофе. Смотрел на птиц, которые свили гнездо прямо под крышей, над окном.
— А где остальные, — спросил Хавстейн, — твои друзья?
— Не знаю, наверное, где-то в Торсхавне.
— Может, тебе позвонить им? Там, в коридоре, есть телефон. — Он махнул рукой в сторону двери.
— Я не знаю, что им сказать.
— Правду.
— Какую правду?
— Ну уж этого я не знаю.
— Нет.
— Так ты не хочешь? Звонить?
— Нет.
— Почему?
— Не знаю.
— Ты как-то мало чего знаешь, да?
— Да.
Женщина вышла из-за стойки и ушла на автозаправку, тихо прикрыв за собой дверь. Хавстейн склонился над столом:
— Я мог бы куда-нибудь отвезти тебя. Если бы ты знал, куда тебе нужно. Или куда ты хочешь. Я могу тебя отвезти в Торсхавн. Хочешь? Мне не сложно. — Немного помолчав, он добавил: — Но если не хочешь, то я поеду дальше, домой, на север. В Гьогв. Так что скажешь? Отвезти тебя в порт?
Я опустил глаза. Провел правой рукой по столешнице. Каждую секунду, пока я сидел тут, уровень моря возрастал, нанометр за нанометром. Я не ответил. Я смотрел в стол.
— Что с тобой?
— Я, наверное, не хочу возвращаться.
А потом я заговорил. Начал рассказывать о том, что произошло за последние недели, то, что помнил. Рассказал о том, что Хелле бросила меня на Кьерагболтене, но камень от этого не рухнул, о работе, которой больше нет по вине торговых центров, говорил о маме и отце, рассказывал про рождественский бал, тот, давнишний. Я поведал, что мне не хотелось иметь собственного мнения, что я хотел стать одним из многих, и, по-моему, еще я рассказал немного о Вселенной. Хавстейн слушал, молча прихлебывая кофе, иногда кивая, но в основном просто молчал. Я открыл все клапаны и предоставил ему полнометражную версию, не знаю уж зачем, может, просто больше не хотел оставаться в одиночестве, а может, давление поднялось слишком высоко и я испугался, что голова моя взорвется, а мозгом забрызгает пластик и занавески. Я говорил и говорил — поток слов превращался в водоворот. А потом я опять замолчал.
Хавстейн закурил следующую сигарету. В кафе появилась парочка шумных дальнобойщиков, смеясь, они позвали официантку, и та, шаркая, зашла через заднюю дверь и, даже не спросив, что они будут пить, разлила по чашкам кофе. Она присела за их столик в другом конце зала, и все они наперебой закричали. Я понимал лишь обрывки их речи — самый обычный разговор: как такой-то сказал одно, а сякой-то сделал другое, какие товары они сейчас везут и какие повезут обратно. Официантка дымила как паровоз, окутывая их сигаретным дымом и рассказывая последние местные новости: как одни поженились, а другие развелись и разбежались в разные стороны, у третьих родился ребенок, а у четвертых еще не родился. Одни рождались, другие умирали, еще некоторые поменяли работу, и все это произошло за одну-единственную неделю.
— Ладно, — сказал Хавстейн. Я взглянул на него и увидел, что он задумался. Затем он сказал: — Если хочешь, поехали со мной. — Я не знал, что и ответить. Я ждал объяснений. — Я, то есть мы, живем в Гьогве, это такая маленькая деревня на севере. Я и еще трое — Палли, Анна и Эннен. Они все хорошие ребята. Там есть старая рыбообрабатывающая фабрика, уже полностью перестроенная, в ней мы и живем. Если хочешь, можешь у нас с недельку пожить, с силами соберешься.
— Типа коммуны?
— Не совсем. — Хавстейн улыбнулся. — Я организовал там центр. Реабилитационный.
— Реабилитационный центр?
— Да.
Молчание. Вот я и докатился до психушки. Прямо как брат Йорна, который оттуда так и не выходил.
— Это не больница, — продолжал Хавстейн, — я не считаю, что тебе надо лечиться, и не поэтому тебя позвал. Иначе я отвез бы тебя в аэропорт и отправил домой.
— Я не поеду в аэропорт, — сказал я, глядя в чашку с кофе.
— Вот то-то и оно. — Хавстейн помолчал. — Но тебе справедливо кажется, что те, кто там живет, раньше действительно лежали в больнице. Мой центр — для тех, кому уже не нужно профессиональное лечение в закрытой клинике в Дании или здесь, но кто еще не готов жить самостоятельно. По разным причинам. Ну, скажем, если ты долго пробыл в клинике, несколько лет, например, то ты привыкаешь к этому. В таком случае потом хорошо бы немного пожить в таком месте, которое на нее похоже. Или лучше скажем так: всем нужна забота. Именно этим я и занимаюсь. Я забочусь о тех людях. О том, чтобы с ними все было в порядке. Разумеется, те, кто там живет, могут уехать, когда захотят. Они так иногда и делают — уезжают. С этим все просто.
За соседним столиком затихли и навострили уши — они словно потянулись в нашу сторону.
— Но в то же время, — продолжал Хавстейн, — они, чисто теоретически, могут жить там, сколько пожелают, пока им требуется поддержка. Если они не хотят оставаться у меня, могут перевестись в обычную клинику, пока медицинское освидетельствование не докажет, что лечение им больше не нужно. А доказать такое почти невозможно. И еще очень важно, что у многих из тех, кто лечится в подобных заведениях, нет никакого специального образования, обучение считай что прошло мимо них, поэтому им практически нереально самостоятельно найти работу. А я связываюсь с какой-нибудь фабрикой по разведению рыбы или с портовым ведомством в Торсхавне и договариваюсь, что половину зарплаты им будет выплачивать государство, и так куда проще. Понимаешь? Вот такие дела. Я живу вместе с тремя бывшими пациентами, а не они живут у меня. Двое из них работают за пределами деревни, а третий — на самой фабрике. Мы мастерим всякие мелкие поделки для туристов, после того, как получим заказ от государства, как бы в благодарность за разрешение содержать подобное заведение. Палли прожил там уже почти десять лет, Эннен появилась пять лет назад, а Анна — почти шесть. Живут там только они, хотя у нас нашлось бы место еще для четверых. Подобный центр существует и в Клаксвике, поэтому у них есть из чего выбирать. Они хорошие люди, добрые. И мне кажется, гостя они примут с удовольствием. Сейчас в Гьогве живет всего пятьдесят четыре человека, поэтому новым лицам обычно рады.
— Обычно?
— Да ты не волнуйся.
Доктор Хавстейн. Я почувствовал, что мне уже назначили курс лечения. Таблетки по расписанию. Вскрытие артерий в ванной. Цепкие чужие взгляды в коридорах. Я не знал, что на это ответить. Мне хотелось, чтобы обо мне заботились. Чтобы кто-нибудь взял меня за руку и отвел домой. Чтобы кто-нибудь сказал мне, как они рады, что я наконец нашелся.
— Все наладится, — сказал Хавстейн.
— Правда?
— Да, — заверил он, — так всегда бывает.
Я не сказал «да». Но и не отказался. Мы просто допили кофе в тишине, почти одновременно поднялись и прошли через автозаправку наружу. «Статойл». Норвежская нефть. Прямо в бак. Я все равно не знал, куда еще податься. У меня не было сил звонить Йорну, а потом искать его по всему Торсхавну, опять ходить с ним вечером после концертов по забегаловкам, встречать призраков последних месяцев моей жизни и говорить о Хелле. Тихих звуков мне не вынести. Звуков! Вот дерьмо! Дерьмо! Дерьмо! Я же пообещал им выполнять обязанности звукооператора, и где я теперь? Я же исчез, наплевал на эту их затею, а они наверняка меня по всему городу ищут! Может, они позвонили домой? Маме и отцу? Я надеялся, что нет. Думать об этом было невыносимо, я так устал, столько плохого уже случилось, и у меня ничего не получалось.
Мы стояли возле автозаправки, Хавстейн смотрел на ценник на одноразовых грилях. Потом он перевел взгляд на мою руку.
— Ты поранился? — спросил он.
Я тоже посмотрел на руку. Выглядела она неважно. Будто я продирался сквозь какие-то жуткие заросли. Костяшки распухли, кожа посинела, везде засохшая кровь.
— Не помню, — ответил я, а Хавстейн мотнул головой в сторону торчащего из стены крана. Я подошел, отвернул кран и подставил свою изуродованную руку под струю ледяной воды, руку обожгло, я сжал зубы, вытащил из подставки салфетку, стер кровь — ту, что не присохла к ране. Взял еще салфеток, обмотал руку. Потом я послушно сел в машину, мне хотелось лишь спать, улететь отсюда, беззаботно подняться над городом, как ребенок, которого вечером везут домой с рождественского праздника или горной прогулки, а он сжимает в кулачках свертки с булочками и бутылкой газировки, и когда мы приедем домой, мы почистим зубки и пойдем спать, и кто-то подоткнет мне одеяло в ногах, чтобы я не замерз, погладит по голове и скажет: «У тебя еще вся жизнь впереди, ты ведь еще ребенок, у тебя море времени, ты можешь пользоваться им, как захочешь».
Вот и все, что осталось в моей памяти от нашей первой поездки в Гьогв. Я помню, что чувствовал умиротворение и что всю дорогу мы молчали, радио выключили, и Хавстейн вел машину очень осторожно. Мы скользили по серпантину наверх, на Фуннингур, а за окном открывался вид на фьорды и горы, до самого Слеттаратиндура, и я чувствовал себя крошечным существом, которое везут по зеленому лугу все выше и выше. Ветровое стекло запачкалось, и сначала видно было плохо, но потом Хавстейн протер его — как раз когда мы оказались на вершине последнего холма, — и царапины на стекле засверкали в лучах утреннего солнца, так что приходилось жмуриться. Потом я увидел маленькую розовую деревеньку — до нее оставалась всего пара сотен метров по дороге, покрытой сухим потрескавшимся асфальтом. Деревенька приютилась между двух невысоких гор, у моря. Мне и раньше казалось, что вокруг много зелени, но здешние места меня поразили. Луга покрывали пологие холмы, будто подобравшись незаметно, а в центре земля была идеально ровной, ни малейшего пригорка, и я подумал, что, должно быть, также и на Луне, только там травы нет, да, именно так — это как будто впервые ступить на Луну и увидеть всю эту безлюдную пустыню, и я чувствовал себя странником дня и ночи, Мио, мой Мио, в Стране Дальней, я ничего не знал и был никем. И похоже, я испытывал благодарность. За то, что кто-то нашел меня или, может, за то, что, открыв дверцу несколько минут спустя, я вдохнул кислород, а не вакуум. Я стоял перед большим серым двухэтажным зданием фабрики, расположенной рядом с Гьогвом, откуда открывался вид на мир во всей его пустоте.
Меня провели на внушительных размеров кухню — почти десять метров в длину — и посадили за длинный стол, стоявший прямо в центре. Отвернувшись, Хавстейн начал рыться в холодильнике. Доносился какой-то монотонный гул, воздух был пыльным, а в окна светило солнце, и я начал обсыхать. Кожу немного саднило, будто меня осторожно пропустили через сушилку, и я почувствовал себя абсолютно спокойным. За окном попискивали птицы, Хавстейн варил кофе, Хавстейн наливал в стаканы апельсиновый сок, Хавстейн подошел и сел напротив; мои сцепленные руки, неподвижно лежащие на столе.
Поднявшись, Хавстейн прошел в другой конец кухни, открыл ящик и достал оттуда листок бумаги и карандаш. Потом он вернулся к столу, сел, положил перед собой бумагу, осторожно положил на нее карандаш и пододвинул все это ко мне.
— Напиши номер телефона, — сказал он.
— Чей?
— Чей угодно.
Я не знал, что написать, положение какое-то нелепое, надо убираться отсюда, собраться с силами, обуться, взять куртку, вернуться на такси в город, найти группу, надо сдержать обещание, я не могу обмануть друзей. Здесь мне нечего делать, я здесь чужой, я не знаю, кто такой этот Хавстейн и кто все остальные, мне надо убраться отсюда и вернуться в город. Мне нужно вернуться домой в Норвегию. Сейчас же.
Я написал на листке номер мобильника Йорна. А под номером — его имя. Вернул листок Хавстейну. Хавстейн взял его, поднялся и вышел из комнаты. Было слышно, как он поднимается по лестнице, как поскрипывают ступеньки, потом я услышал его шаги сверху, звук открывающейся двери, его голос, но я не все разобрал из их беседы. Он говорил тихо и медленно, но уверенно. Слышно было, как он пару раз сказал «Йорн» и называл мое имя. Он еще что-то сказал про Торсхавн, а потом все опять смолкло. Сразу после этого я услышал, как он спускается по лестнице, а потом Хавстейн вернулся на кухню.
— Я съезжу в Торсхавн, — сказал он, — встречусь с этим Йорном, поговорю о тебе. Все в порядке, не бойся.
Разрядить аккумуляторы. Убрать защиту. Обратная сторона Луны. Я сказал только: «Ладно».
Хавстейн показал мне комнату рядом с кухней. По ней сразу стало заметно, что это не простой жилой дом: бетонные стены, просторное помещение, фабрика, закрытая, перестроенная и вновь обжитая, превращенная в дом. Я оказался в огромной гостиной размером почти со склад. Ковры на полу, картины на стенах, старые светильники, которые мама выбросила бы еще в начале восьмидесятых, телевизор. Большие окна с видом на море, диваны, каких я уже лет двадцать не видел. Мне объяснили, какие тут ловятся каналы, и Хавстейн принес мне булочки, апельсиновый сок и датскую газету. Он уезжает в Торсхавн, вернется вечером.
— Никуда не уходи, — сказал он.
— А куда мне идти?
— Вот именно.
Он ушел, а я сидел как истукан на диване, уставившись через окно на воду, на море, и ждал, что вода вот-вот поднимется, разобьет окна, осыплет меня стеклянными осколками, заполнит комнату и вынесет меня из дома. Но этого не произошло: море спокойно лежало голубым пледом, укрывающим мир, а в лицо мне светило солнце.
Предел скуки наступает даже при нервозности, и через час мне надоело обозревать простирающийся передо мной вид. Я оставил в покое море и оглядел комнату. Она была большая, примерно сто квадратных метров, с двухметровыми потолками, к которым кто-то умудрился прикрутить лампы — большие и синие, которые в темноте наполняли комнату золотистым светом. Мебель, стены — все в коричневых и голубых тонах, будто из старых песен. Ковры, ткань — все это воссоздавало атмосферу жилья. ДОМ. В центре нестройным полукругом стояли три дивана, из-за размеров комнаты выглядели они совсем крошечными, почти смешными. К западной стене прижались три крепких стула, скорее даже кресла, наподобие таких стояли дома у дедушки. Он с утра до вечера просиживал в таком красном кресле — читал или просто смотрел в пространство, а под конец уже только смотрел. Помню, однажды в мае, во вторник, пришли мы как-то к нему в гости, шел дождь, дедушка, как всегда, сидел в своем кресле, глядя в пространство через подзорную трубу. Мы с мамой присели на его кровать, но он не обращал на нас внимания, даже когда мама несколько раз окликнула его и когда поставила на столик перед ним блюдо с «Твистом». Он всегда очень любил «Твист», собирал золотистые обертки от шоколадок и карамелек — и хранил их в коробках из-под обуви под кроватью. Все еще не замечая нас, он схватил вдруг подзорную трубу, навел ее на противоположную стену и, подкрутив линзы, уставился на фотографию бабушки. А потом опять положил трубу на колени. А через минуту вновь поднял ее, чтобы опять посмотреть на бабушкину фотографию, все приближая и приближая ее, представляя, что та стоит прямо перед ним, в комнате, будто в комнате только она и есть. Мы с часок посидели с ним, и все это время дедушка только и делал, что поднимал трубу и смотрел, поднимал и смотрел. Постоянно. Через месяц я опять пришел к нему. Дедушка так же сидел в кресле и смотрел на бабушкину фотографию. Даже поза у него не поменялась. А в следующий раз мы пришли с отцом, поставили кресло в фургончик и отвезли его в новый дедушкин дом. Однако комнаты в новом доме были слишком маленькими, дедушке никак не удавалось сфокусировать подзорную трубу, изображение расплывалось, бабушкино лицо исчезало, а вслед за этим начал исчезать и сам дедушка — он исчезал неделями, а потом его совсем не стало. Кресло вновь погрузили в фургончик, отвезли к нам домой и поставили в коридоре. Так вот, на этой фабрике были такие же кресла. Сделанные в то время, когда считалось, что мебель должна служить веками. С минуту я раздумывал, не сесть ли мне в одно из них. Но не сел. Вместо этого я поднялся, встал прямо посреди комнаты, глядя в окно. Птичий гомон и ветер приумолкли, утонув в доносящемся с кухни ровном жужжании холодильника.
Сколько я так простоял? Наверное, несколько минут. Потом я в конце концов поплелся на кухню, прошел через нее, мимо окон, повернул налево и вышел в прихожую. Когда я зашел сюда в первый раз, не заметил, что она тоже просторная. Там было красиво, чисто, будто даже стены заботятся о тебе, словно кто-то жизнью пожертвовал, чтобы спрятать фабрику за картинами, за цветами в больших горшках и под паркетом на полу. Пройдя через прихожую, я подошел к другой стальной двери, повернул ручку, подождал, пока замок щелкнет, но щелчка не было, я просто открыл дверь и очутился в узеньком коридоре. Когда мои кроссовки касались голубого линолеума, раздавалось эхо. Здесь было еще две двери, но не такие массивные, обычные деревянные двери. «Гардероб А» и «Гардероб Б» — было коротко написано на них. Я решил начать с конца и открыл дверь в гардероб «Б». Внутри было темно, я пошарил по стене в поисках выключателя, нашел и нажал. Вспыхнул свет. Я оказался в гардеробе. Он был как любая другая раздевалка. Металлические шкафчики, старые выцветшие плакаты, оставшиеся от рабочих, которые раньше тут переодевались и у которых были свои идеи. Эти идеи они и выразили на шкафчиках — «Долой НАТО», «Долой ядерное оружие», «Долой все!» и тому подобное. Плакаты с рекламой автомобилей, которые теперь уже, поди, и не выпускались, по некоторым плакатам заметно было, что их пытались содрать, но это не совсем удалось, бумага цепко пристала к металлу. И конечно, прямо в центре стояла деревянная скамейка, потрескавшаяся и поцарапанная. Я как наяву представил себе ту жизнь, которой уже давно нет: вот холодным февральским утром сюда приходят рабочие, они снимают теплую одежду и вешают ее в шкафчики, вот они прикрепляют новые плакаты поверх старых, вот достают спецовку, жесткую от застарелой грязи и пота. Им хочется спать, разговаривают они мало, это всего лишь очередной обычный день. Надо начинать работу, разделывать рыбу, чистить ее, сортировать, солить и упаковывать, а потом, может, погружать в машины, которые с утра поедут в город и остановятся перед большими кораблями. Ящики с рыбой выгрузят сначала на асфальт, потом перенесут на корабли, а корабли поплывут на Шетланд, на Оркнейские острова, в Норвегию, не знаю, куда еще, может, в Англию, Францию или Италию? Всем, кому нужна рыба, у кого недостаточно собственной, а по пути им встретятся корабли из Англии и Исландии, тоже груженные рыбой, только везущие ее в другую сторону. Где-то там, в море, одни будут сигналить другим, раздастся гудок, и сверкнут бортовые огни. А потом рыбу в чужом порту выгрузят на берег, ящики перенесут в другие машины, которые повезут рыбу в магазины, где ящики вскроют, а их содержимое выложат на прилавки. В магазины придут мамы с папами и положат рыбу в тележки, корзинки и авоськи. А потом на миллионах кухонь рыбу приготовят, и дети будут капризничать, требуя соли и перца, а отцы примутся рассказывать о своей молодости. Жители всей страны будут есть эту рыбу, корабли возьмут обратный курс, а на фабричную раздевалку в это время как раз вернутся рабочие, которые сядут на скамейку, оставляя после себя царапины на ее деревянной поверхности, натянут брюки, сапоги, свитер, а поверх него — еще один, а потом еще куртку, рассядутся по машинам и поедут по домам. В горле у них будет стоять привкус трески, а дома мать как раз подаст на ужин рыбу, привезенную откуда-нибудь из Глазго. На дворе благословенные пятидесятые, и дети все еще послушны. Причесанные, в юбочках и свитерах, они сидят, сложив вымытые руки, молятся, улыбаются друг дружке белоснежной улыбкой и едят рыбу и рассказывают о том, что произошло за день. На дочке длинная юбка и толстые колготы, волосы заплетены в косички. Отец пересказывает что-то из газеты, а остальные слушают, ведь отец так много знает. Мать умеет вкусно готовить и хорошо шьет, она моет посуду и помогает младшей сестренке вязать крючком и спицами, она рассказывает о том, как нужно прожить жизнь, какого выбрать мужа, и об отце, который сидит на втором этаже и помогает сыну учить географию. Они читают про Китай, где много коммунистов, но страна пока еще держится, каким-то чудом все еще держится. Наступает вечер, потом наступит ночь, а за ней придет утро, отец опять сядет в машину и поедет на север, на фабрику, погруженный в свои мысли о том, как устроен мир. А спустя десять лет он придет домой, будто во сне, потому что именно тем вечером произойдет это — экипаж «Дискавери» достигнет Луны, той ночью «Игл» совершит посадку в Море Спокойствия. Телевизоров ни у кого еще нет, телевизоры на Фарерах появятся только к концу восьмидесятых, а фарерский канал — «Сьоунварп Форейа» — и того позже. И параболических антенн тоже ни у кого нет, поэтому все усядутся перед радиоприемником, и той ночью спать никто не ляжет, вся семья будет сидеть в гостиной, перед камином. Мать со старшим братом сядут на диван, а с ними — младшая сестренка, которая уже решила уехать с Фарер и которая видит себя покорительницей всего белого света. Все молчат, все слушают радио и ждут, и вот первый человек ступает на Луну, и они слышат, как там, на Луне, он разговаривает. Теперь все изменится, ничто не останется прежним, и как же тяжело вставать на следующее утро и ехать на фабрику, но как раз по дороге тучи вдруг расступаются, а над ними видно голубое небо. Середина лета, и большинство в отпуске, но рыба не ждет, в море полно рыбы, кому-то приходится работать, кому-то надо крутить колесики, хватать рыбу за жабры и двигать весь этот мир. Рабочий наклоняется, наваливаясь на руль, и смотрит на небо, пытаясь разглядеть Луну, хотя уже наступил день, но он все равно смотрит. Он съезжает на обочину, останавливается, наклоняется вперед и смотрит наверх — туда, где сейчас находится человек, ступавший на другие планеты. Когда он опускает глаза и смотрит на дорогу, то видит вокруг другие машины, десятки машин, они тоже встали, и другие рабочие тоже смотрят наверх. А потом они опять заводят машины, едут друг за другом к фабрике, переговариваются в раздевалках, но сегодня никто не вешает «Долой»-плакаты и порой все вдруг на минуту умолкают. И, несмотря на то, что люди теперь ходят по другим планетам, рыбы в море становится все меньше, и в начале семидесятых шкафчики запирают, плакаты снимают, свет гаснет, фабрика закрывается, и младшая дочка уезжает сначала в Шотландию, а потом — в Англию. Отец со старшим сыном принимаются за овцеводство, а по вечерам слушают вместе радио и ждут новостей о том, что жизнь налаживается, о новых космических кораблях или о том, что на островах появится свой собственный телеканал. Наконец в 84-м он появляется, и они вместе едут в магазин в Торсхавне и покупают самый дешевый телевизор. Отец с сыном устанавливают его в гостиной, а мать переставляет мебель. Каждый день показывают новости, и зимой 84-го они усаживаются перед телевизором и смотрят на бомбежки в Сараево, Югославия. А спустя еще несколько лет в новостях покажут ту старую фабрику, цеха и раздевалки, и отец увидит свой старый шкафчик и вновь почувствует привкус трески. А ведь последние годы что-то неудачные выдались. Младшая дочка раз в месяц позванивает, ну, хорошо хоть у нее все в порядке, она выбилась в люди, разговаривает теперь с акцентом, ждет ребенка, поэтому они должны поехать к ней, быть с ней, когда родится малыш. И они говорят: «Ну, ясное дело, конечно, приедем», и опять проходит вечер за вечером. Однако они едут. Однажды они уезжают. В Англию. Разыскивая ее, они показывают бумажку с адресом таксисту. Да, он знает, где это, и вот они едут в один из неблагополучных городских районов в Ист-Энде. Живет она на четвертом этаже, по дому гуляют сквозняки. Она беременна, муж ее — ее новый муж — очень приятный человек, да, этого нельзя не признать, но им все равно туго приходится, и с работой сложновато. Она по телефону часто рассказывала, что добилась успеха, но это была неправда — с деньгами у нее плохо, у них с деньгами плохо, ребенок недешево обходится, и городская жизнь тоже недешевая. И отец, да, отец вытаскивает бумажник, достает фунты и угощает всех ужином, свою новую семью, они сидят в ресторане в Сохо, в дорогом ресторане, пьют вино и молчат. О чем им говорить. Восьмидесятые так много обещают. А девяностые не держат слова.
Выключив свет, я осторожно прикрыл за собой дверь. Раз уж начал, я дернул ручку гардероба «А». Дверь поддалась. Еще одна раздевалка, однако пользовались ей не часто. Такое впечатление, что здесь был склад, здесь громоздились ящики, старые матрасы, рыболовные снасти, еда, пиво. И всякое прочее. Склад.
Я взглянул на настенные часы. Десять минут шестого. Я не знал, когда вернется Хавстейн. Вечером. Он был в Торсхавне. Разговаривал с Йорном, а может, еще с Роаром и Томасом, гитаристом. Или только с Йорном. Хорошо бы только с ним. Остальным не обязательно все слышать. Ясное дело, они и так узнают, но пусть лучше от Йорна, ему ведь я почти обо всем рассказал, он знает, что говорить и что делать. И я догадывался, что Йорн позвонит моим родителям. После обеда он позвонил бы маме или поговорил бы с отцом, если к телефону подойдет он. Я примерно представлял, что Йорн мог сказать и какими словами. Мама захотела бы позвонить сюда, но она не знает номера, а отец решил бы приехать, прилететь сюда и поговорить со мной, но я сейчас не в состоянии разговаривать с ними, я не знаю, что им сказать. И Йорн смог бы объяснить это маме, что нужно подождать, что всем нужно подождать, когда я вернусь, ясное дело, я вернусь к ним, мне только необходимо сначала собраться с силами, немного подумать, потому что за последнее время — за последний год — столько всего произошло и так быстро, прямо будто на видеокассете, когда ее перематывают вперед. И вот кассету наконец зажевало. Получился спутанный клубок. И даже если ее вынуть и прокрутить пленку, все равно не поможет. Нужно осторожно открыть видеомагнитофон, ручкой или карандашом вытащить ленту, расправить ее и аккуратно прокрутить кассету, чтобы пленка вновь легла на свое место, а затем снова поставить кассету в магнитофон и включить воспроизведение. Мне нужен ремонт. Кассету мою пора чистить.
Теперь я думал только о Йорне, представляя, как они с этим непонятным мне Хавстейном сидят где-нибудь в кафе в Торсхавне, Йорн подпирает рукой голову и отстукивает мизинцем по переносице такт какой-то мелодии, которую только он и слышит. А Хавстейн объясняет, говорит, не знаю уж, о чем, надеюсь только, он скажет, что кассету мою зажевало, но что через какое-то время пленку опять можно будет восстановить и совсем необязательно идти менять ее на новую. Просто при просмотре потребуется немного терпения и киномеханик, который не уйдет, как только фильм начнется, а будет на всякий случай постоянно следить за показом.
Внезапно меня осенило: мне нужно поехать в город и самому поговорить с Йорном. Или пусть он приедет сюда. Йорн. Прикрыв за собой дверь раздевалки, я пробежал на кухню, схватил куртку, выскочил в коридор, надел ботинки, открыл тяжелую стальную дверь и вышел на улицу. Погода изменилась, теперь моросил дождик, который в считанные секунды намочил меня с головы до ног. Я пошел к полю, к дороге, и тут вдруг понял, что не знаю, куда идти, вокруг никого не было, но я все равно шел, оставив Фабрику позади, высматривая автобусную остановку или какой-нибудь другой общественный транспорт, но, как я выяснил позже, шел я в противоположном от остановки направлении. Мне нужно было поговорить с Йорном, сказать ему, что все образуется, просто я немного устал от всего этого, ведь правда, но все пройдет, а Йорн остался в Торсхавне, я скучал по Йорну, почти как ребенок скучает по маме. Я шел по дороге, волосы у меня намокли, потом дождь прекратился, подул ветер, и я осознал, насколько тупо поступил. Такое мне не под силу. Отсюда до Торсхавна идти придется много часов. Если я вообще пошел в правильном направлении. Я ведь могу прийти к морю. Поблизости нет ни одной автобусной остановки и ни одного автобуса. Должно быть, скоро возвратится Хавстейн, и продолжать путь нет никакого смысла. Я остановился, прямо посреди дороги, на вершине холма. Полная остановка двигателя. Я именно здесь. В Гьогве. На Фарерах. И здесь я должен остаться. Пока не сбавлю скорость. Пока все не утихнет. Развернувшись, я пошел обратно, к Фабрике, возвращаясь к началу. Спускаясь с холма, я машинально передвигал ноги, а ветер дул мне в спину. Из-за облачной пелены все вокруг начало темнеть, зелень приобрела коричневатый или сероватый оттенок, в некоторых домах зажегся свет, спрятавшись за шторами, любопытные фарерцы смотрели, как я прохожу мимо их деревянных домиков, так что я будто сквозь строй шел, но незамеченным не остался никто из нас.
Он стоял высоко на холме. Я почти уже подошел к Фабрике. Он стоял на небольшом перекрестке, где тропинка, ведущая к Фабрике, встречается с тропинками, ведущими к морю, слева от домиков. Рядом с фабричным почтовым ящиком стоял маленький мальчик. Он смотрел на меня, словно на ужин, на который и не надеялся, но который, если получится, он обязательно съест.
А потом начался дождь. Опять.
Такой же дождь, как и раньше. Совсем не ливень, всего лишь едва заметная изморось, но одежда промокла в считанные секунды, я до подбородка застегнул молнию на своей тонкой куртке, влажные брюки прилипли к ногам. Рядом с фабричным почтовым ящиком стоял мальчик. Я подошел к нему, а он молча следил за мной взглядом. Я попытался улыбнуться ему, искренне, по-детски, но у меня не очень-то получилось. Когда он оказался уже позади, на расстоянии метров двух, он меня окликнул. «Ты тут живешь, — спросил мальчик, — на Фабрике?» Остановившись, я повернулся, не зная, что ответить. Я не знал, где живу, поэтому сказал, что приехал только сегодня. «Утром». Ему было лет девять-десять, может, одиннадцать, и был он какой-то мелкий, его ровесники явно крупнее, если память мне не изменяет. На нем были очки с почти незаметной оправой. Может статься, он вырастет красивым мальчиком, очень красивым, лет через десять станет самым красивым мальчиком во всем поселке, а может, так и останется совсем незаметным, как обстоятельства сложатся, сразу и не скажешь. На нем была дутая куртка, черная-черная, от дождя она намокла, и он продрог, поэтому до конца застегнул молнию, а руки засунул в карманы. «А ты вообще-то откуда?» Я ответил, что из Норвегии, а мальчик сказал, что никогда там не был. Но зато он был в Дании, два раза, в Копенгагене. «Тиволи», — сказал он. «Розовые сосиски», — сказал я. «АГА!» — сказал он. Вкусные эти розовые сосиски. «В Норвегии все так же, как и здесь, — сообщил я, — только еще деревья есть. И народу чуть побольше. А так — все то же самое». Он посмотрел в сторону, не зная, что еще сказать, шел дождь, было холодно, и мы толком не знали, о чем разговаривать, на моем Западном фронте было без перемен, поэтому я спросил: «А ты сейчас куда?» — «К Оулуве пойду», — быстро ответил он, повернулся и махнул рукой на один из деревянных домиков, стоящий чуть поодаль от остальных. «Твоя девушка?» — обязательный вопрос. «Подруга», — так же заученно ответил он. Замечательно, с формальностями улажено. «Меня Софус зовут», — сказал он. «Матиас». — «В Гьогве живет пятьдесят четыре человека», — сказал Софус. «Это немного», — ответил я. «Ага, — сказал он, — всего ничего». А потом он попрощался — «бай-бай» — и ускакал вприпрыжку, топая кроссовками по тропинке. Когда он подошел почти к самому домику, он позвал Оулуву, и я заметил, что в окошке промелькнула чья-то тень. Потом она выглянула, крикнула что-то в ответ и исчезла. Я услышал, что дверь открылась и снова закрылась. Я добрел до Фабрики, открыл дверь и вернулся к безлюдью и шуму ничтожности.
Я опять промок до нитки. Сняв куртку, я повесил ее на стул, со стыдом надеясь, что Хавстейн еще не скоро вернется, не увидит, что она мокрая, и не поймет, что я, сдавшись, пытался уйти. Хотя я почти не знал Хавстейна, я все равно уважал его, как-то машинально, будто послушная собачонка, которая виляет хвостом, встречая хозяина. Лежа на диване, я притворялся мертвым. Потом взял со стола пульт от телевизора, попереключал немного каналы, но, должно быть, что-то неправильно нажимал, везде были одни белые мухи, поэтому через полчаса мне это наскучило, я выключил телевизор и посмотрел на часы. Они по-прежнему показывали половину восьмого. Уставившись в потолок, я попытался собраться с мыслями, но не знал, о чем думать.
Хавстейн вернулся, только когда начало темнеть, было где-то часов одиннадцать, а может, и двенадцать. Я услышал, что подъехала машина, шелест шин по гравию, дверца открылась и захлопнулась, затем в коридоре послышались шаги. Потом он зашел в гостиную. Я лежал, повернувшись к нему спиной, и не видел его, но я знал, что это он: войдя, он словно сдавил пространство в комнате. Я ждал, что он поздоровается, начнет говорить, расскажет, что сказал Йорн и что он сам сказал Йорну. Но я не был уверен, что мне действительно хочется все это выслушивать.
Хавстейн прошел в комнату. Сел на стул рядом со мной. Приподнявшись, я напрягся. Попытайся произвести приятное впечатление. У меня все в порядке. Я — хороший гость.
— Привет, — сказал Хавстейн.
— Привет.
Потом последовало долгое молчание, будто мы ждали, когда день закончит подводить итоги. Я заговорил первым:
— Ты нашел Йорна?
— Да, — ответил Хавстейн, — нашел. Очень хороший парень. Ты его давно знаешь?
— Ну, ага, со школы, что-то вроде того. — Я вдруг засомневался, какие-то проблемы у меня со счетом в уме.
— Очень хороший парень.
— Он как раз вокалист, — выдавил я, — в «Перклейве», ну, в группе, с которой я приехал…
— Да, он так и сказал.
— Хорошая группа.
Мы еще немного помолчали. Хавстейн положил руки на стол. Нормально говорить у меня не выходило, получался какой-то писк, прямо как у Микки-Мауса. С большими ушами.
— Думаю, Матиас, тебе надо на какое-то время остаться здесь.
От этих слов я испытал большое облегчение. Он сказал это с настоящей отеческой заботой. Все равно что просидеть целый день на самой верхушке горящего небоскреба, который к тому же еще и качается. А потом просто взять и спрыгнуть. Зная, что внизу кто-то уже растянул спасательное полотнище.
— Ты правда так считаешь? — Я смотрел на него, пытаясь понять, кто же он такой, но решил спросить об этом потом, не сейчас, сейчас это бы глупо прозвучало. Я какое-то время пробуду здесь.
— Да, думаю, так будет правильно.
— Ладно.
— У тебя ведь нет дома срочных дел, как я понял. Никакой срочной работы, верно?
У меня вообще ничего не было. Ни кола ни двора.
— Нет.
— Замечательно.
— Правда?
— Думаю, мне надо будет еще твоей маме завтра позвонить. Ты как считаешь?
Мама. Которая еще ни о чем не знала, но которая знала обо всем. Моя мама, как и все матери, была последним, но важнейшим звеном информационной цепочки. Ей суждено быть последней, не имея возможности что-либо изменить. Мне это не нравилось. Мне вообще не хотелось впутывать их в эту неразбериху.
— Согласен? Я позвоню твоей маме? — повторил он. Я ответил, что да, пусть звонит, пожалуйста. Может привет передать. И пусть скажет, что я сам скоро позвоню.
— Здесь довольно хорошо, — сказал Хавстейн, — на Фарерах.
Больше он ничего не говорил, день так и закончился рекламой островов. Именно таким он и был, таким он по большей части казался. Спокойным. Сдержанным. Рассудительным. Только что с фабрики! Новая модель! Мистер Рассудительность 2000! Мне он уже начинал нравиться. Мы приготовили импровизированный ужин: Хавстейн достал хлеб, масло, молоко и апельсиновый сок, мы сидели за кухонным столом и нарезали одним ножиком хлеб, беседовали о погоде, — фразы были испытательными, вводными и напоминали школьные поездки, когда особо деятельные организуют вылазку за город, твой только что сформированный класс сидит в автобусе, все видят друг дружку в первый раз — это как лотерея: рядом с тобой может сесть самый жуткий зануда или же твой будущий лучший друг. И все равно в автобусе особо не разговоришься. Ты сидишь, выжидающе глядя в окно. Барьер преодолевается традиционно. Дружба появляется после совместной выпивки, поэтому вы сидите на потертом диване, в пыльной комнате загородного домика, с неловкостью пережидая первые часы, чтобы время побыстрее подошло к семи или восьми, ну или хотя бы к шести, когда можно будет открыть первую бутылку пива. Время тянется медленно, вы пытаетесь убить его и избавиться от неловкости, готовя еду, чтобы подкрепиться перед спиртным, а уж тогда-то все точно перезнакомятся друг с другом. Я их не знаю, они меня — тоже. Зато завтра, завтра мы уже будем знакомы, так что и не представишь, как это мы раньше друг друга не знали. И я буду думать: о, да это же Йоханнес! А потом ты почти что злишься на себя за такие мысли и отгоняешь их прочь.
Вот так оно и сейчас было.
Мы сидели на кухне.
Пить мы еще не начали.
Мы даже и не собирались пока пить.
Мы медленно и молча ели, глядя в окно, где сейчас можно было разглядеть только наши отражения. Друг на друга мы не смотрели, может, мы даже немного смущались. Все формальности взял на себя Хавстейн, а я был только рад от них избавиться. От формальностей. Я поел. Положил руки на колени. Уставился на пакет с молоком. Mjólk.[42]
— Наелся? — спросил Хавстейн.
— Да, спасибо, — ответил я.
— Пойдем, я покажу тебе твою комнату.
Школьный лагерь. Показ комнат. Вынимаем спальные мешки. Кто где будет спать? Ходят слухи о том, что мальчиков поселят вместе с девочками, хотя на самом деле это неправда.
— Пойдем, она на втором этаже.
Поднявшись со стула, я взял свой пакет и прошел за Хавстейном сначала в коридор, а потом мы поднялись по лестнице. Ступеньки скрипели, и, ступая на них, я пытался распределять вес равномерно, чтобы дощечки не скрипели и шуму от меня было меньше. На втором этаже Хавстейн повернул направо и открыл первую с левой стороны дверь. Стоя передо мной, он сказал: «Здесь», но мне за его спиной не было видно, поэтому я, вытянувшись прямо как школьник, встал на цыпочки и заглянул ему за плечо. Хавстейн, очевидно, заметил это, отступил в сторону и пропустил меня в темную комнату, а сам встал сзади.
Не знаю, чего я ожидал. Может, чего-то, что больше походило бы на домик в лесу? Обшитых деревом стен, крепко сколоченных деревянных коек с потрескавшимися досками и нацарапанными надписями. Комнату, в которую можно заселить какую-нибудь группу энтузиастов, скаутов, к примеру, детей, которые будут с отчаянной серьезностью пытаться расставить все по своим местам. Кто где будет спать? Кто будет наверху, а кто — внизу? Но здесь были только мы. Мы вдвоем. И здесь я должен был остаться.
А комната оказалась белой. Стены были выкрашены белым. Она казалась безликой, как приемная врача, пол был покрыт светло-коричневым лаком, мебель тоже светлая. В комнате стоял письменный стол, в одном из углов — кровать, хорошая, по крайней мере, мне так показалось, во всяком случае, обычная такая, шкаф, деревянные стулья, на полу расстелен коричневый ковер, на стене висела карта. Большое открытое окно. В комнате было холодно и промозгло. Хавстейн прошел за мной, подошел к окну, прикрыл его и запер на крючок.
— Ну как, — поинтересовался он, — пойдет?
— Пойдет.
Отступив обратно к двери, он остановился в проеме и посмотрел на меня. Я стоял посреди комнаты прямо в ботинках и с пакетом в руках. Говорить мне не хотелось, я чувствовал усталость. И боялся.
— Спокойной ночи, — сказал Хавстейн. Потом он повернулся и вышел из комнаты. Я успел пожелать ему спокойной ночи в ответ. Он закрыл за собой дверь, а затем я услышал его шаги, он спускался по лестнице. Я сел на ближайший ко мне деревянный стул и уставился в потолок. Я слышал ровный гул проволочек в лампе. Я сидел на стуле, стул этот находился на Фарерах, наступила ночь, и мне надо было спать, пора ложиться, завтра будет долгий день.
Потому что….
Почему это завтрашний день будет длиннее всех остальных? Что это я собрался делать?
Ничего.
Вот именно.
Я ведь развинтился, правда?
Да.
Вышел из строя.
С сегодняшнего дня дни нельзя будет посчитать, все они станут вторниками.
С сегодняшнего дня я перестану быть винтиком в общем механизме.
С сегодняшнего дня я сломанный винтик.
Я стащил с ног кроссовки, все еще влажные, свернул носки, повесил их на спинку кровати, разделся и, аккуратно сложив одежду, положил ее на стул у письменного стола, задернул шторы, выключил свет и лег на кровать. Я ожидал, даже надеялся, что она заскрипит, но этого не произошло. В комнате было абсолютно тихо, и я хотел очутиться где-нибудь в другом месте.
Однако уснуть я не могу. Закрыв глаза, я лежу на спине и мечтаю, что дверь вдруг откроется и кто-нибудь придет ко мне, мама, например, что кто-нибудь принесет мне чашку какао, чьи-нибудь теплые руки погладят меня по беспокойной голове, взобьют мне подушку, кто-нибудь присядет на кровать и скажет мудрые, полные жизненного опыта слова, такие, которые заставляют поверить, что нет ничего невозможного, что просто надо подождать и все наладится само собой. Я хочу, чтобы кто-нибудь зашел ко мне в комнату и сказал, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего, что мне надо заснуть, — и тогда солоноватый привкус во рту исчезнет, а завтра утром я проснусь, как обычно, возьму со стула одежду, которую заблаговременно приготовил с вечера, встану, приму душ, оденусь и пойду на работу, а с работы позвоню Хелле, а вечером пойду на Вальбергторн, в Ставангере, и если будет тепло, усядусь на стене и буду смотреть на круизные пароходики, с грохотом катающие тех, кому деньги и ревматизм позволяют. А больше всего я хотел, чтобы меня не существовало.
Лежа в кровати, я думал про брата Йорна. По-моему, я становлюсь все больше похож на него, разве нет? Помню, как летом 85-го мы с Йорном сидели на Вауленстранден. Мы там были не одни, ясное дело, но помню я только Йорна, только он был в фокусе. Мы только что вылезли из моря и теперь грелись, сидя на гладких скалах. Был вечер, мы уже давно ушли из дома, но стояло лето, и можно было гулять сколько хочешь, главное — вернувшись домой, не забыть зайти в родительскую спальню и, разбудив их, отчитаться словами: «Я пришел!» Сидя на скалах, мы сушились, оглядывая взглядом все то, что было наверху и внизу. В домах по другую сторону фьорда уже начали гаснуть огоньки, а вокруг нас сгущалась темнота. Не знаю уж почему, только мне кажется, что именно тем вечером мы с Норном и начали разговаривать серьезно, не дурачась, просто что-то прорвалось, и я рассказал ему, как я разговаривал с цветами у себя дома и что работать садовником — лучше всего. Я цветисто расписал про уровень моря, как он растет сантиметр за сантиметром, и осталось совсем чуть-чуть, всего один метр, и тогда, как я сказал, почти сто миллионов человек окажется без крыши над головой. А потом я говорил про то, что совсем необязательно становиться лучшим, или самым популярным, или даже просто необычным, достаточно заполнить собой свободное место и делать то, что должен. Может, я просто боялся, что если буду сильно выделяться и люди заметят меня, то я займу не то место, испорчу что-нибудь и нарушу неустойчивый мировой баланс. И еще я рассказывал о пресвитерианине Эдвине Э. «Базе» Олдрине, молчаливом и рассудительном космонавте, который все сделал верно, нажал на правильные кнопки, установил курс, сделал необходимые вычисления и потом следовал расчетам. Который привез на Луну вино и чашу для причастия и который подобрался так близко к Богу, что вполне мог зайти к тому в гости. Директора, отвечающего за формирование экипажей в космическом центре Хьюстона в 1969 году, звали Кристофер Колумбус Крафт, и мы обсуждали, было ли это случайностью или все же что-то да означало. Кажется, в тот вечер мы раскрыли все остававшиеся темы, то есть в основном говорил, как ни странно, я, а Йорн комментировал, анализировал и закрашивал черные дыры моей вселенной. Он рассказал о Петере, своем старшем брате, который жил по другую сторону фьорда, в Дале, в психиатрической лечебнице, дурдоме, в отделении для особо буйных, а в Дале нет дыр в заборе, да и самих заборов нет, только горы, вода и фьорд. Йорн рассказал, как он несколько раз ездил с отцом навестить Петера, о белых коридорах, холодных комнатах, зеленом линолеуме, вытертом обувной симфонией, и еще он рассказал, что обычно, когда они приходили, брат его сидел у окна на стуле, просто тихо сидел на зеленом стуле у окна, смотрел в сторону и почти никогда не разговаривал, и с каждым разом общался все меньше и меньше. Иногда они просто сидели все вместе и молчали. Из других комнат доносилось бормотанье, или лепет, или хрип, или тоже тишина. Йорн сказал, что там все не так уж и плохо, как полагают некоторые, ты просто изредка осознаешь, где находишься на самом деле, а в остальном похоже на любую другую больницу, многие пациенты очень дружелюбны, там ему даже давали карамельки. В комнате для курения всегда стояла вазочка с карамельками. Когда они приходили, Петер предпочитал сидеть именно там, ему нравилось, когда другие видят, что его навещают родственники. Йорн рассказал, как однажды его брат попытался покончить с собой: отец тогда вернулся с работы и обнаружил сына на кухне. Тот сидел голый, положив голову на стол, а по рукам стекала кровь. Йорн тогда был на футбольной тренировке, а вернулся незадолго после того, как Петера с отцом увезла «скорая». Кровь на клеенке уже подсохла.
— Я скучаю по Петеру, — признался Йорн.
— Думаешь, он больше не вернется?
— Может, и вернется. Не знаю.
Мы немного помолчали.
— Ты почему хочешь быть садовником? — спросил он.
— Потому что это незаметная работа, — ответил я.
Не помню, сколько мы так просидели, может, кто-то еще приходил и уходил, но разговаривали мы долго, и тогда мне вдруг пришло в голову, что Йорн один из таких людей, чью фотографию ты увидишь среди снимков исчезнувших друзей. Йорн был своим, и когда он сидел с Хавстейном в Торсхавне, то продолжал оставаться своим. И думать об этом было приятно.
Я попытался перебрать в голове прошедшие дни. Чем я занимался в последние недели? Я был в Ставангере, я согласился — сказал «да, да, я поеду с вами, ну, ясное дело, поеду», я сидел на заднем сиденье машины, мы с Йорном, Роаром и Томасом ехали в Берген, мы ехали по дороге до Бергена, заезжали на паромы и съезжали с паромов, а потом ехали дальше, приехали в Берген, встретились с остальными, с двумя другими группами, а затем сели на борт. Потом наступил вечер, и дела мои пошли плохо. Помню, было много воды и слишком темно, поэтому я не мог вспомнить, что именно произошло. Я попытался сосредоточиться, восстановить поездку в памяти, но вспоминалось с трудом, я устал и под конец оставил это занятие. Не сейчас, может, завтра. Завтра все должно быть по-другому. Все должно наладиться. Я замерз. Я скучал по дому. По-моему, такое со мной в первый раз. Я скучал по опустевшей квартире. По вещам, к которым привык. Наконец, я встал с кровати, достал из пакета комбинезон с магнолией и надел его. Хоть что-то. Он пришелся мне как раз впору. Появилось ощущение дома. Я опять залез под одеяло. И вот, напуганный, лежа на спине в кровати в Гьогве, на фабрике Хавстейна, я в первый раз заснул.
Life[43]
1
Я проснулся от шума, который доносился с первого этажа. Я лежал на узкой кровати, под одеялом с незнакомым запахом, шторы пропускали в комнату солнечные лучи, падавшие на покрытый линолеумом пол. Я был не дома. Я даже не представлял, где нахожусь. Я мог оказаться где угодно. Этажом ниже кто-то разговаривал, я слышал утренние голоса и радио — какую-то невыносимую музыку. Я лежал в кровати, тело отказывалось подчиняться голове и требовало, чтобы его оставили в покое. Ощущение было такое, будто я наелся удобрений. Причем съел не один килограмм. Или словно поел гипсу. Вставать мне не хотелось. Хотелось лежать. Пока не пойму, где же я нахожусь. Пока кто-нибудь не придет и не отправит меня домой. Пока меня не вышлют отсюда наложенным платежом.
Это словно опять стать ребенком, пойти ночевать к живущему по соседству приятелю и проснуться на следующее утро: друг твой уже встал, спустился и теперь завтракает вместе с родителями. А я просыпаюсь с осознанием того, что я не дома. Встать и одеться я не решаюсь. Не решаюсь спуститься вниз и сказать: «Доброе утро».
Когда я понял, где я, почему я здесь и что произошло за последние месяцы и недели, я скрючился, сжался в один нервный комок, а потом я услышал шаги на лестнице, скрип ступенек и стук в дверь.
— Матиас?
Я не ответил, притворяясь, что сплю, но никого не обманул.
— Матиас?
— Да?
Он приоткрыл дверь, просунул голову и, увидев меня, зашел в комнату. Хавстейн. Спаситель Хавстейн.
— Доброе утро.
— Угу, — тихо ответил я, — доброе утро.
Хавстейн взглянул на мою аккуратно сложенную на стуле одежду, она была по-прежнему мокрой и грязной. Хавстейн улыбнулся.
— Как себя чувствуешь? — спросил он, переложив вещи на письменный стол. Сам он уселся на стул, будто врач, вот только еще журнала не хватало. И стетоскопа.
И тогда я разревелся. Отчаяние ручьем закапало на пол. Произошло это совершенно неожиданно, и я, будто маленький мальчик, натянул одеяло на голову и задрожал, совершенно расклеившись прямо на глазах у Хавстейна. Я превратился в сгусток отчаяния, мой мир перевернулся, и у меня не осталось никаких представлений о том, как жить дальше. А Хавстейн — что он мог поделать? Да ничего, потому что Малютку никому не утешить, и как только это дурацкое сравнение пришло мне в голову, я попытался рассмеяться. «Спасите Йоппе, живого или мертвого!»[44] Но смех у меня не вышел, а вместо него вырвалось какое-то низкое горловое бульканье.
Сидя на стуле, Хавстейн ждал, когда я опять приду в себя. Он не присаживался ко мне на кровать, не пытался погладить меня по голове и вел себя не по-отцовски, чему я был несказанно рад. В отличие от многих, непроизвольно бросающихся утешать плачущего, самообладания он не потерял. Хавстейн по-прежнему сидел на стуле и ждал, пока я медленно, но верно собирался с силами. Потом я высунулся из-под одеяла, с короткими всхлипами отдышался, сел в кровати и непослушными со сна пальцами вытер глаза. Мне было стыдно, и я чувствовал себя беспомощным. И тут он увидел, что на мне комбинезон, но ничего об этом не сказал. Вместо этого Хавстейн спросил:
— Плохо?
— Да, — не задумываясь, сразу же согласился я, а потом быстро добавил. — Но теперь уже лучше. — Я зашмыгал носом, но Хавстейн был готов и к этому: он открыл ящик стола, достал оттуда бумажную салфетку и протянул ее мне. Я изо всех сил высморкался, попытавшись выжать из себя всю сырость, но вышло весьма сомнительно. Поднявшись, Хавстейн подошел к окну и раздвинул шторы. Шел дождь. Я опять лег и, сдается мне, заснул.
И дни в их медленном течении скрутились в один большой клубок. Я как будто смотрел сквозь грязное стекло на едущие машины, периодически просыпаясь — днем или ночью. Просыпался я от звуков, доносящихся снизу, от болтовни, от радио. Пару раз на дню Хавстейн приносил мне еду, садился в ногах и разговаривал со мной. Но я не отвечал ему, словно выброшенная на сушу устрица, я не открываюсь, я заперт внутри себя. Сплю я по 16–17 часов в сутки, однако просыпаюсь по ночам, я постоянно просыпаюсь по ночам, когда все остальные спят. Сна у меня нет ни в одном глазу, я слышу, как другие храпят, ворочаясь в кроватях, а по стеклу стучит дождь. Встав, я подхожу к окну, отодвигаю штору и открываю его. На улице темно и влажно, я сижу и смотрю на силуэты гор, там, справа, на море, простирающееся прямо передо мной, до самой Арктики, и я щурюсь, пытаясь по прибрежным камням понять, увеличивается ли уровень моря, приливы и отливы — все как обычно. Просидев у окна довольно долго, я начинаю мерзнуть, поэтому я закрываю его и возвращаюсь в постель. Уставившись в потолок, я пытаюсь восстановить в памяти последние месяцы и понимаю, что даже не представляю, что мне теперь делать. А Хелле? Чем там занимается Хелле? Сейчас она спит, одна или с Матсом, и мне кажется, что спится ей плохо, она переворачивается на другой бок, но без толку, потому что что-то идет не так, как надо бы, но что именно, она не понимает. Им ведь хорошо вместе? Да, хорошо. Может, на работе что-то не клеится? Что-то идет не по плану, не так, как ты себе представляла? Но ведь заранее не угадаешь. И еще я думаю об отце. Вот они с мамой вернулись из Сент-Ло, и он ждет от меня открытки, каждый день проверяет почтовый ящик, но ничего не приходит, на следующий день тоже ничего нет, но я обязательно пришлю тебе открытку, только дай мне время, и я найду тебе открытку. Я думаю, отец хочет, чтобы я позвонил, вот прямо сейчас, и где-то на другом краю земли он проснется и скажет мне, что все хорошо, и мы часами будем говорить по телефону, но телефона рядом нет, да и отец сейчас спит, а рядом с ним спит мама. Отец лежит на спине, приобняв ее одной рукой, рука у него затекла, но он заметит это только утром, и тогда, зайдя в ванную, начнет ее растирать. Вот тут-то он и обнаружит, что на руке у него остался след, мамин отпечаток, появившийся здесь за все те годы, что она спала на его руке. Я вспоминаю папины руки.
Какой сегодня день, я не знаю. Все ориентиры потеряны. Я чувствую усталость и все время сплю, а когда приходит Хавстейн, я не расспрашиваю его, просто послушно забираю еду. Я монах, живущий в самой тесной башенке на самой вершине монастыря. На меня наложен обет молчания.
О чем думал Баз Олдрин в ночь перед полетом? Завтра я буду в открытом космосе. Я стану одним из первых, кто там оказался. Мы отыщем Луну, приблизимся к ней и осторожно посадим корабль на пыльный базальт. Через тридцать шесть часов я буду ходить по Луне. Я. А о чем думал Баз Олдрин, когда после многих дней и ночей, проведенных в карантине, вернулся домой? После того, как, почистив зубы, зашел в спальню, разделся и забрался под одеяло? Я был на Луне. Я действительно там побывал. Там, наверху, — я ведь правда был там, а теперь я снова здесь, в спальне, а на коврике в ванной — следы моих ног, и такие же следы остались там, за четыреста тысяч километров отсюда, в другом мире, в Море Спокойствия. Такой ночью не заснуть. Мозг отказывается сбавить обороты. Когда двигаешься со скоростью 40 000 километров в час, потом не можешь остановиться. Остается только столкновение.
Опять сон, не тот, когда граница между ним и явью четко определена, а такой, когда лицо твое покрывает дрема и темнеет весь мир. Сон, на который не можешь положиться ни на секунду. И смех. Смех, доносящийся снизу, сливающийся со звуками радио и шумом дождя. Ступеньки скрипят, открывается дверь, приносят еду, мой рот пережевывает ее, но говорить отказывается, разговаривать он не хочет, мне задают вопросы, а вечера сливаются в один бесконечный вечер. По ночам сна ни в одном глазу, сижу у окна, но на птицу мало похоже, скорее, на овцу, просунувшую голову сквозь плетень. Во сне всплывают нестройные вереницы картинок: корабль, Хелле, отец, Йорн, пловцы-синхронисты на озере Большое Стоккаванн, они образуют пульсирующие круги, а мы стоим вокруг, в тесноте толпы, и хлопаем, фигуры на воде меняются, теперь это лебеди, драконы и цветы, в центре — моя мама, на ней купальная шапочка, она опять плавает, а рядом со мной стоит Йорн, и мы вдруг оказываемся в палате его брата, мы включаем и выключаем там свет, и вдруг нам говорят, что этой кодировки нам не расшифровать, но мы продолжаем давить на выключатель. А потом я обрезаю черенки роз, ставлю цветы в вазу, а вазу — на тумбочку у дедушкиной кровати, и он радуется им, а потом я нежно раздвигаю лепестки и мы с дедушкой видим, что в цветах лежит Хелле, а рядом с ней — Матс-курьер, и тогда дедушка говорит: «Посмотри, они такие красивые», а я отвечаю: «Да, но это совсем нелегко», и мы опять смотрим на цветы, а дедушка смеется и говорит: «Легко вообще ничего не бывает», и, потрепав меня по голове, протягивает подзорную трубу. Я смотрю в нее на Хелле, а потом резко запрокидываю голову и вижу метеориты — они летят прямо на нас, а дедушка берет трубу и кладет ее на пол. «Тебе она больше не нужна?» — спрашиваю я, указывая на трубу. «Нет, больше не нужна. Теперь они уже близко», — отвечает он, тоже запрокинув голову. А потом сон опять заполняет темнота. Сплю я долго, а когда просыпаюсь, в голове у меня словно наступает ясный, погожий денек. Рядом опять сидит Хавстейн, шторы раздвинуты. На улице дождь. Пасмурно. Однако снаружи все равно светло, и кое-где сквозь облачную пелену даже пытается прорваться солнце.
— Привет, — говорит он.
— Привет, — отвечает мой голос.
— Ну, как ты?
— Какой сегодня день недели? — Крепко вцепившись в простыню, я лежу на кровати.
— Пятница, — отвечает он.
Молчание.
— Знаешь, сегодня будет хороший день, — говорит он затем, глядя в окно. — Я вот думаю, может, тебе сегодня подняться. Познакомишься с остальными. Если захочешь, можем съездить куда-нибудь.
Мне хочется выйти из этой комнаты. И мне хочется остаться здесь. И никогда не выходить.
— Да, — отвечаю я, — ладно.
Ладно.
— Хорошо. Это хорошо. Здесь внизу, в коридоре, есть душ. Я постирал твою одежду, она вот тут, — говорит он, показывая на стол. — Тогда я жду тебя к завтраку, ладно?
— Угу.
Он идет к двери, но в проеме останавливается, поворачивается и смотрит на меня, как герой американского кино, который собирается произнести какую-нибудь умную, решающую фразу. Однако Хавстейн молчит. Немного помедлив, он выходит и прикрывает за собой дверь.
Мое тело было таким тяжелым.
Я весил тысячу килограммов.
К ботинкам были приклеены магниты.
Я осторожно откинул одеяло. Передвинул ноги к краю кровати. Поставил их на холодный пол. Пальцы ног сжались. Птицы не пели.
Сперва я просто стоял на полу. Вновь привыкал к тому, что стою, и на минуту мне показалось, что меня починили. Что все позади. Я попытался представить, что тело мое сделалось легким.
Но все было не так.
Где находятся границы отчаяния?
Этого никто не проверял.
Статистики на этот счет нет.
Эта тропинка на карте не обозначена.
Нет диаграмм с ободряющими числами.
Я все еще мог передумать.
Снова лечь.
Ну же, все будет хорошо, думал я.
Нет, не будет, думал я. Не будет, и точка.
На письменном столе лежала моя чистая одежда. Протянув руку, я взял брюки, приподнял одну ногу и засунул ее в штанину джинсов. Стоя на одной ноге, я пытался удержать равновесие. Не упал. Засунул другую ногу, натянул свитер, тот тоже постирали, пахло от него каким-то незнакомым стиральным порошком. На улице дождь. Ветер. Вода. Волны. Я взял со стола коричневые носки и надел их. Носки были не мои, но куда подевались мои, я не знал, поэтому надел то, что дали. Носки. Потом надел ботинки, они были сухими, даже стельки.
Развернувшись на триста шестьдесят градусов, я огляделся. Кровать. Окно. Стол. Рядом с дверью висело зеркало. Я подошел к нему.
Но я ничего не увидел.
Положил руку на дверную ручку.
Ну же, вперед.
Вниз по ступенькам.
Я вышел в коридор и спустился на первый этаж. Играло радио. Элтон Джон. Я вцепился в перила. До меня доносились голоса. Женские. И Хавстейна. Вниз по лестнице.
Шаг за шагом. Исцеление за двенадцать шагов.
В наше время особенно важен оптимистический взгляд на жизнь.
Ступеньки потрескивали.
В наше время особенно важен оптимистический взгляд на жизнь.
Я спускался по лестнице. Держась за перила.
В наше время особенно важен оптимистический взгляд на жизнь.
Матиас спускается по лестнице. Это я. Только и всего.
В наше время особенно важен оптимистический взгляд на жизнь.
В наше время особенно важен.
И вот я спустился.
Я стою в коридоре, позади — лестница, рядом — массивная входная дверь. Никто не слышал, как я спустился. Я в ботинках. Я могу выскочить за дверь, отыскать автобус и доехать до Торсхавна, а там есть аэропорт. Меня и не увидит никто. Никто не будет по мне скучать. Я смогу вернуться домой. Скроюсь за дверью, зайду в море, буду шагать и шагать, изо всех сил, пока вода не покроет меня с головой, а потом, среди рыб, я усну. Еще я могу подняться обратно, на второй этаж, я прокрадусь по лестнице и найду телефон. Позвоню Йорну. Попрошу кого-нибудь забрать меня отсюда. Спасти меня. Выбирай — не хочу. Однажды я уже выбрал. Хелле. А она выбрала оттолкнуть меня. Ей нужна совсем другая награда. В этом году большинство решило выбрать дешевые цветы, мой же выбор заключался в том, чтобы высадиться в Торсхавне и исчезнуть под дождем, даже не представляя зачем, а потом улечься на автобусной остановке и предоставить Хавстейну заняться мной. Потому что это он первым меня нашел. Только и всего.
А затем я решил, что так продолжаться не может.
Решил, что мне надо идти.
Поэтому я иду в гостиную, ко всем остальным.
Переставляя ноги.
«Джонни Уокер».
Я прошел на кухню, старую фабричную кухню на Гьогве. Первым я увидел Хавстейна. Он стоял у разделочной стойки, все такой же тучный, как я запомнил его с первых проведенных здесь часов — и было это много дней, а может, и недель назад. Сейчас он стоял и резал помидоры, тут мы в первый раз едим помидоры, они жутко дорогие, и в магазинах здесь очень мало овощей, чтобы достать их, надо ехать в Торсхавн. Хавстейн пританцовывал, да еще и напевал себе под нос. Из гостиной доносились «Кардиганс», из колонок рвался голос Нины Перссон и овации слушателей. Когда я шагнул на кухню, Хавстейн меня заметил. Отложив помидоры и нож, он раскинул руки, подошел ко мне и крепко, по-фарерски, обнял. Я сильно сбавил в весе, поэтому прямо-таки утонул в его объятиях. Потом он подтолкнул меня, и я двинулся мимо большого обеденного стола, распахнутых окон с видом на море и слепящее солнце. Помню, было холодно, но погода тогда впервые установилась сносная, тучи почти рассеялись, и я увидел, каково здесь на самом деле при дневном освещении. Увидел вздымавшиеся тупые, практически округлые горы, вокруг ни единого деревца, зеленая трава ковром стелилась по горам и холмам, напоминая мне о маленькой модели железной дороги, которую отец хранил в подвале и на которой крошечные горы были покрыты войлоком. Два цвета — вот и весь вид из окна. Зеленый и голубой. Голубое небо. Голубое море. Зеленая земля. Хавстейн втолкнул меня в гостиную, большую комнату, где я провел первый вечер, когда приехал. Сейчас прямо посреди гостиной неумело танцевали две девушки, абсолютно не попадая в такт мелодии. Увидев меня, они прекратили танцы и подбежали ко мне. Если собрать все объятия за прошлый год, то их будет меньше тех, которыми меня наградили в тот момент. Я утопал в волосах и руках, а пахло от них очень приятно — духами, травой и мягкими шампунями.
Вот так мы и познакомились.
С Анной.
И с Эннен.
Так я наконец-то узнал Хавстейна.
В тот день было положено начало.
В тот день я начал ходить.
Помню, я позавтракал. Апельсиновый сок. Бутерброды. Аппетит ко мне еще полностью не возвратился, но теперь дела шли уже значительно лучше, я съел бутерброд, запил его соком, как же давно это было. Я не особо много разговаривал, говорили остальные, я только отвечал на вопросы. Потом съел еще бутерброд, отчего мне сразу стало легче. Еще спускаясь по лестнице, я боялся, что за мной будут непрерывно наблюдать, но за завтраком я заметил, что этого не происходит. Пациентом я не был. И ни на что не пригодным довеском тоже не был. Лишним я себя не чувствовал. Я был на своем месте. Так мне казалось. Меня будто ждали здесь.
Мы вместе позавтракали. Окна были открыты, и из них тянуло. Остальные разговаривали со мной по-датски или по-норвежски, на каком-то смешанном языке, фарерско-датском, и я понимал их, мы нашли общий язык, а когда мы поели, Хавстейн поднялся в свою комнату и вернулся оттуда с биноклями в руках.
— Готов? — спросил он меня.
— К чему?
— К поездке.
— Куда?
— Куда-нибудь. Ты же не вечно будешь взаперти сидеть, правда?
Девушки захихикали, но Хавстейн шикнул на них.
— Не буду, — смутившись, ответил я, а потом поплелся наверх за курткой.
В тот день мы объехали все Фареры по прорезанным в горах дорогам, исколесили острова вдоль и поперек. У Хавстейна была красная «субару», вся проржавевшая от ежегодных двухсот восьмидесяти дождливых дней. Вела машину Эннен, рядом с ней, на переднем сиденье, сидела Анна, а мы с Хавстейном уселись сзади. Через горы мы поехали на запад, до Эйди, где свернули в сторону, остановились на маленьком плато у разворота и вышли. Здесь, на вершине, региональное управление распорядилось поставить подзорную трубу, бесплатный стационарный телескоп, я повернул его к морю и взглянул в него. Было почти видно Америку, наверняка это была она. А потом я повернул телескоп к суше и направил на западную оконечность Стреймоя, где в море вдавались две большие острые скалы.
— Это Рисин и Келлингин, — сказала Эннен, указывая на скалы. — Тролль и ведьма, — добавила она по-норвежски с таким забавным акцентом, какого я никогда прежде не слышал. — Самые популярные туристические символы. С тех пор, как люди заимели фотоаппараты, каждый дурак, который приезжает сюда, считает своим долгом их щелкнуть.
Я уставился на скалы, практически отполированные блеском фотовспышек, и, как и полагается туристу, начал пялиться по сторонам. Затем мы поехали вниз, до Ойрабакки, а потом перебрались с Эйстероя через мост на Стреймой, и дальше, до Торсхавна, вдоль подножия гор, по ровным дорогам, мимо поросших травой холмов и темно-коричневых скал. Мы будто двигались по зеленой пене, по Морю Сырости, лишь изредка нам встречались небольшие деревеньки, большие и маленькие группки домиков, выкрашенных в разнообразные цвета, с синими, розовыми, черными и ярко-желтыми стенами. Население таких деревенек составляет от сорока до пятисот человек, в каждой обязательно есть церковь, а при выезде — автозаправка «Статойл» и грязноватое кафе, где все желающие могут присесть на стул из кожзаменителя и съесть французский хот-дог за десять крон. А время от времени над покатыми вершинами круглых гор вспархивают стайки птиц — чаек и тупиков, а потом, паря прямо над самой поверхностью воды, они исчезают в изгибах заливов. И еще овцы. Овцы. Овцы. Овцы в горах.
От этой поездки на машине по Фарерам у меня появилось совершенно необыкновенное чувство. Все равно что побывать в Монако и поучаствовать там в розыгрыше Гран-При в гонках на легковых и грузовых машинах по одной-единственной общей трассе. Уехать отсюда ну вроде как невозможно. Поэтому когда останавливаешься на автозаправке и покупаешь карту, тебе остается лишь изображать невозмутимость, причем не только когда ты видишь, что на клочке бумаги размером 15 на 20 сантиметров уместилась вся страна, а, скорее, когда ты видишь дороги. Чаще всего два места соединяет лишь одна дорога. Лишь одна дорога ведет из Эйду в Торсхавн. И все рванули именно по ней. Быстрее, быстрее. Именно на этой трассе я понял, что обгоняют здесь не из-за спешки, просто это такой экстремальный спорт, тренировка на максимальную скорость. А открыв окно и впустив в салон влажный ветер, ты слышишь, как дорожные знаки беспомощно бормочут:
80 километров в час. 80 километров в час.
Нупожалуистапожалуйстапожалуиста.
Эннен была среди нас самой младшей, на два года младше меня. Водить в таких условиях она привыкла. При виде огромных трейлеров, идущих на обгон у самого въезда в узенькие туннели, я закрывал глаза и ждал, что вот сейчас произойдет столкновение, меня отбросит в сторону, прижмет к боковому стеклу, ремень сдерет кожу на груди, раздастся скрежет покореженного металла, высекая искры, трейлер врежется в стену туннеля, и в последние секунды, когда наши руки и ноги уже будут торчать в разные стороны из-под обломков, мы почувствуем запах бензина и увидим искры. А потом я представлял, что вот играет унылая музыка и тела наши раскапывают из-под обломков. Эннен, похоже, ничего подобного и в голову не приходило, даже когда машина, которая была за двести метров позади нас, вдруг разгонялась до ста пятидесяти в час и шла сначала на обгон четырех-пяти машин позади, потом проносилась мимо и вдруг резко сбавляла скорость перед въездом в очередную деревеньку. Эннен тогда тоже мгновенно притормаживала, лишь чудом не съезжая в кювет, при этом она поворачивалась ко мне и размахивала руками, указывая на что-то из окна.
«Во-он та деревня называется Свинайр», — говорила она.
Или: «Смотри, а вон там, внизу, типичные рыбацкие лодки».
Или: «Смотри, горы с абсолютно круглыми вершинами».
Или: «Посмотри на этот залив».
Смотри. Смотри. Смотри. Смотри. Смотри. Смотри.
Вот так все и было. Хавстейн. Анна. Эннен. И я. Был август 1999-го, ясный солнечный день и «субару» на пути в Торсхавн.
Повсюду, на каждом километре пути, я видел цветочные букеты — эдакие полуувядшие веники, привязанные к дорожным столбам. Анна первой обратила на них мое внимание, а потом я уже и сам их замечал. «Видишь эти букеты?» — спросила она. По такому поводу Эннен даже единственный раз сбавила скорость, чтобы я понял, о чем речь. Три букета — два совсем рядом, а третий метров через пятьдесят — шестьдесят, на обочине. «Это в память о тех, кто разбился в дорожной аварии, — объяснила она, — если в семье кто-нибудь так погиб, тогда каждый год, в июле, семья относит букет на то место, где произошла авария». Эннен опять прибавила скорости. Полузасохшие букеты встречались в самых невероятных местах.
— Не может же быть, чтобы уже в этом году погибло столько народу, — возразил я.
— Это не только за тех, кто погиб в этом году. Многие умерли лет десять — пятнадцать назад.
Обгоны. Скользкие трассы. Горы.
Я вспомнил ночь, проведенную на автобусной остановке, где меня подобрал взявшийся ниоткуда Хавстейн. Я ведь тогда долго пролежал лицом вниз, в темной одежде, и заметить меня было почти невозможно. Я не понимал, где нахожусь, и был почти не в состоянии передвигаться. Мне подумалось, что цветы совсем не похожи на людей.
Хавстейн первым рассказал о себе — и произошло это в тот день, когда мы колесили по дорогам, проезжая сквозь туннели, и скользили по берегам фьордов. Хавстейн стал седьмым по счету директором Фабрики, он был почти на семнадцать лет старше меня, ему было где-то около пятидесяти. Родился он в Торсхавне, в восемнадцать лет перебрался в Данию, в Орхусе у него жили дядя с тетей, и он сначала хотел уехать туда, но осел в Копенгагене, начав изучать медицину, а потом стал работать в Государственной больнице. Между дежурствами он продолжал учебу, приступив к углубленному изучению психиатрии, а под конец получил постоянную работу в психиатрическом отделении. Иногда у него появлялись подружки, была, например, одна датчанка, которая уговаривала его вместе переехать в Техас, уж неизвестно зачем. А потом он долго жил с девушкой из Упсалы, подумывая жениться и обзавестись себе спокойно-мирно семьей, машиной, домом, мебельными каталогами в почтовом ящике, но ничего из этого не вышло. Как-то раз в начале восьмидесятых, когда он все еще жил в Копенгагене, его осенило вдруг, что пора возвращаться на Фареры. Летом 1981-го Хавстейн, к радости родителей, вернулся в Торсхавн и изъявил желание основать долгосрочный реабилитационный центр. Он начал подыскивать подходящее помещение и в конце концов нашел в Гьогве фабрику общей площадью в шестьсот квадратных метров, которая к тому моменту уже два года пустовала. Получив государственную субсидию и финансовую поддержку от отца (который сколотил более чем приличное состояние на ловле рыбы), Хавстейн нанял рабочих и начал перестраивать Фабрику. Стараниями электриков, плотников, столяров, водопроводчиков, обойщиков и грузчиков на втором этаже появились семь жилых комнат и отдельная комната с кабинетом для Хавстейна. На первом же этаже, где высота потолка составляла добрых четыре метра, сделали большую овальную кухню, дверь из которой вела в гостиную, занимавшую сто десять квадратных метров. Средства на перепланировку Фабрики уже начали иссякать, недоделанными остался гигантский коридор при входе (Хавстейн не знал, что с ним можно сделать), две старых раздевалки на первом этаже — там было решено оставить все как было, и, собственно, сердце фабрики — цех, самое просторное помещение. Хавстейн убрал оттуда старые станки, перекрасил стены, заказал большие новые рабочие столы и повесил лампы поярче, потому что в голову ему вдруг пришла мысль, что цех еще пригодится — его можно будет использовать для производства. Хавстейну не хотелось, чтобы жильцы Фабрики просто сидели, пялясь в стенку, ведь они могут создавать что-нибудь, не понятно, правда, что именно, но что-нибудь да могут. В этом цеху мы потом мастерили забавные фигурки зверьков, торфодобытчиков и всякие другие сувениры, за которые, как нам казалось, туристы согласятся выложить деньги. Не знаю, кому первому пришла в голову эта идея, но, думаю, Хавстейну или Эннен, в любом случае эти двое были настоящими энтузиастами, они действительно любили работу и старались изо всех сил. А уж Эннен-то вообще столько мастерила, что постепенно на полках скопились целые стада деревянных овец, оклеенных шерстью. Впрочем, вернемся к Хавстейну. К осени 1982-го появились первые жильцы. Некоторые из них только что выписались из больниц, но были и такие, кто вышел уже за несколько лет до этого, но так и не научился жить самостоятельно. В первый год народу было столько, что Хавстейну даже пришлось нанимать дополнительных помощников, но вскоре жильцов поубавилось, многие просто приходили и уходили, видимых улучшений у них так и не наблюдалось. А к концу восьмидесятых один за другим появились они — Палли, Анна и Эннен.
Наша машина мчалась к Торсхавну, солнце с каждой минутой светило все ярче и ярче, как оно и должно светить, но как никогда не светило в этих краях. К такой погоде здесь не привыкли, и когда мы въезжали в поселки, это становилось особенно заметно по людям в футболках, гуляющим по улицам и сидящим у моря. Так бывает в августе — когда, раздевшись, надеешься, что до самого октября и не вспомнишь про теплую одежду.
В машине было жарко. Анна опустила окно со своей стороны, и в салон ворвался поток свежего воздуха.
— Ничего, что я немного приоткрою окно? — спросила она.
— Ну конечно.
— Точно?
— Да, разумеется, так даже лучше будет.
— Ты как только замерзнешь, скажи, ладно? Я сразу закрою.
— Да нет, все в порядке.
— Ты правда не мерзнешь?
— Да нет же.
— Но ты только обязательно скажи, если замерзнешь, хорошо?
Повернувшись к Анне, Эннен сказала:
— По-моему, ему нормально с открытым окном.
— Я просто хочу, чтобы он знал: если он замерзнет, достаточно будет сказать.
— Но он же не замерз. Так ведь? — спросила Эннен, посмотрев на меня.
— Нет-нет, я не замерз.
— Вот я и не хочу, чтоб он замерз. Бедняга, ему же просто нужно немного внимания, — сказала Анна.
— Да мне, наоборот, даже жарковато, — сказал я.
— Я могу кондиционер включить, — предложил Хавстейн, — тогда сквозняка не будет.
— А разве он работает? — поинтересовалась Анна.
— Нет, по-моему. Но я все равно могу попробовать.
— Мне тогда закрыть окно?
— Да нет, пусть тоже будет открыто.
— Но кондиционер же тогда не заработает…
Тут у кого-то запищал мобильник.
— Анна, это твой? — спросил Хавстейн.
— Сейчас, секунду…. Да, мой.
— Это Палли?
— Да.
— Заедем за ним?
— Он заканчивает в три.
Хавстейн посмотрел на часы:
— Ладно, тогда мы сначала заедем в Коллафьордур и заберем его, а потом в Торсхавн, идет?
Анна и Эннен:
— Идет!
— По-моему, сквозняк сильный, — сказала Анна, — у нас окно открыто и кондиционер включен.
— Выключить кондиционер? — спросил Хавстейн.
— Да, пожалуйста. Чтобы никто не замерз.
— Ой, господи, да угомонитесь же вы оба, — воскликнула Эннен и, повернувшись ко мне, закатила глаза. В ответ я улыбнулся и пожал плечами.
Последний, Палли. Палли был на работе, погружал и выгружал рыбу с русских судов, которые несколько раз в месяц заходили во фьорд. В большинстве своем это были старые посудины, которые только чудом не разваливались на куски, с трудом верилось, что эти корабли все еще держатся на плаву, и совсем не хотелось верить, что их отправляют в рейсы. Ржавчина разъела им носы, проползла по бортам, перебралась на палубы и залезла прямо в рубки, так и норовя добраться до самой капитанской физиономии, а потом сожрать и весь оставшийся экипаж. Мне подумалось, что как-то печально, должно быть, работать на таких вот кораблях, ведь каждый рейс может стать последним. Когда они отходят от причала, вполне вероятно, что больше никогда не вернутся, что корабль их просто-напросто затонет где-нибудь, тихо и незаметно, и шуму от него будет не больше, чем от утопленного котенка, а единственным доказательством их существования станут маленькие некрологи в русских газетах, которые появятся недели спустя.
От Стреймоя мы поехали на восток, вдоль пролива, практически разрезающего Фареры пополам. Мы слушали радио, радиостанцию «Рас-2», Анна и Хавстейн ее очень любили, я так до конца и не понял почему. Программу вела девушка — вроде бы вполне приятная, милая, я так и представлял ее себе — с тоненькими, как мышиные хвостики, косичками, она приходит каждое утро в радиостудию или куда-нибудь еще, приходит туда каждое утро, кроме пятниц. Слегка растрепанная, она садится на свое маленькое рабочее место, надевает большие наушники, начинает говорить в микрофон и ставить пластинки — и получается самая невообразимая музыкальная мешанина, сначала это «Уэм», а его сразу сменяет «Перл Джем» или что-нибудь в этом духе, этакая местная Madonna of the Airwaives[45] — ей словно даже движение подчинялось. Мы проехали через центр Коллафьордура и свернули к причалу, где разгружались ящики с русскими консервами. Поджидая нас, Палли стоял рядом с упаковочной. Увидев машину, он помахал рукой, и Эннен несколько раз бибикнула в ответ, а потом мы подъехали к нему и притормозили.
Палли был уроженцем Коллафьордура, деревеньки, которая располагалась достаточно далеко от Торсхавна, чтобы ее жителей не считали городскими, но достаточно близко, чтобы до них доползали некоторые распоряжения столичных властей. Именно там Палли и родился, и там ему суждено было прожить всю свою жизнь, за исключением коротких вылазок в порт. Лишь спустя довольно долгое время я понял, что порт здесь означало Торсхавн. Это вроде как местный сленг. Едешь в порт — значит, едешь в столицу. Ко всему прочему, узнать Палли оказалось труднее всего, в отличие от остальных он приоткрылся для меня лишь недели спустя, а до этого все его разговоры со мной сводились к односложным фразам. Вспоминая его, я вижу прежде всего руки. Сильные. Руки сварщика. А когда, открыв дверцу машины и едва взглянув на меня, он буркнул в мою сторону «привет» и молча плюхнулся на сиденье, мне подумалось, что он неплохой парень, хотя он и сказал-то всего ничего. Такое уж у меня сложилось впечатление. Таким Палли и оставался — разговаривал он неохотно, только если его напрямую о чем-то спрашивали или если ему самому совсем уж не терпелось о чем-то узнать. Наверное, поэтому он сразу же мне и понравился. Я словно почувствовал, что Палли — на моей стороне. С Анной он был более разговорчивым, чем со всеми остальными, казалось, что общаться с ней ему проще, и ей он рассказывал больше всего. Я так и не понял, как ей это удавалось, что она для этого делала и говорила. Когда я присоединился к ним, Анне было тридцать четыре года, она родилась в Мидвагуре, по ее словам, это одно из самых подходящих мест для забоя гринд.[46] Она была низенькой, чуть коренастой, с длинными темными волосами, глаза ее были большими и ласковыми, а носик — совсем крошечным. С таким лицом ей очень подошло бы вести по телевидению какую-нибудь детскую передачу. Однако то, что мне потом о ней рассказали, совсем не вязалось с образом ведущей детских передач. Из всех она единственная побывала в Норвегии — работала там в рыбопитомнике. Она до сих пор тем же самым и занималась, работала полный рабочий день и по вечерам возвращалась в Гьогв вместе с Палли.
Мне казалось, что время летит очень быстро. Я дожил почти до тридцати лет и нажил всего пару друзей, а все остальное человечество как-то обходил стороной. Или может, это они меня обходили. А сейчас было похоже на то, что всего за несколько часов я насобирал новых друзей — двух женщин и двоих мужчин, я почувствовал, что больше не сопротивляюсь и почти готов броситься им на шею.
Забрав Палли, мы доехали до заправки на холме, нашли местечко, остановились и зашли в магазин. Внутри вокруг игрального автомата уже топталась кучка шоферов-дальнобойщиков. Их ботинки с деревянными подошвами гулко стучали по полу. Каждый дожидался, когда до него дойдет очередь сыграть, а когда кто-нибудь выигрывал и автомат выплевывал монетки, раздавались радостные возгласы. Здесь стоял терпкий запах кофе и сосисок, а продавщица, словно одурманенный этой вонью радостный зомби с какой-то приклеенной улыбкой, стояла за кассой и раскачивалась туда-сюда под звуки радио. «Рас-2». Мне хотелось пить, поэтому я подошел к холодильнику и, изучив незнакомые названия на этикетках, вытащил бутылку газировки. Датская «Веселая Кола». В магазине повсюду висели плакаты с рекламой этого знаменитого прохладительного напитка фабрики «Фарейа Бьор». Хорошее на-з-вание. И я обрадовался. Впервые за долгое время.
Анна подошла к прилавку и попросила пять французских хот-догов, и приклеенная улыбка, словно в каком-то специальном закусочном вестерне, выстрелила в сосиски горчицей из тюбика. Чпок-чпок-чпок! Чпок! Горчица улеглась на сосиски, и все та же приклеенная улыбка отдала нам хот-доги. Пока Хавстейн расплачивался, Эннен и Палли подошли к газетной стойке и стали рассматривать заголовки. Самым естественным для меня было бы сейчас подойти к прилавку, расплатиться, выйти с газировкой на улицу и ждать остальных у машины. Однако раз я подошел к Эннен и Палли, я протиснулся к газетам, вытащил одну и начал читать вслух. То есть не совсем читать, просто произносить непонятные слова. После того, как я зачитал отрывок, который, по-моему, был о нефтедобыче в море, Эннен засмеялась и сказала: «Да уж, произношение тебе так сразу не освоить». Заглянув мне через плечо, Палли зачитал своим низким голосом тот же отрывок: какая-то звуковая мешанина, похожая на датский с американским акцентом. А потом Анна, стоявшая возле кассы, крикнула, что сосиски готовы, и мы направились к выходу. Я подошел к прилавку и положил десять крон за газировку.
— Пепсиккола или кокаккола? — спросила продавщица.
— Кокаккола, — ответил я, подхватил бутылку и вышел. Выходя, я попытался пошире открыть дверь, чтобы свежий воздух добрался и до продавщицы, стоявшей там в ожидании заказа новой порции хот-догов, или в ожидании лучших времен, или, может, старых добрых деньков.
Сидя в машине, мы ели сосиски, совсем как дети в походе. Палли рассказывал, как идут дела на кораблях, и отвечал на вопросы, которые ему задавала Анна. Окна мы опустили — денек выдался неслыханно теплым, наверняка больше двадцати градусов, а такое тут нечасто бывает. Здесь, как правило, облачно и так сыро, что окна в машине нужно держать чуть приоткрытыми, чтобы согнать изморось, покрывавшую окна всего за пару минут. По всей стране частенько расползался туман, сливавшийся с низкими облаками, и стоило на тридцать метров подняться в горы, как мы уже исчезали в белоснежной пустоте, и не то что ограждения — даже рук было не видно. И наверное, это и осталось самым ярким из моих воспоминаний о том времени: эти наши долгие поездки сквозь туман, когда сидишь в машине, не можешь ничего разглядеть, и только шорох шин по асфальту подсказывает, что ты все же движешься, а не стоишь на месте. Но тогда, в тот день, светило солнце, и я снова встал на ноги и попытался идти, стараясь не думать о Хелле, о том, что моя квартира в Ставангере опустела, машина моя по-прежнему стоит там, а меня уже никто не ждет. Я старался не думать о том, что у меня больше нет денег, чтобы прокормить себя. О том, что, когда я вернусь домой, я не приеду больше на работу раньше всех, не сяду в саду и не буду дожидаться остальных. Я изо всех сил старался не думать об этом, и у меня более или менее получалось. Но иногда я будто чувствовал какое-то покалывание, словно напоминание вонзалось спицей в мой позвоночник: ничего подобного, все по-прежнему плохо, и ты рано или поздно это осознаешь. По-настоящему осознаешь.
Из Коллафьордура мы отправились в Торсхавн. Проехав по основной трассе, мы уже приближались к туннелю, когда Хавстейн наклонился вперед и шепнул что-то на ухо Эннен, после чего та резко сбавила скорость на повороте. Молча повернувшись, Хавстейн кивнул мне, и я начал озираться по сторонам. Сперва я не понял, о чем это он, поэтому сначала я просто высматривал что-нибудь достойное внимания. Ничего. Горы. Фьорд…
— Ты это помнишь? — спросил он, показав на маленький пятачок по правую сторону от дороги.
— Что именно? — переспросил я.
Эннен еще немного сбавила скорость, но мне по-прежнему было непонятно, что же я должен увидеть.
— Ты здесь уже бывал.
— Да ну?
— Здесь я тебя той ночью и нашел.
И тут я узнал это место. Автобусная остановка с длинной скамейкой. Дорога. Дорожные ограждения. Сейчас все вокруг казалось таким красивым. Может, немного скучным, но все равно красивым. Место как место. Так это здесь я лежал, уткнувшись лицом в стену. Это здесь я валялся, не отдавая себе отчета в том, где нахожусь. Здесь мне хотелось исчезнуть и никогда не возвращаться. Я тут почти утонул. Превратился в цветы. Эннен опять прибавила скорости, и я повернулся, провожая взглядом остановку, пока та совсем не исчезла из виду. Вынырнув из туннеля, мы повернули к городу, оставив слева Калдбаксботнур и Калдбаксфьорд. Окна были опущены, и в салон врывался ветерок, разгонявший дым сигарет Палли, который сидел на заднем сиденье, зажатый между мной и Хавстейном. Дороги казались мне знакомыми, хотя пейзаж здесь был довольно однообразным: зелень и сырость, так что мне захотелось прилечь где-нибудь на холме. Трава была очень влажной, и казалось, водой с нее можно напиться, втянуть в себя ее влагу, не думая о том, что она может оказаться грязной, со ртутью и отходами тяжелой промышленности. Мне захотелось лечь там и дождаться дождя, который непременно начнется, вопрос только — когда.
Мы доехали до городского центра, оставив позади полицейское управление на улице Йонаса Бронксгета. Не знаю, как точнее выразиться, но я чувствовал, что уже бывал здесь раньше, уже ходил по этим улицам, мы были здесь вместе с Йорном, Роаром и той, другой, группой. Это с ними ходил я по этим дорогам, и было это в первый день по приезде. Тем не менее из этой истории я себя стер и так и не смог вспомнить ни чем мы занимались, ни что из этого всего вышло. По Эфферсеегета мы доехали до супермаркета, Хавстейн пошел за сигаретами, а я воспользовался случаем и заскочил в банк. В кошельке у меня по-прежнему лежали пятнадцать тысяч норвежских крон, неизвестно как там оказавшихся. А операционистку в банке это и вовсе не интересовало. Она послушно и умело разменяла деньги, выдав мне взамен фарерские купюры, а я, поблагодарив ее, засунул их в кошелек и вышел на улицу, к остальным.
Потом мы отправились в «Кафе Натюр».
Находилось «Кафе Натюр» на Аарвегур, 7, недалеко от порта. Оно было неплохое, часть посетителей составляли пропитые морские волки, наваливавшиеся прямо на столы, отчего получались вроде как естественные перегородки между обычными молодыми завсегдатаями кафе. По вечерам же «Кафе Натюр» превращалось в самый что ни на есть модный бар в Торсхавне, куда можно было зайти послушать какую-нибудь молодую группу, выступающую на крошечной сцене посреди зала. Располагалось кафе в старом темно-коричневом деревянном домике, и интерьер его тоже был вроде как коричневым. Или зеленым. В зависимости от того, как посмотреть. Крыша домика поросла травой, под которой кафе будто пыталось спрятаться. Внутреннее же убранство «Кафе Натюр» отличалось тем, что невозможно было понять, действительно ли все сделано из естественных материалов, или же это просто-напросто пластмасса и стекло. Перекладины на потолке и стенах издавали такой удивительны звук, что казалось, об этот звук можно удариться, и такое порой действительно случалось. С другой стороны, этот звук никого не напрягал. Все время, что стоял этот дом. А стоял он долго. На втором этаже людей было не так много, там, в зале, стояло всего несколько привинченных к полу столов, а перила не давали фарерцам сваливаться на первый этаж, зато предоставляли возможность посетителям с первого и второго этажей переговариваться или, если те, со второго, были еще в состоянии, перекрикиваться и махать руками.
Нам достался столик у лестницы на втором этаже, вечер только начинался, до полуночи здесь было довольно безлюдно, и мы беспрепятственно проходили мимо столиков, подходили к бару и брали пиво — «Фарейа Бьор», и только его. По-моему, оно мне понравилось. Тот вечер я запомнил лучше всего: как мы в первый раз сидели в «Кафе Натюр», я все еще чувствую усталость, меня по-прежнему охватывает паника и начинает тошнить, это будет продолжаться несколько месяцев, такое за один день не проходит, однако я уже замечаю, что теперь реальность ускользает от меня все реже и реже. Теперь я могу немного расслабиться, напряжение в плечах исчезло, мне кажется, дело пойдет на лад и все образуется. Так оно и случилось — кусочки, из которых состоял мир, вновь начали складываться, и вовсе не оттого, что я вдруг наклонился и начал собирать все рассыпавшиеся по полу кирпичики, нет, но, может, оттого, что отчаяние жило во мне уже долгие недели, и все это время я пытался отказаться от безнадежных попыток починить самого себя, привинтить все выпавшие гаечки, не имея чертежа, и приклеить все отвалившиеся кусочки. Оттого, что долгими неделями я ночи пролеживал в кровати, просиживал у открытого окна и так, медленно, но верно, пытался слепить новые кирпичики и сложить новую картинку. Однако в тот первый вечер я понял, что новые кирпичики уже слеплены и что они лучше старых. В тот вечер я подумал о «Де Лиллос»:[47] ты что, пытаешься найти самого себя? Но вдруг тот, кого ты найдешь, тебе не понравится, а придется прожить с ним всю жизнь?
Мы просидели в «Кафе Натюр» до поздней ночи. Пили пиво, разговаривали, я до этого в жизни столько не говорил, у меня даже в горле запершило, но рассказывал я в основном правду. Слова хлынули из меня потоком, наверное, в тот вечер я слишком уж много болтал, но мне было все равно, я только отметил, что мне нравится сидеть вот так и рассказывать и что все, что я рассказывал, было довольно занятным. Я говорил о Ставангере, о Хелле, о своем пении на рождественском балу много лет назад, о том, как мы с ней начали встречаться, как я забросил снежок на школьную крышу, во второй раз в жизни, хотя до этого я много лет пытался, каждый раз, когда во время снегопада проходил мимо школы. Я рассказал, как мой отец ждет научных журналов и боится, что вот-вот надо будет выплачивать крупные страховые суммы, как мама занималась синхронным плаванием и помогала детям, о Йорне и Роаре, о полете на Луну и Олдрине, вечном полузабытом номере два, рассказал о зонде «Вояджер», который все дальше и дальше удаляется во Вселенную и несет послание от землян кому-то неведомому, рассказал о поездке в Кьераг и о бесследно исчезнувшей работе. Они сидели вокруг — Анна, Эннен, Хавстейн и Палли, такие изумленные, будто не верили, что я, наконец, заговорил, а может, мне самому не верилось, и тем не менее, осипший и счастливый, я говорил в надежде, что теперь меня уже не остановить, что бар никогда не закроется и нам не придется вставать и ехать домой. Я говорил, а они спрашивали, про Ставангер, например, потому что Анна туда много лет назад ездила на конференцию по выращиванию семги, что ли, уж не помню точно. И я рассказал о нашей группе, о том, что «Перклейва» и «Культа Битс» должны были выступить на концерте здесь, на причале, а Анна и Эннен сказали, что были на этом концерте, видели Йорна и что сыграли они хорошо, действительно хорошо, и звук был замечательным. И я обрадовался, обрадовался за Йорна, обрадовался, что они и без меня обошлись и что цепочка не разорвалась, хотя ее слабейшее звено не выдержало. А Эннен спросила меня о Хелле — как та выглядела, что любила, как она меня бросила и что я чувствовал. Я умолчал только о том, что не знаю точно, как оказался в ту ночь на Хвитансвегуре. И почему лежал прямо посреди дороги. И что почти ничего не помню из того, что произошло на корабле по пути из Бергена.
Когда перевалило за полночь, в баре вдруг началась настоящая суматоха. Сюда словно устремился весь город, все будто посмотрели на часы и решили, что пора этот бар брать штурмом. Всего за несколько минут туда набилась тьма народу, и нам пришлось теснее придвинуться к столу и покрепче вцепиться в кружки, чтобы пиво не расплескалось. Была пятница, и одна из местных групп, собравшись покорить мир, уже установила оборудование и понажимала на все кнопки. А потом женщина начала петь. «Крэнберрис». Звучало это как помесь Бьорк и «Моторсайко», но пела она красиво, пританцовывая на сцене и вскрикивая в микрофон. Она казалась мне красивой и доброй, но, с другой стороны, в тот вечер мне все казались ангелами. Хавстейн наклонился ко мне.
— Слейпнир, — сказал он.
— Чего? — Из-за шума я не расслышал.
— Они называются «Слейпнир», — повторил он, — потрясающе играют.
— «Слейпнир»?
— Ага.
Больше мы не разговаривали: грянула взрывная версия «Я наложил на тебя заклятье» Мэрилина Мэнсона, в зал будто ворвался вихрь, со второго этажа полился пивной дождь, а над баром под оглушающий шум замигали лампочки. Анна и Эннен вскочили со стульев и, протиснувшись сквозь толпу, подобрались поближе к сцене, где нашли крошечное местечко и стали танцевать, совершенно не попадая в такт — совсем как тогда, на Фабрике, — но здесь это смотрелось даже почему-то красиво. Или может, это из-за пива. Так сразу и не скажешь. Кивая мне, Хавстейн улыбался, а Палли сидел по-прежнему спокойно и неподвижно, как индейский вождь, тихонько постукивая в такт по столу, курил в духе героя вестернов и смотрел на Анну и Эннен, исчезающих и появляющихся в толпе других посетителей, толпе, которая из танцующих людей мало-помалу превратилась в пульсирующий комок, такой разгоряченный, что пар оседал на окнах и в кружках, а я снял свитер и остался в белой футболке. К моему удивлению, оказалось, что на ней большими синими буквами написано: «Please Take Me Home».[48]
Из «Кафе Натюр» мы поехали в ночной «Клуб 20», рядом с кинотеатром, где все происходило как в каком-то ускоренном кино, и, распрощавшись в половине пятого, отправились домой. В ушах у меня звенело, и я с трудом разбирал, что мне говорят. Обращаясь ко мне, Анна и Эннен старались произносить слова громче и отчетливее, когда мы шли по городу, они с двух сторон поддерживали меня, а Хавстейн с Палли шли позади. Последний месяц я плохо питался, да вообще почти не ел, поэтому мне казалось, что земля начала крутиться в другую сторону, и Анне с Эннен пришлось поддерживать меня всю дорогу до супермаркета, рядом с которым мы оставили машину, а потом меня затолкали на заднее сиденье, где я уткнулся лицом в стекло, отчего на нем остались отпечатки моих щек и губ. Машину вел Хавстейн. Он никогда не пил пиво — только газировку и воду. Так уж оно сложилось. Доктор Драйвер.
Мы поехали домой, и я был счастлив.
Безумно счастлив.
Я в любое мгновение мог взорваться.
Подходящий момент для снимка на пленку «Кодак».
Однако я не заснул. По пути домой мне удалось не заснуть, я открыл окно, потому что было еще не очень холодно, и, положив голову на стекло, смотрел на темные горы и по-прежнему ясное небо. И все в этой крошечной стране казалось мне бесконечно большим. Со всех сторон меня обступали ровные, поросшие травой горы, слышалось пение ночных птиц, которые, может, летели из Норвегии, заблудились и думали теперь, что они в Исландии или, в худшем случае, в США. Мы проезжали мимо деревень, и я слышал, как волны разбиваются о причал, и смотрел на скалы у дороги. Мимо промчалась пара машин, на мгновение ослепивших меня светом фар, а потом исчезнувших позади, и вновь единственным живым звуком остался шум нашей «субару».
Дорога до Гьогва, который находился практически на другом конце страны, заняла целый час. Заняться мне было особо нечем. Сидел я молча. Меня приняли в команду, и я начинал к этому привыкать. За время нашего долгого возвращения в голове у меня мало-помалу прояснилось, технические неполадки были улажены, и одновременно с этим тревога, которую мне целый вечер удавалось сдерживать, вернулась, вползла в окно, и хотя я его сразу же закрыл, она все равно угнездилась у меня в голове, как какая-то мудрая сова, которой приспичило беспрерывно напоминать мне во что бы то ни стало, какая она удивительно умная.
— Спать? Но мы же не пойдем сейчас спать? Так же нельзя! — так сказала Эннен, когда мы, вернувшись домой, растерянно остановились в гостиной и Палли решил пойти спать, он устал, у него был долгий рабочий день.
— Но, Палли, ты только посмотри в окно, — говорила Эннен, — ты разве не видишь, какая погода сегодня? Разве часто здесь такое бывает? Да если и бывает, то только на пару часов! А так — почти никогда! — Я тоже чувствовал усталость, мышцы ныли, в горле першило, но голове спать не хотелось, поэтому я поддержал Эннен, и Анна тоже, ясное дело, завтра ведь торопиться некуда. Хавстейн молча прошел на кухню, чем-то застучал там и вернулся с бутылкой вина, что вызвало бурный восторг. Улыбнувшись, Палли повторил, что устал.
— Я правда утомился, поэтому все же пойду спать, — сказал он и пошел на второй этаж. Я слышал, как скрипят ступеньки, и их скрип показался мне вдруг таким знакомым, будто все эти годы я слышал его каждый день.
Мы сидели в громадной гостиной с четырехметровым потолком, на огромных креслах и диванах, и казалось, что Эннен повсюду: она постоянно вскакивала и подбегала к музыкальному центру, ставила нам диски «Кардиганс» — «Эммердейл», «Жизнь», «Первая группа на Луне» и «Гран туризмо», а некоторые песни, самые лучшие, которые она знала наизусть, прокручивала по нескольку раз. Открыв вино, Хавстейн принес нам три стакана. Я с трудом удерживал голову, она вдруг стала необыкновенно тяжелой, слишком много хлама в ней было набито, и слишком много свежего воздуха. Рядом со мной на коричневом диване сидела Анна. Хавстейн отодвинул в сторону одно из кресел, Эннен то и дело вставала посередине или начинала расхаживать по комнате, подпевая или покачивая головой, в такт или не в такт.
— Тебе нравятся «Кардиганс»? — спросил Хавстейн.
— Да. Неплохо играют, — ответил я.
— Она только их и слушает, верно ведь?
— Ага, — ответила Анна, улыбаясь Эннен, которая стояла у колонок и вслушивалась в голос Нины Перссон, — кроме «Кардиганс» для нее музыки не существует.
— Вроде как музыкальный аутизм, — сказал я.
Анна рассмеялась, да так, что вино полилось у нее из носа и закапало на светлую скатерть, а Хавстейн, прикрыв рукой свой стакан, придвинул его к себе. Не знаю уж, почему это их так насмешило.
Поставив «Нью-йоркскую кукушку», Эннен отошла от проигрывателя и уселась к нам на диван:
— Вы о чем говорили? А, Матиас?
— Человек дождя… — Хавстейн потянулся, не знаю почему; было уже очень поздно или, скорее, рано, — это как посмотреть.
— Хавстейн и Анна говорят, что ты слушаешь только «Кардиганс», — объяснил я.
— «Зэ Кардиганс», — поправила она, — и что из того?
— Да нет, ничего. Просто, по-моему, это немного… необычно.
— Что?
— Ну, что ты слушаешь только одну группу.
— Тебе бы основать свою армию поклонников «Кардиганс», — предложил Хавстейн серьезно, но все еще слегка усмехаясь, как школьница, — ведь фанаты «Кисс» создали же свою.
Эннен разозлилась и, повысив голос и показывая пальцем на Хавстейна, сказала:
— Да зачем мне слушать какие-то другие группы, если все, что мне нужно, есть у этой? Я слушаю только «Зэ Кардиганс», и все, что мне нравится, у них есть, так что в этом плохого? Что плохого, а?
— Ничего, — спокойно ответил Хавстейн.
— Они действительно настолько прекрасны?
— Даже лучше! — И, обращаясь к Анне, добавила: — И неправда, я не всегда слушала только их. Не всегда! Мне раньше нравился Принс. И Майкл Джексон. И «Депеш Мод». И другие. А сейчас остались только «Зэ Кардиганс».
— А как же «Зэ Битлз»? — поинтересовался я.
— Ну, не-ет.
— «Радиохед»?
— Нет.
— А Бьорк?
— Бьорк? — Она задумалась. — Нет, больше нет. Но вот раньше я «Кукл» очень любила.
— Разве тебе никогда не надоедает? В смысле, слушать одни и те же песни?
— Нет. Правда не надоедает. А зачем тогда покупать диски, если ты потом бросишь их слушать. Я люблю «Зэ Кардиганс», и они мне не надоедают.
— Зато нам надоедает, — засмеялся Хавстейн. — Господи, да я не знаю, сколько раз мне хотелось спрятать все эти твои диски!
Эннен в упор посмотрела на него:
— А знаешь, что я тогда сделаю?
— Да.
— А что ты тогда сделаешь? — спросил я.
Анна рассмеялась.
— Мне даже думать об этом страшно, — ответил Хавстейн.
— И правильно, — сказала Анна.
— Знаете, — сказала Эннен, — «Зэ Кардиганс» — это одно, а вот то, что Хавстейн слушает, — это вообще катастрофа!
— Вот именно, — подтвердила Анна, поднявшись. Она подошла к маленькой стопке дисков. — Эннен, ничего, если я?..
— Давай.
Анна выключила музыку и поставила другой диск. Через несколько секунд из проигрывателя полилась какая-то мелодия, напоминающая одновременно танцевальное буги, блюз и кошачий концерт. Я понял, что когда я пролеживал неделями наверху, то слышал вовсе не радио, а эту мелодию.
— Хавстейн, — начал я, пытаясь изображать серьезность, — это что?
— Это Каури П. Настоящий фарерский герой.
— Кари?
— Каури. Ты же слышишь — голос мужской. Каури, как… ну да, Коре.
Эннен сидела на диване, улыбалась и качала головой. Потом крикнула Анне:
— Еще раз!
И Анна опять поставила ту же песню. «Народные напевы».
— Поставь ту, с саксофоном, — крикнула Эннен.
— «Sangur ит flyting»?[49]
— Ага!
Анна поставила другую песню, которая началась очень грустным проигрышем на саксофоне, это была баллада о том, как бедных прогнали из дома, а на их место въехали богатые, йотом, как меняются времена — times they area-changing,[50] — голос Каури был исполнен печали, плюс ко всему этому гитара на фоне. Чуть получше предыдущей песни, но я бы такое не купил, и просыпаться под это мне не хотелось бы.
— Невероятно красивая песня, — настаивал Хавстейн, — и текст очень правильный. Оглядитесь вокруг! Раньше здесь жило очень много народу, действительно много, а теперь почти никого не осталось. Очень сильный текст.
— Ну, да, пожалуй, — сказала Анна, — только вот петь об этом не стоило.
— Может, ему лучше бы было это продекламировать? — предложила Эннен.
— Или просто-напросто напечатать текст на обложке, а диск оставить пустым, и его можно было бы продавать как приложение к журналам для домохозяек.
Кто-то протянул мне обложку — по-моему, Анна. Альбом назывался «Песни о благополучии». На обложке был средненький коллаж: справа на заднем плане — нарисованные карандашом горы, маленькая, почти невидимая деревенька, а с другой стороны — высокий черный дом. Прямо посредине была нарисована дверь, а из нее высунулся старик-рыбак, держащий завернутую в бумагу рыбу. Он будто стоял на шахматной доске, где игра давно прекратилась, и на поле осталось только четыре пешки. На доску свисала лиана, а за нее цеплялся Тарзан. На стуле в глубине комнаты сидел человек без рук, глаз и рта, а у его ног расположились трое американских солдат, прикрывающих руками глаза. Наверху был изображен ангел, охраняющий их или, может, и вовсе забывший об их существовании. Я подумал, что, вероятно, рисунок для меня что-то значит, но так и не придумал, что именно. Разве только смысл в том, что все пошло наперекосяк и плохо, что никто не сдается.
Мы дослушали песню до конца, саксофон рыдал об ушедших временах, которым уже никогда не вернуться, о том, что жизнь переломилась и ее уже не склеить, а Каури старался из всех сил, вкладывал в пение душу, и у него вообще-то неплохо получалось: вот, мол, народ уехал из деревень в города, а там так мало места — и развернуться-то негде. Каури верил в то, что пел, и на мгновение я тоже начинал верить, но тут опять вмешались жалостливые саксофонные трели и все испортили, потом песня закончилась и началась следующая — опять все те же «Народные напевы», и мы рассмеялись. Хавстейн же с оскорбленным видом отстукивал ногой ритм, пытаясь сдержаться. Он словно убеждал сам себя, что «Песни о благополучии» — хороший альбом, а Каури П. — отличный парень и его вполне можно слушать. Я видел, что Хавстейн будто пытается сам себя перебороть, и мне показалось это немного грустным, что ли, но я промолчал.
Мы раскраснелись и опять принялись за вино, усевшись на диван и придвинувшись поближе друг к дружке. Эннен вновь поставила «Кардиганс», уже давно рассвело, в окна светило солнце, я видел, как парочка сонных тупиков попыталась было осторожно описать в небе круг, но решила, что еще рановато, и улетела досыпать. Я сидел там, вместе с этими людьми, но уже начал отдаляться от них. Я раздумывал о том, что мне делать дальше, сколько я смогу оставаться здесь и что будет потом, когда наступит осень, а деньги у меня кончатся. Возможностей у меня не так уж много. Да и те, что есть, — не уверен, что они мне подходят.
— Мы решили, что тебе можно остаться здесь, — сказал вдруг Хавстейн, и я внезапно испугался. — Я хочу, чтобы ты знал. Мы долго обсуждали этот вопрос. Тебе ни к чему сейчас возвращаться.
— Да мне и не к чему возвращаться, — сказал я. И подумал о Йорне: не считая недель перед отъездом, за последние годы мы с ним практически и не виделись. Пара часов по вечерам раз в месяц — у Йорна свои дела, работы у него было много, жизнь складывалась, как надо, а я не хотел вмешиваться. Родители — они, конечно, будут скучать, отцу будет не хватать наших встреч, он станет расстраиваться, что я больше не захожу, не появляюсь вдруг в дверях, не обсуждаю последние новости, не спускаюсь вместе с ним в гараж, чтобы поменять летнюю резину, не помогаю собрать новый шкафчик из «ИКЕА», который вдруг срочно потребовался маме. Я буду скучать по ним. Странное чувство: мои родители — единственные, кто ждет моего возвращения, им все равно, чем я буду заниматься, их радиостанция будто вечно настроена на волну ожидания.
— Ну, у меня квартира в Ставангере, — вспомнил я.
— Она же почти пустая, — сказала Анна, — может, больше не будешь ее снимать и попросишь кого-нибудь забрать оттуда твои вещи?
Я мог это сделать. Там почти ничего не осталось. Даже сухой корки. Я подумал: может, так и поступить? Рассчитаться с прошлой жизнью, не останавливаясь, а просто вернуться назад, чтобы начать все сначала?
— Может, так и сделаю, — ответил я.
— Оставайся, — сказала Эннен, — мы считаем, тебе надо остаться.
Я немного помолчал.
— То, что в кошельке, это все мои деньги.
Хавстейн посмотрел на Анну. Анна посмотрела на Эннен. Эннен посмотрела на Хавстейна. Они переглянулись. Вилли, Билли, Дилли. А я был Дональдом и ничего не понимал.
— Ты как относишься к овцам?
— Нормально, — ответил я.
— Работа для тебя найдется.
— Правда?
— Мы делаем овец. Сувениры. Из дерева.
— Деревянных овец?
— Ну, так как?
Вот так и стал я рабочим при закрытой Фабрике, оставшись вроде как на отдых. Вот так и стал Матиас сувенирных дел мастером. Деревянные овцы ручной работы с приклеенной шерстью. Одинаковых не было, и поэтому их любили покупать туристы — приезжавшие сюда исландцы, которым хотелось прикупить здесь символ Фарер и доказательство того, что острова по-прежнему на месте, фарерцы, которые боролись, или не боролись, за независимость от Дании, те, кто по ночам размышляет о судьбах мира, и те, кому нет до мира никакого дела. Я делал сувениры так, что даже старуха с косой запросила бы пощады, я приделывал им ноги и выжигал на подставке пожелания, а потом отдавал Эннен, которая наклеивала на них шерсть. Поднимался я рано, завтракал вместе с Эннен и Хавстейном, Анна и Палли уезжали еще раньше, Анна — в Фуннингур, на фабрику, где разводили рыбу, а Палли — на причал в Коллафьордур. Оставшиеся делали овец. Никаких обязательств — чего еще желать? Я спускался в раздевалку, где уже побывал в первый день, и переодевался в рабочую одежду. Это было совсем не обязательно, но зато придавало ощущение того, что мы — настоящие фабричные рабочие. Ну вот наконец-то и пригодился мой рабочий комбинезон. Мы с Хавстейном строгали, полировали, вырезали и колотили, овцы выходили красивыми, изящными и невесомыми, какими и должны быть. Старый цех для разделки рыбы превратился в строгальный цех, единственное огромное помещение в самом сердце Фабрики, которое по-прежнему напоминало фабрику: белые стены, тали и система для разделки рыбы под потолком, на окнах налипшие стружки и пыль, а на подоконнике — дохлые мухи. Мы клали овец в красивые коричневые картонные коробочки, которые изготовляло одно рекламное агентство в Торсхавне, куда мы ездили каждую неделю за деньгами. Субсидия от государства — для поддержки производства, жизни в почти опустевшем Гьогве и в нас самих. Почти все средства мы получали оттуда. Создавалось впечатление, что мы можем просить о субсидиях на что угодно, к примеру, на изготовление топоров. Главное, чтобы мы хоть чем-то занимались, и тогда все шло своим чередом: продукция, дотация, устойчивое развитие. А раз уж мы оказываем первую помощь, то нам самим решать, как мы этого достигнем. С другой стороны, продавать можно все, что угодно и где угодно, главное — убедить окружающих, что именно твоя продукция им и нужна. Вода в бутылках, к примеру. В Норвегии. А деревянные овцы тогда чем хуже? Детям и любителям сувениров они нравятся. И дотация растет.
Незаметно для меня прошли август и сентябрь, с несуществующих деревьев облетели листья, я целыми днями находился в цеху вместе с Хавстейном и Эннен, мастерил деревянных овец, заботливо укладывал их в радующие глаз туриста коробочки и пытался не задумываться над тем, чем занимаюсь, и убедить себя в том, что ничего важного я не делаю. К вечеру с работы возвращались Анна и Палли, мы вместе ужинали, и потихоньку, день за днем, я оттаивал. Я был похож на замерзшего в альпийских льдах Отци,[51] которого обнаружили лишь много тысяч лет спустя. Я так долго этого дожидался, что теперь жадно глотал новую жизнь и каждый день пытался освоить новое для меня состояние невесомости.
Продержался я до конца октября. А потом резкий срыв. Мою кассету опять зажевало. Не знаю почему. У меня все хорошо, но я об этом не знаю. Нет, мне никого не переубедить. И уж тем более себя. Я не могу есть. Мне снится Хелле. Мне снятся растения, цветочный магазин, во сне я прихожу на работу один. Больше никого. А работы у меня так много, надо столько заказов доставить. У меня не хватает времени. Часы на стене наматывают круги. Стрелки скребутся о циферблат. Дверь на склад приоткрывается, она вот-вот совсем распахнется. Склад переполнен. Список! Я не успеваю! На столе целый ворох бумаг. Заказы. Счета. Я иду в большую комнату. Беру одну из стопок бумаги. Открываю дверь на склад. Вываливающиеся оттуда цветы устилают пол. А часы на стене угрожают мне. Я под завязку набиваю машину цветами, а их становится все больше и больше, в магазине им уже тесно, они прижимаются к стеклам, вырываются наружу, распирают все здание. На машину обрушивается стекло, дерево, сталь и камни. Лобовое окно разбито, корпус помят, краска облезла. Пахнет бензином. Я уезжаю прочь, еду по первому заказу. Больница. Я вбегаю внутрь. Несусь по коридорам. Стучу в дверь. Открываю. Захожу. Но все палаты пусты, больные умерли, их унесли, а в машине у меня полно никому не нужных цветов. Я стою рядом с одной из больниц, вцепившись в дверную ручку. Я не знаю, что делать. И тут я чувствую, что ноги у меня леденеют. Они мокрые. Я смотрю вниз. Я стою по колено в воде. Уровень воды в море начал увеличиваться. Я уже по пояс в воде. Я открываю дверцу машины, сажусь, но она не заводится. Она сломалась. Я успеваю заметить, как на меня, сметая на своем пути все живое, надвигается волна, она толкает машину, окна разбиваются, и я просыпаюсь.
Я опять заперся в комнате и никого не пускаю. Не знаю почему. Хавстейн не приходил уже много дней. Может, я попросил, чтобы меня не беспокоили. Не знаю. Я не ем. Не сплю по ночам. Прокрадываюсь наружу, иду в ванную, наливаю в бутылку воду из-под крана и возвращаюсь к себе. Я хочу, чтобы меня опять не узнавали. Я хочу опять быть лишним. Мне не хватает самого себя. У меня все разладилось. Я в какой-то степени это предвидел. Что ничего не наладится. Мне надо стереть тринадцать лет из моей жизни. Да только такую стерку не найти.
Однако продолжалось это не так долго, как в прошлый раз. Уже на четвертый день у меня получается разглядеть в зеркале свой силуэт. В животе урчит. Тем не менее я по-прежнему тут, по-прежнему здесь живу. Мне надо позвонить домой. По крайней мере, послать им открытку. Родителям. Напомнить о своем существовании. Если не ради них, то ради меня самого. Подтвердить, что я существую.
Пятый день. В комнате темно. Свитер липнет к коже. От носков воняет, снять их невозможно. За окном дождь. Я пятеро суток не выходил из комнаты и не знаю, как мне им это объяснить. Я слышу, что Эннен вместе со всеми остальными сидит внизу, на кухне. Слышу ее смех и как другие смеются вслед за ней. Они пьют пиво, я слышу, как открывают банки — п-шш — и как они пытаются не дать пиву сбежать — шш-ип. Эннен поставила «Кардиганс», их альбом «Жизнь». «I will never know cause you will never know»,[52] — поет Нина Перссон, и я слышу, как Эннен ей подпевает: «C’mon and love me now».[53] И я на мгновение поражаюсь, насколько похожи их голоса, но только пока они поют эту одну строчку, потому что потом я опять слышу, что они отдаляются друг от друга.
Наконец я встаю. Внезапно решаюсь, опускаю ноги и встаю. Стянув носки и свитер, иду в ванную и принимаю душ. Стоя в душе, я открываю кран, сначала холодную воду, тело коченеет, но просыпается, я прихожу в себя и медленно пускаю горячую воду, горячее и горячее, так что ванная наполняется паром. Одеваюсь, чистая одежда, свежие носки. Открываю дверь, впервые за пять дней спускаюсь по лестнице, прохожу по коридору, и вот я уже стою на пороге кухни, открыт для всеобщего обозрения. Подхожу к столу, молча присаживаюсь на свободный стул. Мне суют в руки банку пива, я открываю и пью. Прислушиваюсь к разговору. Повернувшись ко мне, Хавстейн говорит: «Мы знали, что рано или поздно ты вернешься». И тогда я опять начинаю говорить. С того момента все, что происходило во время этих двух срывов, начало стираться, оставив лишь неясные воспоминания, почти невидимый след.
— Матиас?
— Что? — спросил я. У двери в цех стоял Хавстейн, я же сидел за столом, заваленным почти готовыми деревянными овцами. Я подумал о том, что сейчас все равно еще не сезон для туристов, поэтому решил передохнуть и положил руки на колени.
— Пойдем со мной.
Хавстейн вышел в гостиную, а я, медленно поднявшись, кивнул Эннен, которая увлеченно нарезала шерсть, давая понять, что скоро вернусь. Я прошел за Хавстейном через кухню, поднялся по лестнице на второй этаж и зашел вслед за ним в кабинет. Присел к письменному столу, ожидая чего угодно и ничего.
— Я, кажется, нашел тебе работу.
— Но у меня же есть работа, верно?
— Думаю, я нашел более подходящую.
— Правда? — переспросил я, подумав, что трудно найти менее подходящую, чем та, которой я сейчас занимаюсь.
Откинувшись на спинку стула, Хавстейн закурил, и лучи солнца на мгновение осветили сигаретный дым, повисший над ним огромной шапкой. Я подумал, что, если уж мне совсем нечем будет заняться, я начну курить.
Хавстейн сказал:
— Думаю, Матиас, тебе пора снова стать садовником.
Я спросил:
— Что ты имеешь в виду?
— А то, что у меня появилась кое-какая идея.
И он рассказал мне о своих и моих планах. Они с региональным управлением придумали, какое мне можно найти занятие. Вот интересно, подумал я, чего вдруг региональное управление в Торсхавне так заинтересовалось мной и моим благополучием. Хавстейн и эти канцелярские крысы в Торсхавне придумали для меня новую карьеру, мой собственный театр одного актера. Я снова стану садовником.
— Высшего класса, — сказал Хавстейн.
— Высшего класса, — повторил я. Ясное дело.
— Я завел на тебя личное дело в региональном управлении, а это означает, что ты теперь официально можешь на какое-то время оставаться здесь, пока у меня есть основания полагать, что здесь тебе лучше, чем где бы то ни было еще. В Норвегии, например.
— А у тебя есть основания так полагать?
— Не-а.
— Однако же ты все устроил?
— Я сказал, что ты псих.
Замысел заключался в том, что в управление обращаются фарерцы с просьбами о дешевой рабочей силе для помощи в саду, зимних садиках или при посадке живых изгородей. Я стану странствующим садовником на содержании управления и Фабрики, зеленым юнцом на ниве земледелия, садовым психом. Бюрократам в Торсхавне, дни просиживающим в раздумьях, какой толщины стопку бумаги сможет продырявить их дырокол, подумалось, что на такое предложение будет спрос, и они одобрили проект.
И я согласился. Я был рад покончить с однообразной работой на Фабрике, хотя мне и нравилось, работая каждый день с Эннен, слушать, как она мурлычет себе под нос что-нибудь из репертуара «Кардиганс», нравилось болтать с ней и тот факт, что во всей деревне остаемся только мы вдвоем.
Потом я уже самостоятельно связался с региональной службой, где мне дали адреса и телефоны клиентов и объяснили, что делать. Клиент мой сам заказал растения и оборудование, о которых я ему рассказал, а я съездил за ними в Торсхавн. Там у Фабрики появилась еще одна машина, тоже подержанная «субару» (видно, им тут нравилась эта модель), и я мог ей пользоваться.
Бесплатный бензин.
Небольшая зарплата.
Жаловаться мне не приходилось.
Хавстейну мое новое занятие нравилось. Он все раздумывал, к чему это приведет, полагая, что я могу стать гордостью нации, что я очень многое значу для тех, к кому приезжаю, что страна благодаря мне скоро изменится и зазеленеет еще больше. Он наверняка подумывал и о Гьогве, в первую очередь, конечно, о маленьких клумбах вокруг Фабрики, а позже я смогу получить дотацию и на озеленение всего Гьогва, так что тот утонет в цветах. Хавстейн полагал, что нужно лишь время и деревенька превратится в ботанический сад, а жителей и не разглядишь за лилиями и тюльпанами. Тогда валом повалят туристы, и не только чтобы посмотреть на море. Сдается мне, в тот вечер он нафантазировал, что моя работа опять привлечет сюда людей, а у меня смелости не хватило остановить его и сказать, что мне это вовсе не нужно, что мне хорошо в тишине, поэтому я подыгрывал и тоже фантазировал, и мечты наши росли и расцветали, они будто пустили корни прямо на письменном столе, так что потом их пришлось выпалывать, как сорняки. С того вечера жизнь пошла так, как надо. Такие дни можно вырезать, вставлять в рамку, вешать на стену, а потом рассказывать гостям: «Посмотрите, вот как я тогда жил. Лучше и не придумаешь».
Эннен тоже за меня радовалась. Она начала расспрашивать обо всяких мелочах, связанных с садоводством. Например, сколько воды нужно при поливе роз или зачем в воду добавляют лимонад или сахар. Почему венерин башмачок так называется, какие цветы могут расти вместе, зачем и откуда их привезли, почему Голландия знаменита тюльпанами и связано ли это с тем, что там все носят сабо, — по крайней мере, ей так запомнилось. По вечерам она читала «Нашу флору в картинках», которую ей принес Хавстейн, а когда я подходил и садился рядом, она хитро улыбалась, откладывала книжку и начинала пересказывать прочитанное. Позже она несколько раз съездила вместе со мной на нашей новой машине в Торсхавн за растениями для первого заказа от семьи в Хвалвике. Сидя в новой подержанной машине, мы втягивали ее запах и ждали, когда причалит корабль. И я подумал тогда, что у Эннен дар — интересоваться тем, что интересует окружающих. И дело совсем не в вежливости. По-моему, она действительно хотела разобраться, почему мы выбрали именно это занятие, а интересовали ее мы сами. Желая испытать то же восхищение всякими вещами, она лучше узнавала людей. Я много раздумывал и решил, что это, должно быть, сложно. А может, и нет. Может статься, это необычайно просто.
А когда, выполнив этот первый заказ для семьи из Хвалвика, я вернулся домой, Хавстейн и Эннен встретили меня на пороге Фабрики радостными криками. А потом Анна с Палли приготовили для нас ужин, и мы все вместе смотрели новости, потому что ждали какого-то репортажа, забыл какого. А потом мы с Хавстейном и Эннен сидели у меня в комнате, и я говорил, что мне не очень нравятся ранние альбомы Стива Мартина, потому что звук там не особенно хороший, а звук — это главное. А потом мы долго разговаривали о том, почему хотим быть вторыми, а лучшими — не хотим. И Эннен сказала, что больше всего на свете хочет автограф Нины Перссон, а я тут же про себя решил, что добуду ей этот автограф, вот прямо сейчас же вечером сяду и напишу Нине письмо от имени Эннен, хотя я об этом вспомнил только в январе и сразу же снова забыл, это было, когда нас на Фабрике уже стало шестеро и новое тысячелетие еще не было отмечено ничьей смертью. А потом ко мне поднялись Палли с Анной и выпили по пиву перед сном, а спать они пошли рано, как обычно, делая вид, что разошлись по своим комнатам, хотя на самом деле ночью один из них тайком прокрадывался к другому и они спали вместе. А потом, сидя в моей маленькой комнатке, мы открыли окно, потому что Хавстейну захотелось покурить, и он рассказывал, как он нас любит и как хорошо, что мы вместе, что, может, мы никогда не расстанемся и не покинем Фабрику и что это совершенно нормально, ничего плохого в этом нет, и что никто не может судить, что правильно, а что неправильно. А потом все разошлись, и я, лежа под одеялом, думал о работе, которую уже сделал и которую мне нужно сделать в ближайшие дни. А потом я подумал, что все наконец наладилось. Абсолютно все. В ту ночь я, самый уверенный человек на свете, спал как сурок.
Дни, словно по конвейеру, выходили одинаково идеальными, с многоязычной инструкцией для пользователей и ценным гарантийным талоном. После ужина Палли с Анной уходили в гостиную, а мы втроем оставались на кухне, мыли посуду, если находилась бутылка вина, пили вино, а если нет, то кофе. Рано или поздно Хавстейн уходил к себе и вечерами, а может (кто его знает), и ночами напролет читал. Я же по вечерам в основном сидел у себя в комнате, смотрел в окно или просто пялился в стену. Если уставал, ложился рано, потом начал заходить к Эннен, или, точнее, это она приходила за мной. Постучав, она входила и перетаскивала меня в свою комнату. Она находилась в самом конце коридора, с юго-восточной стороны. Комната эта была самой большой, светлой и битком набитой старой громоздкой мебелью, вдоль стен высились стопки журналов и зачитанных до дыр газет из всех стран мира. В книжную полку Эннен умудрилась втиснуть магнитофон и четыре компакт-диска (все четыре — альбомы «Кардиганс»). Дверь с противоположной стороны вела в спальню, где лежал лишь одинокий матрас на полу, рядом стоял деревянный стул, а на стуле — будильник, а больше ничего не было. Не знаю, так уж сложилось, что по вечерам большая часть моего времени принадлежала Эннен. И почему я так долго просиживал у нее в комнате? Так уж получилось. Мне нравились такие вечера. Больше всего нравились. Палли с Анной подолгу разговаривали друг с другом, они работали за пределами Фабрики и помимо меня видели других людей. Может, мы с Эннен чувствовали себя как младшие брат с сестрой и изо всех сил пытались найти себе хоть какое-то занятие. А может статься, это простая случайность из тех, которые никому не понятны и не подвластны.
— Ну, так как тут тебе все остальные, а, Матиас? — спросила как-то вечером Эннен. Мы сидели у нее в комнате под тихое бормотание «Кардиганс», «Первая группа на Луне».
— Остальные?
— Ага. Палли с Анной, к примеру. Они тебе нравятся?
— Ну да, а как же еще? Анна очень заботливая, по крайней мере так кажется. Ну и Палли тоже… По-моему, они хорошие. Очень хорошие.
— Это точно. Ты знал, что они встречаются?
— Вообще-то подозревал, — ответил я, — и долго они уже вместе?
— Год где-то, а может, и дольше. Тебе как кажется, мы тоже с тобой будем вместе?
— Мы с тобой? Почему это? Я как-то об этом еще не думал.
Она чуть прикрыла глаза и, прищурившись, посмотрела на меня. Понятия не имею, что бы это могло обозначать.
— Вот уж не верю, — сказала она, — потому что когда знакомишься с кем-то, первое, о чем думаешь, — это сможешь ли ты в него влюбиться. Или в нее. И так со всеми.
— Вот как? И какие у меня шансы, хорошие? Или все безнадежно?
— Понятия не имею. Но мне кажется, что лучше тебя мне никого не встретить.
— И ты уже сейчас об этом знаешь? — спросил я.
— Угу.
— Ну надо же.
— У нас с тобой общие цели, правда ведь? — сказала она, покрутив пальцем у виска.
— Выздороветь?
— А разве нет?
— Да.
— Мне, кстати, кажется, что я никогда не выздоровею, так чтобы совсем, — сказала она.
— Ты и сейчас вполне здорова, разве нет?
— Не совсем.
Мы судорожно искали другую тему для разговора, поэтому на пару минут повисло молчание.
— А ты осознаешь, что человек почти целиком состоит из воды? — спросила Эннен.
— Нет. Почти целиком?
— На 72,8 процента. Это почти соответствует объему мирового океана.
— А тебе когда-нибудь приходило в голову, что если вытянуть руки в стороны, то расстояние от пальцев одной руки до пальцев другой будет равно твоему росту? — спросил я.
— Время от времени я об этом думаю. Не часто, но иногда бывает.
— Вот так-то.
Опять проигрывается музыка. Или вечера. Часы. Минуты.
Let’s come together, те and you.
La-la-la-la-la-la, your new cuckoo.[54]
Случилось это в конце октября. Я проснулся от какого-то звука внутри меня самого, и на мгновение меня охватило чувство тревоги оттого, что я проспал. Вскочив, одевшись и даже не успев продрать глаза, я выскочил в коридор, и только там до меня дошло, что никакой срочной работы у меня вообще-то нет, что сегодня у меня свободный день и провести его я могу по своему усмотрению. На Фабрике тишина. Совсем как в мой самый первый день здесь, когда Хавстейн уехал встречаться с Йорном. Только теперь я уже не боюсь. И меня не тянет сбежать.
Спустившись на кухню, я позавтракал, во время завтрака попытался сосчитать капельки дождя на окне, выпил апельсинового сока и кофе. Вымыл посуду, оставшуюся после других, и взглянул на часы над кухонной стойкой. Половина первого. Проспал я намного дольше обычного, почти двенадцать часов. Начав работать, я спал не больше шести-семи часов в сутки, а просыпался по утрам часов в семь, чтобы все успеть.
Я разлил кофе по двум чашкам, отнес их в гостиную, потом прошел в цех. Однако Эннен там не было. На столах лежали еще не обклеенные шерстью деревянные овцы и ворох шерсти. Похоже, Эннен сегодня и не начинала работать. Теперь, когда я вновь стал садовником, она опять делала сувениры в одиночестве, и вся ответственность за изготовление овец лежала на ней, к тому же два раза в неделю она должна была развозить заказы. Работала Эннен много, и до ужина мы редко виделись, а несколько раз она даже и после ужина выкраивала пару часов для работы. Теперь, когда Эннен работала одна, овец получалось меньше, но все равно больше чем достаточно, чтобы довольны были и Хавстейн, и региональное управление, и те немногие туристы, которые (по данным магазинчика в аэропорту) желали приобрести деревянных овец, изготовленных, как им говорили, то ли местными заключенными, то ли больными, то ли кем-то еще. От таких поделок даже глупость смутится.
У меня были две кофейные чашки, а вот рот — один. Присев на стул Эннен и поставив чашки на стол, я прихлебывал кофе из каждой по очереди и по старой привычке мастерил овцу, раз уж оказался там. Полировал и тер шкуркой. Овца, однако, получилась не очень хорошая — я уже немного разучился их делать, да я и раньше шерсть не наклеивал, но если строго не судить, то вышло вполне сносно. Я поставил ее на стол и, забрав чашки, вернулся на кухню. Постоял немного в замешательстве, раздумывая, чем бы заняться, но в голову так ничего и не пришло. Я подумал, что вот сегодня даже машину у меня забрали, и тут-то как раз и вспомнил, как Эннен говорила, что работать сегодня не будет, потому что ей надо разобраться с какими-то бумагами в региональном управлении, а затем съездить к маме и помочь ей, только забыл зачем. Так что я остался один. Только я и бесконечная скука, которая редко доводила до добра.
Вот тут-то мне и пришло в голову наведаться к Хавстейну.
Хотя я знал, что его нет дома.
Не то чтобы я специально чего-то разнюхивал, нет. Мне просто надо было каким-то образом убить время, и я не придумал ничего лучше, как отправиться на поиски сокровищ.
Тот, кто ищет, всегда находит.
Я направился в спальню Хавстейна. Через его кабинет.
Да знаю я, знаю — это некрасиво, я очень сожалею, но я не специально, просто, когда мне нечем заняться, у меня само собой получается, что я начинаю совать нос во все дыры и рыться в чужих вещах. Пока никто не видит, я перерою содержимое вашего ящика, а потом сложу все вещи в абсолютно том же порядке, что и раньше. И не заметишь. И никогда не узнаешь. Никаких сомнений. Я всегда хорошо запоминал, где что лежит. Из меня получился бы хороший шпион.
Но вот зачем я так поступаю?
Зачем мне рыться в чужих вещах?
Потому что скука пробуждает во мне любопытство.
И беспокойство.
Только и всего.
В спальне было темно. Шторы опущены. Посреди комнаты стояла полуторная кровать. Цветастая простыня. Тот же спертый воздух, что и в комнате Эннен. Ковер на полу — о-го-го! — старый коричневый ворсистый ковер от плинтуса до плинтуса! Вот так ворс! На одной стене большой плакат: карта какого-то неизвестного мне острова, чуть похожего на тот, на карте в моей комнате.
Рядом с кроватью стояла тумбочка.
В ФБР хорошо бы открыть специальное отделение по изучению тумбочек, они многое говорят о характере преступника.
Покажи мне свою тумбочку, и я скажу, кто ты.
И все в таком духе.
В тумбочке Хавстейна был один ящик. Незапертый. Я присел на кровать. И вот тут-то меня и охватило любопытство. Чувствовал я себя как перед знакомством с новым человеком. Руки потянулись к ящику, я нащупал в полутьме ручку и осторожно, чтобы внутри что-нибудь не сдвинулось и не выдало потом моего присутствия, выдвинул его. Как я уже сказал, такое мне не впервой. Я открыл ящик, но там не было привычной мешанины мелочей, которые обычно складывают в тумбочки. Ящик был абсолютно пуст. Ну, то есть не совсем пуст. В нем лежала книга. Я вытащил ее и поднес к глазам.
Это был карманный путеводитель.
Fielding Guide to the Caribbean plus the Bahamas.
1975.
Fielding Publications.
Madison Avenue.
New York.[55]
Понятия не имею, что я ожидал там обнаружить. Скорее всего, что и обычно: старые квитанции и мелкие монетки. Путеводители по экзотическим странам в эту картину не вписывались. Вообще. Я вновь посмотрел на книгу. Толстая, больше восьмисот страниц, оранжево-зеленая обложка, белые поперечные полоски. Написана супругами Хартман, которые повстречались на Гаити в 49-м, а месяц спустя поженились и которые, согласно вступлению, не просто тщательно исследовали острова, но и прожили там больше двадцати лет, а лагерь их располагался на Кайманах. Им, наверное, можно верить. У них даже был собственный девиз: «Don’t ask the man, who’s been there. Ask the man, who’s lived there».[56] Это вам не игрушки. Книга выглядела потертой, почти до дыр зачитанной. Практически на каждой странице Хавстейн позагибал уголки, поля были испещрены пометками, сделанными карандашом или шариковой ручкой, целые абзацы были обведены, а некоторые слова и фразы подчеркнуты. Он проштудировал ее. Прочел много раз от корки до корки. Так вот чем он занимался осенними вечерами, а может, и до этого. Было еще рано, а он все равно уходил к себе, и мы с Эннен сидели вдвоем, пока не начинали клевать носом и не расходились по своим комнатам. Какая-то мешанина из Багам и Бермудов. Ничего не понимаю. Сплошная гавайская смесь. Я попытался вспомнить, ездят ли сейчас на острова Карибского бассейна. Вроде нет. По крайней мере, мне так кажется. Где-то с середины восьмидесятых туда уже не ездят. Только, может, американские пенсионеры откуда-нибудь из Тампы, Флорида, потому что у них, несмотря ни на что, куча денег и времени, которое они, сидя в огромных домах, не знают, куда девать.
Забрав книгу, я прошел в кабинет Хавстейна и уселся на полу, изучая Карибское море остров за островом. Я вброд прошелся по мелеющим лагунам, зашел на растаманские рынки Кингстона, города на Ямайке, морем добрался до Виргинских островов, по стопам Христофора Колумба (он был там в 1493-м) посетил Монтсеррат, а потом прогулялся по центру Плимута, за 22 года до того, как извержение вулкана в 97-м разрушит южную часть острова. С Барбадоса я на самолете долетел до Антигуа, где меня приняли с распростертыми объятиями, а потом на такси (за девять с половиной долларов) доехал до прибрежной гостиницы «Бухта полумесяца» и уселся под дорогим пляжным зонтиком у бассейна в форме змейки. До вечера мы с владельцем гостиницы Хипсоном проиграли в теннис, затем я выпил пару кружек пива и забрался в номер. Лежа под мокрой простыней в номере без вентилятора, я осознавал, что завтра смогу убраться на все четыре стороны.
Так вот она, тайна Хавстейна. Его план. Он, похоже, месяцами, а может, и годами вчитывался в эти страницы, изучал их вновь и вновь, и с каждым разом заметки становились все подробнее и подробнее. Когда места на полях перестало хватать, он писал на клочках бумаги, на обрывках газет, на конвертах, а потом вкладывал их между страниц, неровные буквы покрывали каждый свободный миллиметр. Я попытался разобраться в его записях, но прочесть их было практически невозможно, может, из-за того, что писал Хавстейн по-фарерски, а может, просто из-за мелкого убористого почерка: буковки наползали друг на дружку, превращались в палочки, забегавшие за края страниц и забиравшиеся прямо на острова.
Сидя за рабочим столом Хавстейна с книгой в руках, тяжестью в голове, подавляя зевок, я выпил последний «Гавайский сюрприз» с зонтиком где-то часов в шесть. Взглянул на часы. Затем тихонько прокрался обратно в спальню, будто испугавшись, что, пока я тут сижу и увлеченно читаю, кто-нибудь придет и увидит меня. Правой рукой я осторожно открыл тумбочку и вот уже собирался положить книгу на место, как вдруг один из листочков с заметками вылетел и бесшумно опустился на пол. Я его подхватил и внимательно осмотрел, но записей разобрать не смог. Я не мог вспомнить, видел ли я его до этого, и понятия не имел, где тот листочек мог лежать. Осторожно пролистав книгу, я попытался отыскать подходящее место, но без заметок оставались многие страницы, поэтому у меня ничего не получилось. Черт! В конце концов я открыл книгу наугад и, чуть помедлив, вложил листочек туда. Потом положил книгу в ящик и, закрыв его, вышел.
Какой, однако, забавный механизм — мозг. Как библиотека с бестолковым библиотекарем и с большим складом внизу, битком набитым ненужными книгами, журналами, диссертациями и бумагами. Когда я пошел в ванную почистить зубы (а вот и полезное проявление скуки), от зубной пасты на меня вдруг снизошло озарение. Я отчетливо представил карту, висевшую на стене у меня в комнате. Я о ней никогда особо не задумывался, однако сейчас вдруг понял, что ее не случайно там повесили. Не прополоскав рот, я вышел из ванной, направился к себе в комнату и включил свет. Внимательно посмотрел на огромную бело-серую карту одного из островов Карибского бассейна.
Монтсеррат. Остров, почти исчезнувший после извержения вулкана.
Тут-то меня и осенило. Наш библиотекарь начал потихоньку разбирать архивы. Я прошел в комнату Эннен. На стене висела карта Гренады. Такой же величины и тоже бело-серая. Дальше по коридору, комната Анны. На стене карта. Тринидад. Дальше. Палли. Тоже карта. Антигуа. А затем я вновь вернулся к Хавстейну и, включив свет, посмотрел на карту на стене.
Сен-Люси.
Я ничего не понимал. Или же понимал все.
Вернувшись в ванную, я продолжил чистить зубы, размышляя над великим замыслом Хавстейна. Однако постичь его не смог.
Без двадцати пяти семь к Фабрике подъехала машина Анны и Палли, а еще через полчаса, когда вернулись Хавстейн и Эннен, мы с Анной уже стояли на кухне и готовили макароны. Я обнял Эннен и спросил, как все прошло.
— Порядок, — ответила она, — без проблем.
— А как мама?
— У нее все прекрасно. По-моему, у нее появился поклонник. Наконец-то.
Мы обсудили маминого поклонника, которого я и в глаза не видал, а потом Хавстейн подошел ко мне и поинтересовался, хорошо ли я провел свободный день.
— Лучше всех, — ответил я.
— И чем же ты занимался?
— Да ничего особенного не делал. Смотрел телевизор. Кофе пил. Считал дождевые капли. Читал.
— И что же ты читал?
— Да газеты, журналы. «Флору в картинках». Всякое такое.
— Рад слышать.
— Что?
— Что ты занятие себе нашел.
— Ну конечно. Очень хорошо провел день. Прямо как в отпуске побывал.
Я никогда не спал так хорошо, как той ночью, мне снились теплые солнечные сны, в которых я бродил по кромке воды на каком-то острове, где других людей не было. Остров находился на высокой скале, а я там был смотрителем маяка, помогал жителям соседних островов найти дорогу и лишь раз в неделю садился в лодку и вел ее так ловко, что мне не могли помешать ни прибой, ни коралловые рифы, до соседнего острова, где покупал провизию и заходил в ресторан выпить кофе или пива. Другие посетители в ресторане со мной не разговаривали, для них я был невидимым. Однако когда я отворачивался, то чувствовал на себе их взгляды и слышал их голоса. Разговаривали они о том большом корабле, что за день до этого, несмотря на ужасный шторм, пробился сквозь ураган и причалил к берегу. Кораблю этому удалось не напороться на шхеры — и все благодаря сигналам маяка.
Начало холодать, поднимался сильный порывистый ветер. Однажды вечером в начале ноября я сидел в комнате Эннен. Я все еще не отправил открытки родителям, но и мне никто ничего не присылал. Никто не звонил. Никто не сообщал, что Хелле, возможно, передумала, что мне нужно вернуться домой и что цветочный магазин вновь открылся. Я по-прежнему не знал, что Хавстейн сказал Йорну в тот первый день и маме — на следующий. Я полагал, что придет время и он расскажет мне об этом. Я был беззащитен, и меня это вполне устраивало. Я сидел на диване в комнате Эннен, а сама она утепляла комнату, стоя у окна с рулоном клеящейся бумаги, отрывая от нее длинные полоски, плотно прижимая края к подоконнику и приклеивая их к окну. В последние дни мы все утеплились: окна в доме были старыми, подоконники потрескались, а между стеклами появлялась изморозь, так что вообще ничего не было видно. Эннен поставила «Первую группу на Луне». Она по-прежнему слушала ту же музыку, хотя и не каждый день. Мне постепенно тоже начали нравиться «Кардиганс», но у меня и выбора-то особо не было. Звучала эта музыка приятно, чистый и мягкий голос Нины Перссон доносился до нас прямо из Стокгольма, он долетал до Фарер, пробирался в замерзшие окна и кружил по комнате, в которой мы сидели. Держа в руках рулон липкой бумаги, Эннен стояла у окна и, отстукивая ногой такт, подпевала — «Никогда не выздоравливать». Я держал в руках белую обложку от диска, смотрел на расплывчатую концертную фотографию, сделанную намокшей «мыльницей»: размытые силуэты в ярком сиянии прожекторов, а ведь для нашей подружки «Кардиганс» были первой и единственной группой, достойной лунного концерта. «Представь, — сказал я Эннен, — вот „Аполлон-17“ совершает посадку на Луну, астронавты выходят и видят, как из кратера появляется Нина Перссон, — ну не чудесно ли?» Группа, беззвучно играющая в безвоздушном пространстве, — уж они не упустили бы возможности выкинуть что-нибудь экстраординарное. «Влюбленный дурак». А Эннен сказала тогда, что после концерта Нина непременно швырнула бы микрофон вверх и с ним уплывали бы последние звуки последней песни. Вот так мы и беседовали. Неплохо смотрелось бы: трансляция из другого мира, телескопы настроены на светлую стороны Луны, а в них видны расплывчатые фигуры ударника, гитаристов и вокалиста, чье пение беззвучно растворяется в вакууме.
Поднявшись с дивана, я поставил диск обратно на полку и помог Эннен заделать последнее окно, наклеив на трухлявый подоконник двойной слой клейкой ленты. Потом мы сели на диван, по разные стороны стола, разделенные кофейными чашками. Эннен взглянула на книжную полку.
— Ты его неправильно поставил, — сказала она.
— Кого?
— «Первую группу на Луне». Он должен стоять слева, совсем с краю.
— А разве они написали его не после «Эммердейла» и «Жизни»? — спросил я. Кое-что я уже выучил.
— Они не по такой системе расставлены, — сказала Эннен, — они стоят в том порядке, как я их покупала. Это для меня довольно важно.
Встав, она переставила диски: «Первая группа на Луне», «Жизнь», «Гран туризмо», «Эммердейл».
Вот так-то.
— А тебе не кажется, что когда расставляешь диски, лучше расставлять их в том порядке, как они у тебя появились? Чтобы ты видел, какой путь прошел, в какую сторону двигались твои мысли и как ты развивался, ведь ты выбираешь диски из-за песен.
— Ну да, пожалуй, — сказал я и подумал, что у нее всего-то четыре диска, для них не особо сложно придумать систему. Но идея все равно показалась мне неплохой. По одному диску на каждую главу, каждый кусочек прожитой жизни. Или, как в ее случае, по диску на каждый приступ.
Я услышал всю ее историю, в том числе как она попала в Гьогв, только в середине ноября. Что-то Эннен сама рассказывала, когда я сидел по вечерам у нее в комнате, — она подолгу рассказывала, откуда она родом и как вся ее жизнь постепенно менялась. Остальное рассказал Хавстейн, и его версия была в какой-то степени иной или просто, может, расцвечена другими красками, так что в конце концов передо мной как будто появился расплывающийся по краям полароидный снимок Эннен.
Выяснилось, что она родилась и выросла в Гренландии. Ее мать тоже была урожденной гренландкой, которая появилась на свет и выросла в Нууке. Когда ей было восемнадцать, она переехала в Нарсарсуак и устроилась там на работу в международном аэропорту. Произошло это в 1970-м, когда оживление, царившее в Нарсарсуаке во время Второй мировой войны и в холодные послевоенные годы, начало спадать. В 1941-м году Дания и США подписали договор о том, чтобы использовать Гренландию в качестве вспомогательной базы для союзников. В июле того же года американцы относительно быстро основали базу «Блюй Уэст Уайт», а при ней — аэропорт. Огромные бомбардировщики приземлялись там для дозаправки, а потом отправлялись дальше, держа курс на Дрезден, Берлин и Дортмунд, куда они несли перемены к худшему. К окончанию войны база в Нарсарсуаке, где по ледяной поверхности бродило больше двенадцати тысяч жителей, стала самым густонаселенным местом на острове. Согласно первоначальному плану, после войны базу должны были ликвидировать, но вместо этого в первые годы холодной войны она лишь увеличивалась, и рост ее был прямо пропорционален страху перед Советским Союзом. Базу ликвидировали только в конце пятидесятых, когда жадная загребущая Норвегия купила лишние материалы по смехотворной цене. Год спустя гренландцы отстроили здесь гражданский аэропорт, и в Нарсарсуак вновь стали прибывать люди, хотя поток их изрядно сократился. Время от времени сюда залетали американские самолеты, везущие в основном грузы через Атлантику. С пилотом одного из таких самолетов и познакомилась мать Эннен однажды вечером, убирая бумаги и собираясь домой. Три раза в месяц тот американец летает из Питсбурга в Париж через Нарсарсуак. Осень подходит к концу, летает он все реже и реже и все больше времени проводит в Гренландии. Весной следующего года, когда мать Эннен уже была беременной, он стал работать на внутренних торговых рейсах и летать из Нарсарсуака в Нуук, Кангерлуссуак, Иллулиссат, Кулусук и Куаарсут. Наступили восьмидесятые, туристов стало меньше, города опустели, и в конце концов в январе 1984-го года отец Эннен остался безработным. Лишь спустя несколько месяцев ему предложили работу на Фарерах, куда они тут же переехали — просто собрали за выходные вещи и доплыли сначала до Исландии, а потом отправились дальше, на Фареры. Эннен было тринадцать лет, когда они с семьей поселились на западном побережье обдуваемого ветрами острова Мюкинес. Отец летает, лишь временами появляясь на острове, а Эннен пытается учиться, находить новых друзей в школе и свое место в буре жизни. Возможно, Мюкинес — самый красивый остров на Фарерах, и его острые утесы становятся мало-помалу популярными: сюда тянутся небольшие группки туристов с палатками, примусами и рюкзаками, набитыми фотопленкой. Однако, к сожалению, уже в восьмидесятых Мюкинес становится почти необитаемым, морские сообщения с материком нерегулярны и зависят от погодных условий, остров первым принимает на себя все надвигающиеся на страну бури и туманы. В школу Эннен ходит раз в две недели, а учитель прилетает на вертолете. И хотя на Мюкинесе живут еще двое детей, это ситуацию не улучшает, потому что общего языка с ними Эннен найти не может. Она бродит по дому, сидит у себя в комнате, слушает диски, танцует, ей тринадцать лет, заканчивается осень 1984-го, и школу она посещает все реже и реже, девочка подхватывает разные заболевания, практически отказывается от еды, замыкается в себе, сворачивается клубочком, и ее будто накрывает серой пеленой. Наступает зима 1984-го года. Немного погодя Леонард Бейли осуществит пересадку сердца павиана маленькой девочке, которая проживет двадцать суток, Арне Трехолта арестуют в Форнебю (по дороге в Вену) за шпионаж, Карл Льюис станет самым быстрым бегуном в Лас-Вегасе, расшифруют код ДНК, а Билл Мюррей начнет охоту за привидениями Нью-Йорка. В 1984-м «Майкрософт» создаст «Виндоус», Мадонна выпустит свой первый сингл, под фиолетовым дождем девушки все глаза себе выплачут по Принсу, Эннен почти два месяца безо всякой видимой причины не будет посещать школу и сбавит в весе до двадцати одного килограмма, после чего ее отправят в Торсхавн к одному практикующему датскому психиатру. В результате долгих разговоров с ней психиатр пришел к выводу, что Эннен находится в состоянии глубокой депрессии, у нее развилась анорексия и ее мучает страх. В диагнозе он довольно неуверенно упоминает о том, что Эннен чувствует себя забытой всеми и что только родители знают о ее существовании. Друзей у нее нет. И даже ее американский отец не может ее спасти. Через много недель ее впервые привозят в психиатрическую больницу, а годы спустя она становится ее завсегдатаем, застревая там на месяцы. В перерывах Эннен старается ходить в школу, но ей удается продержаться лишь с месяц, год или пару недель, дольше — никогда. Спустя какое-то время родители ее переезжают в Торсхавн, и девочка проводит время дома, вместе с ними, но это ей не особо помогает. Заканчивается 91-й год, она уже столько времени провела в больницах Торсхавна и Копенгагена, что вызволить ее оттуда становится очень сложно. Но с разрешения родителей ее выпускают, выталкивают из белых коридоров на улицу, и вот 8 апреля 1992 года Эннен, более-менее здоровая и вновь прибавившая в весе, стоит на выходе из психиатрической больницы в Эйраргардуре. В руках она держит чемоданчик, но что делать дальше, она не знает. Она раздумывает, как быть. В чемоданчике у нее чек — «подъемные», государственное пособие на первые насколько месяцев, ключ и клочок бумаги с адресом квартиры в Баккахелла. У нее есть выбор. И она садится в автобус.
Эннен садится в случайные автобусы. В те, которые первыми останавливаются. Она выбирает заднюю дверь. Смотрит прямо перед собой. Смотрит в глаза входящим, одиноким молодым мужчинам и парням, которые не могут оторвать от нее взгляда и мечтают о возлюбленных, которых у них никогда не будет. Смотрит на девушек, которые понимают, как хороша собой та, что сидит сзади, с чемоданчиком на коленях. Она ловит взгляды, обращенные на нее, опускает глаза, опять поднимает их, рассматривает глазеющих на нее мужчин, которые, глядя на нее, будто чувствуют какое-то покалывание в животе. Но едва кто-нибудь из них отваживается подняться и направиться к ней, она выходит из автобуса. Садится в другой. И едет дальше. Она путешествует по всей стране, рано или поздно ты встретишь ее в автобусе, поезде или самолете, ты сядешь и сразу обратишь на нее внимание, она внезапно перехватит твой взгляд, и ты покраснеешь, тебя бросит в жар, потому что невозможно влюбиться вот так, сразу, нельзя влюбиться во внешность, но ты влюбляешься, прямо в автобусе, ты думаешь, что нужно встать и пойти назад, заговорить с ней, сойти на одной с ней остановке, потому что лучше нее тебе никого не встретить. И стоит тебе всего лишь заговорить с ней, сойти на ее остановке, обнять ее, тогда, наверное, да нет — абсолютно точно — ты обретешь единственного человека во всей вселенной, кому суждено сделать тебя счастливейшим в мире. Но ты не отваживаешься. Ты почти никогда не сходишь на ее остановке. Ты не встаешь и не заговариваешь с ней. Или с ним. Вы сидите, смотрите друг на друга или отводите глаза, а потом один из вас выходит, и через несколько часов вы забываете друг о друге, чтобы на следующий день или спустя десять, двадцать лет почувствовать вдруг то же самое покалывание. Тогда ты представишь ее лицо и поймешь, что в тот момент тебе надо было действовать, нужно было заговорить с ней. А ты этого не сделал, и у тебя осталось лишь осознание того, что хотя бы раз в жизни, одно мгновение, тебя любили — вот так, безоговорочно, ничего не требуя взамен. Один-единственный миг, будто по щелчку. Как в мелодраме.
Эннен представляет себе, что она и есть именно такой человек, человек ниоткуда, человек в автобусе, поезде или аэропорту, которого ты встречаешь единственный раз в жизни. Она убеждена, что все, с кем произошло нечто подобное, рассказывают именно о ней, именно ее они и видели, и именно поэтому она перестала существовать, поэтому она незаметно путешествует по Фарерам, превращаясь в человека из автобуса, с которым ты никогда не заговоришь, позволяя заметить себя тем, кто, по ее мнению, нуждается в ней больше всего: тем, кто сидит, прижавшись лицом к стеклу, или шоферам, поглядывающим на нее в зеркало заднего вида. Ее внимание всегда достается лишь одному пассажиру. Парни, мужчины, девушки и оплакивающие своих трагически погибших в море мужей старушки в шляпах, пальто, калошах и с потрепанными авоськами в руках. Улыбаясь, она смотрит на них и думает, что они спиной чувствуют ее улыбку, ощущая легкое жжение, они ерзают на сиденье, и в этот день жизнь их становится чуть-чуть легче.
Но Фареры — небольшое местечко, поэтому рано или поздно ты сядешь в автобус с уже знакомыми пассажирами. И вот как-то раз она садится в автобус и ошибается, потому что тот, на кого она смотрит, думает, что она пристает к нему, он сходит на одной с ней остановке, да-да, и она не знает, что делать, раньше такого не случалось, это абсолютно выбивает ее из колеи, и, наверное, ей на секунду кажется, что ее наконец обнаружили. Однако она ошибается, во всяком случае, не в этом смысле. Она привлекательна, он слишком стар для нее, он дотрагивается до нее, до ее одежды, идет дождь, они стоят у автобусной остановки, он запускает руки ей под одежду, и она не знает, чего от нее ожидают, поэтому она обнимает его, прижимается плотнее, а потом из всех сил бьет его коленом между ног, чувствуя, как его мошонка сплющивается под ее коленом. Он сгибается перед ней, его рвет, а она ловит первую проезжающую мимо машину, и уже на следующий день она в Копенгагене, а через год — в Лондоне, а потом — в Стокгольме, Осло, Берлине и Рейкьявике, она подрабатывает, работает курьером или в магазинчиках, жизнь идет своим чередом, однако она вновь принимается за старое, теперь в Берлине, Осло и Стокгольме она ездит на метро и теперь уже больше напоминает бесцельно странствующую сумасшедшую, а не человека, который только что в тебя влюбился. Эннен садится на заднее сиденье автобуса, следующего по маршруту Рейкьявик — Акранес, и притворяется девушкой из твоих снов, и болезнь набирает обороты, Эннен вновь сбрасывает вес и почти не ест. В конце концов она добровольно возвращается к матери в Торсхавн. Отец уехал, он отправился в прошлом году в Лондон, поехал искать ее и не вернулся, а следующей весной прислал матери Эннен открытку, совсем как в кино: «Sell the house, sell the car, sell the kids, I’m never coming back, forget it!»[57] (я лишь предполагаю, что там было написано именно так). Эннен опять кладут в больницу, вскоре она идет на поправку, но на этот раз, по настоянию матери, Эннен долго не выпускают, и однажды в ее комнате с желтыми стенами появляется Хавстейн, у него есть для нее предложение: переехать в другое место, на север, в Гьогв, мать и больница поддерживают Хавстейна, и Эннен отвечает: да, ладно. И они садятся в автобус.
Вот так мы и сидели по вечерам в комнате Эннен. Я и человек, которого ты всегда мечтал повстречать. И человек этот до одури слушает «Кардиганс». А я думаю о том, что именно тебя мне нужно было встретить много лет назад и обнять.
Все те вечера. В комнатах Эннен и Хавстейна, а иногда — Анны или Палли. Впервые у меня появилось столько друзей, к которым можно зайти, когда хочешь, и которые всегда мне рады. Выходные мы проводили вместе: ездили в Торсхавн, сидели в «Кафе Натюр». Однажды утром, когда выдался погожий денек, мы поехали на юг, в Вестманну. Хавстейн позвонил Палли Ламхауге, который летом вывозил туристов в бухту Вестманна смотреть на птичьи базары, и договорился, что мы приедем, несмотря на то, что сейчас не сезон. Мы сидели вместе с Ламхауге в открытой деревянной лодке на колючем холоде, на голове у меня был шлем, а руки я засунул под себя, чтобы не выпускать тепло. Все мы — Эннен, Анна, Хавстейн и наш Палли — сидели, тесно прижавшись друг к дружке. Они уже побывали там задолго до нашей поездки, для всех жителей островов это входило в обязательную программу.
Хадж.
Кааба.
Леденеющие пальцы и высокие волны.
Птицы срываются с места и парят в нескольких сантиметрах над морем, догоняют волну, а потом взмывают вверх и исчезают в тумане. На самом деле мне не хотелось ехать. Вообще не хотелось. Мне никогда не нравилось выходить в море. В детстве я даже не любил принимать ванну. Мы сидели в открытой лодке, а Палли Ламхауге возился с чем-то очень похожим на старый автобусный двигатель, приделанный прямо под палубой. Целый час ушел на то, чтобы вывести лодку на достаточное расстояние, и я почувствовал, что внутри я весь позеленел, мне хотелось домой, обратно на берег. Но сказать об этом я не решался. Мне не хотелось все портить.
И вот это произошло.
Мы обогнули мыс.
Взяли курс прямо на отвесные скалы.
Я понял, что такое единение с природой.
Утесы высотой в восемьсот метров и острые как иглы.
И птицы. Прежде я не испытывал перед ними никакого особого восхищения, подумаешь — грязные голуби, лениво переваливающиеся вокруг Брейаватне.[58] Однако сейчас я увидел тупиков, как они срываются с обрыва и летят вниз, прямо на нас, как будто падают. Но они не разбивались. У них все было под контролем. Они вроде камикадзе, и они делают это вовсе не потому, что мы смотрим, они такие и в одиночестве, ведь для счастья не обязательно, чтобы его кто-нибудь видел. А совсем наверху — смотрите — Ламхауге показывает на вершину одного из утесов.
— Что там? — спрашиваю я.
Он кладет руку на мою голову в шлеме и поворачивает ее в нужном направлении.
— Видишь ту белую поляну наверху?
И я вижу ее. Самая вершина утеса покрыта снегом — общей площадью метров пятьдесят.
— Летом там пасутся четыре овцы, — радостно сообщает Ламхауге.
— Там, наверху?
— Да.
На высоте восьмисот метров, на совершенно отвесном склоне, месяцами пасутся четыре перепуганных до смерти овцы.
— А вон на ту вершину, — продолжает он, — забираются две. А во-он там, слева, пасутся пятеро овец.
Я смотрю на Хавстейна. Он пожимает плечами:
— Экстремальный спорт.
Остальные, запрокинув головы, смотрят вверх.
— У них особенно хорошее мясо, на такой-то высоте, — говорит Ламхауге.
— А как же овцы туда забираются? И как потом спускаются? — спрашиваю я.
Он улыбается:
— Их поднимают туда. А потом спускают назад. Поймать их очень сложно, они страшно пугливые. Нужно как минимум по одному человеку на овцу. Их страхуют веревкой, чтобы не упали.
— И они никогда не падают?
— Падают, конечно. Всякое бывает. Овцы тоже падают. Но это такой тест на мужество. Не хочешь попробовать? Прославишься!
— Может, в другой раз как-нибудь, — отвечаю я.
— Может. Весной.
Смех в лодке. Волны. Дождь. На машине до дома. В тот день я отправил родителям открытку. С видом одного из птичьих утесов, самого высокого. Не помню, что я там написал, по-моему, что-то о птицах. И о воде.
Бомба разорвалась через неделю. Я на четыре дня ездил в Фуннингур, помогал одной старой вдове разбить зимний садик, я как раз вернулся домой с работы и услышал, что Хавстейн зовет меня к себе. Я послушно сбросил ботинки и, поднявшись к нему, остановился в дверях, даже комбинезон еще не успел снять, а руки были испачканы землей.
— Что? — спросил я.
— Садись, — резко сказал он.
— Случилось что-то?
— Я сказал, садись!
Я сел. Мне было неуютно.
Хавстейн не стал эффектно молчать, целую минуту глядя в окно. Он спросил:
— Зачем ты заходил ко мне в спальню?
Зачем я заходил к нему в спальню, я не знал.
— Ты о чем? Да не заходил я к тебе в спальню, — ответил я.
— Тебе здесь нравится? Нравится тут жить?
— Да.
— Тогда почему ты держишь меня за идиота?
Это мне вообще не понравилось.
— Не знаю, — ответил я.
— Матиас, зачем ты рылся у меня в тумбочке?
Я не мог придумать, что ответить. Я сказал:
— Мне было нечем заняться.
— Нечем заняться?
— Да.
— Неужели ты думал, что я не узнаю? Ты думал, я не увижу, что кто-то рылся в моих вещах? Кто-то залезал ко мне, и ты думал, я сочту это нормальным?
— Нет, — ответил я на все вопросы, которые он задал.
— Тебе известно, что это называется вторжением?
Я молчал. Смотрел в пол. Мне было стыдно. Стыдно перед всем миром.
— Все вы одинаковы, черт бы вас побрал, — сказал он, заботитесь только о самих себе, а я остаюсь в дураках. — А потом он прибавил: — Ты поступил плохо. Очень плохо.
Мне так хотелось что-нибудь сказать, чтобы поправить ситуацию, только ради него, потому что быть виноватым, быть взломщиком — это еще не самое страшное, намного хуже быть обманутым, тем, кого убеждают, что праздник отменили, кто больше не доверяет другим и кому остается только сердиться. Но в тот момент я не мог произнести ничего, что успокоило бы его.
— Извини.
— Матиас, этого недостаточно. Одного этого недостаточно.
Мы немного помолчали. Уйти я не отваживался. Не отваживался, боялся даже шевельнуться.
— Та книга, — начал он, — это самое важное из того, что у меня есть. Та книга — это и есть я.
Хавстейн был островами Карибского бассейна. Я был идиотом. Так уж оно сложилось. Справедливое распределение ролей.
— У всех есть что-то такое, Матиас, что значит для них необычайно много.
Я вспомнил о коробке с книгами про полеты в космос, которая осталась в Ставангере, вспомнил о книге, которую мне подарили на день рождения, когда мне исполнилось десять. Однако момент был неподходящий, чтобы о ней рассказывать.
— Я купил эту книгу, когда работал в Государственной больнице Копенгагена, — продолжал он, — я жил тогда с одной шведкой. Ее звали Мария, и я очень ее любил. По-моему, я даже собирался на ней жениться. Но у меня ничего не вышло. В конце концов она исчезла — из нашего дома, из города, кажется, даже уехала из страны. Причин могло быть множество. Но я помню, что последнее время у нас с ней все разладилось. Мы почти не разговаривали, хотя нам обоим очень хотелось высказаться. Ну, вроде как не с чего было начать. Поэтому мы и не говорили, пытались просто жить дальше, надеялись, что все само собой уладится. И вот однажды я возвращался с работы домой — это был один из последних дней перед ее отъездом — и зашел в книжный магазин. Я решил подыскать какую-нибудь книгу, чтобы отвлечься от царящей в доме тишины. В тот день в Копенгагене шел снег, такое бывает крайне редко, во всяком случае, он сразу тает. Но в тот день шел снег, было это в декабре 1980-го, из динамиков доносилась «О, святая ночь» в довольно скверной обработке, чтобы посетители прониклись праздничным настроением, и я подумал тогда, что это должно что-то значить. Так вот, я бродил по магазину и наконец нашел эту книгу. Она продавалась со скидкой. «Fielding’s Guide to the Caribbean plus the Bahamas». Для распродажи такой книги время года было на редкость неподходящее, наверное, именно поэтому я взял ее и открыл. Издали ее пятью годами раньше, на первой и последней страницах была напечатана реклама. Лучшая книга в этом жанре. «The Best», — было написано на ней. «The Best», — «Вашингтон Д. С. Стар». «The Best», — «Форт Лодердейл ньюс». «The Best», — «Майами ньюс». Я не знал, крупные это газеты или маленькие, мог только догадываться. «Tells how to avoid trouble spots in paradise».[59] Как раз то, что нужно. Путеводитель по раю, рассказывающий о том, что находится за тысячи километров. Не знаю, может, я серьезно надеялся, что эта книга нам поможет, а может, мне из-за слабости было проще возложить все надежды на нее. Однако я купил ее и принес домой, но в тот день мы так и не поговорили. Всю ночь я просидел за книгой. Я чувствовал, что в гостиной наступило лето. Я прочитал ее целиком — от корки до корки, от Антигуа до Тринидада и Тобаго. А потом пошел на работу. Когда я вернулся, Мария уже собрала вещи. Может, мне было все равно, не знаю. Больше мы не встречались. Я жил в Копенгагене, работал в Государственной больнице, дел было много, я периодически начинал встречаться с другими женщинами, но ничего серьезного не выходило. Потом, летом 1981-го, я вернулся обратно на Фареры. Книгу я взял с собой и временами перечитывал. Я всегда ее любил. Она была для меня словно кусочек лета. А здесь лета не слишком много. На Фарерах. А переехав сюда, на Фабрику, я начал перечитывать ее постоянно, каждый вечер по отрывку. Попытался дополнить ее, и все, что я узнавал о Карибском море, записывал на полях, специально интересовался, спрашивал, читал. Я написал письмо авторам, Гарри Ф. и Джинн Перкинс Харманн, расспрашивая о том, что не упомянуто в книге, один раз даже звонил им, и они пригласили меня в гости, но мы так и не смогли договориться о сроках. Не уверен, что поездка прошла бы удачно. Гарри был чемпионом по легкой атлетике в университете Атланты, он ветеран Второй мировой и служил офицером на бомбардировщике в Тихом океане, на Иво Джима и Сайпане, а Джинн писала статьи для «Нью-Йорк геральд трибюн», «Лайф», «Нью-Йорк таймс» и «Бизнес уик», работала местным корреспондентом «Тайм» и была удостоена похвалы от самого губернатора Виргинских островов. А я всего лишь фарерский психиатр, который никогда не выезжал за пределы Скандинавии.
Хавстейн замолчал, ожидая, что заговорю я. Но мне нечего было добавить. Он опустил глаза.
— Эта книга значит для меня необыкновенно много, понимаешь? — Его голос зазвучал добрее. Он, скорее всего, перестал на меня сердиться. — Я читаю эту книгу почти полжизни.
— Да, — ответил я, — да.
— Так как же, черт возьми, тебе в голову пришло войти ко мне в спальню? И залезть в ящик?
— Не знаю. Мне просто было некуда себя деть. Со мной такое бывает. И еще было интересно, что ты такое читаешь каждый вечер, когда мы с Эннен сидим у нее. Наверное, поэтому так и вышло.
— Ты же мог спросить.
— У меня как-то не получилось. Тебе нужно повесить замок на дверь.
— Может, и так. Или на тебя нужно надеть наручники.
Мы засмеялись. Мне было приятно, что он опять улыбается, и я, словно впервые за сотню лет, осмелился шевельнуться, просто совсем слегка поменял положение.
— А ты туда ездил? На острова Карибского моря?
Он огляделся. Он будто расстроился из-за моего вопроса, а может, из-за самого себя.
— Нет. Нет еще. Но я собираюсь.
— Все еще собираешься? Уже двадцать лет?
— Я не в отпуск туда поеду. Я уеду навсегда.
— Почему?
— Не знаю, — Хавстейн вздохнул, — поэтому я еще не уехал.
В тот день и после мы больше на эту тему не разговаривали, хотя он, должно быть, понимал, что я об этом думаю.
Мне не удавалось прогнать мысль о том, что я отнял у него то немногое, что принадлежало лишь ему, и что волшебство, рожденное островами, картами и вечерами, проведенными в кабинете, начало исчезать. Наверное, именно поэтому однажды вечером, когда мы с Эннен сидели у меня в комнате и болтали, Хавстейн зашел ко мне с книгой в руках. Он протянул мне книгу, и я молча взял ее.
— Я подумал, может, ты хочешь почитать.
— Спасибо, — сказал я, — спасибо тебе.
Он уже собирался уходить, когда я осмелел и спросил:
— Как ты догадался, что это я?
— Потому что остальные туда уже лазили.
— Все?
— По очереди.
И с того вечера так повелось, что когда я ложился, в комнате у меня тоже наступало лето, светлое и жаркое, и надо мной было синее небо, а уши мои наполнял шум слабых тропических бурь, смех купающихся людей и музыка из транзисторов.
А потом помню тот день в начале декабря, мы с Хавстейном сидели в гостиной, он сначала читал газету, а потом ни с того ни с сего спросил меня:
— У тебя есть какие-нибудь планы на Рождество?
Есть ли у меня какие-нибудь планы на Рождество?
Есть ли у меня какие-нибудь планы?
Нет.
— Нет, — ответил я, я вообще-то думал, что мы будем его праздновать здесь, все вместе, — не знаю, а ты как думаешь?
Хавстейн читал газету. Не отрывая от нее взгляда, он сказал:
— А ты не хотел бы съездить домой?
Домой?
Сейчас?
Сейчас, когда меня только-только починили?
— Я думал, может, ты хочешь отпраздновать Рождество вместе с родителями?
— Ты думаешь, мне можно сейчас ехать домой?
Он взглянул на меня, словно чтобы убедиться в том, что принял правильное решение, или просто потому, что я задал глупый вопрос.
— Да, я думаю, все прекрасно пройдет.
— Я даже не знаю, — сказал я, и Хавстейн наконец оторвался от газеты.
— Ты можешь купить билет в два конца. И вернуться.
— И правда.
Я слегка задумался. Поехать домой. Рождество. Рождество в Ставангере, разговоры за столом и в барах, беседы об одном и том же — что снега выпало мало. С неба будет сыпаться мелкая мокрая крупа, а в Вогене разыграется буря. Пакеты с одеждой под елкой. Представители Армии спасения в теплых пальто и с кружками для пожертвований. Между домами на главных улицах протянут гирлянды с электрическими лампочками. На малый сочельник мы с Хелле покупали елку, не раньше, раньше нельзя, обязательно дожидались малого сочельника, хотя елки быстро раскупали, а цены росли. Елка всегда была какой-то взъерошенной, и мы с Хелле обязательно наряжали ее, хотя елочных украшений у нас было мало. На малый сочельник Йорн вечно пытался вытащить меня пить пиво в «Цемент». Я никогда туда не ходил. Снова и снова «Графиня и дворецкий». Счастливого Рождества и с Новым годом.
— Может быть, — сказал я.
— Ты подумай об этом, — ответил Хавстейн.
Прежде чем окончательно что-то решить, я прозондировал почву: Хавстейн собирался на Рождество в Орхус, все его родственники каждые два года приезжали в Торсхавн, Эннен поедет к матери в Торсхавн, Анна уедет домой в Мидвагур, а Палли всегда празднует Рождество с семейством в Коллафьордуре. Если я останусь, то буду здесь совсем один. Не знаю, хотелось ли мне оставаться в одиночестве. Я не самая подходящая для себя самого компания.
Я сделал два телефонных звонка. Один — в Ваугар, в «Атлантик Эйруэйз». Да, у них еще осталось несколько билетов на рейс до Ставангера на малый сочельник, самолет в пятнадцать минут четвертого. В моей комнате лежал конверт с двенадцатью тысячами крон. Я сказал, что за билеты расплачусь наличными. Девушка поздравила меня по телефону с Рождеством. Голос у нее был мягким, словно свертки под елкой. Потом я позвонил отцу. Мне не хотелось звонить с Фабрики, чтобы остальные слышали, поэтому я оделся, поднял воротник, вышел на улицу, и, сгибаясь от ветра и мокрого снега, дошел до старой телефонной будки рядом с закрытым магазином.
— Алло.
— Привет.
— Матиас?
— Да.
— Матиас? Матиас, это ты?
— Да, это я.
— Ох, господи, как ты, Матиас?
— Хорошо. У меня все в порядке. Ты получил мою открытку?
— Да, получил. Спасибо. Красиво там у тебя. Места много.
— Здесь замечательно. Хорошо бы, если бы ты приехал.
— Я так переживал из-за тебя. Мы так из-за тебя переживали.
— Вы не волнуйтесь. Поводов для переживаний хватает.
— Каких, например?
— Ну, например, события на Балканах.
— Ты о чем это, Матиас?
— Я, наверное, приеду домой.
— Вернешься насовсем?
— Приеду на Рождество. Можно?
— О господи, Матиас, ну разумеется, приезжай. Когда хочешь. Мы по тебе так скучали! И про тебя все спрашивают!
— Все?
— Ну да, твои тетки, дядя, бабушка. Йорн. Хелле.
Он произнес последнее слово и сразу же пожалел, попытался заглушить его, но имя ее уже отправилось в свободное плавание.
— Хелле? Ты с ней разговаривал?
Отец задумался.
Пан или пропал.
Вопрос на сорок восемь тысяч крон.
К сожалению, ваше время на размышления истекло.
— Ну да, я… — Бормотание по другую сторону Атлантики. Серебряное блюдо в качестве утешительного приза.
— Она к нам заходила несколько раз. Мы немного поговорили. Ну, ты тогда уже уехал. И не вернулся.
— Ну и о чем же вы говорили?
— О тебе.
— Надеюсь, только хорошее, — попытался я пошутить. Он не засмеялся.
— Матиас, ей тоже пришлось нелегко.
— Неужели?
— Да, нелегко.
— И чем я могу помочь?
— Ты же просто взял и уехал. Она не могла понять, что происходит. Ты просто взял и исчез.
— Вообще-то это она исчезла.
— Знаю, Матиас. Я знаю. Но…
Телефон запищал. Деньги заканчивались. Я порылся в карманах, выискивая монетки.
— Подожди…
Я бросил две десятикроновых монетки, и писк прекратился. Наше дыхание летело по проводам, пробиралось по трубке и согревало руки по другую сторону Атлантики.
— Я приеду на малый сочельник. Самолет приземлится в Соле в четыре часа.
— Я тебя встречу, хочешь?
— А тебе не трудно будет?
— Конечно нет.
— Тогда ладно.
— Я так рад, Матиас.
— Это хорошо, — сказал я.
— Ты не хочешь с мамой поговорить?
— А ты можешь ей просто привет передать? Мы же на следующей неделе увидимся…
— Хорошо, передам.
— Ладно. Тогда до встречи.
— До встречи, Матиас. Береги себя.
— Хорошо.
Молчание.
Щелчок.
Я вышел из кабинки и пошел домой. Никто не заметил, что я выходил.
На следующей неделе, в среду, все остальные разъехались. Рано утром, я еще не вставал, поэтому все стучались в дверь, заходили, обнимали меня, поздравляли с Рождеством, а Эннен принесла какао, и мы сидели на моей кровати с дымящимися кружками в руках, словно в походе, только бутербродов не хватало. Хавстейн заходил три раза, чтобы убедиться, что он правильно запомнил, когда я возвращаюсь. Еще он надавал мне целую кучу всяких ценных указаний — что нужно выключить, что включить, на какие кнопки нажать, как запереть дверь, какие автобусы идут до Торсхавна, сказал, что автобус в аэропорт отходит от причала за два часа до самолета, то есть в четверть второго, верно? — Да-да, хорошо, ладно. Опять объятия и поздравления, а потом все уехали, и я остался лежать в кровати один, последний человек на Луне.
Однако на следующий день автобус не пришел. То есть пришел не вовремя. Автобус опоздал, а я встал слишком рано, или наоборот. Я собрал вещи и сел в прихожей, глядя, как медленно двигаются стрелки на часах. Автобус опоздал почти на час, и в двадцать минут третьего я вышел в Ойрабакки, чтобы пересесть на автобус до Торсхавна, а еще через сорок минут я уже сидел в такси, которое промчалось через тоннель под проливом Вестманна, оставляя позади Сандаваугур, куда мы в конце лета ездили в праздник смотреть состязания по гребле, потом слева промелькнул Мидваугур, я смотрел на часы, потом высматривал в окно самолет, но не мог ничего разглядеть. Потом мы промчались мимо Ватнсойрар и подъехали к аэропорту, я выскочил из такси, которое тут же исчезло в облаках, и бросился ко входу.
Стоя в зале вылетов в Ваугаре, я смотрел, как самолет до Ставангера едет по взлетной полосе № 18, и сумки с подарками отцу, маме, Йорну, с вещами, купленными в Торсхавне за последние месяцы, становились все тяжелее и тяжелее. Поделать я ничего не мог. Я побрел к выходу, надеясь, что вот сейчас я что-нибудь придумаю, что решение возникнет само собой, ниоткуда. Я зашел в сувенирный магазинчик и увидел на полках наших овец, расставленных в ряд. Там еще продавались лошади. И коровы. Прямо настоящая ферма. Но нашими были только овцы. В кафе напротив я взял чашку кофе. Подождал. Мыслей в голову не приходило. Повалил снег с дождем, и рейс в Англию отложили на четыре часа. Чашку мне дали большую, а кофе мне не очень хотелось.
Рядом сидели муж с женой, примерно моего возраста. Они выглядели опечаленно. Кожа у них была того зеленоватого оттенка, который сразу же выдает англичан, он возникает из-за кислотных дождей и постоянных шахтерских забастовок. Сидя в зале вылетов международного аэропорта, где нет ни магазинов, ни баров, они ссорились. Надо же случиться такому. Он, очевидно, что-то забыл. Что именно, я не понял: они разговаривали быстро, тихо, и диалект их отличался от речи дикторов Би-би-си. Он пытался взять ее за руку, но она все время вырывала ее. «I’m sorry, — повторял он. — I’m sorry. So sorry».[60] Я пил кофе. Мне было обидно за него. Я пытался отгадать, откуда они родом. Откуда-нибудь из Англии или, может, из Шотландии. Может, из Эдинбурга. Или Сванси, Уэльс. Я представил, что они так и не помирились, и вот завтра вечером он останется в гостиной один, а она уйдет спать. Уйдет спать вместе с детьми, потому что «папа-папа-папа плохо поступил, и, если бы не вы, мы бы давно уже развелись», а «папа-папа-папа» останется в гостиной и будет заворачивать подарки, возиться с оберточной бумагой, измучится вконец, но будет стараться изо всех сил, он нарядит елку и повесит на нее лампочки. Он всю ночь просидит в гостиной, выпьет чаю, потом попытается включить лампочки, но одна не работает, в одной из трехсот двадцати пяти лампочек будет отходить контакт, поэтому ему придется еще раз, до ломоты в суставах, закручивать их, и когда он прикрутит последнюю, гостиная наполнится светом. И тогда, прямо как в американских фильмах, он обернется и увидит, что она стоит позади, скрестив на груди руки, его жена, Дорис, с которой они вместе прожили столько лет, с которой познакомились еще в начальной школе, когда обоим было по двенадцать лет, и которая была единственной девочкой в классе, носившей школьную форму. Он столько лет ее добивался, он четыре года занимался греблей, потому что думал, что ей нравятся такие мальчики, а ей это вовсе не нравилось, она просто ждала его, только и всего. И вот однажды вечером это произошло, неуверенные движения, его неловкая рука у нее под блузкой, тогда, на празднике. И их дети, которых он обожает и которые наполовину его, а наполовину — ее. Они вдвоем. И теперь она стоит в дверях в цветастом фартуке, стоит там уже полчаса, наблюдая, как он спасает их семью. Поворачиваясь, он смотрит на нее, играет радио, какая-нибудь подобающая моменту песня, Бинг Кросби, скорее всего, они начинают танцевать, она так много лет не танцевала и стала такой неуклюжей, но он двигается легко, он кружит ее, и тут к ним спускаются дети в пижамах и останавливаются в дверях.
Их глаза сверкают. В волосах снег.
Момент для снимка на пленку «Кодак».
Но тогда они ссорились. Допив оставшуюся на дне чашки кофейную гущу, я встал и подошел к ним. Я положил перед ним свертки с подарками для мамы, отца и Йорна.
— There you go, — сказал я.
— Sorry, sir?
— Lighten up, squirt,[61] — произнес я и вышел на улицу.
Снег перестал, а может — я был не в силах понять — только собирался.
Потерянно постояв с минуту, я направился к окошку для справок, где рассказал, что не успел на самолет, потому что автобус пришел с опозданием. Что я застрял здесь. Спросил, возместят ли мне деньги за билет. Это же не по моей вине произошло.
— До следующей среды рейсов не будет, — сказала женщина в окошке.
— Я знаю, — ответил я, — я опоздал на Рождество. А вам не кажется, что Рождество наступает как-то внезапно? — Она посмотрела на меня. Она не поняла, о чем я. Но улыбнулась, зубы у нее были белые. Наверное, у нее хобби такое: каждый вечер до слез сдирать с зубов эмаль какой-нибудь железякой.
— У вас есть, где переночевать? На Рождество? — спросила женщина. Она действительно выглядела встревоженно, может, это по доброте, а может, просто боялась, что когда она поедет домой, то на автостоянке наткнется на меня, полузамерзшего, и тогда ей придется приводить меня в чувства.
— Я могу пожить на Фабрике, — ответил я, не задумываясь над тем, как это прозвучало, — в Гьогве. — Должно быть, мои слова прозвучали странно. Она грустно посмотрела на меня.
— Знаете, к сожалению, такие проблемы не только у вас. Рейс в Англию, скорее всего, отменят из-за погоды. Так что… — женщина замолчала, словно смутившись, — вы можете с кем-нибудь из пассажиров поговорить, может, они помогут вам с ночевкой. Хороших людей здесь много.
— Да, и еще много дружелюбных англичан, — ответил я, — я разберусь, спасибо. Все будет хорошо. Намного лучше, чем раньше.
— Вот как? Подождите, пожалуйста. — Она исчезла за перегородкой, и я слышал, как она обсуждает что-то с другими сотрудниками. Она вернулась. Та же улыбка, те же белые зубы.
— Во всяком случае, мы вам возместим стоимость билетов. Это же не по вашей вине произошло. Знаете, сейчас в Гьогве живет очень мало народу.
— Почти никого, — подтвердил я.
Женщина застучала по клавишам, с интересом глядя на монитор, а потом открыла кассу и вернула мне деньги.
— Спасибо.
— Пожалуйста. Gleðilig jól.[62]
— Да уж, — ответил я, — счастливого Рождества.
Я вернулся в сувенирный магазинчик в другом конце зала вылетов и купил открытку с видом Торсхавна, чтобы они не подумали, будто там, где я живу, нет магазинов. Написал на обратной стороне адрес родителей и пару коротких предложений, что я не смогу приехать на Рождество домой. Написал, что у меня все хорошо. Что беспокоиться не надо. Написал — с Рождеством. Написал — с Новым годом. С приветом, Матиас. По-прежнему с острова, который никогда не затонет. Не знаю, зачем я приписал вот это, последнее, может, потому что место оставалось.
Вернувшись на автобусе в порт, я зашел в «Бургер Кинг» в супермаркете, взял там рождественский гамбургер — вау, по случаю праздника на два грамма больше по той же цене! Только вот рождественской газировки у них не было.
Когда я вышел, дул пронизывающий ветер, стемнело и наступил малый сочельник. Магазины уже закрылись, поэтому я купил продукты на автозаправке, а потом опять вернулся в центр и послушно, как собака, сел на остановке, дожидаясь автобуса до Гьогва. Порывшись в пакете, я достал бутылку газировки и шоколадку. Счастливого Рождества! Было холодно, а на мне были легкие кроссовки и слишком тонкая куртка, однако автобус подошел точно по расписанию, а когда я вошел в него, водитель почему-то обрадовался. Сев прямо позади водителя, я пил газировку и раздумывал, не спросить ли мне его об Эннен — может, он знает ее, но я так и не спросил. Табличка гласила: «Не отвлекайте водителя». И я эту просьбу выполнил.
В Гьогве я вышел. Автобус развернулся, переполз через холм и, набирая скорость между поворотами, отправился в обратный путь. Я даже не успел завернуть за угол, откуда было видно Фабрику, как уже промок. Ветер дул мне прямо в лицо, и в рот набивался мокрый снег с дождем, hard rain,[63] а на Фабрике было темно, горел только уличный фонарь. Я машинально ускорил шаг и покрепче вцепился в пакет, хотя знал, что меня там никто не ждет, что все остальные разъехались уже почти сутки назад и что эта неделя покажется мне долгой.
Один.
Без еды.
Без людей.
Рождество. Дождь. Снег.
Я остановился посреди кухни. Здесь было тихо. Пусто. Подходящий денек для того, чтобы спеть. Без слушателей. Казалось, за прошедший день стол покрылся толстым слоем пыли. Постояв в темноте, я нажал на выключатель, и кухню залило светом. Я хотел бы проснуться сейчас у себя в комнате на втором этаже. Услышать звуки снизу. Человеческие голоса. Даже крысы покинули мой корабль.
2
Вторая половина дня. Вечер. Темнота. Я сидел в нашей огромной гостиной перед телевизором и бездумно смотрел новости. На втором этаже зазвонил телефон. Я знал, кто это.
Отец.
В Ставангере отец поднялся со стула, подошел к телефону в коридоре и, глядя на бумажку, приклеенную к зеркалу, набрал номер. В Гьогве зазвонил телефон.
Встав с дивана, я вышел в коридор, поднялся по лестнице, вошел в кабинет Хавстейна и не успел подойти к телефону, как тот умолк.
Я представил, как отец в Ставангере стоит рядом с телефоном, а рядом стоит мама, наклонившись к трубке, будто надеясь услышать мой голос, хотя я и не ответил. Телефон зазвонил вновь, и я взял трубку.
— Алло.
— Матиас?
— Да, это я.
— Матиас, что случилось? Я ждал тебя в аэропорту.
— Я опоздал на самолет.
— Как это? Опоздал?
— Автобусы здесь не всегда ходят по расписанию.
Я чувствовал, что рядом стоит мама. Она молчала, но я все равно знал, что она там.
— Матиас, я так долго тебя ждал, все уже забрали багаж, а я все стоял и ждал. А потом я пошел в справочную и попросил проверить по списку пассажиров. И тебя там не было.
— Я опоздал на десять минут. И на старуху бывает проруха, — сказал я.
— Но, Матиас, почему же ты не выехал пораньше?
— Это не я опоздал. Это мой автобус уехал слишком рано.
— Но… — отец замолчал, — когда же ты теперь приедешь?
Я собрался с силами.
— Не знаю. Но наверное, не скоро еще.
— Но, Матиас…
И я перебил его, сказав:
— Папа, ты должен как-нибудь приехать сюда, приехать и посмотреть на море, оно тебя ждет. — Я сказал так, чтобы отвлечь его, и он отвечает, что и впрямь хотел бы приехать, и мы начинаем обсуждать время поездки, хотя оба знаем, что он никогда не приедет, не потому, что не хочет, а потому, что такого просто не бывает, у него работа, без мамы он уже больше двадцати лет никуда не ездил, он не очень легок на подъем, он домосед. А я много раз повторяю, что он должен приехать, и отец обещает приехать, мы планируем то, чего никогда не случится, и мы оба это осознаем, потому что я его сын, а жизнь моя сейчас так далека от его жизни, что если он приедет, то окажется в ней чужим и лишним и я, представляя его людям, с которыми провожу тут время, буду смущаться. Хотя это совсем не так, я не знаю, как мне объяснить отцу, чтобы он понял, насколько я действительно хочу, чтобы он приехал, больше всего на свете хочу, чтобы он приехал сюда, посмотрел, как я живу. А потом голос отца исчезает, и трубку берет мама.
Мамин голос:
— Матиас?
— Привет. Что?
— Когда ты приедешь домой? Когда следующий самолет?
— Ну, где-то на рождественской неделе.
— Хорошо, то есть ну да — так ты приедешь? Домой? На рождественской неделе?
— Нет. — Не знаю, почему я так решительно ответил, просто так уж получилось.
— Матиас, мы так по тебе скучаем. Мы так хотим, чтобы ты приехал.
По мне скучали.
Меня ждали.
Я был в другом месте.
Я напоминал телефакс, который забыли отправить как-то в пятницу. Несостоявшиеся переговоры.
— А дома сейчас идет снег?
— Снег? Здесь, в Ставангере? Не-ет…
— Я так и думал.
— Почему?
— В Ставангере почти и не бывает снега. Совсем не удивительно.
— Ты о чем это?
— А кто в гости придет? На Рождество?
— Ну-у, как обычно. Твои тетки, дядя Эйнар, бабушка.
— Слушай, а сколько бабушке лет?
— Сколько ей лет… Хм, не знаю. Много.
— А ведь она же до самой пенсии работала в фотоателье Эллингсена, верно?
— Да.
— Она была фотографом и проявляла снимки, так ведь?
— Да, верно. Твоя бабушка очень талантливым фотографом была.
— Но ведь ее собственных фотографий у нас очень мало. Может, только парочка найдется.
— Да, ты, наверное, прав. А ты к чему это?
— Да нет, так просто спросил. Странные вещи порой случаются.
— Почему ты об этом спросил, Матиас?
— Не знаю. Просто в голову пришло.
— Так ты когда домой приедешь? Приедешь на рождественской неделе?
— Нет. Наверное, не приеду. Я, наверное, останусь здесь еще на какое-то время.
— Но… у тебя хоть деньги есть? И что нам делать теперь с твоей квартирой? Она сейчас свободна, отец каждый месяц за нее платит, но так же не может вечно продолжаться. Ты мог бы у нас пожить…
— Все в порядке. Не волнуйтесь. У меня есть деньги. Я тут устроился на работу. Кстати, мне, скорее всего, больше не нужна будет та квартира. Можно отказаться от аренды.
— Ты сказал — ты на работу устроился. Что за работа?
— Ну, сначала я делал овец. Из дерева. Сувениры для туристов. А теперь снова стал садовником.
— Деревянных овец?
— Очень красивых. Хочешь, могу прислать тебе парочку.
— Мне больше хочется, чтобы ты почаще звонил.
— Я послал вам открытку.
— Что?
— Я вам открытку отправил. Рождественскую. Картинка на ней, правда, не совсем в рождественском духе. Но все равно.
— Ладно, — сказала мама, и по голосу я слышал, что она сдалась, — Матиас, я побегу, мне еще надо успеть стол накрыть, и по телевизору скоро Видар Ленн-Арнесен,[64] ты же знаешь, мы обычно смотрим его на малый сочельник, так что…
— Ну, с Рождеством, — поздравил я. Я не рассказал, что все остальные разъехались и я остался тут один.
— С Рождеством, Матиас, — смущенно ответила она, — береги себя.
Уже опустив трубку, я услышал, что отец тоже желает мне счастливого Рождества, но не успел я ему ответить, как связь прервалась. Перезванивать только ради этого мне не хотелось.
Я стоял в комнате Хавстейна. На ногах ботинки. Никаких планов. Малый сочельник 1999-го.
И чем же заняться? Посмотреть телевизор? Приготовить вкусный ужин? Найти комнату, где сильное эхо, и петь рождественские песенки? Инструкций для тех, кто проводит Рождество в одиночестве, еще не выпустили. Зато выпустили телегиды. И ужины быстрого приготовления.
Комната Хавстейна. Его кабинет. Прямо в центре большой стол. Естественно, из массивного дерева. На нем и стоял телефон. Возле стола два стула. У одной стены — двенадцать ящиков для архива. Позади стола книжная полка. На противоположной стене, рядом с дверью в спальню — еще одна. Хавстейн обставлял кабинет, явно насмотревшись фильмов: все вокруг напоминало декорации. «Кабинет врача-психиатра». Скорее всего, именно поэтому я развернулся, подошел к ближайшему архивному шкафчику и выдвинул ящик. Потому что думал, там будет пусто. Что все ящики окажутся пустыми. Или набитыми простой белой бумагой. Но я ошибся. Ящики были набиты исписанной бумагой: набросанные изящным почерком заметки, неразборчивые записи, сделанные шариковой ручкой, и бесконечные страницы печатного текста. Большой архив. Без конца и края. Личные дела на всех, с кем Хавстейн сталкивался на протяжении многих лет. Не знаю — может, только на тех, кто побывал на Фабрике, а может, и на всех остальных его пациентов. Где-то там Эннен, Анна и Палли, с присвоенным личным номером и расшифровкой характера. Мне следовало закрыть шкафчик, спуститься на первый этаж, усесться перед телевизором, проникнуться рождественским настроением, взять бутылочку пива и орешки. Завернуть подарки, которых у меня не было. Позвонить другу. Однако я решил стать вором с самым длинным на свете носом. И я буду совать его в чужие ящики и шкафчики, откуда один за другим будут вываливаться скелеты и укладываться в штабеля.
Я снова это сделал. Мне не стоило доверять.
Вытащил несколько стопок бумаги.
Начал рыться в записях, просматривая сотни личных дел. Смотри приложение 1–9, смотри фотографию 2F, смотри прилагающуюся выписку СТ. Смотри все. И я смотрел.
Сидя на стуле Хавстейна и обложившись записями, я просматривал и читал заключения о госпитализации, заключения о выписке, а потом вновь заключения о госпитализации. Вечные пациенты и просто находящиеся под наблюдением больные, которые однажды навсегда покинули больницу и не вернулись, которые стали работать, стали частью мира и перестали отличаться от всех остальных. Пилот самолета. Капитан корабля. Горничная в гостинице, которая застилает вашу кровать. Почтальон, который приносит вам письма и даже не пытается заглянуть в них. Те, благодаря кому корабль ваш не пойдет ко дну. Одним из них может быть кто угодно.
И вот наконец среди залежей бумаг я нашел то, что искал.
№ 12 ВМФ. 82/05/32914/1–15.04.1980
Поулсен, Палли Йоуаннес. Личн. номер: ХХХХХХХХХХ.[65] Дата рождения: 12 марта 1962 г. Место рождения: Сигнабеур, Коллафьордур. Госпитализирован в первый раз по просьбе родителей, ХХХХХХХХХХ и ХХХХХХХХХХ, 15 апреля 1980 г. в возрасте 18 лет. На момент госпитализации пациент в браке не состоял, ранее госпитализирован не был. У брата отца, ХХХХХХХХХХ, отмечена шизофрения. Отношения в семье пациента нормальные. Отец пациента — рыбак, часто отсутствовал по прич. работы, мать — домохозяйка. Подробная биография — см. прил. 1. В возрасте 17 лет пациент начал работать моряком на иностранных судах. При работе на некоторых судах проявлялись признаки повышенной нервозности, утомляемость. На протяжении всего периода пациент работал на шести судах. Беспорядочные нерегулярные сексуальные контакты. В возрасте 18 лет закончил работу на судах и вернулся домой. Родители отмечают отдельные признаки психического расстройства: бессонница, беспричинная тревога, отсутствие целеутремл. (прогрессирует), жалуется на то, что соседи следят за ним, читают его мысли и передают их на корабли, где он работал. В неопределенный момент данные симптомы прекращаются. По истечении какого-то времени пациент начинает отказываться от еды, жалуясь, что пища отравлена соседями и членами семьи. В беседе сообщает о том, что слышит угрожающие голоса. При первом разговоре с врачом пациент ведет себя спокойно, выглядит ухоженным, расположен к взаимодействию, охотно отвечает на большинство заданных напрямую вопросов, хотя иногда слишком подробно или, наоборот, недостаточно подробно. Реагирует на изменение обстановки. Пациент прошел курс лечения в клиническом отделении, Торсхавн, 8 недель, лечение нейролептическими препаратами клорпромазин (хибанил). (…) Пациент самовольно прервал лечение, вернувшись к родителям, которым сообщил об окончании лечения. Госпитализирован второй раз 2 июля 1980 года. Продолжение курса терапии и лечения клопромазином на протяжении 11 месяцев. Результаты положительные, частичное исчезновение симптомов (смотри приложение 2). (…) Пациент госпитализирован в шестой раз 12/6–1989 на более длительный период при частичной ремиссии. К моменту госпитализации пациент на протяжении длительного периода (четыре года) вел самостоятельную жизнь под еженедельным наблюдением. Выполняет несложную работу в порту, охарактеризован как человек, приятный в общении. Госпитализирован по причине легкого ухудшения, курс лечения малыми дозами препарата галоперидол (2 мг, 12 недель). Переведен в реабилит. центр, Гьогв, под набл. доктора Хавстейна Гардалида 13/8–1989, полная ремиссия, продолж. курс лечения малыми дозами нейролептиков или соотв. преп. при осложнении. ICD-10 F20.x3. (подпись)
№ 33. ФХТИЕ. 82/530/1929/7–22.01.1989
Анна Камбскард. Личн. номер ХХХХХХХХХХ. Дата рождения: 17 июня 1965 г. Месторождения: Мидвагур. Госпитализирована в первый раз 22 января 1989, по просьбе отца, ХХХХХХХХХХ, в возрасте 24 лет. В момент первой госпитализации пациентка в браке не состояла. Способность ориентироваться в пространстве, времени и ситуации. Во время беседы с врачом проявление отчаяния, гнева, апатии и подозрительности. В достаточной степени отвечает на заданные психиатром вопросы. Прежде не госпитализировалась, но, по словам родителей, схожие симптомы наблюдались у некоторых непрямых родственников. Отношения в семье частично конфликтные. Окружающие отмечают неадекватность действий пациентки, но характеризуют ее как отзывчивую (смотри приложение 1). Период формирования организма 0–16. В период с 18 до 22 лет пациентка работала в почтовом отделении, Эйди, сообщает о том, что ей нравились работа и коллеги. В возрасте 23 лет была уволена без предупреждения по причине реорганизации отделений, после чего переехала в Торсхавн. Сложности при смене места и установлении контактов с людьми. Единственный друг — школьный одноклассник. Описание жизни пациентки записано частично с ее слов и частично со слов родных и близких. Проявление первых симптомов отмеч. в ноябре 1988 г. и заключ. в постоянно растущем беспокойстве, тревоге. Пациентка сообщает, что «кто-то» (неопред.) следит за ней, она слышит разговоры о себе, которые она якобы случайно «перехватывает». По ее убеждению, голоса принадлежат неким морякам, которые планируют ее убийство. Друг пациентки также сообщает, что она страдала галлюцинациями, в которых она видела в основном «мертвых моряков, которые днем ходят по кухне, а ночью встают вокруг кровати и перешептываются, а с них капает вода» (записано со слов пациентки). В связи с постоянным воображаемым присутствием этих существ у пациентки появляется страх открытого пространства, она боится выходить из дома, принимать пищу, спать и т. п. Конкретной причиной госпитализации стала попытка самоубийства 21 января 1989 г., когда пациентку обнаружил ее друг, ХХХХХХХХХХ, пришедший ее навестить. Пациентка была доставлена в больницу Торсхавна, а на следующее утро переведена в клиническое отделение, где ей было назначено лечение антидепрессантами и курс психотерапии, 4 недели. (…) 19/2/89: Первичный диагноз: синдром Гансера (ICD-09 F44.80), к настоящему моменту изменен на продолжительную психопатию с симптомами, схожими с шизофренией. Причины данного заболевания слабо изучены, но многое указывает на значительную роль биологических факторов (в частности, церебральные биохимические реакции). В разговоре с пациенткой и ее близкими выяснилось, что за день до суицидальной попытки пациентка вместе с ХХХХХХХХХХ посетила выставку картин фарерского художника Самуэла Микинеса. По словам ХХХХХХХХХХ, картина «Домой с похорон» произвела на пациентку очень сильное впечатление. Можно считать, что данное происшествие инициировало обострение, хотя неизвестно, было ли оно единственной причиной. Подобные случаи подробно исследованы французским профессором психиатрии Эрве Мюллером (смотри его работу «Séance de rêve évellé»,[66]1984 г.). Пациентке назначен курс лечения нейролептиками (хлорпротиксен), 8 месяцев. 03/09/1989: пациентка выписана с условием еженедельного наблюдения. Значительная ремиссия. Смотри прил. А. 7/3/1990: ухудшение/возобновление заболевания, госпитализация на 3 месяца (прил. В). 16/9/1990: госпитализация на 5 месяцев (прил. С). 29/11/1991: госпитализация, невр./псих., 7 месяцев. 08/02/1993: пациентка переведена в реабилитационный центр, Гьогв, под набл. доктора Хавстейна Гардалида. Внешние признаки полной ремиссии. ICD-10 F23.1.F23.2.
It’s been a bad day, please don’t take a picture.[67]
Палли и Анна. Так вот какие они. Я сразу же почувствовал легкий укор совести: я засунул нос прямо в их жизни, вторгся в их самые сокровенные тайны, прочитал то, что кроме меня почти никто не читал. Я благоговейно положил журналы на место.
Мне вдруг пришло в голову, что и моя жизнь тоже стала частью архива. Высматривая свое имя, я опять начал рыться в записях, но ничего не нашел, очень обрадовался и успокоился. Здесь следов моего пребывания не останется. Очень немногие знали, что я тут. Что я вообще существую.
Я уже убрал в архивные шкафчики почти все бумаги, когда увидел конверт, а на нем — свое имя. Конверт лежал на самом краю письменного стола, по другую сторону от телефона. Белый продолговатый конверт, надпись золотистыми чернилами, витиеватый почерк. Для Матиаса. Я дотронулся до него, взял в руки. Осторожно надорвал и, не дожидаясь, заглянул внутрь.
Дорогой Матиас!
Если ты вернешься первым, то прими от всех нас самые искренние поздравления с Рождеством. Пиво в «Гардеробе А». Мы необыкновенно рады, что ты с нами, — вот и все, что мы хотели тебе сказать.
This is where your sanity gives in and love begins. Without you we move at random.[68]
С приветом, HH, Хавстейн, Анна и Палли.В руках у меня открытка. Ее она сделала сама. Цветными карандашами нарисовала Гьогв. Горы. Наклеила вырезанные из журналов фотографии, а под ними подписала наши имена. Я был принцем Альбертом. Палли — Джонни Деппом. Хавстейн — Вигдис Финнбогадоттир, а Анна — Одри Хепберн. А сама она была Ниной Перссон. Принц Альберт? Принц Альберт?! Я посмотрел на открытку, и тут меня словно током ударило. Все это время у меня словно пелена перед глазами была. До сих пор я словно под водой жил, а когда мне говорили, что дождь прекратился, я не понимал, что бы это могло обозначать. Ее звали не Эннен. НН. Ну естественно! Я даже не знаю, как ее зовут. Nomen Nescio.[69] No Name.[70] Эннен. НН.
Господи, да почему же она не называет себя по имени? И другие — тоже? Неужели об этом никто не знает? Даже Хавстейн? Положив открытку на стол, я подошел к архивным шкафчикам и вновь с возросшим интересом начал рыться в бумагах, безнадежно пытаясь понять, кто же она на самом деле и кем была прежде. Чего только не сделаешь, когда полно свободного времени и не хочется думать о том, насколько ты одинок.
Я искал какую-нибудь папку без имени или личное дело женщины, рожденной в 1971 году, которая в первый раз была госпитализирована зимой 1984-го с симптомами, похожими на те, которые описывали НН и Хавстейн. Документы в архиве были разложены строго по именам, поэтому отыскать дело по времени первой госпитализации возможным не представлялось. Придется просмотреть все. А на это потребуется время. Много времени.
Вечер, половина двенадцатого, я по-прежнему сижу в кабинете Хавстейна и просматриваю его записи. Курсируя между письменным столом и архивными шкафчиками, я складываю прочитанное и беру новую стопку бумаг. В каждом шкафчике по шесть ящиков, в каждом ящичке примерно по сто личных дел, то есть всего где-то семь тысяч. Если все это — пациенты Хавстейна, то их слишком уж много. Он, конечно, проработал психиатром больше двадцати лет, однако все равно получается чересчур много. К тому же многие дела датированы пятидесятыми годами, 52-м, например, а ведь он тогда только родился. А некоторые вообще очень старые — относятся к началу двадцатого века, и есть пациенты из Дании и с Фарер. История национальной психиатрии в миниатюре. Секретные материалы. Собирают же люди марки, засушенных бабочек, салфетки и подставки под пиво. А Хавстейн собирал личные дела. Картотека всех закипающих мозгов и помутившихся разумов. Я решил изучить их все.
На личном деле за номером четыреста пятьдесят я решил выйти проветриться. Положив бумаги на место, я спустился вниз, оделся и вышел на морозный воздух. Теперь дождь моросил вперемешку со снегом, поэтому я подтянул молнию на куртке до подбородка, хотя это меня не особенно спасало. Я побрел вниз по улице, мимо маленькой белой церкви, к гавани. Уже совсем стемнело, какая-то космическая темень, фонарей не было, лишь в редких окнах мелькали огоньки, поэтому, пока глаза не привыкли, я шагал осторожно, вытянув вперед руки. Деревня Гьогв была построена полукругом и название свое получила от глубокой природной гавани, прижавшейся к горе на севере от самой деревни. Стапятидесятиметровая в длину и двадцатиметровая в глубину, гавань спасала рыбацкие лодки от штормов и непогоды. Она стала туристической достопримечательностью. Если туристы все-таки решались сюда приехать. Если не уезжали смотреть на какие-нибудь другие достопримечательности, поближе и позанятнее. В Торсхавн. В музей искусств Листасавн. В Музей Севера. В Вестманна. В море, вместе с Палли Ламхауге. А может, они отращивали бороды, ожидая, когда начнется забой гринд в Мидвагуре. Увидеть Клаксвик и умереть. Подойдя к гавани, я обошел ее, забрался на крутой склон с западной стороны и по мокрой снежной каше вскарабкался на гору. Стоя на самом обрыве лесистого кряжа и вцепившись в старую проволочную сетку, я попытался разглядеть Калсой, лежавший всего в нескольких километрах оттуда, по другую сторону пролива Дьюпинсунд. Но вокруг простирался густой туман, и было очень темно. Разглядеть я ничего не смог. Даже на расстоянии метра. И меня терзали мысли. Я вспомнил историю, которую как-то рассказала мне Анна. Про эту гавань. Про то, как однажды воды в ней стало слишком много. Она все прибывала и смыла полдеревни. Это была приливная волна, а возникла она из-за океанического землетрясения, из-за трения континентальных плит, и ничего поделать с этим было нельзя. Я представил, как бурлящие волны набегают на сушу, устремляются к Гьогву, в щепки разбивают лодки и накрывают дома. Из домов на крики мужей выбегают женщины, они слышали, что лишь минуту назад уровень воды снизился почти до нулевой отметки, и тут волна словно засасывает их. И наступает тишина. Успокоившись, волны лениво набегали на берег. Я закрыл глаза. На лицо мне падал снег. Я представил, что вот сейчас возникнет еще одна приливная волна. Сей же миг. Что меня смоет и унесет куда-нибудь в Северную Атлантику, где тело мое наконец пойдет ко дну. Возможно, Хавстейн, Анна, Палли и НН даже услышат о волне по радио. Или увидят по телевизору. Тогда они подумают: хорошо, что Матиас еще не вернулся. А потом, после рождественских праздников, наевшись вкусной еды и повидавшись с любимыми, они вернутся и обнаружат, что я все-таки был здесь. Они будут искать меня, но тщетно. Однако, когда ждешь приливной волны, ожидание почти всегда напрасно.
А потом я запел. Я стоял там, заняться мне все равно было нечем. По-моему, я пел рождественскую песню, «О, священная ночь», и звук был замечательный, он заполнил пространство, и ветер понес его к воде, он ударился о горные кряжи, а потом, оттолкнувшись от них и вернувшись ко мне, стих у меня в карманах, и тогда я отправился обратно.
Держась за проволочную сетку, я медленно сполз по узкой тропинке, а оказавшись на ровной улице, зашагал к Фабрике. Приближаясь к ней, я вдруг подумал о Хелле. Вообще-то я давно уже о ней не думал. Перестал размышлять над тем, чем она сию минуту занимается. И сейчас я не пытался угадать, что она делает. Я вспомнил малый сочельник тринадцатилетней давности, тот вечер, когда я встретил ее возле школы в Ставангере. Шел снег, и я слепил снежок. Забросил его на крышу, и у меня появилась девушка. Я посмотрел на землю. Снежная каша. Слякоть. Я наклонился и запустил руки в эту кашеобразную субстанцию. Попытался слепить снежок, но не сказать, чтобы преуспел. Я сдавил его, выжимая воду. Прицелился, глядя на церковную крышу. Бросил. Не долетев до цели, снежок развалился. Комочки снега упали на крышу самого одинокого из всех восемнадцати Фарерских островов.
Рождество. Проснулся я рано. Никаких рождественских концертов. Никаких орешков для Золушки. Никто не готовит рождественский ужин и не заворачивает подарки. Не слышится цоканья высоких каблуков, и никто не гладит праздничную одежду. В комнате было холодно. Я поднялся, быстро оделся, прошел в кабинет Хавстейна, сразу же направившись к архивным шкафчикам, и продолжил начатое вчера, пролистывая спотыкающиеся жизни. Я просматривал документы стопка за стопкой. В животе урчало, встало солнце, а потом за окном опять стемнело. Пришло Рождество, а с ним и новые пациенты — те, кто боялся выходить из дому, кого мучила бессонница, кто боялся вставать с постели, кто становился непохож сам на себя, кто уходил из дома и кого приходилось разыскивать. Недоедание и суицидальные попытки, кошмары и бесконечная вереница мертвых моряков в ванной, сорокадвухлетняя женщина, вообразившая, что ее умерший восемь лет назад муж обязательно зайдет во вторник поужинать. Каждый вторник она доставала лучшую посуду и серебряные приборы, красила губы и румянилась, надевала вечернее платье и самые красивые туфли. И каждый раз очень расстраивалась, что он не пришел.
Часов в шесть вечера я сделал перерыв. Откинулся на стуле и пожелал самому себе счастливого Рождества.
— Счастливого тебе Рождества, Матиас, — сказал я.
— Спасибо, и тебе того же, — ответил я.
Я спустился в кухню, порылся в холодильнике, отыскал там цыпленка и жареную картошку, купленных за день до этого. Пока они готовились, я смотрел в гостиной телевизор. Показывали какую-то церковь, в которой фарерский хор мальчиков со всей серьезностью распевал рождественские песни в темпе, совпадавшем с моим. Я спустился в «Гардероб А», нашел там пол-ящика с пивом, захватил с собой пару бутылок, отнес их на кухню и поставил на стол. Поднявшись по лестнице, я подошел к комнате НН, взялся за ручку двери и помедлил немного, словно испугавшись, что меня застукают. Потом я осторожно открыл дверь и вошел. Воздух в комнате был спертый, а ведь уехала она всего несколько дней назад. Однако я чувствовал еще и ее собственный запах, мягкий и спокойный, запах мыла и выстиранной одежды. И эта тишина — как когда приходишь в театр: ночь, спектакль уже давно закончился, но декорации еще не разобрали, и кукольный домик по-прежнему здесь, с роялем, прихожей и кульком миндального печенья на столе.[71] Я подошел к книжной полке и достал диск. «Кардиганс». «Жизнь». Его обложка больше всего подходила к рождественскому настроению: улыбающаяся королева Нина на коньках на бело-голубом фоне.
Вот так я и сидел, на кухне.
Последний рождественский вечер перед наступлением будущего. Первое Рождество в одиночестве.
Я ел цыпленка.
Пил пиво.
С жареной картошкой!
И с «Кардиганс».
C’mon and love те now.
И у меня все было хорошо.
Ну конечно, все у меня было хорошо.
Хотя здесь могло бы быть и помноголюднее.
Я представлял себе, как празднуют в Скандинавии, на Севере, в Европе, по всему миру: люди в своих гостиных, вот прямо сейчас они расселись вокруг стола и ужинают, дети ерзают на стульях (не хочу, не хочу, не хочу больше тут сидеть), им не терпится вскочить и побыстрее подбежать к елке, но нет, нельзя, рано еще, надо подождать, когда каждый доест и выпьет кофе, когда принесут торт. А в другом месте, в другом часовом поясе дети в пижамах уже сидят у елки на корточках со свертками в руках (если, конечно, там вообще наряжают елки); «дрынь-дрынь!» — дребезжат красные пожарные машинки. А у избалованных техасских детишек сейчас только двенадцать или час дня и только что наступило рождественское утро, мама сама себя превзошла, и отец со слезами на глазах открывает сверток, а там новенькая пневматическая винтовка, полуавтоматическая, home assault rifle, home protection,[72] у него же пожизненное членство в Национальной стрелковой ассоциации. И алое нижнее белье из «Секретов Виктории» для жены — вот так-то! Баз Олдрин стоит в саду и смотрит, как с неба падают звезды, может, он загадывает желание, он приготовил для внука маленькую, но точную копию лунного посадочного модуля, уже тридцать лет прошло с тех пор, как он побывал на Луне, и то Рождество, Рождество 1969-го, он помнит, тогда еще много снега выпало. Я представляю, как Хавстейн и все остальные вот-вот уже развернут подарки, думаю об английской или валлийской семье, которую встретил в аэропорту — их елочная гирлянда наконец-то зажглась, думаю, как Хелле дарят что-то, о чем она не смела и мечтать, думаю обо всех тех, кому приходится сейчас сидеть перед мониторами, а вокруг никого, только голые стены. Я думаю, что Йорн и Нина через пару часов поедут куда-нибудь, в «Чекпойнт Чарли», например, а мои родители мило болтают с другими родственниками, и только отец изредка вдруг словно выпадает из общей беседы, встает и отлучается в туалет, но вместо этого подходит к телефону в коридоре и вот-вот уже наберет мой номер, но нет — ничего у него не выходит. Он возвращается в гостиную, разворачивает какой-нибудь замечательный подарок, а подарки для меня лежат, наверное, на кровати в моей старой комнате, может, в следующем году они попадут ко мне в руки. Уж тогда-то я наконец вернусь? Ну да, наверное. Я, во всяком случае, так считаю. Вероятно.
Прошло 90 минут и 42 секунды. Я два раза прослушал альбом «Жизнь», помыл за собой посуду, взял бутылку пива и сел в гостиной. Я смотрел телевизор, и мне чего-то не хватало. Вроде как без внешнего антуража и не Рождество вовсе. Мне не хватало торговых центров с механическими рождественскими ниссе в витринах, слепящих уличных гирлянд и шуршащей упаковочной бумаги на прилавках. Мне не хватало усыпанного елочными иголками пола, по которому больно ходить даже в носках, рождественских песен, которые изначально были вовсе не рождественскими, песен об Иисусе, которого мы давно уже отчаялись дождаться и который, говоря по-честному, родился на самом деле совсем в другой день, не хватало открыток, которые до последнего момента забываешь подписать, и ниссе, который и не ниссе вовсе, а родной дядя, вырядившийся в красный балахон. Я скучал по Дадли Муру по утрам, по «Артуру» или «Санта-Клаусу» из «The Movie»,[73] где он играл помощника ниссе. Дадли Мур больше не снимался в кино и не пел, его никто уже давно не видел, он затерялся в толпе и появлялся в обществе лишь изредка, когда ему очень хотелось. Он ловил назойливые взгляды, говорил в нос и ходил, спотыкаясь, но никто не смеялся, ведь он делал это не спьяну, просто в его мозг проник микроб, который вгрызался все глубже и глубже, а об этом никто не знал и не спрашивал. И всего через пару лет, осенью 2002-го, он умрет, на протяжении нескольких месяцев отказываясь видеться с детьми, не желая, чтобы они запомнили его таким, и Лайза Минелли, где бы она ни находилась, заплачет. Мне не хватало Рождества. Не хватало Дадли. Дидли-Дадли-Мур-тра-ля-ля. Но сильнее всего я скучал по остальным. Мне всех их не хватало.
Весь вечер и ночь я просидел в кабинете Хавстейна, просматривая шкафчик за шкафчиком, но не нашел ничего про НН, а других записей было слишком много, и в один прекрасный момент я не выдержал и бросил это занятие, однако я все-таки прочел все заключения — ради осознания хоть какой-то пользы. Вроде как я думаю об этих людях, они мне не безразличны. Я вчитывался в личные дела, а рождественский дух мало-помалу таял.
Я вышел из дома только на рождественской неделе, в среду. За ночь нападало снега, хотя и не очень много: тоненькая снежная корочка исчезала у меня под ногами. Я вышел на улицу и вдохнул морозный воздух. Вдыхал, топал ногами, убивал время. В деревне было тихо, немногочисленные местные жители разъехались по гостям. Я немного бесцельно пошатался по улицам, довольный уже тем, что выбрался на свежий воздух и могу для разнообразия не думать о пациентах в больничных коридорах. И как только я перестал о них думать, в голову тут же пришли другие мысли: почему я здесь? Почему не сижу в самолете до Ставангера? Сегодня же был рейс. И я не купил билетов на него. Я решил остаться. В месте отдыха.
У меня же все хорошо, разве не так?
Ну конечно. Во всяком случае, сейчас уже лучше.
На мгновение меня охватила паника: моя жизнь просто-напросто катится по наклонной, а я и не пытаюсь ничего предпринять. Неужели я действительно собрался возвращаться? И когда же? Или я решил остаться здесь? Или я здесь просто потому, что случайно очутился именно тут? Неужели я здесь оказался эдаким Робинзоном Крузо, чья личная жизнь потерпела крушение и села на мель?
Однако, если задуматься, у меня и причин нет для возвращения.
Во всяком случае, веских.
В Ставангере у меня нет работы.
Мне негде там жить.
Йорн и без меня прекрасно обойдется, вокруг него всегда полно людей.
Родители… Я скучаю по отцу. Наверное, ему хочется, чтобы я побыстрее вернулся.
И все же.
Я хочу приносить пользу, я не хочу чувствовать себя сломанным, а вернись я сейчас в Ставангер, я повисну совсем бесполезным, ненужным хламом на родительской шее. Неуемный безработный. Даже и речи быть не может.
Здесь я чем-то занимаюсь. Функционирую. Восстанавливаю зимние садики. Это тоже важно. А если нужно будет, то потом смогу себе и другую работу найти. Или смогу уехать. Когда захочу. Куда захочу.
Прежде чем построить Рим, надо сперва определиться, что именно будешь строить.
И может, самое главное: здесь я не чувствую себя сломанным. Мое присутствие незаметно. Меня почти нет.
Так я считал.
Но даже невидимку в конце концов замечают. Движения становятся видимыми, а спрятаться негде. Заползи в одну нору — все равно весной вылезешь из другой. Крошка-крот.
Я прошагал по тонкому снежному насту по деревне в гору, потом опять под уклон, стараясь побольше двигаться и сжигая накопившиеся калории. Деревенька была маленькой, путь в один конец занимал всего пару минут, поэтому мне много раз пришлось протопать по ней взад-вперед. И я топал. По кругу. Я прямо-таки затрещал по швам от усердия, но старался повторять движения с точностью и вниманием портного-закройщика.
Проходя мимо гавани в пятый или шестой раз, я услышал, что позади открылась и закрылась дверь. Повернувшись, я увидел, что ко мне по-детски семенит Софус. На нем была новая дутая куртка (наверняка подарок на Рождество), такого ярко-желтого цвета, что даже глаза слепило, а на отвороте все еще висел ценник. Остановившись, я дождался, когда он спустится по холму к гавани, и последний отрезок он преодолел вприпрыжку.
— Привет, — сказал мальчик, подбегая. Я протянул руку, и он, помедлив чуть-чуть, посмотрел на нее, потом осторожно, по-деловому, потряс, а затем важно поклонился и засмеялся.
— Привет, Софус, — сказал я, — новая куртка?
— А? Что?
Я показал на желтую ткань, в которой его почти не было видно. Такие куртки в Торсхавне школьный любимчик надевает в первый день после рождественских каникул, и они всем классом будут проверять, сколько человек в нее поместится. В куртку Софуса поместились бы все его друзья, и еще место оставалось бы.
— Тебе подарили на Рождество новую куртку?
— Да.
— Красивая, — сказал я, — желтая.
Он помахал руками — вверх-вниз, но цыплята не летают. Мы стояли, не зная, что сказать.
— Почему ты один? — неизвестно с чего вдруг спросил он, а я вытаращил на него глаза.
Софус знал, что я провел Рождество в одиночестве? Это что, главная деревенская новость? Неужели на меня велась слежка из-за зашторенных окон?
— Я опоздал на самолет, — сказал я.
— Как?
— Он слишком быстро улетел. А я не смог его догнать.
— Ты летел в Норвегию?
— Собирался.
— Тебе грустно?
— Из-за чего?
— Из-за того, что ты здесь один.
— Ну, я же не один.
— Как это?
— Ты же здесь.
— Да.
— Ну, Софус, а что-нибудь еще тебе подарили на Рождество?
Он кивнул. С энтузиазмом. Ему подарили еще что-то хорошее.
— И что же?
— Машину.
— Машину?
— С пультом управления.
— Супер!
Он кивнул:
— Мама хочет, чтобы ты у нас поужинал.
— Что-о?
— Мама сказала, чтобы я пригласил тебя к нам домой на ужин.
Я ничего не понимал или, может, понимал слишком много. Очевидно, я стал объектом рождественских исследований и сейчас наступила пора проверить, верны ли предположения. Я так и представлял, как семейство в белых лабораторных халатах, надев перчатки, попросит меня лечь на холодный железный стол посередине гостиной. А потом набросится на меня со скальпелями и ланцетами.
— Мама так сказала? Ты уверен? — переспросил я, раздумывая, как же мне поступить.
— Ну да. Пойдем?
— Сейчас?
— Да.
Нет. Нетнетнетнетнет. Мне не хотелось идти. Вообще не хотелось. Не хотелось больше всего на свете.
— Я думаю, сегодня не получится, — ответил я.
— Почему?
— Видишь ли, сегодня у меня кое-какие дела.
— Какие?
— Ну… разные.
— Тебе не хочется у нас ужинать?
— Да нет, не в том дело, что не хочется, — ответил я, помедлив, — просто у меня…
— Тогда пойдем.
— Знаешь, нет, по-моему…
— Мама сказала, чтобы ты пришел.
Ну что тут возразишь?
Я сдался и пошел на поводу.
— Ладно.
— Йиппи-и!
— Угу. Йиппи-и.
— Тогда пошли.
Софус повернулся и быстро пошел к дому, а я поплелся за ним. Я несколько дней не мылся, не менял одежду, и настроение у меня было не ахти, тем не менее я послушно подошел к красному домику, зашел внутрь, разулся и остался в носках. Стоя в чужом доме, я вдыхал запахи этой семьи — еды, которую они готовили, их тел, то абсолютно уникальное сочетание запахов, которое живет в каждом доме. Усевшись на полу, Софус принялся развязывать шнурки, но они были затянуты слишком туго, и у него никак не получалось. Он махнул сапогом в моем направлении, и я, взяв его за лодыжку, начал распутывать узелок. Вот так я и предстал перед глазами родителей: стоя в прихожей и вцепившись в ногу их сына. Как раз в этот момент, широко улыбаясь, появились Мистер и Миссис Фареры с обветренными лицами. Я наконец развязал шнурок и, держа в одной руке сапог, крепко тряс другой руку отца семейства.
— Добрый вечер, — сказал тот, глядя мне прямо в глаза, — Оули Якобсен.
Я ясно и отчетливо произнес свое имя и повернулся к матери семейства.
— Сельма.
Еще раз мое имя моими устами.
— А с Софусом вы уже знакомы, — сказала она, потрепав сына по голове. Он тотчас же пригладил волосы. Не хватало еще ходить лохматым!
— Ну, тогда пойдемте ужинать.
— Мам! — вклинился Софус, вытянув другую ногу. Еще один узелок. Мне следовало помочь и с этим шнурком, но родители опередили меня, склонились над сапогом, ухватили за кончики шнурка — ничего не скажешь, вот что значит уметь работать в команде и успешно сотрудничать. Родители Софуса были ниже ростом, чем мне показалось с первого взгляда. В этом отношении они были абсолютно одинаковые, примерно на голову ниже меня, а мой рост более-менее соответствует росту среднестатистического европейца. У Оули Якобсена были короткие темно-русые волосы, которые торчали во все стороны, и у Сельмы то же самое. Они хорошо смотрелись вместе. Пара счастливых троллей. Прекрасный материал для туристического рекламного проспекта. Оули — самый настоящий работяга, крепко сбитый, с огромными руками. Одет он был в пушистый шерстяной свитер с тремя кнопками на плече и плотные брюки. Сельма — более худощавая, к ужину и по случаю Рождества она явно принарядилась. Я так и представил себе, как она достает из самых недр платяного шкафа пакет из «Маркса и Спенсера», сохранившийся еще с тех пор, как они с подругами полтора года назад ездили за покупками в Шотландию и Англию, и вынимает одежду, готовясь к празднику. Возможно, она надевает эти вещи в последний раз. На следующее Рождество, а может, даже летом будет уже слишком поздно. В магазинах появятся новые модные вещи, и рождественские наряды отправятся обратно, в тот же пакет, который ей выдали при покупке и который она аккуратно сложит, благоговейно убирая одежду в шкаф. Возможно, Сельма уже знала, что надела этот наряд в последний раз. А потом Софус сбросил наконец сапог и побежал в гостиную.
Мои ноги в носках зашаркали по полу в большую гостиную, где мы и расположились. Уселись мы за пластиковый обеденный стол в духе бабушки, и я стал вежливым гостем ниоткуда, шпионом с мороза, пробравшимся к семейству Якобсен на лазанью. Гостиная оказалась именно такой, какими я представлял себе гостиные во всех домиках округи: светлые стены, по которым развешаны пейзажные зарисовки, большие кожаные кресла и ковры, какие были в моде во второй половине восьмидесятых, когда люди жили побогаче, а страна процветала, пока не нагрянули девяностые с их квотами на экспорт рыбы, кризисом и чудовищной безработицей, грозившими задушить страну. Сейчас экономика на Фарерах медленно, но верно, крона за кроной, вновь начала вставать на ноги, и, может, уже летом эти кресла выбросят и привезут новые, из «ИКЕА».
Оули разговаривал медленно, по-датски с фарерской интонацией, какие-то слова я не понимал, но в основном беседа текла гладко. Они спрашивали и интересовались, были вежливы и обходительны, вообще-то они приметили, как я гулял по деревне под Рождество, к тому же они меня тут и раньше видели. И еще они слышали, что я живу вместе с Хавстейном и его друзьями. Они так и говорили: Хавстейн и его друзья, и звучало это словно название знакомого всем мультфильма про арктическую экспедицию, а я никак не мог определиться, хорошо это или плохо.
— Ты, наверное, здесь в отпуске?
Да уж, на этот вопрос мне бы тоже неплохо найти ответ.
— Не совсем, я… ну… на самом деле я не знаю.
Мы на пару секунд умолкли, не зная, о чем говорить дальше. Оули покашлял, и Сельма намек поняла, но тему не оставила.
— То есть я так понимаю, ты здесь не в отпуске?
И я рассказал все, как было. Сказал, что садовникам в Норвегии сейчас нелегко, и все по вине торговых центров, скоро наступит новое тысячелетие, и всем хочется спрятаться в цветах, но никому не охота платить больше положенного. Я сказал, что у меня был друг, который выступал на фестивале Оулавсекан в Торсхавне, и их это порадовало. Я рассказал, что за городом встретил Хавстейна, что, в общих чертах, соответствовало правде. Рассказал, что Хавстейн предложил мне работу и я с радостью согласился. Что я люблю приносить пользу. Я ничего не сказал о Хелле, о родителях, которым хотелось, чтобы я вернулся домой и с которыми я почти перестал общаться, о том, как я недели провалялся в своей комнате на втором этаже. Я выдал им сокращенную версию. Укороченную до размеров страницы. Удобную диснеевскую историю. Я не упоминал о катастрофах, кровоточащих руках и конвертах ниоткуда с крупными суммами денег.
— Точно, вы ведь там делаете такие… как уж они называются? На Фабрике… — Сельма сказала что-то Оули по-фарерски, а тот что-то пробормотал в ответ.
— Туристическую продукцию, — подсказал я, — сувениры. Деревянных овец и все в таком духе. А потом Хавстейн так устроил, что я опять начал работать садовником.
— Вот как. Нравится? Подходит это тебе, как считаешь?
— Нужно же что-то делать, — ответил я.
Оули был полностью согласен. Именно так, простая мудрость, и, согласно кивая головой, он пошел на кухню налить еще соку.
— По-моему, здорово, что есть еще молодежь, которая приезжает сюда, в Гьогв, — сказала Сельма, — нас ведь здесь маловато осталось.
— Неужели?
— Кроме вас, на… на Фабрике, здесь живет… подожди-ка. — Она что-то прокричала в сторону кухни, а Оули что-то крикнул в ответ, мне показалось, что он сказал «четыре-пять», и Сельма продолжала: — Да, Оули говорит, живут только в четырех-пяти домах. Здесь, вниз по улице, жил еще один старик, но я не знаю точно, может, он переехал. Это неподходящее место для того, чтобы встретить старость.
— Правда?
— Абсолютная правда, — Сельва махнула рукой, — до магазина далеко, а зимой тут настолько плохая погода, что лучше жить в Торсхавне. Знаешь, еще случается, выпадает много снега, и тогда до Фуннигура по этому серпантину добраться почти невозможно. Так и приходится дожидаться снегоочистителя. Но они обычно быстро приезжают. Здесь еще живет пара стариков, которые уже не могут сами водить машину, поэтому когда мы отправляемся за покупками в Фуннигур или Торсхавн, сначала заезжаем к ним и спрашиваем, чего им купить.
— Это очень любезно, — сказал я, принимая очередные блюда, которые переходили из рук в руки вокруг стола, словно по орбите. Лазанья «Юпитер», хлебный Марс, масло Нептун, а я был ненасытным галактическим астронавтом, пожиравшим небесные тела, встречающиеся на моем пути.
— Десять-пятнадцать лет назад здесь жило много народу, тогда тут были и магазин, и школа, и рыбы в гавани было полно. На самом деле довольно много ученых родом из Гьогва. Учителя. Профессора. Епископ. А сейчас? Нет. Такое впечатление, что вся остальная страна как будто про нас забыла. Хотя здесь все равно хорошо жить, правда же? — Последнее она произнесла, испытующе глядя на меня, словно хотела, чтобы я не просто подтвердил ее слова, а еще и превратил их в неоспоримую истину.
— Естественно, — ответил я, — лучше и не бывает. Лучше места я не видел.
Тем временем Оули, приготовив по всем правилам сок, вернулся с кухни. Поставив кувшин посередине стола, он уже было собрался снова взяться за еду, как тут его жена, посмотрев на него, тихо фыркнула, и ему пришлось отставить тарелку и сперва налить мне соку.
— Спасибо, — сказал я, кивнув на стакан. И еще я сказал, что еда очень вкусная, вкуснее я никогда не пробовал. Я рассказал, как опоздал на самолет, на мой рождественский самолет домой, что кто-то спутал мне все карты, я собирался в Ставангер, но так и не смог туда добраться. Сказал, что так уж случилось, поэтому мне прошлось закупать самое необходимое на автозаправке на Хойдалсвегур. Они засмеялись и сказали, что все туристы жалуются на это: мол, все так рано закрывается, и за пивом приходится ходить в государственную винную монополию, а чтобы попасть туда, надо встать на рассвете. Я немного обиделся из-за того, что они считали меня туристом, а не новым местным жителем, мне подумалось, что я не вписываюсь в местное общество, что я — словно большой палец ноги с болячкой: слишком сильно выступаю и маячу перед глазами, но это вовсе не так страшно, ведь все взаимосвязано. Кому-то приходится быть туристом. Иначе нельзя.
Пока мы ужинали, Софус сидел тихо, всего пару слов произнес. Он изредка поглядывал на меня, потом сидел уставясь в пол, прислушивался к тому, что говорили мне его родители, и у меня появилось небывалое раньше ощущение: я почувствовал себя старшим братом, ощутил внезапное, беспричинное желание заботиться о незнакомом человеке, которого хочешь узнать поближе.
Родители его поднялись из-за стола почти одновременно, движения их дополняли друг друга, они синхронно убирали со стола, дав мне понять, что мне пора переместиться в диванную часть гостиной. Потом они исчезли на кухне. Софус посмотрел на меня. Он сидел на стуле и болтал ногами. Мне необходимо было что-то сказать. Я посмотрел на паркетный пол: следы маленьких колесиков, а возле дивана — полоски от резины.
— А та машинка, которую тебе подарили, — начал я, — она у тебя здесь?
Его улыбка осветила всю гостиную. Я был вполне себе ничего.
— Да. Она у меня в комнате.
— Ты ее выносил на улицу?
— Нет.
— Она хорошо переносит воду?
— Не знаю.
— Неси ее сюда, и пойдем проверим.
Вскочив со стула, Софус побежал на кухню, сказал что-то маме и исчез на чердаке, а через минуту он уже стоял передо мной с большой машиной и пультом в руках. Это был желтый гоночный автомобиль с огромными резиновыми шинами. Здесь все цвета такие. Яркие. И дома тут тоже выкрашены в ярко-синий, красный, розовый — цвета, которые летом разбивали повсеместную монотонность зелени, а осенью и зимой — серый ландшафт. Взяв машинку в руки, я немного повертел ее. Похоже, она была водонепроницаемой. Софус протянул мне картонную коробку от нее, где по-английски было написано про «all weather fun».[74] Вот так-то. Ну, если она не боится воды, значит, и от слякоти ей ничего не сделается. Не бывает плохой погоды, бывают некачественные машинки с дистанционным управлением.
— Хочешь, посмотрим, как она будет ездить по улице?
— Сейчас?
— Да.
— Так она водостойкая?
— Да, — ответил я, — похоже на то.
В гостиную вернулись Сельма с Оули. Они поставили кофе на стеклянный столик между кресел. Но кофе нам не хотелось. Ни мне, ни Софусу. У нас были другие планы. И когда Софус сказал, что мы пойдем на улицу испытывать машинку, они так и расплылись от радости, на лицах у них заиграли такие улыбки, которые можно на стену вешать и любоваться потом.
В тот вечер у меня было занятие. Я заполнил пространство. Я был зеленым — маленьким зеленым пятном на голубой картине. Я был необитаемым островом, благодаря которому море выглядит столь величественно.
Передо мной шел Софус с машинкой в руках. Он перешел улицу и направился к церкви. Я шел рядом, держа в руках пульт управления. Потом он поставил машинку на церковный двор у маленьких ворот и включил питание. Я отдал Софусу пульт, чтобы он показал мне, на что способна его машинка. Влажный воздух наполнило жужжание пластмассового автомобильчика, которое гулко отдавалось эхом от окружавших нас гор. Машинка проехала по дороге и, почти исчезнув из виду, сделала разворот и вернулась обратно, словно бумеранг. Прямо как послушная собака, прямо как я.
До позднего вечера машинка наша протаптывала колеи во влажном снегу, мы возводили маленькие препятствия и соревновались, у кого из нас она проедет быстрее. Сходив на Фабрику, я принес из «Гардероба А» секундомер и захватил на складе шоколада. Поначалу у Софуса получалось лучше, чем у меня, его пальцы более ловко нажимали на кнопки, он угадывал каждую выбоину на асфальте и знал, как лучше ее преодолеть, чтобы не потерять время. Однако я мало-помалу взял себя в руки и несколько раз обошел его. Но я в основном предоставлял мальчику возможность выиграть, и он ел причитающиеся победителю шоколадки, держа их липкими руками и гоняя машинку по мокрому снегу.
Момент для снимка на пленку «Кодак». Опять.
— Твоя очередь, — сказал Софус, передавая мне пульт. Я взял его, а Софусу отдал секундомер, и тот начал отсчет: на старт, внимание, марш!
Пока я стоял с пультом, я вспомнил о его подружке, к которой он шел в гости, когда я встретил его в прошлый раз. В первый раз. Ее звали Оулува. Это я запомнил. Я хорошо запоминаю имена.
— А где сейчас Оулува? — поинтересовался я, пока машинка объезжала один из валунов на холме.
Софус посмотрел на меня так, будто мы с ним были давними приятелями, словно я тоже хорошо ее знал.
— Не знаю, — ответил он.
— Ты с ней больше не общаешься?
— Нет.
Молчание.
— Она собирается переезжать.
— В Торсхавн?
Он покачал головой:
— В Копенгаген.
— И когда же?
— В январе.
— Жалко.
— Да.
Машинка наткнулась на выстроенный нами барьер и подпрыгнула, а потом со шлепком опустилась на землю, и резиновые колесики ненадолго забуксовали, прежде чем я смог развернуть машинку и направить ее в нашу сторону.
— Она ведь тебе нравилась, правда?
Софус не ответил.
— Когда она уедет, у меня будет индивидуальный учитель, — только и сказал он. Я подумал об НН — как, преодолевая ветер и непогоду, учитель добирался на Мюкинес и преподавал ей историю, рассказывал о том, что в мире повсюду и всегда идут войны. О том, что мир вокруг нее вертится так быстро, что ориентироваться в нем почти невозможно, невозможно остановиться, и именно из-за этого волны здесь такие высокие, а ветры — такие сильные.
— А если бы ты мог, ты бы тоже переехал? — спросил я.
— Нет.
Машинка подъехала к нам, жужжа и разбрызгивая в стороны снежную кашу.
— Кто-то должен остаться. Иначе нельзя, — сказал я. Обращаясь скорее к самому себе.
Софус склонился к циферблату секундомера, чтобы получше разглядеть время. Она собирается переезжать. И поэтому он больше не хочет с ней общаться. Проще забыть тех, кто рядом, чем тех, кто уже уехал.
— Тебе ведь она нравилась, верно?
Машинка пересекла финишную черту и резко затормозила, преодолев дистанцию за 1,23 и 22 секунды.
— Ну да. Может, пойдем домой?
— Пойдем.
Подняв машинку, Софус отряхнул рукавом налипшую грязь, и мы побрели к дому. Родители сидели в гостиной и смотрели телевизор. Где-то с четверть часа Софус посидел с нами, а потом ему сказали, что пора ложиться, и он поплелся в ванную. Я слышал, как он чистит зубы и зевает.
— Ему теперь будет одиноко, — сказал я, — Софусу. Оулува ведь уедет.
— Он про это рассказал? — спросила Сельма.
— Сказал только, что она ему нравилась.
— Да, они почти с самого рождения дружили.
— А почему они вообще переезжают в Копенгаген?
— Йенсу Хенрику предложили там хорошую работу, — сказал Оули.
— Ее отцу, — пояснила Сельма, — Йенсу Хенрику. И еще у них там родственники.
— Здесь больше нет детей?
— В Гьогве?
— Да.
— Нет. Больше нет. Остался только Софус.
Он вернулся в гостиную в пижаме. Родители поцеловали его в лоб, а мне он пожал руку, со мной целоваться ему не пристало.
— Бай-бай, — сказал он перед уходом.
— Спокойной ночи, — ответил я.
Я до ночи просидел у них. На дворе по-прежнему царило Рождество. Оули достал бутылку коньяку, и мы уселись в креслах с бокалами. Оули рассказывал, как обстоят здесь дела с ловлей рыбы, про саму рыбу, про лодки, которые затонули или исчезли безвозвратно и о которых лишь сообщили, что они пропали без вести. Рассказал о мемориале в память о моряках, который находится рядом с церковью. Я его не видел. Там я не был.
— Сходи как-нибудь, — порекомендовала Сельма, — может, ты тогда больше поймешь и о Фарерах.
— Да, — согласился я, — возможно.
Вот так мы и разговаривали. Легко и непринужденно, беседа в духе рождественских праздников. У Оули в гавани была хорошая весельная лодка, и он сказал, что мы можем ее брать, если нам захочется порыбачить. Пользоваться ей можно когда угодно. И разрешения спрашивать не надо. Можно просто брать. А позже, когда я уже собирался уходить, мы опять заговорили о Софусе. Стоя в прихожей, я обувался, а Оули с Сельмой стояли в дверях. Я выпрямился и протянул руку. Сельма пожала ее.
— Он так радовался, что вы с ним сегодня поиграли, — сказала она.
— Мне и самому понравилось, — ответил я.
— По нему видно было. Я давно его таким не помню.
Я промолчал.
— Знаешь, плохо, что он так много времени проводит в одиночестве. Или с одними с нами. Ему нужны ровесники. Друзья.
— Я могу почаще заходить.
— Ты правда согласен?
— Ну конечно.
Я стал полезным. У меня появилось занятие. Я был словно выгодное вложение средств.
— Софус был бы счастлив.
— У меня много свободного времени.
Потом я ушел. Поблагодарил за ужин и по нашим следам побрел на Фабрику. И тут я в первый раз за все праздники почувствовал, как все вокруг наполняется вдруг духом Рождества, похожим на актрису, которая медленно выходит на сцену с запоздавшей премьерой, и туфельки ее цокают по театральному полу — цок-цок-цок. Делая театральную паузу, она готовится произнести первую фразу:
«Рождество».
Той ночью я не заснул. О том, чтобы спать, даже и речи быть не могло. Лежа в кровати, я вновь и вновь пересчитывал рейки на потолке. Их было сорок две. Я много думал: о Софусе, которому нужны друзья и у которого их не было. О себе — мне друзья никогда не требовались, но постоянно появлялись новые. Я думал о том, как одиноко быть ребенком и как жестоко потом становиться взрослым — так, должно быть, чувствовал бы себя кит, если его попытаться втиснуть в коробочку из-под фотопленки. И за каждым углом тебя может ждать величайшая удача или самая глубокая пропасть, какой ты и представить не мог и которая заставит тебя потом спать со включенным светом и думать, что ты совсем безнадежен и жизнь никогда уже не наладится. Вытянув вперед руки, ты, словно рептилия, ползешь в школу, получаешь плохие оценки, и тебе кажется, что если у тебя ничего не получится здесь, то нигде не получится, потому что именно так тебе говорят, и тебе никогда отсюда не вырваться. А затем, хотя все оказывается не так уж плохо, приходит запоздалая мудрость: легче не будет. Ты повзрослел, но тебе все равно не вырваться. У тебя все силы уходят на то, чтобы оторваться от других. А чувствуешь ты себя так, будто ничего и не изменилось. Однако на самом деле все по-другому. Все изменилось. И как-нибудь наступит утро, вечер, февральское воскресенье или просто неудачный день, и ты заметишь: что-то не так, и тебе больше не захочется быть ребенком, ни за что на свете. Тебе покажется, что больше тебе не выдержать, а потом ты почувствуешь странное облегчение. Как будто снимаешь тяжелые сапоги и идешь по городу в мягких кроссовках. Тебе легче шагается. И дорогу ты чувствуешь лучше. Словно тебя отпустило, и теперь ты можешь подумать: все не так плохо.
04:23. Щелк. 04:24. Я включил свет. Встал. Оделся. Спустился по лестнице в «Гардероб А» и, взяв пару бутылок пива, поднялся обратно наверх.
Немного постоял в коридоре. Было холодно.
Я посмотрел на разные двери.
Немного подумал, чем бы мне заняться.
В руках — две бутылки пива.
Волосы взлохмачены.
Я направился к Хавстейну.
Постоял немного в его кабинете, далеко не первый раз за прошедшие дни. Моя комната номер два. Включив свет, я сел за его стол, открыл пиво и поприветствовал невидимых пациентов, которых никогда не было, которых не надо было обследовать и чьи дела шли на удивление хорошо.
Затем я поднялся, немного бесцельно побродил по комнате, остановился у книжных полок и взглянул на названия. Психология. Психиатрия. Книги по самосовершенствованию. «Marital Brinkmanship». «How Not to Kill Your Husband/How Not to Kill Your Wife». «Three ways to keeping happy». «Problems & Solutions».[75] Народная медицина прямо посреди научных трудов. Изучать их мне было неохота, я уже и так досыта начитался личных дел, однако на пару секунд мне пришла в голову мысль последовать этому примеру и самому написать книгу. Способ выживания: «Основы долгой и счастливой жизни». Способ будет трехступенчатым.
Вдохните.
Выдохните.
Если нужно, повторите.
Если ты несколько дней провел в одиночестве, с тобой что-то творится. Один дома. Словно опять оказаться ребенком, когда родители решили провести отпуск в Дании, неделю в Эбелтофте, а тебя оставили одного. У тебя появляются новые привычки, новый темп жизни. Ты незаметно превращаешься в пещерного человека, домашнего Робинзона Крузо, протаптываешь в доме тропинки, садишься на стулья, на которых никогда прежде не сидел, на отцовский стул, ты совершаешь странные поступки, потому что запреты почти исчезли. Захочешь — и будешь спать на полу в гостиной. Или можешь вообще не спать по ночам. Никто об этом не узнает. На несколько дней ты выпадаешь из системы, забываешь все протоптанные дорожки. Поэтому в эти дни ты почти не выходишь на улицу. И когда родители или те, с кем ты живешь, возвращаются, происходит это всегда неожиданно. Тебе ни за что не удастся подготовиться. Сколько бы ты ни старался, сколько бы сил ни прилагал. Ты стал бородатым Робинзоном Крузо в звериных шкурах. Мусор, стаканы, тарелки, подушки на диване, где ты лежал и забыл прибраться, — все выдает твои передвижения и действия. И в тот момент, когда они открывают дверь и заходят в дом, происходит как будто столкновение двух культур, а голос твой становится неуверенным, чужим и почти что новым.
Когда спустя пару дней они вернулись, я спал. Это было тридцатого декабря, я проснулся, почувствовав, как кто-то низко наклонился надо мной. Открыв глаза, я сразу же поймал чей-то взгляд.
— Привет, — сказала Хелле.
Я прищурился. Я не верил собственным глазам.
— Что ты тут делаешь? — прошептал я.
— Ты что, все рождественские праздники проспал? — засмеялась она. — Вот я и вернулась. Ты по мне скучал?
Я потер глаза, а потом снова открыл их. Возле меня на кровати сидела НН, пристально глядя мне в глаза.
— Так ты все Рождество проспал, что ли? — повторила она.
Ответить я не успел. В следующую секунду ко мне ввалились Хавстейн, Анна и Палли, — тот, как обычно, шел самым последним и остановился в дверях.
— С Рождеством! — прокричали они.
— С Рождеством, — пробормотал я в ответ.
Пытаясь прогнать сон, я замотал головой так, что она даже ударилась о плечи.
— Он что, все Рождество проспал? — спросила Анна у НН.
— Ага! — ответила та и принялась вытаскивать меня из-под одеяла. Вцепившись в теплое одеяло, я нарочно обмяк, но она меня не отпускала.
— Вставай! Пора вставать! Мы поедем в Клаксвик. Завтра наступит 2000-й год. С ума сойти, правда ведь?
— Угу, — без энтузиазма ответил я, медленно выпуская теплое и мягкое одеяло из рук. Я сел на кровати в одном нижнем белье, опустив ноги на холодный пол, по коже побежали мурашки, и только спину согревал висящий сзади на стене остров Карибского моря.
— Мы тебя внизу подождем, — сказал Хавстейн, — чем быстрее поедем, тем лучше. Надо успеть в магазин. И на корабль. Ладно?
— Спущусь через десять минут, — пробурчал я.
— Хорошо.
Палли развернулся и вышел вместе с Анной, а за ними следом ушел Хавстейн. Они затопали по лестнице, а потом, уже внизу, громко засмеялись, и кто-то произнес мое имя.
— Как прошло Рождество в Ставангере? — спросила НН, когда я начал одеваться.
— Я туда не ездил.
— Что-о?
— Я опоздал на самолет.
— И где же ты все это время был?
— Здесь.
— Здесь?
— Ну да. А чем это хуже любого другого места?
— А что же ты ел? Здесь же почти ничего не было. — Налицо материнский инстинкт. Мне было приятно, что она так беспокоится.
— Автозаправка. Хойдалсвегур, — ответил я.
Она рассмеялась:
— Да уж, там, поди, много вкусненького.
— Ты и представить себе не сможешь сколько, — сказал я, крепко обняв ее, — добро пожаловать домой.
— Спасибо.
Я рассказал о том, как самолет улетел, а автобус опоздал, и еще о Софусе, который останется один, когда уедет его единственная подруга.
— Автобус всегда ходит, — только и сказала НН.
— Почти всегда, — поправил я.
Зевая, я надел куртку. Проснулся я еще не до конца. Достав из конверта деньги, я положил их в карман, а потом мы вышли в коридор.
— А кстати, спасибо за открытку. Было очень приятно.
Наморщив лоб, НН посмотрела на меня:
— За открытку? А, да. Ой, я же забыла… я же собиралась отнести ее тебе в комнату…. Ты заходил к Хавстейну в кабинет?
Наручников и полицейских сирен не было, но меня совершенно явно поймали с поличным. Я не знал, что ответить.
— Да тут как-то телефон зазвонил, — сказал я, — и я решил, что надо взять трубку. И тут увидел открытку. На письменном столе.
— И кто звонил?
Подумав, я ответил:
— Никто.
— Никто?
— Ошиблись номером.
— Хавстейну не нравится, когда заходят к нему в кабинет.
Я опустил глаза:
— Угу.
— Ты у него в архиве рылся, да?
Соврать я не мог. Поэтому промолчал.
— Он жутко разозлится, если узнает.
— Он не узнает, — сказал я.
— Не узнает?
— Разве что ты ему расскажешь, — ответил я.
НН поднесла ко рту руку, заперла невидимый замочек и выкинула невидимый ключик через плечо.
— Спасибо.
— Об этом не беспокойся.
Она махнула рукой, показывая, что нам пора идти. Я не сдвинулся с места.
— Тебя я в архиве не нашел, — вырвалось у меня, — то есть твоего дела.
Она остановилась. Посмотрела на меня. Не знаю, хороший это был знак или плохой.
— Меня там и нет, я знаю. Я вытащила свое дело.
— Зачем?
Она огляделась вокруг и опять посмотрела на меня:
— Ты что, Матиас, забыл, что ли? Меня же нет.
— No Name?
— Вот именно.
— А как тебя на самом деле зовут?
— Пошли, — только и ответила она, — пора идти.
Развернувшись на каблуках, она пошла вниз. Пока мы спускались, я все выпытывал, зачем она вытащила из архива свое личное дело и известно ли ей, что там лежат документы столетней давности, спрашивал, не знает ли она, зачем Хавстейн хранит все эти записи, однако НН то ли не знала, что ответить, то ли ей просто скучно было об этом разговаривать, так что все мои вопросы остались без ответов, она просто отмахивалась от них и переводила разговор на другие темы. Но я решил не сдаваться. Я замолчал, но про себя твердо подумал, что как-нибудь припру Хавстейна к стене и спрошу его напрямую, чем это он на самом деле занимается. С того момента и дня не проходило, чтобы я не обдумывал свое решение. И день за днем я откладывал этот разговор.
Погода тридцатого декабря стояла безоблачная, было около двух градусов тепла, мы дружно втиснулись в «субару» и поехали вниз вдоль Фуннингсфьорда. По мнению знатоков, здесь была лучшая гавань страны, во время войны англичане построили тут военную базу. В середине XVIII века ходили даже разговоры о том, чтобы перенести сюда экономико-политический центр, но появилось что-то поважнее, может, об этих планах позабыли, так ничего и не вышло, хотя замысел был хороший. Побережье фьорда превратилось в самую густонаселенную территорию на Фарерах, стало скандинавским Токио, микроскопическим мегаполисом с населением свыше пяти тысяч жителей. И все равно более скучного места я не видел. Прижавшись к окну, я сидел на заднем сиденье рядом с НН и Палли, и мне подумалось, что если сюда приедет фотограф делать снимки для туристического проспекта, на пленке ничего не отразится, кадры останутся чистыми, потому что смотреть тут абсолютно не на что.
Я окончательно проснулся и вновь стал прислушиваться к происходящему, только когда мы уже подъезжали к Лейрвику, где должны были пересесть на паром. Почти всю дорогу из Гьогва я провел в полусне у окна, вполуха слушая, как вокруг меня рассказывают о рождественских праздниках и полученных подарках. Откуда-то издалека, из магнитолы, словно обернутой в тряпку, до меня доносились «Кардиганс» и пение НН, которая отстукивала такт по рукаву моей куртки. Мы въехали на причал как раз в тот момент, когда паром «Дугван» отходил в Клаксвик, увозя машины и тех пассажиров, которые успели к отправлению, поэтому нам оставалось только припарковаться и с часок подождать, когда он вернется. Нам в общем-то было все равно. День выдался хороший, в такой денек вполне можно посидеть в машине, опустив окна и плотно запахнув куртки, чувствуя, как чистый морозный воздух подбирается к лицу и рукам, и воображая, что сейчас весна. Так мы и сделали. Припарковавшись на причале, мы заняли очередь первыми, опустили окна и откинулись на сиденьях. Разговаривать было необязательно. Я лежал, размышляя о новом тысячелетии, которое наступит раньше чем через тридцать шесть часов, и, может, тогда все изменится, а возможно, все останется по-старому. Вот интересно, неужели и правда все компьютеры мира выйдут из-под контроля, перестанут подчиняться числам и разрушат сами себя? И что будет, если нам придется создавать все заново? Мы что, придумаем тогда видеомагнитофоны, которые будут программироваться автоматически? И неужели возродится «Коммодор 64»?[76] Может, тогда мои часы, которые остановились в июле, опять заработают? Но заранее этого не узнаешь. Перепуганные до смерти профессора по всему миру писали объяснительные статьи. Шла борьба со временем, потому что в первые же секунды нового тысячелетия базы данных по займам в банках исчезнут, процентные ставки вырастут, а все наши банковские счета либо пропадут, либо резко увеличатся. Развивающиеся страны станут индустриальными. Придет время справедливой торговли. И уже не узнаешь срок годности молока или время приготовления пиццы. Решив заехать к своей девушке, ты попытаешься завести машину, а она взорвется. Или обычное короткое замыкание в магнитоле подожжет бензин, искры нового тысячелетия проберутся в бензобак и подожгут горючее, а пламя, вырвавшись из бака, обрушится на приборную доску, подожжет твое тело, расплавит лицо, и ты будешь запечен в собственном соку. Именно об этом говорили и писали. И все крупнейшие норвежские газеты уже посвятили целую полосу речи премьер-министра, который торжественно поклялся в том, что все необходимые меры приняты и все пройдет успешно, главное — сохранять спокойствие. Но вот что делать нам — а мы ведь до смерти боимся премьер-министра, — в газетах не написали.
Мы с полчаса просидели в машине, как вдруг Анна решила пройтись до супермаркета возле церкви и купить себе попить. Она спросила, не хочет ли кто-нибудь пойти с ней, но вставать никому было неохота, поэтому мы отказались.
— Вам купить чего-нибудь? — спросила она. Нет, нам и так неплохо было. Когда она вышла из машины и уже шла по причалу, я вдруг решился и выскочил вслед за ней.
— Ты что, Матиас, передумал?
— Да, — ответил я, — все равно я уже замерз в машине сидеть.
— Хорошо.
Мы зашли в маленький супермаркет, Анна впереди, а я чуть позади. Если не знаешь Анну, можно подумать, что она привыкла командовать. Мне пришло в голову, что это из-за ее ровной осанки, взгляда, отыскивающего нужное на полках с продуктами или на рабочем месте, целеустремленной и четкой походки. Решительно прошагав мимо бакалейного и мясного отделов, она направилась к прохладительным напиткам, спрятанным в самых недрах магазина.
— Ты что будешь? — спросила Анна, доставая себе воду и показывая на холодильник со всякими бутылками и картонными пакетами.
— Не знаешь, тут есть что-нибудь яблочное?
— Та-ак, посмотрим… яблоко… яблоко… яблоко… — Анна изучила содержимое полок и вытащила маленький зеленый пакет с прилепленной соломинкой. — Вот.
— А это вкусно?
— Ну-у, ничего. По вкусу похоже на яблоко.
— Хорошо.
Я забрал яблочный сок, и мы пошли к кассе, расплатились, вышли на морозный солнечный воздух и остановились около урны. Мы не могли придумать, о чем бы поговорить. Я очень мало знал об Анне. Ну, за исключением того, что она больше не ходит на выставки, о чем я украдкой прочитал в архиве Хавстейна. Старшим из трех моих соседей-пациентов был Палли, и только за ним — Анна, однако как-то само собой сложилось, что она стала для остальных словно матерью, которая присматривает за тобой, даже когда ты от нее отворачиваешься.
Я пил яблочный сок. Он оказался абсолютно обычным. Словно пластмассовое яблоко. Я смотрел на нашу машину, стоящую на причале, где все остальные с отсутствующим видом ждали парома.
— Ты не пойми меня неправильно, но мне вот что хочется сказать: я так рада, что ты заботишься об НН.
— Забочусь? — Сам я все совсем по-другому себе представлял. Да я, может, и не встречал никого лучше ее. Я о ней не заботился. Скорее, это она обо мне заботилась, разве нет?
— С тех пор как ты приехал, она прямо-таки расцвела. Поэтому… я просто хотела бы, чтобы ты постарался беречь ее. Ладно?
— Ты о чем это?
— Матиас, ты знаешь, о чем я.
Я опасливо кивнул. Втягивал в себя яблочную пластмассу. Потом посмотрел на машину. Они там, похоже, заснули. И тут мы увидели, как во фьорд, тихо урча, заходит паром.
Анна прищурилась:
— Ты что, правда считал, что ты здесь всем безразличен?
Я задумался.
— Да, — ответил я, я и правда так считал.
— Ну, в таком случае ты ошибался, — улыбаясь, сказала Анна.
— Наверное.
Она обняла меня:
— Пошли же, печальный норвежец. А то не попадем в Карлсвик.
— И будет о чем жалеть?
Она рассмеялась:
— Вообще-то нет.
Мы пошли к машине, а паром начал пришвартовываться.
Когда я уселся на место, задремавшая НН проснулась. Хавстейн повернулся ко мне:
— Купили что-нибудь?
Я показал на яблочный сок. Хавстейн поморщился:
— И ты это пьешь? Это же химия.
— Суперхимия, — ответил я.
Паром стукнулся о причал, дверь автомобильного отсека распахнулась, и мы въехали на борт. Мы оказались чуть ли не единственными пассажирами: помимо нас на борту был только трейлер, пара других машин и маленькое семейство без автомобиля.
Когда паром вышел во фьорд, я, застегнув свою тонкую куртку, поднялся на палубу и уцепился за поручни, а остальные сидели в кафе, расположенном в носовой части. Дул сильный ветер, для туристов был не сезон, поэтому я стоял почти один, только пара матросов пробежала к машинному отделению или рубке. Обогнув Карлсой, мы вышли на самую середину фьорда, вокруг возвышались острые скалистые вершины, по сравнению с которыми мы в нашей плавучей лоханке казались маленькими и жалкими. Я пытался прикинуть, чего же я достиг за последние месяцы. Почти все это время я провел в ожидании, причем я даже и определиться не смог, чего же я жду. Лучших времен? Когда я вновь смогу работать? Что в один прекрасный день прилетит Хелле и увезет меня домой? Или нового тысячелетия, в котором люди опять захотят большими партиями покупать цветы и растения? Я не многого добился. Почти ничего. Однако есть же люди, которые, можно сказать, всю жизнь ничего не делают. Принимают все как должное. И если вдуматься, то это вовсе не так плохо.
Сейчас у меня, несмотря ни на что, опять появилась работа.
Я на правильном пути.
Я перестал ждать, разве нет?
На воду рядом с паромом сел тупик. Обогнув корму, он поплыл вдоль борта, а потом опять поднялся в воздух и немного покружил надо мной, будто размышляя, стоит ли ему тут садиться. По его глазам я понял, что он решил эту затею бросить. И улетел прочь.
Открыв двойные деревянные двери, на палубу вышел Хавстейн. Он встал рядом со мной и оперся на поручень.
— Ну как? — спросил он, — что скажешь?
— Красиво здесь, — ответил я.
— Естественно. — Он указал на оставшийся позади остров. — Это Карлсой. Его иногда видно из Гьогва. А во-он там, — продолжал он, перегибаясь через перила и глядя вперед, — это Кюной, там, где пирамида.
— Пирамида?
— Гора такая. Похожая на пирамиду. Подожди — увидишь.
Я огляделся. Со всех сторон абсолютно пустынные острова. Почти серые. Я подумал, что с тех пор, как я приехал сюда летом, все сильно изменилось. Тогда все было таким зеленым, даже ярко-зеленым. Сейчас же цвета потускнели, а природа будто полиняла. И горы оделись в белый мех.
— Как прошло Рождество? — спросил Хавстейн.
— Замечательно. Тихо и спокойно.
— Мне сказали, ты не поехал домой. В Норвегию.
— Да?
— НН так сказала.
Мне хотелось спросить о ней, ее настоящее имя. Хотелось спросить, зачем он хранит архив. Но я не спросил. Не мог я просто взять и признаться, что я опять рылся в его вещах. Поэтому я сказал:
— В Гьогве ничем не хуже.
— Тебе что, не хотелось ехать домой?
— Я опоздал на самолет.
— Но домой тебе хотелось?
Молчание. Над палубой пролетела еще одна птица, но ничего картинного в этом не было.
— Не знаю.
Хавстейн не ответил.
— Никак не могу осознать до конца, что завтра уже будет двухтысячный год, — только и произнес он.
— Странно это.
— Помню, когда наступили восьмидесятые, мне тоже это показалось чудным. И в девяностые чувствовалось, будто началось будущее. А теперь? Нет, не знаю. Мне кажется, это все равно что войти в незнакомую комнату с завязанными глазами. И опереться не на кого.
— Ну, мы же вместе? Разве не так?
Хавстейн отвел взгляд. Посмотрел вперед. Его вниманием полностью завладел фьорд. Я не мог угадать, о чем он думал. Мы обособлены, а хорошо это или плохо, я сказать не мог. Если это вообще имеет хоть какое-то значение.
— Так. Мы все — вместе. И поэтому должны быть счастливы.
— Ясное дело.
— Матиас, а тебе не кажется это странным? Ты только подумай: нас пятеро, всем за тридцать, и никто из нас не женат. Ни у кого нет семьи. Детей.
Я подумал об НН.
— Наверное, брак — лишь лекарство от одиночества, или, может, мы какие-то особенные. Исключение из правил.
— Нет, — ответил он, — таких, как мы, множество. Не сосчитать сколько. И все мы в равной мере одиноки или вообще не одиноки, и в этом-то как раз и проблема. Мы самодостаточны. Мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое. А при таком раскладе, Матиас, детей не будет. И семьи не будет.
— Может, в мире уже достаточно семей?
— Семей не может быть достаточно. Никогда. — Он отвернулся. — Страх сближения, Матиас. Мне об этом рассказывал один профессор в Копенгагене. Страх слишком сблизиться с другими. Именно он заставляет нас слегка отодвигаться в сторону, когда в автобусе кто-нибудь садится рядом. Это страх общности, страх смерти.
Я не совсем понимал, к чему он ведет, и попытался было что-то ответить, но Хавстейн опередил меня и сменил тему:
— А ты знал, что в шестидесятых сюда приезжали американцы, чтобы потренироваться перед полетом на Луну?
— А разве не в Исландию?
— И сюда тоже.
— Ты уверен?
— Конечно. Я сам его видел.
— Кого?
— Армстронга. И Олдрина.
— Здесь, на Фарерах? Когда?
— Ну-у, где-то в середине шестидесятых. По-моему, летом шестьдесят седьмого. Они были в Слеттаратиндуре. Мы ехали туда на рыбалку или возвращались с рыбалки, точно не помню. На озеро Эйдисватн. С друзьями. И тут мы увидели у обочины целую колонну машин.
Я не мог понять, верить ли ему, правда ли то, что говорит Хавстейн. Прежде я об этом не слышал. Возможно, так оно и было, просто это хранили в тайне, о которой знали всего несколько человек и которую по разным причинам утаили от биографов. Или может, он сказал это, чтобы отвлечь меня от того разговора, не хотел меня расстраивать за два дня до нового тысячелетия. Ничего страшного. Все равно приятно такое слышать.
— Там было человек пятьдесят, — продолжал он, — и все с большими рюкзаками, чемоданами, оборудованием. Они тащили все это наверх по гравию, в горы. Мы тогда пошли следом, но на порядочном расстоянии. Старались держаться подальше, чтобы нас не заметили. Лезли они долго, потом остановились и начали что-то устанавливать. Толпа людей, и непонятно, зачем они туда пришли. А потом, когда народ немного расступился, мы увидели двух астронавтов в огромных скафандрах, они, пошатываясь, выполняли разные задания, но какие именно, сложно было разглядеть. Помню, у одного из моих приятелей оказался при себе бинокль, и мы смотрели в него по очереди. Укрывшись в траве, мы подглядывали за ними. В конце концов, астронавты сняли шлемы, и мы увидели их лица. Там был Армстронг. Я абсолютно в этом уверен. Память на лица у меня хорошая, поэтому через два года я с легкостью его узнал.
— Ты и Олдрина видел?
— Наверное. Не уверен. К нему я особо не присматривался и не запомнил.
— Как и многие другие, — ответил я.
— Смотри, — сказал Хавстейн и махнул рукой, — вон там.
Я поднял голову и увидел прямо перед нами Ранндалур, она и впрямь была похожа на пирамиду, только поросла серой травой и покрылась грязной тонкой снежной коркой. Гора возвышаясь над поворотом в Клаксвик, напоминала многоэтажный торт, который, ярус за ярусом, слой за слоем, возводила природа или клаксвикские викинги. Чтобы увидеть ее округлую вершину, мне пришлось откинуться назад, так что я чуть не поскользнулся. Я пожалел, что у меня нет фотоаппарата, это стоило заснять на пленку. Но я никогда не брал с собой фотоаппарат, ни в одно из путешествий. Ну вроде как если я даже и сделаю снимки, кому мне их показывать?
Мы отвернулись и пошли к остальным, хотя спиной все равно словно продолжали чувствовать эту гору, оставшуюся там, позади. Паром начал причаливать, и мы сели в машину. Потом грузовой трап опустился, и мы, съехав по нему, очутились в Клаксвике. Вылезли из машины и договорились встретиться с Хавстейном через пару часов. Ему надо было съездить в Мюли и навестить «другую группу», как он их называл. «Другая группа» — такие же, как НН, Палли и Анна, пациенты реабилитационного центра, которым по разным причинам самостоятельная жизнь внушала скорее беспокойство, чем радость. Как я понял, в этом реабилитационном центре пациентов больше, чем на нашей маленькой фабрике, и некоторые из них были вовсе не такими здоровыми, как моя группа, как мы. Поэтому свобода их передвижений была ограничена и место расположения центра выбрали не случайно.
В 1994-м, когда местное население окончательно разъехалось, правительство выделило средства на постройку этого центра. Хавстейн настаивал, поэтому денег дали много, и если даже мы, в Гьогве, чувствовали себя отрезанными от мира, то с Мюли все равно было не сравнить. До 90-х годов там даже не было дороги, и жители добирались вертолетом или на пароме до соседнего острова, потом — до моста на Бордой, а там оставалось пять-шесть километров до Клаксвика.
От причала мы побрели вниз, до улицы Нолсойар Паулс Гета, нашли там пекарню и перекусили: я взял булочку и «Веселую Колу», а Палли, будто опасаясь не успеть до наступления нового тысячелетия, в два укуса съел пирожное «Наполеон». Потом мы опять пошли вниз по улице, пока не набрели на магазин через дорогу. Анне и НН вдруг взбрело в голову купить мне новую куртку: я, мол, хожу в той же легкой куртке, в которой приехал летом, без подкладки, карманы у нее уже отрываются, и даже когда я застегиваю молнию до подбородка, все равно мерзну. Дни моей куртки были сочтены, я в ней насмерть замерзну, мне уже надоело ощущать, как коченеет спина и холодок ползет по рукам.
Куртку мы выбрали быстро: мне было все равно, как она будет выглядеть, лишь бы грела, поэтому я положился на Анну и НН, и через некоторое время НН отыскала коричневую толстую шерстяную куртку на двойной подкладке, с огромным воротником с костяными пуговицами. В ней я был похож на капитана. Или рулевого. Только вот рулить я не умел.
Я засунул руку в карман той куртки, которая была на мне, нащупал конверт с деньгами, но НН меня опередила. Она что-то сказала продавщице, та кивнула в мою сторону и отодвинулась от кассы, а НН повернулась ко мне и положила руку на мой потертый конверт.
— Не беспокойся, она вышлет Хавстейну счет.
— Почему? — сконфуженно спросил я. — Не хочу, чтобы Хавстейн платил за меня.
— А он и не будет. Ему эти деньги возместят.
— Кто? — спросил я обеспокоенно.
— Государство.
— Государство?
— Да, — ответила она, протягивая мне сверток с курткой, — надевай. Тогда уж сегодня точно не будешь мерзнуть.
— Большое спасибо.
— Благодари не меня, — засмеялась она, — благодари Фареры.
— Или Данию, — подал голос стоящего позади Палли.
— Да, именно, или Данию. «From Denmark with love».[77]
Фареры принадлежали Дании, и ежегодно Дания выделяла Фарерам миллиард, Фареры оказывали денежную помощь Хавстейну, а Хавстейн — мне, поэтому я, можно сказать, был застрахован.
А потом мы вышли из магазина.
Мы прогулялись по Бискупсстедгета, мне показали достопримечательности Клаксвика, мы посмотрели порт, обошли все магазины, кафе и видеопрокаты, мы шли вместе с НН, по-моему, говорили про новый год, а немного позади следовали Анна и Палли, они были увлечены беседой, разговаривали, наклонившись друг к дружке, смеялись. Хорошее это было время, и мне подумалось, что, может, наступающий год будет не таким уж и плохим, все не так безнадежно, как кажется, даже самолеты с поломанными двигателями смогут приземлиться в давно закрытых аэропортах, надо только стиснуть зубы и научиться планировать.
В конце концов Палли предложил пойти в церковь Кристиана, пока мы ждем, когда Хавстейн вернется из «дома». Я был согласен на все, в тот день я был туристом.
— Палли, мы ходили туда в прошлый приезд, — запротестовала Анна.
— Ну и что?
— Да у нас прямо напротив Фабрики есть церковь, но ты же там не был ни разу? Почему? А эта церковь ничем не лучше.
— Неправда.
— Почему это?
— Нет.
Я подумал, что, может, здесь связь с Богом лучше, наверное, до Гьогва Его волны вообще не доходят и связаться с Ним оттуда можно только в рабочее время по факсу. Я посмотрел на Анну, та посмотрела на НН, однако НН лишь пожала плечами, и так как других аргументов у нас не было, мы развернулись и пошли к церкви. Впереди всех шел Палли.
Церковь Кристиана стояла на склоне, немного в стороне от главной улицы, и была больше, чем те деревянные церкви, какие видишь в любой деревне. Типичная фарерская архитектура шестидесятых. Каменные стены напоминали о древних руинах на Киркьебеуре, а окна были такими же большими, как в старых фарерских лодочных ангарах. Кроме нас в церкви никого не было, мы сели на скамью в центре, Палли, единственный из нас по-настоящему верующий, расположился рядом со мной и прикрыл глаза, мы же глазели по сторонам, оглядывали рисунки на потолке, словно перенесенные сюда с кораблей викингов. Оули мне рассказывал, что почти во всех церквях здесь на потолок вешают маленький кораблик, чтобы таким образом защитить и благословить всех моряков, вот и в этой церкви под потолком тоже висела лодка, только не игрушечная, а самая настоящая восьмиместная гребная лодка, и выглядела она так, словно и правда плыла по спокойному морю, а не висела на цепи. Закончив свою беседу с Богом, Палли открыл глаза и увидел, что мы нетерпеливо ерзаем.
— Áttamanfar,[78] — сказал он, — восьмиместная… лодка.
— Кажется, что она плывет, — сказал я. И вдруг почувствовал, будто нахожусь под водой.
Палли посмотрел на лодку. Он открывал рот, пуская пузырьки, а по скамьям потянулись водоросли.
— Раньше такими пользовались священники. Когда плавали с острова на остров. А именно эта лодка, которая сейчас там, наверху, она ни разу не тонула.
Одна-единственная из всех. Всегда держалась на плаву. Под Рождество в 1913-м эта и еще три лодки из деревни Скард вышли в море порыбачить. Погода стояла ужасная, и три лодки затонули. Волны забрали семерых. И лишь эта уцелела. В тот день погибли все мужчины из Скарда, кроме семидесятилетнего старика и четырнадцатилетнего мальчика, оставшихся на берегу. А ведь случилось это как раз под Рождество. Овдовевшим женам было не на что жить, поэтому они собрали пожитки и переехали в Харалдссунд, а Скард опустел. И с тех пор там никто не живет.
Мы молчали.
Мы смотрели на лодку.
В этой стране от моря не укрыться никому. И если хорошо приглядеться, то увидишь, что все превращается в воду, даже люди.
Со скамьи раздалось какое-то жужжание. Анна нарушила молчание первой.
— Я на секунду, — сказала она и вышла.
Через пару минут Анна вернулась.
— Хавстейн звонил, — сообщила она, — он уже в Клаксвике, ждет на набережной. Мы договорились встретиться в пивоварне.
— Сейчас? — спросил Палли.
— Да.
— Хорошо, — сказал Палли, а потом добавил: — Тебе бы стоило выключать мобильник в церкви.
— Но я же отключила звук! И вышла!
— Все равно.
Анна посмотрела на него с раздражением:
— Ты думаешь, Бог рассердится?
— Тебе нужно было его выключить, — только и ответил Палли.
Поднявшись, мы медленно вышли из церкви на сырой декабрьский воздух и направились к пивоварне, высматривая машину Хавстейна.
Палли сердился не долго. Мы встретились с Хавстейном, зашли в «Фарейя Бьор», заказали выпивку, и Палли сразу же перестал обижаться, потому что весь день он с радостью и нетерпением дожидался, когда мы пойдем в пивоварню, и очень боялся, что не успеем до закрытия. Обычно мы довольствовались тем, что заезжали в монополию, где помимо пива покупали еще вино и спирт, но уж если мы сначала заехали в Клаксвик, то решили купить пиво там, где его делают, да и выбор здесь был больше, чем в других заведениях. Ко всему прочему, тут продавались еще и разные аксессуары, вроде футболок, сумок, шапок и полотенец с логотипом пивоварни, и Палли непременно захотелось накупить всего сразу, хотя с его предыдущего посещения пивоварни ни ассортимент, ни рисунки не поменялись, и даже несмотря на то, что добра такого у него уже было больше чем достаточно. Он покупал это скорее по привычке, чем из необходимости. Во всяком случае, увидев Палли, продавец помимо трех заказанных ящиков пива начал выкладывать на прилавок по одному предмету каждого вида, которые Палли, очевидно, как и всегда, разрешили забрать бесплатно. Клиентами мы были хорошими, и продавец знал всех по именам. Они уже давно сюда не заезжали, так что Палли было о чем рассказать, поэтому, пока остальные переносили ящики в машину, он остановился поболтать с продавцом. Они поговорили о кораблях, причаливших в Коллафьордуре и отчаливших оттуда, о происходящем в Торсхавне и, естественно, обо мне, новом жильце, как Палли меня называл. Он замахал мне рукой, и я подошел к прилавку, вежливо поздоровался, рассказал, кто я и откуда, а потом попробовал пива. Это, ясное дело, было запрещено, и продавец нервно огляделся по сторонам, но в пивоварне никого, кроме нас, не было. Пропустив меня за прилавок, он открыл бутылку темного пива, налил в бокал и протянул мне. Взяв бокал, я сделал солидный глоток, в то время как Палли с продавцом выжидающе смотрели на меня. Вкус напоминал носки из мокрой овечьей шерсти, вымоченные в растительном масле.
— Неплохо, — сказал я и взглянул на этикетку, — «Black Sheep».[79]
Покачав головами, они засмеялись, продавец забрал у меня бокал и сказал, что в первый раз этот вкус не многим нравится. Потом он сказал еще что-то Палли — что именно, я не понял. Я вопросительно посмотрел на него.
— Он говорит, настоящим фарерцем ты пока еще не стал, — объяснил Палли.
— Да уж, надо думать.
Но процесс привыкания начался, подумал я. Он уже в самом разгаре.
В Клаксвике, в магазине, куда мы ездили за продуктами, я купил пару открыток с пирамидой Ранндалур, нацарапал несколько фраз, что со мной все в порядке, лучше, чем раньше, а в самом низу добавил: с Новым годом и всего наилучшего. На одной открытке я написал адрес родителей, а на другой — Йорна и бросил их в почтовый ящик возле магазина. Мы доехали до набережной и стали дожидаться парома. Я сидел на заднем сиденье, зажатый между Анной и НН, и размышлял, что если Фареры казались мне подходящим укрытием, то я идиот. Здесь сведения распространялись со скоростью звука, нас узнавали даже в самых неожиданных местах, потому что нас таких было мало и мы, судя по всему, считались странными, мы существовали на грани между реальностью и отклонениями. Мне казалось, что к нам относились как к таким войлочным фигуркам-талисманам, и меня представляли незнакомым как своего рода последнего вылечившегося психа, а я подыгрывал со всем возможным рвением. Или мне уже и подыгрывать не надо было, даже не знаю. Знаю только, что повсюду, где я ни появлялся, я, сам того не желая, оставлял следы, хотя изо всех сил старался ступать осторожно. Идиот — я полагал, что смогу спрятаться здесь, а вместо этого стал более заметным.
Однако я, во всяком случае, был относительно счастливым идиотом.
Я снова стал самим собой, и руки меня слушались.
Меня начали любить.
По ночам я спал.
По-моему, я ни по чему не скучал.
Впрочем, я никогда не скучал.
Может, только по Хелле.
И действительно, по ней я скучал. Долго. Сильно.
Но сейчас?
Не знаю. Это чувство значительно ослабело.
Меня словно подлатали, заклеив место разрыва клейкой лентой.
Меня отремонтировали.
По дороге домой, сидя в машине в новой куртке, я обнял НН. Она ничего не сказала и не попыталась сбросить мои руки. Мы пересекли Эйстурой и, углубившись в горы, спустились с другой стороны к Гьогву. Выгрузили ящики с пивом и продукты в «Гардеробе А», набили едой холодильник, а вечером поужинали все вместе, впервые за долгое время, и, по-моему, тем вечером я не задумывался о том, что провожу время в компании стольких человек сразу. Это было совершенно естественно, как и должно было быть. Хавстейн не ушел к себе в кабинет, и Палли разговаривал больше обычного — рассказывал о работе и о том, что задумал построить лодку. Одетый в футболку из пивоварни, в тот день он действительно был в ударе. Мы походили на астронавтов, вернувшихся домой после карантина. НН поставила «Кардиганс», я открывал пиво за пивом, кроме меня никто больше не пил, голову словно набили ватой, издалека доносились теплые, неясные голоса, они играли роль щита, который охранял меня от разрушительных звездных лучей. Я рассказывал о Ставангере, Йорне и родителях, я сказал, что не собираюсь уезжать, и почти расстроился, увидев, как они обрадовались. Как же быстро люди становятся зависимыми друг от друга, как же много я стал для них значить! И где-то в глубине души я сознавал, что еще пожалею о том, что пошел наперекор всем своим правилам, открывшись вот так, всем желающим. А завтра на Фарерах наступит будущее.
3
В моей жизни есть две вещи, которые я действительно не могу объяснить. Первая — это почему между лунными полюсами нестабильная гравитация, что в шестидесятых заставило инженеров НАСА, высчитывающих координаты для наиболее безопасной посадки, озабоченно хмурить брови. Вторая — это каким образом в ту ночь море принесло нам человека.
Он, похоже, появился ниоткуда, так же, как я за шесть месяцев до этого. Он тоже пришел с мороза, и, наверное, именно та ночь запомнилась мне лучше всего. Мы вступали в новое тысячелетие. По всему миру миллиарды были истрачены на фейерверки: за ними люди пытались спрятать свой страх, ведь могло исчезнуть все, во что ты верил. Или может, наоборот: многие хотели так усилить радостное предвкушение новых удивительных перемен. Мы отпраздновали наступление нового тысячелетия спокойно. Ничего особенного мы не ждали. Никаких предвкушений. Мы приняли то, что принесло нам новое тысячелетие, однако же именно это я и запомнил лучше всего. Помню, как я сидел на кухне рядом с закутанным в одеяла бородатым человеком ниоткуда. Роста он был почти двухметрового, мощного телосложения, и с него текла вода. Помню, я подумал тогда, что все это совершенно нелепо. Однако сейчас, спустя несколько лет, мне кажется, что рано или поздно он должен был появиться. Иначе бы мы там, скорее всего, не сидели. Я и Хавстейн, Анна и Палли. На кухне в Гьогве. По моему мнению, именно ради человека из 1999-го года мы бросили все на свете и приехали туда. Иногда не знаешь, чего хочешь, до тех пор, пока не получишь этого.
В новогодний вечер я сидел в комнате НН, часы на стене показывали пять, а она никак не могла определиться, надеть ей черное или темно-синее платье. Она уходила в спальню, надевала одно из них, выходила и становилась перед зеркалом. Со всей тщательностью она пыталась выбрать самые выгодные для платья или для нее самой позы и движения, — и все это только для того, чтобы, вновь исчезнув в спальне, появиться в другом платье, за чем следовали другие позы и движения. Сидя на диване, я созерцал этот бесконечный показ мод с ограниченным репертуаром.
— А ты что скажешь? — спросила она.
Вот уж меня не стоило спрашивать.
— Оба красивые.
— Но как по-твоему, мне какое надеть?
— Одно из них.
— Это?
НН внимательно посмотрела на свое отражение в зеркале, ей это тоже начинало надоедать.
— Или другое. Я правда не знаю.
— Знаешь, толку от тебя не особо много.
Я улыбнулся. И вспомнил вечера, когда мы с Хелле ходили куда-нибудь. Мне всегда нравилось, когда она выбирала одежду и спрашивала, считаю ли я ее подходящей.
Она обычно просила: выбери за меня. И иногда я выбирал. Однако чаще всего мои предложения не принимались. Я привык относиться к этому как к прогнозу погоды по телевизору. Думай как хочешь, но мнение твое никакой роли не играет. Вот и сейчас: другое место, иной человек, другие платья.
— Может, синее? — спросил я.
— Думаешь? Синее? Ну-у, да, может быть.
— А может, проще надеть спортивный костюм?
— Матиас!
— Извини.
— А ты сам не будешь переодеваться?
НН посмотрела на меня. Я был одет как обычно.
— У меня нет костюма, — ответил я, подумав, что мог бы надеть комбинезон. Или смастерить скафандр.
— Нет костюма?
— Здесь — нет. Он остался в Ставангере, — ответил я и прибавил: — Я не думал, что пробуду здесь так долго. — Не знаю, услышала она это или нет.
С первого этажа донесся голос Хавстейна. Он звал меня. Я крикнул что-то в ответ.
— Пойду, может, спущусь к нему, — сказал я.
— Ладно.
Я поднялся и вышел в коридор. Потом вновь приоткрыл дверь и посмотрел на самого прекрасного в мире человека и самые волшебные движения.
— Черное, — сказал я, и НН обернулась, — ты должна надеть черное.
Она улыбнулась.
— Спасибо, — сказала она, — можешь ведь, когда хочешь.
— Жалко, что случается такое очень редко.
Хавстейна я обнаружил на кухне, он стоял, склонившись над кастрюльками. Проснулся он рано, разбудив меня в восемь утра пением из ванной, а затем он весь день наводил на Фабрике порядок: прибирался в гостиной и на кухне, готовил ужин и, достав лучший сервиз, накрывал на стол. Палли с Анной взяли машину и поехали поздравить мать Анны с Новым годом, а мы бродили по дому, поглядывая на часы и волнуясь, что Палли с Анной опоздают к ужину.
— Картошка, — сказал Хавстейн.
— Где?
Он показал на стоявшую на столе миску с картофелем. Я отыскал нож для чистки картошки, налил в раковину чуть теплой воды и, встав рядом с Хавстейном, принялся за работу. Хавстейн же одновременно готовил сразу три блюда: индейку, вяленое мясо и гринду. Индейка в духовке изумительно пахла, вяленое мясо и гринда воняли, все как полагается. Занятые каждый своим делом, мы молчали, поглядывая в окно и пытаясь смотреть прямо на солнце, но у нас ничего не выходило. Погода стояла безоблачная, и, несмотря на мороз, все окна были открыты, последнее проветривание в старом году, пол был холодным, и ноги мерзли. Нечто похожее испытываешь ранней весной, когда распахиваешь все окна и прогоняешь спертый, как в подводной лодке, воздух, которым дышал целую зиму.
Так уж оно сложилось. Ты всегда делаешь не то, что следовало бы. Я очень боялся. Всего. И, не зная этого, я был так счастлив. Я не бросил нож для чистки картофеля и не вернулся наверх, к ней. Я оставался на кухне. Почистил картошку, и до возвращения Палли с Анной мы с Хавстейном так и не разговаривали. Где-то через полчаса на кухню зашли они с разрумянившимися щеками — знаю, что странно об этом упоминать, но именно такими Палли с Анной и запомнились мне в тот день: как они с разрумянившимися щеками заходят на кухню. Они были похожи на школьников, вернувшихся из похода в горы, куда им идти совсем не хотелось. Вся эта здоровая энергия, долго и упрямо сдерживаемая, а на лицах — плохо скрываемая радость от удивительного дня.
Ты помнишь такие дни?
Когда ты чувствовал себя именно так?
Я помню их все до одного.
А через полчаса Хавстейн вынул из духовки индейку, на кухню спустилась НН в темно-синем платье, посмотрев друг на друга, мы отвели глаза, Хавстейн оглядел нас обоих и обнял НН. Я сказал, что она замечательно выглядит, «ты прекрасна» — так я сказал, мы сели за стол и разрезали индейку. К тому моменту я просуществовал уже 10 756 дней.
Я уже много раз просматривал сохранившиеся в памяти снимки того вечера и много раз вновь и вновь прокручивал негативы. Сначала все происходит словно в замедленной съемке: мы с аппетитом съедаем индейку, вяленое мясо и гринду, выпиваем пиво и вино, мило беседуем, идем в прихожую, обуваемся, стрелки на часах приближаются к полуночи, а у Палли есть ракета, одна-единственная, поэтому мы вслед за ним выходим во двор, огибаем Фабрику и идем вниз, к каменистому побережью. Вот мы выстроились полукругом на маленьком, поросшем травой клочке земли и смотрим, как Палли ищет место получше, где можно поставить бутылку, из которой торчит ракета. Накрапывает дождь, рядом со мной стоит НН в моей куртке. Куртка ей велика, мне холодно, но я не подаю вида, Хавстейн шутит, но я не разбираю его слов, однако мы все смеемся, Анна кричит: с Новым годом, и НН тоже кричит: с Новым годом, Палли не спеша торопится, он медленно чиркает спичкой по коробку, деревянная палочка потрескивает, потом появляется огонек, а затем пламя начинаете шипением подбираться к фитилю. Хавстейн раскидывает свои огромные руки, и мы все тонем в его объятиях, а руки Палли поджигают ракету. Затем он осторожно поднимается и подходит к нам. Ракета вылетает из бутылки и, набирая скорость, уносится туда, откуда не видно наших запрокинутых в ожидании голов. Мы смотрим, как она взрывается на фоне Вселенной, и наши взгляды останавливаются на сверкающих искорках, вырисовывающих заранее продуманный узор, почти как в синхронном плавании. И лишь когда искры догорели, мы увидели, как откуда-то из моря поднялся и повис в небе красный огонек. С этого момента кадры начинают сменяться все быстрее. По-моему, первой отреагировала Анна.
— Что это? — спросила она.
— Сигнальная ракета, — ответил Палли.
— Что? — переспросил Хавстейн.
— Сигнальная ракета. Световой сигнал.
— Ты видишь там что-нибудь? — поинтересовался Хавстейн.
Палли ответил, что не видит, и Хавстейн побежал на Фабрику за биноклем, а мы так и стояли, вглядываясь в темноту.
— Это ложная тревога, — сказал я, — Новый год. Ни один новогодний вечер без такого не обходится.
— О чем ты? — спросила НН.
— Да в Ставангере вечно найдется какой-нибудь идиот, который сначала все ракеты изведет, а потом отыщет в гараже еще парочку сигнальных и поджигает и их тоже.
— В море нет гаражей, — резко ответил Палли, — и даже лодки не видно. В море для забавы сигнальных ракет не поджигают.
Я промолчал, вглядываясь в темноту, но не мог ничего разглядеть. Я подошел ближе к берегу, словно несколько метров помогут и я смогу разглядеть что-нибудь. К нам бегом возвращается Хавстейн. Я слышал, как они переговариваются сзади. Хавстейн приговаривает: подожди-подожди, начинает осматривать море в бинокль, и тогда все умолкают. Я ничего не вижу. Потом Хавстейн говорит: «Там что-то есть!» Я поворачиваюсь, подбегаю к нему и прошу дать мне взглянуть. Протягивая мне бинокль, он показывает, куда смотреть. Я беру бинокль, подношу его к глазам и начинаю искать ту точку, на которую показывал Хавстейн, но ничего не нахожу. Где-где? — переспрашиваю я, и Хавстейн хватается за бинокль, который я держу в руках, и направляет его чуть выше и левее. Вон там.
Там что-то виднеется. Что-то маленькое. Освещенное красным светом сигнальной ракеты.
Не разберешь что.
Может быть все, что угодно.
Однако это что-то плохое.
И тут я вспоминаю про лодку.
Лодку Оули, стоящую на причале.
И я говорю лишь: «Лодка, она там».
Срываюсь с места и бегу. Я бегу по мокрым деревенским улочкам, вообще-то я немного пьян, но не замечаю этого, так быстро я никогда не бегал. Следом за мной бежит Хавстейн. «Подожди!» — доносится его голос сзади, но я не жду, я бегу, бегу мимо домов, в которых больше почти никого не осталось, все разъехались и исчезли, умерли и исчезли, где давно уже произошло все, что должно было произойти, а те, кто остался, знают, что ничего уже не изменится. Ноги несут меня к причалу, где я всем телом наваливаюсь на деревянную лодку и толкаю ее, вижу, как она отчаливает и скользит по темной воде. Ко мне подбегает Хавстейн, он прыгает в лодку как раз в тот момент, когда я отталкиваюсь веслом, потом я сажусь, опускаю весла в воду и начинаю грести.
Сидя на корме, Хавстейн кричит: «Давай греби! Давай греби!» И, раззадоренный его криками, я вывожу лодку в узком фарватере, по самому глубокому течению, потому что теперь я чувствую себя нужным, я сижу спиной к морю и ничего не вижу. «Направо! Налево!» — командует Хавстейн, льет дождь, и во все стороны летят брызги, я закрываю глаза, а Хавстейн кричит, что мы уже близко. Руки устали, однако я продолжаю грести против течения, лодка карабкается на гребешки волн и набирает скорость. Сигнальная ракета гаснет, и теперь вся надежда на Хавстейна, и когда тот кричит, чтобы я греб еще сильнее, я поворачиваю голову, и мне на одну секунду удается разглядеть желтый резиновый плот, а на нем — человека, пытающегося удержаться на ногах и спасти вещи. Волны смывают их, вещи уходят под воду, и плот тоже идет под воду, человек стоит по колено в воде, я одним движением поворачиваю лодку и изо всех сил налегаю на одно весло, кричу Хавстейну, чтобы теперь он взялся за весла, встаю, поворачиваюсь и падаю в воду.
Я ухожу под воду, съемка резко замедляется, все часы мира останавливаются, и звук выключается. Течение начинает относить меня в сторону, прямо через толщу воды, и здесь не так темно, как мне казалось раньше. Здесь все темно-синее, а не черное, и я вижу рыб, которые застывают в полуметре от меня и ускользают в стороны, чтобы дать мне дорогу. Я смотрю наверх, на дождевые круги на воде, похожие на мокрые кратеры. Я должен выплыть на поверхность, потому что я нужен там, в первый раз в жизни я действительно кому-то нужен. Я — единственное движущееся тело во всем мире, и в памяти моей появляются ясные и отчетливые воспоминания. Мне четыре года, я, стоя на стуле, задуваю свечи на торте. Отец купил подержанную машину, он возвращается домой, и мы идем кататься. Мне двадцать, и я пью пиво на балконе кирпичного домика рядом с огромным бассейном. Я в кино, смотрю «Назад в будущее». Я еду на автобусе домой, и сидящая напротив меня девушка смотрит на меня, я смотрю на нее, и она отворачивается. Я забрасываю снежок на крышу. Мне девять лет, я в Эстланде, учусь прыгать в воду. Я сижу перед телевизором и смотрю «Коларгол». Я вернулся из школы и стою перед дверью, потому что потерял ключи, на спине у меня ранец. Я болею, и мама читает мне вслух «Мио, мой Мио». Мама беременна, я радуюсь, что у меня появится братик или сестренка, но никто не родится, и мама плачет в спальне. По телевизору показывают цикл передач про Вселенную, я плохо себя вел, и мне не разрешают посмотреть последнюю серию, однако в конце концов отец приходит ко мне в комнату, забирает меня, сажает на колени, передача только что началась, и я вижу, как Баз Олдрин выходит из «Орла». Я уже долго под водой. Я лежу посреди дороги и жду, когда меня переедет машина. Я думаю об НН, которая стоит на берегу и с трудом может разглядеть нас в темноте. Я думаю, как НН жила на Мюкинесе и ждала, что море принесет ей человека, и вот ее мечты сбываются, человек этот появился. Кто-то отыскал нас и пустил сигнальную ракету, но мы пока не знаем кто, и, возможно, именно поэтому я проталкиваюсь через воду, наверное, потому, что я опять хочу, чтобы вокруг меня были люди. Изо всех сил я рвусь наверх, рассекаю воду и оказываюсь под проливным дождем. В первые секунды мне кажется, что я все еще под водой, я вижу, как плот заливает и он тонет. Я плыву к огромной фигуре человека, неподвижно сидящего на том, что осталось от резинового плота, он не двигается и уходит под воду. Он уже по горло в воде, когда я хватаю его за руку, он смотрит на меня, и я вижу бороду и изумленные глаза, а потом он отворачивается и смотрит, как волны смывают последние его пожитки. В руках у Хавстейна весла, он гребет к нам — ко мне и человеку, которого я сжимаю в объятиях. Я удерживаю его голову над водой, волны относят нас в сторону, первые обломки кораблекрушения в новом тысячелетии, я устал, я измотан, я машинально отмечаю, что нас затаскивают в лодку, кадры опять сменяются с обычной скоростью, 720 км/час, Хавстейн машет веслами, и с каждым взмахом приближается берег.
Вот так он и появился у нас, человек с моря, последний выживший из прошлого.
Long Distance Man.[80]
Он молчал.
Ну, то есть не совсем молчал. Причалив к берегу, мы донесли его до Фабрики, усадили на кухне, завернули в теплые одеяла и расположились вокруг. Хавстейн начал задавать ему вопросы на всех известных языках, а тот сидел, безучастно уставившись в столешницу. А потом произнес кое-что. Он сказал: «Happy New Year. I’m Carl».[81]
Удивительно, что человек привыкает почти ко всему, и в жизни каждого устанавливается какой-то распорядок. Спустя лишь неделю наш новичок переквалифицировался из разряда потерпевших кораблекрушение в обыкновенного — как и все мы — постояльца Фабрики, и мы ничего особенного в этом не видели. В один из первых дней Хавстейн спросил, что, по нашему мнению, следует предпринять, и, когда после коротких раздумий никто из нас не предложил выгнать его или отправить в Торсхавн, он остался. Он вроде как был доволен. Несмотря на то что никто так и не узнал, куда же он направлялся.
В новогоднюю ночь Карл сперва посидел пару часов на кухне, а потом ему предоставили полный покой и разместили в свободной комнате, совсем как меня. Однако, в отличие от меня, уже на четвертый день своего пребывания на Фабрике он был на ногах и неплохо выглядел. Мы сидели в гостиной, когда он спустился к нам, и на сотую долю секунды мне вспомнилось, как я в первый раз заходил в эту самую комнату. А потом он сел и заговорил, по-английски, и звучало это будто он откуда-то из Штатов. Помню, что говорил он много, хотя тихо, и единственное, о чем он не хотел рассказывать, — это как он прямо перед наступлением нового тысячелетия очутился в Атлантике на спасательном плоту. Ни слова об этом не проронил.
«Я пока не хочу об этом говорить», — вежливо сказал Карл с обезоруживающей улыбкой и поведал об этом лишь спустя десять месяцев, в октябре, когда несуществующие деревья уже сбросили листья, а мы пережили одну смерть.
Поэтому мы постепенно научились избегать разговоров о его спасении, приняли его в наш мирок, и Карлу, похоже, это нравилось. Когда Карл находился с нами, мы разговаривали в основном по-английски, а потом он вслед за мной выучил фарерский или что-то вроде фарерского, которого хватало, чтобы поддержать беседу. Хавстейн определил Карла к НН на Фабрику, и они хорошо сработались. Карл оказался необыкновенно способным, и едва начав мастерить овец и торфодобытчиков, он принялся придумывать что-то свое, новые фигурки, которые мы сдавали в сувенирный магазин в Ваугаре. Хавстейн раздобыл подержанный токарный станок, и из-под рук Карла стали выходить чашки, блюда и подсвечники. Помимо этого он просверливал в деревянных овечьих ногах дырочки и вставлял в них проволоку. Овцы получались с подвижными ногами, раньше нам такое и в голову не приходило. Доходы от продажи сувениров выросли, то есть миллионерами мы не стали, зато энтузиазма прибавилось, НН вроде работа опять начала нравиться, она больше не заговаривала о том, что ей надо подыскать другое занятие, и с головой ушла вдела. Мы с ней и с Карлом просиживали все вечера, разрабатывая новые идеи. И еще я помню, как НН слушала шведские поп-мелодии в гостиной, а Карл в резиновых перчатках мыл на кухне посуду после ужина, качая головой в такт и переминаясь с ноги на ногу, словно танцуя. Потом он поворачивался, кивал мне и улыбался. Он вообще много улыбался, как только встал на ноги, может, поэтому никто из нас и не захотел сообщать о его появлении в полицию или миграционным властям. Наверное, странно звучит, но поначалу я не сомневался, что уж благодаря его присутствию я окончательно излечусь от болезни, с которой приехал на Фабрику, и что он спасет нас от постоянного страха перед психическим расстройством. В действительности же появление Карла изменило все лишь на небольшое время, а затем мы вновь незаметно вернулись к самолечению, успокоительным лекарствам и беседам с Хавстейном, так что этот замкнутый круг, состоящий из выздоровлений и медленного возврата к прежнему состоянию, заставил нас воспринимать выздоровление как само по себе нечто болезненное. Однако мы все же были рады прибавлению в семье: теперь у нас появился объект для заботы, словно мы завели кошку, от чьей мягкой поступи в мире воцарилась гармония. Заперев Карла в своем мирке, мы никому о нем не рассказывали и выжидали.
Хотя это тоже не совсем верно.
Особенно что касается Хавстейна. Той зимой он сделался каким-то беспокойным, много времени проводил в одиночестве, Хавстейн словно находился в постоянном напряжении, и даже настроение у него было не таким хорошим, как в первые месяцы нашего знакомства. И поэтому, как мне кажется, начала исчезать наша уверенность в нем, хотя сам он этого не замечал, а мы не могли сказать ему об этом.
Хавстейн подолгу разговаривал с Карлом, пытаясь выяснить, нужна ли ему срочная помощь психиатров. Он садился за стол и, делая отметки в записной книжке, пытался разговорить Карла, ведь абсолютно здравомыслящий человек не сядет в надувную лодку и не рванет в декабре через Атлантику. Однако Карл ничего не рассказывал, поэтому мы перестали давить на него, хотя, когда их с Хавстейном не было, мы подолгу обсуждали этот вопрос и ставили диагнозы, которые изо дня вдень менялись. Никаких особых проявлений болезни мы у него не замечали, разве что по ночам его мучили кошмары и лучше всего он чувствовал себя в дневное время. Как и все мы, Карл был не очень общительным — а может, наоборот, слишком общительным — и так умело обыгрывал нас в шашки или скраббл, что мы вскоре перестали с ним играть. К весне Хавстейн раздобыл компьютерный вариант шахмат, и тут оказалось, что наш новый жилец вовсе не шахматный гений: в самых сложных партиях обыграть компьютер ему не удавалось. Наверное, мы просто-напросто были слабыми игроками или не могли сосредоточиться.
Тем не менее никто из нас по-прежнему не знал, что случилось с этим человеком.
Известно было только, что он приплыл в спасательной лодке.
В канун Нового года.
В один из первых дней, когда Карл только появился у нас, я взял его с собой на кладбище возле церкви, куда мне посоветовала сходить Сельма. Расчет оказался верным: я сразу понял, что еще немного, и мое имя тоже было бы выгравировано на одной из этих плит. Я надеялся, что Карлу в голову придет та же мысль и он хоть как-нибудь объяснит свое появление здесь и почему он, измотанный, с отросшей за несколько месяцев бородой, оказался посреди ночи на ярко-желтом спасательном плоту.
Надев дождевики, мы перешли улицу, открыли ворота и прошли сперва по тропинке, а потом по маленькому мостику к заасфальтированной площадке, где были вбиты семь табличек с именами погибших на море жителей Гьогва. Присев на лавку, мы посмотрели на безымянную железную скульптуру, стоявшую посередине площадки. Скульптура представляла собой фигуру матери, на коленях у которой сидела дочь, а вокруг — сыновья. Мать пристально смотрела на море, дочь просто глядела вперед, а сын как будто скептически оценивал бухту. Я подумал, что спустя, быть может, всего несколько дней, недель или месяцев он пойдет по стопам отца и отправится в море. Более умиротворяющего памятника я не видел, однако если приглядеться, фигуры будто начинали незаметно передвигаться, руки их словно слегка шевелились, а потом вновь принимали прежнее положение. Мы смотрели на пенящееся море, на волны, разбивающиеся об острые скалы и бросающие в нас брызги. В такую погоду в море выходить не стоит, несмотря на то, что именно здесь находится один из лучших в стране рыбопромысловых районов. В такой день я бы ни за что на свете не сел в лодку, ни при каких обстоятельствах. За каждой волной, накатывающейся на берег, следовал нарастающий грохот, а затем его сменял отдаленный гул, предвещавший появление следующей волны и не прекращавшийся ни на секунду, так что если долго стоять рядом, этот нескончаемый гром начинал отдаваться гулом в висках.
Карл посмотрел на таблички.
— Много людей, правда? — спросил я.
— Слишком много.
Встав, он подошел к поросшим травой плитам за памятником, наклонился и начал всматриваться в непонятные слова. Я встал позади и попытался перевести трагические надписи. «Умер от несчастного случая. Умер при кораблекрушении. Умер по пути на работу. Умер по пути с работы». Начало трагедиям было положено давно. 1901. 1920. 1954. «В память о дне, когда произошла большая трагедия». 30 апреля 1870-го, шестнадцать человек. В живых не остался никто. Даже дети. Много детей, им было всего по пятнадцать-шестнадцать лет. Некоторые плыли в Исландию, некоторые гибли по пути домой, а некоторые тонули, не успев даже мыса обогнуть. Было ясно как день, что жить на Фарерах, в сотнях километров от материка, — это вам не шутка. В Гьогве, к примеру, который зимой засыпает снегом. Тут и речи не может быть о романтических идеалах, где рыбаки живут мирной и спокойной жизнью, а во время рыбной ловли распевают псалмы. Здесь выживание идет вразрез с инстинктом самосохранения, и ты либо принимаешь это, либо нет. Неудивительно, что люди не выдерживают, находят другие способы выжить и уезжают отсюда в города или деревни поспокойнее. Однако, кажется, я могу понять и тех, кто оставался тут, тех, кто наперекор всему чувствовал, что здесь их дом, и знал каждую расселину в горах. Тех, кто летом приходил к бухте и сидел по вечерам возле нее на поляне. Спокойные дни, когда работа сделана, а вокруг тебя дети и жена, тоже случались. Надо было только отыскать их.
Карл не заговорил ни о чем из того, что я надеялся услышать, вместо этого мы поговорили о кладбище, об именах на плитах, о том, каково это — утонуть, чувствуя, как лодка переворачивается и погружается в ледяную воду. Ты знаешь, что больше не сможешь забраться на нее и не вернешься на берег, колени коченеют, а холодная вода сковывает руки и ноги, обездвиживая тебя, так что ты не можешь плыть. Однако Карл говорил так, будто его это не касалось, словно он никогда сам не тонул. Очевидно, ветер унес эту часть его жизни, на что, возможно, были свои причины.
В начале нового года мы с НН сблизились еще больше, по-настоящему обрели друг друга. Хотя, наверное, ее это касалось в меньшей степени, скорее, это я открыл ее для себя, причем уже давно, только долго прятал голову в песок и отворачивался. Однако в тот вечер, полтора месяца назад, когда я в канун нового года очутился в море и начал пробиваться сквозь толщу воды, в голову мне пришла одна мысль. По-моему, именно тогда, очутившись под водой, я влюбился. В этом мире нет ничего нового, но под водой начинается совсем другая песня.
Я не собираюсь рассказывать о людях, которые в конце концов находят друг друга и целуются под деревьями, камера поднимается и замирает на безоблачном небе, а влюбленные стоят на холме, крепко обнявшись. И я не знаю, правильно ли в этом случае употреблять слово «влюбленность». Может, мне стоило бы подыскать другое слово, даже и не знаю. Может, правильнее было бы сказать, что мы достигли другого уровня, что этот долгий год подошел к концу, не знаю. Но мне нравилось, когда мы вместе. По-моему, я влюбился во время, проведенное с ней, а не в саму НН. Может, мне просто так отчаянно хотелось найти человека, которого можно обнять, что я готов был обнять кого попало. Или, что еще хуже, я просто казался себе таким.
Во всяком случае, мы с НН сблизились еще больше, и все изменилось. Мы стали чаще и дольше беседовать, после обеда ездили кататься, когда машина была свободной. Мы часто отправлялись в лес, хотя лес — это громко сказано. Сначала мы добирались до Торсхавна, проезжали до конца Хвитанесвегур, где у моста, на поле, была маленькая рощица, на Фарерах я видел всего четыре такие рощицы. Деревья были посажены беспорядочно, чтобы создавалось ощущение чего-то живого и естественного. Обычно мы выходили из машины и, спускаясь к деревьям, наматывали по рощице круги, так что нам начинало казаться, будто мы забрели глубоко в лес, в стране, где нет деревьев.
В один из последних таких вечеров, нагулявшись по рощице настолько, что голова закружилась, мы зашли в «Кафе Натюр». Мы были вдвоем, и НН сказала:
— Даже не знаю, сколько я еще здесь пробуду.
— Ты о чем это?
— Мне тут уже охрененно надоело.
Такого я услышать не ожидал. Я думал, что из нас всех НН единственная, кто уж точно не уедет, разве что обстоятельства ее заставят, она почти всегда была в восторге от Фарер.
— И что ты собираешься делать?
— Не знаю. Наверное, уеду.
— Но куда?
— Может, в Швецию. В Стокгольм. Или в Копенгаген.
Мне не хотелось, чтобы она уезжала. Совершенно не хотелось. Меньше всего мне хотелось, чтобы что-то менялось. Всплеснув руками, я огляделся, но в бюро путешествий от этого не оказался.
— Думаешь, где-то будет еще лучше, чем здесь? — спросил я полушутя-полусерьезно.
— Матиас, ты прожил тут шесть месяцев. Ясное дело, тебе кажется, что тут потрясающе. Или может, тебе только начало так казаться. А проживи-ка тут четырнадцать лет. Тогда тебе наверняка захочется уехать. Захочется большего, чем идти десять метров по лесу, а потом разворачиваться и идти обратно.
— Но… — начал я и обрадовался, когда она меня перебила. Придумать я все равно ничего не мог.
— Мне же надо чем-то заниматься, правда? Иногда мне кажется, что я просто-напросто брожу по дому и убиваю время, оно ускользает, а я просто сижу и смотрю на него. Мне тоже хочется делать что-то, понимаешь? У меня тоже были другие планы, ты не единственный, кто оступился.
НН почти сердилась или была в отчаянии. Произошло это внезапно, и я оказался абсолютно к такому не готов.
— Я ведь вообще ни черта тут не делаю!
— У тебя же есть работа, — возразил я.
— Деревянные овцы? Ты охренел, что ли? Ты серьезно думаешь, что мне этого достаточно? Что я должна всю жизнь этим заниматься?
— Нет.
— Мне хочется заниматься тем, что мне нравится, или даже тем, что для меня важно. Мне уже до смерти надоело ждать, когда я выздоровею, этого же все равно никогда не случится. А если и случится, то я даже не пойму, потому что мне теперь без разницы!
Я не знал, что сказать и что предложить ей. Мне было больно сознавать, что я никогда не представлял ее себе за каким-нибудь другим занятием, лишь за изготовлением сувениров на Фабрике. Неужели мне действительно казалось, что НН не способна делать что-то еще? Или мне просто хотелось, чтобы все было заранее предрешено, ради меня же самого?
— А тебе кажется, что моя работа более полезная, — начал было я, — прямо посреди зимы разбивать сады для незнакомых мне людей? Сажать цветы, которые умрут через несколько дней?
— Нет, конечно нет, но для тебя это временно, потому что рано или поздно ты вернешься в Норвегию. Тебе это нужно только для того, чтобы оправиться после разрыва, и ты сам глубоко в душе понимал, что разрыв этот произошел уже несколько лет назад. И вот ты здесь, потому что… Да, а почему же все-таки ты здесь? Да потому что ты трус, Матиас. Ты труслив как заяц. Ты уже не настолько болен или устал, чтобы оставаться тут, но ты остаешься, потому что ты трус и боишься вернуться и продолжить неоконченное, потому что ты боишься, что у тебя опять все, к чертям, провалится.
Трус.
Она произнесла это три раза.
Ну, значит, так оно и есть.
— Разница в том, Матиас, — продолжала НН, — что я могу предположить, чем ты сможешь заниматься, я могу представить тебя не только садовником, я легко могу представить тебя воспитателем в детском садике, музыкантом, рабочим, учителем, да кем хочешь. А теперь ты мне скажи: кем, по твоему мнению, могу быть я?
Воцарилась тишина. Я думал. Раньше я этим вопросом не задавался. И у меня смелости не хватало признаться, что я понятия не имею и вообще никогда не представлял ее за другим занятием.
Я слишком долго думал.
Я молчал.
Уставившись в столешницу, я будто видел, как секунды одеваются и демонстративно выходят в расположенную за нами дверь.
— Может, не все на что-то годятся? Потому что ты об этом даже не задумывался, верно ведь, Матиас? Пока мир вокруг тебя делает все, что ему положено, ты спокоен, правда? Пока ты приносишь пользу? И если, как ты сто раз повторял, ты хочешь быть сраным винтиком, почему другим нельзя? Почему тебе можно, а другим нельзя? Это трусость, Матиас.
Опять трусость.
Я не ответил, мне хотелось оказаться вдалеке отсюда, хотелось незаметно перелететь через пустыню.
— Так я и думала, — сказала она.
— Я… — начал было я, но НН отмахнулась, тяжело вздохнула и допила кофе.
— Не надо, — только и проговорила она, и наше молчание наполнилось звуками кафе — беседами других посетителей и доносившейся из угла музыкой. Мы молча допили кофе, поднялись, вышли, сели в машину и лишь по пути домой все снова встало на свои места, мы заговорили, обнялись и засветило солнце.
По-моему, мы тогда впервые чуть не поссорились, и затем такие ситуации возникали несколько раз: НН расстраивалась из-за того, что мало повидала, мало путешествовала, мало успела сделать. Она не могла решить, чем ей заняться, а я не понимал, то ли она начинает выздоравливать, то ли, наоборот, наступает кризис. В первый раз, когда мы поссорились, казалось, она сердится на меня за то, что я даже не задумывался, какое место в жизни она может занять, однако истинной причиной ее приступов гнева и наших ссор было скорее то, что она сердилась сама на себя и на то, что не знала, чем ей следует заниматься. А другой причиной было чувство разочарования, вызванное появлением Карла. И хотя он нравился мне с того самого момента, как я вытащил его из моря, хотя я быстро сообразил, что Карл влюблен в НН и это взаимно, ясно было, что чувство это разрушает наши гармоничные отношения. Дни напоминали аккордеонную мелодию, под которую мы с НН словно сблизились и опять отдалились, хотя на самом деле все шло хорошо.
Мы с НН так и не стали любовниками, не спали в одной кровати и не целовались на фоне заходящего солнца под пение китов в бухте. Нет, это место в ее жизни занял Карл, случилось это спустя пару недель, и я был рад, счастлив за них, по-моему, я в какой-то степени гордился ими, хотя знаю, когда Анна увидела их вместе и поняла, что происходит, она расстроилась. Что касается наших отношений с Карлом, мы с самого начала неплохо с ним ладили, а к концу года он стал моим лучшим другом. Таких друзей у меня никогда не было, даже с Йорном мы медленно, день за днем, отдалялись друг от друга. Я надеялся, что с Карлом такого не повторится, и в какой-то степени благодаря Карлу возродилась наша дружба с НН. Однако сперва к этому нужно было привыкнуть, словно к ранке, до которой поначалу немного больно дотрагиваться.
Вообще, той зимой на Фабрике в Гьогве происходило что-то странное. Совсем другая атмосфера, не та, что полгода назад. И хотя после того, как море сделало нам подарок в виде Карла, настроение улучшилось, меня теперь постоянно мучил вопрос, заданный НН. Так почему же я не уехал домой? Я много об этом думал. Я считал, что в Ставангере мне по-прежнему нечего делать. Там нет друзей, которые по мне скучают. Даже Йорн не скучает, думал я. Возвращаться мне не хотелось. Я хотел остаться. И в результате додумался до правильного ответа. Помню, насколько я был удивлен, когда понял причину. По-моему, даже испугался немного. Я не хотел возвращаться из-за привязанности к этим людям. Я слишком их полюбил. И еще одно: здесь я чувствовал себя нужным. Я был нужен Хавстейну, неизвестно только зачем. Мы все были нужны Карлу. И НН нуждалась во мне. Но самым лучшим — или худшим — было то, что я нуждался в них больше, чем они во мне. Поэтому я остался там. В месте отдыха. Я делал свое дело, вертел маленькие колесики, помогал чем мог. Турист реабилитационной психиатрии.
А потом наступил день, которого все мы ждали и которого я боялся больше других, потому что день этот поставил под сомнения мое решение остаться. Задумываясь над этим сейчас, я могу сказать, что мое неприятие было вполне естественным, потому что оно стало началом конца, ясным свидетельством того, что ничто не вечно и все, что ты считаешь своим, благодаря чему чувствуешь себя счастливым, ради чего стараешься изо всех сил, — все это в один прекрасный день у тебя безжалостно отнимут. Речь идет только о том, как долго ты сможешь всем этим пользоваться. Было начало марта, в пятницу вечером я подошел к дому Оули и Сельмы и позвонил в дверь. Я заметил, что Софус открыл сразу же, как только я позвонил. Он впустил меня в дом, и что-то было не так, хотя Софус сначала ничего не говорил. После Рождества я приходил сюда два раза в неделю, как и обещал. Проводил несколько часов с Софусом, чтобы ему не было так одиноко. Обычно мы сидели у него в комнате и играли в компьютер или же я помогал ему делать уроки. Весь январь из конструктора, подаренного ему на Рождество, мы собирали космический корабль. К моей большой радости, это оказалась точная модель «Колумбии» с маленькими фигурками космонавтов, которые можно было приклеить на сиденья в кабине, и наклейками на крыльях. «НАСА». Когда я вошел к нему в комнату, космический корабль висел на потолке, и когда я проходил под ним, то слегка подтолкнул его, и корабль, который не в состоянии был оторваться от привязи, описал несколько жалких кругов. Собирая его, мы были действительно счастливы, мы провели немало хороших деньков, склонившись над кусочками пластмассы с тюбиками пахучего клея в руках и тремя настольными лампами. Я отвечал за чертежи и инструкции, а Софус — за сборку и клей. Теперь у него появилась еще одна головная боль: на кровати лежал новый конструктор, пока еще не распакованный. Я сел за письменный стол, а Софус — на краешек кровати. Взяв в руки конструктор, он начал рассматривать коробку.
«Это от полета „Аполлона-17“», — сказал я, показывая на коробку, где был нарисован луноход с двумя антеннами сзади. На коробке белыми буквами на темном фоне вселенной было написано: «Lunar Rover Vehicle».[82]
Софус кивнул.
— Это был последний полет программы «Аполлон», — сказал я, — больше не было. Луна перестала интересовать людей.
— Почему?
— Трудно сказать. Может, потому что сначала надо было навести порядок на Земле.
— Угу.
— А ты знал, что я родился в тот самый день, когда люди впервые высадились на Луне?
— Правда?
— Конечно. Примерно в тот самый момент.
— Может, благодаря им ты и родился? Тем, кто высадился на Луну?
— Точно нельзя сказать. Но и такое не исключено.
А потом я добавил:
— Но это, скорее всего, не так уж и важно.
— Угу.
— А ты знал, что космонавты играли на Луне в гольф?
— Правда?
— Честное слово.
— А зачем?
— Ну-у, просто для забавы. И знаешь, мячик для гольфа как улетал в космос, так и не останавливался потом.
— А сколько сейчас на Луне человек?
— Сейчас там никого нет. Только куча вещей, которые туда привезли. Например, ботинки-луноходы База Олдрина. А всего там побывало двенадцать человек.
— Они, наверное, стали очень знаменитыми, эти двенадцать человек.
— Да, во всяком случае, на какое-то время.
Софус долго молчал.
— Матиас?
— Да?
— А какого Вселенная размера?
— Не знаю, — ответил я, — но довольно большая. Во много миллиардов раз больше Фарер.
— А вот если бы я был на одном конце Вселенной, а ты — на другом и мы шли бы друг к другу, как думаешь, мы бы тогда встретились?
— Наверное. Только идти пришлось бы долго. И нам потребовались бы хорошие ботинки.
Он немного пораздумывал над этим, пытаясь представить такое, но ничего не вышло, вообразить подобное невозможно.
Я кивнул головой на коробку с конструктором:
— Ну как, начнем собирать?
Софус пожал плечами:
— Не обязательно.
— Почему, вполне можем начать, — сказал я.
— Нет смысла. Закончить мы все равно не успеем.
— Ты о чем это? Давай же. Ты можешь стать главным склейщиком.
— Мы уезжаем на следующей неделе.
Так уж оно получилось. Я почти ждал этого. Однако я не предполагал, что так расстроюсь.
— Ты уверен? Куда?
— В Торсхавн. Папа нашел там работу.
Софус отшвырнул конструктор и отвернулся к стене.
— Но разве ты не рад, у тебя теперь будет куча друзей. Знаешь, в Торсхавне же много детей твоего возраста.
— Мне и сейчас хорошо. Здесь.
Возразить было нечего.
— И тут ты, — добавил он.
— Все будет хорошо. Так всегда бывает. Мне кажется, у тебя там все будет просто супер. Я слышал, там и девчонок много.
— Мама с папой сказали, что летом мы, может, съездим в Данию, в гости к Оулуве.
— Замечательно. Ты рад?
Все еще уставившись в стену, он изобразил преувеличенную радость:
— Да.
А потом опять стал серьезным, не пытаясь больше выглядеть взрослее, снова стал грустным Софусом.
— Когда я уеду, ты меня тоже забудешь? Как тех космонавтов?
Я посмотрел на него.
— Я их никогда не забывал, — ответил я, — я по-прежнему их помню. Поэтому и тебя не забуду.
— Если хочешь, можешь записать наш адрес в Торсхавне. Мама наверняка его помнит.
— Естественно, запишу. А знаешь, у меня есть адрес База Олдрина в США.
— Ты писал ему письма?
— Нет.
— Обещай, что напишешь мне.
— Ясное дело, напишу.
Перед уходом мы немного побеседовали с его родителями, я поблагодарил Сельму за ужины, которыми она меня кормила, когда я приходил к Софусу. Поблагодарил за возможность приносить пользу. Поговорил с Оули о его новой работе в одном из офисов в центре Торсхавна. Поговорили о Гьогве. Хорошо, что кто-то еще здесь остается, так мы решили. Им и самим хотелось бы остаться, но не получалось, с деньгами было плохо, и Оули считал, что если Фареры действительно добьются независимости от Дании, то будет еще хуже. Так мы и беседовали. О мелочах и крупных политических встрясках, которые я изучал в школе несколько световых лет назад, а с тех пор ничего не изменилось. И в конце концов я рассказал ему, что воспользовался его предложением и однажды взял его лодку. Рассказал о новогоднем вечере и о человеке, которого мы вытащили из моря. По Оули было видно, что слышать это ему приятно. Он был горд тем, что благодаря его лодке мы спасли человека, что он, Оули, как раз в тот момент жил здесь и у него была лодка и что в нужное время все сработало, как надо. Он улыбнулся и сказал:
— Берите ее, когда хотите. Я оставлю ее здесь. На всякий случай.
— Ты не возьмешь лодку с собой?
— Я все равно редко ей пользовался. Оставлю тут. Лодка может очень пригодиться.
Но нам она так и не пригодилась. Мы больше никогда ее не брали. Мы уехали, а лодка так и осталась лежать в бухте.
Пожав ему руку, я сказал: до свидания. Я уже вышел и спустился по ступенькам, когда Оули открыл дверь и окликнул меня:
— Кстати, почему ты больше не поешь? Ты уже давно перестал петь…
— Потому что сейчас у меня все в порядке, — ответил я и ушел. Через неделю, в среду, я собирался в последний раз заскочить к ним, чтобы попрощаться с Софусом и Сельмой. Стоя на кухне на Фабрике, я видел, как они складывают оставшиеся вещи в грузовик, но они опередили меня, как и во многом другом, и когда я наконец надел ботинки и вышел во двор, то увидел, что грузовик уже уехал. Птичка улетела. Теперь в Гьогве на три жителя меньше.
До конца марта я продолжал делать ту работу, которую мне подыскал Хавстейн, то есть помогал чужим людям разбивать сады. И вот однажды мне позвонил — господи-боже-ты-мой — журналист, которому во что бы то ни стало приспичило сделать репортаж о чокнутом норвежце, который прямо посреди зимы сажает сады. Сначала я не мог понять, откуда в редакции «Сусиалурин» или «Дагбладид» пронюхали обо мне, но потом догадался, что это Хавстейн поспособствовал. Он полагал, мне будет полезно, если я осознаю, что спрятаться все равно не удастся, и лучше, по его словам, сразу взять быка за рога.
Ни хрена, сказал я.
Забудь.
И речи быть не может.
К черту.
Однако если ты живешь в реабилитационном центре для пациентов с психическими отклонениями, ты можешь лишь высказывать мнение. Уже в следующий понедельник я ехал в машине, а возле меня сидел охочий до новостей журналист из крупнейшей фарерской газеты. Никакого плана насчет интервью у меня не было, я просто решил изобразить из себя придурка, с которым совершенно невыносимо разговаривать.
Так, например, я настоял на том, чтобы, пока мы ехали, радио было включено на полную громкость, так что грохот «Радио Фарер» отдавался даже от каменистых глыб, мимо которых мы проезжали по пути в Фуннингур. Сперва он осторожно попытался это пресечь, но когда я сообщил, что от шороха шин по асфальту у меня начинается аллергия, он согласился на радио. Должно быть, уже в тот момент я показался ему совершенно чокнутым. Все шло по плану.
Я выбрал самый долгий путь и поехал через Вестманну. Музыка играла так громко, что журналисту оставалось лишь молча сидеть рядом, вертя в руках фотоаппарат, словно он в любой момент был готов меня заснять. Когда мы проезжали Стреймнес, он все еще сидел с фотоаппаратом наготове, и тогда я убавил звук.
— No Kodak moment today,[83] — сказал я.
— Что-что?
Тогда я опять прибавил звук, еще громче, опустил окно, и в салон ворвался ледяной воздух. Я вел себя как ни в чем не бывало, а журналист, съежившись, не смел протестовать.
Я должен был помочь одному богачу по имени Магнуссон, жившему возле Вестманны, разбить японский садик. Разбогател Магнуссон благодаря рыболовству, не знаю, зачем ему всенепременно понадобилось завести себе в саду Японию, однако он попросил именно об этом, мне прислали четкие инструкции по форме и содержанию, а Хавстейн помог заказать необходимые товары, что само по себе занимает много времени. Япония так Япония. Может, этот Магнуссон знал, что к нему приедут из «Сусиалурина», может, у него тоже возьмут интервью и сфотографируют, так что на следующее утро он зайдет в магазин и, купив газету, принесет ее домой. Потом он начнет делать вид, что читает ее, хотя ему все большего и большего труда будет стоить не пролистать сразу же до последних страниц, где будет напечатано интервью. Дочитав наконец до нужной тридцать девятой страницы, он сначала пробежит ее глазами, а потом изречет многозначительное «да-да» и отложит газету на стол, в надежде, что жена и дети заметят ее и прочтут интервью. А вечером, когда газета уже окажется в мусорном ведре, он вытащит ее оттуда и, вырезав интервью, положит в пластиковую папку с надписью: «Магнуссон: интервью, статьи и пр.» А потом снимет копию и положит в отдельную папочку, кто знает, а вдруг оригинал потеряется?
Остановившись перед большим домом Магнуссона, я выключил радио, поднял окна, вышел и, открыв багажник и задние дверцы, принялся доставать оттуда растения и другие предметы, которые Хавстейн привез мне на прошлой неделе и которые с трудом поместились в машину. Словно потерявшийся ребенок, журналист ходил за мной по пятам и не мог решить, начинать ли ему интервью сейчас или лучше подождать. Минуту я раздумывал, не попросить ли мне у господина Магнуссона стакан теплого молока и чтобы кто-нибудь погладил моего пассажира по голове, пока я работаю.
На минуту мне сделалось нехорошо, а потом я протянул ему руку и вежливо представился.
— Олаф Людвиг Бьярнасон, — ответил журналист.
— У тебя сильные руки, Олаф Людвиг?
Уставившись на меня, Олаф Людвиг явно не знал, что ответить.
— Донесешь вон те каменные плиты? — спросил я, показав на массивные плиты в багажнике. — Пошли.
Мы вошли в дом — впереди я, а за мной еле передвигающий ноги Олаф Людвиг.
Магнуссон оказался приятным человеком.
А сразу и не скажешь.
От человека в японском кимоно можно ожидать чего угодно.
Но Магнуссон был сама обходительность.
Сначала нас посадили на пол вокруг маленького столика и напоили чаем, а сам Магнуссон стал рассказывать о зеленых равнинах Японии. Рассказ затянулся, и мне стало жаль журналиста, который наверняка взялся делать репортаж о садах, чтобы провести денек поспокойнее. Теперь же ему предстояло выбрать из нас менее чокнутого. Конкуренция была жесткой, но когда мы наконец начали работать в саду, а Магнуссон вернулся к своим занятиям (кто его знает, чем он весь день занимался), то журналист вроде немного успокоился, вновь обрел свое любознательное «я» и достал блокнот. И сделал попытку:
— Итак, Матиас… Матиас, верно ведь?
Я медленно повторил свое имя, чтобы он успел его записать, а потом сел и начал рассматривать план будущего сада. Садовник-планировщик. Я перешел на более высокий уровень, и теперь мне оставалось только разобраться, что к чему. Начав с плит, я старался изо всех сил, и если забыть о репортере, который провел со мной уже больше времени, чем ему хотелось, то я был доволен. У меня получалось, и я радовался, что у Магнуссона-в-кимоно будет сад, о котором он мечтал.
— Итак, Матиас, ты из Норвегии, верно? И, насколько я понял, ты садовник. Когда и зачем ты приехал на Фареры?
Я укладывал вокруг него плиты, и он подвинулся в сторону.
— По-моему, приехал я утром. Из-за климата. По рекомендации врача. У меня извращенная форма ревматизма. Солнце и теплый воздух не для меня.
— Хавстейн Гардалид сказал, что ты живешь здесь с прошлого лета.
— Да.
— И что он подобрал тебя как-то ночью на улице.
— Мне сказали, что будет прекрасная звездная ночь. Но наврали.
— И ты все это время прожил в реабилитационном центре в Гьогве?
— Да.
— Как гость?
— Да.
— Должно быть, это для тебя очень непривычно. И как ты себя там чувствуешь — то есть каково тебе там с остальными жильцами? И как тебе живется в таком малонаселенном и почти пустынном месте, как Гьогв?
— Хорошо.
Молчание. Новая попытка:
— Итак, ты теперь собираешься поселиться на Фарерах навсегда?
— Нет.
— Тогда сколько ты планируешь здесь пробыть?
— От пятнадцати минут до четырнадцати дней.
— Какие у тебя впечатления от нашей страны?
— Она зеленая. И серая. Трава и гравий. Зимой здесь все серое.
— Может, ты расскажешь немного о том, чем будешь заниматься сегодня?
— Сажать растения.
— А еще что-нибудь можешь рассказать о своей работе?
— Это японские растения. Но так бывает не всегда. Иногда растения норвежские. Иногда не знаю какие.
Тяжело вздохнув, бедный Олаф Людвиг провел рукой по покрасневшему лицу и попытался отогнать от себя желание изо всех сил ударить меня по голове. Я был самым инфантильным человеком на всем Западном полушарии. Я продолжал делать свое дело: с плитами покончено, пора приступать к аккуратной посадке японских растений, которые я видел впервые в жизни и из-за которых мне пришлось перечитать книги по садоводству. Вот только избавиться бы от репортера, который был как бельмо на глазу и старался вести себя наиболее неприемлемым для меня образом. Поменяв тактику, он начал фотографировать меня во всех возможных ракурсах, так что мерцание вспышки отражалось от листьев. Я старался не смотреть в объектив, поворачивался спиной, однако убежать было невозможно: он постоянно крутился вокруг и топтался по моему маленькому зимнему садику, не разбирая дороги. Внезапно я взорвался и заорал.
Army of те.[84]
— Да прекрати же, в конце концов! Прекрати! Ты же всю эту хренову вазу к чертям растопчешь! Нащелкай уже, сколько тебе надо, и дай мне спокойно поработать! Тут и смотреть не на что, я не хочу отвечать на вопросы, и прекрати меня щелкать! МАГНУУУССОООН!
Я просил о помощи.
Звал совершенно чужого человека.
Звал Магнуссона-в-кимоно, и тот через пару секунд появился в дверях и увидел меня на коленях перед до смерти перепуганным журналистом, который стоял с фотоаппаратом на шее, вытянув руки по швам, словно его поймали с поличным при попытке изнасилования. Не зная, что сказать, Магнуссон вцепился в кимоно. Потом он произнес:
— Здесь уже так красиво. Хотите саке?
Олаф Людвиг энергично закивал.
Я уставился прямо перед собой и готов был заплакать.
— Хорошо. — Магнуссон отправился за рисовой водкой, а я поднялся и приблизился к журналисту, который по-прежнему стоял выпрямившись, словно аршин проглотил, и пялился на меня.
— Неужели не ясно? — начал я. — Я не хочу, чтобы в твоей газете про меня писали, не хочу ее читать, у меня раньше никогда не брали интервью, и не надо мне этого. Я об этом не просил. Кто, когда, где, почему, зачем и сколько — это только мое дело, а других не касается.
— Так бы сразу и сказал, — немного обиженно произнес Олаф-журналист.
А потом он опять вдруг изменил тактику и резко добавил:
— Ты действительно думаешь, что мне охота об этом писать? Подумаешь, какая-то чертова статейка о садоводстве для домохозяек! Ты что, не понимаешь, что это я тебе услугу оказываю! Я стараюсь тебе помочь. Или ты уже настолько спятил, что и этого не понимаешь?
— Так что тебе надо? — мягко спросил я. — Ты тоже полагаешь, что я больной? Норвежец спятил — так напишем же об этом! Наш специальный корреспондент о тех, кто еще как-то живет! Счастливая история о ростке, пробившемся сквозь асфальт!
— Я, ну… Ладно, забудь. Я просто хотел чем-нибудь вам помочь. Только и всего.
— Вам? Спасибо, у нас и так все прекрасно.
— Да уж, заметно.
Больше мы ничего не успели сказать, потому что вернулся Магнуссон. Улыбаясь, он нес поднос с тремя чашечками и бутылкой саке. Поставив поднос на землю, он сел рядом с нами, разлил саке по чашкам и начал беседу. Сама обходительность.
Следующие три дня я провел у фарерского японца, заезжая домой только поспать. Я ни с кем не разговаривал, потому что уезжал еще до того, как остальные просыпались. С головой ушел в обустройство японского садика, а к обеду приходил Магнуссон, который тоже был увлечен моей работой и радовался каждому достижению. Он задавал вопросы и интересовался растениями, мы вместе с ним читали книги по садоводству и беседовали о почве для посадки. Мне было приятно и казалось, что я на какой-то момент вернулся к спокойной жизни садовника в Ставангере, которая завершилась тысячу световых лет назад. В среду я закончил работу и уехал, оставив Магнуссона в прекраснейшем японском саду на Фарерах, на зеленом пятне посреди зимней серости, заключенном в стеклянные стены с темно-коричневыми деревянными рамами в японском стиле, которые мы заказали на фирме, занимающейся зимними садами. Уезжая, я помахал ему и понял, как много этот садик для него значил, совсем как в Японии. Он стоял в нем и улыбался, а я пожалел, что работа закончена, и захотел остаться. Перфекционизм.
Подъехав к Фабрике, я остановил машину, но не вышел.
Я начинал терять терпение.
Мое драгоценное терпение, которому я не мог нарадоваться.
Изнутри меня раздирал гнев, для меня открылись совсем другие Фареры, откуда не вырваться, где за тобой постоянно следят и где тебя ни на секунду не оставят в покое.
Рывком распахнув дверцу, я схватил оставшееся растение, которому не хватило места — это было деревце-бонсай за две тысячи крон, в глиняном горшке, — вышел из машины, захлопнул дверцу, прошел в дом, поднялся по ступенькам и вошел в кабинет Хавстейна. Увидев меня, он улыбнулся, встал из-за стола и подошел ко мне, спросив: «Ну как? Как прошло интервью?» А потом заметил, что я не улыбаюсь в ответ, и улыбка сползла с его лица.
Мы стоим на ковре лицом к лицу.
— Зачем ты это сделал? — тихо спрашиваю я.
— …
Я чуть не плачу. Я мотаю головой.
— Чего ты от меня хочешь? — кричу я на него и бросаю горшок с деревцем об стену позади него. Горшок разбивается, земля разлетается по кабинету, и на сотую долю секунды я пугаюсь: мне кажется, что сейчас он убьет меня, таким я его раньше не видел, да и со мной прежде такого не бывало. Но Хавстейн снова смягчается, собирается с силами и, скрестив руки на груди, прямо как настоящий доктор-психиатр, продолжает как ни в чем не бывало:
— Матиас.
Молчание.
— Матиас. Я считаю, что тебе пора показываться на людях. Вновь увидеть мир. Ты же способный. Ты сам-то это понимаешь? Ты очень хорошо работаешь. Тебе кто-нибудь говорил об этом? Я горжусь тобой, Матиас.
— Чего тебе от меня надо? — повторяю я. — Кто дал тебе право решать за меня?
— Кто дал мне право, говоришь? Ты сам. Ты, Матиас, дал мне такое право, ты сам, в ту ночь, когда я нашел тебя у Коллафьордура, когда ты неделями лежал в постели, когда решил остаться, потому что не мог вернуться домой, именно тогда, Матиас, ты предоставил мне такое право. Я же ради тебя стараюсь, Матиас, понимаешь? А что, по-твоему, я должен делать? Оставить тебя в покое, чтобы ты здесь в собственном соку варился, как НН, как Палли и Анна? Убедить тебя, что это просто место, где люди ждут, когда все опять наладится, снова будет хорошо, будто однажды утром ты проснешься и увидишь, что мир изменился, пора собирать вещи и уезжать? Что перед тобой откроются все двери и у тебя появится море возможностей? Ты, в отличие от Палли, Анны и НН, еще не так далеко зашел, чтобы чувствовать себя вечно больным.
Он на несколько секунд умолк.
— Но это обязательно случится, если ты не перестанешь замыкаться в себе. Это я тебе гарантирую. Так вот, Матиас, ты спросил, чего мне от тебя надо, и ответ мой предельно прост: мне надо, чтобы ты взял себя в руки, потому что иначе ты полностью замкнешься.
— Ты думаешь, все так ужасно боятся, что их забудут. Почему? — тихо спросил я, просто чтобы возразить.
— Так ты об этом? Тогда я тебе сразу скажу, что ты совсем запутался. Потому что ты-то как раз и не стараешься, чтобы тебя забыли. Ты пытаешься выделиться, разве нет? И если тебе кажется, что ты таким образом станешь незаметным, то ты ошибаешься. Господи, даты с каждым днем становишься все заметнее и заметнее! И ты не стараешься следовать чужим правилам, ты создаешь свои собственные и заставляешь остальных жить по ним. Матиас, я понимаю, чего ты добиваешься, но добиваешься ты этого неправильно. Ты ведешь себя как избалованный ребенок, который думает, что жизнь поступила с ним несправедливо, но это не так! Жизнь с самого начала была на твоей стороне, и ты с самого начала мог управлять ею! Да знай я, что ты будешь тут изображать ребенка и пускать сопли из-за того, что отняли игрушку, я бы в жизни тебя сюда не пустил!
И тогда я ударил.
Я изо всех сил ударил Хавстейна по лицу.
Ударил, потому что он не воспринимал меня всерьез, потому что его доводы были совершенно безосновательны.
Ударил, потому что ему было не понять, каково мне.
Ударил, потому что понимал: его слова похожи на правду.
Голова Хавстейна откинулась назад, и он, потеряв равновесие, стукнулся о письменный стол. Я инстинктивно закрыл глаза и услышал лишь удар тела о столешницу, а потом звук рвущейся бумаги, стук падающего телефона и стакана с ручками. Открыв глаза, я увидел, что Хавстейн сидит на полу, у него по лицу размазана земля, а пол усыпан шариковыми ручками и документальными свидетельствами спасаемых жизней. Только моей среди них не было.
Согнув ноющую руку, я осторожно подошел к Хавстейну, который, схватившись за стол, стал подниматься на ноги. Я помог ему встать и усадил на столешницу, а он одной рукой держался за нос. Между пальцев сочилась кровь.
— Прости, — сказал я.
Тыльной стороной руки Хавстейн вытер кровь.
— Ничего страшного.
— Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Только и всего.
— Знаю, — сказал он, — знаю.
— Ты меня никогда не спрашивал, почему я хочу, чтобы меня оставили в покое. Не спрашивал прежде. Ты же ПСИХИАТР, ты должен знать, как ОБРАЩАТЬСЯ с такими, как Я. Ты же изучал это, ты должен знать, какие задавать вопросы.
— Нет, Матиас. Ты сам не хотел мне рассказывать.
Злился я долго. Рвал и метал. Но боялся я еще больше. Потому что то, как со мной поступили в последние дни, вряд ли было сделано по предписанию, вычитанному в книжке. Это вовсе не медицинский подход. Однако зачем в таком случае он это сделал? Без сомнения, по доброте душевной. А знала ли тогда эта душа, что для меня будет правильным? Значит, это с Хавстейном что-то не в порядке, и поэтому мы начали отдаляться друг от друга. Он действительно теряет хватку, в нем так мало осталось от того врача, который подобрал меня дождливой ночью на Хвитансвегуре. И я не мог понять, что с ним произошло. Я вообще был в растерянности.
Потом мы пожали руки и уверили друг друга, что все в порядке, а он сказал, что по-прежнему любит меня, и я принес ему из ванной туалетную бумагу. Затем в кабинет зашла НН и, посмотрев на нас, накричала на меня. Выходя из кабинета, я заметил, как он, прижав туалетную бумагу к носу, сметает землю и остатки растения в совок, и почувствовал глубокий укол совести. Все получалось не так, как следовало бы, а я только усложнял жизнь окружавшим меня людям, которым и без того едва хватало сил, чтоб не сорваться.
Все закончилось так, как и должно было. Интервью. Через четыре дня оно появилось в газете и занимало целый разворот. Посвящено оно было в основном Магнуссону, чьи мечты в виде вечнозеленого японского садика в Вестманне наконец-то сбылись. Магнуссон оказался очень разговорчивым и не имел ничего против большого репортажа в газете. Он рассказал о Японии, о своей жизни, о доходах, семье и предприятиях, и еще рассказал, где производится лучший шелк. Журналисту оставалось только записывать, а Магнуссон лишь подливал саке и раскрывал душу нашему всенародно признанному репортеру. Тем не менее мне тоже уделили внимания больше, чем хотелось бы. Естественно, моя выходка пришлась очень кстати, и журналист показал меня если не лучшим образом, то очень наглядно. Он почти полностью напечатал то немногое, что ему удалось из меня выжать, и я, согласно всем правилам искусства, предстал как гениальный садовник, живущий в реабилитационном центре для душевнобольных. Помимо этого, большую часть страницы занимала моя фотография с подписью: «Садовник от Бога за работой». На фотографии я стоял на коленях, склонившись над вазой и пытаясь отвернуться от фотоаппарата. Фотография получилась дурацкая, и, по-моему, поместили ее в газету не из добрых чувств. Ни фотография, ни статья, в которой описывались мои неординарные садоводческие таланты, не были сделаны из добрых побуждений. Он знал, что благодаря этому репортажу интерес ко мне как к садовнику возрастет, начнутся звонки, а именно этого мне хотелось меньше всего. Но мне было плевать. Решение принято. Я разбил на Фарерах свой последний садик.
Хавстейн ловко оформил все необходимые бумажки и заверил их печатями, поэтому теперь найти работу мне было довольно просто. Через неделю, захватив бумагу, подтверждающую мою личность, я отправился в Торсхавн, заскочил там в одно из региональных управлений, а через полчаса вышел уже заново трудоустроенный. На следующий день я работал на посадке леса на Фарерах. Работа занимала три дня в неделю. Я был лесорубом наоборот: вместе с двумя ребятами из Квивика — Херлуфом и Йоугваном — мы сажали лес на пустоши у Хвитансвегура. Херлуф и Йоугван были примерно моего возраста и работали при региональном управлении уже много лет. Сажали мы старательно, по всем правилам природы и искусства, хотя большинство наших деревьев было обречено на гибель из-за солености почвы, ветров или овец, но работа была неплохая. Мне удавалось действительно взять себя в руки, общаться и принимать участие в жизни: мы с Херлуфом и Йоугваном ездили в Торсхавн обедать, раз в неделю я заходил в управление, беседовал там со служащими и пил кофе с начальником. Я был сама любезность, стал вежливым и отзывчивым, такими темпами мне скоро можно будет песок в Сахаре продавать. Не знаю, притворялся я или действительно стал другим, стараясь быть заметным, как и предлагал Хавстейн.
Иногда по вечерам мы с Карлом ездили по этой крошечной стране, и я показывал ему разные места. Он скрючивался на переднем сиденье маленькой машинки, доставшейся нам от регионального управления, и мы колесили по Фарерам. Это была идея Хавстейна: он полагал, что два иностранца в одной машине обязательно найдут о чем поговорить. Во время таких поездок мы и правда много беседовали. Я рассказывал то, о чем сам недавно узнал: объяснял, почему горы на юге покатые, а на севере острые, показывал на замысловатые побережья фьордов и рек, обращал его внимание на уникальные системы орошения, растолковывал, почему здесь не растут деревья. Я рассказывал, как мы из сил выбиваемся, чтобы деревья прижились, и водил его в интернет-кафе, чтобы он мог проверить почту или кому-нибудь написать. Мы плавали на лодке по Вестманне смотреть птичьи базары и летали на вертолете на Мюкинес, где в полной тишине жарили сосиски. Я рассказывал о Норвегии, Исландии, Фарерах, войне за треску[85] и объяснял, почему Мидвагур — лучшее место для лова гринд и как этот лов проходит. Я старался рассказать как можно больше и надеялся, что он не попросит меня заткнуться и не скажет, что он уже все это слышал или что ему плевать. Я старался. Вновь хотел приносить пользу и найти таким образом свое место в жизни. Карл не возражал, он внимательно слушал и задавал вопросы, а я отвечал. Иногда с нами ездила НН. Она садилась на заднее сиденье и слушала, как я рассказываю, а иногда помогала мне подобрать подходящее выражение на английском. Ездили мы до темноты, иногда останавливаясь. Развалины в Киркьюбеуре, Тинганес в Торсхавне, радар НАТО в Сорнфелли и прочие подобные места, а потом ехали пить кофе в «Кафе Натюр», сидели, пока туда не набивалось много народу и музыка не начинала заглушать шум дождя.
По-моему, то выражение я впервые услышал от Хавстейна, а потом оно встречалось мне в несчетном количестве книг, я просмотрел все известные мне энциклопедии, но до сих пор не могу найти подходящего объяснения. Хавстейн назвал это провоцирующим фактором, что-то вдруг заставляет твой мозг взорваться тысячей маленьких хлопушек, и после этого ты никогда не станешь прежним. Произойти такое может со всеми, с каждым из нас, надо лишь подобрать нужный ключик, и заранее неизвестно, что может стать таким провоцирующим фактором. Свою судьбу ты пока никак не можешь предрешить. Для большинства этот электрический механизм так и остается незадействованным, и они не знают, что такое думать иначе, по-другому вести себя, превратиться в совершенно нового человека. Большинство из нас переживают в худшем случае небольшой сдвиг или парочку приступов, после которых мы без особых последствий возвращаемся в норму. Короткий больничный, полгода на прозаке, валиум в выходные или добрые друзья — вот и все, что потребуется для выздоровления. Большинство даже и представления не имеют, какая трагедия может случиться с ними в любой момент, если мозг даст окончательный сбой. Однако у некоторых провоцирующий фактор является более сильным, а защита от принимаемых импульсов — более слабой, и в конце концов система ломается. Произойти это может когда угодно: в автобусе по пути домой, в очереди в продуктовом магазине, пока новенькая продавщица будет вспоминать индекс оплаты сельдерея, чтобы ты расплатился наконец, пришел домой и поужинал. Это может произойти после того, как ты неделями не обращал внимания на предупреждения начальства о том, что ты плоховато работаешь, опаздываешь, не успеваешь в сроки, и ты остаешься дома, занавешиваешь шторы и включаешь телевизор. Или это произойдет внезапно, словно взрыв ниоткуда, когда ты пошел с лучшей подругой в фарерскую национальную галерею «Листасавн» и тебе лишь 23 года. Вы стоите в самом большом зале перед величайшим полотном Самуэла Йонсена Микинеса «Домой с похорон». Именно это и случилось с Анной, как раз в тот момент ее мозг пронзили крошечные электрические разряды, такие маленькие, что наночастицы покажутся мячиками по сравнению ними. Стоя перед мрачной картиной Микинеса, Анна взорвалась изнутри. Происходило это незаметно для подруги, да и для самой Анны, но когда она тем вечером вернулась домой и легла спать, она все поняла. Восстановление было невозможно. С тех пор Анна не подходила к национальной галерее ближе чем на триста метров и не отваживалась смотреть на картины Микинеса. Даже когда провоцирующий фактор исчезает, в мозгу остаются маленькие лунки, порождающие новые заряды, и механизм их действия еще сложнее. Ты поправляешься, чувствуешь себя лучше, но заряды эти будут теперь появляться всегда, как те неизвестно откуда взявшиеся хлопушки, они будут взрываться в застарелых лунках, а искры будут поражать все новые и новые участки мозга, и вовремя остановить их будет все сложнее и сложнее. Ты станешь осторожным, будешь стараться избегать уже известные тебе провоцирующие факторы, как страдающий мигренью, который не пьет вина и не ест шоколада, ты будешь избегать провоцирующие ситуации, ты начнешь бояться друзей, гула вертолета и больших скоплений людей, страх будет возникать дома и на работе. Тебя будет пугать даже такое безобидное явление, как картины фарерских художников, хоть они и были нарисованы в прошлом столетии.
Странно все это. Но так уж сложилось.
Я много об этом думал. О том, что пробудило в них болезнь. НН. Палли. Анна. Карл. Отчаянное самолечение. В нем нет ничего нового, и это не мое изобретение, однако я считал, что надо только понять причины чужой болезни и мне будет проще вылечиться самому. Больным часто кажется, что как только они влезут в докторский халат, то сразу излечатся. Я начал так думать, когда прочитал личное дело Анны. «Листасавн». Картины. Пора и мне на них посмотреть. Мне хотелось посмотреть на картину, которая может спровоцировать заболевание.
Нет, не так.
Мне не терпелось ее увидеть.
Итак, однажды дождливым субботним днем, когда туман густой пеленой ложился на острова и заняться было особо нечем, мы с Карлом поехали в Торсхавн, в музей «Листасавн». Не помню, как мы отговорили остальных от этой поездки, скорее всего, сказали, что едем ловить рыбу. На рыбалку мы ездили часто, просиживали подолгу, и никто, кроме Карла, со мной не ездил. Точно — мы сказали, что поедем ловить рыбу. Но ловить этот улов, жарить и есть мы не собирались. Нам нужно было только посмотреть.
Остановив машину за галереей, мы вышли и в поисках входа обошли вокруг здания. Потом мы поняли, что выбрали неправильную дорогу, и пошли обратно. Найти вход оказалось задачей не из легких, мы умудрились промокнуть за минуту, и когда увидели наконец стеклянные двери, побежали буквально вприпрыжку. Войдя, мы подошли к кассирше, которая выжидающе выглядывала из-за стойки, едва доставая подбородком до ее края. Должно быть, мы, в мокрых куртках, от которых шел пар, выглядели довольно удрученно, потому что девушка сразу же вскочила и поинтересовалась, чем нам помочь.
— Ну-у, мы просто хотели взглянуть на картины, — ответил я, вытирая лицо, — Микинеса. У вас же есть его работы?
Услышав это, девушка просияла:
— Конечно!
Мы подошли ближе, а она опять исчезла за стойкой и выбила два билета, по двадцать крон каждый.
— Не повезло вам с погодой. — Она окинула нас дружелюбным взглядом. Мы выглядели так, словно только что ныряли в море.
— Мы просто зонтик забыли, — сказал я.
— Что, простите?
— Нет-нет, ничего. Зато здесь, внутри, замечательно.
— Да. Вот, держите.
Она протянула нам билеты, мы расстегнули куртки, оторвали от билетов наклейки и налепили их на свитера, как того требовали правила. Она сказала, что если мы хотим присоединиться к экскурсии, то надо подождать двадцать минут.
Я перевел ее слова Карлу, но он отрицательно качнул головой.
— Ладно, — сказал я, — мы тогда сами посмотрим, хорошо?
— Ладно. Секундочку.
Она вышла из-за стойки и, подойдя к шкафчику с брошюрами, достала оттуда несколько книжечек. Я понял, что с ростом у нее все в порядке, это стойка портила впечатление. Ее, должно быть, сколотил какой-то недобрый столяр.
Девушка торжественно вручила нам две брошюрки о Микинесе, одну на английском, другую — на датском.
— Самуэл-Йонсен-Микинес-является-основателем-фарерской-живописной-школы, — автоматически произнесла она, случайно переключившись на экскурсионную программу, — его-значение-невозможно-недооценить. Многие-считают-его-первым-профессиональным-живописцем-на-Фарерах. Микинес-родился-в-1906-м-и-умер-в-1979-году.
Поблагодарив, мы помахали брошюрами и прошли в галерею, а она снова исчезла за стойкой.
Когда мы зашли за угол и исчезли из поля зрения девушки, Карл вдруг повернулся и посмотрел на меня:
— Матиас, что-то случилось?
— Нет. Почему ты спрашиваешь?
— А почему ты не сказал остальным, что мы сюда поехали? Зачем мы им наврали?
— Мне нужно кое в чем разобраться, — ответил я, — Анна. Анна заболела после того, как увидела одну из его картин.
— И что? А нам что до этого?
— Тебе не кажется странным, как такое могло случиться?
— Ты о чем?
— Я о… нет. Не знаю. Может, ни о чем.
Я не рассказал о том, как прочитал историю болезни Анны, о моряках, которые много лет назад сошли с картины и пробрались к ней домой. Даже Карлу я об этом не рассказал, потому что ему, наверное, было все равно, однако я попросил его не говорить Анне, да и всем остальным тоже, куда мы ездили. «У нее с этой галереей связаны плохие воспоминания, — только и сказал я, — поэтому лучше молчать». Карл кивнул. У него никаких воспоминаний не было, он и без них был счастлив, а вот я не мог отделаться от мысли, что в жизни все взаимосвязано.
На Микинеса мы набрели сразу же, это оказалось совсем просто: картины его были легко узнаваемы среди всех остальных. Остановившись перед автопортретом, я посмотрел на Карла:
— Написано там что-нибудь об этой картине?
— Сейчас посмотрим, — сказал он, листая брошюру, — это ведь автопортрет 1933 года, верно?
Я наклонился к маленькой белой бумажке:
— Да.
Мы уставились на картину. Микинес собственной персоной. Полотно было мрачным. Лицо почти сливалось с фоном. Казалось, он думает о чем-то неприятном.
— Ой, Микинес, оказывается, был очень болезненным, и ему сложно было учиться, потому что учеба постоянно прерывалась, тут так написано. Когда он выздоравливал, то пытался рисовать, но впервые его талант проявился однажды летом, когда на остров, где он жил, приехал иностранный художник. Микинесу было семнадцать-восемнадцать лет, а того шведского художника звали Виллиам Гисландер. Здесь написано, что Микинес был поражен его работами, все лето буквально по пятам за Гилсандером ходил, подбирал тюбики из-под краски и остатками рисовал сам. Вскоре он начинает работать целенаправленно. А через год его приняли в Академию искусств в Копенгагене.
— Ясно, — ответил я и двинулся вдоль стены с автопортретами. Каждый следующий был мрачнее предыдущего, а лицо все угрюмее и угрюмее. Карл понял, о чем я думаю, и снова заглянул в брошюру. С таким прирожденным гидом и экскурсии никакой не надо.
— Вот что тут написано: творчество Микинеса можно условно поделить на два этапа, темный и светлый, в котором особое место занимают известные полотна, посвященные лову гринд. Темный период начинается в 1934 году с кораблекрушения двух рыболовных судов, возвращавшихся из Исландии. В кораблекрушении погибло сорок три человека, среди них девять из Мюкинеса. Их гибель сыграла значительную по своей трагичности роль в жизни крошечного острова. Помимо этого, летом 1934 года умирает отец художника, что накладывает тяжелый отпечаток на его работы, которые последующие десять лет будут отличаться мрачным колоритом. Спустя лишь год после кораблекрушения и смерти отца художник начинает работу над большим полотном «Домой с похорон» и…
Я сразу узнал название. Анна. Ее картина.
— Где эта картина? Она здесь вывешена?
— Конечно, она висит в…
— Знаешь, давай сразу пойдем туда.
Карл с сомнением посмотрел на меня:
— Сразу? Ну ладно, мне все равно. Пойдем.
Мы прошли по коридору, свернули направо и оказались в самом большом зале, огромной белой квадратной комнате, куда сквозь стеклянную крышу падал луч света. Прямо перед нами висела громадная картина, больше двух метров в высоту, в древней деревянной раме. Именно ее я и хотел увидеть. Мы с Карлом застыли посреди зала как вкопанные. Более жуткой картины я не видел. Холст был покрыт трещинами, словно пережил несколько погромов или кораблекрушение. Сама картина напоминала Мунка, но при нашем психическом состоянии страх, таящийся в картинах Мунка, воспринимался как нечто более естественное. Эта же картина вызывала страх совсем другого рода: не являясь порождением больной психики, она вызывала еще более сильный ужас, который невозможно объяснить лишь умопомрачением. Не просто боязнь, а гнетущую, всеобъемлющую скорбь, оглушающую своим тягостным молчанием. На картине были изображены восемь человек, тесно прижимающиеся друг к дружке на корме лодки. Все в темной одежде. Темно-коричневой. Лодка поднялась на самый гребень волны. За их спинами я смог разглядеть только штормовое ночное море и небо, все в таких же мрачных тонах. Момент для пленки «Кодак», только наоборот. Они сидели, повернувшись лицом ко мне, глаза маленькие, а лица — вытянутые, и казалось, что с каждой секундой они вытягиваются все больше и больше. Мне захотелось извиниться перед этими людьми, словно они оказались там по моей вине и в моих силах было все изменить, но я промолчал и, не в состоянии оторваться от картины, присел на стул посреди зала.
Немного постояв перед картиной, Карл заскучал и, пожав плечами, двинулся по залу, одновременно — скорее просто из упрямства — знакомя меня с жизнью и творчеством художника, а я поплелся за ним следом.
— Тут сказано, что на работы Микинеса повлияла его психическая неуравновешенность, которая объясняет долгие периоды его пребывания в лечебных заведениях и перерывы в творчестве. Помимо этого, Микинес злоупотреблял алкоголем и медицинскими препаратами, что также тормозило развитие его творчества. В характеристиках его психического состояния часто употребляется слово «шизофрения», но точный диагноз установлен не был. Тем не менее в его жизни периоды проявления мании величия постоянно чередовались с периодами проявления всеобъемлющего комплекса неполноценности, когда художник часто повторял, что, будь его воля, он уничтожил бы 85 % своих работ. К счастью, судьба распорядилась иначе. Правда ведь?
Карл посмотрел на меня, ожидая подтверждения, но я его не слушал. Мысли мои были далеко.
— Пойдем, — сказал я и решительно направился к выходу. Полностью поглощенный биографией художника, Карл шел за мной.
— Матиас, ты только послушай: у этого Микинеса случались приступы буйства, которые часто оканчивались для него плачевно. Находясь не по своей воле в Дании во время Второй мировой войны, когда связь с Фарерами прервалась, он, скорее всего из-за алкоголизма и возмущения, вступил в национал-социалистическую партию Дании. Однако, в отличие от норвежского писателя Кнута Гамсуна, Микинес уже на следующее утро пожалел о своем поступке и вышел из рядов национал-социалистов. Как по-твоему, это важно?
— Нет, — ответил я, — это совершенно не важно.
Вечером по дороге домой мы молчали. Я сдерживался, но одна мысль не давала мне покоя. НН ведь тоже родом с Мюкинеса. Говорит ли это о чем-нибудь? Скорее всего, психические отклонения были не только у нее и художника. Так что же это значит? Может, на этом острове что-то с воздухом? Может, одиночество там давит сильнее, чем где-нибудь еще? Не исключено. Вполне возможно. А если люди сходят с ума из-за картины, острова и автобусов, то как потом жить и не бояться каждого шороха? Как жить при такой неуверенности? Ответа у меня не было, я даже не знал, каковы причины моего срыва, это могло быть что угодно. Хелле, цветочный магазин, перемены. Однако я больше волновался за остальных, за их здоровье. Больше всего мне хотелось поговорить с ними об этом, но тогда пришлось бы разбередить их раны, и неизвестно, удастся ли им снова прийти в себя. Даже Хавстейну я ничего не мог сказать, потому что тогда он понял бы, что я рылся в его архивах. Нам обоим пришлось бы многое рассказать, а я даже не знал, с чего начинать и чем заканчивать. Мы очень многого не знали, и это делало нашу жизнь проще.
4
НН умерла через четыре дня. У меня был выходной. Мы с НН и Карлом собирались на автобусе в Хвитанес. Я хотел показать им посаженные мной деревья, к тому же, когда я начал работать, мы с НН прекратили прогулки по крошечному лесу. В последнее время она почти не выезжала из Гьогва и редко выходила с Фабрики. Мы решили, что потом выпьем пива, а вечером к нам присоединятся Хавстейн с остальными. Однако в последний момент Карл передумал и решил еще пару часов поработать и приехать вечерним автобусом. Он придумал новую поделку, поэтому нам с НН предстояло ехать вдвоем. Она вышла первой, а я искал куртку полегче. Подойдя к автобусной остановке, она села и стала ждать. Выходя, я услышал шум мотора и бросился к остановке, высматривая съезжающий с холма автобус. Я заворачиваю за поворот и окликаю НН, сначала не вижу ее, а потом она вдруг резко шагает на дорогу, водитель давит на тормоза. Толчок в спину, она падает и исчезает под колесами.
Гидравлика.
Визг тормозов, автобус наконец останавливается.
Ее руки не двигаются.
Водитель смотрит прямо перед собой.
Пассажиры застыли на местах.
Мои ботинки стучат по асфальту, когда я бегу к ней.
Первые капли дождя падают мне на лицо, а я тщетно пытаюсь вытащить НН из-под автобуса. Ее руку придавило передним колесом, и водитель набирается мужества, заводит двигатель, и автобус сдвигается на пару сантиметров вперед.
Когда автобус двигается, она кричит.
Из ее живота и почти оторванной руки течет кровь.
Паника. Тошнота. Паника. Тошнота.
Плача, водитель отрывает от своей куртки рукава и перевязывает ей руку.
Пассажиры неподвижно сидят на сиденьях, уставившись в пол.
НН кричит, а потом внезапно затихает. Обнимая ее, я говорю: все хорошо, все будет хорошо, сейчас тебя спасут, только подожди немного, просто нужно немного терпения.
Я кричу, и из Фабрики выбегает Карл, с шерстью в руках. Мы везем НН в Торсхавн, в больницу на улице Й. С. Свабосгета, потому что у нас нет времени дожидаться «скорую помощь». Я не отрываясь смотрю на нее в зеркало заднего вида, Карл обнимает ее, пытаясь привести в сознание, утешает и обматывает ее руку и живот одеждой.
Еще до приезда в больницу НН уходит в зыбкие сады комы, потом мы сидим в больничном коридоре и ждем, когда ее прооперируют, звоним Хавстейну, просим его приехать, сидим и ждем, НН оперируют, и мы думаем, что все будет хорошо и мы успели вовремя.
В тот день НН не умерла, хотя кажется, что произошло это именно тогда. Она пролежала в больнице еще почти полтора месяца, а сейчас все уже позади, многое изменилось, деревья выросли, и я еду домой.
НН не стало, и на Фабрике воцарилась тишина.
Мы бродили по дому, и у нас все валилось из рук, нам едва удавались самые простые дела. Мы по-прежнему просыпались, ехали на работу, если нужно было, приезжали домой, как и раньше. Но самые обычные действия — приготовить ужин или заняться чем-нибудь по вечерам — от нас ускользали. Говорить об этом мы не могли, у каждого было свое отношение, и никто не знал, с чего начать. Карл в основном сидел на Фабрике, продолжая начатое в тот день, когда НН сбил автобус, словно он сможет что-нибудь изменить, если будет вести себя как ни в чем не бывало. Я проводил с ним много времени, но он редко заговаривал о ней, а каждый раз, когда заводил разговор я, он менял тему.
— Ну, что ты об этом скажешь? — спрашивал он, держа в руках свою новую поделку.
— А это как тебе? — интересовался Карл, показывая мне вырезанных из дерева лошадей или коров с пятнами коричневой краски на боках.
— Может, стоило бы побольше таких наделать? — спрашивал он про овец.
А иногда он просил:
— Можно я вечером возьму твою машину? Хочу в больницу съездить.
— Ну конечно, — отвечал я. Я никогда не просил взять меня с собой, не спрашивал, что он там делал и что говорил ей, если вообще говорил. Избегая таких разговоров, я заводил беседы о другом, надеясь, что однажды, когда ему захочется, он сам расскажет, а пока надо подождать.
Анна и Хавстейн вели себя иначе. Анне было тяжело, она почти перестала есть, плохо спала и раздражалась по пустякам, из-за хлебных крошек на кухне, оторванной подставки для душа, беспорядка в шкафу или неухоженных вазонов с цветами. Цепляясь за пустяки, она пыталась не сорваться. Хавстейн же, наоборот, много размышлял над тем, что произошло, над страшной лотереей случайности. Я вновь и вновь пересказывал ему случившееся, секунду за секундой, сцену за сценой, как кино. Я отвечал на его вопросы, он спрашивал, о чем мы разговаривали, когда сидели у нее в комнате, спрашивал, как Карл себя чувствует и как дела у меня, на последний из этих вопросов ответить было сложнее всего, и отвечал я довольно однообразно:
— Я понимаю, что это произошло не по моей вине. Я не виню себя.
— Хорошо, — говорил он тогда, — хорошо. — И на этом разговор прекращался.
В те дни даже Палли изменился: он стал чаще проводить вечера с нами, помогал, звал нас с Карлом на рыбалку. Мы почти каждый вечер ходили с ним к морю ловить рыбу, разговаривали мало, Палли помогал мне со снастями и насаживал блесну, а когда крючок цеплялся за камни, забирал у меня удочку. Он объяснял, как правильно опускать блесну в воду, когда вытягивать и как подматывать леску. Он показал мне лучшие рыбные места. Мы тогда ловили помногу рыбы. А в хорошую погоду мы надевали теплые шерстяные свитера и жарили рыбу на улице. Три придурка на пригорке. Даже вся рыба на свете не могла ничегошеньки изменить.
НН лежала в больнице в Торсхавне. Она ничего не видела, ничего не слышала и ничего не говорила. Мы навещали ее. Карл. Хавстейн. Палли с Анной, они ездили к ней два раза в неделю, по вечерам. И я. Сперва я ездил туда почти каждый день, после работы. Брал с собой чего-нибудь перекусить и почитать. В те дни я помногу с ней разговаривал. Обо всем. Говорил, что в голову приходило. О том, что прочитал в газете. Рассказывал, что с ней произошло, и говорил, что мы ждем ее пробуждения. Что в кино чем дольше красавица лежит в коме, тем больше уверенности в том, что она проснется. Я говорил, что прекраснее ее никого не знал. Говорил, что когда она проснется, мы все вместе поедем куда-нибудь, в Данию, например. Почему бы нет. Или в Англию, в Лондон. Или в Нью-Йорк. Мы можем поехать на автобусе. Если она захочет. На автобусе можно доехать до любой страны. Я обещал ей зеленые леса, где растут прекрасные цветы, зреют свежие фрукты и бродят добрые звери с мягкой плюшевой шерстью. Говорил и говорил. По вечерам я уходил, а слова мои словно оставались там, прилипая к стенам, потолку, целые кучи слов лежали на полу. Потом я прекратил. Болтовню. Просто сидел и слушал. Прислушивался к ее дыханию. Ждал, что она вот-вот проснется. Но в основном я просто сидел и читал. Или слушал радио. Как-то так.
Однажды к ней пришла ее мать.
Когда она солнечным вечером зашла в палату, был обычный среднестатистический понедельник, а воздух наполнился апрельским теплом. Она была худощавой, с длинными темными волосами и огромной сумкой в руках. К тому моменту я пробыл у НН уже час, а может, и полтора. Сидя в палате и читая книгу Хавстейна про острова Карибского моря, я сначала попутешествовал по архипелагу, а затем, остановившись почему-то на Гренаде, попытался запомнить количество жителей, отзывы о гостиницах двадцатилетней давности, достопримечательности, которых, возможно, уже не существует, и длину плавательного бассейна, может давно засыпанного песком. Коротко кивнув, она повесила куртку на крючок у двери и, присев возле меня на стул, посмотрела на дочь. Мы немного помолчали.
— Уезжаешь? — Она показала на книгу, лежавшую у меня на коленях.
— Нет-нет, — ответил я, — мне просто нравится читать о местах, где я не был.
Молчание.
— Как по-твоему, о чем она сейчас думает? — спросила она, глядя в пустоту.
— Не знаю. Может, ни о чем.
— Правда ведь, она красивая?
— Да, — ответил я, — красивее я не встречал.
— Ты знал, что она каталась на автобусах по Фарерам? Просто так? Они ее и свели с ума, автобусы.
— Да, я слышал об этом.
— Тебя Матиас зовут, так ведь?
— Да.
Она представилась и протянула мне руку.
— Она много о тебе рассказывала.
Вот как? Что рассказывала?
— П-правда? — спросил я, запинаясь.
— Когда приезжала ко мне на Рождество. Показывала мне твои фотографии. Наверное, она уже начала выздоравливать и могла уехать из Гьогва. Она об этом говорила?
— Иногда. Не часто, но иногда говорила.
— Вот только не знаю, куда она собиралась ехать. А ты знаешь? Может, в Данию?
— Может быть.
Она поднялась со стула и, подойдя к кровати, взяла НН за руку и погладила по голове. НН, накрытая простынкой, казалась такой маленькой, почти незаметной. Теперь в палате слышен был лишь монотонный писк электрокардиограммы, отсчитывающей удары ее сердца.
Жужжание кондиционера.
Шум машин.
Весна.
Ее мать повернулась ко мне:
— Они были вместе с этим… Карлом?
— Когда это произошло?
— Нет. Они были вместе? — Она слегка зарделась. — Ну, то есть они встречались? Понимаешь, о чем я?
Я кивнул:
— Да. По-моему. Вы не знали?
— Она мало о нем говорила. Разве только что есть такой Карл и что он из Штатов.
— Нам тоже известно не больше, — сказал я.
— Знаешь, она только о тебе и говорила. Господи, столько разговоров было, — она тихонько засмеялась, — она как будто тебя изучала. Ты и только ты — с утра до вечера, будто ей вновь четырнадцать лет.
— Я не знал.
— Ты действительно ничего не знал?
Я помолчал.
— Да, — ответил я.
— Она ничего не говорила тебе?
— Напрямую — нет.
— А ты?
— Я?
— Ты ее любил? — Она быстро исправилась: — Любишь ты ее?
— Да, — прошептал я.
— Хорошо.
— Не уверен только, что это поможет.
— Скорее только это и поможет.
— Чему же?
— Всему.
Мы немного помолчали. Просто сидели и обдумывали, и ни один из нас не знал, правда это или просто принято говорить, что любовь может помочь. НН дышала ровно, а стрелки на часах плавно, секунда за секундой, двигались вперед. Я думал о Вселенной, что если я прямо сейчас отправлюсь со скоростью света в центр Млечного Пути, например, то доберусь туда за двадцать один год, а НН придется лежать тут и дожидаться меня 30 000 лет.
Но так быстро никто не летает.
В плохом настроении я часто про такое думал.
Благодаря Эйнштейну слишком далеко мы друг от друга не убежим.
В палату зашла медсестра, кивнула нам и начала снимать показания: нажала на кнопку, повернула рычажок, сделала отметку в журнале и опять ушла.
Мать НН посмотрела на настенные часы и сверилась с наручными:
— Мне, пожалуй, пора.
И тут меня осенило. Если не сейчас, то, возможно, я никогда этого не узнаю.
— Можно вас кое о чем спросить?
— Ну конечно.
— Как ее зовут?
Она посмотрела на меня так, словно не поняла вопроса:
— Ты не знаешь ее имени? Как это? Она разве не говорила, как ее зовут?
— Никто на Фабрике не знает, — ответил я, — кроме Хавстейна. Может, только он и знает. Наверное, она из-за автобусов не хотела, чтобы люди знали ее имя. Поэтому мы называли ее НН.
— No Name?
— Да.
Она посмотрела на лежащую в кровати дочь. Хорошо бы за окном пролетела птица или лицо НН озарилось слабой улыбкой. Это бы так много значило для нас. Но ничего не произошло.
— София. Ее зовут София.
Поднявшись, ее мать сняла с крючка куртку, оделась, застегнулась и опять повернулась ко мне:
— Ты как думаешь, она поправится?
Я задумался. Я понимал, что ей хочется услышать. Но мой ответ был другим.
— Нет, — сказал я.
Я старался навещать Софию как можно чаще, несколько раз в неделю, но никогда больше не встречался с ее матерью. Может, она больше не приходила, а может, просто бывала в другое время и в другие дни. Наши пути больше не пересекались, и когда я заходил в палату, ее присутствия там не ощущалось.
После трагедии лес у въезда на Хвитансвегур словно изменился. Сколько мы ни сажали, он становился все меньше и меньше, и в конце концов от него осталась только нелепая кучка деревьев, у которых никто не останавливался. Теперь работали мы всего два дня в неделю, и то если нам звонили из регионального управления, поэтому я сидел на Фабрике и ждал звонка. Иногда я помогал Палли, разгружал корабли, носил ящики с рыбой, водители подбрасывали меня до Торсхавна, а оттуда я добирался на автобусе домой.
Еще я читал.
«Путеводитель Филдинга по островам Карибского бассейна и Багамам».
790 страниц и ни единой фотографии.
Бесчисленные заметки, сделанные Хавстейном, подчеркнутые строки и вложенные листочки.
Понимал ли он, что почти все сведения уже устарели?
Понимал ли он, что Монтсеррат еще в девяностых был полностью разрушен при извержении вулкана?
Что на Гаити больше не правит Док-младший?[86]
А может, это не имело для него никакого значения?
Совершенно никакого.
После того, как София ушла, на Фабрике воцарилась удивительная тишина. Не то чтобы там прежде было как-то особенно шумно, нет. Однако теперь мы двигались медленнее, осторожно ступая по полу, и по лестнице ходили так, чтобы ступеньки не скрипели, словно каждый громкий звук повлечет за собой ужасные последствия. Мы не по иголкам ходили, нет — мы ходили по минному полю, как будто были наряжены в воображаемые саперские костюмы, маски, шлемы и бронированные жилеты. Разговаривали мы неохотно, все наши беседы были в основном о повседневных мелочах: погода, машина, которую надо отвезти в ремонт, короткие фразы о Софии. Никто не предлагал убрать вещи из ее комнаты. Никто не произносил вслух то, о чем все знали и постоянно думали: что бы с ней дальше ни произошло, сюда она больше не вернется. И что бы ни случилось, Фабрика никогда не станет прежней. И хотя никто не говорил об этом, Хавстейна неотступно мучила одна мысль: день, когда ему позвонят из управления и попросят поместить здесь еще одного человека, станет днем больших неприятностей. Здесь больше не место кому-то еще. Различия между домом и лечебным учреждением медленно и незаметно стирались, пока наконец и вовсе не исчезли. От того реабилитационного центра, где Хавстейн по-отцовски за нами присматривал и куда я попал прошлым летом, не осталось почти ничего. Вместо него появился обыкновенный — пусть даже слишком большой — дом, где мы жили на подачки государства, по-прежнему полагающего, что оно поддерживает реабилитационный центр с постоянно меняющимся составом пациентов. Хавстейн теперь часто бывал в Мули, выезжал по утрам, а возвращался вечером, усталый и неразговорчивый. Я опять начал готовить ужин к приходу всех остальных, а Карл обычно помогал мне накрывать на стол, доставал тарелки, приборы, стаканы и воду, а потом приходили остальные, садились за стол, пили и ели.
Дни бежали, словно ничего не произошло, и так продолжалось до середины июня, когда я отправился на пустошь у Хвитанесвегура и начал подготавливать почву к посадке деревьев, я рылся в сырой земле, а солнце обжигало мне спину. Херлуф с Йоугваном уехали в управление договариваться об отпуске, который они собирались взять через месяц. В отличие от меня, они работали полный рабочий день, занятия у них могли быть разные — сажать деревья, ремонтировать дороги и выполнять разные другие поручения. В тот вечер я был на пустоши один, и одиночество мое нарушал лишь ровный гул машин, проезжающих по трассе, да пара овец, топчущихся в поисках травы повкуснее. Во время работы Херлуф с Йоугваном часто уезжали по делам, поэтому я привык работать подолгу один и радовался, когда они говорили, что им надо съездить в центр, — тогда я мог работать, не подстраиваясь ни под кого, полностью сосредоточившись на деле, так что видел только свои руки и пальцы, погружающиеся в почву. Маленький клочок земли передо мной с каждой секундой менялся, а окружавший меня пейзаж превращался в неясную декорацию на заднем плане. Даже звуки сливались в монотонное жужжание машин, пение или крики птиц и шум ветра или дождя.
Вдруг ровный гул резко прервался, и, наверное, поэтому я явственно услышал, что позади меня, на повороте, остановилась машина. Обычно здесь никто не останавливался. Со щелчком открылась дверца. Крышка багажника. У меня под руками влажная земля. Я даже не успел повернуться, но уже понял, кто это.
Ведь я же знал, что рано или поздно он приедет.
Развернувшись, я увидел, что по склону ко мне с огромным чемоданом спускается отец. Такси развернулось и уехало. Он шел ко мне по полю, осторожно огибая наполненные дождевой водой лунки и прижимая к себе чемодан, как единственную вещь, напоминавшую ему о доме и оттого надежную.
Господи, как же отец ненавидел путешествия.
Именно в тот момент, поймав его обеспокоенный взгляд и увидев нахмуренный лоб, я проникся любовью. Дорого же ему это обошлось — сесть на самолет, прилететь сюда, позвонить Хавстейну, чтобы узнать, где я сейчас нахожусь, договориться с водителем и приехать на это место! А мысли о том, что он выйдет из машины, а меня здесь не окажется!
Выпрямившись, я смотрел на него. На руках у меня были садовые рукавицы. Навстречу я не пошел. Да и не нужно было: отец ровно и спокойно шагал по пустоши, энергично переставляя ноги и озираясь по сторонам.
Мне кажется, он улыбался.
Я почти уверен.
И когда он приблизился и поставил чемодан на траву, я обнял его. Просто молча и крепко обнял. В тот момент я вспомнил о Софии, которая спит и ни о чем не думает, о Йорне, которого не слышал уже почти год, о Хелле, которая неизвестно где находится и неизвестно с кем проводит свои ночи, обо всех людях, от которых я прятался на протяжении нескольких лет.
Передо мной стоял отец.
— Ты все-таки приехал, — сказал я.
— Естественно, приехал. Я же собирался приехать, рано или поздно.
Мне так много хотелось сказать, но я растерялся.
— Хорошо долетел? — спросил я.
Отец покачал головой:
— Ужасно. Я уж и не думал, что мы приземлимся.
— Обратно можешь доплыть на корабле. До Бергена. Это займет сутки, но поездка очень приятная. Ты ведь корабли любишь больше самолетов.
— Да. Матиас?
— Что?
— А чем все-таки ты тут занимаешься?
— Деревья сажаю, — сказал я, осознавая, что он не об этом спрашивал.
— Почему ты не вернешься домой? Мама ужасно соскучилась.
— А ты?
— И я тоже.
— Может, я вернусь летом, — сказал я.
— Обещаешь? Не скажешь опять, что опоздал на самолет, как в прошлый раз?
— Я действительно опоздал тогда на самолет!
— Угу.
— Я скоро вернусь. Летом самолеты часто летают.
Отцу хотелось, чтобы мы вернулись вместе, через несколько дней, поплыли на корабле, ему хотелось обезопасить себя. Я объяснил, что пока мне еще рано возвращаться, рассказал о том, что София в больнице, о том, что произошло с момента нашего последнего разговора, и обо всем, о чем не написал в открытках.
— Я… мы… Матиас, мы расторгли договор аренды на твою квартиру. Ты же не звонил… — сказал отец извиняющимся голосом, — ты же все равно там больше не живешь, зачем зря платить, правда? А вещи твои перевезли к нам. И машина твоя теперь у нас.
— Все правильно. Я в любом случае собирался съезжать. — Я попытался обратить слова в шутку, но особо смешным это никому из нас не показалось. Я вновь стал серьезным. — Не уверен, что смогу опять поселиться дома. Мне кажется, я уже для этого староват.
— Мы подумали и решили, что, может, ты пока поживешь в летнем домике? А потом подыщешь себе новое жилье.
— В Йерене?
— Да. Я поговорил с соседями, и если захочешь, летом тебе там и работа найдется.
Отец подумал обо всем.
Я же почти ни о чем не думал.
Когда через полчаса вернулись Херлуф с Йоугваном, мы с отцом в отличном настроении сидели, прислонившись к дереву, и щурились на солнце. Я все объяснил Херлуфу, а тот сказал, что это чудесно. Он был добрым и разрешил мне уехать пораньше. Мы с отцом дошли до машины, положили его чемодан в багажник и поехали сначала в Торсхавн, зашли там в супермаркет за едой, а отец купил кое-каких сувениров для мамы, брошюру по вязанию и бело-синюю футболку с надписью «I Love Foroyar»[87] и нарисованным козлом. Футболку отец тотчас же надел на себя, мы сели в машину и поехали в Гьогв, на Фабрику, а по дороге я раздумывал, как мне получше описать свою тамошнюю жизнь, рассказать, что все изменилось после того, как мы вытащили из воды Карла, и после трагедии с Софией, объяснить, почему я пока не могу вернуться домой.
Постепенно выяснилось, что мама с отцом знали о моей жизни больше, чем мне казалось, и что объяснять придется не так уж много. Еще год назад, в конце лета, во время первой беседы с моими родителями, Хавстейн рассказал им, что это за место, и убедил, что мне, наверное, будет полезно пожить там какое-то время. Поэтому они не звонили. Больше того — Хавстейн всю осень и весну примерно раз в месяц звонил им сам и рассказывал про мою жизнь. Поэтому я и не чувствовал, что они беспокоятся.
Итак, приезд отца — это что-то вроде родительского собрания.
Мы сидели на пригорке над бухтой — я, он и Хавстейн.
Разговаривали.
Что называется, перетряхивали грязное белье.
— Тебя, Матиас, уязвило, что я разговаривал с твоими родителями, а тебе не сказал? — спросил Хавстейн.
— Да нет, не особенно, — ответил я, — хотя я такого не ожидал, да ладно уж.
— Мне не хотелось, чтобы ты еще и об этом думал, — пояснил Хавстейн.
— Это ты попросил отца приехать?
— Нет, — не без гордости ответил отец, — я сам придумал.
— Ты хорошо придумал.
Порывшись в невидимом руководстве для психиатров, Хавстейн предложил:
— Я, пожалуй, оставлю вас наедине.
— Спасибо, — сказал отец, крепко пожимая Хавстейну руку.
— Quality time,[88] — сказал я.
Мы остались вдвоем. Отец и сын, сидящие на травке над бухтой, откуда видно Северный полюс, а тем, кто сможет заглянуть на другую сторону, — и Южный тоже.
Никогда не думал, что мы когда-нибудь будем сидеть здесь вот так и я вновь почувствую отцовскую заботу.
— Не хочешь рассказать про Софию? — поинтересовался он.
— Про Софию?
— Насколько я понимаю, она сейчас в больнице. Несчастный случай?
— Да. Она может умереть в любой момент. Давай лучше молча посидим.
— Почему?
— Эффект бабочки, — сказал я. — Бабочка взмахнет крыльями — и погода изменится.
— Ты ведь влюблен в эту девушку, правда? В Софию?
— Отец, не надо. Пойми, мне уже не четырнадцать.
— Нет, конечно нет. Верно. Извини.
Мы немного помолчали. Потом он спросил:
— Матиас, что же с тобой на самом деле произошло?
Странно было услышать от него эти слова. Что со мной произошло. Я забеспокоился. Почувствовал, что сердце начало биться быстрее. Испугался, что он это заметит.
— А знаешь, ведь уровень воды в море постоянно растет. На один сантиметр в год. Это чистая правда. А ежегодный подъем почвы составляет в среднем всего четыре миллиметра в год. Не больше. Тебя это не пугает?
— Матиас…
— А Исландия находится на стыке двух материковых плит. И поэтому там высокая вулканическая активность. Страна может расколоться надвое в любой момент. Ты об этом никогда не задумывался?
— Матиас, что с тобой случилось? Зачем ты об этом рассказываешь?
И тогда я сказал:
— По-моему, во мне что-то сломалось.
— Из-за Хелле?
Я пожал плечами:
— Не только. Из-за всего, наверное. Слишком многое произошло. Карстену пришлось закрыть цветочный магазин, потом Хелле ушла, а Йорн пригласил меня поехать сюда, ему хотелось, чтобы я пел в их группе. Ты, кстати, знал, что больницы начали закупать цветы в основном в супермаркетах? Вот, теперь знай. Все не так просто. — Посмотрев на отца, я добавил. — Я опять становился заметным, разве не ясно? Как раз когда почти смог стать невидимым. Но сейчас мне уже лучше. Спасибо за заботу.
На лице у отца отразилось замешательство. Он потер затылок и тяжело вздохнул:
— Матиас, пойми, невозможно жить, не оставляя следов. Для кого-то ты никогда не станешь невидимкой. Кто-нибудь будет помнить о тебе всегда. И всегда найдутся те, кто тебя любит. Почти всегда. Вот так-то оно.
— Я не об этом. Не то чтобы я хотел жить, не оставляя следов. Просто пусть их будет поменьше. Не хочу оставлять отпечатков рук на цементе. Не нужны мне эти интервью. Неужели это совсем невозможно? Что, если кому-то не хочется высовываться? Не всем же быть первыми! Кому-то хочется быть вторым.
— Но почему именно тебе?
— Потому что все в мире устроено именно так, а не иначе.
Покачав головой, отец взял меня за руку.
— Ты слышал об Ольге Омельченко? — спросил я, зная, что он не слышал. — Она была полевым врачом в 37-й дежурной дивизии Советского Союза. В 1943 году она спасла одному человеку жизнь. Это была самая крупная битва в том году, но она выжила, а когда закончились бомбардировки, нашла поблизости раненого с покалеченной рукой. Чтобы он выжил, руку ему надо было срочно ампутировать. Но наркоза, скальпеля и ножниц у нее не было. У нее вообще ничего не было, — я помолчал, — поэтому она отгрызла ему руку, отгрызла зубами, а потом перебинтовала. И он выжил и дожил до старости.
— Матиас!
— Так оно и было.
И я рассказал обо всех остальных, кого помнил, о ком узнал еще в детстве. Об Эммануэль де Бове и Нино Рота. О Марии Октябрьской, которая в сорокатрехлетнем возрасте, после того, как ее муж погиб на фронте, купила на все свои сбережения танк и воевала против Германии. О шерпе Тенцинге Норгее, который в 1953 году взобрался на Эверест вместе с сэром Эдмундом Хилари, но о котором почти все забыли. Я рассказал об эксцентричном джазовом музыканте Джеке Первисе, который со своей группой отправился в Европу, но в первый же вечер сбежал от них по крыше парижской гостиницы в одних носках. Потом он выступал вместе с великими — с Колеманом Хокинсом и Хиггинботэмом, а затем уехал в Калифорнию, где работал поваром. По заказу «Уорнер Бразерс» он написал музыку для оркестра в 110 исполнителей, а потом опять вернулся в Нью-Йорк и там выступал по маленьким клубам. Опять исчез, а потом вступил в американскую армию. Позже его посадили в тюрьму за вооруженное ограбление в Эль-Пасо, и его концерты транслировали прямо оттуда. Освободившись, он не сообщил в органы по надзору за освобожденными, и его опять посадили, а вновь освободился он только в 1947-м, когда война уже давно закончилась. Что с ним было дальше — неясно, но предполагают, что он работал летчиком на торговых рейсах. Многие утверждают, будто видели, как человек, внешне похожий на Первиса, сидел на Королевской площади в Гонолулу, играя «Полет шмеля» то на тромбоне, то на трубе. Позже его также видели в Балтиморе, где он работал плотником и поваром на международных кораблях. Не желая быть узнанным, он жил под разными именами. А потом уехал в Сан-Франциско и занялся там починкой радио.
В таком духе я и продолжал — говорил много, вспоминая старые книги, переполненные забытыми биографиями. Чем больше я рассказывал, тем больше вспоминал, и слова лились рекой. Забытые, но все равно волнующие жизни. Я сказал, что Армстронг, Олдрин и Коллинз решили, что на «Аполлоне-11» таблички с их именами не будет, потому что их миссия важнее их самих. Я говорил о тех, кто на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984-м занял вторые места, когда Карл Льюис завоевал четыре золотых медали, и о втором человеке в «Майкрософте» после Билла Гейтса. И еще о Пауле фон Хинденбурге, который до смерти устал и, прекратив цепляться за власть, подал в 1933 году в отставку и исчез, провозгласив канцлером своего преемника, который был на сорок два года моложе и которого звали Адольф Гитлер.
— Но почему ты постоянно сдаешься? — спросил отец. — Почему упускаешь все шансы? Почему отказываешься верить, что ты просто можешь нравиться людям, что окружающие тебя любят? Что страшного в том, что ты привлечешь немного внимания? Ты же не станешь от этого мировой знаменитостью. Я просто не понимаю, почему именно ты должен взвалить на себя все грехи человечества и нести наказание за других?
— Ты не понимаешь. Никаких шансов не существует, — сказал я, — я ничего не теряю и не упускаю. Подумай о тех, кто убирает мусор у тебя перед домом. О машинистах поездов, на которых ездишь. О киномеханике, который стоит в кинобудке и следит за порядком, когда вы с мамой смотрите кино. О водителях «скорой помощи». Об уборщице в гостинице, которая прибирается после твоего отъезда. Ты не видишь их. Ты незнаком с ними. Но ты же ценишь их работу, правда? Они заботятся о тебе. Может, именно это мне и нужно. Заботиться о ком-то. Я просто хочу стараться.
Отец вздохнул:
— Я понимаю, но…
— Моя работа — она же важна, разве нет?
— Да, но…
— Я ведь тоже способствую росту валового национального продукта, так? И занятие у меня такое же важное, как и у других. Я просто-напросто не хочу, чтобы вокруг него было много шума. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Тебе не нравится сознавать, что ты — один из многих винтиков в огромной машине и что твоя работа тоже важна, хотя никто ее не замечает?
— Но ты не в японской корпорации работаешь. Матиас, ты не машина.
— Нет. Я не машина. Знаешь, чего я больше всего боюсь?
— И чего же?
— Что я выйду из строя. Фильм недели по каналу, который закрыли. Что я сломаюсь и ничего не смогу делать. Вот этого я до смерти боюсь, — прошептал я.
Я видел, что отец расстроен. Придвинувшись ближе, он положил руку мне на плечо.
— Ты никогда не выйдешь из строя, — сказал он, подчеркивая каждое слово, — у меня нет ничего дороже тебя. Ты — самая большая ценность в моей жизни. Ты и мама. Но тебе просто надо немного отдохнуть. Просто немного успокойся, и все наладится.
И я поверил ему.
— Дело в том, что все это слишком далеко зашло, — продолжал отец, — в последние годы ты все больше и больше перегружал себя, разве ты сам не заметил? И под конец тебе стало совсем невыносимо. А сейчас — разве ты не видишь, ведь некоторые мечтают о том, чтобы быть рядом с тобой. София, например. Неужели ты этого не понимаешь?
Я ничего не ответил. Стиснул зубы. Запер рот на замок.
— Просто винтик твой надо починить, Матиас, только и всего. Ты просто опять заболел, и ничего страшного в этом нет, все наладится. Насколько я понял, ты здесь в надежных руках и…
— Опять? Ты о чем это? — перебил я. — Что значит — опять заболел?
Вот оно как, оказывается. Сделанное отцом признание. Словно снежная лавина. Должно быть, я всегда это осознавал, только позабыл с возрастом, намеренно или случайно вытеснив это событие из памяти, будто положив его в коробку и заклеив коричневым скотчем. Произошло это в 83-м. Мне было четырнадцать. Однажды, вернувшись с работы, мама с отцом обнаружили, что дверь в мою комнату заперта. Я отказывался выходить. Как они ни пытались — я не выходил. Им было слышно, что я заставил дверь и окна мебелью. Неделю я не ел. Выползал только по ночам, в ванную, убедившись, что они спят. Потом ко мне пришел какой-то человек, поставив под дверью стул, он разговаривал со мной, и я слышал его незнакомый голос. Он спрашивал, как я себя чувствую. Я не отвечал. Сдался я, лишь когда он просидел там почти два дня. Я отодвинул от двери стол и впустил его в комнату. Это был врач, которого нашла мама. О чем мы говорили, я не помню. Помню только, что не хотел больше выходить из комнаты. Тем не менее я вышел. Или не вышел. Меня вытащили. Я кричал. Я ругался, но они вытащили меня оттуда, а потом я сидел скрючившись в машине, чтобы меня никто не видел.
1983 год. В Ставангере осень, и я просыпаюсь только по вторникам, почему — непонятно. По всем остальным дням я сплю. Я сплю целыми неделями, а когда просыпаюсь, простыни всегда свежие, в комнате пахнет мылом и пыль на подоконнике вытерта. В комнате жарко, мне хочется открыть окна и впустить в комнату свежий воздух, но мне не разрешают. Мне говорят, что комнату проветривают, пока я сплю. Правда ли это, я не знаю. Потом я опять засыпаю, и мне снятся одни и те же сны, но я никогда их не запоминаю. Отец приносит мне термос с чаем. Раньше он никогда не пил чай, не знаю, с чего это вдруг он начал его пить. Я тоже не особенно люблю чай. Однако сейчас мы сидим на стульях, пьем чай и разговариваем про улицы. «Они ничуть не изменились, — говорит он, — они ждут тебя и всегда будут ждать, времени у них много». Я думаю об улицах. Входит мама. Повесив пальто на вешалку в шкафу, она присаживается ко мне на кровать. «Ну, как дела?» — спрашивает она, и я всегда отвечаю одинаково: «Хорошо. Спасибо».
Я вежливый.
Мы молчим. Мы уже обо всем поговорили раньше. Много дней говорили. Я смотрю на часы над дверью. Стрелки на них крутятся в обратном направлении, и я начинаю думать, что нахожусь в стране, где все шиворот-навыворот, а все жители немного чокнутые и странные. Я в стране, где все наоборот. Так оно и есть. На улице идет дождь, он начался, еще когда меня привезли сюда. Если никто не будет следить за порядком, то вода скоро поднимется до подоконника, просочится через щелки в палаты, поднимет кровати и вынесет нас отсюда.
Резко встав, я подхожу к шкафу. Достаю куртку, надеваю ее и пытаюсь отыскать ботинки.
Отец:
— Матиас, ты куда?
Я:
— По-моему, пора уходить, а вы что думаете?
Это повторяется каждый раз, когда они приходят. Так уж оно сложилось. Я вернусь домой. Просто еще слишком рано. Мама подходит ко мне, обнимает меня и снимает куртку, я вновь сажусь на стул и пью чай.
— Не надо все усложнять, сложностей и так уже предостаточно, — говорит она.
— Ты считаешь, что это сложности? Вообще-то мне так не кажется.
— Матиас, мы все тут жертвы.
— То есть?
— Всем нелегко.
— Разве?
— Да.
Я смотрю в окно. На деревьях лежал снег, под его тяжестью одна ветка согнулась, и хлопья полетели вниз.
— Ой, — сказал я.
— Что?
— Снег упал. Это значит, что прямо сейчас один китаец свалился с велосипеда. Или выиграл в лотерею.
— Правда?
— Да, эффект бабочки. Так оно и есть.
— Я не знала.
— Однако это так.
На следующие выходные меня отпустили домой. На время. По часам. Обращаются со мной осторожно, а по вечерам меня аккуратно отвозят обратно, словно я плутоний. Мне в руки суют свертки, я не знаю, куда их девать. По телевизору в приемной показывают концерт Элвиса «Привет с Гавайев». Я возвращаюсь в палату и накрываюсь одеялом. Когда я вылезаю из-под одеяла, выясняется, что во времени произошел сбой, прошло уже три недели, у кровати стоят мама с Йорном и мама спрашивает, где моя куртка.
Сперва я ничего не понимаю, я не помню, чтобы мне что-нибудь объясняли, но меня, очевидно, выписывают. Мама достает из шкафа мою куртку, а я просто сижу на кровати. Мама кладет куртку рядом со мной и, извинившись, на минутку выходит из палаты. Йорн садится на стул для посетителей и думает, что бы сказать, но ничего придумать не может, мы с ним не настолько хорошо друг друга знаем. Должно быть, это мама попросила его прийти. Говорить нам особо не о чем, поэтому я спрашиваю:
— Говорят, ты группу организовал? Как она называется?
— «Перклейва». Супергруппа. Лучше, чем «Трусливые приемчики». Ты обязательно должен как-нибудь нас послушать, мы как раз сейчас работаем над парой просто охрененных песен.
— Ага.
Возвращается мама с одной из медсестер. Скрестив руки, они стоят рядом, словно добрые подружки.
— Да, кажется, нам можно идти, — сообщает мама, а я не понимаю, кому это она — медсестре или мне. Однако я послушно встаю и натягиваю куртку.
— Ну, что ж, Матиас, спасибо тебе за все, — говорит женщина в белом, когда я иду вслед за мамой и Йорном к двери.
— Вам спасибо. И хороших выходных.
— Сегодня вторник, Матиас.
— Лучше рано, чем никогда.
— Это верно. Береги себя.
Мы стоим возле большого кирпичного здания, мама ищет ключи от машины и обменивается с Йорном дежурными фразами. Я чувствую себя чучелом какого-то зверя, которое перевозят с выставки на выставку. Машинально веду себя так, как они, по-моему, хотели бы, но они этого, кажется, не замечают.
Мама спрашивает Йорна, не подвезти ли его, но он живет поблизости и приехал на велосипеде, ему недалеко, спасибо. А потом обращается ко мне:
— Я тебе на днях позвоню. Что-нибудь придумаем.
— Было бы здорово, — отвечаю я.
Он кивает моей матери и поворачивается, чтобы уйти.
— Йорн? — окликаю я его, и он останавливается:
— Да?
— Так ты позвонишь мне, правда?
— Ну естественно. Увидимся.
— Да, — отвечаю я, обращаясь скорее к самому себе.
И он уходит. Опять.
Я бреду за мамой к ее машине, она оставила ее довольно далеко, потому что боялась, что ей загородят дорогу и она не сможет выехать. Я жду с пакетом в руках. Мама открывает дверцу, садится, открывает дверцу с моей стороны. Я сажусь, пристегиваю ремень, проверяю его, мама заводит машину, и мы едем домой.
Но это было в ноябре 1983-го, с тех пор прошло много времени, я должен бы это помнить. Если я все время об этом знал, мне уже давно следовало рассказать Хавстейну или в крайнем случае сейчас, сегодня вечером. Нужно рассказать ему обо всем, объяснить, что такое со мной уже случалось и что я не знаю, почему это произошло, но такое со мной бывает. Но я не рассказал. Потому что в любом случае сейчас все по-другому, тяжелее. Я ни слова об этом не сказал. Я онемел. Мне было неловко. Мне было известно множество тайн, о которых тебе не узнать.
— Отец? — спросил я немного погодя. — Ты помнишь полет на Луну?
— Ясное дело, я помню ту ночь. Это было воскресенье. Воскресенье — двадцатое июля. Я очень волновался, что с тобой что-нибудь случится. Мы так долго ждали.
— Полета на Луну?
— Тебя, — ответил он и задумался, — ну, вообще-то и полета на Луну — тоже.
Запрокинув головы, мы посмотрели на небо, но Луны видно не было. Тучи. Скоро начнется дождь.
— А знаешь, что мне запомнилось лучше всего?
— Нет.
— Первый американец, облетевший вокруг Земли.
— Джон Гленн?
— Джон Гленн. Двадцатого февраля шестьдесят второго. Он три раза облетел вокруг Земли. Мы в тот день не отходили от радиоприемника. Три раза вокруг Земли в капсуле, пока ему не приказали вернуться. А как уж капсула называлась? Что-то такое с друзьями связанное, по-моему…
— «Дружба-7».
— Ага, точно — «Дружба-7». Помню, у нее расшатался фрагмент теплового экрана, и никто не знал, сможет ли она преодолеть атмосферу на обратном пути. Она могла сгореть. Но долетела. А когда он вернулся, его прямо под дождем встретили двести пятьдесят тысяч американцев. Вот это я помню.
— Я читал о нем, — сказал я, — самый старший астронавт в программе «Меркьюри». По-моему, неплохой парень.
— Потрясающий! Уж поверь мне. Интересно, что с ним стало?
— Не знаю. А ты слышал, что в ту ночь все жители Перта включили свет в домах, чтобы он увидел их, когда летел над западным побережьем Австралии?
— Да, точно! Я и забыл. А не знаешь, видел он их?
— Да.
— Красиво придумали. Сейчас бы никому такое в голову не пришло.
— Наверное, да.
На этом мы разговоры про Луну и закончили. Вернувшись на Фабрику, мы присоединились к остальным. Такие вечера не забываются никогда, твой отец знакомится с твоими друзьями, и тебе не кажется странным, что он сидит на кресле в гостиной на Фабрике. Он прекрасно вписывается в картину, и тебе хочется рассказать ему что-то, о чем ты раньше никогда не рассказывал, так как полагал, что его это не касается и что он не имеет отношения к твоей жизни. Тебе казалось, что он сочтет что-то дорогое тебе незначительным. Однако ты начинаешь рассказывать, говорить и понимаешь, что это не так. Ты знаешь, что уже на следующий день между вами возникнет прежнее отчуждение, близость, но в то же время и отчуждение, некая естественная преграда, поэтому ты торопишься рассказать побольше, ты словно рисуешь автопортрет, а потом подключаются остальные — Хавстейн, Палли, Анна и Карл, — все они тоже начинают рассказывать. Ты приносишь из «Гардероба А» пиво, протягиваешь бутылку отцу, а тот открывает ее найденной на столе зажигалкой. Такого тебе еще не доводилось видеть, ты полагал, что он только открывалкой умеет пользоваться. В отце ты узнаешь себя, ты сам станешь именно таким, от этой мысли тебе спокойно, и ты улыбаешься. Внезапно ты понимаешь, что именно из таких мелочей и состоят окружающие и твое непонимание их — это цена, которую ты, стараясь быть неуязвимым, платишь за то, что от них отстраняешься. И ты понимаешь, что многое прошло мимо тебя, тебе хочется отправиться отдыхать вместе с отцом, чтобы только вы вдвоем, парни-путешественники, вы могли бы поехать куда угодно, могли бы вместе открывать что-нибудь новенькое, у вас появились бы общие выражения, а вернувшись домой, вы бы вспоминали поездку, и через много лет ваш разговор мог бы начаться так: «А помнишь, мы встретили в Теннесси чокнутую, тогда еще утро было, а она стояла на углу, рядом со старым магазином?» Однако такое не долго длится, потому что люди всегда сохраняют дистанцию, ты мечешься из стороны в сторону и не успеваешь следить за другими. Поэтому остаются лишь такие вот вечера. Они становятся фамильной реликвией, словно изображения, высеченные на камне. Ничего особо печального в этом нет, все так, как и должно быть: вот ты, а вот, рядом, в кресле, сидит твой отец, твой собственный невидимый двойник.
Отец пробыл у нас до субботы. Я успел показать ему Слеттаратиндур и то место, где Хавстейн в шестидесятых видел Олдрина с Армстронгом. Прослушав в четверг прогноз погоды по «Радио Фарер», мы умудрились найти два местечка на вертолете из Торсхавна до Мюкинеса. Там мы смотрели на плавное движение согревающего Гольфстрима и на проходящие вдали корабли, направляющиеся в Европу. Отец рассказывал про домашние дела, про маму, про себя, говорил об обычных мелочах, милых незначительных событиях и ни разу не упомянул Хелле. Оказывается, как-то после Рождества им звонил Йорн и они немного поболтали. Старый добрый Йорн, отцу он всегда нравился. Мы съездили на Тинганес, где собирался альтинг, посмотрели на здания, уцелевшие после страшного пожара 1673-го, а отец фотографировал, стараясь запечатлеть каждый увиденный уголок. На всех снимках я, широко улыбаясь, стоял перед камерой, как он и хотел. Мы съездили в больницу к Софии, никаких изменений, она лежала совершенно так же, как лежала неделями до этого, но мне хотелось, чтобы отец увидел ее, и мы сидели у ее кровати, а я рассказывал, что произошло, подробно, фраза за фразой.
О чем еще мы говорили в эти дни? Не помню, но помню, мне было приятно оттого, что он рядом, и вечером накануне его отъезда мы сидели в «Кафе Натюр», отец рассказывал Карлу анекдоты, а тот пополам сгибался от смеха. Я и не ожидал, что отец на такое способен, но оказалось, что и такое бывает, он был в ударе. Лишь вернувшись тем вечером на Фабрику и стоя на улице вдвоем, мы заговорили о моем возвращении. И я обещал ему, что этим летом вернусь.
— Конечно вернусь, — сказал я.
— Когда?
— Скоро.
— Точно?
— Да, — ответил я, — точно.
На следующий день я отвез отца в аэропорт, а Хавстейн с Карлом сидели на заднем сиденье. У нас получилось целое путешествие, и отец обещал приехать еще, на этот раз непременно вместе с мамой. Естественно, ничего из этого не вышло, и потом мы больше никогда об этом не упоминали. Через год к этому времени Фабрика все равно опустеет, и навещать будет некого. На улицах и в домах останутся наши следы, но они будут вести к морю, а там цепочка оборвется. Хотя в тот момент я об этом не знал.
Я в Гьогве, стою в ванной и чищу зубы. Включив висящее над раковиной радио, я вполуха слушаю новости и смотрю на себя в зеркало. Лицо мое с каждым днем меняется. Бывают дни, когда изменения заметнее. Конечно, не очень видно, но если старательно присмотреться, то начинаешь замечать маленькие детали, например, что морщинка на лбу за ночь стала другой. Стала длиннее — всего-то, может, на полмиллиметра, но ты это видишь. Если постараться. Твои черты расплываются, стирается силуэт. Но ты еще не исчез. Для этого потребуется время. Годы. Однако ты исчезаешь. Исчезаешь в своих собственных глазах, с каждым днем становишься иным. Ты уже не тот, кем был когда-то. Клетки твоего лица обновляются, и лицо твое уже не похоже на фотографии, висящие в гостиной твоих родителей. Ты уже не тот, кем являешься. Но я по-прежнему здесь, хотя атомы двигаются и скачки кварков никому не ведомы. То же самое происходит с теми, кого ты любишь. С почти неподвижной быстротой они ускользают у тебя из рук, и тебе хочется хоть что-нибудь удержать, может, скелет, зубы или клетки мозга, но ничего у тебя не получится, потому что человек почти целиком состоит из воды, а воду тебе не схватить. Поэтому все следы мало-помалу стираются. А потом стираются и следы, оставленные другими, дома, в которых они жили, нарисованные для тебя рисунки, слова в записках. Воспоминания, которые у тебя остаются, тоже со временем блекнут, будто старые обои. В конце концов станет невозможно ответить на вопрос: а жил ли кто-нибудь здесь, на этой планете, что с краю дальней галактики? Жил ли здесь кто-нибудь? На Земле? Вот такие мысли и приходят иногда мне в голову.
Я сидел в машине, на пассажирском сиденье, на Судурое, когда мне сказали, что София умерла. В четверг, после отъезда отца. Был совершенно обычный, ничем не примечательный вечер, не особенно дождливый и не особенно ясный. Когда полицейские спрашивают подозреваемых о том, что те в такой вечер делали, никто не помнит.
Я не был у нее четыре дня.
Безо всякой особой причины, просто так сложилось.
Теперь я пожалел об этом.
Хавстейн поехал туда за какими-то бумагами, я не спросил, зачем именно они ему понадобились, просто решил поехать вместе с ним, потому что до этого на Судурое не бывал. Когда он с мобильником в руке вышел из дома, я понял, что случилось что-то плохое и ему неподвластное.
Хавстейн сел в машину.
— София сегодня умерла, — только и сказал он.
Я не удивился. Я ведь ждал этого. Раньше или позже. И тем не менее я ощутил, как сердце опустилось, и подумал, что это плата за то, что ты кого-то любишь.
И нет ничего более безысходного.
Ничего.
Я промолчал. Посмотрел в окно. Возможно, начнется дождь. А может, и нет. Наверное, теперь уже все равно.
— Когда это произошло? — спросил я.
— Утром, — ответил он, — в четверть девятого.
Я попытался вспомнить, чем в тот момент занимался. Был в ванной, чистил зубы, все как обычно. Думал ли я о том, что надо ее навестить? Что я люблю ее? Нет. В тот момент — нет. Может, потом. Но не в тот самый момент. Ничем особенным я не занимался.
Почти ничем.
День прошел совершенно обычно.
Может, и правда, люди умирают именно в такие дни.
В обычные.
— К ней кто-нибудь ездил? — спросил я.
— Ее мать была там. Это она мне позвонила. Она, наверное, всю ночь там просидела.
На мгновение я почувствовал обиду: ночью мне никто не позвонил и не попросил приехать.
Но никто и не обязан был.
— Ты знаешь, когда… когда похороны?
— Во вторник. В тринадцать часов. В Саксуне.
— В Саксуне? Почему ее похоронят там?
— Не знаю. Может, потому что там красиво? Это ее мать так решила.
— По вторникам всегда больше похорон, чем в другие дни.
— Почему?
— Не знаю. Так уж сложилось.
Хавстейн завел машину, и мы поехали в Дрелнес, чтобы успеть на семичасовой паром до Торсхавна. Когда мы заехали на борт, сидя рядом с Хавстейном, я вдруг представил, как рано утром София начала умирать, безмолвно и незаметно для себя самой, а ее мама сидела рядом и смотрела, как уходит последний ее родственник.
Я вспомнил то, о чем читал. Что за несколько минут до смерти умирающий перестает чувствовать. Одно за другим чувства покидают его. Сначала — вкусовые ощущения, потом — обоняние. Затем исчезает зрение. Осязание. Слух. Ощущение боли. Это словно потушить свет в кабинете, запереть за собой дверь и по пути домой потерять ключи. Домой вместе с Хавстейном я не поехал. Он высадил меня в Торсхавне, а домой я решил доехать на автобусе, как ездила София сотни раз на протяжении многих лет. Я решил сделать это ради нее. Потом я опять задумался об архиве. Может, она умерла, потому что вытащила из него свое личное дело. Не особенно приятная мысль, но смысл в ней есть. Может, она исчезла уже в тот момент, когда вытащила личное дело? Словно стерла себя из общности. Или причина в провоцирующем факторе, в одиночестве, ее изначальной обособленности? Возможно, все потому, что она с Мюкинеса, как этот Аннин художник, и однажды пролетевший рядом тупик просто посмотрел на нее, прищурившись? Или ему было достаточно лишь махнуть крыльями? Этого не знал никто. Я подошел к остановке и дождался автобуса, выбрав самый долгий путь до дома. Мы почти два часа ехали до Фуннингура, а последние шесть километров я прошел пешком, сначала наверх, в гору, до Слеттаратиндура, а потом вниз, по пологому холму до Гьогва. Когда я вошел, все остальные уже спали и в доме было не слышно ни звука, лишь мои шаги на лестнице.
Gran Turismo[89]
1
В следующий вторник я одолжил у Палли черный костюм для похорон. Шел дождь. Мне хотелось, чтобы день этот выдался ясным, чтобы по пути в Саксун передо мной предстали преобразившиеся Фареры, непохожие на те, что я знал до этого. Мне хотелось бы сказать, что когда мы залезали в «субару», воздух был каким-то особенным, что ветер стих и, пока мы добирались до Саксуна, вся страна словно затаила дыхание. Но это неправда. День был самым что ни на есть обычным, в такие дни по телевизору, как правило, повторяют старые передачи, и тучи выглядели как всегда. 99,4 % населения день этот ничем не запомнился, кроме, может, тех, у кого был день рождения, кто нашел работу или кого, наоборот, с работы выгнали, тех, кто вернулся домой или уехал наконец из страны, — таким этот день запомнится навсегда, день перемен к лучшему или худшему.
Вторник. Так уж сложилось.
Самый среднестатистический из всех. Парад бесполезных дней.
Проснулся я рано, оделся, позавтракал, читая за завтраком медицинскую энциклопедию, которую нашел у Хавстейна. Я читал о смерти. Раньше смерть меня не особенно занимала, никто из моих близких не умирал, я даже и на похоронах, можно считать, не был. Десять — двенадцать лет назад умерли бабушка с дедушкой, помню, мне было грустно и я скучал по ним. Но в этот раз дела обстоят иначе. И теперь труднее осознать, что София больше не вернется. В отличие от бабушки, любимого, но далекого человека, София заполняла пространство вокруг меня. Закрывая глаза, я вспоминал то ощущение, которое возникло у меня, когда я обнимал ее, сидя в машине на пути из Клаксвика. Ее ребра. Я подумал, что она никогда больше не сядет за обеденный стол, не протянет руку за апельсиновым соком и не нальет его себе в стакан, подперев голову другой рукой. Она уже точно не сядет на мою убранную постель и не собьет одеяло. Она никогда не полетит в Копенгаген, и я подумал, что в самолете теперь всегда будет одно незанятое место, а в автобусах будет не хватать одного пассажира. Никто не ляжет на ее кровать. Никто не будет слушать «Кардиганс». Теперь среди тех, кто согласится выслушать твой рассказ о событиях, произошедших за день, на одного человека меньше. Одним рождественским подарком меньше. Еще одному не удастся тебя разочаровать. А время заставит тебя жить так, словно ее и не существовало.
Я поднялся в комнату Карла. Он сидел на стуле, все еще в пижаме.
— Привет, — сказал я.
— Привет.
— Как ты?
Выпрямившись, он почесал ногу.
— Да ничего, все хорошо.
— Точно?
— Да.
— Хорошо, — сказал я и показал на свой костюм, — наверное, пора одеваться?
— Это точно. Сколько времени?
— Десять минут одиннадцатого, — ответил я.
— А как погода?
Шторы были раздвинуты. Он сидел вполоборота к окну.
— Дождь.
— Так и думал.
— Правда?
— Мне казалось, что сегодня будет дождь. А тебе — нет?
— Не знаю, может быть.
— Ты не видел моего костюма?
— Он висит в ванной, — ответил я.
— Пора бы мне одеваться.
— Это верно.
— Пять минут. Встретимся внизу через пять минут, ладно?
Я сказал, что ладно, и спустился вниз. Палли с Анной сидели в гостиной, а Хавстейн повязывал галстук перед кухонным зеркалом.
— Хочешь, могу помочь, — предложил я.
— Нет, не надо. Спасибо.
Затянув галстук, он взглянул на себя в зеркало. Потом посмотрел на меня:
— Ты уже решил, что именно будешь петь в церкви?
— Да, — ответил я.
Фарерские похороны — это совсем не то же самое, что похороны в Норвегии, где в церкви даже на передних скамьях мало народу, да, может, есть еще кто на задней, где собираются любопытные пенсионеры, а священник лениво перелистывает парочку рукописных проповедей, так что начинает казаться, будто достаточно лишь упомянуть имя и место жительства усопшего. Сплошные формальности, вроде коллективной конфирмации. Ибо тот, кто верит в Меня, будет жить и после смерти. Пусть земля ему будет пухом, а для нас эта утрата невосполнима. Сказав все, что полагается, и похлопывая по гробу, священник называет покойного, которого никогда и в глаза не видал, по имени, говоря, что тот так любил жизнь, у него было столько друзей, она так много не успела сделать. Никому не ведомо, чего угодно Богу, пути Его неисповедимы, словно римские дороги в час пик. Все равно что гадать на кофейной гуще, зыбкие предсказания которой сбываются лишь иногда.
Если кто-то умирает на Фарерах, не нужно дополнительно отпрашиваться с работы.
Люди приходят на похороны, потому что с каждым умершим численность населения уменьшается. Теперь одного из них ты уже точно не встретишь по дороге домой. Не стало человека, который говорил на одном с тобой языке.
Когда все вошли в церковь, там едва хватало места для псалмов.
На похороны Софии пришло больше трехсот человек. Мне подумалось, что это на двести сорок человек больше, чем тех, с кем она при жизни успела хотя бы парой фраз перекинуться. Жители Саксуна и близлежащих деревень. Приезжие из Гьогва, Мюкинеса и Торсхавна. Друзья семьи. Соседи. Друзья соседей. Односельчане. Раньше мы их никогда не встречали. Большинству даже места в церкви не хватило, и им пришлось заглядывать в окна, стоя на улице под дождем. По пути к передней скамье я заметил Софуса и его родителей, хотел помахать ему, но он сидел, уставившись в пол и теребя в руках куртку.
Саксун — одно из прекраснейших мест на Фарерах. В этой маленькой деревеньке старые темные деревянные домики стоят бок о бок с новыми строениями, а по долине протекает речка, которая впадает в озеро Поллур, соединенное Вестманной узким проливом между двумя зелеными холмами. И на все это открывался вид из крошечной церкви, выстроенной на самой вершине холма.
Подъезжая, мы увидели огромную толпу, словно движущийся к церкви ковер из темных зонтиков. Хавстейн снизил скорость, и мы, осторожно лавируя среди людей, проехали вперед и припарковали машину на специально оставленной для нас площадке. Смешавшись с толпой, мы прошли в церковь, заняли места в переднем ряду, и тут я увидел ее, мать Софии. Она сидела справа, вместе с двумя женщинами ее возраста. Я поднялся, подошел к ней, и она сразу же узнала меня.
— Матиас, — сказала она.
— Мне очень жаль, — сказал я и обнял ее. Потом я познакомился с двумя другими женщинами — одна из них оказалась датской тетушкой, а вторая — подругой матери. Обе были не особенно разговорчивы.
— В последнюю ночь она казалась такой маленькой, — сказала мать, — мне хотелось положить ее в чемодан и унести оттуда.
А потом, словно серьезно обдумав это, она добавила:
— Только вот чемодана у меня не было.
Мне хотелось сказать что-нибудь, но я не смог найти слов, я просто стоял вместе с ней и ждал. Людей в церкви прибывало, раздавался тихий скрип скамеек и шарканье. Подойдя к нам, Хавстейн обнял мать Софии.
— Спасибо тебе за все, — сказала она, обводя рукой пространство, — за то, что ты все это организовал.
— Было бы за что, — ответил он.
— Столько цветов. И такие красивые.
— Да, цветы красивые. Я подумал, может, ты как-нибудь заедешь к нам в Гьогв, посмотришь, как она жила, может, что-нибудь из вещей захочешь забрать?
— Было бы замечательно. — Она уткнулась в носовой платок. Потом начала сморкаться, и платок заколыхался. Я стоял между ней и Хавстейном, не зная, куда себя деть.
— Матиас собирается петь, — сообщил Хавстейн.
Она опять взяла меня за руку:
— София говорила, что ты хорошо поешь. А почему ты делаешь это так редко?
— Да особой необходимости нет, — спокойно ответил я.
— Но ты пой, Матиас, не прекращай. Все, кто умеет петь, должны петь. Иначе нельзя.
— Нельзя?
— Нет.
Мы помолчали.
— Она много о тебе рассказывала.
— Вы говорили.
Она опять помолчала.
— Вы скучаете по ней?
И тут я впервые заметил, что Хавстейн не может найтись с ответом, он лишь кивнул, глядя в пустоту, отвернулся и отошел к цветам. Поправив несколько венков и стряхнув с них пыль, он вернулся на нашу скамью и сел.
— Больше, чем нам кажется, — ответил я.
Священник прочитал прекрасную проповедь, кажется, он же работал в больнице, где в восьмидесятых — начале девяностых лежала София. Он говорил об автобусах, и слушать его было приятно. Он сказал, что автобусы всегда уезжают, но некоторые так и не приезжают или следуют не по расписанию, приходят раньше или запаздывают. Он рассказывал, каково это — садиться в случайные автобусы, ездить по неведомым прежде дорогам, и говорил, что приезжаешь в нужное место лишь изредка. Слова его были простыми, и, по-моему, мне понравилось, что он не пытается обрисовать ситуацию сложнее, чем она есть на самом деле. Он не говорил, что София многого не успела. Не говорил, что она многого не видела и не сделала. Он не назвал ее смерть печальной утратой для множества ее друзей. Он сказал, что те немногие, кто был знаком с ней, будут грустить о ней так, как грустят о вымирающих народностях и затопленных морем странах. И тогда мне, кажется, вспомнилась старая песня, по-моему, я подумал, что София была похожа на мячик, самый маленький мячик Господа Бога, который Он потерял, а сейчас, встав на колени, тщетно пытается отыскать. По-моему, именно такие мысли бродили у меня в голове. А может, и нет. Может, я просто сидел и ни о чем не думал.
А потом я пел.
Встав, я вышел вперед и спел.
Важно не то, что именно я пел, а сам факт: я пел, звук кружил по церкви, отдаваясь у нас в головах, а затем сквозь стены, через колокольню и приоткрытые двери выбрался наружу, и люди на улице на мгновение почувствовали тепло. Опустив зонтики, они умолкли, а звук взмыл над их головами и поплыл, словно какой-то невиданный туман, по Саксуну. Я слышал плач, слышал, что люди больше не могут сдерживаться, священник погрузился в свои мысли, Хавстейн обнял Карла, а тот сидел опустив глаза и боялся посмотреть на мать Софии, Анна обняла Палли, который глядел прямо перед собой, и Хавстейн улыбнулся мне. Мать Софии закрыла глаза, и голос мой стал еще громче, так громко я не пел никогда. Мне хотелось, чтобы от звука моего голоса потолочные перекрытия сдвинулись, крыша распахнулась и лодка, висящая на потолке, поплыла. Я старался изо всех сил, следил за мелодией, карабкался к самым высоким звукам, все дальше и дальше погружаясь в песню, мало-помалу я забыл о мелодии. Но органист следовал моему голосу, мы забросили и музыку и текст, оставив лишь звук, который словно окутывал нас теплым шерстяным пледом, на непотопляемых кораблях мы плыли через моря в неведомые страны. Последние ноты я вытягивал, как только мог, и в воцарившейся тишине можно было бы услышать даже бактерию, упавшую на пол.
Сам Бог не прошел бы здесь беззвучно.
А после похорон мы поехали в «Кафе Натюр». Мы вынесли Софию из церкви, опустили гроб в открытую могилу, закопали ее и встали с зонтиками рядом. Хавстейн закурил и начал со всей сердечностью пожимать руки подошедшим, благодаря их за участие. Мы — пятеро оставшихся — побыли там еще немного, смотрели друг на друга и обнимались, а потом священник запер церковь и мы молча направились к машине. Решение я уже принял, хотя и не говорил о нем. Завтра я уеду домой.
Прежде я никогда не пил столько, сколько выпил в тот вечер в «Кафе Натюр». Словно это было самое полезное из всего, что можно сделать. Решение я принял. Натерпелся достаточно. Пора переходить в наступление, пора возвращаться, мне хотелось стать таким, как прежде, хотелось стать новым открытием, которое положит предшественников на лопатки. Я чувствовал необыкновенную уверенность, был убежден, что стоит мне только руку протянуть, и на этот раз у меня все получится. Я, Матиас, открою себя для этого мира, не будет больше самого спокойного и доброго мальчика в классе, вместо него появится настоящий живой человек, и все машины будут при виде него резко сворачивать в стороны и притормаживать, а водители примутся глазеть на него, раскрыв рот. Я возвращаюсь в Ставангер. Может, даже поинтересуюсь у Йорна, нужен ли им в группе новый вокалист. В тот вечер я обмывал каждое новое решение, чистые бокалы закончились, а количество пустых бутылок увеличивалось, голова моя превратилась в мягкую пуховую подушку. Укутав все проблемы мечтами, я отослал их подальше, запечатал их в бутылки и пустил плавать по морю, чтобы их подобрали траулеры и круизники. Уже за полночь я отвел Хавстейна в сторонку и рассказал ему о принятом решении:
— Завтра я уезжаю в Норвегию.
— Так внезапно? А может, лучше чуть-чуть подождать?
— По-моему, мне надо съездить домой. Отец очень просил, — дипломатично ответил я.
— Но ты вернешься?
Я задумался. Думал я долго.
— Да, — ответил я, — к осени.
Мы вернулись за стол, и по настоянию Хавстейна я рассказал о моих намерениях, за столом поднялся ропот, и показалось, что Карл немного расстроился, услышав это. Конечно, он не хотел, чтобы я уезжал прямо сейчас, но возразить не осмеливался. Ясно было, что я все решил, пока остальные целы, надо уезжать. Как раз вовремя для меня.
Той ночью я не вернулся домой, на Фабрику вместе с остальными. Может, виновато стечение обстоятельств, а может, сам Господь снизошел до меня, убрал все препятствия и поставил ту девушку у меня на пути, когда я двинулся к стойке за пивом.
И в поле моего зрения попала девушка, которая что-то говорила.
Звали ее Эйдис.
Я замечал ее здесь и прежде, обычно они с друзьями сидели на первом этаже, за столиком у лестницы. Мы были примерно одного возраста, может, она на пару лет младше. Совсем короткие волосы, тесная джинсовая курточка, которую она никогда не снимала, и презабавно задранный носик. Когда она поворачивалась к барной стойке, сначала высовывался ее носик, будто она сперва принюхивалась к тому, что хотела заказать.
Мы стояли рядом.
Настроение у меня было хорошее. Я смеялся надо всем на свете.
I was deeply unhappy, but I didn’t know it, because I was so happy all the time.
Бар давно закрылся, и, не успев осознать происходящего, я уже сидел на заднем сиденье такси, мчащегося в Коллафьордур, и целовал ее. Не знаю, что на меня нашло в ту ночь, просто казалось, что это самое полезное из всего, что можно было сделать в тот момент.
Поехать к ней домой.
Такси притормозило на обочине. Вокруг, похоже, вообще ничего не было. Открыв дверцу, я выполз наружу, а Эйдис — следом за мной. Ей пришлось тащить меня по тропинке через болотину, где я, несмотря на ее заботу, умудрился поскользнуться, плюхнуться на спину и промокнуть до нитки. Она схватила меня за руку и поставила на ноги, а я все никак не мог понять, зачем ей понадобилось тащить к себе домой эдакого очаровашку, и шлепал по тропинке к ее летнему домику у подножия горы. Мне не хватало близости, и я с радостью принимал все, что попадалось на моем пути.
Эйдис по полгода жила в летнем домике. Электричества там не было, зато был водопровод и газовая плита на кухне. А еще большая гостиная и две спальни. Домик находился в долине, по пути в Стиккид и Лейнар, добраться до него из Сигнабеура на машине можно было за пару минут. Открывающийся оттуда вид был словно вырезан из туристической брошюры. По дороге полз туман, тяжелой пеленой опускался с гор и превращал машины в приближающиеся и удаляющиеся огоньки. Эйдис принесла пледы, захватила из холодильника пару бутылок пива, и мы сели возле дома, у водопада, болтая и прислушиваясь к мычанию коров на поле. Выяснилось, что Эйдис младше меня почти на три года, она училась на садовода-декоратора, и я подумал, что с такой профессией здесь есть где развернуться: этой страной, в которой лишь трава и гравий, еще никто не занимался. Планов у Эйдис было множество, и в ту ночь все эти планы и идеи обрушились на мою голову. Звучало все это неплохо, казалось полезным, ей хотелось, чтобы острова перестали зависеть от Дании, хотелось привлечь на Фареры больше туристов, открыть для них северную природу, мне вдруг почудилось, что она хочет превратить Фареры в Исландию, в лаву и вулканы, Бьорк и Лакснесса. Ее словно мучил комплекс неполноценности, не дававший ей покоя из-за того, что она случайно родилась в неправильном месте, а следовало ей родиться на острове немного западнее. Расплата за то, что родился в стране, частенько не отмеченной на тех картах мира, где вырисованы даже остров Буве, Ян-Майен, Шетландские и Оркнейские острова. Она говорила и говорила, а я послушно выслушивал все, что ей хотелось сказать. И, сидя там, на камне у ручья, я осознал, насколько я влюбился в Фареры, прямо как подросток, со всеми вытекающими травмами. Только там, в тот самый момент, я по-настоящему увидел ситуацию: если США считают себя старшим братом, а большинство других стран понимают, что они — в большей или меньшей степени — братья младшие, то Фареры оказываются воспитанником детского дома, обделенным и забитым, страной, о которой ты вспоминаешь, только натыкаясь на коротенькую статью в газете, и тогда ты думаешь: о, так ты все еще существуешь, что-то с тобой сталось? Я о тебе почти позабыл, но мне тебя все время не хватало… И тебе кажется, что больше ты о них не забудешь, с этого дня все изменится. Однако ты перелистываешь газетную страницу и вновь о них забываешь. Вот о таком я и думал, и мне казалось, что стоит лишь приехать сюда, и ты найдешь все, что искал, что потерял, все пропавшие ключи, нужные телефоны и лотерейные билеты, все свои лучшие заграничные куртки, сбежавших котят и улетевших птиц, всех, кто однажды утром бросил свои дома и уехал, кто ходил вместе с тобой в школу и с кем ты так и не попрощался в последний школьный день, потому что думал, что ничего не изменится и вы по-прежнему останетесь друзьями и будете общаться всю жизнь. Возможно, все это ты нашел бы здесь, в стране утраченного, забытого и потерянного по дороге.
Поднявшись, Эйдис ушла в дом и вернулась оттуда с кассетным магнитофоном. Поставив его на мокрую траву, она нажала на кнопку.
Высокий женский голос и гитарное бренчание.
— Что это? — спросил я.
— Нико. «Chelsea Girl», не узнаешь?
Я покачал головой, музыка была незнакомая.
— Она из Германии. В самом начале выступала вместе с «Вельвет Андерграунд».
— Угу.
Мы послушали Нико, которая снималась у Феллини в «Сладкой жизни», была фотомоделью, записала пару пластинок, Лу Рид написал для нее несколько песен, она дружила с Энди Уорхолом, а потом, в 88-м, в возрасте пятидесяти лет, умерла на Ибице. Пела оно не особенно хорошо, но мне, по большому счету, было все равно. Все так, как и должно быть. I’ve been out walking. I don't do much talking these days. These days I seem to think a lot about things that I forgot to do. And all the times I had a chance to.[90]
Все верно.
Но сейчас не передумаешь, уже поздно.
Поезд ушел. И даже на самолете не успеть.
Начало светать. Заморосил слабый дождик.
«Пошли», — сказала Эйдис. Взяв одной рукой магнитофон, другой она подняла меня и потянула в одну из спален, где стащила с меня одежду и уложила на тесную кровать. Затем она наконец-то сняла с себя джинсовую курточку и, аккуратно сложив ее, положила на стул. Потом она легла рядом, и я судорожно прижался к ней, пытаясь впитать всю человеческую сущность, в страхе, что та может вдруг исчезнуть и я опять очнусь на мокром асфальте неизвестно где. Зарывшись в простыни и утонув в матрасе, я заснул, прислушиваясь к дыханию коров на полях.
Я проснулся первым, и пробуждение было внезапным. Я лежал, прижавшись к стене, одна рука затекла, и с минуту я растирал ее, возвращая к жизни. В комнате было жарко, почти нечем дышать, и мне захотелось немедленно убраться оттуда. Немного подумав, я решил не будить Эйдис. Опершись о прикроватную тумбочку, я привстал и, с нечистой совестью человека-паука нависая над Эйдис, опустил ноги с кровати. Сползая на пол, мне удалось не разбудить ее. Я взял одежду и вышел в коридор, осторожно прикрыв за собой дверь. Быстро одевшись, я взглянул на часы. Половина двенадцатого. Я прошел в гостиную, отыскал на столе ее мобильный телефон и, недолго думая, позвонил Хавстейну — сказать, что уезжаю. Он уже проснулся и собирался куда-то ехать.
— Ты где?
Я объяснил, где я и что со мной произошло. В сокращенном варианте.
— Ну надо же!
— Я уезжаю, — сказал я.
— Домой?
— Да, домой. В Норвегию.
— Ты купил билет?
— Нет.
Мы немного помолчали.
— Я сейчас еду в порт. Хочешь, подброшу тебя до аэропорта?
В этот момент меня начала мучить совесть: ведь я не говорил им, что уезжаю, даже с Эйдис не попрощался, исчез, и все. Да, это у меня хорошо получается. Исчезать.
— Было бы замечательно.
— Тогда я тебя подберу через часок по дороге.
— Спасибо.
— Не за что.
— Хавстейн…
— Что?
Мне хотелось что-то сказать. Но сказал я что-то совершенно другое:
— Мой паспорт лежит у меня в комнате, в ящике. Ты можешь его захватить? И деньги тоже…
— Хорошо.
Закончив разговор, я, поджав хвост, осторожно просочился в дверь, подошел к ручью, возле которого мы сидели вечером, опустился на камень и стал ждать. Через два часа я уже буду лететь домой. Вечером буду в Ставангере. Странно было о таком думать. Время шло, год казался неделей, все происходило так быстро, и так много всего позади, а я и понятия не имел, с чего начать, когда вернусь домой. Я лишь понимал, что пора возвращаться и приводить дела в порядок. Надо бы позвонить Йорну, сказать, что я возвращаюсь, и предложить встретиться. Но его номера я не помнил. Естественно.
За утро туман рассеялся, вокруг виднелись зеленые горы и поля, рассеченные лишь полоской дороги, ведущей к туннелю, в котором исчезали проезжающие машины. Я считал красные машины. За четверть часа никто не приехал. Чувствовал я себя плохо, меня тошнило. Вчера я выпил целый бар. Наклонившись, я опустил голову в ручей и подождал, пока мысли не прояснятся. Сзади донеслось какое-то фырканье. За проволочной оградой у ручья стояла корова, бело-коричневая. Прямо как в рекламе молочного шоколада. Она подошла к ограде, глядя на меня. Я смотрел на корову.
— Доброе утро, — сказал я.
Ничего не выражающий взгляд в ответ.
— Трава по-прежнему зеленая?
Взгляд. Словно расфокусированная камера. Мне стало скучно.
— Му, — сказал я.
Она уперлась в меня светлыми глазами. Долго пялилась. А потом спросила:
— И что ты собираешься теперь делать?
Я уставился на корову.
— Поеду домой, — ответил я.
— Ты правда думаешь, что от этого что-нибудь изменится?
— Не уверен.
— Зачем тогда едешь?
Ответить мне было нечего. Сорвав пучок травы, я протянул его корове. Но она была сытая. Видно, для обеда еще рановато. Дни здесь длинные.
— Ты знаешь База Олдрина? — спросил я.
Корова отвела взгляд. Фыркнула.
— Тебе как кажется, Олдрин был одиноким?
— Почему ты хочешь всегда быть вторым?
— Может, ради свободы.
— Свободы?
— Свободы выбирать, куда ехать и чем заниматься. Не зависеть от того, что твои поступки запомнят. Когда ты была теленком, чего больше всего хотела?
— Стать коровой.
Я медленно кивнул.
— Второго тоже можно расстроить, Матиас. Невидимых не бывает.
Мы уставились друг на друга. Я смотрел в два больших глаза.
— Знай: мы тебя любим. Мы на твоей стороне, Матиас. Знай: ты нужен. Ты знаешь это? Что ты заметный? Что есть люди, которые все бы отдали, только чтобы оказаться рядом с тобой?
Я похлопал корову по морде, корова развернулась и побрела к другой корове, щипля по дороге траву. Я взглянул на часы. Пора уезжать из этой страны.
Через четверть часа возле меня притормозила «субару». Но Хавстейн сидел в машине не один. Все остальные тоже были там. На переднем сиденье сидел Карл, а на заднем — Анна с Палли. Я сел рядом с Анной, и та обняла меня.
— Надо же, — сказал я, радуясь, что они приехали, — психушка в полном составе.
— Даже не надейся улизнуть от нас просто так! — ответила Анна, Хавстейн завел машину, и мы двинулись в сторону Квивика, а потом по туннелю до Ваугара и к аэропорту.
В зале вылетов они прощались со мной, обнимали и давали советы, спрашивали, когда я вернусь, и я немного подумал, а потом ответил, что в октябре. Я точно вернусь в октябре — так я сказал, а затем, попросив их подождать, пошел к стойке покупать билеты. Женщины с белоснежной улыбкой, которую я видел здесь в прошлый раз, не было. Вместо нее сидела пожилая крепко сбитая дама, и сегодня, судя по взгляду, день у нее был неудачный.
— Будьте добры, билет до Осло или Ставангера, — сказал я.
Она посмотрела на меня так, словно за всю неделю глупее ничего не слышала.
— Сегодня нет рейсов в Норвегию, — ответила она.
— Нет так нет. Тогда до Копенгагена.
Вытащив из кармана конверт, я достал деньги. Женщина за стойкой смерила меня взглядом с ног до головы, и показалось, будто она не может решить, достоин ли я лететь в Данию или нет.
— 15.15.
— Рейс в 15.15?
— Да.
— Тогда, пожалуйста, один билет на этот рейс.
— Минуту.
Словно издеваясь, он начала щелкать по клавишам и вглядываться в монитор, будто проверяя, действительно ли на этом рейсе остались свободные места.
— Каким рейсом вы будете возвращаться?
— Пожалуйста, с открытой датой. Пусть мое возвращение будет неожиданным.
Ей это не очень понравилось, она кисло улыбнулась, а может, мне только так показалось. А потом она пробила нужные сведения и цифры.
С билетом в руках я вернулся к остальным, мы взялись за руки, снова обнялись, сказали, что скоро увидимся, что мне пора отдохнуть, — так мы говорили, а я сказал, что им уже пора возвращаться, и Анна пожелала мне счастливого полета, а Хавстейн велел беречь себя и позвонить ему, ну а Карл сказал:
— Ты возвращайся. Не пропадай.
И я ответил:
— Ну, ясное дело, не пропаду.
И на этом мы разошлись.
Ожидая начала посадки, я купил в туристическом магазине несколько футболок, пару деревянных овец и видеокассету с фильмом про Фареры.
Позвонил домой. Сказал, что прилетаю рейсом из Копенгагена.
А потом объявили посадку.
Я стоял, зажав в руке посадочный талон.
Пассажиров было мало. Когда я сел в самолет, нам велели распределиться по салону, чтобы и тяжесть распределилась равномерно.
Проехавшись по взлетной полосе, мы оторвались от земли и исчезли в тумане, и несколько минут за окном висела сплошная серая пелена, но когда мы поднялись над облаками, я выглянул в окно, и солнце светило так ярко, что только прищурившись я смог увидеть голубое небо над нами, море, море, море со всех сторон, а прямо под нами лежала вся страна, покрытая туманом и дымкой. И там по-прежнему лил дождь.
2
Ты помнишь Сергея Крикалева? С 1986 года он был космонавтом на космической станции «Мир». Он вернулся на Землю 25 марта 1992 года, проведя в космосе 311 суток. Крикалев улетел еще в советское время. Когда он вернулся, все изменилось. Советский Союз стал Россией, Ленинград опять стал называться Санкт-Петербургом, а Михаил Горбачев исчез из поля зрения.
То же самое и с моим возвращением в Норвегию. Словно пока меня не было, кто-то поменял местами все кирпичики, перетасовал все карты и придумал какие-то совершенно новые правила.
Я стоял возле багажной ленты в аэропорту и ждал, сам не знаю чего. Багажа у меня не было, во всяком случае, такого, который подлежит проверке. У меня был при себе лишь пакет с купленными в Ваугаре сувенирами, бутылка водки и датские орешки из самолета. Я прошел по зеленому коридору, и на меня никто так и не бросился с победными криками. На меня вообще никто особенно не смотрел.
Когда я вышел, увидел маму и отца. Заметив меня, они просияли, и мне показалось, что с прошлого года они почти не изменились. Может, мама немного похудела, но, возможно, мне только так показалось, потому что пока меня не было, многое в Ставангере изменилось. Здесь не только снесли дома и построили новые гостиницы. Казалось, весь город разобрали по улочкам, а потом вновь собрали, почти как прежде, однако с небольшими изменениями. В моей памяти улицы выглядели немного по-другому. И повсюду были люди. Люди, люди, люди. Машины. И деревья.
Меня обнимали и целовали, потом вывели наружу, посадили в машину и повезли домой, а там заботливо посадили на диван. И вот я сижу на диване, словно ничего и не произошло.
У мамы будто слов не хватало, чтобы сказать, как она рада моему возвращению, и, чтобы лучше выразить свои чувства, она, курсируя между кухней и гостиной, приносила все новые и новые торты, так что я чувствовал себя как в кондитерской. Я послушно съел все, что мне дали, выпил стакан «Соло», налитый мне отцом, и начал пролистывать старые газеты. Я узнал, что примерно в тот день, когда я уехал на Фареры, умер С. Уолтон Лиллехей, спустя сорок лет после того, как он провел первую успешную операцию на сердце. Лишь пару недель назад умер капитан «Аполлона-12», ставший осенью 69-го третьим человеком на Луне. Чарльз Конрад-младший разбился на мотоцикле. Не знаю, может, его отправили обратно, на Луну. А дети — пока меня не было, в Ставангере сотни детей родились! Уровень воды в море превышает подъем почв, вечные, никому не подвластные изменения.
Заглянув мне через плечо, отец поинтересовался, о чем пишут. Неловкая искренняя попытка завязать разговор.
— Умер Эдвард Крейвен Уолкер, — сказал я.
— Кто это?
— Он изобрел парафиновый светильник.
— Парафиновый светильник? — В его голосе даже послышался испуг. — Я совсем позабыл об этом. Где-то лет двадцать назад, верно? У тебя ведь был такой, да?
Ага, был. Когда-то. По-моему, я был одним из первых, у кого в начале семидесятых появился такой светильник. Он тогда назывался астросветильником, я ради него убить был готов.
— Ага, был, — ответил я, — он и сейчас наверняка на чердаке лежит.
Вошла мама. Она принесла кофейник, поставила его на стол и присела рядом с отцом:
— О чем вы говорили?
— О парафиновом светильнике, — хором ответили мы с отцом.
— Ой, я его тут на днях нашла. На чердаке.
Это решило все дело.
Мы поднялись на чердак. Втроем. Немного поискав, мама вспомнила про картонную коробку.
И достала светильник.
Отец отыскал удлинитель.
А я достал бутылку вина.
Потом мы сидели на чердаке, на ящиках с соком, был прекрасный июльский вечер. Мы смотрели, как, мерцая, в лампе нагревается парафин, и пили вино. О такой семье можно только мечтать. Мы разговаривали обо всем, что произошло за год, и когда речь заходила о моем отъезде, меня никто не упрекал. Я рассказывал, как ужасно обрадовался, когда отец приехал ко мне, мама нацепила свою старую купальную шапочку, и мы немного посмеялись над этим, а отец обнял маму и погладил по шапочке, а потом принялся фотографировать нас с мамой. Затем я принес пакет с сувенирами, вручил родителям кассету с фильмом про Фареры, футболки и деревянных овец. А когда родители ушли спать, я остался на чердаке, выпил немного водки и стал смотреть на кипящий парафин. Потушив наконец лампу и забрав бутылку, я спустился вниз, прошел в свою старую комнату с плакатами на стенах и свежим постельным бельем и, забравшись под одеяло, уснул беспокойным сном шестнадцатилетнего мальчишки.
— Тебе больше ничего не нужно? — спросил отец, когда на следующее утро мы складывали мои вещи в машину. И вовсе не удивительно: я положил в багажник ящик со своими старыми книгами про космос и старыми газетами, которые собирался прочитать, коробку с продуктами и кое-что из одежды. То немногое, что я оставил в своей квартире, отец с матерью несколько месяцев назад перевезли сюда и положили на чердаке. По мне, так пусть там и остается.
Кивнув, я ответил, что больше мне ничего не потребуется.
— Так ты приедешь на выходные? — поинтересовалась мама.
— Конечно.
Снова объятия.
Проехав по Сеехюсенсгате, я свернул возле стадиона, где игроки «Викинга» приседали перед тренером, а потом выехал на Мадлавейен, откуда взял курс на юг, к Йерену. Шел дождь. Хорошо вот так проехаться. Сидишь один в машине, слушаешь полузабытые песни по радио и порывы ветра, никогда не попадающие в такт музыке, смотришь, как на пути к Вархаугу и побережью во все стороны убегает земля.
Этот летний домик появился у нас, когда мне было четырнадцать. Дедушка тогда переехал в дом престарелых, и мы стали называть это место «наш летний домик». На самом деле это был обыкновенный дом, и, насколько мне известно, дедушка прожил в нем большую часть своей жизни. Стены впитали бабушкин и дедушкин запах, который никак не удавалось изгнать, запах стариков, которые, сидя в креслах, с удовольствием глядели в окна на валуны, землю, волны и непогоду. А когда дедушка выходил по утрам за газетой, ветер трепал его волосы.
Ветер на Йерене сильный. Сильнее, чем кажется. Прежде чем пойти куда-нибудь, надо сперва твердо решить, куда собрался, а потом нагнуться и двинуться ветру навстречу. Это почти как жить в аэродинамической трубе или пытаться противостоять гравитации. Я представлял, как в ожидании хорошей погоды земледельцы привязывают коров, приколачивают крыши и цепляются за стулья. Когда я был маленьким, мы приезжали сюда каждое лето и мы с дедушкой, поплотнее застегнув дождевики, отправлялись гулять. Ветер дул прямо в лицо, а когда я начинал капризничать и проситься домой, дедушка говорил, что я должен гордиться такой непогодой.
«Почти всем известно, Матиас, что все угри, выловленные в Европе и Америке, родились в Саргассовом море. И почти никому не известно, что все ветра мира рождаются здесь, прямо в этом месте».
В этом я никогда не сомневался. Вроде как не пристало мне сомневаться в том, что говорит дедушка, пусть этим занимается кто-нибудь другой. А потом он, положив мне на голову руку, поворачивал меня против ветра, и мы, словно старые морские волки, двигались к Северной Атлантике, где смотрели, как корабли с удивительным грузом плывут в удивительные места, и дедушка называл меня маленьким Христофором Колумбом, хотя где-то в глубине души он, должно быть, понимал, что ничего особенного мне в жизни не открыть.
Выходя из машины и перетаскивая вещи к двери домика, я сгибался под ветром. Потом я отыскал ключи, открыл дверь и зашел внутрь, впервые за последние десять лет. Воздух был спертым и пыльным, мама с отцом теперь сюда редко приезжали, у них находились другие дела. Отдернув шторы, я распахнул окна, впустив внутрь дождь и свежий воздух. Шторы колыхались, а я начал выкладывать свои вещи на маленький письменный столик, потом поставил на пол ящик с книгами и отнес продукты на кухню. Я раздумывал, не позвонить ли Йорну прямо сейчас. Следовало бы позвонить, сказать, что я вернулся домой, что я по-прежнему старина Матиас, возможно, мы бы встретились, выпили бы по бутылочке пива, я мог бы заехать к нему в Ставангер и мы бы перевели часы на год назад и что-нибудь бы придумали.
Однако звонить я не стал. Я был трусом. Сидя у окна, я собрал с подоконника дохлых летних мух, потом, пересев на диван, просто пялился в стену, затем отыскал в ящике с газетами старый кубик Рубика, собрал три стороны, а еще через полчаса и четвертую собрал. Включил радио. Сообщение для рыбаков. Ненастье на западных банках, всем рекомендуется морская походка. Пытаясь сделать хоть что-нибудь полезное, я сварил кофе, но так и не выпил его. Вытащив из ящика свои старые книги про космос, я сложил их аккуратной стопкой на столе в гостиной и пошел на кухню варить макароны. И тут меня осенило. Не знаю почему, но именно в тот момент я вспомнил о нем.
О Софусе.
Я так и не нашел времени, чтобы приехать к нему в Торсхавн, и писем не писал, как обещал. А вдруг он беспокоился, что со мной что-то случилось? Или возможно, забыв обо мне, нашел новых друзей среди соседей, может, у него и девушка появилась?
Адрес у меня был. В записной книжке, купленной в Клаксвике. Пока варились макароны, я отыскал ручку и бумагу на полке, которую мы с отцом сколотили световой год назад. Сев за кухонным столом, я начал есть и писать одновременно.
Не важно, о чем именно я писал, в основном я рассказывал, почему решил уехать на лето домой, и объяснял, что иногда такое полезно — надо просто вернуться к началу, хотя за это и не платят. Написал — надеюсь, что у него все в порядке и что он нашел новых друзей. И опять обещание. Я пообещал, что вернусь и приеду к нему в гости. Осенью. Возможно, ждать осталось не долго.
В последующие недели я заметил, что отражение в зеркале вновь становится похожим на меня. Раз в неделю, а может, чаще я звонил домой, раз в две недели заезжал, если было удобно. Воскресные ужины. Работал я у Гуннара, который жил по соседству, водил трактор, красил амбар, убирал в хлеву, помогал, когда требовалось. Гуннару было шестьдесят, и это хозяйство досталось ему от родителей, когда ему едва исполнилось двадцать, я запомнил его еще с детства. Я частенько сидел у него на коленях, когда он ездил на тракторе по полям. Трактор был прежний, поэтому в неудачные дни час работы предполагал два часа за починкой. Но это не страшно. Спешить было некуда, картофель давно взошел, клубнику собрали соседские дети, а коровы послушно паслись на поле. Ужинал я обычно с Гуннаром и его женой Эббой. Она рассказывала о сыне, занимавшемся теннисом в Ньюкасле, а я слушал с набитым брокколи ртом и кивал. Не самые интересные рассказы, но почему бы и не послушать, это все равно что радио, аккомпанемент для еды. Гуннар же разговаривал в основном о погоде. А про погоду можно сказать многое. Ведь бывает солнце, а бывает и дождь. Погода может быть плохая и совсем отвратительная, никогда заранее неизвестно. Однако Гуннар всегда был в курсе, он слушал прогнозы и делал отметку в записной книжке, висевшей на стене на веревочке. Гуннар знал погоду за последние сорок пять лет. Четвертое апреля 1958-го? Небольшой дождь и слабый северо-восточный ветер. Тепло. Когда на дороге возле дома останавливалась машина, разговор на несколько секунд обрывался. Вытягивая шеи, они смотрели в окно, а Эбба прищуривалась, пытаясь разглядеть, кто приехал. Выяснив, они продолжали разговор прямо с того места, где остановились, с середины фразы. Это было довольно занятно.
В конце концов Йорн позвонил сам. Произошло это в начале сентября, в пятницу, и когда я услышал его голос, меня тут же начала мучить совесть. Я мог бы поклясться, что он заметил это, как только я сказал «привет», и тут уж Йорн не мог этим не воспользоваться.
— Так ты жив еще, — спокойно сказал он.
— Да, только смеяться больно, — ответил я, пытаясь пошутить. Не вышло.
— И давно ты окопался в Йерене?
Я ожидал, что это будет совершенно по-другому. Сто раз прокручивал в голове наш разговор, каким он мне представлялся. Но Йорн инструкции не следовал.
— Несколько дней назад, — коротко ответил я.
— А может, несколько недель?
— Возможно.
— Я заеду сегодня. Часов в семь.
Я на нашелся что ответить. Йорн положил трубку, и мне оставалось лишь ждать и варить кофе, хотя я знал, что он приедет не кофе пить.
В ожидании я бродил по гостиной. Вот она, возможность исправить ошибки и начать все заново. Я надеялся, что он войдет, сядет на старый стул и польется непринужденный разговор, прямо как до моего отъезда. Я хотел, чтобы ничего не изменилось, как прошлогодняя пыль на подоконнике. Однако все меняется. Горы двигаются, материковые плиты смещаются, а старая дружба ржавеет под дождем.
Когда часы показывали пять с половиной минут восьмого, Йорн указательным пальцем ткнул меня в грудь. По этому жесту я скучал, в надежде, что этим пальцем он будет бесконечно набирать мой номер. Однако в этот раз я не знал, к чему этот жест приведет, и испугался.
Все так хорошо началось. Началось, как и должно было. Язвительный тон, который я услышал по телефону, пропал, и внешне казалось, что все по-прежнему, однако, как только он разулся и зашел в гостиную, я в глубине души понял, что этот разговор может стать последним.
Йорн не спрашивал о Фарерах. Он не просил объяснить, почему меня так долго не было и почему я больше года ему не звонил, и тем не менее я знал, что рано или поздно он об этом заговорит. Мы побеседовали про Йерен, про новый диск «Перклейвы», который довольно хорошо продавался, мы говорили словно с набитым ртом, только вилки с ложкой не хватало, немного повспоминали старые добрые деньки, однако мы не до конца понимали друг друга, будто бродили в потемках, хотя так и должно было быть. Мы оба почувствовали облегчение, когда Йорн предложил съездить в «Чекпойнт», доехать до Ставангера, выпить там по старинке пивка по случаю пятницы, и я ответил: «Ну, ясное дело, давай съездим».
Целый час на машине. Между нами Море Спокойствия.
Когда мы в десятом часу зашли в «Чекпойнт Чарли» на Недре Страндгате, там уже была тьма народу. По пятницам пиво продавали дешевле, народ выползал из нор и прилипал к стульям и барной стойке. Тут собирались все привидения недели. Отыскав маленький столик в самом углу, я уселся за него, а Йорн отправился за пивом. В другом конце зала я, как всегда, заметил пару знакомых лиц. «Чекпойнт» оправдывал свое название. Хочешь знать, что сталось с твоими старыми приятелями, друзьями и одноклассниками? Хочешь узнать поближе продавцов из «Хеннес энд Мауриц», которые выбивают тебе чек и складывают твои покупки в пакет? Тогда ступай в «Чекпойнт».
Я отметился.
Я был на месте.
Среди людей.
Вернулся Йорн с двумя кружками пива, мы сидели за столом и не могли придумать, о чем бы поговорить. Дребезжали колонки, а бармен ставил старые записи «Гарбедж», чьи тексты давно уже были забыты. Народу набивалось все больше и больше, и воздух становился влажным и тяжелым. Постепенно к нам подтянулись друзья Йорна, сперва Роар (он тоже не стал расспрашивать, что со мной произошло), а потом появились остальные, они уселись вокруг, и я оказался зажат между Йорном и бородатым длинноволосым парнем с трондхеймским говором. Я его сразу не узнал, но потом понял, что мы и раньше встречались, зовут его Йорген и он из другой группы, которая ездила с нами на Фареры, «Культа Битс». Говорил Йорген много и быстро, он был одним из самых приятных людей, которых я когда-либо знал. Он сказал, что вчера они и «Перклейва» выступили на Фолкене с таким концертом, что просто улет. Я почти допил третью кружку пива и наконец-то нашел что сказать. Повернувшись к Йорну и перекрикивая «Продиджи», спросил:
— Так вы вчера выступали? На Фолкене?
— А? Что?
— Вы вчера на Фолкене играли? — прокричал я.
— Ага, тебе надо было это видеть, Матиас!
— Ты бы хоть сказал, — произнес я, и только я это сказал, Йорн посмотрел на меня тем взглядом, которого я боялся. Будто он хочет убить меня прямо сейчас, отправить на тот свет и избавить от всех моих мучений или что-то в этом духе. Однако он лишь сказал:
— Ты же все равно не пришел бы, знаешь ведь.
— С чего ты взял? Может, пришел бы? — обиженно спросил я.
— Вот как?
— Что?
— Я думал, тебе плевать.
— Ты о чем это? — Я понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет, но поделать ничего не мог.
— Ты знаешь, о чем я. Ты мне больше года не звонил! Чтобы узнать, где ты и что делаешь, мне приходилось звонить твоим родителям! Да на тебя вообще ни хрена нельзя положиться! Ты все время пытаешься улизнуть! Или просто исчезаешь! Зачем тебе все это? Это все из-за Хелле, да? Тебе все еще так хреново? Может, ты прекратишь наконец вести себя как сраный Курт Кобейн? Как она могла оставаться с тобой, если ты все время прячешься?
— Да что на тебя нашло?
— Нет, это на тебя что-то нашло, Матиас! Я тебя не узнаю. Ладно, слушай. Ты говоришь, что выступать с нами не будешь и петь не хочешь, хотя знаешь, что охренительно поешь! Ладно, не хочешь так не хочешь. Но ты-то что делаешь? На пароме до Фарер ты напиваешься как свинья и орешь на весь бар, что хочешь петь, что ты передумал и хочешь стать вокалистом! Я, ясное дело, обрадовался до смерти, черт, я же всегда хотел, чтобы ты с нами пел. И тут я говорю, что если ты выйдешь на сцену и споешь, то мы дадим тебе тысячу крон. Но нет, ты начинаешь торговаться, как сраная примадонна, тысяча крон — это тебе мало, и пять тысяч тоже мало, и десять мало, тебе надо пятнадцать! Мы скидываемся, складываем всю нашу наличку в конверт и отдаем тебе, потому что мне так хочется, чтобы и другие послушали, как ты поешь. Ты выходишь на сцену, поешь, как всегда, потрясающе, лучше голоса я не слышал, а потом ты словно спятил! Ты отказываешься вернуть деньги! Господи, Матиас, там же было пятнадцать тысяч крон, ты думаешь, нам деньги девать некуда? Чтобы просто взять и отдать тебе пятнадцать тысяч? Я же просто пошутил! Тысяча — еще куда ни шло, но не пятнадцать же! Вот черт. И что ты делаешь? Когда Кристофер пытается отобрать у тебя конверт, ты сбегаешь, выскакиваешь на палубу, а когда он бежит за тобой, ты бьешь ему прямо в рожу! Ты вообще знаешь, что он из-за тебя в больницу попал? Ему же всю рожу пришлось зашивать! Он на одно ухо почти оглох!
Конверт с деньгами.
Содранные костяшки.
Хавстейн все знал, верно? Йорн наверняка рассказал ему об этом, когда они встречались в Торсхавне, иначе и быть не могло.
Но мне никто и словом не обмолвился.
Мэрилин Мэнсон на полную громкость. Я не слышу собственные мысли, только отдельные фразы, вылетающие изо рта у Йорна. Я большими глотками пью пиво и веду себя так, словно у меня есть оправдание.
— Rock is deader than dead,[91] — выкрикиваю я в пустоту, но в мелодию не попадаю.
— Поэтому до приезда мы тебя продержали в трюме, а мне пришлось объясняться с Кристофером, рассказывать, что с тобой произошло, чтобы он не заявлял в полицию. Они же на хрен отменили концерт! А ты просто взял и смотался, как только мы приплыли! Звук нам ставил Йорген, а «Культа Битс» вообще отменили выступление, у Кристофера лицо было изуродовано, он не мог петь! Ты в курсе, что мог в тюрьме оказаться? Или в лучшем случае в психушке. Ты в курсе, что у тебя совсем крыша съехала?
— Как у твоего брата? Может, нас бы поместили в одну палату?
— Притормози, понял? — Йорн ткнул меня в грудь указательным пальцем, совсем как в пять минут восьмого.
Но тормоза были сорваны, и мне оставалось только съехать в кювет. Все остальные молчали и делали вид, что не прислушивались к нашему разговору. Казалось, все в баре умолкли, и я подумал, что в настоящий момент ветер развеивает все сказанное и сделанное на протяжении многих лет.
Бармен ставит музыку из «Челюстей», а может, мне просто почудилось, но я встаю и иду в туалет. Я замечаю, что Йорн идет за мной, пытаюсь затеряться в толпе, но попытка смехотворная, он тоже заходит в туалет, я становлюсь к писсуару, расстегиваю ширинку, пытаясь казаться невозмутимым, но не могу выдавить ни капли, механизм отказывается работать. Бармен ставит «Марш Империи» из «Звездных войн» или что-то в этом роде, ухватившись за мою куртку, Йорн оттаскивает меня от писсуара, я подтягиваю штаны, остальные выбегают из туалета, а Йорн прижимает меня к стенке. Перед глазами маячит его указательный палец, но теперь у этого жеста иное значение.
— Ты что, опять смотаться хочешь? — рычит он. — Да ты совсем охренел!
— Мне отлить надо было! Я…
Я отчаянно прокручиваю в голове подходящие фразы, но не нахожу, потому что все идет наперекосяк, мне хочется сказать, что я вообще не помню, что произошло на пароме, что я болен, я болел, но сейчас уже поправляюсь, я вернулся и теперь дела налаживаются. Но сейчас я не уверен, так ли это, я совершенно потерян. Йорн бьет меня в грудь несколько раз, но лишь вполсилы, я оседаю на пол перед ним и бормочу что-то о том, что он неправильно все понял, а потом входят двое охранников и спрашивают, что происходит. Мы качаем головами, и Йорн отвечает «ничего», тем не менее нам никто не верит, нас выталкивают наружу, проводят по коридору и выводят из бара, сажают на ступеньки и советуют освежиться, подышать воздухом, желательно подольше, пару лет.
Полчаса мы сидим молча. Просто сидим рядом, уставившись в землю.
Но не расходимся.
Я не улизну.
Ни хрена.
В конце концов я открываю рот первым. Я говорю:
— Жалко, что я не смог прийти на концерт. В Торсхавне. Я не знаю, что случилось.
— Ты исчез.
— Да. Все могут когда-нибудь исчезнуть.
— Но немногим удается исчезать постоянно. Почему ты не позвонил?
— Я вышел из строя.
— То есть?
— Ты видел когда-нибудь Большую Медведицу?
— А почему ты об этом спрашиваешь?
— Раньше я любил лежать на берегу в Йерене и отыскивать созвездия. Большую Медведицу было найти проще всего. Она сама в глаза бросается. Но если продолжаешь вглядываться, то все остальное тоже становится похожим на Большую Медведицу. И как тогда понять, действительно ли ты отыскал настоящую Большую Медведицу?
— Я не понимаю, к чему ты ведешь.
— Твой брат все еще в Дале?
Он покачал головой:
— Нет, теперь он живет дома. С родителями.
— Ему лучше?
— Он сидит и пялится на стенку. Иногда в течение дня он может смотреть на разные стенки. Но, как правило, этим и ограничивается. А что все-таки ты там делал? На Фарерах?
— Отдыхал.
— Долго ты отдыхал.
— Да. Я опоздал на паром.
— Целый год опаздывал?
— Время летит. Это не пустые слова.
— Говорили, ты попал в больницу.
— Нет, скорее, меня отправили на ремонт. На починку.
— То есть?
— А разве это не очевидно?
— Господи, да что с тобой случилось? У тебя же все в порядке, разве нет?
— Со мной ничего не случилось. Я думал, ты знал.
— Но почему ты мне не звонил? Целый год? Захотел бы — и я бы в гости к тебе приехал. Я бы помог, если бы знал что-нибудь.
— Я почти ничего не помню. Про тот паром. И про первые дни там. Помню только, как сначала лежал под дождем на дороге, а потом пошел против ветра. Нужно всегда идти навстречу ветру, а иначе тебя унесет в море. Потом я встретил Хавстейна.
— Ага. Постой-ка, ведь я встречался с ним в Торсхавне. Он еще сказал, чтобы мы не ждали тебя и уезжали. Что ты приедешь, как только сможешь. Он психиатр, верно?
— Верно.
— Так ты лежал там в больнице?
— В каком-то смысле. Но сам я этого не понимал.
— Почему?
— Я пытался спрятаться. А это было запрещено. Ты был на островах Карибского бассейна?
— Нет. А почему ты спрашиваешь?
— Просто так. Просто интересно. Я бы съездил туда.
— Счастливого пути. Немного погодя я звонил несколько раз твоим родителям, просто узнать, не вернулся ли ты. Они не очень много рассказывали.
— Не нужна мне никакая поддержка, — сказал я.
— Друзья тебе тоже не нужны?
Я не ответил. А он эту тему не продолжал. Мы немного помолчали, и Йорн заговорил о другом.
— Хорошее было время, — тихо сказал он, — я пару месяцев назад прочитал статью про База Олдрина. Там написано было, что перед полетом «Аполлона-11» очень тщательно проверяли, хватит ли Олдрину психической устойчивости, потому что он мог сам захотеть ступить на Луну первым и оттолкнуть Армстронга в самый решающий момент.
— По-моему, он бы такого не сделал.
— А если я точно знаю, что он подумывал об этом?
— Не верю.
— Так и было. Он пару секунд обдумывал, каковы будут последствия.
— Нет.
— В статье его назвали Бизнес Олдрин. И он никуда не исчез. Тебе только так кажется. Он участвует в куче мероприятий, неплохо зарабатывает на книгах, с докладами выступает, и все в таком духе.
Сказать мне было нечего. Об этом я слышал впервые.
— И еще есть куклы, сделанные по его образу, он снимается в рекламе для «Эппл», «Джей-Ви-Си», «Нортел Нетворкс», «Мастеркард», парфюма от «Живанши» и других больших компаний. Он много раз участвовал в шоу Давида Леттермана, а еще его голос использовали в «Симпсонах». Он, черт бы его побрал, подписал контракт с четырьмя — ЧЕТЫРЬМЯ — фирмами по продаже автографов, которые берут четыреста долларов за отпечаток его подписи на плохом снимке! А фильм? Ты его видел? «Toy Story»,[92] как тебе это? «Buzz Lightyear»![93] Знаменитость, разве нет? Никуда он не исчез. Совсем наоборот.
Меня словно паралич разбил. Бизнес Олдрин. Сделал свое дело и исчез. Я уставился прямо перед собой, а Йорн продолжал рассказывать, что еще Олдрин сделал и к какому множеству вещей приложил руку. Я начал злиться, а потом просто расстроился. Опустив голову на руки, я закрыл глаза и подумал, что Олдрин это не по своей вине делал, просто такова расплата за мировое внимание. Ясное дело, не получится исчезнуть, если полмира пытается извлечь из тебя пользу, потому что ты второй человек на Луне. Но это ничего не меняло. Он навсегда оставался вторым. А мне надо старательнее прятаться.
Йорн понял, что слишком много сказал. Он закурил и сделал вид, что ничего не произошло.
— Как тебе Ольсок на Фарерах? Довольно забавно, правда? Лучший праздник из всех, которые я видел, полный хаос, Дикий Запад в Атлантике.
— Может быть.
— Ты там не был?
— Я мало где побывал.
— А гринд ловил?
— Нет, но я видел, как ловят, — соврал я, — в последние годы во фьордах стало мало гринд.
И тогда я придумал историю, как однажды в сентябре Хавстейн прибежал на Фабрику и закричал нам с Софией, что во фьорд заплывает гринда. И, начав, я рассказал и про Фабрику, и про Софию, а потом и про Палли с Анной, я обо всем рассказал, только не по порядку, а по ходу дела. Йорн задавал вопросы, я отвечал и рассказывал, что произошло за этот год. Время нарезало вокруг нас круги, из «Чекпойнта» и других баров валил народ, отправляясь домой или на домашние вечеринки, а мы словно вернулись к тому давнему вечеру, когда вместе сидели на гладких скалах. Я боялся упустить что-то, потому что этот наш разговор мог стать последним. Уж не знаю, почему я так думал, однако помню, что боялся.
— Вот черт, — сказал Йорн, когда я наконец рассказал почти все, оформив рассказ как историю о лове гринд, которого не видел.
— Ага. Я верну тебе деньги. Те пятнадцать тысяч.
— Да забудь ты о них.
— Что ты! Ясное дело, я все верну.
— Хорошие были деньки, — повторил он, — правда ведь?
— Ага, — ответил я, — просто замечательные.
Йорн посмотрел на часы. Было поздно. Пора собирать кости и двигать. Поднявшись, мы постояли еще чуть-чуть, немного потерянные и уже в похмелье.
— Ну, увидимся, — сказал он, пожимая мне руку, а потом развернулся и направился к зданию почты.
— Увидимся, — ответил я ему вслед, не двигаясь с места.
— Матиас! — обернулся Йорн, пройдя немного.
— Что?
— Береги себя!
Я поднял в ответ руку, и тогда он опять отвернулся, поднялся по ступенькам к почте, обогнул ее и исчез за домами.
Покачиваясь, я немного постоял в переулке, потом свежий воздух добрался до меня, и я отправился вниз по улице до Вогена, где останавливаются такси. Там я пристроился в хвосте и стал ждать. Не я один хотел домой. Все хотели. Домой. Но мне надо было ехать дальше всего и ждать дольше всех. Руки мои висели плетьми, я покачивался и смотрел на асфальт, как вдруг кто-то хлопнул меня по спине и сунул мне в лицо обкусанную сосиску.
— Во как! — произнесло лицо, которому принадлежала сосиска.
Повернувшись, я увидел Гейра, а с ним еще парочку призраков, которые учились в параллельном классе, когда я почти пятнадцать лет назад ходил в школу в Хетланде. Гейр приобнял меня. Такого объятия не дай бог никому.
— Привет.
— Во как! Чего это он говорит?
— Почти ничего, — ответил я.
— Гляньте-ка, он даже поздороваться не хочет со старыми одноклассниками!
— Я только что сказал «привет».
— Это у тебя шутки такие, что ли?
— Как меня зовут? — спросил я.
— Нет, но мы же бывшие одноклассники, нам надо держаться вместе, и все такое. Ты вообще чем сейчас занимаешься?
Я мог ответить что угодно, все равно что.
Я сказал:
— Мы в разных классах учились.
— Чего? Ну, ясное дело, в разных. Ну, колись, чего делаешь сейчас?
— Служу во французском Иностранном легионе, — ответил я, — я целые деревни вырезал. Ты бы видел как!
Он немного покачался, а потом сообщение дошло до его мозга.
— Во как! Кучу денег получаешь небось?
— Ты помнишь, как меня зовут? Мы же ни разу не разговаривали.
— Да чего ты к этому прицепился?
Потом он задумался. Долго думал. Хорошенькую задачку я ему задал. Он ткнул меня пальцем в грудь:
— Томас? Так? Да? Ну, что скажешь?
— Да, — ответил я, — Томас из Иностранного легиона.
Подъехало такси. Подошла моя очередь. Гейр опять уцепился за меня, обронив последний кусок сосиски, и тот плюхнулся на асфальт.
— Черт! Подожди!
Наклонившись, он поднял остатки сосиски, а потом, хватаясь за мою куртку, опять принял более-менее вертикальное положение.
— Может, подвезете нас с Оддгейром? Тебе куда?
— Далеко отсюда, — ответил я, садясь на заднее сиденье и закрывая дверцу. Водитель развернулся и поехал к гостинице «Атлантика», а я назвал адрес и заулыбался. Сидя на заднем сиденье, я расплывался в улыбке, потому что на этот раз у меня действительно получилось, в целом городе и следа моего не осталось, я превратился в прошлогодний снег, и когда мы проезжали по Мадлавейен и сворачивали на трассу, я взглянул на дом, где, по словам Йорна, жили Хелле и Матс. Я готов был поклясться, что на секунду увидел ее в окне и она выглядела счастливой, помахала мне рукой и я тоже поднял руку, чтобы помахать ей в ответ, но не успел, потому что мы свернули с трассы, и мне надо было следить, правильно ли мы едем.
Может, это был слишком скоропалительный вывод?
Может, я был трусливее тупиков?
Нет, не был. Иногда бывает нужно просто уехать.
Иногда тебе приходится сжигать мосты и плыть по морю.
Только капитаны ради посмертной славы тонут вместе с кораблем.
Я же приготовился сесть в спасательную шлюпку. И вернуться на Фареры. Навсегда.
Покачиваясь, я прошел в гостиную, ухватился за дверной косяк, а потом заполз на диван и застыл, глядя на книги, по-прежнему сложенные аккуратной стопкой на столе. Я положил руку на книгу, лежащую сверху. Автобиография База Олдрина. Зачитанная до дыр.
Базу Олдрину тоже частенько приходилось нелегко. Все катилось по наклонной плоскости, но обрыв был круче, чем казался. Началось все незаметно, беда подкралась сзади, в 66-м, после полета «Джемини-12». Он чувствовал усталость, истощение, у него едва хватило сил доползти до кровати, на которой он пролежал, не вставая, целую неделю. И он сам, и его жена Джоан посчитали это вполне естественным: сказался полет в космос, долгие тренировки, человек вымотался, все происходит так быстро. Ясное дело, это расплата. Но все пройдет, правда же? На самом же деле неясные предупреждающие сигналы шли от его собственных нервных центров, но они были слишком тихими, и их никто не слышал. Встав на ноги, он опять принялся за работу, началась новая программа «Аполлон», люди должны высадиться на Луне до начала семидесятых, времени почти не оставалось, Олдрину сообщили, что он войдет в состав команды «Аполлона-11», и он вновь приступил к тренировкам, вместе с Армстронгом и Коллинзом. Шепотом он сообщил Джоан, что, появись у него выбор, он полетел бы с другой экспедицией, более поздней, тогда ему досталось бы меньше внимания и он больше времени посвятил бы научным исследованиям, но больше он никому такого не говорил. Ни звука. Потому что от полетов еще никто не отказывался, а поступи он так — и двое других астронавтов тоже могут оказаться под подозрением. Поэтому он полетел. На Луну. И обратно. Он увидел, как при их взлете американский флаг, установленный ими в Море Спокойствия, медленно падает и поднимает лунную пыль. А по возвращении их ждет море внимания, все хотят поговорить с ним, поздравить его и расспросить. Ну и как там, на Луне? О чем вы думали? Что чувствовали? Каково это — побывать на Луне? Но их не везде хорошо принимают, студенты в университетах забрасывают астронавтов помидорами, потому что полет на Луну обошелся в двадцать четыре миллиарда долларов, которые можно было потратить на что-то другое, война во Вьетнаме в самом разгаре, в мире царит раздор, но Олдрина с женой сажают в самолет и вместе с Армстронгом, Коллинзом и их супругами везут показывать миру. Грандиозное рекламное турне НАСА, он не хотел участвовать в этом, наоборот, чувствовал давление со стороны НАСА, и от одной мысли о том, что он станет продавцом на службе у американской космонавтики, ему становилось страшно. Тем не менее он едет, успокаивая себя тем, что если будет совсем плохо, он в любой момент сможет отказаться, вернуться к программе «Аполлон» и спрятаться от официоза. Но остановить мировое турне не под силу никому, Олдрину сложно, вокруг слишком много людей, их окружает толпа, внимание сдавливает его, газеты выдают недостоверные и лживые статьи одну за другой, утверждают, будто он подхватил лунную болезнь и принес вирус на одном из лунных камней. Олдрину и Джоан приходится тяжело, но они стараются изо всех сил, улыбаясь, принимают ключи от городов, пожимают руки, произносят речи, врач, сопровождающий турне, выписывает Олдрину успокаивающее, но тревога не исчезает. Дела идут все хуже и хуже, и, похоже, именно в Норвегии тревога вырывается наружу. Единственным скандинавским городом, который они посетили, был Осло. Они отобедали в королевском дворце вместе с древним и умудренным опытом королем Олавом, поучаствовали в параде на улице Карла Юхана, который уличные зрители встретили холодно и без интереса, машинально хлопая в ладоши. Во всяком случае, так ему показалось, и он чувствует себя угнетенным, ведь его родители из Швеции, все должно было быть иначе. На вертолете их отвозят в старый домик в горах, и там Олдрин срывается. Он отказывается от ужина, не встает с постели, и Джоан пытается успокоить его, но безрезультатно. Они пьют виски. Разговаривают о том, почему нельзя вернуть прошлое, ему кажется, что он стал подделкой самого себя и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Джоан утешает лучше, чем Красный Крест, но все бесполезно, время идет, а мистер и миссис Олдрин сидят в спальне романтического сельского дома в Норвегии и пьянеют от виски, в первый и последний раз за время всего турне. И плачут. Олдрин плачет, он больше так не может, ему хочется домой, хочется навсегда исчезнуть. В ту ночь они засыпают, прижавшись друг к дружке, словно перепуганные дети, боящиеся волков, которые притаились за дверью. Однако турне продолжается, они стараются держаться.
Ведут себя как ни в чем не бывало.
Становится еще тяжелее.
Срыв.
Для него, человека, побывавшего на Луне, все безвозвратно изменилось.
Наступает трудное время. Ужасное время. Призраки подкрадываются ближе, забиваются под одеяло, Олдрин вылезает лишь посмотреть телевизор. Настроение скачет: мгновения эйфории сменяются долгими периодами парализующей депрессии, о которой известно лишь близким, и когда семейный врач сообщает ему, что необходимо срочное вмешательство психиатров, Олдрин решает оплатить лечение из собственного кармана. Он не хочет, чтобы в НАСА узнали об этом. Принимая риталин, он продолжает выступать с докладами, вплоть до того дня, когда сразу после интервью, данного на одном из банкетов, его находят в вестибюле в слезах. И на этом Баз Олдрин остановился. Все остановилось. По утрам он по-прежнему отправляется на работу, твердо решив закончить дела, но лишь усаживается на стул и часами тупо смотрит в окно, а затем, поднявшись, выходит, садится в машину и едет на побережье. Там он подолгу бродит, пока не убеждается, что время уже достаточно позднее и дома все уже легли спать. Только тогда он возвращается, садится перед телевизором и пьет виски. Это повторяется все чаще и чаще, в конце концов так он проводит каждый вечер, отчаяние затягивает его глубже и глубже, он боится спать в темноте, и поэтому ночами не спит, единственная его надежда на то, что он вообще прекратит что-либо чувствовать. Теперь ему плевать, узнают ли в НАСА или нет, он хочет, чтобы ему помогли, прежде чем все станет непоправимым. Психиатр понимает серьезность ситуации и согласен отправить Олдрина в Сан-Антонио. Олдрин сообщает отцу, что сильно болен, но отец отказывается это понимать: он достиг такого успеха, как же можно настолько себя недооценивать. Отец предлагает повременить, не вмешивать в это дело НАСА, не брать больничный, ведь если сохранить хорошую мину, то теперь он сможет работать, где захочет. Тогда Джоан кричит Олдрину-старшему, что откладывать нельзя, потому что Баз болен, и она готова драться с каждым, кто попытается остановить ее. Баз Олдрин сидит рядом, а она рассказывает психиатру, что подумывала о разводе, но теперь, пока Баз болен, об этом и речи быть не может, только если потом, когда они смогут сесть и спокойно все обсудить, но сейчас, когда он болеет, она готова до смерти за него сражаться. Даже несмотря на то, что в доме чувствуется жизнь, только когда его нет. Она говорит, а супруг ее сидит рядом, положив руки на колени, смотрит на ковер и надеется, что кто-нибудь придет и все это прекратит.
А потом, однажды вечером, когда Джоан и врач уже договорились с больницей в Сан-Антонио, она собирает его чемодан, а Олдрин стоит в дверном проеме, не понимая, чем эти люди занимаются и при чем здесь он.
Эдвин Э. Олдрин госпитализирован 28 октября 1971 года, больница Уилфорд-Холл, база военно-воздушных сил в Бруксе. Два раза в день с ним проводят беседы, он принимает успокоительные и антидепрессанты, тиоридазин. Медленно идет на поправку. Врачи спрашивают, думал ли он о самоубийстве, и он бормочет в ответ, что у него не хватило бы сил выбрать способ, потому что перед ними человек, который устанет, даже если попытается поднять колибри, но он медленно идет на поправку, с каждой беседой ему становится лучше. А высоко над ними астронавты бродят по Луне или вертятся на орбите, и оттуда Земля кажется им пустынной, словно на ней нет ни войн, ни домов, ни людей, ни проблем.
Проходит три года со дня его полета на Луну, он лежит в больнице военно-воздушных сил Лэкленд в Сан-Антонио, Техас. Он подходит к окну, видит полнолуние и тогда решает начать все заново. Баз Олдрин стоит у окна в больничной пижаме и разговаривает сам с собой. Ты побывал на Луне. Ты это сделал. Первым. Повторить такое невозможно. Ни тебе, ни кому-то другому. Поэтому отправляйся отсюда к черту и живи той жизнью, какой пожелаешь.
Но путешествие оказывается долгим.
The melancholy of all things done.[94]
Программа «Аполлон» завершена досрочно.
Для НАСА наступают тяжелые времена, и Олдрин увольняется.
Проработав больше двадцати лет в военно-воздушных силах, он увольняется с должности командира техасского подразделения летчиков-испытателей.
И мало-помалу об Олдрине начинают забывать. В людской сутолоке Баз Олдрин становится незаметным.
Он устал. И год от году не легче.
Он пьет. Теряет контроль над собой, ему тяжело.
Дела идут хуже некуда.
Семья тает. Хлопнув дверью, Джоан Арчер уходит.
И все идет не так, как могло бы.
И тем не менее все так, как положено. Все расставлено по своим местам.
Я постоянно пытался найти тот момент, то мгновение, но так и не смог. Свой самый дальний полет он уже совершил, но это ровным счетом ничего не значит. Так ему из этой ловушки не выбраться. С каждой порцией выпивки он надеется, что тело его уменьшится, он станет таким крошечным, что сможет испариться, раствориться в ткани собственного пиджака, однако выпивка наносит ему лишь удар за ударом. Я стараюсь определить, когда именно Базу Олдрину удалось вытащить самого себя за волосы, в какое мгновение он осмелился додумать эту мысль до конца.
Чтобы стать первым, нужны необыкновенные способности, сила воли и удача.
Однако если ты стал вторым, тебе понадобится огромное сердце.
И поэтому ты, Олдрин, тоже воскреснешь из небытия, придет твое время, все наладится, вся жизнь, потому что можно жить счастливо, даже если никто на тебя не смотрит, можно быть талантливым, даже если тебя не помнят. Свое дело ты сделал, ты был большим винтиком, но многие тебя забыли, и поэтому все у тебя мало-помалу наладится. И ты завязываешь с выпивкой, вновь постепенно принимаешься за работу, и все встает на свои места. Ты опять женишься, восстанавливаешься, разрабатываешь замечательные проекты, выступаешь с докладами. Благодаря тебе мы когда-нибудь все слетаем в космос и увидим то, что ты уже однажды видел. Мне кажется, что за это придет праздник и на твою улицу. И когда у калифорнийского побережья ты со своими детьми будешь нырять за кораллами, когда будешь смотреть телевизор или обнимать по вечерам в ванной жену, ты будешь под защитой.
Я продолжал работать у Гуннара, но он тоже заметил, что в мыслях я был уже далеко. Я стал беспокойным. Вообще-то мы договорились, что я проработаю до конца сентября, но когда я попытался обрисовать ситуацию, он быстро понял, к чему я веду. Он искренне надеялся, что я останусь до следующего года, так он сказал. Однако вовсе не собирается меня переубеждать. Мне самому решать, когда уехать. Я начал готовиться. А потом заметил, что вновь скучаю. Но скучал я не по Йорну. И не по Хелле. Я скучал по Хавстейну. По Карлу. По Анне и Палли. Мне не хватало сходства с кем-то. А еще я скучал по Софии.
Мне не давали покоя мысли о Йорне. Каждое утро я решал, что после работы обязательно ему позвоню. Но так и не позвонил.
Потому что больше меня здесь ничего не держало.
В то время я много думал о Йорне, вспоминал, что мы вместе делали, о чем говорили. Славные были деньки, так он сказал. А разве нет? Да, нам было хорошо, я тогда становился взрослее, а Йорн словно тянул меня за волосы сквозь время. Лучшие друзья. Йорн, Роар, Хелле и я. Теперь же казалось, что я уезжал на целый световой год и все изменилось. С таким же успехом я мог слетать в другую галактику. И, вспомнив рассказанное отцом на Фарерах, я внезапно испугался. Я болел и раньше, я заболел вновь. Знал ли об этом Йорн? А Хелле? Может, они постоянно помнили об этом и ухаживали за мной, словно за больным? И сколько это все продолжалось? Только последний год, когда дела разладились, Хелле меня бросила, а Карстен продал магазин? Или с самого моего детства, всю жизнь? Ведь тем вечером, когда мы с отцом сидели и разговаривали, что-то произошло, верно? Что-то изменилось во мне, я не могу вспомнить, каким был прежде. Эта пленка проявке не подлежит. А затем однажды ночью меня охватил ужас. Ужас от всего, что я разрушил. Он переполнял меня, словно овации на крупнейшем футбольном стадионе мира. Вот только в ладоши никто не хлопал. Словно высадка в Нормандии: вокруг пожары, а звуки кажутся громкими и тревожными. Спокойно лежать в постели я не смог и поплелся на веранду, на воздух, на ветер. Мне было паршиво. Как придурок я стоял на веранде и, по-моему, плакал. А может, чуть не плакал. Помню, мне приспичило чем-нибудь заняться: если я вот прямо сейчас сделаю что-то полезное, в мире опять установится равновесие, полюсы вернутся на свои места, а птицы снова обретут способность ориентироваться в пространстве и, когда придет время, полетят на юг. Рванув к побережью, я принялся выкапывать из земли валуны, оттаскивать их к берегу и укладывать квадратом. Изнутри я наполнил квадратное строение песком. Сумеречный садовник, чудо в перьях, я стер руки до крови, наступило утро, до меня доносился шум проплывавших вдали барж. Помню, мне казалось, что главное — закончить до рассвета, потому что тогда ни один корабль не утонет. Захватив в сарае лом и грабли, я нашел в поле три самых больших камня и, выкорчевав их, покатил по пологому склону к берегу. Орудуя ломом и поглядывая на море, на корабли, я поместил камни внутрь квадрата, а граблями вырисовал на песке нужные узоры. Корабли не собирались тонуть, ничего страшного поблизости не наблюдалось, и, успокоившись, я отложил лом с граблями, улегся на песок и заснул прямо посредине единственного в Йерене каменного японского садика. Мне снился Магнуссон в кимоно и Вселенная, снилось, будто я астронавт, я лечу на космическом корабле, не знаю куда, а потом приземляюсь на какой-то не обозначенной на картах планете, а может, это была звезда. Корабль мой мягко опускается на окраине пустынного города, и, выходя из него, я замечаю, что сила притяжения едва действует, я почти лечу к городу, но там нет ни единой живой души, лишь дома и машины, оставленные у обочины. В одном из переулков мне попадается наконец человек, это Питер Мейхью, который сыграл в «Звездных войнах» Чубакку. Под мышкой у него зажат его волосатый костюм, приветствуя меня, он вежливо кивает. Я спрашиваю, не жалко ли ему, ведь никто не в курсе, что это именно он сыграл Чубакку, а его самого все равно не узнают. И тогда он отвечает: «Я никогда не расстраивался по мелочам», — и показывает на какое-то здание вдали. Я иду туда, захожу в ресторан, наливаю себе пива и сажусь. И мне кажется, что здесь, именно здесь, я и могу поселиться.
Проснулся я оттого, что на меня капал дождь, а в ботинки набился песок. Мне было холодно. Я посмотрел наверх. Небо потемнело. А потом надо мной появилось лицо.
— Матиас, ты что тут делаешь? Ты хорошо себя чувствуешь? — На меня обеспокоенно смотрел Гуннар.
— Да, — буркнул я и потер глаза.
— А что тогда ты тут делаешь?
Я разговаривал лежа. Забавная ситуация.
— Хотел тебя чем-то порадовать.
Поднявшись, я отряхнул с одежды мокрый песок.
— И сделал тебе сад.
— Сад?
Я показал на место, где лежал.
— Это японский каменный садик, — объяснил я, — чтобы восстановить гармонию «дзен». За ним почти не надо ухаживать. Все просто и ясно.
— Вот как? — Гуннар выглядел озадаченно.
Взяв грабли, я провел полоски от одного камня к другому, а потом развернул их и нарисовал две маленьких окружности.
— Вот так и ты делай. Тогда в мире все будет гармонично. Меня этому на Фарерах научили.
Похоже, Гуннар мне не очень-то верил, но я протянул ему грабли, и он нехотя провел пару линий.
— Не волнуйся, у тебя скоро получится.
— Ты ведь скоро уезжаешь?
— Да, завтра, — кивнул я. Он отложил грабли:
— Вернешься на Фареры?
— Ага.
Он вроде даже расстроился. Тяжело вздохнул:
— Ну, удачи тебе. Хорошо, что ты приезжал. Возвращайся, когда захочешь. В любой момент.
— Спасибо тебе, — сказал я, направляясь к дому.
— И не забывай тренироваться, — крикнул я уже сверху, кивая в сторону садика, — скоро научишься.
Я вошел в дом и начал укладывать вещи. Немного одежды. Коробка со старыми книгами про места, где никто не жил.
Естественно, Гуннар позвонил маме с папой, и вечером те примчались с обеспокоенными лицами. Усевшись на диване, они со всей серьезностью отказались от кофе, им вообще ничего не надо было, только чтобы я говорил. Ну, я и говорил, сперва нехотя, а потом начал рассказывать более подробно, я излагал идеи, рассказал о том, что произошло между мной и Йорном, о том, как на Фабрике я скучал по ним. И, к большому моему удивлению, они не возражали. Они сказали, что все понимают. Им хотелось бы, чтобы я остался, но они все равно понимают. Они же смогут приехать, там ведь замечательно, сказал отец. Не упомянул я лишь о каменном садике. Пусть это останется между нами — мной и Гуннаром. А тот сам разберется.
Последний вечер. Я уложил вещи в чемодан и рюкзак. Отец позвонил и заказал билеты, мама выгладила рубашки, хотя я сказал, что это не обязательно. Ей тоже хотелось что-то для меня сделать. И она нагрузила меня едой — яблоками, сыром, помидорами, словно ей не верилось, что там, куда я направляюсь, тоже есть магазины. Мы договорились, что они продадут мою машину, а деньги переведут мне на счет. Гуннар выдал мне зарплату наличными. По его словам, глупо было бы впутывать в это казначеев. «И правда глупо», — ответил я. Мама постоянно обнимала меня, совсем как вдень приезда, и я пообещал часто звонить, по меньшей мере раз в неделю. Буду присылать открытки. Если что случится, обязательно сообщать им. Обо всем. И чтобы я берег себя, уж это они все приговаривали. Я обещал, что буду беречь.
На следующее утро я проснулся рано, лучи сентябрьского солнца освещали Йерен, а море было почти совершенно спокойным. Не видно ни лодки. Позавтракал я стоя, а потом, выкинув остатки еды, вышел и заботливо запер дверь. Пройдя немного по дороге, я встал и с улыбкой дождался автобуса, зажав под мышкой ценную коробку с книгами о космонавтике. В Соле я пересел на автобус до аэропорта, зарегистрировал багаж, прошел в зал вылетов и отыскал там рейс до Копенгагена, откуда в 15.15 вылетал самолет до Ваугара. Я отправляюсь на Фареры. И я скажу Хавстейну, что больше не уеду.
3
Зал вылетов. Опоздания и стюардессы. Я беспокойно бродил по аэропорту Каструп в Копенгагене, безуспешно пытаясь убить время. Однако времени было слишком много, и минуты давили на меня. Отец побоялся, что я не успею на пересадку, и поэтому теперь мне придется ждать самолета на Фареры почти четыре часа. Прошло сорок пять минут. Время вызвало подкрепление, и по залу вылетов, направляясь ко мне, бодро промаршировала скука. Я молил о пощаде, но за меня никто не заступился, поэтому я в третий раз поплелся в магазин электроники и начал заново осматривать все, что уже видел. Электрическое дежа-вю. Вечные сборники песен, маленькие пылесосы и элегантные дорогие компьютеры размером чуть больше почтовой марки. Но мне все это было не нужно. Да и денег не хватило бы. Вместо этого я купил плеер и кассету по самосовершенствованию всего лишь за 149 крон. С удачной тебя покупкой. По смешной цене. Ну и чем мы теперь займемся, дружок?
Ты когда-нибудь задавался вопросом о смысле собственной жизни? Задумывался ли ты, зачем живешь? И что будешь делать дальше? Чувствовал ли ты себя обиженным? Недооцененным? Ничтожным? Эта кассета поможет тебе понять, что ты ценен, у тебя тоже есть цель и путь. Перед тобой открыто множество возможностей. Мир принадлежит тебе. Для начала громко скажи: каждый день на земле — хороший день. Вдохни. Выдохни. Повтори.
Я прослушал кассету четыре раза перед вылетом и еще пару раз в самолете, пока мы не опустились сквозь слой облаков и не приземлились в тумане Ваугара. К тому моменту я уже выучил одну сторону наизусть. Я вдыхал. Выдыхал. Повторял. Когда автобус вынырнул из подводного туннеля на Стреймое, мне казалось, что каждый день на земле и впрямь хороший. Это была неплохая кассета. Легко запомнить. Я сидел в автобусе до Торсхавна, глядел в окно, и мне было хорошо. Мне было необыкновенно хорошо, и я думал, что больше меня ничто не сможет вывести из равновесия. Дождь на стекле. Дворники на лобовом окне пробивали нам путь сквозь дождь и вели нас по размытому зеленому пейзажу. Несколько пассажиров беседовали вполголоса. Молчаливые горы. Я вернулся и больше не уеду.
В половине пятого я вышел из автобуса у причала в Торсхавне. В лицо мне дул ветер, а в животе заскреблось ожидание. Лил проливной дождь, и я промок насквозь, еще не успев выйти за пределы порта. Но это был добрый дождь, снисходительный и многообещающий, он не мог сделать мне ничего плохого. Пока я тащил рюкзак и ящик до «Сити Бургера», мне вдруг подумалось, что кто-то взял огромный моток липкой ленты и неаккуратно приклеил небо к земле и от этого над Торсхавном повис туман. Может, когда Бог учился в первом классе, ему дали такое домашнее задание, самое сложное. В «Сити Бургере» я взял гавайский бургер и «Веселую Колу». По вкусу напоминало бумагу и пластмассу, все правильно. Мне кажется, тогда я был счастлив, как раз в тот момент, когда, дошагав до автобусной остановки на улице Нильс Винтерсгета, ждал автобуса до Гьогва. Я думал, как хорошо опять вернуться на Фареры, и мне не хотелось очутиться ни в каком другом месте, хотелось быть здесь, в Торсхавне, с его разбегающимися на север и юг дорогами, горами, гравием, людьми, лодками во фьордах и водой, которая лилась на голову мне и другим местным жителям. В стране, название которой пишут маленькими буквами, где дни, как и в других местах, бывают удачными и совсем безнадежными, но большинство вполне приемлемо. Стоя на остановке, я думал, что мне следовало приехать сюда раньше, много лет назад, чтобы все вокруг — улицы, здания — стало частью меня и я с закрытыми глазами мог бы пройти от паромного терминала на Какагета мимо гостиницы «Хафниа» и книжного магазина Х. Н. Якобсен до «Кафе Натюр», а оттуда — до кинотеатра «Гавань» или вниз, до булочной Франца Ресторфа на перекрестке Сверрисгета и Торсгета, и дальше, до киоска «Стейнатун», где мы, оставаясь по выходным на ночь в порту, покупали еду. Я бы с завязанными глазами мог отправиться из Торсхавна на север и дойти через горы до Коллафьордура, переплыть через залив до Эйстуроя и Морскранеса, забрался бы на Слеттафьелль и Рейдалстиндур, а потом, сориентировавшись, направился бы к Фуннингуру и Гьогву, прямо до дома. Я стоял на остановке и ждал автобуса, который вот-вот должен был появиться. И в тот момент меня стоило бы сфотографировать (да-да, на «Кодак»), а снимок кому-нибудь отослать.
Но вспышек не было.
Только капли дождя блестели.
Ну и ладно.
Я выбрал долгую дорогу, по которой ездят молоковозы, вышел на Ойрарбакки, а там битый час прождал следующего автобуса у заправки «Шелл». Мы с другими пассажирами шаркали по гравию, поглядывали на часы и были похожи на брошенных детей. Мои показывали половину восьмого. На них уже больше года половина восьмого, а я так и не удосужился купить новые. Но время у меня было. Когда наконец подъехал автобус, мы быстро и деловито разбежались по разным его концам, не помахав друг другу и не обменявшись телефонами. Я задумался, как часто на этой самой остановке стояла София в ожидании какого-нибудь автобуса, ей было все равно какого. Я почти различал ее следы на асфальте. Здесь стоило бы памятную табличку поставить.
Когда мы поворачивали к Гьогву, я едва смог усидеть на месте и вышел из автобуса первым (и предпоследним). За мной сошел старый рыбак, с которым я вежливо поздоровался, хотя он меня не узнал. Отделявшие меня от Фабрики сто с небольшим метров я пробежал, репетируя про себя первую фразу и представляя их изумленные лица, когда я войду в гостиную. Я приехал почти на месяц раньше ожидаемого и представлял, как скажу, что больше никогда не уеду. Нет, только не этот парень. Я собираюсь остаться. Ясное дело.
Однако дверь оказалась заперта. Когда я позвонил, мне не открыли. Не было никакого встречающего комитета и нарастающих оваций, никто не бросился мне на шею, не было признаний, что по мне скучали. Ничегошеньки. На минуту меня охватил ужас, уже испытанный в Йерене, я дергал за ручку, но дверь не поддавалась, она была крепче крепких. Я обошел дом, но все окна оказались закрыты, и мне оставалось лишь ждать, пока кто-нибудь не вернется. Присев у двери на коробку с книгами, я вытащил еще один свитер и шапку, оделся потеплее и, положив на колени рюкзак, изо всех сил съежился, чтобы на меня меньше капало. Но у меня плохо получилось: текло на меня отовсюду, вода просачивалась сквозь одежду, я мерз и жалел сам себя. Я говорил, что мне следовало позвонить заранее и предупредить о приезде, как сделал бы любой нормальный человек, а я вместо этого решил сыграть в чертика из табакерки. Сложность заключалась лишь в том, что открывать табакерку было некому.
По-моему, я задремал, и я точно промок до костей, когда возле Фабрики наконец остановилась машина. Дверцы открылись, и они вышли, все вместе. Я сливался с дождем, и сначала они меня не заметили. Я поднялся, и они, резко остановившись, уставились на меня так, словно глазам своим не могли поверить.
— Матиас? — удивилась Анна. Она подошла поближе. Я стоял на месте.
— Господи, ты что здесь делаешь? — Теперь они все подошли и окружили меня. Должно быть, я выглядел насквозь мокрым. Эдакий взъерошенный тупик, сбитый с толку погодой.
— Мне было скучно, — ответил я, — вот я и приехал раньше. Сюрприз.
— И давно ты здесь сидишь? — спросил Хавстейн.
Да, наверное, не один час. Я до нитки промок.
— Не очень, — ответил я, — а сколько времени?
Без четверти двенадцать. Просидел я тут долго. Это было ясно каждому.
— Где вы были?
Карл посмотрел на меня:
— В кино ездили. Мы же не знали, что ты приедешь.
Мы еще пару секунд помолчали, а потом наша встреча стала больше походить на тот прием, которого я ожидал. Начались объятия, появилась радость от моего возвращения. Настроение у всех улучшилось, они принялись шептать друг дружке, что я, должно быть, добирался сюда вплавь.
— Пойдем, хоть переоденешься! — приказал Хавстейн, и я пошел за ним, а следом за мной — все остальные. Карл нес мой рюкзак. Поднявшись к себе в комнату, я стянул мокрую холодную одежду. В рюкзак тоже просочилась вода, поэтому я одолжил одежду у Хавстейна, но брюки оказались слишком короткими, а рубашка была мне велика. Ну вылитый Чарли Чаплин. Когда я спустился в гостиную, вид мой всех развеселил, Карл открыл бутылку вина, а Анна подошла к музыкальному центру и включила музыку. Я огляделся. Все они здесь. Палли. Карл. Анна. Хавстейн. Но что-то было не так. Найди одно отличие. Не было Софии, и, если присмотреться, по лицам остальных было заметно, что им тоже ее не хватает. Именно в тот момент я осознал всю оглушительность этой пустоты, словно тысяча собак вдруг перестали лаять. И я понял, насколько важно мое возвращение, потому что Фабрика изменилась, ее словно наизнанку вывернули. Мебель и люди — все вроде на своих местах, как и прежде, однако все целиком было совсем непохоже на то место, которое я увидел, появившись здесь в первый раз. Мы словно ждали, что дверь вдруг откроется, кто-то войдет и скажет: «Привет, а вот и я». В тот вечер, за смехом, рассказами, обсуждением наших планов и идей, крылось осознание того, что мы бы всем пожертвовали, все бы отдали, лишь бы София могла вот так вернуться. И если бы это было в моих силах, я повернул бы вспять ветры, нагнал бы туману и вызвал бури. Я бы изменил полярность земли, чтобы компасы вышли из строя. Но все устроено совсем по-другому. Ты ничего не можешь сделать. Потому что Земля прочно висит в вакууме и тебе ее не сдвинуть ни на сантиметр. Тебе остается лишь ждать в надежде, что тебе рано или поздно полегчает, через пару недель, месяцев, через год, но однажды обязательно полегчает. Придет день, и ты опустишь плечи, начнешь ровнее дышать, пульс замедлится, ты поднимешься со стула и перестанешь слепо и равнодушно смотреть перед собой. Ты опять сможешь ходить, шаг за шагом, ты подойдешь к двери, откроешь ее, выйдешь к солнцу или под дождь, однако идти тебе придется осторожно, потому что, пока тебя не было, мир немного изменился, и совсем не так, как тебе бы хотелось. Однако ты заново, метр за метром, учишься ходить, и в один прекрасный день движение налажено и ты опять переходишь дорогу на зеленый свет, у тебя появляются новые ценности, ты начинаешь заботиться о ком-то еще, лето сменяет зиму, время летит, и ты стараешься поспеть за ним, дождь превращается в снег, а тот вновь тает. Ты решаешься наконец выбросить старые газеты, скопившиеся в подвале, ты вытаскиваешь на улицу мешки, битком набитые газетами, и тут-то ты понимаешь, что не можешь определить, о чем именно ты скучаешь сильнее — о людях, которых больше нет, или о чувстве надежности, которое ты тогда испытывал. Ты улыбаешься, и улыбка твоя сперва робкая, потому что ты понимаешь, что эти два понятия невозможно разорвать, все остальное может быть бессвязным, но дорогие тебе вещи всегда связаны и ты по-прежнему здесь.
Карл разлил вино по бокалам. Мы выпили. Хавстейн пил «Веселую Колу» и произносил тосты. Анна танцевала под незнакомую музыку, а Палли расспрашивал меня про Ставангер. Я рассказал, как работал на ферме, как встретился с Йорном. Сказал, что встреча наша не особо удалась, но этого можно было ожидать, ничего удивительного, что все прошло именно так. Как постелешь, так и поспишь.
— Главное, не заснуть навсегда, — сказал Карл.
— Верно, — согласился Хавстейн.
— Я больше не уеду, — сообщил я.
Хавстейн посмотрел на меня в упор:
— То есть?
— В Ставангере мне больше нечего делать. Я остаюсь с вами. На неопределенный срок.
— Ты уверен? Ты сюда переехать хочешь? — спросил Карл.
— А разве есть на свете место лучше?
— Может, и нет.
Все остальные ничего не сказали. В комнате воцарилось молчание, лишь музыка играла. Присев на диван рядом с Палли, Анна понемногу отпивала из бокала, отводя глаза.
— Что-то случилось? — спросил я.
Хавстейн провел рукой по лицу и скрестил руки на груди. Я знал, что это плохой знак.
— Сегодня мы ездили в Торсхавн на встречу, — сказал он.
— И что?
— Нас закрывают.
— То есть?
— Мы попали под сокращение. Фабрику закрывают. Здесь слишком мало народу. А может, она слишком далеко от Торсхавна. И, согласно документам, те, кто тут живет, уже достаточно здоровы и могут прожить самостоятельно. Я так и не понял, чем конкретно это вызвано.
У меня по спине пробежал холодок, я почувствовал тошноту, дыхание начало сбиваться, меня зазнобило.
— А что же будет с нами? — прохрипел я.
— С нами? Ну, не знаю. Анна с Палли получат отступные, им выделят жилье, они будут посещать курсы дополнительной подготовки. Карлу либо придется обращаться за разрешением на проживание, либо уехать из страны. Ты больше не получишь права на работу от регионального управления, и тебе надо будет возобновлять разрешение на работу. С этим я тебе помогу. Эту проблему мы решим, вот увидишь.
— А ты?
Хавстейн пожал плечами. По стеклам стучал дождь.
— Не знаю. Скорее всего, переведут на новое место.
— Когда?
— Через семь месяцев. Двери закроются первого апреля следующего года.
— Черт…
— Да уж.
— И что нам делать?
— Ты о чем?
— Но, господи, мы же не можем согласиться! Мы должны сказать, что так не пойдет! Что они не могут просто взять и закрыть Фабрику! Нам же некуда идти!
Все остальные молчали, они это уже обсудили.
— Матиас, поезд ушел. Решение уже принято. Нам просто-напросто надо найти себе другое применение, только и всего. — А потом он добавил: — Тебе следовало позвонить перед приездом.
Та ночь должна была быть иной. Но все пошло наперекосяк. Открывая все новые и новые бутылки, мы заранее справляли поминки. Планы на будущее умерли, остался лишь крутой обрыв, Кьераг, и мне пришлось постараться, чтобы отогнать страх. Анна поставила старые записи Чарли Паркера, настроение у всех немного улучшилось, забыв о проблемах, мы беседовали о делах, которые шли как надо. Опьянев, мы принялись танцевать, поменяв пластинки, Анна прибавила звук, так что мне приходилось кричать, чтобы меня услышали. Я кричал: все в конце концов наладится, а Анна делала музыку еще громче, тогда я заорал, что все пройдет, все будет хорошо, а Анна включила звук на максимальную громкость, и я прокричал: я так рад, что нашел вас, но из-за «Бич Бойз» меня никто не услышал. Кто-то схватил меня и закружил, закрыв глаза, я танцевал, следуя лишь своему собственному ритму, а музыка словно вгрызалась в стены, застывала, обволакивая комнату и успокаивая нас. Помню, я подумал тогда (подумал, но так и не прокричал): «God only knows what I’d be without you»,[95] а потом песня закончилась, и началась «I know there’s an answer».[96] Оступившись, я свалил лампу, дошагал до дивана и, перевалившись через спинку, рухнул на него. Открыв глаза, я увидел перед собой улыбающееся лицо Хавстейна.
— Вставай, поедем прогуляемся.
— Сейчас? — переспросил я, засмеявшись. Мне было не до прогулок. — А может, отложить до завтра или до следующей недели?
— Нет, вставай же, тебе понравится.
— Вот уж не уверен.
— Зато я уверен.
— Ладно.
По указанию Хавстейна мы тепло оделись и вышли с Фабрики. Он довел нас до машины и распихал по сиденьям, словно тряпичных кукол. Опустив окно, я высунул голову наружу, а Хавстейн завел машину, и мы направились к выезду из Гьогва.
— Куда… куда мы едем? — спросила Анна. Она все смеялась и никак не могла остановиться.
— Сейчас же полтретьего ночи, — сердито пробурчал Палли. Карл задремал на переднем сиденье, голова его болталась из стороны в сторону. Мы повернули на Фуннингур.
— Подождите, сейчас все увидите.
— Я хочу домой, — ныл Палли, — ты не можешь сперва завезти меня домой? Я сейчас не настроен на экскус… эксу… на поездку.
— Палли, тебе свежий воздух только на пользу пойдет. Отпускается без рецепта. И совершенно без побочных эффектов.
Палли в ответ что-то промычал себе под нос и уставился в окно. Хавстейн посмотрел на часы.
— Черт, — сказал он, — время поджимает.
— Ты о чем? — попытался узнать я.
— Подожди — увидишь.
Хавстейн надавил на педаль, и мы рванули по пустынным дорогам к Стреймою, а когда проехали по мосту, он свернул на какие-то маленькие объездные дорожки, и, вцепившись в спинку переднего сиденья, я подумал, что если мы сейчас разобьемся, от нас даже зубов не останется. Но Хавстейн не дал нам разбиться. По бесконечным холмам мы мчались на юг. Далеко впереди я разглядел Скелингсфьялл, и тогда понял, зачем он повез нас сюда.
— Мы сейчас наверх полезем, да?
Подъехав к Скелингуру, Хавстейн подыскивал подходящее место для стоянки.
— Да, мы полезем наверх. Разве не здорово?
Хавстейн быстро шел впереди, а мы, топая по кочкам, изо всех сил старались не отставать. Кочки оказались острыми, идти было тяжело, но мы шли, с каждым пройденным метром открывавшийся вид становился все красивее. Дождик прекратился, а ветер начал понемногу разгонять тучи, было вовсе не так холодно, как я боялся, одна из последних теплых ночей, бабье лето на Фарерах. Схватив за руку Карла, который плелся позади, я потянул его за собой, а Анна шла следом за Палли. Теперь перед нами показались все острова, отсюда можно было разглядеть почти всю страну целиком. Начинало светать, и мы из последних сил рванули вверх по тропинке. Становилось жарко, мы сняли верхнюю одежду, повязали куртки на пояс и принялись подталкивать идущих впереди. Хавстейн крикнул, что осталось совсем чуть-чуть, и даже Палли прибавил шагу, потому что тоже понял, куда мы идем. Эта ночь — одно из самых ярких событий, мы дошли до вершины Скелингсфьялл в два раза быстрее, чем обычно, словно пауки, ползущие по пологим горным склонам. И только мы добрались до верха, из-за далекого атлантического горизонта робко показалось солнце. Лучи его упали на окружавший нас мир и дотянулись до самого Торсхавна, согрели горные склоны, постепенно накрыли всю страну и добрались до нас. Прижавшись друг к другу, мы сидели, облокотившись на камень, слепило солнце, и я помню, как мы смеялись, помню, как кричали, прямо на самой вершине. Помню, что кричать нас заставила красота, мы изо всех сил карабкались туда, чтобы это увидеть, страну, в которой мы жили, и страна эта была красивой, в ней рождались и в ней умирали, но в первую очередь мы кричали потому, что понимали: скоро все закончится. Через шесть с небольшим месяцев все мы разбредемся в разные стороны навсегда, конечно, мы сможем встречаться, но никогда не станем прежними, не будем вместе возвращаться домой, не будем просыпаться под одной крышей закрытой фабрики в Гьогве, где теперь почти никто не живет, почти никого не осталось. Эти крики я помню, крики радости и горя, улетающие в пустоту. Крики горя — из-за денег, доверенных идиотам политикам и принадлежащих стране, которую на министерской бумаге постоянно делили, словно леденцы, из-за предприятий, которые попадали под сокращение, и людей, брошенных на произвол судьбы без работы, без денег, без планов и без будущего, забытых, выброшенных, вычеркнутых из жизни и отданных на растерзание ветру. Тем, кому сейчас несладко, остается только ждать лучших времен, а ведь следующего поезда, автобуса или лодки можно не дождаться, все это говорится лишь ради утешения тех, кто не успел уехать и вынужден начинать все сначала и возвращаться туда, где больше никто не живет. Мы умолкли, а солнце осветило наши лица и сделало их добрыми. Не знаю, может, причиной тому стало взошедшее над горами солнце, а может, значимость и незначительность всего земного, но именно тем утром я внезапно понял, что мы должны сделать. Наклонившись к Хавстейну, я сказал: «Мы поплывем в Карибское море».
— Мы улизнем, — сказал я, — сбежим. Мы построим лодку. Корабль. И уплывем.
Сперва он лишь рассмеялся. Однако, когда он понял, насколько я серьезен, улыбка исчезла.
— Это не так-то просто.
— Будь что будет.
— А не проще полететь?
— Нет.
Это будет корабль. Мы должны его построить. Не знаю, почему я так настаивал, но это казалось мне важным. Может, потому, что мне хотелось, чтобы мы сами это сделали. Осознать, что наши собственные руки могут что-то создать. Последний шаг.
— Но, Матиас, что нам там делать?
— То же, что и здесь. Работать.
— Кем?
— Кем угодно.
Остальные тоже заговорили, и я изо всех сил пытался убедить их в том, что это не просто хороший план, а что другого у нас нет. Сначала они воспринимали эту идею с сомнением, однако мне помог мой оптимизм: его огромный цветной фломастер раскрасил континенты и море, вырисовывая яркие картины и вычерчивая планы размером с футбольное поле. Другого решения я не видел.
— Мы же не в чужую страну поедем. Хавстейн как свои пять пальцев знает Карибское море. Да мы же все читали путеводитель. По многу раз. Мы знаем, куда направляемся. Нам осталось только море переплыть и к берегу причалить. Нас здесь не держит ничего. Только семь месяцев осталось. Может, это наша единственная возможность сделать что-то важное.
Все закивали головами.
— Палли!
— Что?
— Ты же говорил, что всегда хотел построить корабль, верно?
— Ну, не всегда, я просто…
— А ты, Хавстейн, — продолжал я, — ты же двадцать лет этого ждал. Пришло время отправиться в путь.
И хотя никто не произнес этого вслух, все мы знали, что путешествие наше будет больше похоже на эвакуацию. Нам потребуется добрый попутный ветер.
И нам потребуются деньги.
Вновь начался проливной дождик, мы спустились вниз и поехали домой, отсыпаться, в то утро я чувствовал небывалую легкость, мне казалось, что у нас все получится, все хорошо, все на свете взаимосвязано и один-единственный раз в жизни я действительно решил проблему и не сорвался. У нас был план — пусть дурацкий, но зато план. Вялая жизнь, установившаяся на Фабрике после смерти Софии, должна прекратиться. Пора заполнить пустоту действием. Нам нужно работать. Нам нужно многое сделать.
Когда мы вышли из машины возле Фабрики, я отвел Хавстейна в сторону.
— Когда ты разговаривал с Йорном… в тот раз… он рассказывал о… ну… о том, что случилось на пароме? О том, что я… что я наделал?
— Рассказывал. Ты много чего натворил, так ведь?
— Почему ты мне ничего не сказал? Ты же знал, что я ничего не помню.
— Да. И от этого твое состояние улучшилось бы?
— Да. Наверное. Нет, совсем не обязательно.
— Вот именно.
Войдя на Фабрику, мы разбрелись по комнатам, но лег я не сразу. Я вытащил намокшую одежду и убрал самые сухие вещи в шкаф, а остальное развесил на стульях. И тут я вспомнил про них. Книги! Коробка с книгами про космос по-прежнему стояла на улице, под дождем, я же забыл взять их с собой, когда мы заходили! Сердце тяжело заколотилось, я сбежал по лестнице и выбежал наружу, но когда я попытался приподнять коробку, она развалилась, и разбухшие от воды книги упали в слякоть. Опустившись на колени, я принялся лихорадочно подбирать их, пытаясь стереть грязь рукавом рубашки, но страницы слиплись, а многие книги почти развалились, бумага разрывалась у меня в руках, страницы отрывались от старых потертых переплетов и летели в лужи на асфальте. Спасать уже было нечего. Присев на корточки, я смотрел на останки своих книг, которые начал собирать в десятилетнем возрасте: книга 1969 года о полете на Луну, биография База Олдрина, книги о Луне, о Марсе, о Вселенной и далеких уголках, куда никогда не ступит нога человека, звездный атлас, космос, книги о Юпитере и туманности Андромеды, о кометах, сателлитах и метеоритах, которые в любой момент могут свалиться нам на головы и положить конец всему веселью. Я ничего не в силах был поделать. Ни с метеоритами, ни с водой. Осторожно собрав остатки книг и разорванные странички, я подобрал развалившуюся коробку и выкинул все это в урну возле входа, а потом вернулся в дом, тихо поднялся к себе в комнату, залез под одеяло и уснул без снов.
4
Наступила осень. Последняя осень на Фарерах. Та осень словно усилила всеобщую болезнь. Не знаю, может, воздух был недостаточно здоровым. Медленно, но верно мы вернулись к старым привычкам, заболеваниям и внезапным приступам. Хавстейн возобновил лечение Палли и Анны нейролептиками в виде пищевых добавок. Хорошо, что мы решили уехать.
Мы начали строить корабль, и, пока несуществующие деревья сбрасывали листья, Карл рассказал, как он очутился в желтой спасательной лодке, а спустя три недели приплыл к Гьогву. В ту осень мы экономили каждую крону и старались расходовать поменьше. Когда умерла бабушка Палли, мы с Карлом переехали в ее дом на Торсгета в Торсхавне и для начала выбили возмещение за якобы вынужденные поездки из Торсхавна до Гьогва, а потом принялись выискивать лазейки в законах, правилах и предписаниях. Мы обводили администрацию, решившую нас закрыть, вокруг пальца, закручивали бумажные мельницы и получали за это деньги. Не совсем понимая, как у нас все выходит, мы получали то, что требовали. В ту осень мы работали словно муравьи, так что почти забыли о своих болезнях, мы стали тружениками слабоумия на постоянной работе. У нас не было времени, не было возможности передумать, не было другого выхода. Маленький снежок, робко пущенный мной с вершины горы пару недель назад, разросся до огромного снежного кома и теперь со всей мощью катился вперед и мог раздавить всех, кто попытался бы его остановить.
Корабль или жизнь.
Ведь мы же просто видим мир под другим углом? Разве не так Хавстейн охарактеризовал нас, когда я однажды спросил, какова причина наших болезней? А для людей с иным видением мира открываются возможности, каких у тебя никогда не будет. Привилегия душевнобольного, который не ведает, что творит. Мы как-то обсуждали это. Что наши идеи и действия не измеришь общей меркой. Что мы самые странные из Божьих творений. В хорошие дни мы всегда в это верили. И нам можно было придумать что угодно — даже за самую идиотскую идею нас не арестуют. Ведь если тебе бесчисленное количество раз говорят, что ты не осознаешь реальность, а общечеловеческие ценности смешиваются у тебя в голове с ценностями придуманного тобой мира, тогда ты волей-неволей начинаешь таким же образом воспринимать каждую твою мысль. Вот поэтому идея переплыть море на собственноручно построенном корабле тоже оказалась возможной. Меня за такое не осудишь. И под замок не запрешь. Нельзя же обозвать меня в лицо психом. Или идиотом. Меня придется выслушать. И тебе не определить, мои это мысли или так говорит моя болезнь. Делай то, чего от тебя ожидают. И мы проделывали такое на протяжении многих лет. Наверное, именно поэтому наша идея построить корабль никому не показалась безнадежной. Пара дней у нас ушла на обсуждение, и Хавстейн тактично отвергал самые безумные предложения, как, например, последовать примеру Хейердала и смастерить лодку из тростника или сконструировать подводную лодку и, словно капитан Немо, доплыть до островов под водой, а там вынырнуть на поверхность. Мы планировали, делали наброски и высчитывали, так что калькуляторы раскалялись докрасна, а затем пришли наконец к выводу, что должны успеть. Однажды Хавстейн собрал нас на кухне и, усадив вокруг стола, торжественно произнес: Ладно. Поднять топсель!
С того дня все завертелось еще быстрее, мы крутились словно белки в колесе и работали в два раза больше прежнего. С усердием роясь в карманах, мы выкладывали на стол все, что зарабатывали, и я помню, как однажды, съездив в Торсхавн и сходив там в банк, Карл вернулся с улыбкой. Мы сидели на кухне, углубившись в расчеты, и тогда он положил передо мной какую-то бумагу.
— Для корабля, — сказал он, — у меня… у меня были кое-какие сбережения. Мы можем взять их. Если захотите.
Я посмотрел на бумагу. И не поверил собственным глазам.
Сбережения Карла составляли 142 000 долларов. Как раз половину того, что нам нужно.
Вокруг стола воцарилось молчание.
— Что это? — спросил я. — Здесь же почти миллион!
— Где ты их взял? — резко спросила Анна, буравя Карла глазами.
— Я работал фотографом. Несколько лет назад, — коротко ответил он, пожав плечами.
Все промолчали. Карл протянул бумагу Хавстейну, тот нехотя взял ее и, изучив, отложил и вздохнул:
— Карл, это большая сумма. Действительно большая.
— Знаю. Но зато моя предыдущая лодка обошлась мне дешево, — сказал Карл, пытаясь улыбнуться, — хочу на этот раз плыть с комфортом.
— Ты уверен?
Карл кивнул:
— Да, абсолютно.
— Ладно.
Сначала мы молчали. Нас охватило внутреннее согревающее ликование. Потом появились улыбки и слезы на глазах. Мы улыбались. Таких улыбок раньше не было. Мы кричали и бросались на шею Карлу, нашему рождественскому гному, пришедшему в октябре. Мы построим корабль. Во что бы то ни стало. Мы были готовы к эвакуации.
Дальше мы действовали по плану.
Благодаря деньгам Карла мы раздобыли корпус для корабля. С инструкцией в одной руке и инструментами в другой в огромном подвале сварочно-литейной мастерской в Торсхавне мы соорудили корабль длиной сорок футов. Бывало, вокруг работы разгорались нешуточные споры, но в конце концов мы всегда приходили к согласию, и когда у нас что-то не получалось, работали сообща. Потом мы взяли на вооружение метод бутерброда и, смазав корпус клеящим средством, заглаживали и накладывали слой за слоем полиэстер, отвердитель и стекловолокно, стекловолокно, отвердитель и полиэстер, а затем вновь разглаживали, повторяя одни и те же движения бесчисленное количество раз, завершив изоляционной плиткой и дополнительным слоем стекловолокна, полиэстера и отвердителя. И еще один слой стекловолокна на дно — для укрепления. В те дни головы наши были забиты стекловолокном, а по ночам нам снился полиэстер. Положив корпус на другой бок, мы начали все заново, повторяя каждое движение, однако теперь дело двигалось быстрее, мы уже знали, что при готовности стекловолокно меняет цвет и из белого становится прозрачным, знали, что пузырьки нужно разглаживать и что при работе в помещении должно быть восемнадцать градусов. Мы тренировались и учились на собственных ошибках, но деньги заканчивались, и нам пришлось работать быстрее, без промахов и со всей осторожностью. Отвердитель, прослойка, надводный борт, левый борт и правый борт, ошибись мы сейчас — и у нас не хватит денег, чтобы исправить ошибку. Высчитав центр тяжести, мы залили киль свинцом, но наши расчеты оказались не совсем верными, и когда мы пригласили местных моряков на проверку, было уже поздно. Войдя в мастерскую, они искренне посмеялись над нами, сообщив, что корабль у нас получился перекошенный, он все время будет немного крениться в одну сторону. Однако какой-никакой, а корабль мы построили, отвечали мы. И мы занялись отливкой палубы, которую потом прикрепили к корпусу. А потом деньги закончились и появилась неуверенность, которая с каждым днем росла, а вместе с ней смутная тревога: вдруг корабль не поплывет, вдруг он перевернется и уйдет под воду, как «Александр Л. Кьелланд» двадцать лет назад? Но нам оставалось только надеяться на лучшее и убеждать себя, что все будет хорошо и мы доплывем.
Мы с Карлом начали ездить туда-сюда из безмолвного Гьогва, где мы проводили выходные, в Торсхавн. Я вернулся к старой работе по насаждению лесов на Фарерах. Я снова работал вместе с вечными оптимистами Херлуфом и Йоугваном, а Карл нашел работу в порту, разгружал приходящие суда. Ему удалось быстро организовать перевозку, и вскоре за совершенно смешную плату нам привезли с материка все, что требовалось для корабля. После работы я обычно выбирался в город, проходил по сумеречной Эйстари Рингвегур мимо стадиона, где шли тренировки, прислушивался к шуршанию шаров для боулинга, доносившемуся из клуба напротив, спускался по Видарлундин, обсаженной деревьями, мимо художественного музея, заходил в торговый центр, делал покупки и направлялся с пакетами в центр. Помню, мне казалось, за прошедшее время в городе появилось больше растительности, тут и там виднелись сады с огромными деревьями, а на углах улиц выросли кусты. Я подумал, что, наверное, если постараться и насажать побольше, может, они и приживутся, надо лишь сажать, создать пустыню наоборот, чтобы больше было маленьких рощиц, которыми тут так гордились, что даже наносили на карту города. Однако я осознавал: эти деревья еще живы только благодаря строениям, защищающим их от брызг морской воды, которые приносил сюда ветер, и что наша победа над непогодой будет недолговечной. Можно все склоны усадить деревьями, но с каждым новым деревом будет умирать посаженное раньше, и поэтому когда тебе будет казаться, что острова превратились в лес, ты обернешься и увидишь, что из всех посаженных тобой деревьев уцелела лишь парочка. Но я не сдавался. Я снова и снова бросал семена возле уже выросших деревьев, возрождая чувство жизни, а зарплата моя, которую переводили на счет Хавстейна, день ото дня росла.
Я помню, как однажды субботним утром в конце октября Карл сидел на диване бабушки Палли, смотрел в пустоту и тут раздался телефонный звонок. Медленно поднявшись, Карл вышел в коридор и снял трубку. Мне слышно было, как он произнес: да, вот как, а ты уверен? А потом он сказал: хорошо. Вернувшись в гостиную, он произнес одно-единственное слово: гринды.
В ту же самую секунду я вскочил и уставился на него:
— Где?
Карл моргнул.
— Залив Сандаугерди, — ответил он.
Я разволновался. Я не понимал.
— Где это?
— Десять минут отсюда. Пешком.
Помню, как мы бежали. Что было сил мы мчались по Нильс Финсенсгета и свернули к Сандагерди, во рту появился привкус крови, но этой крови далеко до той, что уже плещется там, в заливе. Мы бежим и кричим что-то, не слыша друг друга, но нам все равно, это не важно, и я помню стук наших ботинок по асфальту, помню людей, мимо которых мы проносимся, и толпу любопытных на берегу. Прорвавшись вперед, мы с Карлом чуть было не свалились прямо в воду, где аккуратные фарерцы забивали сотни гринд. Несколько часов назад по всему городу зазвонили мобильники, и народ, побросав свои дела, ринулся к фьорду, куда, по слухам, зашло целых пять стад китов, — бери — не хочу, реши только, на что они тебе. И все, побросав работу, уселись по машинам и, включив радио, помчались на берег. Гринды вошли в залив, вокруг китов поменьше выстроились по шестьдесят — семьдесят лодочек, заманили их на мель, и некоторые из рыбаков начали выпрыгивать в воду, а навстречу им брели те, кто стоял на берегу. В руках у них снасти — багор с толстой веревкой, нацелившись, они вонзают его в ближайшую гринду, разрывая ей ноздри — так дело пойдет быстрее. Вокруг кровь, просто море крови, ботинки и асфальт становятся алыми, вся бухта превращается в алое пятно, багры опытных фарерцев пронзают сотни гринд. С непривычки мне все кажется диким и беспорядочным, однако Хавстейн рассказывал нам про лов гринд, я пытаюсь сосредоточиться и вспомнить то, о чем он говорил. По его словам, здесь нет никакой спешки, действия эти отрабатывались веками, в заливе почти миллион гринд, но китобои не убьют больше положенного, они следуют правилам и предписаниям, устаревшие снасти уже давно никто не использует, лишь у немногих есть разрешение на забой кита, все это мало чем отличается от обычной рыбалки, может, только крови больше, и это вовсе не для развлечения, люди так добывают пропитание, ничего не выбрасывая, а высушенное сало дети едят как лакомство. Так сказал Хавстейн. Пытаясь осознать это, я тяну Карла за собой в толпу, пару минут мы стоим в растерянности, а двух-трехметровые киты плывут к берегу, бьют хвостами по воде, переворачивают лодочки с людьми, пытающимися ухватиться за китовые плавники, — стокилограммовые киты против крошечных людей. Я стою и смотрю на народ в ледяной воде и могу только догадываться, почему они, просидев там столько, еще не окоченели насмерть, но потом вдруг замечаю, что люди засовывают руки в раны китов и их согревает тепло убитых животных. Я внезапно осознаю, что вокруг меня совсем тихо, вовсе не так, как я себе представлял. Мне казалось, что забой гринд сопровождается шумом и ором, но никто не кричит, и у меня такое чувство, будто звук выключили и оставили лишь изображение, только изредка люди с берега дают советы тем, кто в воде. Среди зрителей есть и матери с детьми, те серьезно наблюдают за работой отцов, никто не смеется и не кричит, я пытаюсь пробудить в себе уважение к происходящему и начинаю осознавать торжественность момента, торжественность смерти этих величественных животных, а может, просто потрясение сказывается. Я вижу, как люди в комбинезонах записывают имена китобоев, эти записи пригодятся при разделе туш, когда мясо будут делить по давно забытым правилам, и тому, кто обнаружил китовые стада, достанется целая гринда, по-разному заплатят и тем, кто был в лодках, и тем, кто вытаскивал забитых китов на берег, Хавстейн об этом рассказывал, только я почти все позабыл. Гринд пронумеруют, а потом все китобои получат свою долю мяса и кожи, вот только я не помню, в каких единицах все это измеряется. Здесь этого добра много, хватит на всех, остатки разошлют по всем больницам, всем желающим, а магазинам придется заплатить за товар. Я тащу Карла к кромке воды, и тут кто-то окликает нас, просит схватиться за мокрую веревку — другой ее конец привязан к багру, который один из фарерцев уже воткнул в кита. Схватившись за веревку, мы по сигналу изо всех сил начинаем тянуть ее, мы тянем ее ввосьмером, ноги наши погружаются во влажный песок, мы вытягиваем кита на берег, потом переходим к другой веревке и снова тянем, вытаскиваем их по очереди на берег, и я не могу понять, нравится ли мне это, однако я тяну, делаю то, о чем меня просят, а потом человек в синем комбинезоне подходит ко мне и, узнав наши имена, записывает их в блокнот и просит зайти завтра с утра на бойню, пораньше, часов в семь, и тогда, по его словам, нам дадут столько китового мяса, что до следующего года хватит. В замешательстве я успеваю только поблагодарить его, а он уходит дальше, я смотрю на побледневшего Карла, который уже ухватился за очередную веревку, Карл смотрит прямо на меня и произносит:
— Пойдем отсюда.
— Что?
— Пойдем отсюда. Сейчас же!
Когда мы, мокрые и промерзшие до костей, приехали домой, было уже темно. Мы молча переоделись и опять уселись в машину. Сидя за рулем, Карл невидящим взглядом смотрел вперед, а я, расположившись рядом, включил обогреватель.
— Ты как себя чувствуешь? — спросил я.
— Туннель до Коллафьордура перекрыт, — коротко ответил он, — там до одиннадцати часов дорожные работы. Нам придется ехать через Ойгьярвегур.
— Через горы?
— Да.
Темнота на Фарерах. Я уже рассказывал тебе о ней? Нет? Не говорил, что такая темнота — самая темная в мире? За пределами города ни одного фонаря. По вечерам мало машин. Выключи фары — и ты собственную руку не сможешь разглядеть, даже если поднесешь ее вплотную к глазам и будешь чувствовать ее тепло. Ничего не видно. И нет на свете мест темнее, чем Ойгьярвегур субботним октябрьским вечером, когда льет дождь, а на дороге туман. Стекла запотевают, а вьющаяся по крутым холмам дорога не огорожена. Вот по той дороге мы и поехали. По самой долгой дороге в мире.
Проехав по кольцевой развязке Нордари, мы свернули на Ойгьярвегур, и сначала Карл висел на хвосте у машины, ехавшей впереди, но потом та прибавила скорости и исчезла за холмом. Карл молча сбавил газ и, наклонившись, пытался сквозь автомобильные дворники и туман разглядеть асфальт. Прежде, до начала девяностых, когда туннеля между Калдабаксботнур и Коллафьордуром еще не было, попасть в Торсхавн можно было только через Ойгьярвегур. Сейчас по нему не многие ездили. Во всяком случае, по вечерам. Ясным летним днем лучше дороги не найдешь: катишь себе по ровному асфальту по краю обрыва и любуешься Коллафьордуром и Калдбаком, однако проехаться тут осенью — все равно что вести машину с мешком на голове, да еще и завязав в придачу глаза. В дальнем свете фар отражались маленькие отметки на краю трассы, и самым разумным было держаться середины, надеясь на то, что никто не поедет навстречу.
Мы почти доехали до каменоломни, но тут дождь полил с такой силой, что Карлу пришлось съехать в сторону и остановиться, дожидаясь, пока ливень не закончится. Остановив машину у края дороги, возле большой камнедробилки, Карл выключил двигатель, так что теперь мы сидели в кромешной тьме и прислушивались к ударам огромных капель, изо всех сил пытающихся пробить обшивку. Я не видел его и почти не слышал из-за оглушительных ударов капель. Однако я знал. Случилось что-то серьезное. Он плачет.
— Карл, — окликнул я, — что случилось?
Дождь усиливался.
Лило как из ведра.
— Я больше не могу, — сказал он, — я просто больше не могу.
Уровень воды в море растет.
Нас всех смоет.
Больше я сказать ничего не успел, потому что он сорвался — он кричал что было силы, прямо в темноту, я слышал, как руки его принялись крушить все что ни попадя, как кулаки бились о металлическую обшивку и оставляли на ней вмятины, как ноги с необузданной силой вдавливают педали в пол, наклонившись, мне на мгновение удалось удержать его, но, оттолкнув меня, он прохрипел, чтобы я оставил его в покое. Отодвинувшись, я сжался в комок, а Карл что было мочи колотил кулаками по панели инструментов, и я услышал, как разлетелся пластмассовый экранчик спидометра, а потом вновь воцарилась тишина. И в тот момент я испугался по-настоящему. Меня вновь охватила тревога, в тот момент я понял, что все мы неуправляемы, а Хавстейна здесь нет. Возможно, мы навсегда останемся неуправляемыми, потому что однажды мы уже слетели с катушек и с Карлом тоже что-то случилось, только никто из нас не знал, что именно, хотя мы — София, Анна, Палли и я — много раз говорили об этом. У нас было столько догадок, но все они в большей или меньшей степени были плодом нашей фантазии. Нам казалось, что мы узнаем симптомы. Позже Хавстейн упоминал о СПС. Синдроме посттравматического стресса. Практически единственные достоверные сведения. Однако мы и понятия не имели ни что стало первопричиной, ни каких ситуаций Карлу следует избегать, ни какие действия могут привести к кризису. Нам не разрешалось читать книги по психиатрии. Было такое строгое правило. Поэтому я просто ждал, не зная, чего именно. Может, что погода улучшится. Осторожно подняв руку, я включил в салоне свет. Карл смотрел прямо на меня, и в его глазах я увидел страх, неприкрытый ужас, задыхаясь, он бормотал что-то настолько невнятное, что все словари мира не помогли бы расшифровать его слова.
— Карл, — сказал я, осторожно протягивая к нему руку.
— Не трогай меня, — выкрикнул он, — черт возьми!
— Нет-нет, не буду. — Я быстро убрал руку. Опустив окно, я впустил в салон свежий воздух. В окно закапал холодный дождь, и у нас изо рта повалил пар. Вот так мы и сидели молча в темноте, пока Карл понемногу не начал приходить в себя.
— Не надо было мне сегодня ходить к заливу, — наконец сказал он, — лучше б дома сидел.
Я кивнул.
Я молчал.
Долго.
Мимо проехали две машины, и свет от их фар на секунду прорезал темноту.
Мы сидели.
А потом я решился.
Сейчас или никогда.
Попытка не пытка.
— Я почти ничего не знаю. Что с тобой случилось? Я ведь помочь хочу.
— Ничем уже не поможешь.
— Ну пожалуйста.
— Тебе и правда так хочется это знать?
— Правда.
Сперва он смотрел на меня так, будто и понятия не имел, о чем я. Повернувшись, Карл взял с заднего сиденья бутылку воды и, отхлебнув из нее, положил на колени. Затем он опять посмотрел на меня, но на этот раз взгляд был иным — легким, спокойным. А потом он наконец рассказал всю свою историю, кадр за кадром, то, о чем не знал, возможно, даже Хавстейн.
— All right,[97] — он немного помолчал, — я задам тебе, Матиас, два вопроса. И я знаю, что оба ответа будут отрицательными.
— Ну?
— Ты знаешь, кто такой Билл Хаглунд?
— Нет.
— Ты слыхал про Пилицу?
Я задумался:
— Нет.
— Так я и думал.
— А что?
— Работа у Билла Хаглунда была такая тяжелая, что тебе и не представить. И к тому же у него не хватало ни времени, ни нужного оборудования. И тем не менее он гордился своей работой и делал все, что было в его силах. Но об этом я расскажу позже. Начну с другого, иначе ничего не выйдет. Началось все в Огайо. Я родом из Колумбуса, Огайо. Я профессиональный фотограф и работал в разных крупных и мелких газетах в США. Потом пять лет проработал независимым фотографом в Чечне, Руанде и в Боснии-Герцеговине. За то время я сделал около двенадцати тысяч снимков. Опубликованы были лишь немногие из них, ни одна газета не хотела такое печатать. Позднее многие из них использовались как доказательства в судебных разбирательствах, возбужденных ООН. Ладно, углубляться не будем. Осенью 1992-го я приехал в Боснию-Герцеговину, я был аккредитованным американским фотографом. С сентября по февраль 1993-го я, как и большинство журналистов, жил в Сараево, в гостинице «Холидей Инн». Журналисты старались держаться вместе и обмениваться сведениями. В те годы в Боснии очень многое происходило, и тебя не покидало чувство, будто ты оказался не в нужном месте не в нужное время. Складывалось ощущение, что тебя специально заставляют потерянно бродить среди всего этого бардака, ни черта не понимая. Во всяком случае, именно так мне казалось, и из-за этого я решил уехать из Сараево и отказаться от поручений ООН или Красного Креста, решавших, где я должен находиться. Я поехал в Сребреницу. Ты слышал про это место?
— Краем уха.
— Сребреница была боснийским анклавом, мусульманским городом на сербской территории. Я приехал туда в конце февраля 1993-го, когда про происходящее там уже начали расползаться слухи. Довольно печальные. Сребреница была засыпана снегом, и местному населению не хватало медикаментов, еды, оборудования, дома были разрушены, и люди жили прямо на улице, в снегу. Помню, я познакомился там с врачом из Всемирной организации здравоохранения, и тот сказал, что каждый день гибло двадцать-тридцать человек, необходимо было немедленно эвакуировать тысячи женщин и детей. А в апреле Совет Безопасности, просто чтобы потрепать языками, объявил Сребреницу, Тузлу, Горажде и Сараево так называемыми «Safe Areas».[98] Естественно, ничего не вышло. ООН прислала 170 канадских солдат, которым разрешалось открывать стрельбу, лишь если на них нападут. Так они там и просидели несколько лет, пока весь город не отправился к чертям. Я прожил в Сребренице несколько месяцев, а потом уехал в Руанду. А затем — в Чечню, в Грозный, но об этом рассказывать не буду. Сам прочитаешь. Если захочешь. Ну, я вообще-то не собирался возвращаться в Боснию, мне казалось, у меня уже предостаточно никому не нужных снимков, но однажды утром, это было в марте 95-го, мне позвонил мой друг из Би-би-си. И процитировал Радована Караджича, что он сказал о дальнейшей участи Сребреницы: «Создайте невыносимое положение, чтобы всеобщая неуверенность убила всякую надежду на дальнейшее существование или жизнь в Сребренице». Таковы были планы сербов. А в ночь на 6 июня 1995 года начались бомбардировки. Я пробыл там больше месяца, жил в брошенном доме на окраине города. Канадских солдат ООН сменили нидерландские, а сербские танки стреляли прямо по наблюдательным пунктам в той части города, которая называлась Поточари, по центральной части Сребреницы, по всему городу. А какой шум, Матиас! Он был хуже всего. На город в любой момент мог пролиться настоящий дождь из разрывных гранат. Знаешь, прежде чем упасть, они издают какой-то жуткий визг. Адский звук. А сколько трупов я видел! Помню, однажды во время бомбежки я бежал за какой-то семьей, не знаю куда, я просто бежал следом за ними, и взрыва я не услышал, только вдруг увидел, что женщине в затылок попали две гранаты, они словно стерли ее лицо, в сотые доли секунды оно просто исчезло, споткнувшись, я упал рядом с ней, а ее муж бежал, не останавливаясь, подталкивая детей. Я попытался оттащить ее к краю дороги, не знаю зачем, ведь она уже была мертва, но, может, мне казалось, что ее удастся спасти, но ее прямо у меня в руках буквально на клочки разорвало. Выпустив из рук ее тело, я побежал дальше, к центру, где располагалась база ООН, туда уже рвались тысячи перепуганных людей, и в конце концов нидерландцам пришлось приоткрыть ворота и впустить людей в убежище.
— И все уместились?
— Нет, не все. Людей было много. Слишком много. Людской поток был бесконечным, и за пару дней вокруг базы собрались около двадцати тысяч человек. Сребреница капитулировала, и в город вошла сербская пехота. Нидерландцы отчаянно просили о воздушном подкреплении, но его не было, не знаю, кто именно отказал — может, Клинтон, а может, Ширак, не знаю. А когда наконец начались бомбардировки, было уже поздно. Бомбить было некого. И только после этого людей стали эвакуировать. Сербы усилили атаку и вынудили ООН подписать соглашение, от которого те не могли отказаться. По этому соглашению женщин и детей сажали в автобусы и вывозили в Тузлу, а всем мужчинам в возрасте от 15 до 70 пришлось остаться при поддержке беспомощных представителей ООН. По словам генерала Младича, все боснийские мужчины-мусульмане были потенциальными военными преступниками, поэтому на свободу их выпускали только после допросов. Рюкзаки, чемоданы, документы — целые горы этого добра оставались в Сребренице, а автобусы с женщинами и детьми уезжали в Тузлу. Однако перед допросом, который должен был состояться в городке Братунач, из анклава исчезли четыре тысячи мужчин. Как в воду канули. Но никто не может исчезнуть просто так. Массовые убийства мужчин, находившихся в Сребренице, начались 13 июля, а когда шесть дней спустя все опять стихло, с лица земли исчезли уже более семи тысяч боснийцев-мусульман. Судья Международного военного трибунала назвал это «злом, отметившим мрачнейшие страницы истории». Вот так я и познакомился с Уильямом Д. Хаглундом.
Дождь прекратился.
К нам подъехала машина. Притормозила. Я смотрел на Карла. Он — на меня. Развернувшись, машина остановилась впереди, и свет от фар брызнул нам в глаза. Выйдя из машины, водитель направился в нашу сторону. Он крикнул что-то по-фарерски, но я не все понял.
— Простите, вы говорите по-датски? — крикнул я в ответ.
Он подошел вплотную к нашей машине:
— Вам помочь?
Да, помощь нам бы не помешала. Но он явно имел в виду другую помощь.
— Нет, спасибо, мы просто решили немного отдохнуть, — ответил я смущенно и немного напуганно, — мы скоро уже поедем. — Заулыбавшись, он протянул руку. Кивнув, мы пожали друг другу руки. Да когда же, наконец, все это закончится!
— Хорошо. А то я уж подумал, что с вами что-то случилось. Я просто хотел убедиться, что все в порядке. — Он пару секунд рассматривал нас, будто не доверяя своим собственным словам. — Наверное, туристы?
— Да, — соврал я, сделав вид, что смущен.
— Осторожнее тут, на дороге. В темноте по ней опасно ездить. Обратно поезжайте другим путем.
— Спасибо за предупреждение, — сказал я.
— Не за что.
Мужчина вернулся к своей машине, и мы слышали, как они разговаривают о чем-то с пассажиром и смеются, показывая в нашу сторону. Потом он завел мотор и скрылся за холмом.
Я беспокойно поднял стекло.
— Может, поедем домой, — нерешительно предложил я, — к Хавстейну.
— Знаешь, Матиас, существуют Богом забытые места, — продолжал Карл, будто не заметил всего, что произошло за минуту до этого, — так же как и забытые люди. Сейчас почти никто не помнит о Сребренице, почти никто и слыхом не слыхал о Горажде и никто не знает, что на самом деле случилось в Вышеграде, на мосту над Дриной. В таких местах живут люди, которых забыли, так ничего и не узнав. Там живут те, о ком никогда не говорили и не слышали. Сама жизнь продолжается без них. Вот это и есть ничья земля. Там не живут бывшие знаменитости и нет никаких астронавтов, о которых забыли, потому что они состарились. Там живут лишь те, о чьем существовании ты даже не подозреваешь. И вот на этой ничьей земле в начале лета 1996-го я познакомился с Уильямом Д. Хаглундом. Билл работал судебно-медицинским экспертом, которого Военный трибунал направил в Боснию. Он руководил раскопками братской могилы в Церске и еще в полудюжине мест. И тут он напал на след пропавших жителей Сребреницы. Я встретил его как раз после того, как он вернулся с раскопок в Руанде, и поверь мне, Матиас, человека лучше я не встречал, и мне больно сознавать, что те немногие, кто его знал, надругались над его работой, когда он, закончив наконец раскопки, вернулся к жене и детям в Сиэтл.
— В каком смысле?
— В начале нашего знакомства Билл относился к себе с порядочной долей иронии, может, он был немного странноват, но, во всяком случае, он оценивал свою работу очень придирчиво. Остальные носили униформу ООН — синие комбинезоны, Билл же обязательно надевал на раскопки рубашку, галстук и необычную коричневую широкополую шляпу. К выкопанным телам он относился с уважением и частенько обращался к трупам: «господа». Начиная работу с захоронениями в Боснии, он осознавал, насколько дорога каждая минута. Лето в Боснии короткое, и раскопки можно проводить только с начала апреля по октябрь. Ему к тому же надо было учитывать, что трупы лежат не ровно, не по порядку, как в древних захоронениях, а просто свалены в глубокие ямы. Помню, каждое утро он часами стоял над могилой и просто смотрел внутрь, будто собирая в уме головоломку и пытаясь определить, где чья рука или, скажем, нога, потому что само тело могло лежать намного глубже и если потянуть слишком сильно, рука оторвется.
— Жутко, наверное, было на такое смотреть?
— Ужасно, Матиас. А звук — когда вытаскивали трупы, тот звук я никогда не забуду, когда тела вытягивали на поверхность, мокрая земля издавала как будто глубокий влажный вздох. В Церске было захоронено сто пятьдесят человек. Но это было еще не самое худшее.
— Не самое?
— Нет. После раскопок в Церске мы переключились на захоронение возле футбольного стадиона в Новой Касабе, и там я заметил, что Билл начал уставать. Месяцы уходили на то, чтобы перевезти необходимое для раскопок оборудование. Военный трибунал в Боснии, который попросил провести раскопки, позабыл о финансировании проекта, а в ООН тоже не хотели выделять средства. В самом начале у них ничего не было — ни морга, ни морозильных установок, ни экскаваторов, ни рентгена, ни мешков, ни лопат, даже доехать было не на чем, потому что машин и тех вначале не было. Всего там работали девяносто человек: патологоанатомы, радиологи, археологи, антропологи, прочие специалисты со всего земного шара. Где только они не пытались раздобыть оборудование! На старых военных базах, через друзей и знакомых, им пришлось использовать все свои связи и даже платить из собственного кармана! В конце концов на помощь пришла та организация, в которой работал Билл, «Врачи за права человека». Америка медлила с финансированием, и они оплатили раскопки. «Норвежская народная помощь» выделила несколько натренированных на поиск мин собак, которые обезвреживали могилы перед раскопками. Большинство захоронений находилось на сербской территории, и Хаглунд со своими коллегами боялся, что могилы могут уничтожить, чтобы скрыть следы преступления. Понимаешь, Матиас, для этого одной гранаты хватило бы. Билл попытался убедить НАТО и ООН в том, что по ночам могилы нужно охранять, но тем вмешиваться не хотелось, и они отказались. Они лишь организовали сопровождение на места захоронений и охрану для производивших раскопки. Закончилось все тем, что Билл и некоторые другие специалисты, чтобы вынудить солдат НАТО оставаться у могил, сами ночевали по очереди на местах раскопок. В конце концов я присоединился к ним. Мне казалось, так будет даже проще — не придется мотаться туда каждый день. Я спал прямо в поле, вместе с патологоанатомами и судмедэкспертами, а ночи там были потрясающие! Тебе стоило бы на это посмотреть! Такого ясного звездного ночного неба я нигде не видел. С наступлением темноты я забывал, где нахожусь, слушая лишь журчание ручейка, пение птиц на огромных деревьях и в полудреме вдыхая теплый воздух. Однако Биллу приходилось все труднее и труднее. Просыпаясь раньше других, он сразу принимался за работу, а работали они по двенадцать часов в сутки. Сперва в месте предполагаемого захоронения вбивались скобы, потом их вынимали и нюхали — выяснить можно было только таким образом. А по мере раскопок каждый труп регистрировали, измеряли и помечали маленьким красным флажком. Постепенно таких флажков становилось все больше. Слишком много. Билл показывал их мне и объяснял, как этих людей убивали, связав руки за спиной. Солдатами они не были, отнюдь. Одежда на них была обычная, на некоторых кроссовки, «Адидас», «Левис». Я заметил, что Билла это все тоже угнетало. Он стал более резким, на вопросы отвечал коротко и грубо, выкрикивал приказы, терял терпение и легко выходил из себя. За каждым извлеченным телом тянулась целая цепочка других, и конца этому видно не было. Билл обещал присутствовать и при раскопках захоронений в Хорватии, поэтому ему пришлось постоянно переезжать с места на место, за 250 километров. А тут вдобавок еще и начальник временного морга в Тузле уехал в Штаты, и Билл вынужден был взять его работу на себя. Разрываясь между тремя местами, Билл спал в машине, просто останавливался у обочины, засыпал на пару часов, а потом ехал дальше. За двадцать лет работы ему полагался недельный отпуск, который Билл планировал провести вместе с женой, но он ограничился тремя днями, говорили, что он засыпает прямо во время интервью, и каждый раз, когда я смотрел на него, я замечал, что круги под глазами увеличиваются, а характер портится. А время поджимало.
— Черт.
— Дела шли хуже и хуже. В середине осени начались дожди. Мы принялись за раскопки братской могилы в Пилице, где, по предположениям, было зарыто около тысячи трупов. Для Военного трибунала это захоронение было самым важным. Но дождь превратил могилу в самый настоящий бассейн, и перед тем, как начать работу, приходилось каждое утро сперва откачивать воду. Ничего отвратительнее я не видел, даже фотографировать не мог. Вода разрушила почти все, передо мной был бассейн, наполненный полуразложившимися трупами. Как-то раз в одну из последних ночей мы с Биллом дежурили у могилы. Проснулся я тогда оттого, что за шумом дождя мне послышался какой-то звук. Встав, я выбрался из палатки, но ночь была такой темной, что на расстоянии метра я уже не мог ничего разглядеть. Отыскав рядом с Биллом фонарик и пистолет, я захватил их с собой. Я услышал собачий лай и понял, что собаки, они… ну… подобрались к могиле… и они… господи… я увидел, как они… и я решил просто отогнать ту собаку от могилы, чтобы она ничего не испортила, я подошел могиле, медленно, шаг за шагом, а из-за ливня я даже земли под ногами разглядеть не мог и пытался ориентироваться по запаху, я подошел к самому краю и включил фонарик, но ничего не увидел, собака исчезла, может, спряталась, а может, убежала домой, я развернулся, и тут она прыгнула на меня сзади, я оступился, ноги заскользили, я перевернулся и полетел в могилу…
Замолчав, Карл уставился прямо перед собой. Я хотел похлопать его по плечу, но он резко дернулся, и я убрал руку.
— Карл, может, не надо, может, мы…
— И я закричал, раньше я так никогда не кричал, я закрыл глаза и начал звать Билла, я не мог смотреть на это, но человек видит, он чувствует даже с закрытыми глазами, не дай бог никому такое пережить, мне казалось, что я словно увязаю в зыбучих песках, меня затягивает все глубже и глубже, я барахтаюсь, машу руками, но пальцы мои нащупывают лишь гнилую мокрую плоть, а запах был такой, что тебе и в страшном сне не приснится, я зову Билла, и мне кажется, он прибежал лишь вечность спустя. Он прибежал прямо в пижаме, схватил меня за руку и вытащил наверх. Он жутко рассердился, я попытался объяснить, что произошло, но он рвал и метал. Я решил, что с меня достаточно, и на следующее утро вернулся в Сараево, поселился в гостинице и несколько дней пытался отмыться, целую неделю отсыпался, а потом улетел в Лондон. Тогда я принял решение, что никогда больше не сделаю ни одного снимка.
Карл замолчал. Не проронив больше ни слова, закрыв лицо руками, он плакал. Помочь ему я не мог, поэтому мне оставалось только дождаться, когда он немного успокоится, пересесть на его место и доехать до Коллафьордура, а оттуда добраться долгой дорогой до дома. Мы приехали на Фабрику около девяти вечера, почти на полтора часа позже обычного. Постукивая по часам, к нам вышел Хавстейн. Он, похоже, сердился. Я едва успел выйти из машины, а он уже стоял рядом со мной.
— Где это вы болтались? — спросил он. Я посмотрел на Карла: тот стоял с потерянным видом, уставившись вперед невидящим взглядом.
— Двигатель отказал, — ответил я, — неисправность в машине. И пришлось ехать по Ойгьярвегуру.
— Это еще почему?
— Дорожные работы в туннеле.
— И у вас вдобавок двигатель отказал?
— Да, но мы его исправили. Нашли в багажнике пусковые провода и поймали на дороге машину.
Хавстейн недоверчиво посмотрел на меня. Мне это не понравилось.
— В этой машине нет пусковых проводов.
— Надо же. Да уж, тогда понятно, почему мы так долго возились, — ответил я, попытавшись улыбнуться.
Усмехнувшись, Хавстейн перевел разговор на другую тему:
— Забой гринд сегодня видели?
Рассказывать я побоялся.
— Нет. Проворонили.
— Ну-ну. Пошли. Ужин вас уже полтора часа дожидается. — Хавстейн махнул рукой, пропуская нас в дом, и пробурчал что-то о доверии, но я не расслышал, что именно.
Тем вечером мы ужинали в одиночестве, остальные давно уже поели, но так нам было даже лучше. На разговоры как-то не тянуло, и когда все по очереди ушли спать, мы с Карлом не возражали. Мы продолжали сидеть на диване. Все было в порядке — почти.
— Тебе лучше?
Карл несколько раз кивнул:
— Да. Спасибо. Ты же не сказал ничего Хавстейну? — Он вдруг испытующе посмотрел на меня. — И ты никому не скажешь ни слова о том, что я тебе сегодня рассказал, ясно? Никому!
Мне было ясно.
— А что ты сам рассказывал Хавстейну?
— Ничего. То есть я сказал, что прожил год в Боснии. Что ничего особенного там не произошло, просто у меня нервы слабые. И что у меня брак распался.
— Это правда?
— Да. У меня и дети есть.
А затем Карл продолжил рассказ с того места, на котором остановился на Ойгьярвегуре, но теперь он говорил спокойнее. На этот раз он подробнее рассказал про Билла Хаглунда. В октябре 96-го года, откопав за год 1200 человек, Билл вернулся домой, в Сиэтл. Он уложился в сроки, указанные Военным трибуналом, однако спустя неделю по возвращении в Штаты ему сообщили об отстранении от должности в связи с результатами его работы в Боснии. Начали поступать жалобы на его стиль руководства, на то, что захоронения находились без присмотра, части тел регистрировались неверно и тому подобное. Естественно, Хаглунд рассердился, оскорбился и расстроился, оно и понятно, ведь он совершил невозможное — пять массовых захоронений за три месяца, без помощи и оборудования! В конце концов с него сняли все обвинения и сказали, что на его месте любой поступил бы так же, но все равно было неприятно. Потом Карл опять принялся рассказывать о себе: он переехал в Лондон, просто так, чтобы пожить в цивилизованной стране, и там, в гостиничном баре в Кенсингтоне, познакомился со Стиной. Она была исландской актрисой в Национальном театре Рейкьявика и приехала в Лондон за неделю до их встречи, потому что получила маленькую роль в английском фильме. Ради нее Карл остался в Лондоне еще на три недели, а когда ей пришла пора возвращаться, она, скорее просто в шутку, предложила ему поехать с ней в Исландию, и Карл согласился. Его никто нигде не ждал, он был предоставлен самому себе, газеты и Военный трибунал хорошо платили за боснийские фотографии, и он подумал, что ему будет полезно уехать подальше от Боснии и Руанды. У Стины была маленькая квартирка на окраине Рейкьявика, в которой они и ютились несколько месяцев. Квартирка была совсем крошечной, может, поэтому Стина быстро забеременела. Когда выяснилось, что у них будут близнецы, они, продав квартиру, переехали в дом в Акранесе. Стина по-прежнему ездила на работу в Рейкьявик, а Карл стал чем-то вроде домохозяйки: сидел дома, чинил, убирался, наводил порядок, и ему это нравилась, спокойное было время. В июле того же года, когда она была на шестом месяце, они сыграли в Рейкьявике пышную семейную свадьбу, а когда в октябре родились близнецы, в доме воцарилась настоящая семейная идиллия. Сидя дома, Карл занимался детьми. В это время у него начались проблемы со сном. Ему все чаще стали сниться кошмары, и сознание начало давать сбои. Воспоминания о Боснии, Чечне и Руанде превратились в однородную массу, и отвлечься от них стало невозможно. У него появился страх за детей. Когда они играли в песочнице, ему казалось, что в песке зарыт труп, что он даже видит кроссовки и чувствует запах разложения. В конце концов он запретил детям играть в песочнице. Вместе с этим у Карла усилились головные боли, мигрени, его мучило чувство, что детям с ним плохо, что они начинают беспокоиться и испытывать неуверенность. Рассказать обо всем Стине он не осмеливался, он сказал лишь, что работал фотографом, но утаил, где именно. Спрашивала она нечасто, и он каждый раз рассказывал об Америке, о своей жизни до отъезда в Европу. Но постепенно она поняла: что-то не так, хотя что именно — оставалось для нее загадкой. Карл становился все более и более странным, и это стало невыносимым. Она начала бояться оставлять детей с ним наедине и устроила их в детский садик, но это не помогло. Депрессия пускала все более и более глубокие корни, Карл стал неразговорчивым и спал целыми днями. Грань между явью и сном медленно стиралась. И вот в один из таких дней, в начале декабря, когда Рейкьявик и Акранес уже украсили к Рождеству, Карл проснулся, позавтракал, оделся потеплее и вышел на улицу. Доехав на автобусе до Рейкьявика, он пересел на другой, который шел до аэропорта в Кефлавике. Оттуда он долетел до Эгилстадира, а потом, снова пересев на автобус, отправился в порт в Сейдисфьордире. С наступлением темноты он пробрался на борт большого корабля. Осторожно опустив на воду спасательную шлюпку, спрыгнул в нее. Потянул за стропы, и конусовидная шлюпка тут же надулась. Сам он не до конца понимал, что делает, это был не сон и не бодрствование, и единственная крутившаяся в голове мысль заставляла Карла бежать, прочь, немедленно, пока он не сломал жизни собственным детям, прочь от трупов, зарытых в песочнице, которые в любой момент могут выбраться наружу и рассказать Стине все его тайны. Схватив весло, он выводит шлюпку в море, гребет до изнеможения, а затем падает на дно и засыпает. И впервые за несколько месяцев он спит всю ночь, его не мучают кошмары, не тревожат резкие звуки и звенящая головная боль. Утром Карл в волнении просыпается, в голове у него прояснилось, и он обнаруживает, что плывет по Атлантике в резиновой шлюпке. Сперва у него перехватило дыхание, и его обуял страх. Испугавшись до смерти, он плотнее залепил надувное отверстие. Шлюпку несло по волнам, и несколько суток ему пришлось довольствоваться несколькими квадратными метрами резины. Он не знал, где находится и куда плывет, но когда здравый смысл возобладал над страхом, Карл предположил, что вскоре его подхватит Гольфстрим и рано или поздно он причалит где-нибудь в Норвегии или Англии. Главное, продержаться. Дни идут своим чередом, он учится управлять шлюпкой, находит в бортовом кармане небольшой запас пресной воды, рыболовные снасти, сигнальные огни, крем от солнечных ожогов и карту моря. Ему удается открыть шлюз на дне, и теперь он может отрегулировать уровень воды в шлюпке и ослабить качку. Ему удается выжить. А дни идут. И впервые после возвращения из Боснии он сожалеет, что у него нет фотоаппарата и он не может фотографировать из шлюпки. Однако фотоаппарата нет, а провоевав неделю против встречной волны, он понимает, что его относит назад, запасы питьевой воды заканчиваются, несколько дней не удается поймать ни одной рыбины, да и шлюпка повредилась: ее начало сильно кренить набок, должно быть, где-то протечка, однако выяснить, где именно, Карл не может. Задраив шлюпку, он ждет, ждет, почти двое суток, а когда вновь набирается смелости и выглядывает наружу, обнаруживает, что вокруг темно, а вдали виднеется берег, он видит землю. Карл убежден, что это Норвегия, он впервые за несколько недель хватается за весло и яростно гребет к берегу. Случилось это в канун Нового года, шлюпка все глубже оседает в воду, она дала течь, это становится очевидно, Карл гребет изо всех сил, но встречную волну преодолеть не может, течением его относит все дальше от берега. Ему кажется, что на берегу люди, может, просто почудилось? Но нет, там действительно люди — в тот самый момент они пускают новогоднюю ракету, Карл отмечает, что сердце забилось быстрее, ведь на берегу и правда люди, он хватает сигнальную ракету, и над морем вспыхивает красная точка, и он понимает, что те, на берегу, тоже его заметили. Он гребет к берегу, но волны вновь отбрасывают его назад, шлюпка наполняется водой, она медленно тонет, и тут он видит, как двое садятся в старую деревянную лодку и плывут к нему, он кричит от счастья, но то ли из-за ветра с дождем, то ли потому, что силы его на исходе, его никто не слышит. Деревянная лодка приближается, поэтому он начинает собирать пожитки, а в следующий момент он уже сидит на большой кухне и поздравляет нас с Новым годом.
Вот и вся его история. Всё. Больше мы об этом никогда не говорили. Карл лишь повторил, что сказал за несколько часов до этого — я никому не должен ничего рассказывать. Я искренне пообещал ему это, хотя сгорал от любопытства: мне так и хотелось спросить, зачем он соврал Хавстейну. И еще мне хотелось спросить о Софии — почему он казался таким хладнокровным, когда она умерла, может, из-за того, что пережил прежде? Я даже было рот открыл, но не спросил. Потому что мне уже достаточно рассказали.
Пришел ноябрь, он принес все, что и полагается. Узнав историю Карла, я стал лучше его понимать, словно теперь он начал вписываться в действительность. В какой-то степени мне было легче от понимания, что его болезнь серьезнее моей, будто я мог теперь заботиться о нем, а может, мне просто так казалось — возможно, он, живя со мной под одной крышей в доме на Торсгета, воспринимал меня так же. Мы начали лучше понимать друг друга, и каждый изо всех сил старался не растревожить другого. При Карле я никогда не упоминал о забое гринд, старался, чтобы он не наткнулся на фильмы или передачи о войне, если где-то проводились дорожные работы и асфальт бурили пневматическим буром, я заранее предупреждал Карла, чтобы он, внезапно услышав звук, не испугался. На ночь я включал ему свет. Чаще всего ужин тоже готовил я, стараясь, чтобы он ел как можно меньше жирного. Карл же в свою очередь старался облегчить жизнь мне. Он разрешал мне постоянно слушать альбомы «Кардиганс», которые достались мне от Софии, поэтому до самого вечера звуки шведской поп-музыки наполняли гостиную, а я сидел, прижавшись к колонкам, и, словно опытный археолог, пытался в музыке отыскать ее следы. Когда соседи принялись жаловаться, Карл купил мне наушники, так что я мог слушать музыку на полную громкость и никому не мешал. Еще Карл старался, как мог, подбадривать меня и говорил, что моя работа на Хвитансвегуре действительно важна, что корабль мы вот-вот достроим и что мне не из-за чего волноваться. Он напоминал мне звонить раз в неделю, по четвергам, в четверть восьмого, отцу и маме, и я звонил и говорил, что у меня все хорошо, жизнь продолжается. Про корабль я им ничего не сказал.
Жизнь в Торсхавне была не такой, как в Гьогве. Город напоминал мне Ставангер, севший после стирки в три раза. По вечерам после работы мы с Карлом стали ходить куда-нибудь, проводили много времени в «Кафе Натюр», где выпивали литры кофе или пива и где нас уже знали все официанты. Мы играли в боулинг или ходили в кино на Тингхусвегуре, нам, по большому счету, было все равно, какой фильм смотреть. Забредая на Нильс Финсенсгета, мы иногда заходили в «Манхэттен», если Карлу хотелось послушать живую музыку, а бывало, доезжали до «Бургер Кинга» рядом с торговым центром. Скучать нам не приходилось. Вообще. И еще мы разговаривали, и разговоры наши были похожи на бесконечные романы, которые начинались рано утром, продолжались, когда мы возвращались с работы, и тянулись до ночи, а потом будто застывали в ожидании следующего дня. Мы разговаривали о том, что, как нам казалось, должно произойти, о выздоровлении и о корабле, о том, что мы будем делать и куда поплывем. Сперва я считал, что Карл боится вновь выходить в море, но теперь казалось, что нет, сам он ничего не говорил, а я не спрашивал. В любом случае останавливаться было уже поздно. Первого апреля мы отправимся в путь, взяв курс, как мы вместе решили, на Гренаду или Тобаго, мы пойдем по следам Колумба и тогда не наследим сами. Мы научились правильно расходовать деньги, но нам все равно приходилось торопиться. Оставалось поставить корабль на воду, продолжать работу, и в конце концов все получится.
А потом выпал снег. Всего за пару ночей столько снега нападало! Перво-наперво за две недели до Рождества, в одну снежную субботу, перекрыли дорогу до Гьогва, и мы на три дня оказались отрезанными от мира. Мы бродили вокруг Фабрики и, в ожидании лучших времен, лепили снеговиков, а когда дорогу наконец расчистили, к нам пробился почтальон, с письмом для меня. Я принес его на кухню и нетерпеливо разорвал конверт, недоумевая, кто же это додумался написать мне письмо. Я быстро пробежал его глазами.
Оно было от Софуса!
Получив письмо от меня, Софус написал мне из Торсхавна ответ на шести страницах и отослал его в Норвегию, в Йерен, откуда его переслали сюда. Свернувшись калачиком на диване, я читал письмо все утро, читал про жизнь в Торсхавне, про школу, про Оулуву, которая по-прежнему жила в Копенгагене и с которой Софус уже долго не общался, но у него, да будет мне известно, появилось множество других знакомых, в этом он преуспел, и еще недавно совсем рядом с их домом был забой гринд, написал он. И я подумал, что ведь тоже ходил туда, но тебя не видел, может, потому что не искал, а почему же я не попытался тебя найти? И тут мне в голову пришла мысль: тут нужен сюрприз!
Съезжу-ка я перед Рождеством в гости.
Счастливого Рождества и мира в доме.
Сев в машину, мы с Карлом помчались по холмам, покрытым проседающим снегом, и уже через полтора часа были в Торсхавне. Софус жил почти в самом конце Ландавегура, но мы с первой попытки отыскали его дом, позвонили и с нетерпением ждали, когда Оули откроет дверь.
— Матиас! — воскликнул он.
— С Рождеством!
— А ты не рановато поздравляешь? — Он высунулся наружу, словно пытаясь по погоде определить, какое сегодня число.
— Лучше перестраховаться, — ответил я, — Рождество всегда приходит неожиданно.
— Это верно.
Оули опять замолчал. Я воспользовался этим.
— А это Карл, — сказал я, и Карл с Оули пожали руки, — он приехал отовсюду.
— Вот как? — спросил Оули, а потом, обращаясь к Карлу, уточнил: — Правда, что ли?
— Карл говорит только по-английски. Вообще-то он изначально из Америки.
Тогда Оули заговорил на английском и вновь представился. На этот раз у него получилось лучше.
— Но вы давайте. Заходите. Сельма терпеть не может сквозняки.
— Кто ж их любит? — сказал я, и мы прошли вслед за Оули в прихожую, а потом в гостиную. Я заметил, что, переехав в новый дом, они обставили его так же, как было в Гьогве. Наверное, они перед отъездом перефотографировали все в их старом жилище. Я снова почувствовал себя дома. Усадив нас на диван, Оули позвал жену и сына, и сперва на втором этаже послышалась какая-то возня, а потом они бегом спустились по лестнице в гостиную, Сельма крепко обняла меня, познакомилась с Карлом и вышла на кухню сварить кофе, а затем ко мне подбежал Софус:
— Матиас!
— Привет!
Софус тоже крепко обнял меня. Не знаю, ожидал ли я такого.
— Я получил твое письмо, — сказал я.
— И я тоже твое получил.
— Я же обещал.
— Угу.
— Ну как, Матиас, — послышался с кухни голос Сельмы, — съездил в Норвегию?
— Да, — крикнул я в ответ, — но потом все равно вернулся. Здесь же самое лучшее место в мире.
Она не ответила, может, не расслышала.
— Почему ты так редко заходишь? — поинтересовался Софус.
— По-моему, я тебе больше не нужен, ты же стал совсем взрослым. Ты теперь ходишь в настоящую школу, и у тебя наверняка полно друзей. А может, у тебя и девушка есть?
— Ну уж нет!
— Ой, прекрати, Софус, — сказал Оули, — это же неправда.
— Нету у меня никакой девушки!
— А как же Анника?
— Анника очень хорошая.
— А кто такая Анника?
— Она мой друг!
Но мы настаивали на своем, ему, похоже, только этого и надо было. Анника была все равно что девушка, если учесть психологию двенадцатилетних. Софус рассказал, что она учится в параллельном классе, живет на Персконугета и играет в футбол лучше его. У нее очень длинные волосы, два брата, оранжевый велосипед с трехголосым звонком и целая куча дисков. А это много значит. Я перевел все это Карлу, и тот воодушевленно закивал.
— Похоже, ты сейчас самый счастливый человек в Торсхавне, — сказал Карл, — с такой-то… подругой.
Я перевел его слова Софусу.
— Но она мне все равно никакая не девушка.
— Ну, ясное дело, нет, — в один голос ответили мы с Карлом, каждый на своем языке. Будь с ней добр, Софус, подумалось мне, не забывай ее даже через десять лет, встречайся с ней так же часто, как сейчас, не прячься от людей, а то потеряешь их, одного за другим, и больше не вернешь.
Сельма принесла кофе. Мы выпили его. Налили еще. Опять выпили.
— Ну, Матиас, ты теперь постоянно живешь в Гьогве, да? Софус говорит, ты деревья сажаешь. Ты молодец. Нам как раз это и нужно.
— Фабрика закрывается.
— Ты о чем это?
— На Фарерах слишком мало сумасшедших, поэтому дело не идет, и государство решило прикрыть лавочку.
— О нет!
— О да.
— Да ведь из Гьогва и так почти все уехали!
Улица счастья, тебя больше нет, Целый квартал — он исчез тебе вслед. Больше не слышно здесь смеха и пенья, В небо бетонные рвутся строенья.[99]— О чем эта песня? — спросил Карл.
— Улица счастья. Happy street. Старая песня, — ответил я, — the times they are a-changing.
— Это точно.
— Да, для Хавстейна это был удар.
— Ты о чем это? — спросила Сельма.
— Ну, он же все это затеял, верно? Это же он придумал основать на Фабрике реабилитационный центр, его отец вложил в это дело деньги, а сам Хавстейн изо всех сил старался, чтобы центр заработал, он перестраивал, доделывал, ты только представь, если бы у тебя отняли то, что ты своими руками создал, это нелегко перенести.
— Не стоит так верить рассказам, Матиас.
— То есть?
— Все не так, как кажется.
— ?..
— Хавстейну нелегко пришлось, — вздохнула Сельма, — это долгая история.
— Вот как?
Опустив голову, Оули молчал, ему этот разговор явно не нравился. Сельма откашлялась.
— Ну, он… у него… знаешь, было время, когда говорили, что он запил. Насколько я понимаю, это семейное, и началась эта история очень давно, — она смутилась, — нет, знаешь, спроси лучше у него самого. Я не хочу, чтобы ты об этом узнал от меня.
— То есть все неправда? Это не он с отцом открыл Фабрику?
— Матиас, я… — Сельма умолкла. Она отвела глаза и явно жалела, что заговорила об этом. В разговор вновь вступил Оули, он сменил тему, принялся расспрашивать о наших планах, а то, что меня интересовало, осталось покрыто мраком, но Оули с Сельмой словно заперли двери и окна, не оставив ни единой лазейки, а переубеждать их не было никакого смысла.
Я неохотно сменил тему и рассказал Оули с Сельмой о наших дальнейших планах, мол, не хотим мы, чтобы нас раскидало в разные стороны, поэтому решили уплыть. Рассказал про Карибское море и про корабль, про то, что корпус уже отлит, в феврале появится такелаж, а первого апреля мы отправимся в путь. Главное — накопить денег на лодку и успеть ее достроить. И еще чтобы никто не узнал об этом.
Софус расстроился, и Сельма попыталась его успокоить.
— Так ты опять уедешь? — спросил он.
— Да, Софус, похоже на то.
— А надолго?
— Ну, пожалуй. Довольно надолго.
Оули взглянул на нас с Карлом. По-моему, он тоже загрустил. Почти.
— Может, вам как-то помочь?
Так у нас появилось еще три пары рук. Сельма шила наволочки, а потом они на пару с Анной сели на телефон и занялись заказами: постельное белье, раковины, мебель, да бог знает что еще. Оули же задействовал всевозможные связи и каждый вечер сам начал появляться в мастерской, куда брал с собой и Софуса. Вместе они смотрелись довольно забавно: одетый в застиранный синий рабочий комбинезон Оули со столярным поясом, а с ним Софус в абсолютно таком же комбинезоне с подвернутыми брючинами и маленьким столярным пояском. Иногда вместе с Софусом приходила Анника, усевшись на ящик из-под пива, она наблюдала, как Софус работает. Замечая на себе ее взгляд, он принимался трудиться особо рьяно и, закручивая гайки, налегал на них со всей силой. И с каждым днем остов все больше походил на корабль.
В то Рождество я не поехал в Ставангер. Особого смысла не было. Дорога в оба конца казалась необычайно долгой. Вместо этого Хавстейн решил пригласить наших друзей и родственников на Фабрику. Но мои родители не приехали. Я им об этом не сказал. Как не рассказал и про наши планы отправиться в Карибское море, не то чтобы специально умалчивал, просто так получилось.
Мама с отцом подарили мне книгу про выращивание растений в условиях Арктики. Не знаю уж, почему именно такую и где они ее раздобыли, но книга оказалось интересной, хотя я жил не в Гренландии и не на Аляске. Помимо этого они прислали мне бесчисленное количество шерстяных носков и красивый теплый свитер. Бабушка связала мне шапку, но из-за легкого бабушкиного маразма шапка была ядовито-розовой, примерно метровой длины и настолько широкой, что налезала на наши с Хавстейном головы одновременно. Однако шапка оказалась теплой, и, в конце концов, главное же — не подарок.
Однажды январским вечером мы с Карлом шли по Сверрисгета к «Манхеттену», и тут меня кто-то окликнул. Оклик был грубым, и меня задело.
— Матиас! Стой!
Я резко остановился. Обернувшись, Карл посмотрел на меня и рассмеялся:
— Ты, кажется, вляпался.
— Знаешь, ты иди, я догоню.
— Ты что о себе думаешь?! — Голос приближался, но приятнее не становился. Обернувшись, я увидел, что позади стоит Эйдис. В последний раз мы виделись летом, в том домике, в ночь перед моим отъездом.
— Привет.
— Привет? Получше ничего не придумаешь? Ты что это вытворяешь, а?
— Почти ничего.
— Да ты совсем чокнутый!
— Правда?
— Да!
— Извини.
— Извини? Ты просто взял и исчез! Тебя что, не учили, что бросать девушек по утрам — непорядочно? Или может, на тот урок ты опоздал?
— На том уроке меня не было по уважительной причине. Я был на похоронах.
— Ты чего несешь?
— Я опаздывал, у меня был самолет. Отсюда редко летают самолеты в Норвегию.
— Ты же мог предупредить!
— Извини.
— Матиас, ты нравишься мне. Очень нравишься.
За осень и зиму ее волосы стали еще короче. От них одно название осталось. На ней была старая джинсовая курточка, и носик тоже не изменился. Я все раздумывал, стала ли она ниже, или это я вырос. Но не спросил.
— Понимаешь, я так хотела узнать тебя получше! — Нет, я не понимал. Но по-моему, слышать это мне было приятно. Я начал замерзать. Шел снег, и снежинки падали мне на куртку. Мне подумалось, что если мы простоим тут достаточно долго, то нас совсем занесет снегом и понадобятся поисковые собаки, чтобы нас откопать.
Поэтому я сказал: «Иди ко мне». Крепко обняв Эйдис, я прижимал ее к себе и думал, что мне, наверное, надо сейчас нагнуться, набрать снега, слепить снежок и забросить его на крышу. А может, не надо? И тут она поцеловала меня, решительно и крепко, я был прощен, снег перестал падать, поисковые собаки спрятались в конуру, а мы пошли к «Манхеттену» и зашли внутрь как раз в тот момент, когда группа начала играть.
После этого Эйдис обосновалась в нашем жилище на Торсгета, несколько раз в неделю она ночевала у меня, а иногда я заходил к ней на Вардагета, в ее новую квартиру. К огромной радости Хавстейна, она приезжала на выходные в Гьогв, Хавстейн говорил, что гордиться мной, он так рад, что мне вновь хватило смелости найти близкого человека. Он хлопал меня по плечу и старался всячески мне угодить, я объяснял Эйдис, что мы особенные, что мы не совсем нормальные, однако Эйдис воспринимала все это на удивление спокойно, и на какой-то момент меня охватил страх: а вдруг это уже стало очевидным, вдруг у нас уже на лбу написано, что нас нельзя оставлять без присмотра и что с каждым днем положение наше лишь ухудшается? И что единственное возможная для нас участь — это смыться отсюда, да поскорее?
Рассказывать Эйдис о нашей поездке мне не хотелось, я сказал, что корабль — лишь хобби, просто чтобы найти выход энергии, и запретил остальным говорить о том, что истинное предназначение корабля — эвакуация. Выходило это у нас плохо: собираясь вместе, мы только и говорили, что о корабле, поэтому, когда мы закрыли эту тему, нам оставалось лишь бормотать что-то невнятное о погоде, фарерских традициях, рыболовстве, распределении датских государственных субсидий, обсуждать красоту местных тупиков и Оулавсекан, то есть все то, что мы уже сто раз обсудили. Поэтому однажды вечером, ложась спать, я с облегчением заметил, что Эйдис и не собирается засыпать, а хочет о чем-то поговорить.
— Почему ты ничего не сказал? Почему никто из вас ничего мне не рассказал?
Я сделал вид, что не понял:
— Ты о чем?
— Матиас, я знаю, что через пару месяцев ваш центр в Гьогве закроют.
— Откуда?
— Откуда? Ты это серьезно? Господи, да все знают, ты что, газет, что ли, не читаешь?
— Нет, — ответил я, и меня передернуло. Газет я не читал. И почти не смотрел телевизор. Так же как Палли, Анна и Карл. Я знал, что Хавстейн читал газеты, следил за новостями, но он никогда не пересказывал нам, что пишут.
— В газетах и по телевизору это очень бурно обсуждается. Очень многие против того, чтобы вас закрыли. Ты правда об этом не знал?
— Правда.
— И чем ты собирался заниматься? Когда вам придет конец?
Я задумался, что ответить, но Эйдис меня опередила:
— Только на этот раз не исчезай, Матиас, ладно? Обещай, что предупредишь меня заранее.
— Я исчезну первого апреля, — сказал я, — два месяца осталось.
— Куда?
— В Гренаду. Или в Тобаго.
— Где это?
— В Карибском море. Туда надо плыть на корабле. Это довольно далеко.
Она, похоже, расстроилась, сжалась в комочек, и мне пришлось вытаскивать ее из-под простыней. И тут я выложил все про корабль, который почти достроен, и о том, что первого апреля рано утром мы незаметно исчезнем и никто нас больше не увидит.
— Иисусе Христосе! — вырвалось у нее, когда я закончил рассказ.
— Ну, что ты, он тут ни при чем.
— Кто?
— Иисус Христос.
— Ты совсем безумный!
— Знаю.
Прошло секунды четыре, прежде чем она спросила:
— А можно мне с вами?
— Ты серьезно? — изумленно спросил я.
— Мне здесь почти нечего делать. Да и Фарерам от меня пора отдохнуть. К тому же и о тебе надо подумать.
— Обо мне?
— По-моему, тебе это только на пользу пойдет.
— Отдых?
— Нет, что я поеду с тобой.
— Правда?
— Всем нужно, чтобы о них заботились.
— Даже тем, кто почти не показывается на люди?
Она энергично закивала.
— Что знал я, полагая, что смогу пройти весь путь в одиночестве?
— Чего-о?
— Почитай Роберта Крили.
— Думаешь, стоит?
— Угу.
Улыбнувшись, Эйдис накрыла меня одеялом, и то, что произошло со мной потом, даже и не объяснишь сразу, меня будто озарило: все, что я решил до этого, неправильно. Уткнувшись лицом в одеяло, прислушиваясь к смеху и крикам Эйдис, которая вскарабкалась на меня, я осознал вдруг, что больше всего на свете мне хочется, чтобы она поехала с нами, и я вдруг испугался того, что сам не додумался ее спросить. Эйдис. Которая появилась ниоткуда, так что я и понять-то ничего не успел. Я даже не думал об этом. Тем не менее она сейчас здесь. И именно здесь, в розовой комнате в Торсхавне, весной 2001 года, впервые за пятнадцать лет, любовь накрыла меня, Матиаса, с головой.
— Ну, так можно мне с вами? — снова спросила она.
— Можно. Но тебе надо сперва доказать, что ты чокнутая. А то не получишь спасательный жилет.
— Летом я живу в доме без электричества. Еще я всю зиму, когда жила в Финляндии, проходила в легких кроссовках. К тому же на Фарерах больше нет девушек с такими короткими волосами. Вот, потрогай.
Я провел рукой по ее голове.
— Психически нормальные на Фарерах не стригутся так коротко.
— Нет?
— Когда дует ветер, очень холодно.
— Ага, знаю. Чокнутая.
Вот так мы и взяли с собой Эйдис. Она переехала к нам с Карлом. Через месяц, в середине февраля, к нам присоединились Хавстейн, Анна и Палли. Чтобы быть поближе к кораблю и продолжать работу ежедневно. Мы потихоньку начали перевозить с Фабрики в Торсхавн вещи, которые решили взять с собой. Их было довольно мало: книги, одежда, чемоданы, магнитофон и диски. И вдруг в один прекрасный день Хавстейн попросил нас с Карлом арендовать грузовик и подъехать в Гьогв. И вот, стоя в его кабинете, мы пялились на двенадцать огромных шкафов с архивами.
— Ты это серьезно? — спросил Карл.
— Ты действительно хочешь все это взять с собой?
— Да.
— Хавстейн, — начал я, — они весят тонну. По меньшей мере. Да мы же сразу ко дну пойдем.
— Нет. Мы возьмем их с собой.
Карл бодро подошел к одному из шкафов и попытался сдвинуть его. Шкаф оказался тяжелым. Тяжелым, как сто чертей.
— Ни хрена, — сказал я, — ничего не выйдет. Забудь о них.
— Либо мы берем их с собой, либо никуда не едем.
— Они слишком тяжелые.
— Может, взять только бумаги, а сами шкафы оставить? — предложил Карл.
— Все равно тяжело получается, — упорствовал я, — ну на что они тебе? Там ты тоже собираешься клинику открывать? Может, расскажешь, на черта тебе полторы тонны мертвого груза на борту?
— Это никого не касается, — Хавстейн тяжело посмотрел на меня, — и по-моему, тебе это известно.
— Но…
— Ребята, вы о чем это?
Карл посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Мы посмотрели на Хавстейна.
— Можно тебя на минутку? — Мы с Хавстейном вышли в коридор. — Слушай, они, во-первых, весят больше тонны, а во-вторых, ты еще и размеры учти! Они же не поместятся на корабле! Ну зачем тебе все эти бумажки? Объясни, будь так добр, если уж ты считаешь, что я всенепременно должен погрузить их на борт!
— Не такие уж они и тяжелые, — пытался возразить Хавстейн, — я все рассчитал.
— Почему ты не можешь мне по-человечески ответить, а?
— Это вас не касается.
— Ты хочешь погрузить это на наш корабль. Это нас еще как касается!
— Каждый может найти свое объяснение.
— Знаю. И каково же твое объяснение?
— Матиас, позволь задать тебе один вопрос. Почему ты стал садовником?
— Нет, это я задам тебе вопрос, Хавстейн: почему ты стал психиатром? А? Почему бы тебе просто не рассказать мне правду?
— Ты о чем это?
— Тебе небось казалось, что это такая хорошая профессия, верно? Что все будут тебя уважать? Но все обернулось совсем иначе, так?
— Я вообще не понимаю, о чем ты…
— Так что пошло не так, а? У тебя ведь были какие-то проблемы, верно? Это еще в Дании началось? Ведь это оттуда жизнь твою отправили курьерской почтой прямо к черту? Ты что, издевался над пациентами? Может, ты обманом тянул с них деньги, заставляя их лечиться, когда на то не было необходимости? Или нарушил клятву о неразглашении? Или может, просто-напросто перестал являться на работу трезвым? Так было, я угадал? Ты запил и не мог успокоиться, пока не допьешь до дна, только дна этого не было видно, всегда ведь можно сбегать в магазин за добавкой, можно сходить в бар или…
— Да о чем ты, я…
— И это вовсе не ты придумал открыть на Фабрике реабилитационный центр, так? И отец твой не вкладывал в его постройку никаких денег! Идея эта принадлежала государству, и государство это тебя самого отправило на реабилитацию, подальше от людей, потому что ты спятил еще в Копенгагене и никому не хотелось, чтобы невменяемый шастал по городской больнице, а в Гьогве от тебя не было никакого вреда. Почему только тебя не уволили? Почему они не отпустили тебя на все четыре стороны, а вместо этого разрешили руководить Фабрикой? Может, ты был опасен? Может, на совести у тебя какой-то проступок?
— Мой дед…
— Итак, ты бросил пить, ты завязал и переехал сюда, в ссылку, и к тебе потянулись больные. Они приезжали и уезжали, но никто ничего не заметил, никто не понял, что ты так и не поправился до конца, что ты лечишь не по книгам, а по настроению. Потом ты вообще перестал лечить, ты же боялся, что, выздоровев, они уедут и бросят тебя, верно? Ты просто боишься остаться в одиночестве. Но ты скрываешь это ото всех: от тех, кто здесь живет, и от тех, кто платит тебе за ведение архивов, а архивы твои день ото дня растут. Впрочем, об архивах тоже никто не знает, кроме нас — мы-то видели все эти записи, но нам тоже мало чего известно, потому что ты напускаешь такую таинственность, и правильно, потому что вести такие записи — это же незаконно, да? Тебя же в тюрьму можно упечь за такое, это же секретные документы, неужели тебе не ясно, что это ты выжил из ума, Хавстейн, разум твой покинул тебя много лет назад!
Я словно выплевывал слова прямо ему в лицо, выплескивая накопившееся разочарование от того, что он лгал нам, или даже хуже — не только лгал, а скрывал правду, заставляя нас наивно полагать, что все его поступки не случайны, а являются частью продуманного плана. Я чуть не плакал от злости: мне казалось, что не удерживай он здесь Софию, разреши он ей уехать в Торсхавн или Копенгаген, она была бы сейчас жива. Однако я быстро понял, что она вряд ли выжила бы в одиночестве, и как только такая мысль пришла мне в голову, я замолчал, просто безмолвно уставившись на него. Реакции Хавстейна я предугадать я не мог.
— Все сказал?
— Да.
— Хорошо. Теперь постарайся забыть про все эти глупости.
— Ну, это если только ты поможешь.
— Кто тебе это наговорил?
— Ты же знаешь, что я тебе не скажу.
Тишина. Словно после взрыва. У меня звенело в ушах, я слышал, как Карл деликатно покашливает за дверью кабинета. Решив не обращать на него внимания, я посмотрел на Хавстейна. Посмотрел выжидающе. Бежали секунды.
— Ладно. Хорошо. Я стал психиатром благодаря деду, — начал он, — да будет тебе известно, дед мой был представителем легтинга,[100] и ему принадлежало множество фабрик и рыболовных судов на Фарерах. Он платил зарплату сотне рыбаков, а то и больше. К концу тридцатых годов дед был одним из богатейших людей в Торсхавне. Относились к нему хорошо, он был справедлив и щедр с работниками, выделял им деньги на жилье и несколько раз в году устраивал большие праздники, куда приглашались и их семьи. Однако пришла война, которая нарушила его спокойствие, как и многих других. На Фарерах высадились англичане, пытавшиеся, подобно датчанам, уберечь североатлантические судоходные маршруты и спасти острова от лап немцев. Деду приходилось жить в постоянном страхе за своих рыбаков и лодки, из-за которого он все чаще запрещал им выходить в море, боясь, что их потопят, что они напорются на мину, что их заденет подводная лодка или что в море им грозит какая-нибудь другая опасность. Ему казалось, что лучше выждать на берегу, а иначе немцы непременно увидят фарерские лодки и осознают всю важность маленьких островов. Поэтому рыбаки сидели по домам, и страна словно вымерла, дед же старался облегчить своим работникам жизнь и обеспечить им безбедное существование. Тем не менее деньги начали иссякать, дед понял, что обеднел, и вот тут-то дело приняло серьезный оборот. Тогда он кое-что придумал.
Хавстейн рассказывал осторожно, будто боясь, что воспоминания нарушат ход повествования и он собьется. Пока он рассказывал, я, кажется, все больше смотрел на его руки, прислушиваясь к рассказу лишь вполуха, и начинал раздражаться из-за того, что он, похоже, не собирался давать мне внятных объяснений. Я взглянул на дверь в комнату Софии. Она была заперта. В замочной скважине торчал обломок ключа. А Хавстейн все рассказывал.
— Деду стукнуло в голову, что пришла пора вложить деньги в железные дороги. Железная дорога — вот что нужно стране, она облегчит и ускорит перевозки, превратит Фареры в индустриальную державу и придет на смену рыболовству. Железные дороги на Фарерах! На крошечных островках, сплошь покрытых горами! Ведь в этой стране от самой северной точки до самой южной едва будет десять миль?!
Хавстейн словно задавал этот вопрос мне, будто ждал от меня подтверждения того, что дед был идиотом и безнадежным фантазером. Однако я его горячности не поддержал, я просто молча ждал продолжения и более удобного момента, чтобы прервать рассказ о жизни дедушки.
— Ну так вот. Сперва ему никто не поверил, и дед ограничивался словами. Однако когда стало ясно, что говорит он всерьез, люди забеспокоились. Но остановить его было невозможно: он заказал чертежи и написал прошение на патент. Ему отказали, но он не сдавался, продолжая выбирать подходящие типы шпал, и осенью 1942-го, когда в Торсхавн приехали строители, притащившие с собой тонны оборудования, и первые сто двадцать метров рельсов у Блауберга были уложены, дед принялся расхаживать по городу с торжествующим видом победителя. Его пытались вразумить, однако он лишь сердился: пришло время железных дорог, вы что, не понимаете? Но кроме деда так никто не считал, поэтому его отвезли в больницу, где он спустя двенадцать лет умер и откуда не выходил даже на прогулки. Дед стал самым знаменитым сумасшедшим на Фарерах. Дети, приезжающие в больницу, непременно хотели посмотреть на него: выстраиваясь под его окном, они надеялись хоть одним глазком взглянуть на прославленного психа. О нем ходили легенды, поговаривали, что он всегда был чокнутым, что он плевать хотел на все свои фабрики, лодки и рыбаков. Но это все неправда, дед спятил, только когда началась эта история с железной дорогой. И тут уж помочь ему было нельзя. Его лечили все усерднее и усерднее, а он сходил с ума окончательно. Его негласно выгнали из легтинга, который во время войны, когда страна отделилась от Дании, расширился и взял на себя законодательную функцию. Война закончилась, а дед лежал на больничной койке. Наступила весна 48-го, и Фареры стали независимой самоуправляемой частью Дании, а дед по-прежнему лежал в больнице. Так он и пролежал там до самой смерти, оставив после себя лишь слухи. Слухи живут дольше всего, и после смерти деда бабушке пришлось трудно. Она и дети старались жить совсем незаметно, тихо поселившись в Торсхавне, отец нашел работу на рыболовецком судне, а его сестры стали заниматься шитьем или устроились на рыбообрабатывающие фабрики. К сожалению, несчастье наложило на семью тяжелый отпечаток, и когда много лет спустя отец впал в депрессию, его на три месяца отправили в Швейцарию лечиться, тихо, чтобы никто не узнал. Однако шила в мешке не утаишь и в самый неподходящий момент оно обязательно вылезет, поэтому с самого моего рождения за мной внимательно следили, были в постоянном страхе за мое душевное состояние. Но я рос нормальным. Здоровым, как огурчик. А когда я сказал родителям, что хочу заниматься психиатрией, они чуть не запрыгали от радости. Отцу казалось, что так я положу конец кружившимся вокруг нашей семьи слухам. Ему казалось, что так мы начнем все сначала, вроде как возьмем быка за рога. Самого его избрали представителем Государственного управления, где у него со временем даже появились хорошие друзья.
Дольше я сдерживаться не мог. Я сказал:
— Мы, кажется, говорили про твой архив, нет?
Именно так и сказал, хотя его история уже заинтересовала меня и я начал невольно прислушиваться к его словам, просто чтобы узнать, чем же все закончится. И где-то в глубине души я боялся, что, оскорбившись, он тут же прервет рассказ. Однако мои слова Хавстейна не остановили. История набирала обороты, ему непременно хотелось ее закончить.
— Нет, тебя вовсе не архив интересовал. Тебя все интересовало, Матиас. Подожди немного, сейчас все узнаешь. Потерпи. В этой истории все в какой-то степени взаимосвязано. Так вот, я отправился в Копенгаген изучать психиатрию, начал работать, и у меня неплохо получалось, отец забрасывал меня письмами, спрашивая, как дела. Ответы мои всегда были одинаковыми: «все в порядке, дела идут хорошо», и долгое время так оно и было, точнее, до марта 1979-го, когда в моем кабинете появился ХХХХХХХХХХ. В тот день жизнь моя оборвалась. Всего за пару минут привычная для меня жизнь перевернулась. Это я понял сразу же. Взяв на несколько дней отпуск, я решил немного передохнуть: мне сообщили, что одна из моих пациенток, о которой я очень беспокоился, покончила с собой. Произошло это через несколько дней после того, как я порекомендовал выписать ее из больницы. Так вот, я сидел перед горой документов, когда этот человек вдруг вошел в кабинет. В тот день он не был записан на прием. Он пришел на двое суток раньше. Тем не менее он пришел. До этого в течение двух месяцев он приходил на прием раз в неделю. Его мучила бессонница и внезапная тревога, а в последнее время такое случалось все чаше. Я объяснил этому человеку, что, по моему мнению, с ним происходило, и попросил его делать записи о приступах, их длительности, симптомах и мерах пресечения. Он принимал таблетки. Я был убежден, что мы движемся в правильном направлении. И вот он сидит в моем кабинете в неурочное время. Говорить он не хотел. К тому же ему не хотелось, чтобы говорил я. Когда я пытался открыть рот, он предостерегающе протягивал руку, останавливая меня. Мы просто сидели молча. Прошло десять минут. Пятнадцать минут, двадцать. Я взглянул на часы. В приемной меня дожидались больные, я представлял, как они беспокойно ерзают на стульях, на стенах за ними висят веселенькие пейзажи в мягких светлых тонах, а сами пациенты недоумевают, почему я не выхожу и никого не вызываю. В конце концов мне надоело дожидаться, пока он заговорит, я медленно встал и, обойдя стол, подошел к нему. Положил руку ему на плечо, и в тот самый момент произошло это. Я даже не успел понять, что случилось. Он опередил меня. Опустив руку в карман, ХХХХХХХХХХ вытащил пистолет и всего за несколько мгновений засунул дуло себе в рот и спустил курок. Прямо в моем кабинете. Знаю, это странно — но выстрела я не слышал. Помню лишь, как он упал и голова его со стуком ударилась об пол. Тело его лежало на полу, а я молча стоял рядом, продолжалось это всего несколько секунд — потом в кабинет вбежала медсестра. Она так и окаменела, разинув рот и опустив руки. Это мне больше всего запомнилось. Ее руки, повисшие плетьми. Я спокойно подошел к столу, взял куртку и, пройдя мимо медсестры, вышел в приемную, даже не глядя на пациентов, молча вышел из больницы и исчез на много дней. Я не позвонил, никого не предупредил и не сказался больным. Днем я бродил по Копенгагену, а вечера просиживал в ресторанах или барах, пытаясь понять, зачем он это сделал как раз в тот момент, когда я дотронулся до него. Я думал, что не подойди я к нему — он был бы жив, мне достаточно было сидеть за столом и не класть руку ему на плечо. Почти неделю спустя я вернулся на работу. Никто не расспрашивал, куда я пропал, никто меня не ругал за прогулы, беседуя со мной, все так и излучали сочувствие, заламывали руки и склоняли головы, голоса их были тихими, а слова — добрыми. У меня появилась привычка выпивать после работы пива или чего-нибудь покрепче: выпивка должна была удерживать меня от постоянных раздумий, почему вдруг двое моих пациентов один за другим наложили на себя руки, ведь оба, как мне казалось, уже выздоравливали. Выпивка не помогала, и я стал бояться ходить на работу. Боялся, что подобное повторится. Я просил, чтобы больные, заходя ко мне в кабинет, снимали куртки, и больше следил за их руками, чем за тем, что они говорили. Под конец страх настолько усилился, что по утрам, еще до начала приема, я успевал выпить изрядную порцию спиртного. Так продолжаться больше не могло. Не могло. Я брал больничные, надолго. Заперев двери, сидел дома и разговаривал только с Марией — я тебе о ней рассказывал. Тогда мы жили вместе, и она видела, что дела мои идут все хуже и хуже. Она предлагала, чтобы я сам обратился к психиатру, но мне этого не хотелось: хорошо же это будет выглядеть — один психиатр лечится у другого, и думать нечего! Отца это известие сломает, надо же такому случиться как раз в тот момент, когда ему казалось, что фамильная честь восстановлена! К декабрю я был измотан настолько, что дни были словно затянуты пеленой, я будто бродил в тумане, однако я потихоньку вновь принялся за работу. И вот в один из таких дней я зашел в книжный магазин и купил «Путеводитель Филдинга по островам Карибского бассейна». После этого Мария ушла от меня, и в начале января 81-го я позвонил отцу и сказал, что у меня неприятности. Отец тут же примчался в Копенгаген. Несколько месяцев, пока я пытался прийти в себя и собраться с мыслями, он прожил вместе со мной. Это отец настоял на моем возвращении на Фареры, когда дела у меня пошли на лад. Тем летом я вернулся. Я по большей части сидел дома, изредка подменяя кого-нибудь в больнице. И вот однажды ко мне пришел отец, который кое-что для меня придумал. Государственное управление решило учредить два реабилитационных центра для больных, которые уже выписались, но еще не готовы к самостоятельной жизни, или тех, кто настолько привык к больнице, что был не в состоянии жить отдельно. Не хочу ли я взять на себя управление такими организациями? По мнению отца, он мог бы оказать мне содействие: отзывы о моей работе в Копенгагене были на удивление хорошими. Отцу казалось, что такая работа пойдет мне на пользу, постепенно втянувшись, я успокоюсь и ко мне вернется уверенность. Уж не знаю, кто его волновал больше — я или больные. И я согласился. Принялся за работу. И вот тут появились личные дела, архив. Эта мысль пришла мне в голову летом 1983-го, вечером, я только что закончил сеанс групповой терапии, и тут меня осенило: мне показалось, что существуют связи, о которых мы и не догадывались, вроде кубика Рубика для психиатров, нужно лишь понять принцип их действия, и тогда мы сможем лучше лечить людей. Заботиться о них.
— То есть?
— Подожди. Ладно, существуют два вида психических заболеваний…
— Какие?
— Предсказуемые и непредсказуемые. Пожалуйста, не перебивай.
— Извини.
— Ладно, ничего. В конце осени я связался с бывшими коллегами из больницы в Торсхавне, позвонил психиатрам в Королевскую больницу в Копенгагене, объяснил, что мне нужно, постепенно убеждая их, пока они не поверили мне и не начали тщательно переписывать все личные дела, скопившиеся за много лет в больничных архивах. Потребовались деньги, много времени и кропотливой работы, ото всех скрывали, что в строго охраняемых больничных подвалах остались лишь рукописные и четко выверенные копии, оригиналы же отправлялись сюда, ко мне, и мой архив постоянно пополнялся новыми делами. Пока у меня не оказались все личные дела больных Дании и Фарер с 1900 до 2000 года, где два последних дела — это твое и Карла.
— Так теперь у тебя все дела?
— Ничего подобного.
Следующую фразу Хавстейн произнес улыбаясь, торжественно, выделяя каждое слово, словно он наконец завершил важнейший труд всей своей жизни:
— Только предсказуемый тип.
Я не знал, что сказать. А потом спросил:
— И как… то есть… ты что-нибудь выяснил?
На минуту воцарилось молчание, Хавстейн надолго задумался, будто решая, надо ли мне это знать, или ему проще развернуться и уйти. Однако затем он улыбнулся — той улыбки мне никогда не забыть — и, наклонившись ко мне, прошептал на ухо несколько фраз. Я понимал, о чем он говорит, ведь я и сам всегда знал об этом. Я слушал, уши мои будто впитывали его слова, а когда он закончил, я молча вышел к Карлу, нетерпеливо ожидающему в кабинете.
— Мы возьмем архив с собой, — сказал я.
— Ты серьезно?
— Да, серьезно.
— Ну если ты считаешь, что так надо, ладно. А можно поинтересоваться почему?
— This is a need to know basis only.
— And I don’t need to know, right?[101]
— Верно.
Архивные шкафы отвезли в порт, где их поставили на складе вместе с другими необходимыми в поездке вещами, и я никому не сказал ни слова о том, что в куче бумаг недостает одного-единственного личного дела, принадлежавшего безымянной больной, влюбленной в автобусы и самостоятельно выписавшейся из жизни. Последний месяц у нас ушел на завершение строительства, большую часть мебели, усердно выбранной Анной, Палли и Эйдис и прикрученной в каютах, мы отвинтили, чтобы не перегружать судно, освобождая место для архива, мы избавились от лишних предметов, мы взвешивали и высчитывали килограммы, пока наконец не убедились, что перегрузки не будет. Оставили мы лишь туалеты и камбуз. Мы вытащили записи из шкафчиков, завернули в полиэтилен и уложили на дно вроде покрытия. Вывезенный с Фабрики старый диван мы поставили на палубе, среди груд личных дел, выглядело это довольно убого, но нам нравилось. Сверху на записи мы положили еще три тонких матраса, чтобы уберечь бумаги от воды и чтобы те, кто несет палубную вахту, могли прилечь. Да и если нам всем вдруг придется одновременно оказаться на палубе, мы хоть присесть сможем. К нашему сожалению, на кормовое машинное отделение денег не хватило, но, как оказалось, оно и к лучшему: пустое помещение стало складом для запасов воды и продуктов, а у одного парня из Клаксвика мы купили подержанный подвесной мотор, так что в затишье мы сможем заводить двигатель и избежим проблем, отчаливая из порта. Потом мы вновь отлаживали и снова красили и грунтовали, работая круглые сутки, по очереди, мы с Карлом сменяли друг дружку по ночам. Мы ушли с работы, поэтому днем могли спать, а к десяти вечера отправлялись в порт вместе с Эйдис, Хавстейном или Оули, которые тоже чередовались. И вот той ночью, когда корпус корабля вытащили из мастерской и начали оснастку мачты, — той ночью я осознал всю серьезность нашего дела, по-моему, именно тогда до меня дошло, что мы покидаем Фареры навсегда и не собираемся возвращаться. Тогда ко мне опять вернулась бессонница. Заснуть я не мог, вставал и сидел в гостиной на первом этаже, прислушиваясь к похрапыванию остальных. По ночам я начинал действовать машинально, мозг отключался, а днем вешал паруса, сгибаясь под тяжестью всех этих тросов и ваеров, я запутывался в них и злился, на мои крики о помощи прибегал Карл, я несколько раз прерывал работу, а через полчаса опять принимался за дело, Эйдис изо всех сил старалась мне помочь, но все без толку, хотя ее вины в этом не было. Позже она начала во время работы держаться от меня подальше, и мы виделись, лишь когда я к шести утра возвращался домой. Я ничего ей не рассказывал, укорять ее было не в чем, а сказать, что все скоро закончится, я не мог, ведь я и сам не был в этом уверен. Почему со мной творится такое, я не понимал, может, из-за страха, что мы не успеем доделать корабль вовремя? Я удвоил старания, отправляясь работать в десять вечера и возвращаясь домой в одиночестве к двум часам дня, доползал до постели и засыпал. Хавстейн опять смотрел на меня с тем же беспокойством, что и два года назад, но из-за усталости он и сам не знал, как мне помочь. Хотя вслух об этом не говорили, было ясно, что именно Хавстейн взял на себя ответственность за постройку судна, а кроме того, мы же отправлялись в Карибское море только благодаря ему, поэтому если ожидания наши не оправдаются и жизнь не станет проще и понятней, то и виноват тоже будет он.
Один из последних мартовских дней. Вернувшись к двум часам домой, я разбудил растрепанную Эйдис, свернувшуюся под одеялом.
— Нам сегодня надо съездить в Саксун, — сказал я.
Зевнув, она посмотрела на часы:
— Ты же только что вернулся?
Я кивнул.
— Матиас, тебе нужно выспаться. Ты совсем измотался. Ты и меня вымотал, разве не ясно?
— Мы вот-вот закончим корабль. Может, уже завтра.
— А в Саксуне мы чего забыли?
— Мне надо отвезти туда подарок.
— У тебя что, знакомые там?
— Вроде того.
Вздохнув, она протерла глаза и обняла меня.
— Ладно, Матиас, хорошо. Дай мне полчасика, я поеду с тобой.
— Я тебя внизу подожду.
Я прикрыл за собой дверь и, спускаясь по лестнице, натолкнулся на Хавстейна, который как раз собирался пойти спать. В этом доме никто больше не ориентировался во времени.
— Я положил ее на полочку, рядом с телефоном. Это очень мило с твоей стороны, Матиас.
— Спасибо.
Спустившись вниз и одевшись, я взял сверток и вышел к машине, где просидел полчаса в ожидании Эйдис.
Через тридцать пять минут меня разбудила Эйдис, она сама села за руль, а я, усевшись рядом и закрыв глаза, успел лишь заметить, как мы тронулись с места и, выехав по узким улочкам на Хойвиксвегур, покатили на север.
Где-то между Хаксвиком и Саксуном меня разбудили солнечные лучи. Открыв глаза, я увидел, что Эйдис мчится на скорости сто десять в час и вроде как скучает.
— С добрым утром, — сказала она.
— Что-то ты разогналась, — промычал я, потуже затягивая ремень безопасности.
— Ты не хочешь рассказать, зачем тебе приспичило туда ехать? И непременно сегодня?
— Мне надо отдать книгу.
— Книгу?
— Ага.
— Whatever.[102]
Возле маленькой белой церкви с поросшей травой крышей я попросил Эйдис притормозить. Идиллия. Каким и должен быть один из последних дней в этой стране. Совсем как в последнюю неделю каникул перед новым учебным годом — помнишь? Помнишь, каким ясным был воздух? И небо почти без туч. Достав из машины сверток, я попросил Эйдис подержать его, а сам открыл багажник и вынул оттуда лопату. Открыв ворота, я вошел на церковное кладбище. Эйдис шла следом.
— Ты что, хочешь выкопать покойника? Так, что ли?
— Я не буду никого выкапывать. Я буду закапывать.
Мы подошли к плите над могилой Софии и остановились.
— Матиас, мне это все не нравится. Очень не нравится.
— Все в порядке.
— Ты ее знал?
— Да, знал. Но, как оказалось, совсем плохо знал.
Склонившись над плитой, Эйдис вгляделась в надпись:
— Она умерла совсем молодой. Что с ней произошло?
— Ее сбил автобус.
— Мне жаль, Матиас.
— Ничего. Она очень любила автобусы. Могло и что похуже случиться.
Воткнув лопату в землю, я с силой копнул несколько раз, отбрасывая землю в сторону и озираясь, ведь местные жители вполне могут подумать, что я тут занимаюсь осквернением могил.
— Давай сверток, — быстро сказал я.
Эйдис протянула мне сверток, я развернул бумагу и вытащил «Путеводитель Филдинга по островам Карибского бассейна и Багамам». Это Хавстейн предложил отвезти книгу сюда, тогда мы будто забирали с собой и Софию. Я положил книгу в ямку — со всеми отметками, подчеркиваниями, вклеенными листочками и сведениями, на сбор которых ушел не один год. Мне даже было немного не по себе, хотя в глубине души я понимал, что совершаю благой поступок. Вроде как подвожу черту. Я уложил сверху землю и утрамбовал ее лопатой.
— Это чтобы она вроде как знала, куда мы уезжаем?
— Это Хавстейн попросил.
— Думаешь, она найдет нас? То есть по книге?
Я улыбнулся: вот уж не знаю, сработает ли это.
— Ну, может, она заблудится и очутится на Багамах. Она иногда бывала слегка рассеянной.
Мы посмеялись, но смех был каким-то картонным, ненастоящим.
Оставив лопату в машине, мы спустились вниз, к маленькому озеру Поллур. Было время отлива, обнажившего песчаный берег, мы шагали к заливу Вестманн, а я рассказывал Эйдис о Филдинге с его Карибским бассейном и о Софии, которую я, сам того не осознавая, так сильно любил.
На обратном пути я опять заснул прямо в машине, успев лишь почувствовать, как Эйдис похлопывает меня по голове, будто маленького ребенка, поздно вернувшегося домой. Я не помню, как приехал домой, не помню, чтобы я разговаривал с кем-то или делал что-то особенное, а когда я окончательно проснулся, уже наступил наш последний вечер на Фарерах. В дверном проеме стоит Палли, он прямо-таки подпрыгивает от воодушевления. Они с Хавстейном разговаривают о корабле, и Хавстейн говорит, что судно готово и нам пора собираться, потому что на следующее утро мы пораньше отправимся в путь. Он говорит, что пора вставать, мы через пару часов собираемся в «Кафе Натюр», корабль готов, разве не чудесно, мы отправляемся в Карибское море, они уже спускают судно на воду, Анна привязывает веревку к бутылке шампанского, которую всего через полчаса мы разобьем о борт корабля и окрестим судно, а мне надо вставать и одеваться, а потом я вдруг замечаю, что они куда-то пропали и я стою в одиночестве на холодном полу. Вещи мои уже давно собраны, на дворе последний мартовский вечер, а завтра в это время нас тут уже не будет.
Мы окрестили корабль. Спустили его на воду, и он держался на плаву. Поставив его на якорь, мы отправились в «Кафе Натюр». Настроение у всех было приподнятое, но я чувствовал такую усталость, что с трудом держался на ногах, реальное и воображаемое начали медленно перемешиваться, и чем усерднее я пытался взять себя в руки, тем дальше меня уносило от действительности. Таким этот вечер мне и запомнился: я сижу за столиком прямо посреди кафе, суббота, поэтому ступить негде, я сижу, ухватившись за пивную кружку, все бодры, ведь через пару часов мы отчалим. Эйдис уходит попрощаться с друзьями, она им уже рассказала, что мы уезжаем, родителям она тоже сообщила, поэтому теперь всем известно, что мы отправляемся в путь. Родственники Хавстейна, Анны и Палли тоже знают, один я соврал: пообещал позвонить домой, но так и не позвонил, мне кажется, что лучше будет, если я позвоню, когда мы доберемся, так я думал. А посреди всей этой суматохи, полускрытая за головами и спинами, выступает какая-то группа. Играют они громко, разговаривать почти невозможно, поэтому мы по большей части просто улыбаемся друг другу, то есть мне кажется, что я улыбаюсь, но я не уверен. Может, я просто сижу разинув рот. Поднеся к губам кружку, я пью, по-моему, я пьян, озираясь, я вижу, как Карл закуривает. Поймав мой взгляд, он поднимает большой палец, одновременно затягиваясь, и я думаю: вот он, один из самых лучших друзей, каких только можно придумать, хорошо, если у него все наладится. Потом я смотрю на Хавстейна, который не смог меня вылечить, хотя и пытался изо всех сил, я смотрю на Анну, которая со дня смерти Софии ходила сама не своя и тем не менее работала круглосуточно месяцы напролет ради нашей поездки. Смотрю на Палли, который уже скучает по Фарерам, как, впрочем, и я. Я понимаю, зачем он осматривается: он хочет запечатлеть в памяти эту комнату, это место, запомнить каждую мелочь. Мне тоже стоило бы так сделать, но у меня как будто пленка закончилась, пленка в моей голове засвечена, и тут я замечаю, что поднимаюсь из-за стола. Опершись о столешницу, я наклоняюсь к Хавстейну, тяну к нему руки, а он что-то говорит мне, но я не улавливаю смысла и лишь фыркаю в ответ. Отдать швартовы! — и вот я, расталкивая толпу, уже направляюсь к бару, раз-два! — и вот я уже по ту сторону стойки, отсюда мне моих друзей не видно и не слышно, однако я знаю — они там. Я сталкиваюсь лицом к лицу с вокалистом незнакомой мне группы, стою я совсем рядом с микрофоном и даже собственных мыслей не слышу, если у меня вообще есть хоть какие-то мысли. В перерыве между песнями я наклоняюсь к вокалисту, пол качается, я хватаюсь за певца и валюсь на пол прямо возле ударной установки. Со всех сторон ноги в ботинках, а на грязном скользком полу, всего в сантиметре от меня, лежит микрофон, выпавший из рук вокалиста. Я хватаю микрофон и начинаю что-то выкрикивать. Мой голос разносится по кафе, и на мгновение я вновь слышу собственные мысли. А потом закрываю глаза и начинаю петь. Я пою первое, что приходит в голову, не знаю только, откуда оно приходит, сперва это просто слова. Группа ждет — то ли когда я уберусь со сцены, то ли когда поймаю мелодию, вокалист смотрит на меня — сердито или растерянно, скорее последнее. Я спрашиваю его, готов ли он к моему удару, но ответить он не может, и я начинаю петь. Не знаю почему, но это «Forever Young», я пою ее, хотя сам вечно жить не хочу, ни за что — так я кричу. Кто хочет жить вечно? Я пою без сопровождения, слова я помню, хотя уже лет двадцать не слышал этой песни, именно поэтому я и пою ее, а не что-то другое. Я слышу, что где-то позади, далеко позади меня, группа начала подыгрывать, ведь эту песню они знают. Словно тринадцатилетний мальчишка, я лежу на полу и пою песню «Альфавилль», и я не хочу жить вечно, но останься я здесь, на Фарерах, так и получится, в этой влажной стране я буду летать от звезды к звезде, а дождь будет лить и горы будут все зеленее с каждым днем, и мне кажется, будто моим словам верят. В кафе воцаряется тишина, и теперь слышно только песню. Проползая по полу, она поднимается вверх, пробирается сквозь толпу, оставляя позади локти, головы и пивные кружки, голос мой крепчает — таким сильным он еще никогда не был, — и я замечаю, как посетители вдруг застывают и забывают обо всем на свете, бармены оставляют краны открытыми и пиво течет рекой, стекает по барной стойке на пол и течет ко мне. Я залит водой или пивом, не знаю точно, кто-то пытается оттащить меня, но уходить я не хочу, мне вообще не хочется двигаться, ни на метр, группа прекращает играть, однако я все лежу, не поднимаюсь, тогда вокалист пытается вырвать у меня микрофон, а группа начинает играть «Мою любимую игру», я крепко держу микрофон, ведь теперь я могу перейти к «Кардиганс», а их репертуар я знаю наизусть, хотя группа об этом и не подозревает. Схватив вокалиста за ноги, я рывком тяну его вниз, и он мешком валится рядом со мной, он больше не сердится, на лице его изумление, я кричу ему что-то, но не знаю, что именно. Он говорит что-то про караоке, хотя мне ясно, что он, тыча микрофоном мне в лицо, вовсе не приглашает меня спеть вместе. Я начинаю бормотать текст «Моей любимой игры», встаю на ноги, и слова начинают литься, а группа со всем усердием пытается за ними поспеть. Я стараюсь изо всех сил, так что потолок дрожит и стена трясется от моего голоса, я перестаю слышать себя, однако точно помню, как петь, ведь эту песню я назубок знаю. Пение мое становится все громче и громче, я вспоминаю о книге, вчера или когда-то еще закопанной на могиле Софии, мне и диски ее тоже надо было там похоронить, но сейчас уже поздно, уже не получится, мы же скоро уплываем и навряд ли вернемся. Какая-то часть меня уезжать не хочет, мне кажется, что Фареры — лучшее из всего, что со мной приключилось, я вспоминаю морское побережье в Гьогве, дом на Торсгета и горы. Горы мне никак нельзя забывать, как и всех живущих здесь людей, о чьем существовании я даже не подозревал. Не хочу уезжать, хочу остаться, но остаться никак нельзя, я — словно гринда, пойманная в Хвалвике или Мидвагуре. Не хочу уезжать, хочу ездить по этим дорогам, ночью — по горам, а утром — сквозь густой туман, я же почти выучил фарерский, я хочу остаться со своими новыми знакомыми, но вместо этого я должен уехать, всего через пару часов мы погрузим на корабль оставшиеся ящики, и мне кажется, это я навсегда запомню, я никогда вас не забуду, хотя вы обо мне уже забыли. Я машу рукой группе, чтобы они сыграли еще раз. Теперь они послушно выполняют мои указания, вокалист сидит на полу возле меня, а я еще раз пою первый куплет. Я пытаюсь петь громче, если это возможно, ведь опера не окончена, пока не спела толстая певица, а она еще даже не доехала до «Кафе Натюр», поэтому я продолжаю, пою все быстрее и быстрее, оконное стекло трескается, ножки стульев подламываются, не выдерживая собственной тяжести, и я умолкаю. Гитарист вновь проигрывает тему, но его почти никто не слышит, теперь гремят овации, и я вижу, что Хавстейн с Карлом стоят на столе, радости на их лицах нет, они не смеются, они обеспокоены, по крайней мере, мне так кажется, а потом я падаю из окна, опускаюсь на асфальт и звуки исчезают.
Головная боль. Словно крушение Римской империи. Лежа на палубе, я смотрел на свинцово-серое небо. Корабль качался на воде, а мимо меня вперевалку шагал Палли, перетаскивал ящики с продуктами, которые Анна потом опускала в трюм. Карл закреплял на корме спасательную шлюпку, а Хавстейн что-то быстро говорил по мобильнику, до меня доносились лишь обрывки, наверное, из-за птиц, бесцеремонно гомонивших над нами. По небу, догоняя друг дружку, неровным рядом плыли тучи, а по другую сторону залива пассажиры поднимались на паром «Смирил Лайн». Может, светило солнце, а может, шел дождь — мне оставалось лишь догадываться. А потом надо мной склонилась чья-то фигура, отбросив тень на мое лицо.
— Ну как, проснулся? — спросила Эйдис. — Мы вот-вот отчалим.
— Что произошло?
— Ты сделался буйным, Матиас. Начал драться. Им пришлось тебя вышвырнуть. Но мы тебя не бросили. Похоже, тебя какое-то время туда пускать не будут. Но ты прекрасно поешь. Лучше всех.
Я пробормотал в ответ что-то невразумительное. Она поцеловала меня, и я умолк.
— Держи, — сказала она, бросив мне на колени зеленый дождевик, — Хавстейн хочет, чтобы мы все их надели, когда будем отчаливать.
Она ушла, и чайки улетели. Приподнявшись, я огляделся в поисках Хавстейна, но его нигде не было видно, он, похоже, спустился в трюм, и в тот самый момент я понял, что, не появись я в тот день на Фарерах, ничего этого не случилось бы. Властям не было бы никакого дела до Гьогва, где Хавстейн селил чужаков в пустые фабричные комнаты, чтобы просто заполнить пространство, а может, и свою душу. Фабрику не закрыли бы. Карл наверняка погиб бы в море, а София осталась в живых и, возможно, когда-нибудь уехала бы в Копенгаген. Йорн не потерял бы друга, я не потерял бы опору в жизни, не построив корабль, мы не втянули бы Эйдис в эту гигантскую авантюру, нас бы не заметили и не увидели. Только и всего. А пока я с ними, все будет идти кувырком. Ничего не изменится. И я ничего не могу с этим поделать.
Я поразмыслил, как мне поступить.
Мысли проносились в голове со скоростью света.
Словно глядя на себя со стороны, я поднялся. Встал.
Отбросил дождевик.
И побежал.
Я видел, как несусь к трапу, прыгаю на причал, пробегаю мимо недоумевающего Софуса, который, однако, выглядел расстроенно. Я бежал по причалу и слышал крик Хавстейна, крик Карла, крик Эйдис, но слов я не разбирал, просто бежал. Так быстро я еще никогда не бегал. С парома «Смирил Лайн» раздался гудок, и я помчался к парому, вещей при мне не было, я бежал что было сил, не отрывая взгляда от парома, не оборачиваясь, мимо портовых контейнеров, мимо парковочной площадки, и с каждым шагом во мне росла уверенность, я понимал, что поступаю правильно. Я успел, добежав до пассажирского отсека в последний момент, когда двери уже закрылись и контролер ушел. Со всей силы забарабанив в дверь, я увидел, что в иллюминаторе показалось чье-то лицо, а потом контролер вежливо меня впустил. Проскочив мимо него, я выбежал на палубу, глядя, как паром, отчаливая и разогревая двигатель, берет курс на Шетландские острова и Берген, а корабль наш, стоявший по другую сторону гавани, становится все меньше и меньше, хотя я все еще различал фигуру Хавстейна у штурвала, Карла на носу, Эйдис, Палли, Анны и фарерцев — на берегу. А потом корабль отчалил, я видел, как ветер надувает его парус. И он берет курс на запад. Развернувшись, я спустился в бар, сел на стул и принялся ждать, когда начнется выступление какой-нибудь группы. А может, я ничего и не ждал.
Однако все было по-другому.
Я этого не сделал.
Не в этот раз.
Я не улизну — хотя бы раз в жизни.
И речи быть не может.
С этого момента я в ответе за тех, кто рядом.
Поднявшись на ноги, я подтянул комбинезон с магнолией, застегнул молнию и надел поверх него зеленый дождевик. В этих дождевиках мы были одинаковыми, словно водоросли. Так оно и должно было быть — коли мы решили плыть по морю, то мы и есть зеленые новички, сухопутные крысы, ну, может, за исключением Карла, который на этот раз тоже говорил, что надо лишь найти течение, а уж оно рано или поздно вынесет нас куда следует. Только и всего, так он говорил, но на всякий случай захватил морские карты, компас, гироскоп, ОВЧ, ГЛС и еще бог знает что. Ко всему этому прилагалась целая куча инструкций, а времени у нас будет предостаточно, поэтому можно начитаться вдоволь. Мы остались один на один с ветром — довольно однобокие отношения. А потом пришли они. Всего за пару минут до отправления. Софус, Оули и Сельма. Они пришли убедиться, что у нас все в порядке, что у нас есть все, что нужно. Так оно и было: все на своем месте. Когда Хавстейн с Палли отдали швартовы, корабль заскользил мимо гигантского парома «Норрена», а я мертвой хваткой вцепился в Эйдис, Оули с семейством плыли за нами в новенькой деревянной лодке, и лишь там, где волны вырастают и начинается настоящее море, они развернулись и отправились к берегу. Софус принялся бить в судовой колокол, так что гром разнесся по всему городу. Пытаясь понять, что это за шум, люди на мгновение останавливались, бросали все свои дела и поворачивали головы. А может, мне просто так кажется, может, на самом деле никто и не видел, как мы плывем. Мы исчезли так же неслышно и незаметно, как появились, и уже спустя пару часов, когда я, смертельно напуганный, шагал по палубе, помогая Палли и Карлу ставить паруса, Фареры превратились в крохотную загогулину на морской карте, а мы пропали.
Long Gone Before Daylight[103]
1
Луна отдаляется от Земли, и ничего с этим не поделаешь. Отдаляется она совсем незаметно, на четыре сантиметра в год. Говорят, что когда-то расстояние до Луны составляло всего четыре тысячи километров. Сейчас же до нее 384 000 километров. И продолжительность дня растет. Это чистая правда. От Луны зависят приливы и отливы, а это движение воды, в свою очередь, замедляет вращение Земли. Примерно на 0,023 миллисекунды в год. Через миллиарды лет орбиты Луны и Земли станут почти одинаковыми, продолжительность суток составит 1100 часов и жителям некоторых стран будет видно Луну круглосуточно, только она будет меньше, чем сейчас, а потом и вовсе исчезнет. Вот и мы — мы так же исчезаем. Я смотрю на свои старые фотографии, которые привезла мама. Это я — но уже и не я. Старые клетки умерли, их сменили новые, волосы пострижены, а на месте молочных зубов выросли коренные. Я уже не тот, кого ты знал прежде. Я сплю восемь часов в сутки. Я моргаю 17 000 раз в день. Большая часть моей жизни проходит с закрытыми глазами.
Тебе кажется, что первым на Луну прилетел человек. Это неправда, первым туда долетел звуковой сигнал. Случилось это в январе 1946-го, когда американские военные сконструировали передатчик мощностью 3 киловатта и, послав на Луну радиосигнал, уловили эхо. А за десять лет до того, как имя База Олдрина стало известным, в Умбрийской впадине, неподалеку от Кратера Архимеда, сел советский зонд «Луна-2». Людей на борту не было. Зато в зонде находилось два небольших шара с выгравированным советским гербом. Шары нужно было оставить на Луне как вечное доказательство жизни, разума, неукротимой власти, да бог знает чего еще. Однако от зонда остался лишь маленький кратер, почти неотличимый от других. «Луна-2» летел со скоростью десять тысяч километров в час. А на такой скорости не так-то просто затормозить. Однако мне кажется, что попытка эта была в какой-то степени удачной: именно она заставила Советский Союз и США отказаться от идеи провести на Луне испытания термоядерных ракет и понаблюдать с Земли, чья ракета долетит первой. А по тем временам это многое значило.
Но пока Луну еще видно. Она всего лишь в 380 000 километрах от нас. Больше туда никто не летает: с завершением программы «Аполлон» про Луну позабыли. Когда 19 декабря 1972 года двенадцатый побывавший на Луне астронавт вернулся в модуль приземления, люди взялись за поиск других планет и стали готовиться к полету на Марс.
Сама Луна ничего не говорит. Она вообще-то и не приглашала никого.
Луна как воды в рот набрала.
Я не стану долго распространяться о нашей жизни в Гренаде. Расскажу лишь о главном, о том, что приходит на ум прямо сейчас, что не смешалось с другими воспоминаниями. На протяжении многих лет я забывал произошедшее и теперь не могу сказать точно, мол, это случилось там-то и тогда-то, годы слились, а суматоха или размеренность дней и событий вытерлась из памяти. Вспоминая Гренаду, я чувствую необычайную легкость. Неразрешимых, выбивающих из колеи проблем в те годы просто не существовало.
Говорят, что когда 15 августа 1498 года Христофор Колумб открыл Гренаду, он лишь бросил на эту землю унылый взгляд и назвал ее «Concepcion».[104] Даже не сойдя на берег, он отправился дальше. Для него она была всего лишь островом — одним из целой гряды островов южной части Карибского моря. Маленький островок, длиной тридцать пять и шириной восемнадцать километров. В четыре раза меньше, чем общая площадь Фарерских островов. И тем не менее население его в два раза больше. С вечными, как на Фарерах, дождями, этот остров также находится под надежной экономической защитой: правителем Гренады является английская королева. Не знаю, правда, бывала ли здесь она сама, пыталась ли хотя бы отыскать на карте этот крошечный островок, известный только тем, кто когда-нибудь здесь побывал, приплыв на каком-нибудь круизном лайнере, возможно, даже норвежском, «Ройал Каррибеан», например. Тем, кто загорал на пляжах в Гранд-Ансе или Сент-Джорджесе или гулял по джунглям Гранд-Этанг у подножия гор, оглядываясь на корабль. Тем, кто возвращается на судно и бежит смывать грязь и переодеваться в смокинг. А потом матросы поднимают якорь и судно отчаливает, а пассажиры спускаются на ужин в зеркальную столовую, откуда уже доносятся звуки легкой фортепианной музыки, исполняемой каким-нибудь Лютером из Украины. Как и полагается, он никогда не сходит на берег, равнодушно, словно Колумб, дожидаясь пассажиров на палубе. И вот от корабля остается лишь рябь на воде.
Мы добирались туда три недели, каждая морская миля, каждый фут воды отдавались во мне морской болезнью и сыростью. Отчаянно цепляясь на перила, я сползал на пол, но наше суденышко все-таки переплыло море. И когда однажды рано утром мы бросили якорь в порту Сент-Джорджеса и, заспанные, сошли на берег, оставляя на песке первые следы, в то утро настало новое время, лучшее время. Такие годы хочется вставить в рамку и отправить друзьям. И лишь спустя ровно девять лет мы уедем оттуда — я, Эйдис и наш сын Якуп, — лишь спустя девять лет мы сядем на последний вечерний автобус до аэропорта в Пойнт-Салинесе, пристегнем ремни и покорно прослушаем правила безопасности. А через несколько минут самолет поднимется над островом, над Карибским морем и перенесет нас сначала в Венесуэлу, затем на юг, в Рио, а оттуда в Амстердам, Осло и, наконец, в Ставангер, где мы и останемся, купим уже через месяц квартиру, вновь сольемся с городом, комнатами, плохой погодой и обычными днями, словно я никогда отсюда не уезжал.
Однако это произойдет только через девять лет.
Чем же мы занимались все это время?
Что с нами стало?
Дела наши шли на поправку, мы выздоравливали, становясь наконец самими собой, и оказалось, что нам придется вновь узнавать друг друга. Выздоровлением мы во многом обязаны Эйдис. Она оказалась нам действительно нужна: она принимала за нас решения, улаживала возникающие сложности, она двигала нашу жизнь, пока не убедилась, что мы сами встали на ноги и что если нам ничего не помешает, наша жизнь будет ровно и размеренно катиться вперед. Ушло на это два года. Мы продали корабль, переехали из большой квартиры в Сент-Джорджесе в старый дом в Гренвилле, доставшийся нам почти бесплатно от довольных соседей, которые были рады уже тому, что там кто-то поселится. Изрядно побегав по инстанциям, мы получили постоянные разрешения на работу и проживание, а Хавстейну, чьи документы проверялись с особой тщательностью, разрешили даже работать по специальности. Взяв в напарники соседей с близлежащих хозяйств, мы открыли собственное предприятие. Все это было неплохо, во всяком случае, нам так казалось. По вечерам мы — одни или с соседями — сидели на берегу, у Эйдис рос живот, Карл вновь занялся фотографией, запечатлевая нас, опьяненных счастьем, на пленке, время шло, а бороды отрастали. Я не мог оторвать взгляда от Эйдис, не мог отойти от нее. Бесконечными вечерами, которые теперь превратились в один долгий вечер на побережье, мы вспоминали Фареры и Софию. Она должна была приехать с нами, ей бы понравилось здесь, тот же вид, а погода лучше. Она, наверное, разъезжала бы на автобусах и жаловалась на дождь, не знаю. Мы вспоминали, а время у нас за спиной отрывало календарные листочки.
Раз в два года ровно на две недели приезжали мама с отцом. Первые два дня после приезда отец нервничал и тревожился, но мало-помалу привык и в последние годы даже начал водить нас в особые рестораны Сент-Джорджеса. Словно самый настоящий старожил, он здоровался с владельцем и вел себя как великий бродяга-путешественник. Мы регулярно звонили друг другу и писали открытки, они ежемесячно присылали мне «Ставангер Афтенблад», поэтому я был в курсе всех новостей. Подключившись к Интернету, мы рассматривали через веб-камеры Фареры, наблюдая, как с годами меняется облик Торсхавна, Клаксвика и Тверэйри. Мы смотрели, как выпадает и тает снег, и видели новогодние фейерверки. Если в поле зрения попадали человеческие фигурки, мы вглядывались в них, пытаясь узнать, но это нам никогда не удавалось, они так и оставались фигурами на экране, нам с ними было не по пути, в их жизнях места для нас не находилось.
Может, благодаря солнцу, тому, что круглый год температура не опускалась ниже тридцати восьми градусов, может, благодаря четырем тысячам гектаров растущего вокруг леса, а возможно, и благодаря чему-то еще, в Гренвилле Хавстейн стал счастливее. Ему больше не приходилось за нами присматривать, мы заботились друг о друге, а когда через четыре года архивы, перевезенные сюда по разбитым лесным дорогам, окончательно уничтожила влага, он, по-моему, испытал облегчение. Ему даже выбрасывать их не пришлось: документы исчезли сами собой, оставалось только сидеть и ждать. И хотя произошло это по чистой случайности, мне нравится мысль, что это неспроста, что все на свете проходит само собой, надо только набраться терпения. В конце концов Хавстейн выкинул остатки архивов и поставил на полки диски и книги как свидетельство здоровья, вещи, о которых не надо заботиться и тревожиться. После того разговора на Фабрике в Гьогве, когда Хавстейн рассказал, зачем собирал архив, мы с ним никогда больше не обсуждали эти бумаги. А после того, как их не стало, вообще никогда их не упоминали.
После того, как мы прожили в Гренаде четыре года, родился Якуп. Мы с Эйдис сидели на заднем сиденье, а Хавстейн на полной скорости вез нас в больницу в Сент-Джорджесе. Помню, я очнулся на полу в родильном отделении, как когда-то мой отец. Я сразу же, посреди ночи, позвонил домой и разбудил его. Мне так и представлялось, как он стоит в пижаме у старой телефонной тумбочки в нашем доме в Ставангере и отмахивается от мамы, которая пытается вырвать у него трубку. С небольшой задержкой, но мы слышали друг друга. Мне хотелось позвонить в НАСА и поинтересоваться, не произошло ли чего в космосе в то утро, но я так и не позвонил. Теперь мне не было никакого дела до космоса, в Гренаде тоже происходило много интересного, и я почти уверен, что в тот момент Земля замедлила скорость вращения, чтобы Якуп мог безопасно ступить на ее поверхность.
И в ту ночь кое-что произошло, верно ведь?
Да, произошло.
Многое произошло.
Я хотел, чтобы Якупа увидел весь мир.
Чтобы все на него посмотрели.
На него, этого удивительного человечка, появившегося на свет в Гренвилле, Гренада, на острове Карибского бассейна.
Тогда я думал об отце. О его словах. Что ему жалко, что я перестал быть ребенком.
Если речь вообще может идти о сожалении. Если это не обычное волнение.
На следующее утро, когда Эйдис с Якупом спали в больничной палате, я рассеянно перебирал компакт-диски в маленьком магазинчике в Сент-Джорджесе. Отсутствующим взглядом я смотрел на музыку растафари и диски с мелодиями на свирели, как вдруг дыхание у меня перехватило, а по коже пробежал мороз. Я словно опять оказался за тысячи километров к востоку отсюда. В руках я держал последний альбом «Кардиганс», «Ушедший задолго до наступления дня». Я огляделся по сторонам, словно ожидая, что все это окажется шуткой, а из-за прилавка появится вдруг улыбающаяся София, посмотрит на меня и рассмеется. Стоя на острове в Карибском море, я держал в руках диск со скандинавской поп-музыкой. Однако ничего такого не произошло. Остальные покупатели не замечали меня, уткнувшись носами в старые виниловые пластинки и кассеты, а у хозяина были свои дела. Без интереса взглянув на обложку, он принес со склада диск. Съездив в больницу, я просидел потом всю ночь с наушниками, которые когда-то взял у Карла. Я сидел в гостиной и раз за разом слушал этот альбом, вчитываясь в тексты песен, напечатанные на обложке, и отыскивая нас самих между строк. Нина Перссон перекрасила волосы, теперь они были черными. Ей шло. Думаю, Софии понравилось бы — и волосы и музыка. Если бы она могла, она бы все стены исписала этими текстами. Ей бы и Эйдис очень понравилась, она бы взяла на руки Якупа и принялась танцевать с ним в большой гостиной, распевая, как она нас всех любит, каждого из нас, ведь мы того заслуживаем. Сидя у нее в комнате, мы по ее требованию старательно прислушивались бы к каждому слову и каждому аккорду, доносящемуся из колонок.
Гренада. Девять лет. Первые два года мы находили какую-то мелкую работу, Палли с Анной работали на круизном судне, в баре, их неделями не было дома. Остальные после работы в Сент-Джорджесе отправлялись вместе на пляж, купаться. Эйдис попыталась выучить патуа, чтобы было проще общаться с самыми старыми и несговорчивыми местными жителями, не знавшими английского. До конца она его так и не освоила, но и мы, и местные крестьяне с интересом слушали эту растаманско-эйдийскую тарабарщину, смесь всех языков острова, мы шутили, что ей нужно бы запатентовать этот патуа-фарерский и издать учебники, чтобы получился новый бесполезный эсперанто. Позже, переехав на восточное побережье, в Гренвиль, и перестав общаться с маленькой группой американских и европейских иммигрантов, мы занялись производством какао, скооперировавшись с соседями. Выращивали мы не очень много, но на плаву держались, регулярно отвозили продукцию в столицу, где с нами расплачивались наличными, и мы возвращались домой, а какао погружали на корабли и везли на другие острова, в Тринидад и Тобаго, например, или в Великобританию, Германию и Нидерланды. Мы еще подумывали об овцеводстве, такая возможность тоже была, но, обсудив все, мы сообща отказались от этой идеи. Ведь, в конце концов, мы специализировались на деревянных овцах, к тому же там, откуда мы приехали, мы уже вдоволь насмотрелись на овец.
Так мы стали выращивать какао, подозрительно оглядывая небо, в страхе, что в любой момент может налететь тропический ураган и погубить весь урожай. Однако ураганов мы так и не дождались. Еще я помню, как мы отправлялись на прогулки, когда надоедало сидеть на берегу, мы бродили по влажным лесам между тиковыми и красными деревьями, и я чувствовал себя Колумбом или Робинзоном Крузо. Я отыскивал новые дорожки, неизвестные места, мы забирались к вулканическому озеру Гранд-Этанг и, опустив ноги в нагревшуюся воду, смотрели вдаль, совсем как в то далекое утро на горе Скелингсфьялл, обсуждая дальнейшие планы и нововведения, благодаря которым работа наша станет проще и эффективнее.
А еще я помню тот день, когда мы решили вернуться домой.
Она болела уже давно, и отец хотел, чтобы оставшуюся часть ее жизни мы провели с ней. Спустя несколько дней мы вместе сидели в гостиной и смотрели по телевизору синхронное плавание. Помню, узор был похож на распускающийся цветок, а потом пловцы начали образовывать другие узоры, сложнее, чем когда-то делала мама. Теперь даже синхронное плавание было не для нее. И однажды ночью, пролежав четыре или пять дней в центральной больнице, она тихо умерла. В тот момент рядом с ней был только отец, мы навещали ее перед этим, днем, мы принесли тогда конфеты — вечный больничный шоколад, который сами и съели, она отказалась. Она тогда много дней не ела.
Вот так мы и остались в Ставангере. Эйдис объявила о нашем переезде за несколько дней до отлета. Пора бы, мол, возвращаться домой, но обратно на Фареры ей не хотелось, во всяком случае, не сразу. Она хотела пожить в Ставангере, ведь она и не собиралась до старости сидеть в Гренаде. А я как на это смотрю? Да. Что-то я давно не бывал дома. Якупа мы тоже спросили. Мы боялись, что он будет против, ведь в этом полушарии оставались все его друзья, но он на удивление легко согласился. Якуп был ко всему готов, хотя потом он долго дрожал от холодной дождливой погоды. Я водил его по Ставангеру, показывал Бюхаугскуген и озеро Стоккаваннет, мы вместе спускались от Кампена через усадьбы в Эйганесе по Фарейгата до театра, а потом поднимались к Воланну, где когда-то жил Йорн.
Хавстейн, Анна, Палли и Карл решили остаться в Гренаде. В последние дни мы подумывали, не переехать ли нам в Ставангер всемером, но мне в такое с самого начала не верилось. Хавстейн не смог бы еще раз начать все сначала, да и климат сыграл свою роль. Температура воздуха. Годами нажитое добро. Стабильный достаток на всю жизнь. Против этого мне было нечего возразить. И тем не менее во мне жила какая-то детская надежда, что в последний день они передумают, все бросят и уедут с нами. Однако этого не произошло. Мы уехали втроем, а после нашего отъезда оставшихся на острове не покидало смутное чувство разочарования, словно мы поступили нечестно, бросив их на произвол судьбы. Может, так оно и было, да еще из-за расстояния между нашими странами телефонные разговоры со временем становились все короче и короче, созванивались мы все реже, а спустя несколько лет и вовсе перестали.
В скором времени у нас — у меня, Эйдис и Якупа — вошло в привычку каждое лето ездить на Фареры, в гости к родителям Эйдис. Заезжали мы и к Оули, Сельме и Софусу. Малышу Софусу исполнилось двадцать пять, он жил на улице Доктор Якобсенсгета, занимался рыболовством, женился, но не на Оулуве (она так и не вернулась) и не на Аннике. А на другой девушке, через четыре месяца после знакомства. Приезжая на Фареры, мы обязательно в первый же день заходили к ним в гости и ели вяленое мясо или гринду, ведь, когда во фьорд заходили гринды, Софус был одним из первых забойщиков, он часами мог простаивать в воде с гарпуном наготове, а жена его стояла на берегу и любовалась. Дела у Софуса шли хорошо, и где-то в глубине души я тешил себя мыслью, что, может, все это благодаря нашей с ним встрече, машинке с пультом управления, которую мы водили по улицам Гьогва, конструкторам и нашим разговорам. Но все же я сознаю, что это здесь ни при чем.
Пару раз бы брали с собой отца. Мне же, когда я приезжал в Торсхавн и прохаживался по давно знакомым улочкам, вдалеке чудились фигуры Хавстейна и всех остальных, словно я верил, что они вернутся и продолжат начатое когда-то. Но мне это просто чудилось. Еще мы ездили в Саксун, тогда я брал с собой садовые ножницы и аккуратно подрезал траву на могиле Софии. Тогда во мне вновь просыпался садовник, я мог просиживать там долго, на корточках, кропотливо обрабатывая почву, сажая новые цветы и заставляя землю вздохнуть поглубже. И конечно, в Гьогв, туда — обязательно, на месте разрушенной Фабрики остались лишь мешки с цементом — не знаю уж, что там собирались выстроить. А сам Гьогв словно проснулся после зимней спячки: в покрашенных и отремонтированных домах вновь стали жить люди, лужайки выглядели ухоженными, а в ясные летние деньки у бухты было на удивление многолюдно. Как и многие другие маленькие деревеньки на Фарерах, Гьогв вновь расцвел, год от года становясь сильнее, местные жители так просто не сдавались. Медленно, но верно деревеньки начали расти, вставать на ноги, и когда мы приезжали туда в прошлом году, проходя мимо маленького магазинчика, который был так долго закрыт, я заметил, что его вновь открыли. Я зашел, купил мороженого и, взяв его с собой на берег, уселся в траве. Сидя там, я просто осматривал окрестности, когда вдали увидел ее, потемневшую деревянную лодку. Я подошел поближе. Да, это была она самая — лодка Оули, на которой в канун Нового года мы плавали спасать Карла. Одна банка была сломана, наверное, мы слишком сильно на нее надавили, когда возвращались на берег, ведь мы тогда так испугались, а может, обрадовались, даже не знаю.
Эйдис с Якупом, забравшись на поросший травой склон и держась за изгородь над самым обрывом, наблюдали за тупиками, которые, распростерши крылья, летели по своим птичьим делам. Потом они тоже спустились к лодке. Обняв Эйдис и сына, я старался не слышать возгласов туристов, которые высовывались из автобуса и размахивали панамками и фотоаппаратами. И тогда я подумал, что мне тоже стоило бы захватить фотоаппарат и заснять нас троих на этом самом месте. А потом, проявив и напечатав снимок, я мог бы показывать пальцем и говорить:
Это мать.
Это отец.
Это мы.
Это Семья.
Момент для снимка на пленку «Кодак».
Последний. Больше не будет.
Апрель. Мне сорок девять лет. А это наша квартира, на втором этаже. Мы живем в Ставангере. Подойдя вплотную к окну и немного наклонившись влево, можно увидеть почти весь центр города. Суббота, небо затянуто тучами. Неделями не прекращается дождь. Ты незнаком со мной, тебе неизвестно, кто я. Я могу оказаться кем угодно. Однако я тоже существую, тоже подписываюсь на газеты, летом еженедельно кошу траву на лужайке, использую правильную технику для мытья машины и в телемагазине заказываю американские моющие средства для чистки садовой мебели. Я хожу в кино, переливаю пиво в стаканы и никогда не пью прямо из бутылки, с половины пятого до пяти двадцати пяти я смотрю серии передач по телевизору, и у меня есть «Домашнее собрание доктора Фила» на ди-ви-ди. По утрам я просыпаюсь, одеваюсь и в восемь выхожу на работу. Где я работаю — совсем не важно. Но лучше меня эту работу выполняет лишь один человек. Случается, меня, как и прежде, мучает бессонница, иногда я вообще не ложусь по ночам, а в семь встаю из-за письменного стола и иду в душ. Иногда я ложусь рано, ставлю у постели старый метроном и через час засыпаю под ровное тиканье. Я — тот, кто стоит перед тобой в очереди в магазине и кого ты почти не замечаешь, о ком сразу же забываешь, начав раскладывать по пакетам продукты и беспокоясь о том, что сегодня — твоя очередь готовить ужин. Я — тот, кто на концертах стоит посредине зала и, вызывая группу на бис, хлопает не слишком громко, но и не слишком тихо. Я тоже голосую. Вовремя подаю тщательно заполненную налоговую декларацию. Отмечаю на календаре время родительских собраний. Когда ты едешь на работу по велосипедной дорожке мимо стоящих машин, моя будет сорок третьей.
Стоя на кухне, я переливаю кофе сначала из кофеварки в термос, а потом — из термоса в чашку. На подоконнике неизменно пылятся четыре диска. «Первая группа на Луне», «Жизнь», «Гран туризмо», «Ушедший задолго до наступления дня». Я смотрю на часы. Время пока раннее. На восточном побережье США сейчас только пять утра, во Флориде спит Баз Олдрин, и снится ему Вселенная, а может, смерть. В гостиничном номере в Огайо спит Йорн, а возможно, и не спит, а только что закончил выступление и не может уснуть. Они уехали три недели назад, еще одно пятимесячное турне, потом они направляются в Европу, затем — в Японию, Австралию, их группа входит в историю. На холодильнике у меня висит расписание их концертов, я слежу за их разъездами, указывая стрелочками передвижения с одного континента на другой и отмечая крестиком города, где они выступают.
Перед их отъездом мы часто встречались с Йорном, по меньшей мере пару раз в неделю. Снег еще не сошел, и как-то вечером мы отправились на гладкие скалы, где не были лет двадцать пять, а ведь летом и осенью 1986-го почти каждый день туда ездили. Через некоторое время после того, как мы начали встречаться с Хелле, мы перестали там бывать, не знаю точно почему, может, Йорн чувствовал себя третьим лишним, а может, Хелле словно присвоила себе это место. Возможно, и то и другое. Но несколько недель назад мы с Йорном опять туда съездили, подстелили куртки, уселись и стали смотреть на психиатрическую лечебницу Дале, расположенную по другую сторону Грандфьорда. Свет в окнах не горел, хотя вечер только начинался. Йорн сказал, что когда-то там сделали приемник-распределитель для беженцев, может, он и сейчас еще существует. И тогда Йорн вновь заговорил о своем брате, я не понимал, почему он мне раньше этого не рассказывал, ни слова не проронил. Брат его тоже исчез, случилось это весной 2001-го, просто однажды, когда родители Йорна вернулись с работы, комната его брата оказалась пустой, а постель — убранной. Принялись искать, был объявлен международный розыск, но его никто не видел, на расстоянии ста метров от дома следы обрывались, и поэтому все казалось возможным и необъяснимым. А еще Йорн рассказал про Роара. Тот теперь работает в одной компании, которая выпускает автомобильные воздушные подушки нового вида, он устроился туда через год после моего отъезда. Йорн потом почти потерял с ним связь, в основном читал про него в газетах: эти подушки оказались ненадежными и опасными для жизни, вокруг них было поднято много шума. Йорн встречался с Роаром лишь случайно — в магазинах, ресторанах, и я сказал, что, мол, и такое бывает, и спросил, не встречал ли он за эти годы Хелле. Да, встречал, у нее дети, двое.
— Они красивые?
— Кто, ее дети?
— Ну да.
— Нет.
Я ничего не сказал, но я и сам ее видел, всего четыре дня назад, в центре. И детей тоже видел, они красивые, она шла прямо навстречу, и мне захотелось подойти к ней и поздороваться. Однако в последний момент я передумал, столько времени прошло, бессмысленно как-то, поэтому я натянул шапку на лоб и потупился, а подняв глаза, понял, что она все равно не узнала бы меня, ведь я совсем изменился. И последнее, что я видел, — это как она переходит улицу и заходит с детьми в магазин.
Мы с Йорном много говорили о прошлом. Он сказал, что любить кого-то — это все равно что плыть в одной большой лодке, и если один разлюбил, то надо подождать, пока лодка пристанет к берегу, чтобы другой мог добраться до суши. Он сказал:
— Только, знаешь, Матиас, мне кажется, ты был слишком далеко от берега. Ты как будто утонул на полпути. Может, тебе нужно было сесть в спасательную шлюпку.
— Да эти шлюпки тоже не всегда спасают, — сказал я, — они тоже иногда тонут. Я сам такое видел.
— Надо же.
— А ты знал, что с каждым годом уровень воды в море увеличивается на сантиметр?
— Нет.
— А ведь так оно и есть.
— Ну, тогда надо запастись резиновыми сапогами.
— Как у Даниэля Непромокаемые Сапоги.
— Чего-чего?
— Телепередача для детей, шла в восьмидесятые.
— Ты что, смотрел в восьмидесятых детские передачи?
— А что, надо было что-то другое смотреть?
— Вообще-то нет.
— Даниэль из одной волшебной страны льет на сапожки литры воды, — запел я, — воды, парафина и канистру бензина, и сапожки всегда аккуратны, чисты.
— Я смотрю, я многое упустил.
— Ты даже и не представляешь сколько.
Мы пару секунд помолчали.
— Ну а группа как? — спросил я. — Вроде как дела в гору идут? Ваши пластинки хорошо продаются?
— Ясное дело, — ответил Йорн, — мы новый альбом записали. После Рождества поедем в турне.
— Куда, в Америку?
— В Америку, Европу, Азию. По всему миру.
— Рад за тебя.
— Хочешь, поедем с нами, будешь звукооператором.
— По-моему, не особо хорошая идея, — ответил я, и мы рассмеялись. Запустив руку в карман куртки, Йорн вытащил оттуда диск и протянул мне:
— Это тебе.
— Спасибо, — ответил я и посмотрел на диск. «Перклейва. Self-sufficience Please!»[105] Я немного повертел его в руках, а потом положил в карман.
— Кстати, я тебе верну те пятнадцать тысяч крон.
— Да они мне больше не нужны.
— Как знаешь.
— Мы же услышали, как ты поешь. Это, пожалуй, того стоило.
— Правда?
Я улыбнулся.
— Ага, — ответил он, — с какой-то чокнутой точки зрения — да.
Я еще раз, по просьбе желающих, спел песенку про Даниэля и сапоги, а потом рассказал, как в последний вечер на Фарерах пел «Forever Young». Йорн, старый фанат «Альфавилль», заулыбался:
— Именно из-за этой песни я и основал группу. Из-за «Forever Young».
— Знаю.
— И еще из-за «Big in Japan». Я ее просто обожал.
— Ну, будем надеяться, ты им скоро станешь.
— Кем?
— Великаном в Японии.
— Ага, вот увидишь.
Апрель. Того и гляди наступит лето, оно уже делает первые попытки.
Я смотрю на часы.
Сейчас?
Возможно.
Почему бы и нет?
Я выхожу в коридор, иду мимо открытой двери в комнату Якупа. Ему двенадцать лет, и на кровати по-прежнему спит пара плюшевых мишек, но не пройдет и года, как их спрячут, а на их место придут другие, более взрослые вещи. Он уже завесил стены картинками и рисунками, газетными вырезками, плакатами незнакомых мне музыкантов и фильмов, ну, за исключением «Перклейвы» — этот огромный постер ему подарил Йорн, и все друзья Якупа зеленеют от зависти. Я надеваю кроссовки, спускаюсь по лестнице, открываю дверь и иду к почтовому ящику, все как обычно, я всегда немного радуюсь, когда достаю почту.
Я открываю дверцу ящика и заглядываю внутрь.
В ящике лежит письмо.
Такое очень редко бывает.
В основном одна реклама.
На этой неделе скидки на бытовую технику.
А на прошлой предлагали две упаковки мясного фарша по цене одной.
Талончики, по которым можно бесплатно получить пакетик растворимого супа.
Пылесосы. Электродрели. Летняя одежда. Машины зарубежного производства. Дома.
Однако сегодня в ящике лежит письмо.
Я достаю письмо, несу его в дом и выхожу по коридору в маленький садик. Становится теплее — я это в последнее время замечаю, будто что-то сдвинулось с места, а воздух стал мягче и нежнее. Я наконец вылез из зимних сапог и обул голубые кроссовки. Я стою в саду, посреди цветов — прижавшись друг к дружке, их всходы теснятся в кадках и ящиках — и смотрю на конверт. «Авиапочта. Карибы». Почтовый штемпель Гренады. Я надрываю конверт и вытаскиваю письмо, раньше писем не было. Читая, прикрываю бумагу рукой, чтобы дождик не размыл чернила, и если посмотреть со стороны, с Луны, например, или, если хочешь, из космоса, то сначала увидишь планету, которая крутится вокруг собственной оси и тянет за собой тучи и дождь, под ними увидишь море и сушу, огромные участки суши — на первый взгляд она кажется необитаемой, но на самом деле перенаселена, а если еще приблизишься, то видны становятся огромные постройки, города, затем — более мелкие предметы, машины и дома. Становится ясно, что во многих странах идут войны, а в других местах люди живут обычной, повседневной жизнью. Ты увидишь, как они дерутся, обнимаются или бросают друг друга, а когда до поверхности останется метров сто, ты увидишь почти незаметного человечка, который боится стать заметным. Он стоит возле клумбы с тюльпанами с письмом в руках, стоит посреди сада, прямо на земле. И пока он читает, кожа его покрывается загаром, последние недели выдались дождливыми, а тучи, приплывшие из Селлафилда, висят над городом, где он живет, но сейчас они расступились, он вчитывается в строки, затем кладет письмо обратно в конверт, сгибает его, убирает в задний карман и возвращается в дом. Он поднимается по лестнице, открывает дверь, входит, а когда дверь закрывается, о нем уже позабыли, но это не важно, потому что он — совершенно такой же, как и ты. Он тоже пользуется стиральным порошком без красителей, тоже смотрит «Мелоди Гран При» и до вечера следит за голосованием. Он тоже ждет осенних скидок на авиабилеты. В очереди в магазине он стоит за тобой, он — один из сорока пяти процентов согласных или несогласных в еженедельных опросах на разные темы, о существовании которых ты вообще не подозревал. По велосипедной дорожке ты возвращаешься домой с работы — его машина будет тридцать седьмой в колонне.
Ему просто хочется, чтобы сейчас ты оставил его в покое.
Однако если ты отдалишься на несколько километров и чуть-чуть подождешь, то увидишь, что каждую ночь сотни людей на этой планете ложатся на спину, смотрят в космическое пространство и думают, что во всем этом должен быть какой-то смысл, потому что эта бесконечная пустота не может быть бессмысленной. Не может быть, чтобы планеты, галактики, спутники, звезды, сателлиты, метеориты и кометы просто беспорядочно вертелись, должна существовать какая-то цель, ведь это же не просто небесная модель одиночества, и речи быть не может. Они отыскивают созвездия, ждут, когда упадет звезда, а потом закрывают глаза и бормочут, загадывая что-нибудь, что никак не может просто свалиться с неба. Вслух они об этом не говорят, но они надеются, что там, наверху, есть кто-то, кто со знанием дела управляет всей этой лавочкой, кто несет за них ответственность и заботится о них, пока жизнь их медленно идет в гору или катится по наклонной, пока они работают или сидят дома, в квартирах или домах. Пусть там будет что-то, что сможет объяснить, почему исчезают друзья или почему коллеги перестают звонить, узнав, что ты болен. Однако это неправда. Наверху никого нет, земной шарик по старой привычке вертится со скоростью в сотни километров в час, а люди лежат на траве и, возможно, тоже понимают, что если бы Богу они вообще понадобились, то Земля стала бы последним местом, где Он бы стал их искать, потому что «нет ничего бесконечнее пространства», или как там это изречение звучит. Бог бросил бы поиски, даже не добравшись досюда, для этого просто-напросто понадобилась бы куча времени. Поэтому в ожидании всего или ничего они благодарны за то, что у них есть. Они делают бутерброды, выходят, садятся в машины и едут, даже по неизменным вторникам, едут по своим делам или в гости к друзьям и родственникам. И тем не менее они отправляют космические зонды — они пытаются отыскать воду на Марсе или спутники у Юпитера, в надежде обнаружить хоть что-нибудь, найти доказательство того, что кто-то о них заботится. Что этот кто-то скажет: я вижу вас, вы — молодцы, вы приносите пользу, вы не одиноки.
for what it’s worth[106]
«Где ты теперь?» — роман. Это означает, что все в нем неправда, герои (а также их имена) не имеют реальных прототипов, а описанные события никак не связаны с реальными событиями, происходившими на Фарерах или в Норвегии, и все в таком духе. Исключениями являются П. Ламхауге, который действительно существует и занимается туристическими экскурсиями по Вестманне, и норвежская группа «The Kulta Beats», которая разрешила (по)пользоваться их именами. Баз Олдрин, Уильям Хаглунд, Самуэль Микинес и другие исторические личности, чьи имена используются в романе, действительно существуют/существовали.
В романе содержатся заимствования, цитаты, выдумки, украденные высказывания и фразы, принадлежащие «The Cardigans», Яну Эрику Волду, Алану Флетчеру, Джо Сакко, «R. Е. М», Джону Эрику Райли, Вуди Аллену, Стиву Мартину, «deLillos» и огромному количеству других людей. Помимо этого, со страницы 332 книги Ларса фон Триера и Нильса Ворсела я украл теорию о страхе прикосновений. На роман также оказали большое влияние некоторые произведения, в числе которых «Ключ от соседского дома» Элизабет Ньюффер, «Боги, полубоги и демоны» Ангуса Калдера, «Вернуться на Землю» Эдвина Э. «База» Олдрина-мл., «Первые на Луне» Армстронга, Олдрина и Коллинза и, наконец, «Путеводитель Филдинга по островам Карибского бассейна и Багамам» Гарри и Джинн Темплов.
Иногда работа с книгой представляет собой коллективный труд, поэтому я должен выразить благодарность Кристине, Харалду, Юхану, Эйрику, Бьорну Эрику, Юханнесу и Юну Эрику за то, что они помогали мне управлять этим кораблем, и Марте, которая летом 2000 года в Телемарке рассказала мне совсем другую историю. Я также благодарю Хельге, Хеннинга, Келли, моих родителей, Торкеля, Сюсанну Дьуурхюс, Гейра Полена и «The Kulta Beats». Неоценимую помощь оказали мне Оддвар, Эйнар, Ларс и Ирене из издательства «Гюльдендал». В Дании: Томас Виеснер, Фредерик Нергаард. На Фарерах: огромное спасибо Оулуве и Греттуру Дьуурхюсу, Ролвуру и Ханне Эллине Дьуурхюс, я от всего сердца благодарю вас за вашу необыкновенную доброту ко мне, которую вы проявили летом 2003-го и осенью 2004-го, за то, что вы многому меня научили (в одиночку, без вас, я бы не справился). Я желаю вам всего наилучшего (мы к вам обязательно приедем, вот увидите!) и особую благодарность выражаю Харалду Дьуурхюсу, который отличился тем, что вывел нас из туманов Стреймоя и Ваугума. Большое спасибо Нильсу Якупу Томсену из Городской библиотеки, Гуннару Хойдалу, жителям Гьогва, «Кафе Натюр», Информационному отделу Торсхавна, Эйдбьорну Хансену из проката автомобилей, «Føroya Bjór» и всем дружелюбным жителям Фарер, которые обо мне заботились. И еще спасибо тем, кто приходил к нам в Хавни, спасибо за ваши советы, за песни и за слова, что нелюбимых детей не бывает.
Эта книга посвящается моему хорошему другу Эйрику Лонгуму — тому самому, кто на школьных уроках рисования раскрашивал горы в зеленый, когда остальные рисовали их серыми, и который рассказал мне об Этой Стране уже в 1986-м. Спасибо тебе. Без тебя и твоей помощи этой книги не было бы.
Space is the place.[107]
Примечания
1
He останавливайся, начинай опять, He говори, когда я руки стану опускать. «Серфингист в водовороте» (1999) — песня норвежской группы «Motorpsycho». (пер. О. Моисейкиной.) (обратно)2
Первая группа на Луне (англ.). Части книги носят названия альбомов группы «Кардиганс». (Здесь и далее примечания переводчика.)
(обратно)3
В Селлафилде находится крупнейшая атомная станция Великобритании. Норвегия неоднократно выражала свое недовольство по поводу регулярных утечек радиации и радиоактивного загрязнения Северного и Норвежского морей в результате деятельности АЭС.
(обратно)4
Величественно. Такая величественная пустота (англ.).
(обратно)5
«Ладно, друг, прощай» (исп.).
(обратно)6
Я опоздала? Ты уже ушел? (англ.)
(обратно)7
Сожалею (вьетнамск.).
(обратно)8
Александер Кьелланд (1849–1906) — норвежский писатель, представитель норвежской натуралистической школы, автор романов «Гарман и Ворше» и «Яд».
(обратно)9
Затерянный в космосе (англ.).
(обратно)10
Дни нашей жизни как песок в песочных часах (англ.).
(обратно)11
Хьюстон, у нас проблема (англ.).
(обратно)12
Выключить двигатель (англ.).
(обратно)13
«Игл» совершил посадку (англ.).
(обратно)14
Люк… Люк, я твой отец (англ.).
(обратно)15
Здравствуй, юный космонавт (англ.).
(обратно)16
Море Волн (лат.). Имеется в виду название одного из морей на Луне.
(обратно)17
Бушующий океан (лат.).
(обратно)18
Будь наготове (англ.).
(обратно)19
23 декабря.
(обратно)20
Когда вы загадываете желание под падающей звездой, мы исполняем все, что вы пожелаете (англ.). (обратно)21
Мы с Базом (англ.).
(обратно)22
Университетский район Бергена.
(обратно)23
Включить контактное освещение. Выключить систему. Хорошо, остановить работу двигателя (англ.).
(обратно)24
Включить предохранители (англ.).
(обратно)25
Перейти на автоматический режим работы. Отключить независимое управление двигателя посадки (англ.).
(обратно)26
Отключить консоль двигателя (англ.).
(обратно)27
«Игл», мы за вами следим (англ.).
(обратно)28
Хьюстон, уф-ф… Хьюстон, говорит База Спокойствия. «Игл» сел (англ.).
(обратно)29
Роджер Твэнк… База Спокойствия, мы тут на Земле следим за вами, наши ребята просто позеленели. Спасибо, мы опять можем вздохнуть (англ.).
(обратно)30
Спасибо (англ.).
(обратно)31
А вы там неплохо смотритесь (англ.).
(обратно)32
Ладно, мы сейчас займемся делом (англ.).
(обратно)33
Компания, занимающаяся производством табачных изделий.
(обратно)34
Распространенное в Норвегии движение автотранспорта при снежных заносах: машины собираются в колонны, впереди которых едет снегоочиститель.
(обратно)35
Туристическая достопримечательность в Южной Норвегии, недалеко от Ставангера. Небольшой камень, застрявший между двумя скалами.
(обратно)36
Скажем так, я был глубоко несчастлив, но я не понимал этого, потому что все время чувствовал себя таким счастливым (англ.).
(обратно)37
Тебе ничего не нужно, кроме любви (англ.).
(обратно)38
Экстренный пуск. Игра закончена (англ.).
(обратно)39
Я знаю лишь то, что когда твой самолет должен был взлететь, если бы это было в моих силах, я повернул бы вспять ветры. Я бы нагнал туману. Я бы вызвал бури. Я бы изменил полюсы земли, чтобы компасы вышли из строя. И тогда твой самолет не улетел бы (англ.).
(обратно)40
Одна из крупнейших в Скандинавии судоходных компаний.
(обратно)41
Вот и конец света, каким мы его себе представляли (и я прекрасно себя чувствую) (англ.).
(обратно)42
Молоко (фарерск.).
(обратно)43
Жизнь (англ.).
(обратно)44
Книга для детей норвежского писателя Гуннеля Линде о плюшевом медвежонке, с которым случаются разнообразные неприятности и которого хозяин вынужден постоянно спасать.
(обратно)45
Мадонна эфира (англ.).
(обратно)46
Млекопитающее семейства дельфинов.
(обратно)47
Современная норвежская музыкальная группа.
(обратно)48
«Отведи меня, пожалуйста, домой» (англ.).
(обратно)49
«Песня о переезде» (фарерск.).
(обратно)50
Времена меняются (англ.).
(обратно)51
Мумия человека, найденного на леднике Симилаун в Альпах в 1991 году.
(обратно)52
«Я никогда не узнаю, потому что ты никогда не узнаешь» (англ.).
(обратно)53
«Давай займемся любовью сейчас» (англ.).
(обратно)54
Мы будем вместе, ты и я.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла, твой новый чокнутый дружок (англ.).
(обратно)55
Путеводитель Филдинга по островам Карибского бассейна и Багамским островам.
1975 год.
Издательство «Филдинг Пабликейшнс».
Мэдисон-авеню.
Нью-Йорк (англ.).
(обратно)56
«Не спрашивай тех, кто там побывал. Спроси тех, кто там жил» (англ.).
(обратно)57
«Продай дом, продай машину, продай детей, я никогда не вернусь, даже не мечтай!» (англ.)
(обратно)58
Озеро в Ставангере.
(обратно)59
«Рассказывает, как избежать неприятностей в раю» (англ.).
(обратно)60
«Прости… Прости. Прости, пожалуйста» (англ.).
(обратно)61
— Вот, держите.
— Простите?
— Не унывай, дружище (англ.).
(обратно)62
Счастливого Рождества (фарерск.).
(обратно)63
Проливной дождь (англ.).
(обратно)64
Видар Ленн-Арнесен (р. 1940) — популярный норвежский певец, ведущий многих музыкальных телепрограмм.
(обратно)65
В печатном тексте зачеркнутые слова выглядят так:
(прим. верстальщика).
(обратно)66
«Сон наяву» (фр.).
(обратно)67
У меня был трудный день, пожалуйста, не надо фотографировать (англ.).
(обратно)68
Здесь разум уходит и начинается любовь. Без тебя мы бредем наугад (англ.).
(обратно)69
Аноним (лат.).
(обратно)70
Без имени (англ.).
(обратно)71
Матиас намекает на пьесу Ибсена «Кукольный дом» (1879), главная героиня которой, Нора, несколько раз на протяжении действия пьесы ест миндальное печенье.
(обратно)72
Винтовка для охраны дома, защита дома (англ.).
(обратно)73
Фильм (англ.), как противопоставление сериалу.
(обратно)74
«Игрушка для любой погоды» (англ.).
(обратно)75
«Брак под угрозой». «Как удержаться от убийства мужа/Как удержаться от убийства жены». «Три способа оставаться счастливым». «Проблемы и решения» (англ.).
(обратно)76
«Коммодор 64» — первый компьютер, попавший в свободную продажу, был очень популярен в 1980-х годах.
(обратно)77
«Из Дании с любовью» (англ.).
(обратно)78
Восьмиместная весельная лодка (фарерск.).
(обратно)79
«Черная овца», «паршивая овца» (англ.).
(обратно)80
Человек издалека (англ.).
(обратно)81
«С Новым годом. Меня зовут Карл» (англ.).
(обратно)82
«Луноход» (англ.).
(обратно)83
Сегодня не будет моментов для снимка на пленку «Кодак» (англ.).
(обратно)84
Очевидно, отсылка к строке из песни исландской певицы Бьорк: «If you complain once more you'll meet an army of me» — «Если не перестанешь ныть, я взбешусь».
(обратно)85
Имеется в виду конфликт между Великобританией и Данией (частью которой были в то время Исландия и Фарерские острова), возникший в 1893 году, когда правительство Дании попыталось ввести запрет на промысел рыбы иностранными рыбаками в пределах 13 миль от побережья.
(обратно)86
«Док-младший» или «бейби-Док» — Жан-Клод Дювалье-младший (р. 1951), президент Гаити с 1971 по 1986 гг.
(обратно)87
«Я люблю Фареры» (англ.).
(обратно)88
Время пообщаться с родными (англ.).
(обратно)89
Стремительный туризм (исп.).
(обратно)90
Я ходил гулять. В эти дни я мало разговариваю. В эти дни я много размышляю о том, что забыл сделать. А ведь мог бы (англ.).
(обратно)91
Рок мертвее мертвых (англ.).
(обратно)92
«История игрушек» (англ.).
(обратно)93
«Световой год Базза» (англ.).
(обратно)94
Грусть от всего содеянного (англ.).
(обратно)95
«Одному Богу известно, что стало бы со мной без вас» (англ.).
(обратно)96
«Я знаю, что ответ есть» (англ.).
(обратно)97
Ладно (англ.).
(обратно)98
«Безопасные зоны» (англ.).
(обратно)99
Перевод со шведского О. Моисейкиной.
(обратно)100
Парламент, высший законодательный орган на Фарерских островах.
(обратно)101
— Необходимо знать основу.
— А мне ее знать не надо, верно? (англ.)
(обратно)102
Как угодно (англ.).
(обратно)103
Ушедший задолго до наступления дня (англ.).
(обратно)104
«Начало, идея» (исп.).
(обратно)105
«Добро пожаловать — самодостаточность!» (англ.)
(обратно)106
Чего все это стоит (англ.).
(обратно)107
Космос — вот то самое место (англ.).
(обратно)



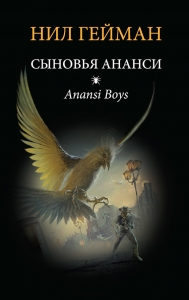
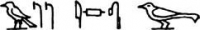


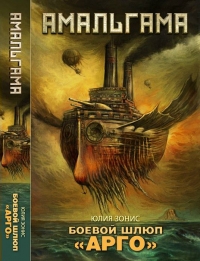
Комментарии к книге «Где ты теперь?», Юхан Харстад
Всего 0 комментариев