Максимов Феликс Евгеньевич: другие произведения.
Игра Журнал “Самиздат”: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Комментарии: 2, последний от 11/01/2008.
© Copyright Максимов Феликс Евгеньевич (felixmaximov@gmail.com)
Размещен: 19/01/2007, изменен: 23/08/2008. 246k. Статистика.
Повесть: Фэнтези Ваша оценка: шедеврзамечательноочень хорошохорошонормальноНе читалтерпимопосредственноплохоочень плохоне читать Аннотация: Не более чем фантазия на тему. Черновик.
“Лают собаки,
В город во мраке
Идет попрошаек стая:
Кто в рваной одежке,
Кто в драной рогожке,
Кто в бархате и горностае…”
Считалочка из английского сборника ” Рифмы Матушки Гусыни”
” … В Средние Века использовались и заменители часов, которые не измеряли время в цифрах, но определяли краткие временные вехи: ночь разделялась на “три свечи” …
Это были неточные инструменты, целиком зависящие от непредвиденной случайности, вроде облака, слишком крупной песчинки или мороза, а также от умысла человека, который мог удлинить или укоротить свечу…”
Жак Ле Гофф ” Цивилизация Средневекового Запада”
13.. год. 29 сентября праздник святого Михаила - архангела
Свеча первая. Чума.
Все - тебе.
Тебе, лукавой и прихотливой тонкопряхе из города Льежа,
Тебе, плясавшей о полночи в грибном кругу,
Тебе, преданной церковному и мирскому проклятию.
Тебе и только тебе, я говорю, что небо сегодня разделено перистыми облаками, как гриф ребека - ладами, и в закоулках Ньюкасла северный ветер тушит сальные плошки и брызжет ворванью в скулы ночного дозора.
На окраинах варят пиво, взошел Люцифер - и я вспомнил, как некогда следил горделивый ход утренней звезды сквозь пряди твоих волос.
Всю жизнь мы держим в клетке ребер жестокого хищника - человеческое сердце, воспоминания его - резцы, со временем сердце прогрызает нас изнутри, как лисица - живот маленького спартанца.
Сегодня резцы моего сердца особенно остры.
Слуга принес мне свечу, перо и пергамен не самого лучшего свойства - хозяева здесь скупеньки, но ждут моего писания, примерно, как старухи - обмывалки нового покойника.
Так извольте, я буду писать, пока не окоченеют пальцы и не потянет к фляжке с бордосским вином и холодной бараньей ноге - нынче домохозяева кормят и поят на славу.
Сейчас ты, верно, уже разделась и легла под полог, как всегда без молитвы, стиснув пальцы в вечный замок на груди.
Баюкая тебя, я буду вспоминать, облекая бедра твои в слова непрочные, как звенья йеменской цепочки.
Слушай, желанная.
Земля, где я был рожден, потерялась на болотистых берегах великой лимонно-зеленой реки, текущей на юго-восток.
Ложась на ветер, ворон облетает графство от края до края за три четверти часа, ни разу не взмахнув крылом.
Теперь я с легкостью могу рассказать о моих угодьях - жалкие проплешины паровых полей, луговины, где лежащий скот неотличим от камней, трясины, изрыгающие болотный газ и миазмы лихорадки, вызывающей жар и причудливые грезы, старые гари заросшие кипреем и чабрецом, малолюдные деревеньки, где на тростниковых крышах хижин козы щиплют траву.
Над зеленой, как вязкий сок, заводью взлетают позвонки римского виадука.
Город, несколько поселков, кладбища - покойникам было принято класть в головах валун без надписи, чтоб не встали: все это уже давно пережевано молодым подлеском, сквозь крыши безбожных церквей проросли яворы, оплетенные сатировыми бородами колючего плюща.
Если спросишь крестьянина в Шпессарте или Брабанте, какая из дорог ведет в маркграфство Малегрин - вряд ли указчик пожелает тебе доброго пути.
На месте сгинувших сел не строят нового жилья.
Деревья, как подъяремные звери, колышут тяжелыми кадыками крон, на том месте, где сгнила моя колыбель, терновый куст бесстыдно подставил мохнатую развилку побегам вьюнка.
Кстати, почему-то в житиях святых и монархов всегда стыдливо обходят обстоятельства зачатия оных, что зря, во всяком случае, я грешник и любитель века своего, не премину заметить, что когда должники и обиженные пришли в имение моего отца - он, не будь дурак заперся в кладовке вместе с первой попавшейся скотницей. И там, от нечего делать, они смастерили меня.
Отец был большим искусником, в этой каморе можно было разве что стоять навытяжку.
Мое крестильное имя - Даниель, титулы, данные мне при рождении вряд ли уместятся на могильной плите. Желанная, перед тобой склонился граф фан Малегрин, владыка Биттерланда, бастард горы Кармель.
Мы появляемся на свет между мочой и калом - не спеши морщиться, моя привередница, так выразился святой Августин, которого Христос лелеет в раю, в закуте агнчем, в доме горличьем, как и подобает праведному и блаженному.
Тем не менее, я благодарен и родильной слизи и податливым костям роженицы, сжимавшим мои мягкие еще виски, как тесный венец.
Я рожден, чтобы черпать наслаждения века своего - все эти пышные грозди кабацких грехов, обглоданные мослы схоластических умозаключений, колокола и виселицы на холмах, священные походы, мало отличные от грабежей.
Отец мой с великим умением и рвением продолжил дело деда и прадеда - он вверг Малегрин в крайнюю нищету, продолжил долгую распрю с соседями - баронами Окс, растерял гвардию, и годами сидел на горе Кармель, не удосуживаясь даже выбраться в город.
Нас кормил лес и отупевшие от бесконечного голода и страха крепостные деревни. Мой дед умер, когда мне было лет шесть, я боялся его и прятался, как выдра, как только он приезжал погостить. Он и сейчас, из могилы пугает меня - призраком умопомешательства, дело в том, что старый маркграф Малегрина к концу жизни спятил. Мне было жутко сознавать, что этот сальный плоскостопный старик влил в отчие жилы свою отравленную кровь, а значит, и в мои… Но его снесли на погост и отвратительное видение отступило, заросло теплыми сорными травами детства.
Безусловно, ты поймешь меня, моя тонкопряха, в наше время у людей не бывает детства: пятилетних смердов ставят пасти гусей и свиней - и бурые хряки часто вгрызаются в нежную детскую мякоть.
Юных князей заковывают в латы, так что трещат неокрепшие хрящики, а пьяный, как тамплиер, отец втолковывает, что мы -
великий народ, потомки готов, глодавших теплые сердца врагов, нас много - нас тысяча сто пятьдесят человек, не считая детей, женщин, калек и евреев.
И язык Малегрина, похожий на карканье подавившейся мякишем галки - на самом деле - речь Вавилонского Царства, всемирный язык ангелов до разделения наречий.
Когда пришел срок - меня привязали к седлу арагонской лошади, и пустили вскачь с откоса.
Отец свистел в два пальца, и вздрагивала полная бочка конского крупа, швыряя мне в лицо комья чернозема и обрывки небес.
Двенадцати лет, я резал скользкие трубы горла затравленной важенки и глотал ее кровь, сын ключницы убедил меня что от охотничьего напитка быстрее растут волосы в паху.
Монах - наставник, прибившийся к отцу, как собутыльник и балагур, стал творцом моей сердечной смуты, по его словам познания умножали скорбь - но при этом он выучил меня греческому, латыни и провансальскому наречию.
Вечерами он шептал со стариковской алчностью, что греки отвергали земной круг, утверждая, что земля шаровидна. Он поносил женский пол так, словно сам был ревнивой женщиной, и при этом рыдал от умиления перед ликом Богоматери и по ночам ему снилось, что Пречистая, сжав грудь, пускает ему в рот струйку молока.
В его спальне валялись на полу бесценные карты на коже и дереве - я зачитывался сочинением Джиованни дель Плано Карпини о далеком государстве монгалов, верящих в бесконечное синее небо. Я все больше запутывался во множестве земных правд.
Почему в Пасхальном кондаке Христа - Спасителя называют Люцифером - Свет Несущим, Утренней звездой?
Почему Песня Песней Соломоновых переполняет меня любовью плотской?
Где разница между смертью и сном? Почему оскал смертного часа и извержения
семени одинаков?
Я испугался и начал молиться - я намолил мозоли на коленях, и заработал изжогу и голодный понос от постов.
А наставник приглашал меня по вечерам на мост над запрудой и медленно бичевал по заду - багровея и трясясь, как он уверял, от молитвенного экстаза. Правда, он всегда просил меня не рассказывать ничего отцу - видишь ли, таинство не терпит праздной болтовни.
Лукавые святые валились из ниш домовой церкви, пестрой чередой вставали из сумрака перед моими неверящими глазами: святой Рох - кокетливо выставлял изнанку ляжки с чумными нарывами,
Екатерина медленно совлекала виссоновые полотна с нетронутого тела перед советом языческих философов.
Олалья несла на блюде вырезанные палачами груди, как стряпуха - два пирога.
Они навязывали мне лохмотья содранной кожи, пыточные решетки, зубодерные клещи, в глазах рябило от всевозможных орудий достижения святости, крутилась и морочила гигантская кухня, и запоздало втискивалась чья - то голова с забытой в черепе пилой.
Святые торговали своими смертями, бесстыдно и шумно, как старьевщики.
Лишь испуганная Черная Богоматерь вызывала во мне сострадание и желание увидеть ее голой, несущей первоцветы грудей сквозь заросли прибрежного рогоза.
Так я встретил свой пятнадцатый август.
Стояли знойные засушливые дни. Торф горел по всему Графству, раскаленные земли курились и ревели, словно запертые на бойнях быки.
Перед рассветом в стрельчатые бойницы тюремного моего дома входил запах волглой гари и дрожала в мареве вишневая ветка - ягоды ее были сморщены и черны, как соски старухи - их не трогали скворцы.
Это случилось рано утром.
Издали грянул горловой распев, разбуженные шумом челядинцы и родные мои подошли к окнам.
Замок наш, под названием Кармель, стоял на взгорье, мы видели как в низинной деревне справляют неурочный праздник - они все были наги в утро совершеннолетия августа.
Нагие плясали на обочинах дорог.
Нагие безобразные танцоры - на кольях тащили взнузданные конские и собачьи черепа, винный осадок марал мысы подбородков, стекал через чрево в пах плясунов.
Безумие росло: черно и жирно горела вызревшая рожь, коровьи вымена разрывались от молока, караваи обугливались в печах.
Из подвалов винокурни выкатили бочки девственного вина, моего ровесника, сорвали печати, вышибли днища, лакали прямо с земли, вперемешку с грязью и навозом, умирали, опившись, давая место новым.
Разозленный отец послал людей узнать в чем дело - масленица давно миновала и веселиться было не с чего - но никто из посланных не возвратился, им тоже захотелось поплясать напоследок.
Ответ отцу дал сам Господь, одеваясь, он заметил под мышкой у себя багровое затвердение, похожее на сучье вымя - к вечеру мать уже металась в горячке на простынях.
Может быть виной тому стала его первая за двадцать лет поездка в город, соседний Таурген стоял на реке, на его рынки попадали товары с торговых барок, позже я слышал, что чума завезена была вместе с гулящими женщинами и штуками парчи из южного города Кафы, сомневаюсь, что моего отца могли привлечь ткани, пусть даже и роскошные. Из Таургена зараза лениво повлеклась вниз по течению сонной реки Ламанд.
Вскоре бубоны размером с голубиное яйцо расцвели из пляшущих и совокупляющихся тел жителей графства Малегрин.
Да, моя яблонька, нас посетило поветрие - болели не только люди, но и животные.
Прекрасная болезнь, она стала второй наставницей моей: ребенком я учился любви у Библии, отроком - у чумы.
Вся мерзость и величие человечьего рода на крохотном лоскуте земли - лучшее из наглядных пособий.
Руки из одной и той же плоти обнимают распухшего и сизого мертвеца и обирают опустевший дом.
Любовники, которые ложатся в одну постель, деля язвы, гной и поцелуи, и мать, швырнувшая вон с крыльца зараженную девочку - трехлетку - они все из одной глины, из белой глины Малегрина, которая при обжиге становится красной.
Где еврей, где дворянин? Где женщина, где мужчина? Где ты, Господи?
Когда на одном подворье справляли неурочное Рождество, в соседнем саду прилаживали к плодовым ветвям пасхальные качели. Девочки сжигали соломенных чертиков, а женщины вплетали в космы плющ и ежевику.
На замковом подворье копыта скользили в крови, густо повисал хоровой невыносимый визг убиваемых животных - это конюхи закалывали наших жеребцов и кобыл, рубили парные окорока, тащили жарить прямо с ворсом волос и роговыми “каштанами” на бабках. Выволокли на люди все припасы, нечего стяжать, нужно успеть прокутить и промотать все, все, ради чумного праздника.
Выносили из церкви хоругви и статуи, могильная труха мощей шелестела за стеклами дарохранительниц - я не пошел на Крестный ход.
Слуги перестали бояться, разбежались кто куда, и если низины веселились, то в замке установилась тишина склепа.
Вот странность - описания чумных бедствий, многолюдная, как ярмарка, смерть всегда одинакова - хронисты и мастера Плясок Смерти пользуются трафаретными ужасами, оскал которых не может напугать и трехлетка. Я ничего нового тебе не скажу.
Я просидел голодный полдня в своей комнате, вечером меня навестил отец, от него несло перегаром, одет он был по - зимнему, в меха.
- Иди за мной, сын.
По лунной лестнице мы поднялись в родительскую опочивальню - на тулузском полотне посреди кровати лежала моя мать, прикрытая шалью.
На резном распятии в изголовье Христос беспомощно разводил руками. Не выпуская моего запястья, отец лег сам и заставил меня лечь между ними.
То что мать мертва я понял сразу и начал рваться, но старик держал меня, как амбарный засов, бесполезно было звать людей или Бога - все были заняты своим делом - Бог карал, люди умирали, деловито выполняя его волю.
Скоро я затих, отец влил мне в глотку остатки вина, бормоча что мы умрем, как подобает князьям, потомкам великого народа, и ни один из нас не встанет с ложа живым, а коль я попытаюсь улизнуть, он перережет мне горло.
Я отупел и окаменел, неволя, неволя, моя беззаконница, что она делает с нами.
Меня спас монах - наставник, тот самый, любитель Псалмов и порки, когда отец и я почти одновременно заснули - он подкрался ко мне - зажал рот и на руках вынес во внутренний двор.
- Дитятко мое, ангел, возьми все, книги, карты, вот деньги есть, пойдем со мной, я тебя выведу, про устав забуду. Станем гольярдами, пойдем по дворам!
Монах торопил меня, озирался. Приходя в себя, я понял, что если выберусь, буду считать врагом любого, кто скажет “иди за мной”.
Он взнуздал для меня уцелевшего коня, подкинул в седло и повел на восток из душных садовых зарослей, сквозь испарения и стеклянный клекот жерлянок в прудовой тине.
Ночь плыла навылет тучная, липкая, миллиарды звезд запорошили высоту - мне чудилось, что мы бредем сквозь них, а они - сквозь нас.
Вдалеке тускло щерились огни.
Нас никто не задержал - на песчаном берегу реки монах попрощался со мной, обслюнявил мне колено - не решался целовать руку, всюду ему чудилась зараза.
Он все сомневался, кряхтел, и вдруг его осенило:
- Раздевайся, Даниель, все шматье прочь - и давай на другой берег. Вот только нож оставь - я прокалил его на огне, да сумку - в ней порошки и кое - какие бумаги. Смотри, не промочи их, да не потеряй золотой, он зашит в подкладку. Не поеду я с тобой… Не поеду. Возраст не тот - старикам пропадать…
Голый, как кочерыжка, всадник, загнал лошадь в звездную воду - и стремнина забилась белым у конского подгрудка - жеребец поплыл - я утратил вес.
С топкого берега, я до рассвета смотрел на зарево - горели вдалеке перекрытия замковых башен.
Не стоит открывать перед тобой пандорина сундучка моих бедствий, упомяну лишь, что я покинул пределы графства и скитался по Германии и Лотарингии больше полугода - до наступления февральских холодов.
Я возвращался домой без коня и прежнего барчуковского лоска. Чумные камни - пологие валуны с выемкой для подаяния встречали меня. Начинались безлюдные волчьи места. Дороги замело - и нигде я не встречал человеческих следов.
Бог весть, почему меня тянуло в родные места, в деревнях уже не было жилого духа, снег проник в горницы, неубранные в срок, почернели яблоки и груши, побитые морозом.
Даже самые отчаянные мародеры обходили графство Малегрин стороной - в добротных домах я находил подчас весьма дорогие вещицы - и присваивал столь же равнодушно, как собирал клюкву и очищал пчелиные дупла от сотов с диким медом.
В погребах я находил объеденные крысами трупы. Они уже не пугали - мореные, пыльные, невесомые. Если, роясь в сундуке, я сбрасывал мертвеца, тело падало с сухим грохотцем, как пустая коробка.
Многие деревни были опустошены лесными пожарами. Я уже отчаялся встретить выживших - наверняка немногие счастливчики побросали пожитки и ударились в бега. На их месте я поступил бы также.
Лесистая верхушка горы Кармель, с угольным остовом замка показалась мне таким же трупом, как и те, жители погребов и запертых церквей.
В храмах мертвецы валялись на скамьях и в проходах. Пестрядь платьев откормленных деревянных угодников и сладенькие жемчуга Мадонн казались форменным
издевательством над теми, которые лежали внизу крестом и молчали.
При виде разрушенного дома я не испытывал горечи. Ночная река, отделившая меня от чумного края, смыла напрочь и воспоминания и слезы.
Если я хотел есть, я искал еду. Если замерзал - искал хворост для костра. Если скучал - плел лыковые опорки и пояса. Если хотел женщину - запускал руку в штаны.
Я приучил себя не думать и не сожалеть ни о чем. Даже тело мое притихло, кроме бурчания в брюхе, усталости, да любовного зуда не напоминало о себе ни одной хворью. От одного я не мог избавиться - каждый раз, поев, или затоптав костер, я долго закапывал в землю или снег объедки и уголья, или старался так поправить разворошенный на ночь стог, словно никто не ночевал в нем.
Я не хотел оставлять по себе ни малейшего следа.
В развалинах замковых стен я и стал жить. Вовсе не затем, чтобы быть поближе к отеческим гробам - никаких гробов у моих родных не было, но из удобства. Рядом родник, стены укрывают от ветра, сохранился соломенный навес повети. В лесу я заметил довольно звериных троп - было где расставить силки.
Описывать житие “святого пустынника” нет нужды.
Главное - ни о чем не думать, заполнить день сотнями изнуряющих забот: следить, чтобы полые воды не подмыли мою постройку, успеть раньше лисицы достать кролика из силка, сварить птичий клей, смастерить и пристрелять лук, выдубить шкуру, вечером свалиться без рук, без ног у хитро сложенного костра - нодьи.
Я не молился. Не осуждай меня. Думаю, что Бог и так уставал от моих бесконечных разговоров - в моем отшельничестве Он был моим единственным компаньоном и собеседником.
Хорошо было бы, конечно, приручить какую-нибудь бедную шавку, белку или говорящую ворону…
Но одичавшие собаки были наглее и хуже волков - они не боялись огня и окриков, а лесная мелочь совершенно правильно мне не доверяла - и вороне неприятно узнать, что она вполне съедобна.
С горы Кармель в ясные дни я видел табуны серой масти тарпанов - низкорослых лошаденок с бородатыми квадратными мордами, они были лакомой добычей, среди них я замечал и одичавших крестьянских коняг.
Лишь однажды мне посчастливилось подбить камнем из пращи одного жеребчика. Я жил один три года, поветрие не возвращалось больше - на вторую осень мне удалось голодом приучить жеребца к уздечке и телеге, которую я нашел в деревне.
Ездить по окрестностям и охотиться стало легче - но я баловал себя вылазками нечасто. Меня беспокоил пару раз виденный в лесу дым - с людьми встречаться не хотелось.
Одиночество порождает чудачества. В лунные ночи я позволял себе развлечься - нагишом гонял по мокрым пустошам неоседланную лошадь, ложился на круп, пялясь в звездное небо.
В одну из таких прогулок меня и вынесло к людям, то были расположившиеся на отлогом берегу реки цыгане.
Первой меня заметила замарашка, чистившая речным песком котел. Дуреха подняла крик, набежали ее сородичи, залопотали, хватаясь за ножи. Часто повторялись слова “мануш - лоло”, позже я узнал, что таково цыганское прозвище дьявола, что значит “Красный человек”.
Мне стало весело, я и вправду возомнил себя существом высшим и для железа неуязвимым, цыгане лопотали, как обезьяны, и загоняли детей под покрышки фургонов. Я заставил жеребчика плясать, гикнул и снял серебряное запястье - из тех, что нашел в развалинах.
Запястье я швырнул девке - судомойке, бесстыжая задрала юбки, закрываясь от меня - и взамен сверкнула голыми бедрами и лобком.
Но, помедлив, метнулась, схватила серебро и быстро надвинула мой браслет чуть не до локтя.
Ее родичи шарахнулись - никто не отнимал подарка - теперь она была отмечена и неприкосновенна. Я бы еще долго куражился над бродягами, но тут от костра поднялся человек, наряженный в студенческую мантию, - он крикнул по-немецки с сильным южным придыханием:
- Дурачье! Это - человек!
Тут негодяй метнул камень, рассек мне висок, кровь залила левый глаз и я поспешил убраться.
Человеческим обществом я насладился еще года на три, разве что долго потом, в полусне вспоминал о греческих налитых бедрах цыганки в тонкой патине сыпучего речного песка.
Продлевая воспоминания, я смастерил свирель, наподобие птичьего манка, и часами сочинял мелодии, которые сделали бы честь знаменитому Крысолову, который лет тридцать назад избавил Гаммельн от крыс и детей. Вся разница в том, что от моих наигрышей крысы бежали бы прочь что есть духу.
Свирель и выдала меня. На пятую ночь меня разбудили тумаками.
Спросонок я отбивался плохо - меня вытащили из хижины и, поколотив, подвесили за ноги на уцелевшую перекладину въезжих ворот.
Веревка вращалась, рожи, искаженные факелами не пугали, но забавляли меня. Вскоре я понял, что оборванцы сами не знают, чего хотят от меня.
- Обыщи халупу, Плакса, - сказал один и дал мне тычка под ребра.
Я порадовался родной пришепетывающей речи Малегрина.
- Эй, ты, мразь, мы жрать хотим, пить хотим. У тебя бабы есть? Небось, в лесу попрятались? Отвечай!
- Ешьте и пейте. Родник под рукой, а в лесу бегает ужин. Баб можете поискать в могильниках. Там есть вполне целые.
Мое гостеприимство пропало втуне. Они разворошили мое хозяйство, спугнули коня, жадничая, разбили горшок с остатками крольчатины. Одного из них я узнал - они называли его Воеводой, прежде он служил десятником замковой стражи.
- Ну, вы, кончайте балаган. Я - Даниель. Ваш, сукины дети, князь.
Они конечно же ржали и улюлюкали и трясли тряпьем и распяливали рты пальцами и пускали ветры и орали где и в каких позах видали и князей и княжеских матерей и деток и теток, и что теперь у них - свобода, и каждый сам себе князь, и как они подтирались моими грамотами…
Я терпеливо ждал, когда они иссякнут. Они трусили и куражились друг перед другом.
- Убить меня вы можете хоть сейчас. Но напоследок я поиграю в ясновидца. Итак, мои милые, когда все перемерли от чумы, вы поначалу дали драла, побирались каждый по отдельности, но работать не хотели, потом один из вас стал воровать, но делал это бездарно, и потому палач оттяпал ему оба уха, -
(при этих словах тот, кого они окликали Корчмарем, надвинул колпак поглубже.)
- Так как и на Германской Марке и в Брабанте вы были нужны как зубы в заднице - вас повыгоняли отовсюду, по выговору определяя, что вы родом из зачумленных мест. Вот и сейчас вы ошиваетесь по обочинам дорог, кривляетесь перед проезжими, грабите тех, кто послабее. А монах - вон та свечная рожа, врет паломникам, что он вернулся из Святой земли. При этом вам никто не верит, хуторяне травят вас собаками, и вы, пятеро, не можете наскрести денег даже на одну самую дешевую и старую шлюшку. Молчите? Стало быть, я - прав. Вы надеетесь, что зарезав меня и выкрав грамоты, сможете выдавать себя за княжескую свиту и попрошайничать уже в замках сеньоров. Черта с два, мои хорошие. За версту видно, в каком свинарнике вы родились. Скверная латынь вашего монашка и для богадельни не сгодится. Так что если вас не вздернет первый же стражник, вы перегрызетесь между собой из-за миски супа или женщины, а от баб вы, как видно, отвыкли. На Малегрине можно ставить крест, вокруг целая Европа, дремотный и безмозглый Корабль Дураков. Можно таких дел наворотить! Вы лаетесь из-за дерюги, а получите малинские кружева и росских соболей. Вы мечтаете о кривой подавалке из придорожной пивной, а будете спать с чистенькими барышнями и жирными аббатисами. Вы ели трупы, не отворачивайтесь, моралистов тут нет, а зима была строгой, а будете собак кормить парной свининой и цесарками. У вас есть право - и не я, а Бог дает его вам - право обездоленных. А в него входит все - от виселицы до богатых поместий.
Свою речь я окончил уже на земле, растирая вспухшие запястья.
- Твои слова бы Богу в уши, - буркнул Воевода - он был рад, что наконец-то решают за него, - Черт с тобой. Ты - наш Князь. А дашь пожрать - будешь хоть Папой, хоть Христом.
Вскоре они насытились, пришли в себя, заулыбались, я смотрел на них, заросших, вшивых, с красной свинячьей кожей. Я остался доволен.
Их было пятеро.
Творец зло пошутил над Малегрином, даже Содому и Гоморре не снилось такое Божье зубоскальство: от каждого сословия он оставил по одному человеку.
Крестьянство представлял чернявый дуболом, молчаливый и покорный, как вол, по кличке Смерд.
Воевода корчил из себя Рыцарство, был он матершинник и трус, но безмерно гордился рублеными в корчемных драках щеками.
Сословие торговых горожан заключалось в тихом дядюшке, бюргере по кличке Корчмарь, некогда он содержал небольшую питейную “Отрада” в столице графства.
Монашество скромно пристроилось в уголке. За полгода до чумы толстяк Плакса принял постриг. Теперь он выглядел плачевно - шкура висела на нем складками.
Из потешников и бездельников - комедиантов остался белобрысый мальчуган по прозвищу Весопляс, смазливый, как девчонка, и к тому же наглый и капризный. (примечание: Весопляс - старинное название канатоходца)
Самым старшим был Воевода, ему вот-вот должно было исполниться сорок лет. Младший, Весопляс, врал, что ему шестнадцать, но на деле было чуть больше четырнадцати.
Все мое государство сопело и жаловалось у огня, эдакий Ноев ковчег, на борт которого забыли взять необходимейшее, а именно - женщин.
И твари без пары мучались несказанно.
Каким образом они сошлись, я узнал гораздо позже - составилась гротескная мозаика из недомолвок, отрывков, святочных рассказов и легенд доблести.
Естественно, я стал счастливым обладателем пяти разных версий, одна прелестней другой, что ж, попытаюсь составить из них причудливый гибрид.
Невнятная росомашья речь Смерда, верткие прибаутки Корчмаря, хамство и брань Воеводы и молитвенные вавилоны Плаксы, отрывистые, шпанские дразнилки Весопляса.
Проще всего было все-таки со Смердом. Ему вообще не требовалось никаких имен или географических названий.
Деревня. Двор. Свинья. Горшок. Гать. Отец. Бабы. Овца. Солома.
А с глаголами дело обстояло еще прозрачнее, вся его жизнь во время чумы и после умещалась в четырех:
Хворать. Помирать. Вонять. Жрать.
Он бы так и прожил в лесу до Страшного Суда, дичая, обрастая волчьим ворсом, уже не нуждаясь ни в речи, ни в одежде. Ему не о чем было жалеть, не на что надеяться. Отчаиваться он не умел, мрачные мысли его не посещали, питаясь солониной из трупов соседей и их скотины, он все же не забывал чинить крышу отцовского дома и по-хозяйски поправлять покосившийся частокол.
Смердом был его отец и смердом был отец его отца, и так - до Адама.
Крестьяне в Англии или Германии - веселые йомены и философы - бауэры, посчитали бы смердов моего цветущего Малегрина вьючными животными, человеческими мулами. Но нет, они бы горько ошиблись - Смерда, оставшегося одиночкой в безглазой деревеньке все же посещала человеческая тоска. Но не по женщине или теплому очагу. Он мечтал о Хозяине.
О сеньоре из высокого замка, о Господе Боге, Господе Черте или Человечке из Подпола. О Хозяине, который придет, объяснит, накажет, похвалит, направит на все готовые руки смерда. Он дождался своего Хозяина. Воевода, еще в первую неделю правления чумы доблестно драпанул из запсивленного дома, где помирала жена с детьми.
- Дай попить, дай попить…
- Бог подаст, дура!
Все его четыре любовницы, стратегически разбросанные по городишкам Малегрина умерли или уехали, так что Воевода по его собственному выражению “предпринял срочное отступление к германской марке”.
Смерда он повстречал на запущенной просеке близ мертвой деревни. Рано утром одушевленный медведь с урчанием рылся в воеводином мешке, где сохранялся на черный день кружок сухой колбасы. Боясь, что дикарь прибьет его и сожрет, Воевода со страху принял повелительный тон:
- Брось мешок! Натаскай воды! Разведи костер! Кто здесь смерд?!
И улыбаясь черными зубами, прихлопывая в ладоши, Смерд рявкнул единственную шутку, на которую был способен:
- Кто здесь смерд? Я за него! Я за него!
В то утро Воевода приобрел покорного кентавра, носильщика и телохранителя, унизительное бегство стало напоминать летнюю прогулку от одного запустения, к другому.
В те времена город Таурген, что на реке Ламанд, считался столицей графства, мизерным Парижем, там Воевода надеялся на пару месяцев приятной жизни. Солдафон был свято уверен, что за городские стены без подорожной грамоты и пошлины не пропустят даже чуму. Вскоре ему пришлось убедиться в обратном. На воротах и в караульне не было стражи, Таурген населен был тенями, смутными скрипами ступеней в доходных домах и, как и все графство, трупами.
Ничтожные людишки, попадавшиеся в подвалах были либо безумны, либо плаксивы, но все одинаково прожорливы и бесполезны. Один Корчмарь, приставший к Воеводе и Смерду, как репей к платью, годился на то, чтобы стать спутником. Он был болтлив, как ребенок или еврей, мелочен и угодлив. Он любил рассказывать о том, какие убытки нанесла ему Чума.
- Представляете… В мою рюмочную, в мою замечательную рюмочную на южном склоне холма, окнами на реку, где подают три вида наливок и различные закуски в любое время дня и ночи, где есть отдельные кабинеты для влюбленных и просто друзей, в мою невероятно уютную рюмочную…
- Ты короче… - мычал Воевода.
- Простите! Так вот в мою рюмочную под названием “Отрада”, в течение трех суток не зашел ни один человек! Правда, на четвертый день ввалилась целая толпа висельников, они пили и жрали в три горла, и портили моих женщин и переколотили утварь, а потом вышвырнули меня вон, не заплатив ни гроша… Но я помню всех этих негодяев в лицо, я все записал - и выпитое и перебитое! И когда закончится катаклизьм…
- Чего?
- Ката… Я имею в виду - плохие времена, когда они закончатся, я их затаскаю по судам, да - с, по судам.
Бедный Корчмарь! Вряд ли кто-нибудь из погромщиков дожил до конца “плохих времен”, потому что “плохие времена” тем и хороши, что не кончаются.
Но Корчмаря не гнали - он мог пригодиться, юркий бюргер знал несколько рецептов домашних мазей, умел вправлять вывихи, бросать кровь и шить самые скверные раны.
Он гордился грамотностью, то есть умением подписать свое имя, в доносе поставить кривую подпись “доброжелатель”, и оснащал свое писание манерными вывертами вроде “милостивый государь, не соблаговолите ли вы, вспомоществовать в нашем бедственном положении…”.
Целые дни Корчмарь проводил за сочинением помпезных писем к различным высоким особам, и оставлял измаранные кусочки ткани и кожи на обочинах, отмечая пройденный путь, как Мальчик - с - Пальчик.
Если Воевода выбирал спутников исключительно по принципу: “А что ты мне дашь?”, то приобретение им Весопляса до сих пор остается для меня загадкой.
Этого заморыша троица беглецов обнаружила в старой гончарной мастерской на окраине лесного городишки, где он спал, крепко завернувшись в плесневую рогожу.
Спустя трое суток, после принудительного купания в ручье, и уничтожения слоя вшивых гнезд и колтунов, выяснилось, что длинные космы его светлы, как пенка на топленом молоке, лицо, живое и скуластенькое, смышлено и нежно, все члены тела невероятно гибки, к тому же паренек оказался на удивление сговорчивым и бесстыдным. Все его таланты - игра на волынке и псалтерионе, гимнастические курбеты и четыре плохо заученные французские песенки похабного содержания были совершенно бесполезны для странников печальных времен.
За его спиной неуверенно маячил грязный балаганный фургон, кишащий нищетой доверху, облезлые жонглеры, жонглерши и жонглерские дети, едущие неизвестно откуда и неизвестно куда. История его одиночества менялась в зависимости от самочувствия и размеров краюшки самопечного пресного хлеба за пазухой Воеводы - чем больше хлеба, тем жалостнее. Присутствовал обязательный ливень, мельница на холме, только что умерший от дряхлости прадедушка, которого женщины пеленали в углу повозки. И отряд неизвестных - разбойников, рейтаров, баронов - проходимцев - на лошадях с топорами, с тесаками! который неопрятно и быстро расправляется с населением балагана, искореняя раз и навсегда ненавистных бродяг, разносчиков чумы и слухов.
И конечно же - бегство уцелевшего полуобнаженного подростка с умирающим ребенком на руках, бегство петляющее, лисье, сквозь равнодушный лес, не смея обернуться на трех всадников - преследователей.
Бегство, увенчанное коротким успехом, погоня отстала, Весопляс промаялся в чаще трое суток, ребенок (сестрица, названный братик?) метался в жару, плакал и не хотел есть зеленое былье, ягоды, сырые грибы и мох, Весопляс нянчил его, как умел, прикладывал к сухому юношескому соску, ребенок жамкал его грудь деснами и наконец, умер.
Весопляс зарыл его в хвойной балочке, пометил яму камешками и жгутом папоротниковых листьев, побрел куда глядели глаза. Но в лесу смотреть было не на что, он вышел-таки в некогда людные места, забрался в развалины и лег навсегда спать - и спал бы, смаковал смертную молочную дрему, не опасаясь петушиного крика, вороньего грая и людского окрика, если бы Воевода не вытряхнул мальчишку из укрытия, как крысенка из лукошка. Корчмарь умничал, демонстрируя, что знает по-французски, хватал Воеводу за копну лохмотьев:
- К чему нам лишний рот, мон женерез женераль?
- Припечет - сгодится - неопределенно мычал Воевода и разламывал надвое вожделенную краюху.
Мальчик принимал хлеб, награждал повелителя по-птичьи быстрым поцелуем в плечо и горланил нарочито высоким голоском похабщину:
“… Начал филин, начал филин
Начал филин девку ять…”
И никогда не допевал до конца.
Но занятнее всего получилось с Плаксой. Четвертый сын в семье нищего барончика, из наследства ему не светил даже кот - а уж заветные мельницы и ослы давно расхватили старшие. Но не будь дурак, Плакса двинулся по тропе Праведников - подался в монастырь, кое - какая мзда и рекомендательные письма значительно облегчили тяготы жизни послушника. На третий год монастырского ничегонеделания Плакса выбился в келари. Потянулась вкусная, необычайно легкая жизнь. Замечательный принцип старинных келейников: “Ora et labora”, Плакса скромно переиначил в легкомысленное “Ora et amora”. Монастырские часочки, общие трапезы, день разделенный на доли мерными ударами молитвенного колокола. Какие-то грандиозные мальчишники за накрытыми прямо в лесу столами, душные записочки, порхающие из кельи в келью, приготовление колбас, вина и копченых рыб.
Ему не повезло - как раз накануне чумы, Плакса поехал на осляти навестить “своих”, в седельной сумке булькала фляга молодого вина, погода стояла замечательная, живот Плаксы был туго набит, а тонзура едва ли не светилась, как признак ангелического происхождения.
Но за въезжими воротами дома ждала все та же, знакомая тебе, моя слушательница, картина чумного года.
Нахлестывая осла, Плакса вернулся в монастырь. Чума оказалась более ловкой наездницей и поспела в святую обитель за три дня до монаха. Итак, перед Плаксой открылась целая энциклопедия потерь, одиночества и смутных, воровских маршрутов.
Несмотря на обилие вариантов, монах остановился на одном. В пяти милях от зараженного аббатства, на мосту он сел и стал пробавляться чем Бог пошлет. Продал осла семье беженцев, получив взамен двадцать даллеров, и только спустя полчаса понял, что деньги в его положении - самая бесполезная вещь.
Он опустился, пожелтел от голода и занялся стыдливым побирушничеством - набожные жители Малегрина еще не очерствели духом и находили объедки и общипки на подаяние умирающему монаху.
Но время шло, беженцев становилось все меньше и меньше, по ночам ударили заморозки, когда наши путешественники под командованием Воеводы достигли моста, Плакса являл собой жалкое зрелище:
- Ах, Паульхен… Мой бедный, бедный Паульхен… Как мне без тебя тяжело - нюнил монах, сидя на обочине дороги. Веки у него слезились, а лицо обвисло, как собачьи брыли.
Снежная крупка таяла на крупной переносице, голое колено торчало из прорехи монашьего подола. Плакса очень хотел есть. Тонзура его заросла возмутительным ржавым ежиком, а прекрасные крупные глаза сощурились, как у старого китайца.
Участливый Корчмарь присел на корточки рядом:
- Не убивайтесь так, добрый брат! Бог дал, Бог и взял вашего Паульхена, это, знаете ли - Фатум. Всеобщее унисьтожение… А позвольте полюбопытствовать, кем он вам приходился - братом или же отцом?
Оказалось, многострадальный Паульхен - это монастырский кот, которого Плакса самолично вырастил из “во-от такого котеночка”.
- Он был такой смышленый… И жирный… Я бы сказал: наваристый… Его можно было бы растянуть дня на два, а то и на три… - стонал Плакса, раскачиваясь.
- Нечего тут. Идем. - приказал Воевода, спутники его потащились за ним гуськом, даже не оглянувшись на монаха и тут - то бедняга понял, что его бросают. Что, возможно, это последние живые люди на опротивевшем мосту. Плакса забился, пропотел и заблажил:
- А вот и зря… Я полезный… Я места знаю!
И по-старушечьи заковылял вслед за ними.
- Отцепись. Нам молельщиков не надо, нас и так Бог простит - отбивался Воевода - Иди-ка по-хорошему, а не то… В Германии попов и так пруд пруди.
- А вот и дураки, а вот и неправда! - орал, приплясывая, Плакса - А в Германии тоже чума и голодуха! Я места знаю!
Тут уж взъерошились даже такие бессловесные тени, как Смерд и Весопляс, Плакса так убедительно распинался о таинственных благах, известных ему одному, что блошиный караван смешался и остановился.
- Для начала: есть такая страна, что и названия - то у нее никакого нет. О ней все знал аббат, но никому не говорил, потому что много всяких спиногрызов - набегут, растащат. А мне сказал, потому что он меня уважал, потому что я был приличный и вроде человека! И вообще это не страна, а что-то вроде крепости, большой - пребольшой крепости на холме, которая называется Монсальват, что переводится как “Жри чего хочешь и тебе за это ничего не будет!”. А уж там всего навалом: окорока байонские и норвежская селедка и молодая баранина и фламандские сыры и разное печево и парево, и кислая капуста и каплуны, и, главное, доступные девчурки, которые все как есть ходят голыми! А еще шерстяные поддевки, кровати с настоящими перинами и много-много горячей воды!
А без меня вы ее не найдете ни хрена, потому что от чужих глаз эту крепость спрятали, а я один знаю приметы!
Воевода усмехнулся:
- Брехня.
Но болезненный призрак изобилия уже схватил бродяг за горло.
- Окорока… - печально мечтал Смерд. Он даже освободил плечи от широких лямок досчатого короба, в котором таскал случайный скарб Малегрина - находку для историка - антиквара или старьевщика.
Монах торжествующе показал Воеводе язык. Вояка попытался парировать:
Он поправил завязочки розового тещина капора, украшавшего его плешивую башку, и съехидничал:
- А если ты знаешь дорогу в свое “Жри чего хочешь”, что же сам у моста гниешь?
- Дурила! - Плакса даже взвизгнул от удовольствия - Там такой уговор - нужно пять человек, чтобы ворота открыть, а то одному тяжело!
Против этого аргумента Воевода не устоял:
- Черт с тобой. Идем с нами.
Но мстительный Плакса живо уселся в наледь, поерзал на исхудалых половинках и торчком выставил ногу, грязные пальцы были небрежно замотаны ветошкой.
- Не могу. У меня на пятке нагнет. Придется нести.
Таким образом Плаксу водрузили на самодельные носилки, между Смердом и Воеводой, монах приятно угнездился, обеими руками указывая направление и медленно - медленно пять полумертвых потащились и скрылись в колком снежном сумраке.
На привалах Воевода злился в кулак - его власть пошатнулась, вместо ужина Смерд и Корчмарь, разинувшись, слушали бойкого монаха, даже Весопляс отдавал ему кусочки хлеба и сала, которыми угощал его грозный и справедливый Воевода.
Чавкая, Плакса, громоздил сумрачные своды из порфира и хрусталя, великанские кладовые, набитые различным съестным дрязгом, помесь Соломонова храма и колбасной лавки. И конечно же женщины! Эфиопки, мусульманки в газовых накидках, гологрудые ливанки, дебелые венгерские виноградарши и голландские корабелки, Прекрасные Оружейницы и Перчаточницы. Оттенки кожи оливковые и влажно-нежные, а еще - сливочные и солнечные, и припухлости восхитительного свойства, рассеченные алой впадинкой, искусственные розочки на титечках, старательно выбритые подмышки и розовые изнанки стоп.
Плакса таскал свою очарованную гвардию немыслимыми петлями по всему Малегрину, сколько раз пять пересохших глоток выли, завидев на самом жалком холме очертания амбара или водонапорной башни. Блаженное “Жри, чего хочешь” манило и звало.
Подпинывая крысиный трупик в очередном пустом зернохранилище, Воевода хихикал:
- Вот оно, твое изобилие. Сырный брат, бритая макушка!
- Дурак! Несмысленный - огрызался Плакса - Вот из-за того что вы думаете только о брюхе - крепость вам и не показывается! Грешники косолапые.
- А о чем прикажешь думать?
- Помышлять следует не о брюхе, но о духе! - наставительно гудел Плакса.
- Ну и пес с тобой. Но если через неделю твое “Жри, чего хочешь”, не объявится, пеняй на себя, - бурчал Воевода и волок Весопляса в погреб амбара.
- Может быть не надо… - мальчишка юлил, выкручивал запястье из луженой лапищи Воеводы.
- Надо, еще как надо… Розочки у них на титечках… Только душу растравили. Говноеды-мечтатели. Ненавижу. Иди, иди, ко мне пащенок, на безбабье и ты - соловей. Утри сопли, пряника дам, слышишь?
- Не надо, не надо пряника… - умолял Весопляс, остальные опускали глаза, ждали своей очереди.
Огрызки отчего замка на горе Кармель стали четырнадцатым Монсальватом на многотрудном пути нищебродов. Они поднимались на гребень трудно, хныкал сбивший в кровь ноги Весопляс, прорвались и перекосились носилки, Плакса охал на каждой выбоине, цеплялся за поручни.
Когда потянуло съестным духом от моей халупки, пятеро взбодрились и, охмелев от близости прекрасной жратвы, бросились наперегонки к камышовым дверям.
Милый мой замок Кармель, прекрасное “жри, чего хочешь”…
Я устал от их сбивчивых рассказов, рассольного запаха лохмотьев и обувных опорок. Медленный сон поглощал нас, глаза защипала песчаная дрема.
Воевода захрапел первым, его убаюкал Весопляс, выбиравший из одежды солдата вшей.
Остальные улеглись кто где.
Заговорив этим гаврикам зубы, я решил, что сбегу от них - благо конь вернулся и бродил за загородкой, подманить его ломтем лепешки ничего не стоило.
Я ждал, когда изгои покрепче заснут.
Сначала в хижине было тихо, из выбитой двери душно смердело немытыми телами.
Взошла луна, я скорчился на пороге, выжидая.
Но вот у потухшего костра началась приглушенная возня, шепот жаркий и испуганный. Потом - удушливый полустон, и из хижины метнулся человек, перемахнув через мои ноги.
Вскоре послышался упорный глухой плач.
Подкравшись, я увидел Весопляса. В одних портках он сидел, скорчившись в валежнике и бесстыдно скулил, часто сплевывая - у него были разбиты губы.
До чумного года отец, мать и челядь заботились обо мне, после я сам обеспечивал себя, но не знал женщины, то есть ответственности за слабого.
Сейчас мне не стыдно повиниться перед тобой, моя терпеливая супружница: я вытер его кровь рукавом своей рубахи, чем перепугал мальчишку до полусмерти, и сказал:
- Будешь спать со мной. На горе Кармель места вдоволь.
Я постелил попону под ветвями поваленного дерева, потянул Весопляса за собой в укромный шалаш.
Подросток чуднО взглянул на меня через плечо, задышал ртом и привычно потянул прочь свои замаранные портки.
Я перехватил его руку, тощую и холодную, как жабья лапка.
- Не надо. Мы будем спать. Просто спать. Ты понял?
Он коротко вздохнул, и, обняв меня за шею, проплакал, не разжимая губ, до утра.
Не помню сколько я приводил моих бродяг в Божеский вид. Заставил отмыться и вывести вшей, как платяных, так и площиц, выбриться ножом, бороду позволил оставить только Воеводе, тот и так смотрел на меня волком, ведь после памятной ночевки Весопляс ходил за мной тенью, а с ним даже не разговаривал.
Каждому нашлась одежда - за два года я много вещей натаскал из города, в том числе и приличное платье, теперь нас можно было принять за истощенных долгим странствием благородных путешественников, а не за банду подонков, как было раньше.
Два года я прожил в лесу, как Нарцисс - даже в реке отражение мое было смутно, последний раз я видел свое лицо еще до чумы.
Весопляс твердил, что я красив, но что с него было взять - ему все красивые, кто не бьет и не утомляет сверх меры, но услужливый парнишка начистил найденное в сундуке медное зеркало - и, взглянув в него, я понял, не без гордости, что сорванец был прав, расхваливая меня.
Я стал мужчиной, минуя юность.
Мы готовились к путешествию больше трех недель.
Положиться я мог разве что на Весопляса, да на Смерда. Комедиант был мне верен, потому что верен, второй восхищался мои умением сказать три связные фразы, да еще потому что - смерд и так ему положено испокон веков - быть ведомым и молчаливым.
Воевода же и Плакса, раньше, кстати, постоянно грызшиеся из-за переменчивой благосклонности Весопляса, объединились негласно против меня, ожидая малейшей моей промашки.
А Корчмарь метался, выбирая сильнейшего.
Поначалу мы решили идти в Кельн - все-таки вольный церковный город - а внимание и доверие церкви нам было необходимо.
Выезжали студеным утром, Смерд правил фургоном, Весопляс дремал у ног моих, готовый сменить возницу, а Плакса, Воевода и Корчмарь тащились пешком - я не хотел утруждать коня.
В Кельне мы бы пропали, если бы не неожиданные знакомства Весопляса, как выяснилось, его папаша при жизни был на короткой ноге с Архипиитом Кельнским - придворным поэтом и шпильманом Епископа.
Весопляс упросил меня отпустить его в дом Архипиита на пару дней, вспомнить прошлое знакомство.
По прошествии этого срока, мальчишка вернулся совершенно измочаленный с тягостными синяками под глазами, в новой щегольской курточке, с псалтерионом флорентийской работы под мышкой. Он замер в дверях и почти упал мне на руки, прошептав:
- Даниель… Епископ примет вас завтра в два часа пополудни. Не опаздывайте.
Спал бедняга без просыпу до следующего вечера. Что происходило в доме Архипиита два дня напролет - мне неизвестно, кстати на сей счет у меня возникали самые скабрезные мысли. С Весоплясом вечно были связаны какие-то скандальные истории, не смеющие назвать себя.
Сам Архипиит был человеком солидным, носил тяжелейшие мантии и не выходил из дому без серебряного лаврового венка - награды за давнее состязание рифмоплетов. Епископ Кельнский дорожил им, жаловал земли и ценные безделушки. Взамен Архипиит ежедневно приносил ему все новые оды, песни-восхваления, многострочные, и настолько расплывчатые, что их можно было применить к любому событию - от безвременной кончины епископской собачонки до Рождественских празднеств. Муза Архипиита работала ладно и точно, как хорошее пищеварение. И, надо отдать ему должное, его “исповеди” и “завещания” были блистательны.
“Эти песни мне всего
на земле дороже:
То бросает в жар от них,
То мороз по коже.
Пусть в харчевне я помру,
Но на смертном ложе,
Над поэтом - школяром,
Смилуйся, о Боже!
Не хотел я с юных дней
Маяться в заботе -
Для спасения души,
Позабыв о плоти.
Закружившись во хмелю,
Как в водовороте,
Я вещал, что в небесах
Благ не обретете!”
Одно удивляло: как сытый, разнеженный под дланью Епископа, сибарит и нахлебник мог сочинять такие стихи. Стихи, кабацкие, звучные, брошенные в мир руками, которые только что обнимали женщину или разламывали кровоточащие куски сочного жаркого из краденой овцы.
Но бывали дни, и даже месяцы, когда неприхотливый ход таланта Архипиита сбивался. Он неожиданно тупел, не мог выдавить из себя ни строчки и впадал в сонное бездумье, сдобренное отчаяньем. Епископ злился, рог изобилия с господского стола иссякал, Архипиит снимал мантию и, облачившись в обычный бюргерский костюмчик, бежал в деревню, где проводил порожние дни в болтовне с прицерковными старухами, рыбной ловле и мечтах. Ему оставалось только перебирать предыдущие рукописи и ждать.
Ждать, когда же наконец по улицам Кельна заскрипит ветхая колымага, запряженная клячей и волом, доверху набитая отвратительными отродьями комедиантского племени. Бранчливыми, неотесанными, грязными и вечно голодными жонглерами. Водил эту душную ораву пожилой прощелыга, на которого холеный Архипиит попросту молился.
Осведомители Архипиита немедленно доносили деревенскому отшельнику о прибытии старого жонглера. Старика ни свет ни заря вытряхивали на свет Божий и под руки тащили его окольными путями пред светлы очи придворного поэта.
Происходил выгодный обмен - нищий получал половину телячьей туши и три разменные монетки, а Архипиит оглаживал свитки с новыми стихами, которых хватало примерно на год - полтора.
- Теперь проваливай из города, папаша, и чтобы до следующего лета, примерно до июля я тебя не видел! - дружески наставлял Архипиит и спешил к епископскому дому, склонялся перед фиолетовой мантией, оповещая господина, что тугородная муза наконец-то разрешилась от бремени.
Дело, как видишь, было на мази, если бы не досадная оплошность. Однажды Архипиит, снова впавший в мучительный приступ бесплодия, не дождался старого жонглера. Другие горлопаны и ломаки приезжали в Кельн, но одного - единственного, необходимого, среди них не было. Архипиит заметался. Пытался вызнать у бродяг хоть что-нибудь о судьбе пропавшего, но ему пришлось довольствоваться смутными слухами о том, что балаганчик сгинул в зачумленных областях. Архипиит нанял было другого жонглера, но почему-то Епископ озверел, когда услышал новое произведение, начинавшееся так:
“Сколь тешу я себя мыслЯми,
О том, что годы все прошли.
И моя молодость увяла
Как все красивые цветы”.
Я и моя свита прибыли в Кельн как раз во - время. Архипиит сидел в долгах по горло, на его место лезли, как клопы, молодые и наглые стихотворцы, понемногу несчастного гения стали забывать, впереди услужливо маячила то ли долговая яма, то ли богадельня. Когда дождливым утром Весопляс пришел в его дом, Архипиит выбежал во двор, еще кислый спросонок и выпалил жадно:
- Господи! Где твой отец?
- Умер, - коротко ответил Весопляс. Архипиит грузно уселся на ступени.
- Впустите меня в дом… Я попробую его заменить.
- Ты? - взвыл Архипиит - Ты? Какой-то недоносок, маленькая дрянь?
- У тебя нет другого выбора, сволочь. - Весопляс спокойно обошел сидящего и скрылся в доме, Архипиит, причитая, потащился следом.
“Слезы катятся из глаз,
Арфы плачут струны,
Посвящаю сей рассказ
Колесу Фортуны.
Испытал я на себе
Суть его вращенья,
Преисполнившись к судьбе
Чувством отвращенья…”
Епископ улыбался, милостиво покачивая головой. Бархатные руки его дремали на подлокотниках. Сухо было во рту Архипиита, он исступленно читал, сбиваясь, призрак богадельни вспыхнул и рассеялся на вечные времена. Какая ничтожная плата - аудиенция у Епископа для какого-то безземельного князька. Умница-мальчик! Золотко мое. Ты мог бы попросить гораздо больше. Ночной сочинитель, с черными от усталости губами.
“Ах, там в долине под горой
Блаженной райскою порой
Гуляла с младшею сестрой
Любовь моя…
Не лучше ль было под кустом
Улечься нам в лесу густом
И там ко рту прижаться ртом
Любовь моя…”
Епископ и Архипиит приняли меня благосклонно. Рассказ о горестях и скитаниях тронул их - все сильные мира сего сентиментальны, как старые девы.
Они очень любят принимать в нас участие. Нужно только уметь заинтриговать.
Мне стоило большого труда отбиться от назойливого Архипиита - рифмач пристал ко мне с просьбой отдать ему в услужение Весопляса.
Но я стал вхож в высокие дома Кельна, история чумы возбуждала и нравилась.
Итак, здесь началу истории перелетного графства Малегрин быть.
Мы получили отпущение грехов на 20000 лет вперед, мы валяли дурака, плели небывалые истории. В частности, основным нашим козырем было и оставалось было и оставалось окаянное безбабье - под соусом сватовства (нам ведь надо возрождать нацию, господа!) мы получали возможность заглядываться на хорошеньких дочек купцов и дворян. Вообразите, дамуазель вы можете стать новой Евой-праматерью графства Малегрин!
Я стал другом Епископа, он дал мне подорожную грамоту в Авиньон к папскому престолу, снабдил деньгами, конечно, имел место небольшой шантажок, но ведь это не так важно, моя законница!
Так нас носило по Европе, везде графская свита искала высокородных жен, мы промышляли и контрабандой и нанимались для охраны и развлечения вельможных особ.
Перед поездкой к Папе я хотел основательно поднакопить деньжат. Как известно к Папе с пустыми руками не ходят.
Ты знаешь, моя милая, хорошо подвешенный язык, высокомерные манеры, беличья оторочка упелянда, тяжелого, как доспех от зашитых в подкладку золотых побрякушек, а также грамотки на ягнячьей коже со множеством печатей: весь этот грошовый антураж даже из нашего Смерда сделал человека, вхожего в баронские хоромы.
А ушные дырки Корчмаря казались дамам разве что пикантной деталью.
В Страсбурге бургомистр долго извинялся, что все приличные девицы на выданье уже заняты, зато пригласил нас на бал купеческой гильдии и наградил подарками.
Из Парижа мы уезжали каждый на своей лошади - разве что Плакса по монашескому обычаю купил гнедого мула, а Весопляс по привычке ехал позади меня, на крупе, со слезами отказываясь покидать пажеское место.
Надо сказать, что мальчик не терял времени даром, он со слуха учил латынь, манеры перенимал, как похищенный в младенчестве королевич, к тому же был искусен в музыкальной игре, обладал сильным и нежным голосом и понемножку постигал премудрости фехтования.
Так что я, как сказочный вдовий сын, обзавелся Чудесными слугами Скороходом, Объедалой и Опивалой, Крушидубом, и Ветродуем.
Любо дорого было посмотреть на моих спутников - Плакса и Воевода на вольных хлебах так отъелись, что приходилось шить им новую одежду чуть не каждый месяц - причем оба становились все более расточительными, как в чревоугодии, так и в богатстве нарядов.
Воевода уже не именовал себя иначе, как Доблестной и Несокрушимой армией Великого Графства Малегрин.
Напоминать им о совести было бесполезно.
Ночами на постоялых дворах я стал запираться, негодяи то и дело пытались обшарить меня в поисках утаенного золота и бумаг. Иной раз, когда они пьяные ломились в комнату, Весопляс ночь напролет просиживал под дверью, пока судорога не сводила пальцы на рукояти легкого меча.
Утром я находил его еле живым от усталости и знал, какой ценой мне достался спокойный сон. Долго это продолжаться не могло - запреты только разжигали их аппетиты.
Мы путешествовали по городам и весям, в непроглядной тьме европейской полуночи, городские ворота встречали нас ножами и лаем, провожали колоколами, из Парижа в Льеж, из Кельна в Сомюр, из Орлеана в Мертвый Брюгге с его пересохшей гаванью, из Гента в Шпессарт, из Шпессарта в Милан…
Вместе с нами двигались караваны, наполненные золотым ломом и мочеными яблоками, воловьими кожами, пряностями, штуками сукна, чужими невестами и папскими буллами, наемниками, чем отчаянней и пьянее, тем скучнее.
Мы тосковали по ночам об огнях хуторов и деревенских застав, преклоняли колена перед часовенками на перекрестках, и лгали почем зря, как не лгут ни проповедники, ни лунатики.
Все города казались на одно лицо еще издали. Вон тот шпиль с крестом - собор, рядом с ним - шпиль поменьше с петухом или трубящим ангелом - ратуша.
Главная площадь - рынок, фонтан, тюрьма.
Один город отличался от другого немногим, например, некую площадь украшали прекрасной работы часы-куранты, другой город кичился мостом с каменной резьбою, третий - церковным шпилем с зацепившейся решеткой от дьявольской повозки - она, запряженная майскими жуками, торопилась на шабаш по облакам и обронила решетку.
В третьем городке бургомистр любовно показывал нам обызвесткованный котел для варки заживо фальшивомонетчиков и осмеятелей.
Мне ли рассказывать тебе, моя премудрая дева, что каждый городишко, даже размером с булавочную головку, старался отличиться, демонстрируя замечательные приспособления для убоя, созданные каким-нибудь скучающим дворянчиком.
Дыба с подножьем и дыба колесная, позорные столбы с наручниками десяти видов, колодки для ног и шеи, “кобылы” с острыми гранями, чревонаполнительные воронки с масками и без, колеса на шестах, все родственники гарроты, помосты для костров, виселицы с пятью и более петлями.
Я не гуманист, моя умница, вся эта шипастая, окованная, пеньковая, деревянная свора вызывала во мне лишь смертельную скуку.
В каждом будничном ужасе, в сморщенных лбах и облезшей коже повешенных, в человеческом пепле и детских трупиках, нанизанных на окаянное дерево, как рыбешки на кукан, читалось лишь одно: мелкопоместному царьку, безграмотному набобу, стало невмочь давить мух на подоконнике, шарить под юбками поденщиц, и, ковыряя в носу, изучать собственный напыщенный и безвкусный герб.
Они все: короли, графы, рыцари, князья церкви могут почувствовать себя живыми, лишь убивая себе подобных.
Жизнь и смерть для них всего-навсего детали огромной игры, где заранее розданы роли, где загодя известно, что меч не рубит, а огонь не жжет, невеста не спит с женихом, а смертельные раны перевязываются грязной тряпицей и считаются излеченными.
Смерти бояться не надо, моя несказанная, достаточно быть с ней вежливым, как с достойной и мудрой противницей, в конце концов, смерть - женщина, как и ты.
Они же уверены, что и в раю будет то же самое - границы, придворные поклоны, торжественная жратва, и виселицы, виселицы, виселицы, разве что масштаб будет другим - райским.
Петля, прикрепленная к зениту, аутодафе на северном сиянии, и главное где-нибудь в эмпиреях, эфирах и зефирах - удобные ложи для знати, чтобы наблюдать казни.
В рукописи одного толкователя Святого Писания, я прочел, что одним из главных наслаждений праведников в раю является созерцание мук грешников, и чем громче вопли и проклятия пытаемых, тем звонче ликующий хохот зрителей.
Весопляс боялся смерти, когда мы проезжали висельные поля, вжимался лицом в мою спину.
- Будь у меня власть, Даниель, я бы арестовал всех, кто вешает и жжет…
- И что бы ты с ними сделал?
- Повесил бы… Или сжег.
Не было этому конца, моя охотница, не было.
В странствиях прошло пять лет.
В Авиньоне нас приняли превосходно, папа Клемент был стар и умен, как опытная цирковая свинья.
Расставаться с мирским платьем я не хотел, но жил в резиденции Его Святейшества вместе со многими прихлебателями и канцеляристами.
Я искал места - и наконец получил его.
Плакса умудрился вырвать у щербатого проходимца кардинала Аверардо Строцци весьма примечательную грамотку.
Что за прелесть была эта грамотка, глупый кусочек пергамской кожи! За нее многие грозили всадить нам в спину нож или бросить прилюдно обвинение в ереси.
Итак, документ гласил примерно следующее:
Отныне я, Даниель граф фан Малегрин, владыка Биттерланда, бастард горы Кармель, объявлялся тайным надзирателем, читай, шпионом Папской курии при королевских и императорских дворах - по предьявлению документа я мог требовать любой помощи, свежих лошадей, военной поддержки, я мог останавливать казни именем Его Святейшества.
Курия нуждалась в светских людях, которые будут проводить негласный надзор за золочеными пернатыми Континента и Британского Королевства.
Кстати, именно в Британию я и направлялся в первую очередь, что поделаешь - Папская воля.
Досадная мелочь, я не знал ничего ни об истории, ни о политике этой почтенной страны, язык ее был для меня темным лесом, а такие названия, как Ньюкасл, Глазго, Лондон и прочее, оставались китайской грамотой.
О шотландцах, я скажем, не знал ничего, кроме того, что они никогда не моются и в знак политического протеста носят юбки.
Почему-то упоминание о городе Глазго вызывало у молодых куриалов цыплячью панику. Как мне объяснили, туда отправляли легатов в воспитательных целях - никто не возвращался живым.
Дело в том, что в Глазго обосновалась какая-то из ветвей ордена Рыцарей-Храмовников, в последнее время Европа носилась с ними, как с тухлым яйцом, приписывая им то невероятные грехи, то столь же неправдоподобный мистицизм и святость. Очевидно с гостями из Авиньона тамплиеры не церемонились. Благо, море близко, а с жерновом на шее утонет и легат.
В особенности я жалел брата Алессио, секретаря пройдохи Аверардо Строцци. Я успел близко познакомиться с этим юношей. В августе того года Алессио исполнилось восемнадцать лет, но если я, старше его на четыре года, уже стал мужчиной, раздался в плечах, отрастил золотистую бородку, то Алессио обладал стыдливой красотой юного кастрата.
Он часто о чем-то шептался с Весоплясом, при этом я замечал в речи Весопляса странные нотки, он всегда говорил об Алессио, как покровитель, защищающий избалованное, но любимое дитя. Они проводили вместе немало времени.
А я и не заметил, как отрок - Весопляс стал юношей.
По воскресениям, с утра он перестал забираться ко мне под одеяло и замирать, когда я гладил его по голове, и не хватал беспричинно меня за руку, и не рассказывал своих снов. Он перестал видеть сны вовсе. Его веки во сне не двигались. Он просыпался в той же позе, что и ложился. На окрепших по-женски удлиненных ладонях ночными иероглифами выступили вены.
Лицо его стало строго и золотисто, как на иконах византийского письма. Он редко смеялся в голос, но маленькие губы его всегда были сложены в любезной полуулыбке. А дыхание и гладкие ладони прохладны, как мятный сок. Его волосы пахли дымом и кровью по вечерам.
Теперь, когда меня окликали “Князь!”, непосвященные в первую очередь смотрели на Весопляса.
Дон Аверардо - кардинал, постоянно упрекал своего секретаря, Алессио в нерадивости и свои дидактические речи всегда заканчивал одной и той же шуткой:
- А хочешь в Глазго, дитя мое?
Алессио бледнел и как-то на глазах худел.
Аверардо отказывался окончательно заверить нашу грамоту, мол, мы сами должны найти того, кто возьмет на себя ответственность за наши церковные махинации в Британии.
- Вы пейте, Даниель, пейте… Нет, подписи я вам не дам. Своей - не дам. Но с вами поедет легат. Спрашивайте с него.
Бернардо щурился и пил мелкими глоточками. Мне нечем было возразить - кому охота подставлять свою голову под топор за чужие грешки. Что ж - легат - это неплохое прикрытие для перелетного графства.
Во время первой поездки в Британию нас сопровождал старый демонолог из Мюнхена по имени Иоганн Швердтляйн, к его помощи обратился епископ Глазго. Дело в том, что в городе поймали ведьму и, на взгляд епископа, храмовники, уличившие женщину в ведовстве, действовали беззаконно.
Иоганн радовался как ребенок, которому подарили пряник. Храмовников он не любил какой-то восторженной нелюбовью. Причины этой нелюбви были туманны, отсылали ко многим заплесневелым томам кодексов, к протоколам давних следствий и юридическим ухищрениям. На ведьму Швердтляйну было наплевать - был бы повод побольнее уесть командора ордена.
Иоганн мечтал, чтобы кичливые рыцари обидели его публично, дали повод к судебному разбирательству, оскорбительным письмам и взысканиям. Был демонолог склочником - виртуозом.
Ему я уже усталым голосом изложил проверенный вздор - извольте видеть, мы, кочевое графство, блуждаем по Европе, дабы найти девушек для продления славного племени Малегрина.
Нужно отыскать крепенькую, как репка, поселяночку, для Смерда, лапочку с хорошей родословной и тонкими пальчиками для меня,
португальскую или андалузскую танцовщицу с бронзовой грудью для Весопляса, славную хозяюшку в чепце с соломенными косами для Корчмаря, усатую солдатку с оловянной поварешкой для Воеводы…
А тебе, Плакса, выбритой макушке, не положено бабы, согласно монастырскому уставу.
Иоганн ехидствовал, что в случае монашеского безбабья все детишки Малегрина будут похожи на Плаксу.
И вообще: женщина суть сосуд греха.
Весопляс со старым немцем был вполне согласен.
Он сидел против огня, отсвет вычертил опасные скулы его, маленькую, как у горностая голову, он расчесывал волосы черепаховым гребнем - и я слышал, как на последнем взмахе отлетел зубец, не выдержав напора освобожденных от ленты кудрей.
Его сухожильную, как у гимнаста, шею охватывали плоские звенья железной цепи раба - он носил это уродливое украшение со странным упорством, говоря, что железо хранит его от длинных пальцев сатаны, который боится рукотворного, так легче мне идти по земле, Даниель, оставь мне мою цепь, Князь.
Я пожимал плечами и не трогал его.
Тем не менее ехать надо было срочно - несмотря на несовершенство подорожных и верительных грамот, в Авиньоне за нашим “некоторым царством” тянулся предлинный список грехов: от оскорбления духовных лиц в особо крупных размерах, до неоплаченных бордельных услуг.
Долговременные гости утомляют - а престол святого Петра дважды не напоминает о том, что пора и честь знать.
Монах и солдафон повеселились на славу. Я устал расшаркиваться перед обиженными патерами и платить, платить… Платить кредиторам, бельевщикам, кондитерам, веселым особам с цветными кружками на рукавах, музыкантам и прочему сброду, который паразитирует на страстях рода человеческого. За неделю до отъезда я, вящего порядка ради, сдал мое карманное Духовенство и ручную Армию в холодную, где их и продержали вплоть до нашего отъезда в северный порт Кале.
И, как выяснилось, ошибся с наказанием. В кочевом княжестве помаленьку назревал бунт. Человек, подчас, безропотно расстается с жизнью, но упаси вас Господи лишить его развлечений.
Воевода и Плакса окончательно обозлились на меня, я ничего не знал об их замысле.
Еще в день отплытия они договорились убить меня в каюте и бросить в море, грамота и деньги не давали им покоя. Когда еще представится такой случай: один удар ножа - и в твоих руках вся казна княжества.
Меня спасло лишь то, что Плакса в первые два часа плавания, слег с жесточайшим приступом морской болезни и между спазмами рвоты жаловался на греховную жизнь, каялся передо мной и Весоплясом и просил принести ему бич, корочку черного хлеба, пепла для посыпания главы и тазик, потому что не мог добраться до борта.
Все остальные, во главе с Воеводой жрали и пьянствовали в каюте. Весопляс сам вызвался служить за столом. В одних чулках и расхристанной шелковой рубашонке с женским французским воротником, он постоянно подливал сидра и токайского вина то Воеводе, то авиньонскому демонологу Иоганну Швердтляйну, отпускал сальности, и развязно хихикал, временами без стеснения усаживаясь на колени то к одному, то к другому.
Когда на столе появилась грязная ампула с аптекарским спиртом, Весопляс, облизнув от кислятины белые губы, прикрепил к запястьям и щиколоткам гроздья медных бубенцов, разогнул звенья цепи, швырнул ее в угол, чтоб не мешала плясать - на шее остался оржавленный след. Он танцевал доступно для них, танцевал для них крестом на досках стола, висельную мориску, когда весело, когда чадят вонючие светильни, когда все стыд и сквера и спина прогибается назад колесом, так что волосы касаются поясницы и ляжек. Корчмарь давно спал, хрипя спьяну, его завалили ветошью в углу. Пьянчуги ревели - и я видел, что глаза Весопляса черны и косы, как у аспида и бесноватая судорога мориски бьет его, как колокольный язык над всесветной срамотой, как Саломея с собственной головой в руках плясал босой Весопляс, пока они хотели смотреть, пока мы все хотели смотреть!
Пирушка длилась - наш доступный виночерпий все чаще исчезал под столешницей, и выныривая оттуда, кратко отирал почерневшие от прилившей крови губы и смеялся в полный голос, как блудница, обращенная в сову.
Он ни разу не посмотрел в мою сторону.
Я напился допьяна и едва смог отворить дверь, добрести до своего лежака. Я уснул тотчас, потому что эта мразь не хотела посмотреть на меня!
На рассвете в мою каюту постучался Весопляс, безупречно наряженный, но мокрый с ног до головы - я слышал, как о палубные доски нехотя барабанит дождь.
На поясе юноши уже не было подаренного мной ножа - одни пустые ножны.
Весопляс принес мне завтрак, учтиво и равнодушно накрыл стол. Я набрался терпения и стал ждать.
Через два часа в каюте появился зеленый с похмелья Иоганн, он дрожал, блеял и мучил мой рукав потными пальцами.
Случилось непоправимое: признанный демонолог не совладал с бесом пьянства, впал в беспамятное буйство и на рассвете очнулся в загаженной каюте в обществе мертвеца. При этом самого убийства он не помнил. Хотя трудно было поверить, что убийца был пьян - видно было что он колол Воеводу раз восемь, при этом тщательно рассчитывая каждый удар, будто целовал.
Я боюсь туда заглядывать, любимая, потому что та ночь - была адом и море было адом, тем самым что в день Страшного Суда изрыгнет части тела утопленников и звероподобных рыб, но теперь мне приходится смотреть туда, в колодец, в позолоченную огнем каютку, где пахнет чесноком, перегаром и сопревшей одеждой и … Избави меня Господи - пролитым семенем.
Двое смеются, двое пьют, а третий снует меж ними, как серебристый хохочущий челнок, он тоже пьет - или льет за ворот, он одурел от их ласкающих рук - но глаза у него ясны и пусты, как январь.
О Господи, молодой холуй, похотливый кравчий, я только много позже понял, почему Весопляс оделся так легко и вызывающе - дело не в двусмысленной фривольности, а в том, что такую одежонку легче уничтожить, она не стесняет движений… После того, что он сделает то, что должен.
То, о чем спокойно размышлял все эти годы. Взгляни сама - Швердтляйн задремывает, он опоен, но еще успевает ссориться с окосевшим Воеводой, они брешут друг на друга, как кобели не поделившие суку, когда рука Весопляса скользит по шее Швердтляйна - Воевода наливается багровым и хрипит.
Когда плеть ладони утешает Воеводу под столешницей, Швердтляйн визгливо и неумело бранится, силясь разглядеть грех сквозь водочную пелену. Движения кравчего убыстряются, он торопится, плетет паутину лунных жестов, грязного соблазна, тошной ночной случки. И Швердтляйн роняет голову на тарелку, не выдюжил, храпит…
Тогда Весопляс, отступает всего на шаг и снизу, сзади наносит первый удар ножом Воеводе. И лицо у него такое, будто он спит, улыбаясь, под гладью талой стоялой воды.
Утро.
Воевода окоченел, навалившись на стол, натекшая из перерезанной глотки кровь жирным сгустком спеклась среди объедков. Швердтляйн наладился было заголосить о помощи, но тут же заметил в собственном смерзшемся от страха кулаке нож в сукровичной печеночной руде.
Спасибо Весоплясу, золотой души мальчик, без расспросов отправил труп к рыбам и пообещал молчать, в обмен на подпись под Папской грамотой.
И много еще о чем обещал молчать.
О причине поножовщины я не стал расспрашивать демонолога.
Золотая душа сидел в уголке и деликатно угощался крылышком цыпленка. Пальцы у него были хрупкие, длинные, совершенно неприспособленные для убийства.
Почему-то я подумал, что со времен наших осенних бесед на горе Кармель, я так и не удосужился узнать его христианского имени.
И меня зазнобило.
Дрожа, как мокрая собака, Иоганн нацарапал поросячий хвостик своего факсимиле под куриальной грамоткой: Швердтляйн за Аверардо Строцци.
Плаксе, Смерду и Корчмарю сообщили о гибели Воеводы в обед - я разозлился и сказал, что чайка клюнула его в зад, когда он перегибался через борт.
Плакса икнул и спрятал глаза.
Любознательный Корчмарь принялся выяснять, какого рожна Воеводе понадобилось глазеть за борт, и я готов был прибить Корчмаря, но положение снова спас Весопляс. Кротко улыбнувшись, он положил руку Корчмарю на плечо и замурлыкал:
- Дружочек, если тебе так любопытно, подойди к борту, наклонись пониже и взгляни сам.
Вопросы иссякли сами по себе. В знак траура мы оставили Плаксу без обеда, полдника и ужина.
Я закрыл глаза и слушал море. И представлял глубоководных гадов, скалы, стаи рыб и желудочную дремоту моллюсков, и то, что некогда было жирным телом Воеводы, лениво шевелимое поворотами течений.
Свеча вторая. Адский Ход
Глазго встретил нас ветром и пустыми мокрыми закоулками порта.
В садах поспели первые яблоки, дымчатые кирпичи домов, кузниц, пекарен и кабаков зацвели, как стоячая вода.
Шериф изучил псевдопапские бумаги и присоветовал нам заведение некоего Мони Маммона - не поручусь, что слово “маммона” мне почудилось.
Его фамилия была Цимес. А заведение, который он держал с дочкой Рашелью носило восхитительное название: “Святая Вальпурга, искушаемая баклажаном”.
Вывеска была лишена картинки из цензурных соображений по личному приказу шерифа Глазго, который забрал картинку себе.
Моня оказался великолепным экземпляром иудейского народа, каким-то нарочным евреем: кормили у него вкусно, но очень мало, простыни были чисто выстираны, но коротки донельзя. При любом упоминании о деньгах его пейсы начинали шевелиться отдельно от головы, как прическа Медузы Горгоны, к нему с удовольствием ходили ругаться кузнецы с соседней улицы и подгулявшие тамплиеры.
Последние всегда ходили группками, не знаю, где уж тут была просветленность членов ордена - но горожане прятали жен и живность едва завидев алый крест на белом плаще.
Ругаться Моня умел - сложнейшей архитектуры ветхозаветные проклятия могли повалить битюга, судя по всему тамплиеры ходили к нему обучаться сквернословию.
Нередко доходило до того, что какой-нибудь воин Христов начинал Моню понемногу убивать, и прятался Моня в кухне - покуда не настигал его среди горшков котлов и сковород озверевший меченосец.
Тут уж у Мони находился последний козырь: ржавая борода, политая росным ладаном, задиралась совком - и взору храмовника представал трогательный крестик на голубой ленточке. Моня был выкрестом и потому считался неприкосновенным.
Бездельничая, храмовники приставали к постояльцам - требуя у мужчин выпить с ними или сыграть в зернь, а у женщин - плодиться и размножаться прямо сейчас и здесь за пивными столиками.
Весопляса они долго принимали за девочку в мужском платье и поэтому требовали у него и того и другого.
Да я и сам заинтересовался одной постоялицей.
Высокая красавица, с косами цвета каштанового ядрышка, всегда появлялась в господском зале вместе с тоненьким, как тростничок, студентиком - черные волосы юноши были на мой взгляд неуместно длинными, а в лице его сопрягалась незрелая невинность и напускное незрелое же мрачное презрение к миру.
Красавица влюбленно смотрела на него за обедом, подкладывала в тарелку кусочки получше, смеялась над малейшей его шуткой - короче, вела себя, как законченная дура.
И что она нашла в этой голенастой водомерке? У Мони, понятное дело, за мзду - о проклятый выжига - я узнал, что эта пара не молодожены и не брат с сестрой.
Стало быть - любовники. Устроили себе “бегство на остров любви” с удобствами постоялого двора.
Однажды я услышал, как студентик назвал девицу по имени: Наамах.
Плакса, тоже слышавший это, заерзал на стуле и заныл, что-то о неуместных шутках, мол, демонское имя, не к лицу приличной девушке.
Вечером я узнал у Иоганна - демонолога, что Наамах - имя королевы суккубов.
Плакса тут же прочно пристал к паре с расспросами, но на следующий день, все разъяснилось.
- Наамах? - нахмурился студентик, - где вы набрались таких глупостей, отче? Это моя кузина, француженка, ее зовут Натали - Мария, а по-домашнему Нами или Ноэми. Если я скажу вам, что меня зовут Луис, вам что - ли послышится “Люцифуг”?
Ноэми захихикала и закрыла рукавом личико.
Пришлось оправдываться, пинать под столом Плаксу и выставить себя невежей-иностранцем.
Несколько скрасил мою скуку в “Святой Вальпурге” итальянский купец по имени Раймон. В тарокки он играл, как Бог, правда слаб был на выпивку, когда хмелел, пытался заключать со мной путаные сделки.
Я не понимал, почему я обязан что-то отдавать ему в обмен на такие глупости, как царства земные, неразменный талер, камень шамир и любовь самых прекрасных женщин. Что именно я должен был отдать - Раймон не уточнял, но смущался и говорил:
- Пустяки, синьоре, вы этой штучки никогда не увидите, и даже не можете сказать точно, есть она у вас или нет, разве что уйдет в пятки…
Я тосковал, пил и думал о Ноэми.
Вот странность - ни она, ни Луис, ни Раймон, а с ними еще одна портовая девка, Эстер - Посинюшка, целыми днями дрыхнувшая в комнате, не платили Моне ровным счетом ничего. Зато с меня и моей свиты Цимес драл втридорога.
Впрочем, жаловаться было не на что, соседи оказались приятнейшими людьми.
Раймон делился со мной новостями - в Глазго шумели, что недалеко от города Ньюкасла скоро состоится казнь шотландского мятежника Вилли Волеса.
- Малыш Вилли Волес! - Раймон указывал пальцем в потолок- Малыш Вилли Волес - это, брат, того… Это - сила!
Потеряв терпение, я спросил, чем этот Вилли отличается от Робби Брюса, владыки Глазго. А так же от прочих Микки, Джерри, Рикки и Томми.
Раймон немедленно ударился в объяснения.
Обстановка была не яснее яйца - болтуна:
Английский король Эдди Первый то ли лез в Шотландию, то ли ее куда-то не отпускал, принц Эдди утешался архитектурой, стихосложением и наложником Пьером Гальвестоном, не обращая внимания на Бетти, а может Бесси, в общем на Изабеллу Французскую, которую за пристрастие к декольте благодарный народ прозвал “Французская Ключица”.
При Эдди Первом была еще Королева - мать, чья мать я так и не понял, но вроде бы принца Эдди.
В чем-то был замешан Архиепископ Кентербери, многочисленные кланы начинавшиеся с приставки “Мак”, а так же англичане Арунделы, Клиффорды и де Клеры, которые тоже чего-то хотели и состояли в запутанных порочащих имя человека и христианина, связях.
Речи Раймона окончательно сбили меня с толку. Я запутался в бесконечных Робби, Эдди, Бесси, и прочих и аккуратно спросил, за какую связь казнят малыша Вилли.
- У вас все мысли об одном! - возмутился Раймон, - Вы - эротоман, Даниель. Вилли - народный шотландский герой. То ли не дает Эдди в Шотландию лезть, то ли сам лезет в Англию. В общем, он брал у богатых и давал бедным. За это его казнят.
Вскоре вернулись с прогулки Корчмарь и Смерд. Смерд рассказал мне, что пойманных ведьм, о которых мечтал Иоганн Швердтляйн, напоказ возят по городу. Их четверо: мать и три ее дочери - девятнадцати, четырнадцати и десяти лет они едва говорят по-английски, бормочут что-то на наречии называемом “ром”, и побирались в порту, по нищенскому жалобному обычаю клянча монетку во имя “Машутки, которая Боженьку спонародила”.
Так как цыганские попрошайки непременно имели в виду Богородицу, тамплиеры не смогли сего кощунства перенесть и арестовали женщин по всей строгости.
Храмовникам было откровенно нечего делать. Скорее всего побирушки отбились от табора, а может быть по обычаю своего народа женщины собирали деньги, пока мужчины ждали в предместьях.
Иоганн услышав новость, расцвел, облачился в черную магистерскую мантию и поскакал собачьим галопчиком в судебную залу - нарываться на тамплиеров. Весопляс взялся его сопровождать, как охранник и паж.
А я думал о Ноэми.
Так долго думал, что в Глазго начался дождь. И вообще над всей Британией и островами Оркнейскими и Фолклендскими и над островом Мэн и над Ирландией и над Хайлендом.
И промокли яблоки и лошади и овечьи стада, и понтонные лодки, и пивоварни и колеса водяных мельниц, и хмель на стенах аббатства Кентерберри и горностаи в монастырском саду, и Эдди Первый, который в замковом дворе играл с министром в тавлейную игру…
Промокли ферзи и ладьи и слоны, и кони, и принц Эдди, раскачивающий на качелях своего Пьера Гальвестона…
Промок перламутровый плащ его и ученая собачонка Изабеллы, и сама Изабелла вышивавшая в саду на пяльцах и разобиженная на весь свет.
А еще простужался Весопляс стоя у ворот Судебной Палаты Глазго. Как жеребенок - краюху хлеба, он хватал губами ветер жестокий и йодистый, и скалил белые лисьи резцы в пустоту, потому что я думал о Ноэми.
Вечером, когда развиднелось небо, я увидел, как Ноэми вышла босиком в палисадник “Святой Вальпурги”, слегка повела плечами и без усилий легла на воздух, глубоко вздохнув, как купальщица в холодной воде.
Женское лоно ее звучало, как пастушья флейта. Потом ее тело померкло, распустилось, как туман и чуть наискось было унесено сквозь ветви серебристой липы, ближе к закатному неприютному прибою, размокшим шлюпам у берега, торговым взбалмошным рядам, дымной путанице уходящего к восточному краю моря дождя.
Но тут же в саду появился Луис, а с ним и Раймон, они о чем-то спорили, и следа не оставили от моего дождя и Ноэми.
Теперь я не сомневался, что ее зовут Наамах. На губах своих я почувствовал горький налет, вроде сока одуванчика, в комнате оставаться было невыносимо, я растолкал Смерда и послал вместе с ним Раймону записку, почему-то не решившись переговорить с глазу на глаз.
В записке я черкнул только одно слово: Согласен.
Вскоре она вернулась ко мне, на обороте рукой Раймона было написано: Цена ваша.
Мне стало нехорошо, будто после болезни впервые встал на ноги. Ни знаменье креста, ни молитвы не шли на ум, впервые со времен Авиньона я захотел исповедаться.
Выглянул в окно - на улице в очередной раз торчал священник из церкви Сент - Мартин, С легкой руки Весопляса к нему приклеилось прозвище отец Делирий Клеменс. По сравнению с ним даже христолюбивый Плакса был агнцем.
Отец Делирий еще два года назад ратовал о закрытии гостиницы Мони, но его просьбу отклонил магистрат. Теперь Делирий с жуткой пунктуальностью, по средам и пятницам в шесть часов пополудни являлся к калитке “Вальпурги” и в сопровождении двух мальчишек из церковного хора распевал Псалмы.
Иногда он топтался на месте, немелодично припевая:
- Так плясал король Давид! Давид играше, Давид скакаше, весе-олыми ногами!
“Вальпургу” он не называл иначе, как смрадный вертеп, вместилище всех дьяволов ада. Самое противное, что Делирий был неподкупен и молод. Будь он пожилым - жители Глазго могли бы надеяться на то, что козломордого аскета скоро сволокут на кладбище.
В тот день отец Делирий имел стигматы.
Действительно, ладони, которые он совал прохожим были измазаны кровью - возможно то была кровь куриная.
А может быть - свинячья, но уж никак не Христова и не Делириева.
А еще - он не любил Ноэми.
Так стало душно и гадко, что я на вдохе махнул под мелким банковским почерком Раймона “Цена ваша” - краткое слово: “Ноэми”.
Раймон нашей переписке с этажа на этаж не удивлялся - он добродушно принял правила игры.
Я ждал, что от меня потребуют подписи кровью, или доплаты, но так и уснул в кресле, не дождавшись.
Заполночь возвратился из Судебной палаты Весопляс. Он был почтителен и услужлив как всегда, приказал Корчмарю и Смерду наполнить подогретой водой банную бочку в пристройке.
Когда оба мы отмокали в бочке, я заметил, что Весопляс бледен и беспокоен. Руки у него дрожали, когда он намыливал мне спину и плечи, я усадил его рядом с собой, налил вина и приказал расслабиться в теплой воде, разгладил сведенные мышцы на бедре его.
Весопляс усмехнулся.
- Кончено их дело, - и рассказал мне о том, что видел на процессе - как выяснилось, наш студентик Луис, помимо всего прочего, служил писарем в инквизиционной палате.
Что было взять с цыганских девочек?
Ничего, кроме озноба, плача и “к ма-мочке”.
А вот мать оказалась упрямой - пожилая, жилистая, как зимнее дерево, она смотрела из клетки, как из дворца - с нее сняли множество украшений диковинного вида - многие из них были амулетами от порухи и скорби, дурного глаза и лихого человека, от трясавицы и беса полуденного.
По просьбе молодого врача, недавно прибывшего в Глазго, как и мы - морем, ее раздели догола - и уже неплодоносное, каменное тело ощупали в поисках сатанинских меток, в виде кошачьего следа или воспаленного соска, но не обнаружили ничего, кроме родинки под лопаткой. Родинку прокололи, и выступила кровь, врач было замялся, но потом внятно продиктовал писарю:
- Налицо дьявольское наваждение, отвод глаз. Подобно тому как ведьмы выдаивают на расстоянии коров, вонзая нож в дерево, чтобы потекло молоко, так и здесь - из-под иглы сочится кровь не женщины, но, предположим, коровы.
Старуха засмеялась, и рассвирепевший трибунал приказал палачу поднять ее на дыбу.
Монахи зевали, Иоганн блистал познаниями в демонологии, отчего всем было еще хуже. Несколько оживили дело два свидетеля: командор Храмовников Глазго и один тамплиер, завсегдатай “Вальпурги”, которого шлюха Эстер-Посинюшка прозвала “Бобриком”.
Иоганн тут же с ними сцепился, заставил оттянуть процесс, придирался к каждой мелочи, и все время отпускал сомнительные шуточки, вроде “ну понятно, почему говорят пьян, как тамплиер”.
Если бы Ведьма держала язык за зубами, все могло бы обойтись - но на дыбе вздорная баба начала прямо в зале звать Ночного Хозяина, дерзить попам и едва не погубила вместе с собой и дочек.
В результате должны были обвинить только девятнадцатилетнюю цыганку, прочих признали одержимыми, но невольно, поэтому после экзорцизма они должны быть переданы в ведение приюта женского монастыря.
Тут выяснилось, что Весопляс непостижимым образом уже успел познакомиться с аббатисой, державшей приют, потому что раздраженно наградил ее титулом старой суки.
Я плеснул в него мыльной пеной и он, потупясь, продолжил.
Итак, Иоганн увлекся, теперь уже суд превратился в латинскую перепалку тамплиеров с демонологом.
Иоганн солировал:
- А когда я прибыл в тюрьму с бумагами от Святейшего престола, ваш подчиненный спросил меня: А ты хто такой?”. После чего вытолкал меня в шею и разило от него винищем!
- Ваши претензии мне удивительны… - командор вытянулся во фрунт, оправил плащ и стал загадочен.
- А почему арестованная не была подвергнута ордалии, сиречь Божьему суду посредством каленого железа и кипятка?
- А ордалия в Глазго запрещена! Ваши претензии мне удивительны.
- Да! - завизжал Иоганн - уж не вы ли ее отменили! Самоуправство! Я буду жаловаться в курию! Я буду жаловаться Понтифику! Я вообще буду жаловаться!
Тут второй храмовник, Бобрик, с утра не похмелившийся, очнулся, потер шею и разразился было грустной речью. Начало ее было меланхолично и романтично, как первая строфа романса. И увертюра сия была такова:
- Я вас сношал…
Иоганн не дослушал речи и триумфально заверещал:
- Па - пр - ра - шу занести в протокол!
- В какой форме? - вежливо переспросил Луис, грызя перышко.
Монахи заржали, палач забыл ведьму на дыбе.
Завязался тягостный спор, в какой же все - таки форме Бобрик сношал Иоганна.
Стоит ли поставить многоточие, либо заменить грубое выражение “сношал” на медицинское: “производил коитус”.
Дальнейшее напоминало иллюстрации к полному собранию сочинений по демонологии.
Кого-то выводили, кому-то из святых отцов поминали сожительство с двумя конкубинами одновременно, как будто содержать одну девку - меньший грех.
Тут состоялся триумф старонемецкого склочника, он переписал всех присутствующих в свидетели, обозвал Бобрика язычником и ерисиарствующим в ереси ересиархом, командору обещал довести дело до суда над обнаглевшим Орденом.
- У вас не ангел с крестом, а черт с пестом! Как народ говорит, между прочим - крещеный мир! - не к месту гремел Иоганн.
- А вы меня не мучайте фольклором! - отбивался командор.
- Раньше ездили по двое на одной лошади, а теперь одним задом о двуконь!
- Ваши претензии меня удивляют. Позвольте…
- Позвольте вам не позволить!
Под шумок Весопляс подкрался и ослабил ремни дыбы, ведьма вздохнула, она почти без памяти, бредила.
Разобрав ее слова, Весопляс, понял, что она не цыганского рода - Ведьма бредила на языке страны Ок.
Тихонько повторяла некую странную фразу, показавшуюся мне немного напыщенной:
- …А в ясную погоду Монсальват видно на небесах.
Истории о южно-французских войнах я слышал в детстве, но вот любопытно, откуда Весопляс, уроженец графства Малегрин, жалкий сызмальства бродяга, мог знать наречие Лангедока.
Я спросил его. Весопляс медлил, обнаженный против огня, обтирался насухо шерстяным покрывалом. Придумав, солгал:
- Когда я был маленьким, родители возили меня на ярмарку в Суассон. И там я запомнил слова песни на языке Ок. Ну так вот, суд так и закончился пустяками, тамплиеры ушли из зала, ведьма и ее дочери были водворены обратно в тюрьму, разбирательство затянулось на неопределенный срок и обвиняемые должны были томиться в остроге, возможно, еще месяц. А Иоганн…
- Да, кстати, почему ты вернулся один?
Весопляс нежно улыбнулся мне:
- Простите, я совсем забыл. После того, как Иоганн и я покинули Судебную Палату, Бобрик и Командор подошли к нам у ворот Мясного рынка и предложили выпить в “Поверженном Мавре”. Они, видите ли, опомнились и желали примириться. Иоганн согласился, я же сказался нездоровым, свернул в переулок, а потом пошел за ними украдкой. Они и вправду пили вместе, а потом Командор повел Иоганна в рощу на крепостном валу, немец уже писал ногами кренделя. Я внятно слышал каждое слово. У грота Командор предложил Иоганну некоего питья из собственной фляги - он назвал его “Бальзамом Соломоновым для успокоения сердца”. Демонолог принял.
- Только не говори мне…
Весопляс рассеянно посмотрел в сторону, процедил сквозь вежливую улыбку:
- Ноги у него отнялись, видимо сразу, лицо почернело и раздулось, началась рвота, но четверть часа он еще жил и ползал. Бобрик раздел труп догола, потом они затолкали его в грот, а тряпье унесли с собой. Они говорили между собой, что хорошо было бы изловить меня и заколоть, как свидетеля, я мол, могу поднять шум, если демонолог не вернется. Нет, не пугайтесь, на вас подозрение не падет. Я ушел незамеченным.
- Но тебя могут убить, - я обнял его за плечи - Мы уедем из Глазго, единственно, отпишем в курию о гибели Швердтляйна, пусть разбираются.
- Воля ваша, Князь. К тому же и Ноэми покидает Глазго, чтобы посмотреть на казнь этого шотландца.
Зачем, зачем он упомянул имя.
Терпеть я более не мог, право же, в лесу я был мужественней, на плече скрытного друга своего я выплакал Ноэми.
Обмолвился и о записке, присланной Раймоном. Слушая, Весопляс прятал глаза, как убийца.
- Позвольте, мой господин, я буду посредником меж вами и Раймоном, - наконец выговорил он. - Как я понимаю, вам осталось главное - поставить подпись. Почему вы не сделали этого сразу?
- Я боюсь, Весопляс. Боюсь того, кто третий в сделке. Он вроде бы дал мне взаймы, а я трачу чужое.
- Вы о Боге?
- Да. От него не скроешься, он видит и не простит, не так ли учили?
Весопляс рассмеялся:
- Простить или не простить может только тот, кто любит. Будьте спокойны, Бог не любит нас, Даниель. Впрочем, сейчас не время для философии. Дайте мне записку и доброй вам ночи. Будет вам завтра ваша…- он сглотнул и порвал, затягивая, шнурок на вороте куртки - ваша… кукла!
О чем он говорил той ночью с Раймоном мне, моя прозорливица, неведомо.
После купания меня сморил сон, и был он похож на грезы больного лихорадкой.
Вставала в изголовье Ноэми, она была обнажена и смотрела молча, но была скрыта своей наготой, надежнее, чем доспехом или гробом. Я клал руку ей на грудь, и Ноэми колебалась, как вода, и темнели ее губы, словно вызревали на солнечном виноградном нагорье, непричастные к страстям плоти ее.
Позади нее я различал дверь, отворенную в нездешний, южный сад - там стоял сплошным золотом полдень, гудел пчелиный рой и цвел гранат.
Подземная вода срывалась из ведра обратно в колодец с ледяным плеском.
На пороге скорчился Весопляс в греческой, на одно плечо тунике, и играл ножиком - острие посверкивало, впиваясь в пол меж пальцами смуглой его руки. Он улыбнулся и острием приколол свою ладонь, как бабочку, к половице.
Утром мы уехали из Глазго, сердечно распрощавшись с Моней и Раймоном.
Ноэми была словно облита багровой тканью, и лесная мурава золотом вышита по подолу платья, кудри ее были щедры и уложены в сетку из серебряных “шнуров любви”.
Луис, наладился было подсадить ее в седло, но она провела лошадь мимо него и улыбаясь, подала в мои ладони ножку, заключенную в сафьяновый сапожок.
Сделка совершилась.
Только на второй день пути я заметил залубеневшую сукровицей повязку на правой ладони Весопляса.
Заметил и тут же забыл, потому что как раз на том привале Ноэми подошла ко мне, когда я пил из родника, и поцеловала меня в лоб сухими губами, словно ужалила.
Британия… Наконец-то я увидел ее, и, увидев, не полюбил, ее не сравнить с Шотландией, которой свойственна нарочитая дикость. Все здесь дышало и бредило континентом и Французским двором, даже мещане средней руки старались хоть покроем повторить парижские наряды.
Я рассеянно пролистывал улицы Ньюкасла, и заглавной буквой каждого переулка, колокольни, городских пространств рассеянной солнечной пыли была одна Ноэми.
Она капризничала, и я купил ей янтарную нитку, она ждала казни пресловутого Вилли, как представления в тех дворовых балаганчиках, где над занавеской носатый Панч лупит жену Джуди дубинкой.
Корчмарь и Плакса строили из себя невесть что и вечерами наперебой ужасались:
- И как человек, называющий себя христианином, может любоваться мерзким зрелищем публичного убиения!
Оба поклялись не ходить на площадь, и положительно влияли на Смерда, которому было все едино.
Смерд походив по рынкам, ломал голову какой породы здешние поросята, да как у островитян родится такая ядреная овощь - земля тому способствует или навозная жижа. Вообще вдумчивые походы по базарам были единственной страстью Смерда, он мучительно долго бродил по рядам, прислушивался к протяжным крикам коробейников, щупал капустные кочаны, кроличьи тушки, принюхивался к свиным головам и пробовал обжаренные лесные орешки. Прогнать от прилавка такого верзилу не решались, никакого языка, кроме наречия Малегрина он не знал, хотя после нашего прибытия в Британию стал различать кое-какие английские фразы.
Он не мог взять в толк, что поросенка или теленка можно купить, а не вырастить или взять у соседа. Весь пройденный нами мир представлялся ему темной пустыней, где никто не работает, но непонятные раззолоченные фигуры постоянно беседуют на туманных языках, говорят и склоняются друг другу на плечи и проводят бессолнечные дни в нежной праздности. Разговоры тянутся до бесконечности, и ни одного слова не разберешь, как ни бейся.
- Нет, ты сам посуди, какое варварство, в начале просвещенного века рубят голову публично! Смерд, ты не должен ходить на площадь! - распинался Плакса, а Корчмарь поддакивал, потирая дырки от обрезанных ушей:
- В этот печальный день мы пойдем в Божью церковь и будем там молиться, в грудь бия!
Надо ли говорить, что еще за два часа до казни Воллеса оба горлопана столкнулись подле эшафота и страшно сконфузились.
Вместе с Ноэми я сидел на помосте для дворян и рассматривал собравшихся - вот тут-то, моя странница, меня и подстерегло впервые чувство, не покидавшее меня в дальнейшем.
Все вроде бы было на месте: Эдуард Первый - бравый солдат, в кольчуге и стальном венце намертво прикрепленным к кольчужному же подшлемнику, расплывшаяся к старости страшная, как торговка в дорогом атласе королева-мать, желтобровый и болезненный принц Эдуард и фаворит его - оба тусклые, не спасал даже жемчуг, бархат и меха, француженка Изабо - с библейским прекрасным лицом, вся в голубиной белизне, точно великомученица, какие-то иные разряженные в пух и прах лорды и леди, епископ в изукрашенной митре…
Зачем-то в отдалении запестрели шотландские клетки - по какой причине шотландцы притащились смотреть на казнь, я так и не понял - они понятное дело, выражались, показывали голые зады из-под юбок, некоторые отплясывали бочком под волынку.
На них англичане смотрели сочувственно и добродушно, как на плохих детей.
Венценосные содомиты без интереса напоказ кокетничали, словно повторяли что-то виденное в пьесе или вычитанное из книги, лицо Изабеллы было загримировано печалью и добродетелью. Вывели Воллеса, и спросили, признает ли он короля Эдуарда, но бунтарь крикнул по-французски
- Поцелуй меня в зад - и положил с готовностью голову на плаху. Палач занес меч, и тень лезвия пала на шею Вилли. Поднялся Эдуард и сказал лениво:
- Пусть убирается на все четыре стороны, он не интересен мне.
Недовольные, зрители разошлись лишь через полтора часа. Недоволен и раздражен был и Вильям Воллес - казалось, он готов судиться с королем за то, что его лишили законного права быть подвергнутым отсечению головы.
Я успел услышать, как Изабелла с жаром втолковывала королю:
- Ваше Величество! Вы поступили опрометчиво! Если бы его убили, у шотландцев была бы жертва, мертвый герой. У них был бы стимул к борьбе, ваше величество!
Король, позевывая, отнекивался.
Я терялся - на площади и окрест разгуливал театр теней. Небо и белесые перья облаков в нем были настоящими, лесной туман, кравшийся по улицам и подножиями домов - был живым, деревья были плотны, мир вокруг не был декоративен, но насельники его - люди почему-то казались мне призраками, равнодушными и зубоскальными по отношению и к греху и к правде, и к жизни и к смерти.
Вечером мы кутили, бражничали словно от страха, и страх проходил.
Была Ноэми. Она сидела у меня на коленях, и я хмелел, с торжеством глядя на Луиса - он отвечал мне усмешкой, словно поощряя, и я обладал тайно текучим телом Ноэми, ее быстрыми, как форели, коленями, ее волосами, подобными гречишному меду.
К нашему столу подсел полноватый человечек в болотном плаще, представился Бартоломеусом, лекарем, завел разговор так, словно мы вчера побратались. Весопляс угрюмо шепнул мне:
- Тот самый.
- Кто?
- Тот самый лекарь, из инквизиционного трибунала Глазго, который осматривал ведьму.
Мне уже было все равно.
Весопляс вышел из кабака, незаметно исчезли Плакса и Корчмарь. Вскоре хитрая Наоми стала жаловаться на головную боль.
- Я пойду наверх, Даниель. Я лягу. Не напейся здесь, смотри. Ты слышал: я лягу!
Поднимаясь по лестнице, она так высоко прихватила подол, что серпом сверкнула млечная кожа бедра.
- Замечательный экземпляр. Поздравляю, - зашелестел Бартоломеус - я хотел еще выпить, и подняться наверх - но почему-то не мог ни того, ни другого.
А Бартоломеус рассказывал о своем учении и скитаниях, и о том, как путешествовал некогда с цыганским табором по выкошенным чумою землям Малегрина. И как однажды осенней ночью на табор напал нагой всадник, которого глупые кочевники приняли за дьявола, и лишь он один, бесстрашный студиозус, не потерялся и метнул камень…
Рубец на виске моем, оставленный некогда пущенным камнем был скрыт волосами.
Я усмехнулся про себя, как странно судьба тасует людей и как я, разъеденный любовным соком и сомнениями, не похож на того голого отрока на свирепой полудикой лошадке, которого цыгане называли Мануш-Лоло, сатаной. Мы славно поболтали с лекарем - среди прочих полупрозрачных жителей, он был одним из живых.
.
Ночь не прошла без неприятностей. Вскоре в кабак ввалился Весопляс - видимо по дороге успел еще где-то хлебнуть и задраться - куртки не было, а рубаха от души разорвана на плечах.
- Их точно посадят, Даниель!
Новости были оглушительны. Мои негодяи - Плакса, Корчмарь и Смерд устроили в королевской резиденции пьяный дебош. Сначала они просто шатались по улицам в обнимку, барабанили в ставни и орали, как старьевщики:
- Меняем старые веры на новые! Кому тряпья?!
Из заведений их выводили с почтением. В каком-то борделе, где и сами девки были такие же как все - ненастоящие, Плакса, соскучившись, спер трехрожковый подсвечник и дирижируя добычей пятился впереди процессии.
Тут ему вспомнилось, что он монах и должен печься о душевном здравии паствы и поглаживая пузо, завел проповедь о воздержании и аскезе, подсвечником он грозил на юго-запад и кричал:
- Вот он свет с востока и Звезда Вифлеемская! Покайтесь, несмысленные, ибо наги родились, наги и помрете!
Смерд зарыдал не в шутку. И как-то сразу из крестьянина послушного стал крестьянином мятежным. Было произведено топтание шапки, прислонившись к свинарнику, Смерд взревел:
- Мочи нет! Петуха им пущу, мочи нет!
Понятное дело, Корчмарь полез умничать, вспомнил такой хрестоматийный вздор, как потрава посевов дворянскими охотами, право первой ночи и выкармливание борзых щенков грудями дворовых баб.
Короче, непонятно каким образом миновав стражу, бузотеры прорвались в покои королевы-матери. Причем Корчмарь струсил и ограничился тем, что встал под окном и, мочась на клумбу, как теленок, монотонно звал:
- Мать! Мать! Выходи, Мать!
Плакса же, дирижируя подсвечником, стал укорять старуху, хлопавшую глазами в постели. Он бормотал что-то о грехе, и дабы освободить ее от греха чревоугодия умял под шумок целую дыню и горсть конфет - тянучек.
Перепуганная королева опомнилась и послала их, дальше, чем Господь.
И что же ты думаешь, моя милая, Весопляс ошибся - никто их не задержал, а наоборот угостили чем смогли и отпустили с миром, скорее всего их приняли за дураков, венценосные птицы любят юродов и лунатиков.
К утру все трое заявились в кабак притихшие и довольные.
Я уже собрался идти к Ноэми, но Весопляс задержал меня:
- Шутки шутками, но я подслушал кое-что еще. Епископ Кентербери давно хочет собрать на совет всех иерархов Англии, Шотландии и Ирландии, посылал прошение о соборе, но только сегодня дождался бумаг из Папской курии. И знаешь, что ответил этот старый осел в митре?
- Ты не выражайся…
- Хорошо. Так вот, в булле Папы стояло ровно три слова: Не мое дело. И подпись - Клемент V. Каково?
Я начал раздражаться.
- Послушай, Весопляс, пропусти меня, я не желаю отвлекаться на твой вздор.
- Но…- юноша вздрогнул - но, господин мой… Это - наш шанс. Курии плевать на Британию. У вас есть полномочия, а у них - равнодушие. Возьмите это дело в свои руки. Епископ Кентербери должен получить свои документы… А вы - власть. На первых порах я ответственность возьму на себя.
Каюсь, я выпил, и потому мне хотелось помучить его:
- Ты толкаешь меня на подлог? Ну и гаденыша же я считал своим другом. Кто бы мог подумать - вшивый недокормыш, комедиантишка, и туда же, в политики. А ну как я сейчас кликну стражу и расскажу им не только об этом, но и о других твоих грешках… А знаешь о каких, красавчик? Может, мы у Плаксы спросим? Или у Архипиита Кельнского? Который подарил тебе псалтерион… Интересно узнать, чем ты зарабатывал в Авиньоне? Как читал на ночь каждому прелату, который тебе платил!
Мне показалось, что с лица, знакомого смазливого лица Весопляса в один миг чулком сползла кожа. Он метнулся вон и я забыл о нем, словно задул свечу.
В ту ночи я лег с Ноэми.
Текла любовь моя, как текут вздохи, и отдал я глазам коня поводья.
Владычица моя меня избегает, но иногда она щедра при беглом случае. Поцеловал я ее, ища себе отдыха, но лишь сильнее застонала сушь в моем сердце, и была душа моя, как сгоревшие сухие травы, в который бросил бросающий головню.
О, жемчужина Китая, прочь! Я богат полынью Андалусии.
Будь древом Моисеевым, на которое нисходила Троица, расцветшим за одну ночь, кобылицей Магометовой и подвеской афганской на щеке царицы Балкис - я и то бы похитил тебя, у шестого ребра утаил бы тебя, и пытчику не выдал бы, и кату бы рассмеялся и презрел судейских.
Стопы твои розовы, как раковина сицилийская, цикута на уздечке языка твоего, проникающего.
Стань ты прядильщицей или обмывальщицей мертвецов, стань ты прокаженной у столба храмового, полольщицей, чье лицо испечено солнцем в чернь, бесноватой, что заперта в нечистотах и смятении своем - и здесь я не покинул бы тебя и струпы любил бы столь жарко и сладко, как и родинку твою на груди наполненной!
Будь ты единокровной сестрой моей, мужа не знавшей, будь ты матерью, вскормившей меня сосцами, будь ты женою брата моего, чресла которой препоясаны целомудрием - я согрешил бы смертно и сочетал бы твои бедра с моими, и мерзостью украсил бы себя и тебя и звалась бы ты Маргарито - что означает “грехами украшенная”.
Ты рассвет июльский, сенокосный… Ты - стая горличья над теснинами горными вознесшаяся в сиянии крыл, ты - лепестки шиповника алого и белого в лесную заводь опадающие, ты - труба архангелова, поющая у губ моих на высокой скале в первый час утра королей.
Единобожие мое - губы твои, и отступничество мое - раздвоение груди твоей, и безверие мое - лоно твое.
Хотел бы, чтобы разрезали сердце мое, и ввели бы тебя в кровоточащее, а потом в груди сокрыли бы.
Будь в сердце моем, пока я жив, а когда умру я, поселись в оболочке его, во тьме могил.
Приближается возлюбленная ко мне по острию стекла и тело ее свет, и пряди ее - знамя полуденное и плоть ее поет, как хор монастырский, и трава девясил меж сосцов ее и мучит меня властный голос лона ее, колокольная казнь крушит кости мои и нет от нее избавления.
Другу печень вырезать просишь ты, плюнуть в бороду отцу, прах матери зловонный из гроба выбросить на попрание людям.
Готов я к испытаниям плоти твоей и страха нет во мне, одна ярость и страсть.
Прикажи мне: иди и предай.
Исполню.
Прикажи - иди и убей.
Убью.
Цыганская ведьма сидела на корточках, спали дочери грудой тряпья, прохаживался уныло караульный и ни дымка ни огня не видно было в Глазго. Лишь на востоке, ясном, как оперение сокола, виделись стены Монсальвата, готового к закланию, как девственница мужественная.
Я не скоро очнулся от Ноэми - в двери за полдень постучался Весопляс, губы его были обметаны словно лихорадкой, он был одет неожиданно скромно, по - монастырски. Черный плотный воротник замкнул почти детскую шею. Видно было, что он не спал.
- Князь, сегодня после заутрени был проведен собор. Епископ Кентербери председательствовал и остался доволен куриальными документами. Ознакомьтесь. Вот копии.
Он протянул мне два заверенных шаровидными печатями пергамена. Ошеломленный, я читал. Подделка была мастерской, первая булла учреждала в Британии особую судебную палату для разбирательства исключительно церковных дел, не подчиненную указам монарха, вторая легализовала продажу индульгенций в Британии, Ирландии, Низинах и Хайленде.
Ошалев, я читал:
-… Маммон же грешный, сиречь мзду, от продаж полученную, приказываю отпускать на нужды неимущих калек, а так же на учреждение сиротских домов и приходских школ, где каждый, независимо от происхождения получит знания грамоты, счета и катехизиса.
Весопляс устало присел на пороге. Ноэми без стыда потягивалась нагая напротив окна, пропускала солнце сквозь каждую частичку совершенного тела, он не смотрел на нее.
- Наши дела не так хороши, как кажется. - сказал Весопляс - Кентерберийский как дите малое, ей-богу - на днях ему прислали из Голландии новый состав запальной смеси - так он весь изводится, кого бы сжечь поэффектнее. Им что - они играют… Игра, господин мой, такая штука… Она паленым мясом не смердит и Бог за игру не спросит… - казалось он бредит, - шотландцы - хайлендеры скучают - Воллес после фарса на площади нужен всем, как муха в августе. Толку чуть - притащился с горя ко двору, вызвал Эдуарда на поединок. Проиграл конечно. Выходили, снова выгнали на все четыре стороны. Игра, господин мой. Здесь все понарошку. Не убивают, не любят, не умирают. Зря Плакса вылез со своим канделябром. Тоже мне - свет с востока. Ищут его. Как найдут, обвинят в незаконной проповеди и склонении к ереси. Вот и представится случай опробывать голландскую новинку. Кто заметит маленькую подделку… Проверять никто не станет.
- Ты с ума сошел… Нас сварят живьем за подложные грамоты. - я готов был сжечь пусть даже и копии фальшивых булл.
- Им нет до нас никакого дела. Это - игра.
- Ты плохо кончишь, мальчик, - пропела Ноэми и стала медленно ополаскивать померанцевой водой из таза напряженное бедро.
Так, моя суженая, я был впутан в страшное и неправое дело и на долгое время стал голосом Папства в Британии.
Я … И в то же время не я.
Но я владел Ноэми и ничто больше не привлекало меня.
- Бог с тобой, Весопляс. Пшел вон. Я занят.
Юноша поклонился и вышел.
Теперь позволь мне отвлечься, моя утраченная.
В то время, пока я творил любовь в Ньюкасле, с кораблика под брусничными парусами сошел, озираясь тревожно, по - косульи, брат Алессио - авиньонский сдобный секретарек твердокаменного кардинала Бернардо Антониони.
В охрану ему отписали троих лучников из римской семьи баронов Колонна.
Белея от морской болезни и сухопутных переживаний, авиньонский щеголь приближался к Глазго, потея в бархатном коробе портшеза, который тащили два мула.
Со времен нашей встречи он пополнел, но остался большим ребенком - баловнем. В поясной сумке его дремали верительные грамоты и фунтик с леденцами - брат Алессио был сладкоежкой. Никакой горести земной не знал Алессио, мягко спал, вкусно ел, да купал пуховую рассыпчатую плоть в ослином молоке дважды в неделю.
Но дороги потянулись пыльные, полынные, туманные, черничные…
Страшно.
На шее у Алессио вздрагивал медальончик мещанского вида, заключавший в оправу материнский миниатюрный портрет и локон выцветших волос.
Алессио ехал в Глазго по делу без вести пропавшего Швердтляйна, и под сутаной доминиканца прятал шерстяную фуфайку, нежную, как взбитые сливки.
Он не знал, что младшая дочка ведьмы давно умерла от голода в тюрьме, ослабела и средняя, замерла поутру и кожа стала холодна и липка, как у жабы.
Караульный заглянул и понял, что девица не дышит и мать сидит неподвижно, большими пальцами придерживая дочерние омертвелые веки.
На деревянной тачке вывезли дочь колдуньи, девочку по имени Инес, и болтались босые ноги ее в истрепанных у костров трехрядных цыганских юбках.
Инес сбросили в вывал на истлевшие трупы.
И, как ведется исстари в романах для юнцов, девица открыла хрустальные от близкой гибели глаза, и поняла, что единственное подвижное существо подле нее - бумажный розмарин на соломенной шляпке, которую не тронул палач.
Цветок мелко трепетал на приморском ветру, как пугливый зверек. Для монахов она была мертва и потому свободна.
Инес, что и говорить, оказалась девчонкой не промах. Выбравшись из тюремной ямы - отвала для мертвецов, она пошла по притихшей и мертвой Шотландии и сделала то, на что не решилась бы никакая дочь цыганского племени, даже если бы умирала в канаве с голоду.
Инес продала золотые украшения, наследство бабки. Продала двум сизым от грязи и пьянства детинам в коже и войлоке - наемникам, что и имен - то не имели, а только клички - Волк и Лис. В обмен на жизнь матери.
Умная девочка все рассчитала, осталось только подыскать важную птицу.
Узнав у мореходов о прибытии легата, наемники затаились в засаде на подступах к Глазго и стали ждать.
Заполночь совершилось злодейство.
Лучники Колонна погибли почти сразу, а упитанный барашек - легат, измазанный чужой кровью, был повязан в жгуты, на шее его замкнули шипастый ошейник с поводком, похлопали по крупу и повели.
Особенно дико выглядела девочка в шляпке из золотистой домашней соломки среди сброда.
Уж и молил Алессио и падал на колени и призывал Деву Марию - ничто не помогало. Черный крестьянский хлеб да болотная вода - вот что заменяло ему теперь фаршированных курочек и бургонское вино.
Волк и Лис, наемники, как и положено им, подтерлись бумагами, подписанными самим наместником святого Петра. Решено было привести легата к воротам веселого города Глазго и, угрожая Алессио смертью, обменять заложника на томящуюся в застенке ведьму, уроженку полынной страны Лангедок, Этьенну де Фуа, бродячую гадалку и мать Инес де Фуа.
Тяжек был для неженки - Алессио путь до Глазго - и совиные крики о полночи, мох - сфагнум, пожиратель крови, и тропы оленьи и логова барсучьи, и ягоды костяники вместо монастырского обеда.
Легат простудился, разбил в кровь ноги, ни разу до этого он не ночевал под открытым небом и на голой земле.
Да вдобавок как-то в ночь Волк и Лис, нажравшись немецкой водки и вспомнив тюремные повадки, завели пухленького барашка в орешник, да и сделали так больно, как не бывает больно и девственнице в брачную ночь - до утра проплакал в рукав изнасилованный Алессио.
А с рассветом заложник молился на солнце, величаво, по тигриному восходящее меж корабельных сосен, багровых, как факелы на празднике освящения Огня. И стал Алессио - баловень тверд, как камень при дороге, и заострились скулы его.
К дьяволу теперь были обращены моления его, дьявола он призывал, как раньше Бога и Угодников Его. И обручился со смертью Алессио Кавальери второй Папский легат, искавший погибели в Британии. Он стал сильнее своих мучителей, как Давид - пастух был сильнее великана - Голиафа. Но сильнее лишь духом.
Двадцать пятого сентября, ранним утром, в канун праздника хмеля, папского посланника, легата восемнадцати лет привели к воротам Глазго на сыромятном поводке.
В городе не работали - кто справлял торжество урожая, кто глазел на представление комедиантов - давали старую бретонскую драму о неверной жене, ночью покидавшую ложе постылого мужа, чтобы послушать пение соловья в саду. Потом соловей был удавлен, как пособник неверной жены, любовник погиб в дальних краях, а вероломная красавица стояла в развившейся кисее и рыдала, закрыв руками лоно…
Спектакль был прерван зычным ревом Волка у ворот:
- Эй вы, спешите видеть! Живой Папский легат на веревочке, вроде ученого медведя. Хотите, ешьте его, хотите, пейте. По дешевке отдаем! Прошу обратить внимание: папский легат - спереди невредимый, сзади почти целый! В обмен на каргу Этьенну де Фуа! Налетай, христиане!
Алессио молча выпрямился. Несмотря на стойкость он был смешон.
Доминиканская белесая сутана его испачкана была лесным сором, мелкие кудряшки фривольно выбивались из-под капюшона, пухлое лицо побледнело, как тесто.
К горлу, поверх ошейника приставлен был короткий наемничий меч.
Было ветрено и заложник ежился, подол сутаны был разорван до бедра и задран.
Девочка в истрепанной шляпке держала поводок и часто облизывала сухой рот.
Глазго безмолвствовал. На стенах показались люди - притащился и бессмертный отец Делирий Клеменс. Его выпустили парламентером, и поборник христианских правд не нашел ничего лучшего как издалека начать допрос несчастного парня.
- А бумаги ваши где? А может вы вовсе и не легат, а так себе, дрянь - человек! А не устроить ли нам расследование.
- Делирий отчаянно мешал латынь с дурным английским.
Алессио сплюнул кровь. Он предпочел почему-то французский.
- Идиот! Какие к черту бумаги… Они неграмотные. Или убейте, или спасите, - он подумал и впервые в жизни произнес - … вашу мать.
- Но цели вашего прибытия вы должны назвать - Делирий был упрям, как ишак.
- Я уполномочен расследовать причины исчезновения демонолога Иоганна фон Швердтляйна. - раздельно выговорил Алессио.
На сем переговоры закончились.
В Глазго совещались. Командор тамплиеров решил просто: откроем ворота да выйдем малым отрядом, вроде как отбивать. Понятное дело, что в стычке херувимчика пырнут, не чужие, так свои.
Со стены на меловое лицо Алессио не мигая, смотрел врач Бартоломеус. Юноша в сутане шептал молитвы. И жадно глядел в небо, сглатывая и чувствуя кадыком сталь.
- Выводите колдунью Этьенну де Фуа! - гаркнул шериф Глазго. И вслед за этим воплем из ворот выкатились вооруженные тамплиеры. Грянула свалка.
Лис тут же затряс обрубленной культяпкой кисти.
- Падайте - завизжала Инес и дернула ошейник, ее закололи сзади.
- Беги, дура! Иисусе! - захрипел Алессио и рухнул на колени. Но было поздно - Волк ударил, и дальше и наемники и тамплиеры втаптывали в сочную грязь уже мертвеца - прорубленная шея Алессио ухмылялась огромной раной. Глаз был выдавлен чьим-то каблуком.
Купец Раймон, стоя за спиной тюремного врача Бартоломеуса, насторожился, как борзая. Ему не терпелось осмотреть тело.
Все было кончено за четверть часа.
Трупы обоих наемников сбросили в ров без погребения, тело легата под присмотром Бартоломеуса понесли было в город, но дорогу несущим преградил Командор Ордена и отец Делирий.
- А вот этого не надо - усмехнулся Командор, - наше дело сторона, праздник у нас. А, как говорится, живя на кладбище всех не оплачешь.
- Но, ваша милость… не по-людски - запротестовал Бартоломеус.
- Здесь я решаю, что по-людски, а что нет. В двух милях отсюда есть болотце. Самое милое, я так мыслю, для него место. Скрыто - позабыто. Бобрик, проследи.
И позже Бобрик, Раймон и Бартоломеус смотрели, как голый мертвец с чавканьем погружается в трясину. Над водными дегтярными “оконцами” звенели комары. Врач по памяти читал отходную - отец Делирий не удосужился даже отпеть мертвеца.
Раймон же поскреб крепкий затылок и непонятно пробормотал:
- Ничего страшного. Болото это даже хорошо. Дольше не протухнет.
Тем же вечером Раймон ускакал из Глазго, быстрее, чем свадебный гонец. Дела ждали его в Ньюкасле.
Когда его гнедая кобыла прорывала грудью подлесок, над Глазго поднялся густой черный дым. Горела плоть Этьенны де Фуа. Зрителей почти не было - все устали от праздника и опились свежим пивом.
Этьенна горела одна - старшая дочь ее так же не дожила до казни - может быть придушил девушку тюремщик, боясь того, что перед смертью она расскажет о его домогательствах и он потеряет место.
Обугливались и шипели на угольях ступни ведьмы. Когда Этьенна де Фуа устала приплясывать на потеху немногим “провожающим”, она повисла на медленно раскалявшейся цепи, слушая шипение собственной крови и жира, обвела затуманенным от дыма взглядом хохочущие и в то же время равнодушные рожи.
И вместе с кровью, жизнью и горячей желчью вытекло из угла старухиных губ одно слово:
- Игра.
А в Британии тянулись будничные дрязги - лорды мечтали о троне, отпускали дежурные приевшиеся шутки о Пьере Гальвестоне и принце Эдуарде, Изабо ходила заплаканная и надутая, происходили слабые стычки с шотландцами на границе.
Нетленному архиепископу Кентербери поступил анонимный донос на некоего Раймона, итальянца, который на самом деле является сатанинской креатурой во плоти, демоном Раймоном, скупщиком христианских душ по сходной цене. Причем торговец не смущаясь нисколько в базарный день приставал к дворянам на улице и явно нарывался.
Раймон был задержан в Ньюкасле, и перевезен на земли баронов де Клер, где должен был происходить суд. Судилище затянулось, инквизиторы показывали рвение, к исходу недели был задан только 556 вопрос, а впереди ожидало еще 784.
Раймон был спокоен и ироничен даже в застенке.
Когда я узнал о его беде, то сокрушался, что ничем не могу помочь - а красавица моя, Ноэми напротив повеселела и стала прихорашиваться, словно получила приглашение на бал.
- Мы полетим вместе, мой глупенький Даниель, я научу тебя отыскивать тропу в небе, скоро будет весело, очень весело. Ну, не будь таким серьезным - это игра.
Вскоре было объявлено о свадьбе принца Эдуарда и Изабо - моя непутевая свита делала ставки - откупорит свою милочку мальчиколюбец - принц или не откупорит. Я и ставить не стал - Изабелла конечно была прехорошенькой барышней, но занудой и гордячкой, каких свет не видывал - при такой невесте станешь не то что мальчиков - дупла в лесу любить.
Мне хотелось повеселиться на свадьбе будущих венценосцев - обещали торжество, и, как дворянин я был приглашен, но Ноэми, жадно ждавшая вечера субботы, все не хотела выходить из дому, удерживая меня в гостинице самым простым способом, известным еще со времен Евы и Клеопатры.
За любострастным времяпровождением я пропустил и церемонию венчания, и процессию и танцы в масках на площади и представление приезжих актеров. Репертуаром они не блистали, перебравшись из Глазго в Ньюкасл, они показывали все ту же игру о Соловье.
И жаль, что я не был там.
Вечерело, и к толпе зевак подошел человек в доминиканской сутане.
Синь был город, сине и глубоко небо с молодым мусульманским месяцем - летучие мыши, испуганные огнями и ропотом толпы, чертили атласные письмена над карнизами домов и тополями. Пахло большой водой и неспокойно было за оградами кладбищ.
Гость протиснулся сквозь толпу зрителей, поближе к молодоженам - вечно недовольная Изабелла брезгливо держала за пальчики блеклого жениха.
Монах тронул Эдуарда за плечо: принц передернулся от устойчивого запаха трясины и болотного газа.
Из черного раструба клобука, как крысы, посыпались слова:
- Ваше высочество, я прислан из Авиньона самим Понтификом, чтобы исповедовать вас.
- Странно - проблеял принц - я уже ходил к исповеди, перед венчанием. Не знаю, уместно ли… Я хочу посмотреть пьесу.
- Вы променяете таинство Исповеди на кривляния отлученных от Церкви павианов? Браво, ваше высочество. Мне так и передать Папе? - зашипел посланник.
Поневоле Эдуарду пришлось извиниться перед Изабеллой и последовать за доминиканцем.
- На монашков перешел - заквакали в толпе.
Монах завел принца на безлюдную площадь, увенчаную неизвестной церквушкой. Посреди площади под железной витой башенкой билась струйка фонтана.
- Преклоните колено, ваше высочество. Кайтесь
- Здесь? - охнул принц.
- А вы хотите сказать, что здесь Бог вас не видит?
- Грешен, ибо прелюбодействовал, желал жену раба и имущество, сквернословил, не почитал отцовскую власть…- затянул Эдуард.
- Ты свою жену хочешь? - резко оборвал его монах.
- Н-не понимаю вас… - изумился принц.
- Я тебя спрашиваю ясно: ты хочешь спать со своей женой?
- Знаете что… - оскорбился принц. - Кто вы такой, чтобы задавать мне такие гадкие вопросы?
- А я тот самый легат, на которого было совершено покушение у ворот Глазго.
- Зачем вы мне говорите о покушении?
- Затем, мой цыпленочек, затем, - осклабился клобук - и зеленоватая узкая рука откинула темную ткань со лба.
Ветер поиграл овечьим руном кукольных кудряшек, кое-где уцелевших на размякшей коже черепа. Лицо, точнее то, что еще не было разъедено слизью, сочетало в себе мерзость гниения и необычно похотливую улыбочку. Споро, как у ящерки, юлил распухший язык.
Из-под рукава сутаны выскочило бордельное желтое кружевце манжета до половины ладони. Голова была как - то неестественно свернута набок, бугорчатый шрам украшал шею, как тесное колье.
Стреляя единственным мутным, словно вареным, глазом бойкий труп кокетничал с присевшим по-лягушачьи на корточки принцем.
- Чур меня, - принц Эдуард, отчуравшись, наладился было грянуться в обморок, но не тут - то было. Голова его была ясна, как никогда, вот только ноги не слушались.
Мертвец нависал и вонял, и не унимался ни на минуту.
- Я был когда-то таким, как ты, но ты будешь таким, как я! Слушай и затверди, сейчас ты вернешься к своей женушке и отдерешь ее до крови не только откуда надо, но и из носу! Я хочу, чтобы она зачала от тебя сыночка. Он будет наш общий, позови меня на крестины. Знаешь, как тебя убьют - зажмут столом в уголке, вставят в зад коровий рог и воткнут раскаленное острие! Я тороплюсь, тороплюсь, тороплюсь, мне надо успеть в субботу, я хочу спать! Я хочу спать! Отпустите меня спать! - бессвязно бормотал мертвец.
Он не растворился, и не растекся дегтярной лужей, но просто натянул клобук и ушел, дергаясь, как марионетка в неопытных руках кукольщика.
Неизвестная сила, поднявшая из болота Алессио, опустошила походя какую-то петлю на придорожной виселице и полуистлевший мещанский гроб с окраины приходского кладбища.
Ночь входила в возраст.
Сам Алессио был уже далеко - и не было ему никакого дела до собственной гнилой плоти, паясничавшей поверх земли.
Когда полностью стемнело, Ноэми едва ли не силой заторопила меня, крикнула в узкое оконце гостиницы:
- Лошадей, лошадей!
Невидимый прислужник отозвался прохладным тонким свистом.
Поднялся ветер.
На полном галопе ворвались мы во владения баронов де Клер, за четверть часа до закрытия ворот. Мелькнули темные улицы, нищенские котлы во дворах, здание Трибунала с примыкающей к его торцу готической часовенкой пламенеющего стиля - сквозь витражные окна тепло и мягко играл свет.
- Трибунал строится, суд над Раймоном происходит в самой часовне. - шепнула Ноэми.
- Зачем мы здесь?
Она презрительно улыбнулась, бросая поводья, кони наши замерли под аркой, как окаменели.
- Ты утомляешь меня, Князь. Здесь будет весело, вот и все. Сколько раз тебе повторять.
Тут только я заметил, что под плащом она совершенно обнажена. Мне стало неловко, но я смолчал.
- Скоро закричит женщина. Будь начеку, дорогой, -
важно предупредила моя любовница.
Я не успел спросить, что женщина делает на ночь глядя, на заседании Святого Судилища.
А женщина действительно была - баронесса де Клер, ожидавшая ребенка - рассказывали, что ее прокляли некие сиды - так в Ирландии и Шотландии называют то ли Малый народ, то ли полузабытых языческих божков.
Опасаясь за исход родов, баронесса молилась в Благовещенском приделе церкви, не обращая внимание на допрос.
Кентерберийский епископ, шурша шелком парадной сутаны, зачитывал вопросы - писарь, вздыхая, строчил протокол.
Бедняжка писарь опоздал к началу судебного заседания и униженно кланяясь выслушал распекание. Ни один человек из трибунала не помнил, кто именно нанял этого скромного барашка с жеваным пергаменом и детской чернильницей на поясе.
Лицо писаря было скрыто черным раструбом клобука, его фигурка была так жалка, что один из заседателей - немец передал ему фляжку с кюммелем - тминной водкой.
- Благодарствую, - нежно шепнул писарь, - пить я уже бросил. При этом он все так же под сурдинку захихикал. Немец пожал плечами и отвернулся.
Кентербери продолжал допрашивать Раймона:
- Какой вред ты нанес людям и как ты проделал это?
- Не приносит вреда ближним только мертвый. - осклабился Раймон.
- Чем вознаградил тебя твой суккуб за половой акт с тобой?
- Простите, ваше преподобие, но я за подобные шалости денег не беру.
- Почему дьявол совершает сделки по ночам? - Кентербери не отступал.
- Я могу ошибаться, но, должно быть, у него бессонница.
- Умеете ли вы вызывать дождь?
- Любая нянька знает, что для этого нужно раздавить жабу.
- Сколько раз ты летал на шабаш?
- Я не еврей, чтобы справлять субботу.
- Замечал ли ты у мещанки Элизабет Гейл гусиные лапы?
- Нет. Мне было достаточно ее гусиных мозгов.
- Ты не сомневаешься в существовании ведьм?
- Нет. Я был женат.
Архиепископ шумно задышал в нос. Заседатели деликатно позевывали в рукава.
- …Итак, ты продолжаешь именовать себя Раймоном, купеческого сословия, родился в Турине, в Британию прибыл по торговым делам.
Раймон поклонился - он уже устал отвечать на этот вопрос.
Кентербери стал похож на довольного зайца. От волнения князь церкви заикался, рогатая митра бросала причудливую совсем не христианскую тень на стенную фреску Благовещения и надгробные плиты у стен.
- Действительно ли ты, так называемый Раймон, подходил к людям разного происхождения, в Ньюкасле, Глазго и на землях баронов Арундел?
- Так точно, ваше святейшество.
- Лесть здесь неуместна. Я не Папа.
- Ну, все впереди… - любезно улыбнулся Раймон - Кентербери облизнулся.
- Ты был связан с Моней Цимесом и другими завсегдатаями гостиницы “Святая Вальпурга, искушаемая баклажаном” ? - епископ был сторонником допросов вразбивку.
- Увы, - подсудимый тяжело оперся на перильца скамьи - Заведение под названием “Святая Хродеганга, искушаемая патиссоном” мне известно. А Вальпурга… Первый раз слышу.
- Что ты покупал у твоих клиентов?
- Антиквариат, ваша честь! Сущую бижутерию.
- А вот тут у нас донос - и там ясно сказано - не безделушки, а душу. Между прочим, христианскую душу, заключенную в крещеной плоти! - заволновался Кентербери.
- Клевета, - обиделся Раймон. - У меня есть свидетели сделок. Я невинен, как невеста.
- Мне даже не смешно! И кто же может подтвердить твою невиновность? Кто из уважаемых граждан может поручиться за тебя?
Раймон задумчиво огладил свою ночную редкую бородку.
- Да кто угодно. Вот, хотя бы брат Алессио. Ему правда почти отрезали голову, но память у него до сих пор превосходная. Дельный мальчик. Рекомендую.
- Вы с ума… - задохнулся Кентербери, но его уже никто не слушал.
Страшно, горлом завизжала баронесса де Клер и всплеснув руками, порвала четки.
Писарь поднялся со своей скамеечки и медленно, манерно извиваясь, стянул через голову сутану.
Кошмарную маску раскисшего в болоте лица Алессио праздника ради припудрил, остатки губ жирно очертил малиновой помадой, и теперь, сорвав с головы ошалевшего Кентербери митру, дефилировал вдоль алтаря в золотистом сутенерском фрачке с фалдами едва прикрывавшими вихлявые ягодицы. Лохмотья черных чулок с искрой украшали распухшие ляжки.
Раймон приобнял мертвеца за плечо и рявкнул нечто вроде:
- Дети вдовы, ко мне!
Они вошли в часовню, не страшась святости места, безликие и размалеванные.
Девка Эстер - Посинюшка с надутыми щеками трубачки и голыми
грудями, и Моня Маммон, трясший фальшивыми пейсами, и Плакса, тоже мертвый - когда успел - с непомерно раздутым брюхом, и живым рыбьим хвостом, трепавшимся в пасти его, как второй язык. Висельник - тамплиер, где-то потерявший левую руку и нижнюю челюсть, и верткий тощий Луис с хищными испанскими усиками и бородкой клинышком.
Голая, как сама ночь, Наамах - моя Ноэми - она стала вульгарна и черства, черное мужское молоко сочилось из ее левой груди, она непристойно выгибалась на спине безголовой лошади без седла, а за ней маячил безносый, пролежавший в гробу без малого год, Корчмарь с плоскими зубами на безгубой маске трупа, хотя еще вчера я видел его живым.
Инквизиторы рванулись вон через ризницу - ни молитвы, ни святая вода не могли задержать неурочных гостей - епископа настигли на улице - вокруг несчастного клубилось, плевалось, верещало, разлагалось мучительное кодло. Кентербери поднял было руку - перекреститься, но уронил.
Раймон, Маммон, Эстер - Астарта, Наамах, Бегемот, Бальзамированный Корчмарь, Легат - бесстыдная шлюха, даже не третьего, а уже четвертого пола - переполненный гнилью и похотью…
Епископ закрыл глаза и повторял, как заведенный, молитву, словно из слов-оберегов плел кольчугу.
Я стоял за гранью круга, я звал Ноэми - но Наамах хохотала, как солдатская краля, сплетаясь на своей кобыле с Астартой в лесбийской похоти - скучной, как домашнее задание.
Маммон крутил ручку астматической шарманки, расстроенной, судя по всему, со времен Великого потопа.
Бегемот отъел Висельнику вторую руку, но удавленник не унывал, а заявил, что его повесили за сожительство с пятью тамплиерами одновременно, а руки ему и при жизни не были нужны, тут он просто, как обезьяна, употребил Легата, задрав фрачные фалды - надкрылья,
Легат стыдливо закатывал уцелевший глаз.
А Бегемот, выпучив пузо, вопил:
- Во имя хлеба и сыра и спиртанаго духа! Ам-ням!
Я отшатнулся и упал на колени - происходящее было всего лишь частью ошалевшей и фальшивой игры, даже пик сатанинского разгула был несерьезен .
Ночь перекликалась запахами корабельных сосен и озерной зелени, в висках моих стучало муторно и часто, я испугался мигрени.
Как жаль, моя прекрасная, что я разучился молиться.
Неужели, не осталось ничего чистого, никакой живой жизни, кроме Игры?
- А чем платят за Игру?
- тот, кто задал этот вопрос стоял за моей спиной вне факельных отблесков, я обернулся. Говорили не со мной - двое в тени вели давно начатый разговор - одного я узнал по голосу - то был Бартоломеус - врач, никак не измененный дьявольской прихотью, все такой же скрытный с мягким приятным лицом, в неизменной коричневой фуфайке.
- Не знаю, сьер. - размеренно ответил врач, - Я нахожусь здесь как исследователь. Всю мою жизнь я препарирую мертвые тела, чтобы лечить живые. Но где еще найти и изучить неживую душу по законам паталогоанатомии, как не в игре. Вскрыв эти земные пузыри, я смогу понять законы души живой и чистой, куда врачебная этика не позволила бы вторгнуться. Я смотрю в глаза заключенных после пытки - и с каждым разом убеждаюсь в одном - я вправляю им вывихи, лечу порезы и порванные связки - а они тоже играют. И жаждут своего палача, как жениха. И никто из них не чувствует боли и страха - одно только омертвелое, наигранное любопытство. Сьер, вы утверждаете, что не играете, а живете, ведь так?
Невидимый усмехнулся, встряхнул странно убранной головой, лоб его отягощал высокий плюмаж:
- Вы скептик, Бартоломеус. Я живой, чувствуете, теплый…
-
- А вы - опасный человек. Будь вы женщиной, я влюбился бы в вас. Хотите я буду вас таковой считать? Давайте поиграем так… Не надолго. Вы не оправдали моих надежд, знаете, я приехал на этот глупый шабаш только из-за вас.
-
- Довольно, - содрогнулся собеседник - Я еще не заплатил за игру.
Он резко попрощался и вышел в круг, глумившийся над епископом Кентербери. Я не различал черт лица незнакомца - они были скрыты искусной оперной маской - высокий плюмаж из павлиньих перьев, слишком много золотой сусали, кружева, блесток, бисерных капель, стразов. Обнаженное тело на свету мягко играло бронзовым отливом.
Он казался подвешенным меж небом и землей, в ленивом утреннем полете, как повисшее меж ветвью и облаком яблоко, как капля дождя над черным омутом карельской реки.
На запястьях и щиколотках его снова посмеивались грозди медных мертвецких бубенцов. Белые зубы его посверкивали тревожно.
И такая сладость и благость сочилась с кончиков его пальцев, что хотелось лечь, приложиться к ладанным узким стопам и спать у ног его. Не зная сновидений и томления, просто спать, под сенью оливковой плоти его. Потому что, то была не тварная красота. Тягучий сотовый мед, запахи аравийских афродизиаков, лед и округлое мановение рук.
Ноэми протягивала влюбленные руки к нему, и в уголке уцелевшего глаза Легата проступила влага, тут же высохшая соляной коркой.
Плакса-Бегемот, демон обжорства, подал гостю стремя - капризный молочный жеребчик фыркнул, косясь и всхрапывая на безголовую соседку.
Епископ упал, молитва застряла меж зубами, как соленый огурец.
Священника обмочили, истоптали и бросили.
Луис - Люцифуг и Эстер - Посинюшка открылили процессию, и рыгающий, совокупляющийся, жрущий Адский ход нестройно завопил:
- Гар-р! Снизу вверх, не задевая!
Наамах шла в голове бесноватых, обнаженная, как “амен”, низко опустив львиную голову завесив волосами лицо, жирным огнем и дымом, сладковатым, тяжелым, пропитанным человечьим жиром и сандалом завивал лепестки пламени факел в левой ее руке. С каждым шагом она погружалась в землю по колено, как в снег или воду.
Нельзя сказать что они взлетели, но как бы заскользили над землей, охал по-банному Легат, которого пощипывали сзади все, кому не лень, свистела в два пальца Наамах.
Я и Бартоломеус поневоле тащились в хвосте шествия.
Перекрикивая визг мертвецов и хохот ночных наездников, я спросил у невозмутимого Бартоломеуса:
- Кто этот человек в павлиньей маске?
- Вы много теряете, Князь! - крикнул в ответ врач - Это граф Даниель фан Малегрин, он недавно принят в эту компанию, говорят, он продал душу за одну ночь с Наамах! Она того стоит, не правда ли!
Не стоит объяснять тебе, моя утраченная, что я испытал, услышав эти слова.
Ветер ноября свистал в павлиньих перьях.
Я ограблен!
Ограблен!
Ограблен.
Ветер, ветер, мой дружок, сорви с него маску, с вора и мерзавца, всклепавшего на себя чужое имя! Сорви с него маску вместе с кожей!
Как смятая елочная игрушка, посреди проезжей дороги лежал архиепископ Кентербери в желто-алом расшитом жемчугом облачении и дышал через нос пряным и злым воздухом поздней ночи. Он задумался о почтовых голубях и горлицах, мирно гурливших в голубятне обители. Вряд ли дело можно было довести до Папской канцелярии, но почему бы не обойтись без участия континента.
Церковной власти давно пора возгласить по всей Британии, Ирландии и Шотландии:
- Всем молчать. Я тоже здесь!”
Адский Ход вереницей скользил над Глазго и над Британией, и над
островами Оркнейскими и Фолклендскими и над островом Мэн, и над Ирландией и над Хайлендом и над вересковой страной Низин. Продолжалась игра, нечестивая и скабрезная, в каждой складке тела, в каждой капле росы. И хохотал торгаш - Маммон и творила непотребства павлинья маска, целовал, как пил из родника, мою Ноэми, самозванец.
Копыта громыхали по кровлям соборов и по крытым рынкам и по лесным кронам, и по океаническим валам, что как улыбка самозванца сверкали в звездной пыли…
А мои руки были пусты, и я не любил больше лоснящуюся от нечеловеческого пота плоть Ноэми, и рыжие, а не каштановые, на поверку, косы, Ноэми и цепкие руки Ноэми…
Я не любил Ноэми, глядя как валятся под ураганными завихреньями деревья, как шутки ради, демоны устраивают выкидыши стельным коровам и женщинам.
И только один не играл, только его я способен был любить в ночь позора и боли моей. Я уже почти простил ему воровство. И кем я был в ту ночь, моя супружница?
Он, великолепный вор, он один имел право носить мое родовое имя.
- Адский ход! Хэй - Хэй!
-
- восклицал самозванец, прогибался назад, как радуга, и смеялся и был полон юношеской силы, растрачиваемой на всех без разбора, и позволял целовать себя в лоб и целовал сам и ни тени души не было в его заемном топазовом теле. Он звал меня к себе и издевался:
- Храни Допсог нашу душу, бедный Даниель Малегрин! Подойди, выпей из моих рук, из моих рек, из моих ран, пей меня допьяна, дочерна, докрасна, добела! Иди сюда, всадник, твоя кровь - вода, твое семя - бесплодно, иди ко мне, мы будем спать на горе Кармель, на горе Кармель всем места хватит! Я твоей смертью умру.
Светлые полуденные волосы его, хрупкие плечи, алавастровое тело его, бедра его критские, гимнаст Господа бога, будь проклят ты и семя твое… И ныне и присно и вовеки веков.
Но я пил дождевую воду из его ладоней.
А он ударил меня в грудь лунным серпом стопы и приказал:
- Бог с тобой, Князь! Пшел вон! Я занят.
В хороводе - маммон и бегемот и отец Делирий Клеменс и стволы сосен и вода и камни и прошлогодняя хвоя и руки и бедра и груди и кресты меж ними и черная бородка Раймона и распадающаяся на части плоть мертвецов - Легата, Удавленника и Гробовика - Корчмаря. Рассеиваясь над уснувшей землей они кликали, как поздние журавли:
- Идем в Гефсимань, к Богу, чтобы плакать с Ним, потому что Он не любит нас.
Мертвый Легат вдруг припал к плечу Павлиньей маски и заплакал, повторяя:
- Господин… Освободи… Не могу больше. Я не шлюха, я мертвец. Отпусти меня к Инес. К дочери Этьенны де Фуа… К той, зарубленной. Шляпка соломенная, розан. Больно мне. Отпусти меня спать.
- Ступай, дитя… - шепнул самозванец и поцеловал бойкого мертвеца в лоб. - Никто не напомнит тебе об Авиньонской ризнице и о том, как в восемнадцать лет становятся легатами.
В последний раз я увидел спокойное, почти живое лицо Алессио Кавальери.
Того, кто в последний миг жизни подумал о спасении другого.
Алессио устало закрыл глаза и лег под копыта гнедой лошади аспидной угольной пылью с кусочками костей.
Я упал в мох ничком и ослеп.
Поздним утром кто-то положил мне на лоб смоченную в ледяной воде тряпку. Постанывая, я приподнялся. Подле моей постели сидел Весопляс.
- Плохо вам было в эту ночь… Князь. Доброе утро.
Солнечный свет из окна косо падал на родное лицо комедианта.
“Странно - подумал я - время не щадит” - над верхней губой Весопляса, маленькой, нежной по-девичьи, проложили тропинку светлые усы. Левый висок серебрился на свету, как паутина. Невольно я дотронулся кончиками пальцев до его ранней седины. Весопляс покраснел и отвернулся.
- Хорошо, что я поехал вслед за вами и Ноэми. Видимо, в пути с вами приключилась горячка. Вы едва не умерли во сне, мой господин. Все бредили о демонах.
- Где я?
- В Ньюкасле. Постоялый двор “Василиск”. Я привез вас домой.
- Нет… Я хочу домой, милый мой Весопляс… у меня нет дома. Где Ноэми? Позови.
Весопляс неожиданно сжал мой лоб.
- Она сбежала. Сегодня ночью. Она уехала вместе с Луисом в Саламанку. Говорят, они с Натали - Марией помолвлены. Свадьба через полгода. Вас просили быть посаженным отцом.
- Нет… - только и смог промямлить я. Я искал спасения, уткнувшись в колени его. - Я хочу уехать.
Весопляс потерянно улыбнулся:
- Вы оставите меня, князь? Но вы правы. Такой исход я предусмотрел. В порту Глазго вас ждет шхуна “Саламандра”. Корабль доставит вас в Остенде. Кое-какие деньги я переписал на ваше имя в Антверпенском банке… Теперь вам надо отдохнуть перед отъездом.
Тут только я заметил Бартоломеуса, толкущего порошок в медной ступке.
Он не обращая на нас внимания, примостился на деревянном подоконнике.
В коричневой пузатой бутылке из-под мадеры нелепо топорщилось сломанное павлинье перо.
Створки окна были открыты - золотом сидра проливался в комнату сентябрьский сад.
- Но мои дела в Британии…- начал было я, но осекся.
Весопляс знакомо, счастливо улыбнулся.
- Я все беру на себя, мой господин. Будьте покойны.
- Хорошо. Принеси мне горячего питья - попросил я.
Мне необходимо было, чтобы он покинул меня. Конечно же - демоны, Плакса в виде Бегемота, Легат, маска, павлиний плюмаж: все привиделось мне в горячечных фантазиях.
Я больше не любил и не помнил Ноэми.
Свеча третья. Пепел Ньюкасла.
Нидерланды… Низинная страна. Ее запах напрочь впитала моя кожа - цветущий цикорий и свежие, искрящиеся серебром чешуй, рыбные базары, ржаной хлеб и плотные коврижки, обильно сдобренные всеразличной пряностью.
Брюгге и Дюнкерк, Брюссель и Льеж - столицы моего изгнания. Весопляс позаботился о моем безбедном бродяжничестве, где и какими путями он достал такую внушительную сумму - сейчас ума не приложу, да, впрочем, не хотел разбираться и тогда.
Он давал, я брал и благодарил. Он раб, моя ненаглядная, а я - господин. Так устроено на земле. Будь благодарен за то, что я благодарен тебе.
Я растворялся в прекрасном безделии, ночевал в хорошеньких опрятных гостиницах, грелся у печей, выложенных изумительными словно фарфоровыми изразцами - из дымчатых линий слагались корабли на всех парусах, ангелы с трубами, обнаженная женщина, кусающая яблоко и мужчина, закрывший руками лицо.
Земля эта неблагодатна - малейший дождь превращал нидерландские дороги в глинистую жижу - пока трудолюбивый народец не догадался осушить плаксивые почвы и пустить глину на кирпичи и изразцы.
Полуденный рай сырных голов - на срезе - слеза, счастливая Аркадия мудрых коров, зеленых дремотных вод и песчаной излуки морского берега, опасного зыбунами и нелюдимого.
В Льеже, суетливой Мекке купцов и сукновалов, я решил не останавливаться. В поселке, прилепившемся к городским стенам, я выбрал укромную комнату внаем и неприхотливый стол.
Гостиницу держала почтенная семья. Мне нравилось, как на меня глазели хозяйские дети - мал-мала-меньше. Я увлеченно играл роль чудаковатого иностранца. Старшая дочка хозяина, наливая мне суп из горшка, нет да нет - прикасалась полным коленом ко мне, но я не думал о женщинах, словно семилетнее дитя или бессильный старик.
Надо было избегать зеркал - я приехал из Британии тусклым и постаревшим, Ноэми, казалось, выточила мою кровь и молодость - секлись и выпадали волосы, морщины залегли у краев рта. Кровоточили десны.
Кончался июнь, я подолгу бродил в бесконечных пойменных лугах, разнотравье пересечено было зыбкими синими водами каналов, в них медленно паслись отражения облаков.
Иногда над спящей гладью скользила лодка с косым парусом - издали казалось, что парус безмолвно тает в травах. Нежный сон сковывал меня в путанице мышиного горошка и львиного зева, кроме одиноко стоящих вязов, никто не появлялся на моем немом пути.
Выходя из дому, я брал с собой грифель и тонкие буксовые дощечки - делал наброски пейзажей, лежащих в траве грузных лошадей, далеких колоколен и мельничных крыльев.
Даже звезды над этой спокойной землей были ручными, негордыми.
Часто я ночевал в лугах, наслаждаясь одиночеством и непричастностью, незаметно и вкрадчиво сон забирал все больше часов жизни моей, бывало, я засыпал и в полдень, на солнцепеке.
Так было и в тот день, когда я нашел безымянную заводь, завоеванную трепетом стеклистых стрекоз.
Камыши густо населяли ее берега, в осоке я набрел на утиное гнездо и замшелый холм под деревянным крестом без надписи. На могиле я и заснул - припекло солнце, пахло сладко стоячей водой.
Так мы и спали - я поверх земли, а погребенный - он или она - подо мной - в ее толще.
Проснувшись, я увидел голубой отблеск неба сквозь грубый холст, которым было прикрыто мое лицо.
Да, моя заботница, твой передник защищал меня от солнца.
Удивившись, я отвел его в сторону - и белые крылья ослепили меня - белые крылья твоего крахмального чепца.
Позволь я стану твоим зеркалом, полюбуйся на свое лицо, на ветреные пышные волосы цвета сотового воска, на мягкие деревенские черты ваших детских фландрских Мадонн.
Неожиданно темные брови по-цыгански дерзко венчали твой лоб.
Шнуровка на груди была ослаблена, у твоих ног крутился юркий зверек - не то собачка, не то черный барашек, а может и то и другое вместе, ты отгоняла его от корзинки, наполненной пахучими травами.
- Опасно спать на солнце. Бойтесь беса полуденного. Еще не хватало вам подхватить пастушью горячку или клеща. Вы нездешний?
Я молчал и слушал тебя, крест бросал все более длинную тень на могилу, я кивал и не торопился называть свое имя.
- Вы больны?
- Я не здоров.
- У вас такой вид, словно вы переспали с суккубой. - спокойно сказала ты.
- Да, - столь же просто ответил я.
- Скверное дело. Она все еще ходит к вам?
- Вы лекарка?
- Я льежская пряха, Агнес Годекинд. - ты одела свое имя на мой холодный палец, как перстень.
Я хотел было назвать себя, но ты усмехнулась и опередила:
- Это лишнее, Даниель.
- Откуда… - но тут мой взгляд остановился на растрескавшейся перекладине могильного креста. На ней костлявым детским почерком было выведено “Даниель”. Я не заметил надписи, когда засыпал.
Я дотронулся до имени, холодея, на подушечке пальца остался след угля. Знать бы, кто позволил себе так жестоко подтрунить надо мной.
- Кто здесь похоронен? - отвернувшись, спросил я.
- Мой муж, Даниель Годекинд.
Мы возвращались в городишко на закате - я нес твою корзинку и твой подол промок в туманной росе и стал отягощен, как штормовой парус. Что нам теперь до наших прежних бесед, до вечерних дымов коптилен, до огней на заставе и шаловливых прыжков твоего странного полудикого зверька.
До горизонта на золотой от заката траве были разложены полотна холста - свежетканное выбеливали росой.
…Фагот, жги сердце, тело, душу, кровь, дух, разум, огнем, небом, землею, радугой, Марсом, Меркурием, Венерой, Юпитером. Феппе, Феппе Элера и во имя всех дьяволов, пока не явится она и не обручится со мною. … Михаэль, Габриэль, Рафаэль, сделайте чтобы Агнес полюбила меня, как я ее люблю. Я приношу тебе наилучшее яблоко из плодового сада, я смешиваю траву девясил с серой амброй, вот нарост с головы цыпленка называемый “гиппомант” и лилейное масло.
Я наугад беру любовные рецепты из твоей травной корзинки, все бесполезно и рассыпается в руках, как истлевшая вышивка.
У края ночи любовная магия теряет силу - Агнес Годекинд, ты стала моей женой из плоти и крови, а не из ночных мечтаний и похотей.
В Льеже на тебя давно смотрели исподлобья, хотя ни знахарством, ни чернокнижием ты не занималась, свою веру ты так же скрывала, как нож. После смерти первого мужа, ты содержала маленькую прядильню на окраине города, где помимо тебя работали еще четыре девушки.
Будучи теперь в вечной разлуке с тобой, я замечаю, что мои пальцы совершают странное нежное и несвойственное для мужчины движение - словно бережно сучат нить из ангорской шерстяной кудели.
Наш месяц молодоженов затянулся, мы тратили последние деньги, путешествуя по Европе.
Ты с удивительной легкостью сменила узорчатое колесо прялки на запыленные колеса дорожных колымаг.
Я терял тебя на лавандовых провансальских пригорках и не уставал удивляться твоему спокойствию и верности - мы совершали обмен, как два соединенных сосуда - ты вернула мне мужскую силу, я надеялся развеять твои опасения о бесплодии.
Ты странная женщина, так, будто сто лет жена.
Двое супругов, приближаются к жаркому городу в самой сердцевине августа, подоткнутая юбка, деревянные башмаки, конская подкова у обочины и отдаленный звон колокола, вещающий близость жилья.
А меж тем срок отпущенный нашему бродяжничеству истек.
На рынке в Кале, выбирая с тобой рыбу на ужин, я услышал странный разговор - отряд вооруженных молодцов, отчаянно потея под доспехами, благоговейно внимал наставлениям коренастого капрала - пунцовая физиономия его таяла как свечка, по переносью текло:
- Дети мои! Вам выпала честь… Лучшие из лучших… Ответственность возложенная на нас, матьпермать, Понтификом. - отрывисто долетало до меня.
- Скумбрия, скумбрия! Скумбрия, девочки! - пронзительно свиристела торговка.
- Слушай сюда, черти! Иост, растудыть! Иост ван дер Хуккен! Подбери брюхо. Два шага из строя, посмеесси мне, посмеесси… Не зубы - органные трубы. Повторяю в последний раз: по прибытии не рассеиваться, с местным населением в разговоры, сделки, и блядование не вступать.
- Свежая камбала! Живуха!
- В носе не копаться, козюль не есть, плевать в канавы, а не под сапоги, морду лица иметь суровую, за свиньЯми не гоняться. Тамплиеров брать по уставу спереду и в кандалах! Кто в деревне гуся задавит или чужую мамзель щипнет - душу выниму. Мы, матьперматьь, не шобла кабацкая, растудыть! Мы христьянское воинство, матьпермать!
В крытой повозке позади солдат хихикали полковые девки. Одна штопала юбку суровыми нитками, сидя голышом по пояс.
Услышав эти речи, я молча кивнул Агнес - ты уже знала обо мне все и мы, не скрываясь подошли, к капралу. Заверенную копию моей Авиньонской бумажки капрал измызгал в потной ручище, потом охнул и обнажил голову.
- Гоббо Буардемон де Бугребиль! - вдумчиво, с трудом, словно пережевывая гравий, представился капрал, - тут вот указ, матьпермать, вышел - орден Храмовников распущен - во Франции - то им давно уж капут. Теперь вот в Шотландии ищем, нечестивцев. Сказано, матьпермать, - арестовывать, наше дело - маленькое: выявить, расследовать, пресечь. Написано: в тюрьму волокчи, будем волокчи. Вы человек образованный, блондин, - уверенно продолжал капрал - поэтому мы вас милостиво просим на корабль для мозговой, матьпермать, поддержки. А то у нас практики много, а вот с теорией - туго. Вы вроде Папский шпиен, вот и арестуем, гадов-храмовников, по-ученому.
Нам выделили чистую каюту на корабле, Буардемон, проникшись бумажкой, печатями и подписями, в качестве насильственной роскоши приставил к нашим дверям рыжеусого негодяя с альпийским рожком.
Рядом стоял второй - молодой барабанщик и самозабвенно играл на губах - через два часа концерта я понял, что из всех искусств, поистине дьявольским детищем является музыка.
Будь я живописцем, не преминул бы написать картину, некий вид ада, где мздоимцев, воров, шлюх, королей и ломбардских ростовщиков - истязают на великанских музыкальных инструментах особо несимпатичные черти.
Ночью качало, твои волосы, Агнес, рассыпаны были по тощей подушке, ты улыбалась, на руках твоих дремала твоя собачка-барашек - зверек юркий и непонятный даже во сне. От него пахло мокрой шерстью, молоком и горькой травой.
И мне стало страшно - я не видел Британии, острова печали моей, полтора года - как знать, может быть, никого из моих “Чудесных слуг” не осталось в живых. Я гадал: - были ли Плакса - Бегемот и бальзамированный Корчмарь действительно мертвы во время Адского Хода, или то явилось мне сатанинское наваждение.
И виделся иной корабль, и ранний дождь, и зарезанный на пирушке Воевода, тогда я видел как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, теперь же лицом к лицу…
Был май и корабль рассекал всенощную глубь бережно, как любовник, по небу зеленому и чистому, как яблоко, разбрелись созвездия, я один стоял на палубе и узнавал очертания порта в мареве, позади, за алой, как петушиный гребешок кормою, дремал вне закона Континент. Дремал и Глазго. В предрассветные часы, моя утраченная, мир переполнен призраками, равнодушными к живой плоти, еще не проснулись виселицы и мукомольни, и башмаки у кроватей бюргеров, и не заплетены женские косы, и не подписаны смертные приговоры, игральные карты собраны в колоды и заперты двери церквей, и продрогшие лошади бредут по росным пастбищам.
И парусник скользит над водами, как протяжная молитва.
В этот час тому, кто не спит принадлежит мир. В этот час никто не думает кто не спит, не беспокоит, не окликает его по имени даже в неустанных молитвах. В этот час хорошо умирать.
Тогда, с мальчишеской дерзостью я обещал себе: мой смертный час свершится на рассвете.
По прибытии я должен был сопровождать отряд швейцарцев - в ногу они топали по знакомым и позабытым улочкам Глазго, дробили лужи и пугали философически валявшихся в грязи свиней.
Я и Агнес верхами следовали за ними в отдалении, - ты, моя добрая фламандка, превосходно держалась в седле.
Я не удержался от улыбки, минуя привычный дворик “Святой Вальпурги”. Маммон по обыкновению с кем-то ссорился на крыльце - гостиница сменила вывеску, теперь она называлась “Монах, подковывающий яйцо”.
Я кивнул хозяину, но хитрый демон, изрядно поблекший при дневном свете, сделал вид, что не узнал меня.
За пестрыми швейцарскими рейтарами бежали и улюлюкали ребятишки.
Капрал Гоббо Буардемон невозмутимо гарцевал впереди отряда на рыжей мохнатой коняге, и ел соленый огурец.
Вскоре его латная рукавица мерно забухала в двери ратуши. Шериф Глазго осторожно высунулся из окошка первого этажа.
- Кто такие?
Капрал меланхолически жевал. Огурец иссяк, некоторое время папский ратник критически изучал огуречную зеленую ” попку” с хвостиком.
Наконец, зычно и грустно, “швейцарец” выдал:
- Меня зовут, матьпермать, папский легат.
Шериф по пояс вылез из окна, как кукушка из испорченных часов.
- Что вам, собственно, надо?
- Хочу тамплиеров, - барственным тоном заказал капрал. мы их, растудыть, сейчас арестовывать будем.
- За что?
Буардемон подумал и уверенно объяснил:
- А чего они вообще?
Против этого аргумента не устояли бы и стены Иерусалимского Храма.
Шериф исчез на миг и появился уже на парадном крыльце ратуши, внимательно глядя в глаза капралу Гоббо.
- Нет здесь тамплиеров, они близ Нью-Кастла, на церковном соборе, где все монахи. До свидания - терапевтически вежливо попрощался шериф.
Меня дернула знакомая догадка - и солдаты и шериф - играют, путаясь в словах, почти равнодушно.
Пока швейцарцы совещались о предстоящем походе, ты, моя отважная, пустила лошадь галопом.
- Хватит. Мы их опередим. Догоняй!
Тамплиеров и впрямь было жалко - судьба их французских собратьев была незавидна. Одно смущало меня - каким образом, без ведома курии был созван собор. Причем не Папой, не легатом его, но самим архиепископом Кентербери. Лошади словно предчувствовали неладное, легко перемахивали через валежник на оленьей окольной дороге.
По заброшенному тракту молчаливой вереницей месили грязь семеро слепых.
У городских ворот нас встретила беда. Колокола Нью-Кастла молчали, церкви были заперты - нищих не видно было на папертях, горожане жались к стенам домов. На границах также было неспокойно - баловались шотландские отряды. Болтали, что наступают последние времена: старик Эдуард едва поднялся после жестокого зимнего недуга, дворец он покидал опираясь на локоть постельничего, доспех тяготил его, так старое дерево изнемогает под гнетом полновесных плодов. Король стал мнителен и зол - на старости лет вздумал ревновать Королеву-мать к фавориту беспутного сына - Пьеру Гальвестону, пожалуй, последний был единственным из “верхушки”, о ком пугливые горожане еще рассказывали сальные анекдотцы.
В особенности их забавлял тот факт, что в последнее время принц Эдуард охладел к своему любимчику и даже собирается его женить на какой-то длинноносой баварской баронессе, не самых древних кровей.
Мои прежние связи позволяли мне проникнуть ко двору, сенешаль короля еще помнил меня, хотя и предупредил, что самое Величество в отсутствии, по случаю праздника Троицы где-то близ земель баронов Клиффордов учинили рыцарское ристалище.
Сам Эдуард, беременная Изабелла и придворные уже были там - принц и фаворит его только собирались в путь, чтобы присоединиться к ним. Как мне показалось с самого начала, принц, несмотря на все его недостатки был человеком неглупым, хотя и вряд ли он мог когда-либо стать истинным монархом. Такие люди, примеряя корону, становятся либо мучениками, либо посмешищем, а чаще всего - и тем и другим.
Ты осталась ждать в вишневом саду у мраморного распятия над родником, пока сенешаль не объявит тебя, я же, несколько смущаясь простого дорожного камзола и плаща, был проведен в зал для игры в мяч.
То была просторная овальная комната с мозаичным полом. Речной быстротечный свет омывал полированные ножки кресел. Их было два - одно пустое, во втором неподвижно, мерцая топазами и парчовым шитьем сидел сановник. Я не успел закончить поклона, потому что узнал сидящего передо мной. Рождественская кукла в длинном и тяжелом одеянии сумрачном, золоченом, наподобие церемониального халата из королевской хищной парчи, наборные перстни - каждый камень с перепелиное яйцо - придавливали к подлокотникам холодные ладони.
Волосы сидящего царедворца были круто завиты, румяна и сурьма на веках сковывали лицо в бесстрастную маску, а в корзинном плетении прически цвели белые розы и перья цапли
Я, срываясь, проговорил:
- Граф Малегрин к вашим услугам… Иисус-Мария! Весопляс.
Красное золото, парча, игристые самоцветы, удушливые ароматы - все единым пятном метнулось ко мне - и живой, нервный подросток повис у меня на шее - словно вылупился из роскошной скорлупы.
- Господин… господин мой…
“Вот оно как, - соображал я, задыхаясь в жадных, перелетных его объятиях, - “высоко взлетел куренок, вот уже и Гальвестона женят, и парчовые рукава… Впрочем, не куренок - а кукушонок - смекалистый подкидыш, вытеснил исподтишка прежнего полюбовника и советника из порфирового гнездышка… А теперь ластишься ко мне… Чертов пудель… Со мной привычный трюк не пройдет. Я тебе не принц Эдди.
- Ну, хватит. - я оттолкнул его так, что он полетел на пол, все еще улыбаясь. - Ну что, малыш, разнежился тут без меня, наел ряшку. - я смял его щеки и глядя в глаза продолжил,
- А ну выкладывай, что здесь творится. - я уже не стесняясь
- уселся на еще теплое кресло.
Весопляс прикорнул подле моих забрызганных грязью сапог. Невольно я усмехнулся - какая картина - разубранный в золото и сердолик вельможа трется щекой о разбойничье голенище.
- Все как нельзя лучше, мой господин, Изабелла на сносях, врачи говорят: будет мальчик. Скоро Эдуард-принц станет королем. - счастливо частил Весопляс, - а епископ - пусть его покуражится, ему можно, обиделся он. Ничего, перебесится. А попов Британии и Шотландии давно пора было собрать - секиру успокоит тонзура…
- Что ты имеешь в виду?
- Согласие, мой господин… Настоящее… Без крови. Замирение… - он быстро промокнул губы - без плахи и ножа… Кстати, я заговорил зубы старику Эдуарду. Я назвался вашим именем - вас признали Папским советником. Гальвестона король презирает, а я - это другое дело. У меня бумаги, я всех знаю, я умею себя держать… Я - друг Эдуарда. Я - другое дело, честное слово… Я действовал от вашего имени, мой Князь… Я не то, что вы думаете…
- Так уж и другое? - я смерил Весопляса взглядом, ощерился про себя.
-
Виданное ли дело, животное, вчера из канавы, а теперь разит от него, как от букета пармских фиалок. Что он о себе возомнил? - я бережливо отпускал от себя майскую озорную злость. Пора поставить его на место. Плебей. Выскочка. Скажите пожалуйста: какой вершитель судеб с дворцового балкона. Политик. Смазливая мордашка, глазки - незабудки, полдюжины чужих мыслей, тщеславие кокотки и похоть, о которой я, чистый и правильный человек, и во сне не смею думать. Ты был мне другом, но имя мне дороже.
- Скажи мне, дружочек Весопляс, далеко ли Его Высочество?
- Эдуард-младший уехал на турнир, мой господин - проворно ответил Весопляс.
Я медленно подошел к двери и запер ее изнутри на простой французский замок.
Как же я бил его мысами и каблуками сапог, моя радость, как выломал руку с дареным клинком. Он еще и грозить ножом мне посмел! Так получи же, чтоб не смел выделяться, не смел воровать мое имя, не смел лгать и угодничать, не смел говорить за меня мои слова, не смел ходить по моим следам, не смел снимать с шеи железной цепи, не смел не смотреть на меня, когда танцуешь мориску.
Ты - раб и подохнешь рабом, с чужой сапожной смазкой на прекрасных золотых губах.
Я бил его, а он уворачивался и улыбался влюбленно - я понимал, что он жив одним - тем, что я здесь, он видит меня воочию, я вернулся и снова рядом с ним, пусть злой, пусть я избиваю его, как шавку - но рядом.
И только когда под каблучными подковками хрустнуло, я отвалился от него.
Весопляс, постанывая, пополз в угол, приладил к пройме рваный рукав. Изгиб верхней губы посетила струйка жидкой крови. Он фыркал ноздрями - я разбил ему переносицу. Лениво на зевке он прошептал:
- Прости, мой господин… Я больше не буду вмешиваться в ваши дела.
- Врешь! - едва не крикнул я. Но тут сенешаль, постучавшись,
привел тебя, мое благословение, Агнес Годекинд, пришлось отпереть. Ты глубоко присела на пороге зала для игры в мяч. Зашуршал подол щедро развернутой юбки.
- Кто ты, женщина? - все еще в царственной роли Весопляс махнул рукой, плюхнувшись в щегольское кресло. Измаранные кровью костяшки пальцев скрылись под изящной тканью.
- Я - Агнес фан Малегрин, урожденная Годекинд - скромно ответила ты и встала за моим плечом. - супруг мой, расскажите господину о нашем венчании.
- Рад. - полярным тоном обронил Весопляс.
Белки его налились лиловым. Правый глаз покрылся сеткой кровяных жилок. Изучая его гипсовое, враз погасшее лицо я понял, что мои побои не вразумили мерзавца, но твое северное личико, пара дерзких грудок и обручальный перстенек убили его навылет. Туда ему и дорога, моя прекрасная. Перед тобой, моя неподкупная судья, мне не хотелось оставаться на вторых ролях.
- Ну ты, цыпа - херувимчик, скидывай барахло. Я еду на церковный собор и должен выглядеть подобающе. В конце концов - пора навести порядок: кто здесь князь, а кто мразь!
Стаскивая через завитую голову батист и парчу, Весопляс сказал, будто зашуршала скомканная бумага:
- Как прикажете, мой господин.
Впервые его голос был холоден и увертлив, как ртуть.
Глупец, а я-то думал, что он жалеет о придворных тряпках.
Я потрепал его по волосам:
- Так-то лучше, разрешаю тебе ехать со мной, позаботься о свежих лошадях для нас.
Вот теперь я возвратился окончательно, радость моя.
В дороге Весопляс отстал и потерялся - и к владению баронов
де Клер мы прискакали одни. Ворота укрепленного поместья были наглухо заперты, сонный часовой на стене, плевал в ров, глазея, как вокруг плевков собираются стайки плотвичек.
В глубинах поместья и окружающего его городка мерно и медленно, как капает мед, бил колокол.
- Эй, ты, - я взмахнул грамотой - отопри, мне нужно срочно видеть Командора храмовников Глазго.
- Не велено никого пускать, их светлость барон в отъезде.
- Так позови Командора сюда, болван. - я обернулся, ты напряженно всматривалась в поворот лесной болотистой дороги - по нашим подсчетам бравые ребятки под началом Буардемона должны были появиться с минуту на минуту. Но нас не заставили ждать.
Крест заалел на белом полотнище котты.
Командор отослал часового и глянул вниз.
- Сударь, времени в обрез, вам нужно покинуть страну!
- Н-ну? - спросил Командор.
Господи, я резко вспотел под отороченным мехом нарядом.
- Как вы не поймете - сюда идет отряд, они уполномочены самим Папой, более того - орден ваш объявлен распущенным, сейчас уже наверняка обыскивают командорство в Глазго.
- Н-ну? - спросил Командор.
- Позаботьтесь хотя бы о ваших людях! - взвыл я, ты не удержалась и захихикала. Лицо Командора было пусто и светло, как вылизанная тарелка.
Я готов был повторять по слогам, как обучают говорить скворца.
- Сейчас сюда придут солдаты и повяжут вас, как хворост. Вы хотите на костер?
- Н-ну…-начал было Командор, но тут в глазах его появился озадаченный проблеск, я было выдохнул, но услышал размеренное - Спасибо. Мы подумаем.
Засим храмовник удалился с достоинством жирафы.
- Поздно… - ты осадила пшеничную лошадку свою и сощурилась, солнце баловалось на шлемах и кирасах на рысях приближавшегося отряда.
Гоббо Буардемон преданно посмотрел на меня
- Ну что, граф, мы туточки. А тамплиеры, матьпермать, где?
- Там - я махнул за стену.
- Что ж вы нас бросили-то… - недоверчиво спросил капрал.
- Это маневр - убито объяснил я - идите в поместье.
Я не стал смотреть, медленно правил шагом по обочине. И тут ты, моя голубка, издала звук, похожий на стон несмазанной двери. Дело в том, что Буардемон направил свой отряд в совершенно противоположную сторону от той, куда я указал. Как из под воды я услышал бодрое : “Запе-вай” и уже издалека первые фразы песенки, которой швейцарцы заразились в Англии:
- Как у Мэри панталоны, на одной булавке!
Вот булавка упадет, э-гей, вот булавка упадет,
Как домой она пойдет!
Я вцепился в собственные мокрые волосы.
И чуть было не сорвался с губ моих, как жаба, глупый вопрос: Весопляс… Где ты? Что делать… Научи меня что делать!
Но за моей спиной говорил лес, и плыли над ним облака.
Только через три часа все разъяснилось - Буардемон честно дотопал до Нью-Кастла, где на свое счастье обнаружил двоих тамплиеров, отставших от своих - они ковыряли в носу посреди рыночной площади.
Буардемон был строг:
- По приказу Папы, раздевайсь! - скомандовал он арестованным. Шериф Нью-Кастла разделил участь своего коллеги из Глазго, побледнел и запротестовал:
- Ну не в стенах, ради всего святого, не в стенах. Здесь дети.
“Швейцарец” ограничился тем, что тамплиеры сняли плащи и сдались на милость победителя. Близкий к припадку, я наконец втолковал ему, куда идти.
Но время было потеряно - священники под предводительством Кентербери молились истово, как кололи орехи, ревел орган, в поместье не пускали никого. Швейцарцы ночевали под стенами. Допоздна бивак орал песни, плясали на ветру кухонные костры, полковые девки нагишом купались во рву.
Только в полдень на стенах появился Кентерберри - он так и лоснился от удовольствия, торжественные ризы спорили с солнцем.
- Ваша бумага - фальшивая. Не знаю никаких Папских легатов! Мы отказываемся верить в махинации неизвестных проходимцев.
- начал он, не выдержал и пророческим голосом возрокотал:
- О Британия! В оковах лжи, лихоимства и ереси! Анафема, анафема! За оскорбление, нанесенное Его Величеством мне, Равноапостольной Римской Церкви и самому Спасителю - анафема его сродникам и двору и воинам пешим и конным и женщинам и малым детям в утробе и скотине в хлевах, хлебам в полях, да будут источники смолой, да зарастет место сие волчцом и плевелами. Вот.
Голос Кентербери сорвался в крик, одесную гневливца появился отец Делирий Клеменс и поднес стакан с гоголем-моголем для смягчения горла. Пацанята - министранты висли на зубцах крепостной стены и дразнились тещиными языками, блеявшими до звона в ушах.
В отдалении монашеский хор выводил зловещий псалом.
Глаза твои, Агнесса, потемнели, как порох. Алая юбка покрывала круп и бока лошади, как попона, я залюбовался тобой. Я не знал, что предпринять, игра сорвалась, как перетянутая пружина прекрасного, но бесполезного механизма, она жонглировала смертью и проклятиями, сама смерть играла, безболезненно ступая по земле, которая вскоре опустеет.
Я отбрехивался от Буардемона, не в силах принять решение, словно слепой. Будь проклят Весопляс, он разбаловал меня, он отучил меня думать…
Я молился о случайности.
Большой ветер размел верхушки лесной крепи и воздух был напоен криками рогов и дроботом сотни копыт - к владениям д` Эклеров катилась армия: штандарты и чернь щитов, груди боевых лошадей, и серебряные бляхи на сбруе, и впереди в угловатом седле едва держался седой Эдуард, латная перчатка будто бы отдельно лежала на холке брабантской кобылы.
Откуда они… Какая сила могла оторвать вояку - короля от турнира на Пятидесятницу, о котором он бредил целый год. За столь краткое время ни один гонец не успел бы оповестить Эдуарда о беде.
Я онемел. Справа от короля стремя о стремя скакал Весопляс, в грязно-голубой пажеской куртке на одно плечо, в драном берете с вороньим пером, с приоткрытыми, как розанчик, пухлыми губами, он жевал травинку и скучал.
Я приблизился и услышал его разговор с королем.
- Я не пойду против церкви. - повторял Эдуард - Я готов резать шотландцев, я без труда пошлю на плаху мятежника, но я не пойду против церкви.
- Ваше величество - вкрадчиво пропел Весопляс, прикрыв глаза. - Смирение перед церковью - похвально. Вы хотите подтвердить отлучение. Превосходно, представьте себе - засовы на дверях храмов, камень, брошенный с амвона, откуда прежде вещали слово Божие, неотпетые трупы в мертвецких, некрещеные дети, невенчанные любовники. Но послушайте - Кентербери кричит: Долой короля.
- Так - угрюмо кивнул Эдуард. - продолжай, мальчик.
- Но, согласно канону, всякая власть от Бога. Вы - помазанник Божий. Выходит, что еретиками можно назвать Кентербери и его клику. Они противоречат Писанию. Они укрывают храмовников. Они проклинают папских посланников.
Король колебался, перебирал конскую гриву.
- Я все беру на себя, ваше величество.
- вор, ясноглазый плут клятвенно приложил ладонь к груди - я содрогнулся - то был его победоносный довод, его вкрадчивое заклинание, и противоядия от него не было.
- Всю ответственность, без остатка - повторил Весопляс. Я вздрогнул - его мерзкая шалость - когда он полностью опустил выпуклые веки я увидел, что на их нежную кожу тонкой кисточкой нанесено изображение глаз - вторые нарисованные черной басмой глаза - которые будут видеть, даже если он зажмурится.
- К бою - приказал король Эдуард.
Свершилось.
Сквозь лязг и клубящийся ад штурма я слышал резкий бритвенный смех Весопляса.
Я не успел удержать его - мимо меня пронесся взмыленный жеребец, шарф Весопляса хлестнул меня по щеке - рыжим мазком мелькнул меж стволов всадник.
Будь у меня самострел - с каким наслаждением я бы всадил в его череп болт, окрасил бы кровью и мозговой слизью крылатые нежные пряди цвета томленного в печи молока.
Но почему ты, моя супружница, моя обручница, моя, черт побери, законная женщина, в этот позорный миг моего бессилия улыбалась глядя вслед мерзавцу из-под руки. Я резко спросил тебя об этом.
- Я смотрю, потому что Бог еще с ним. И Он не любит его - уклончиво ответила ты.
Что дальше, моя ровесница?
Поместье шутя взяли приступом, я слушал брань и молитвы, я видел, как латник спокойно насиловал монашку прямо на опущенном мосту, а сам Буардемон поймал за волосы верещавшего ребятенка в стихаре министранта, деловито размозжил ему затылок о стену и бросил останки в ров.
Король Эдуард, обнажив голову, молился у распятия во дворе церкви.
Отец Делирий Клеменс поначалу бегал по стене, покрикивая: “аллилуйя”, потом распробовал обстановку, и стащив балахон с пугала в садике баронессы де Клер сбежал из города.
Всех, кого нашли в поместье, повязали без разбору - здесь были монахи и священники со всех концов страны, митры, земляничная кардинальская шапка с кистями, здесь были старикашки и юнцы, молитвенные шептуны, взращенные на жирных монастырских бульонах, растерянные инквизиторы, в том числе и те, что сожгли Этьенну де Фуа и многих иных, для них - всю жизнь бравших под стражу, пытавших, уничтожавших, унижавших, насиловавших плоть и душу, собственное пленение было по-детски обидным. Зеленое знамя с крестом валялось в навозной жиже. Связанные жмурились, как филины и жаловались.
Отдельно, как мертвые, молчали разоруженные тамплиеры.
Была лишь одна пара, которую не тронули солдаты, пока творилась кровь и беззаконие - они сидели у костра и ели печеную брюкву руками. Один был одет в дерюжную рясу с крестом, криво сбитым из бросовых реек, второй был поплотнее первого, в шерстяной рубахе с прилипшей соломой и куриным пометом. Возле круглого колена второго едока валялся засаленный трехрожковый подсвечник.
- Этих тоже вязать? - крикнул один из солдат.
Двое тщательно пережевывали пресную еду, тупо глядя в огонь.
- Да что юродивых трогать, это же не попы, попы вон там - в серебре и тосканском сукне! - возразил швейцарцу приятель.
Он просчитался - первый был францисканцем по имени брат Маттео, во втором я не без труда узнал Плаксу. Он похудел и посерьезнел за время моего отсутствия и ничуть не удивился, увидев меня.
- Как поживаете, Князь? - Плакса отер руку о подол рубахи и подал мне. Я уклонился от его немытой ладони.
- С чего это ты ударился в евангельскую бедность, друг-Плакса?
Плакса пожал плечами:
- Играть надоело. Врать по большому счету тоже. Просьбочку можно? Заранее спасибо. Что ж вы меня все по кличке-то как собаку. Меня зовут Ян, а прозвание мне - Человек. Вот путешествуем с Маттео, все веселее. Сейчас монахи здорово как понадобятся. Жалко, у меня тонзура заросла - все никак не выбрею. а можно и без нее - маковка не мерзнет. Где исповедь примешь, где повенчаешь кого, тут гроб, там младенец - интересно люди живут. Посмотришь - и тоже живешь помаленьку. Когда-нибудь ведь надо начинать.
- Философ! А где Корчмарь и Смерд?
- Корчмарь женился, живет где-то в Корнуолле, сначала держал мелочную лавку. Потом, говорят, стал давать деньги под проценты. Озолотился. Соседи и должники плачут, но терпят. Только к нашему Корчмарю теперь и на дохлой козе не подъехать. Мы с Маттео раз пришли навестить, так он нас с лестницы спустил. Ровно двадцать пять ступенек - гордо сообщил Плакса и печально пошевелив пальцами босой ноги, продолжил: - А Смерд… Плохое дело.
- Умер?
- Хуже. Лучше бы умер. - и Ян Человек замолчал и отвернулся. Больше я ничего не узнал от него и отошел прочь.
- Анафема всем! - Кентербери в кольце латников вздернул отлучающие персты - всем! - королевский сенешаль меланхолично тюкнул его по затылку и архиепископ в третий раз впал в беспамятство.
Придя в себя, он снова буркнул: “анафема” и снова получил по макушке, но продолжал:
- Короля долой! А особенно - этого малолетнего мерзавца, советчика, демона во плоти… как его, в общем Бог разберет - анафема!
Четвертый, балаганный, будто бы “понарошку” - удар проломил архиепископский череп.
Кентербери посинел и опрокинулся, подавившись собственным языком.
Арестованных уводили, кто-то неохотно ворочал лопатой землю - погребение Кентербери было небогатым - в общую яму свалили десятерых убитых, в непристойную кучу-малу.
Старик-король молча поднялся с натруженных молитвой колен.
- Достаточно. Домой. Все - домой. Эй, вы!
Последнее было обращено ко мне и капралу Буардемону.
- Папская бумага у вас - вы и распоряжайтесь арестованными. Я пальцем о палец не ударю ради этого скверного дела.
Я лихорадочно думал, кровь наполняла виски, как винные мехи…
- Так… Рыцарей ордена… Командора… На покаяние к Престолу, пусть едут. А остальных - с вашего разрешения в Ньюкасл, в крепость. Я сам поведу процесс.
- Дозволяю… - кивнул король, тяжко садясь в седло - Будьте вы прокляты.
Я рысцой догнал восьмерых храмовников, месивших грязь в колеях -
- Командор! Я предупреждал вас.
- Идите к дьяволу. - огрызнулся Командор - Папская подстилка! Вы еще услышите о нас. Я подниму горные кланы.
- Благослови вас Господь. - я оставил его торжествуя.
Эдуард одной ногой в аду, его сын возможно, удержит власть, под угрозой хайлендеров освободит священников, а там - подписание мира, пусть даже на унизительных для Англии условиях.
- Все складывается как нельзя лучше, душенька. - сказал я тебе тем же вечером, когда мы ночевали под открытым небом в обществе конвоя и арестованных - теперь остается позаботится о нас самих. Ты - женщина, а я не солдат, по приезде я переговорю с принцем, возможно он окажет нам протекцию, подыщет мне доходное местечко. Надеюсь, молодой Эдуард прибудет в Ньюкасл, в срок. Все равно у Клиффордов делать нечего, турнир закрыт…
Ты медленно зачерпнула ложку грибной похлебки. В глазах твоих волхвовали сполохи костра. Сонный ужас по осьминожьи расползся по венам моим. Ты улыбалась. Еще не убийца, но соучастница.
Чья?
- Супруг мой - твоя фламандская чопорность прозвучала издевкой - дорогой. Принц Эдуард прибудет на место минута в минуту. О нем ты можешь больше не беспокоиться.
В эту ночь мы спали рядом, но врозь.
След на щеке от франтовского шарфа Весопляса мучил меня, как ожог, до рассвета. Я промаялся до ранних сумерек, встал и вдыхая ледяной воздух, запах остывших углей и конской шерсти, вынул из сумки писчие принадлежности.
Я был полон решимости, как святой Георгий накануне битвы.
На чистом листе появились скаредные слова:
” На имя Его Святейшества, Наместника Святого Петра на земле, Клемента V. Спешу уведомить высокую курию, в том что нечестивец, лжесвидетель, извращенный осмеятель … повинен в пленении рукоположенных и постриженных особ Британии, Ирландии и Шотландии, а так же в злокозненном совращении членов королевской семьи…”
Злые слезы горчили в глотке, меня замутило.
Гаденыш, лицедей, шлюха! Ты сделал меня доносчиком, Весопляс!
… Моя потаенная! Если бы я видел в те дальние дни, то, что описываю ниже! Теперь я могу незримо присутствовать среди этих людей, впитывать их запахи и размышления, но не в силах ни изменить их участь, ни даже дотронуться.
Вижу я и сейчас:
Можжевеловое урочище, сумрачные стволы вязов и буков на пологом склоне, и в глухих теснинах мечется проточная лесная вода.
В уединенных угодьях охотился со свитскими и челядинами барон де Клер. Алые куртки доезжачих, как блуждающие огоньки вспыхивали меж деревьев, и надтреснуто кричали рожки, и клочья пены рвались с конских лоснящихся боков. Рыжебородый барон - безликий, один из сотни дворян с малолетства выращенных по одинаковым законам, заурядный благородный кавалер без страха и упрека, его не занимало сейчас ничто, кроме борзых собак на струнных ладах свор да колотушечников, которые голося и гремя трещотками поднимали добычу.
Он вспоминал “Книгу о короле Модусе”, свою охотничью библию, и ждал, красиво остановив могучую андалузскую кобылу. И мечтал барон о пяти красных зверях: олене, оленьке, лани, косули и зайце, и жаждал травли пяти черных зверей - кабана, свиньи, волка, лисы и выдры.
Ему подчинялись псари, следопыты, арбалетчики, де Клер был доволен - и ждал рогового сигнала “зова воды”, весть о том, что олень загнан в ручей и можно начинать гон.
Тишина пала пуховым платом. Лошадь вздрагивала шкурой, и поднимался за спиной барона ветер.
Купа шиповных кустов, окровавленных царским цветением, заволновалась, ворвалось хриплое дыхание, хруст валежника.
Барон прицелился - ложе миланского самострела ласкало ладонь, сейчас грудь красного зверя примет короткий болт и в агонии померкнет коронованная рогами голова.
- Ваша милость! Нет!
Стрела раздраженно взвыла, вильнула вбок.
Начальник псарей вырвался из колючих веток - на руках его обвисло тщедушное тело, нежный подбородок бесчувственного казался хрустальным - лицо юноши, которого, как невесту, нес псарь, было жалким сгустком дорожной грязи, крови, слез, слипшихся от пота и жижи прядей.
Голубой наряд придворного валета изорвался в клочья - тело светившее из прорех было так же избито и грязно.
- Я едва не пристрелил тебя, мразь - выругался барон - что это еще за падаль?
Псарь бережно положил юношу под копыта лошади.
- Мы только что сняли его с седла, он спешил - гнал двое суток. Он ранен. В вашем поместье, говорит, несчастье.
Раненый застонал и внезапно, как мертвец из колодца впился снизу страшными руками в наборные поводья. Барон перекрестился и сплюнул.
- Оставь нас!
Псарь исчез.
- Ради всего святого, сеньор! На помощь… Ваша крепость разграблена. Церковный собор прерван… Они… - мальчик захныкал - они убили архиепископа… Как собаку. Как бродячего, вонючего в струпьях кобеля.
Де Клер прищурился. Он узнал бедолагу - ага, тот самый прихлебатель и вьюн, что в последнее время только и делал что целовал ручки принцу Эдуарду. Барон таких субъектов гнушался, но надо отдать сорванцу должное - он не раз тешил баронское самолюбие, нашептывая на ушко, соблазнительные фразочки: мол, королевская кровь течет в жилах славного рода де Клер, кабы не со времен Мерлина. Куда уж этим подагрикам и грубиянам - Плантагенетам!
- Если ты солгал, мальчик, я затравлю тебя псами. - размеренно начал барон. Он наслаждался властью. И власть эту ему дала игра. (Продли, Господи, сроки ее!) - впрочем тебя и так следовало бы отдать борзым - продолжал барон - ты расстроил охоту.
Но барон осекся - глаза вестника были желты и горьки, как лунные блики на дне колодца - опусти в ночные воды руку и кисть будет скована погребным, нутряным холодом.
Вестник не лжет.
- Кто виновник? - рявкнул барон.
- Это работа принца Эдуарда и его прислужника - Гальвестона. Они нарочно задержались на турнире, чтобы приехать к концу задуманного штурма. Ему надоело ждать смерти отца. Мой сеньор! - Мальчик встал на колени, его шатало: Корону Британии бросили в свинарник. На вас вся надежда. Принц - убийца и святотатец. Я сам слышал, как он говорил королю: Штурмуйте поместье, я все возьму на себя. Надо поторопиться, принц и его клеврет возвращается в Ньюкасл по большому тракту в двух часах езды отсюда. Он хочет сделать вид, что не причастен к преступлению. При них почти нет охраны.
Кобыла брезгливо переминалась, барон осаживал ее, задыхался грибным чащобным ветром.
- Но почему именно ты! Тебя принц холил и осыпал подарками, он молился на тебя, он держал тебя за руку, почему ты - не с ними, не грабишь мое добро, не бесчестишь моих женщин, не поджигаешь мои кровли!
Лицо пажа обезобразилось. Почернелый рот выплюнул слова, как выбитые зубы:
- Принц лишил меня естества. Я ненавижу его душой, кровью и содержимым костей. Я в сердце своем присягаю истинному королю Британии - вам.
Барон усмехнулся и прищурился, как кот, нализавшийся масла.
- Ты принес две вести - дурную и добрую. Жди меня здесь, когда я
вернусь, чтобы стать королем - я награжу тебя и за то и за другое.
Меньше чем через четверть часа компания вельможных охотников выстроилась боевым порядком, псы разбрелись по лесу, вооруженные всадники лавой ринулись к поместью.
Весопляс наклонился над ручьем и долго с наслаждением смывал с себя грязь, слезы и чужую кровь.
Потом улегся в траву, подложив руки под затылок, чистое золотистое личико безмятежно улыбалось, от холодной воды проступил стыдливый румянец.
Его измученная лошадка бродила по берегу ручья, над ее тощим хребтом роилась солнечная мошкара.
- Три-три, нет игры - промурлыкал Весопляс, затейливый полет бабочек-павлиноглазок над нагретой поляной баюкал его. Маленькое сердечко билось смирно.
- Три-три, нет игры… балуясь, повторял Весопляс.
Мысли, угнездившиеся в его изящном черепе, были уютны и смешны - он по-детски сокрушался о выпавшем из кармана хрустальном шарике, о порванном пояске, какая жалость - приталенное мне так идет, мечтал о вечернем спокойном трактире, где ему отрежут горбушку тминного каравая, положат сверху кусок молодого сыра и ветчины, и все это он запьет темным карамельным портером.
А где-то клинки баронской челяди на ломти рубили принца
Эдуарда и Гальвестона, и кровь и омерзительные рваные куски спекались в пыли под копытами.
Благородные рыцари торопились убивать - так спешат дети, боясь, что мать позовет ужинать и прервет увлекательную игру.
Пьяные, расслабленные от крови и безнаказанности, убийцы даже не удосужились скрыться, они спешились и сели ужинать на обочине, каждому проезжающему показывая на изуродованные трупы, они говорили: суд Божий и Королевский. А де Клер хлебал из фляги и бросал перепуганным возчикам мелочь от монарших щедрот.
Подоспевшая гвардия Эдуарда I, быстро расправилась с челядинцами.
Барон был ранен и взят под стражу.
- Ребята! Братцы Король теперь - я! Мы же принца правильно убили! Да вы что, ребята! Это ведь игра!
Без суда и следствия рейтары соорудили петлю из отстегнутых поводьев и удавили изменника на воротах кладбищенской часовни, стоявшей на перекрестке.
Весопляс нежно вздохнул, свернулся клубочком в медвяном вереске и заснул, как ягненок под боком матки.
Уже в Ньюкасле мы узнали, что Изабелла, узнав о смерти мужа, едва не скинула долгожданное дитя - только вмешательство невозмутимого врача Бартоломеуса смогло спасти и мать и ребенка. Мальчик родился недоношенным. Когда тела мучеников, покрытые черным шелком везли по городу, многие плакали с легкостью забыв прежнее зубоскальство - молились про себя - церкви были закрыты и чудом выживший дворцовый капеллан отслужил короткий заупокойный молебен.
Мы с тобой стояли в толпе скорбящих придворных. Траур был тебе к лицу, моя модница, ты положила в гроб принца букетик сирени. И что же - служба уже заканчивалась, когда в приоткрытую дверь домашней молельни королевского дома проскользнул Весопляс - пиковый валет, комкавший в руках ажурные черные перчатки. Он бросился к гробу и завыл глухо и непристойно, как вдова.
В толпе придворных поднялось пасечное жужжание - я вывел его на воздух за плечи - едва держась на ногах он глотал вино из моей фляги и садовые тени плели бесконечные узоры на его бледном лице.
Как он тоскует по убитому - почти умиленно подумал я. Я не знал о прерванной охоте барона де Клера.
Вскоре я узнал, что Весопляс получил из королевских рук графство Норфолк.
Причем на имя Даниэля фон Малегрина.
Я мог только хватать по-рыбьи воздух.
А ты, моя хозяюшка, смеялась и мыла окна в новом домике, который он купил для нас на окраине Ньюкасла.
Его назначили опекуном измученной родами Изабеллы и ее недозрелого инфанта.
А я бранился с молочницей и прачкой и чинил дыру в заборе, слушая, как в сарайчике хрюкает и трется поросенок.
Он прогуливался в дворцовом саду и на крепостных валах со старым Эдуардом и поддерживал немощного под локоть и шептал на ухо.
- Вы так хорошо советуете, мой мальчик! - восхищался король.
- Всю ответственность я беру на себя, отзывался Весопляс, закрывал живые глаза и под дождем на щеки синими потеками сочились нарисованные очи, он стирал свои вторые глаза рукавом и улыбался, думая совсем о другом.
-
Я стал тенью собственного имени, я каждодневно обивал пороги королевской канцелярии, умоляя начать процесс над монахами хотя бы завтра.
Завтра никогда не наступало.
О судьбе арестованных священников я ничего не знал.
Кстати, они не были внесены в списки заключенных Судебной тюрьмы, где они томились я не знал.
Через три месяца меня допустили к разбирательству.
Судья, врач Бартоломеус и я шли по длительным коридорам Крепости. Из-под ног шарахались тени и крысы.
Тюремщик-голландец туго соображал, чего же мы от него хотим.
- Монах? Я не знай никакой монах… Много монах? А, вы опоздаль, джентльмены!
Я позеленел.
- Что с ними?
- Они хотель кушать. Потом лежаль. А потом - голландец долго подбирал слово и наконец просиял: А потом стональ и помираль!
- Почему им не давали есть? - осведомился Бартоломеус, прислоняя меня к стене.
- Бумажка! Не было бумажка - не было человек.
- Он хочет сказать, что на них не было выписано довольствие - педантично перевел врач.
- Большое спасибо, я как-то уже уяснил. - промямлил я.
- Королю сообщили? - Бартоломеус уверенно взял переговоры в свои руки.
- Все ажур! Король сказаль молодой граф: ужас! Как быть? А граф плеваль в пруд и говориль: На фиг. А король его обнималь, корону соваль и говориль: вы эту кашу завариль, вы тут и разбирайтесь, а я хочу на кладбищ! А граф ему руки целоваль, преданно смотрель и говориль - если вы на кладбищ, то я буду плакать.
Я беспомощно уставился на врача.
- Ради всего святого, Бартоломеус, что он лопочет.
- Перевожу вольно - Британии кранты. Да здравствует король.
- А что такое кранты…- слабо спросил я - я был на грани обморока.
- Поймете. - утешил Бартоломеус, грустно почесался и подытожил: доигрались. Интересно, этому вашему Пустоплясу нужен квалифицированный лекарь с дипломом. Как вы думаете, Даниель, стоит мне попытаться?..
Тюремщик проводил нас на солнце и напоследок сказал:
- Всех вам благ. Прощеваль. Заходите еще. Мы вам будем выписывать бумажку и сажаль, кормить будем.
- Он шутит - по привычке перевел Бартоломеус.
…- Агнес! Я убью его! Честное слово убью. Вот сейчас пойду и намотаю его вонючие кишки на кулак. - я ронял слезы в тарелку с вареной бараниной - пригрел змею. Лучше бы я удавил Весопляса в нашу первую ночь на горе Кармель!
Ты присела на кухонный ларь, усталая. Локоток был запорошен мукой.
- Неужели тебе не надоели эти клички? Что за ребячество. Его зовут Феликс Монжуа. Звонкое имя, правда? Его мать говорила, что такие имена приносят счастье. Видишь ли, циркачки суеверны.
- Так. Откуда ты знаешь! - взвился я.
- Он мне сам сказал - удивилась ты. - Ты просто никогда его не спрашивал. У него были сестры и братья, отец, мать и дедушка. А еще - пара лошадей, ослик, собаки и ученая лисица. Он сам с юга Франции. Кажется, из Тулузы. Его отец был превосходным акробатом и наездником, дед-фокусник и рассказчик…
Есть мне больше не хотелось. Я смотрел, как мило порозовели твои нежные щеки, когда ты рассказывала мне всю эту пошлятину о чужой родне и унизительном ремесле уличных кривляк.
- Ты встречаешься с ним?
- Конечно, Даниель. Ведь дома, не сочти за упрек, скука смертная. Куры, стирка, кастрюли, штопка… Нищих ты не позволяешь пускать на порог, хожу я только в церковь, даже на танцы у тебя времени нет. Ты хотел банальности - прошу. Все как у всех - мне даже кажется сейчас, что я говорю о другой женщине. Не о себе. А Феликс навещает меня, когда тебя нет дома. Не подумай плохого, он просто катает меня на своей лошади, мы ездим за город, он брал меня на королевскую охоту, мы купались на озере, было весело. А вчера играли в волан.
Вот как, моя тонкопряха. Моя целомудренная фламандка. Резвушка-хохотушка. Умница-разумница, крошечка - хаврошечка. Чужестраночка.
Каждое слово я сопровождал пощечиной.
Потом ушел и сидел во дворе, чтобы не слышать как ты плачешь.
А ты и не думала плакать, пожала плечами и убрала со стола, не смущаясь горящих щек своих.
Слушай, Весопляс - счастливчик. Я терпел вчера, когда король предлагал тебе корону, но завтра моя жена постелит тебе. И ты ляжешь и ухмыльнешься в темноте и будешь ласкать ее, закрыв глаза. И будешь счастлив, отыскивая на ее бедрах следы моих рук, так словно не она - пуховая Агнес целует тебя в глаза, а совсем другой человек. В этом моя победа. Ты можешь сколько угодно юлить и вскрывать души, как конверты, ты можешь напялить королевский венец. В конце концов, ты можешь наставить мне рога и утром лежать рядом с ненужной тебе женщиной. Пожалуйста. Я не обижаюсь, хотя это моя жена. Твоя мука от ночного приключения не убудет, но возрастет. Потому что ты знаешь, счастливчик, ты засыпаешь и просыпаешься, понимая, что я никогда больше не соприкоснусь с тобой даже полой плаща.
Но вместе с тем я вспоминал с гадливостью, что и дом и утварь и скотина - все куплено на остатки денег, подаренных мне Весоплясом на поездку во Фландрию. И королевский пенсион я получал каждый месяц с его подачи. И я уже боялся думать, для кого ты, счастливчик, кровью и бредом завоевываешь корону. Боялся и мечтал, как в соборе, обязательно в Лондоне, когда все уже будет готово к миропомазанию государя, ты поведешь меня к алтарю и приподнявшись на цыпочки, возложишь венец на мою голову.
- Для тебя, мой господин.
И я скажу, так чтобы слышали все:
- Пшел вон.
Мы помирились с тобой к вечеру, Агнес.
И я простил тебя и снова был сплетен с тобой, как основа и уток на рамах ткацкого станка.
Близилось Рождество, и заиндевелые кровли домов были испещрены следами галок и ворон, наш дом наполнился маринадами и соленьями, в погребе висел окорок и вяленые гуси, вдоволь было муки и холста, и бочонки не пустовали, и разжирел поросенок.
Наша улица, упиравшаяся лбами укромных домов в крепостную стену таяла за свинцовым переплетом окна, вся в глазури мелкого снега. Ты стала тиха, как источник подо льдом, и однажды я заметил, что ты совсем слабо повязываешь передник.
В то утро, когда ты призналась мне, что беременна, в Ньюкасл пришла страшная весть - хайлендеры спустились с гор. Их тысячи, они идут на город, и нет от них спасения - потому что на их стороне церковь.
Я вспомнил о загодя отправленном в Авиньон доносе.
Ну что ж - все тайное становится явным. Командор тамплиеров выполнил свою угрозу и вернулся. Он оказался честным человеком и списался с курией, (мой донос там уже читали и были крайне встревожены тем, что творилось на острове), Командор обещал Папе военную поддержку, и добился переименования своего отделения ордена Храма в орден Чертополоха - под новым именем их приютила Шотландия.
Рождественская омела вскрикнула под серпом войны. Очевидцы передавали, что долины за пригородными пастбищами и полями, все пестрят клетками шотландских килтов.
Скудная армия англичан выступила из Нью-Кастла спешно, с плохим оружием, под предводительством старого короля, я до сих пор помню, как под недобрым декабрьским солнцем плескались его седые волосы, и яркие одежды полководца словно издевались над одряхлевшим телом.
Я стоял в провожающей толпе - а завтра, моя ненаглядная, все они превратятся в беженцев - я стоял и видел, как они уходят на смерть.
Весопляс, как всегда скакавший одесную короля в радужном плаще герольда, трубил в рог и не удостоил меня взглядом
А ты, моя Мадонна, носила мое дитя, как ангелы беззаботно носят крылья, не вспоминая о них даже в истинной высоте.
Ночью я просыпался рядом с тобой в зеленоватой тьме, и твои грешные волосы мерцали, словно первый жатвенный венок пшеничных колосьев. Я клал руку на волшебное чрево твое и страшное сомнение точило меня - а что если даже плод, даже мое дитя первенец не принадлежит мне.
- Отвечай, чьего ребенка ты носишь - сорвался я утром.
- Своего, Даниель. - усмехнулась ты, расчесывая у зеркала несказанные пряди волос.
- Кто его отец?
Ты лукаво улыбнулась.
- Я не уверена, но сдается мне, что это был мужчина. Не бойся, твоя честь не пострадает. Ведь его отца зовут Даниель фан Малегрин.
Не было больше сомнений. И я плакал во дворе, как фарсовый муж-рогоносец, я куплю у старухи зелья и порешу себя, как Иуда…
Нет, хуже, моя красавица, когда он вернется, я буду ласково принимать твоего Феликса в доме, пока ты не родишь. А потом я удавлю твоего любимчика сзади, твоим же чулком и целую неделю заставлю тебя спать рядом с разлагающимся трупом.
Когда он вернется.
Весопляс и еще пятеро выживших вернулись в Ньюкасл через месяц.
- Король умер. - целуя край платья королевы- матери прохрипел Весопляс - пятеро рыцарей, заросших, как каторжники с глухим мужским воплем опустились на колени, кровавая корка делала их подобными мертвецам.
- Как это произошло? - безучастно спросила старуха.
Весопляс рассказал о бесконечном стоянии у крепости баронов де Клиффордов, о плескавшихся и горевших на ветру штандартах, о том, как толпа шотландских дикарей теснила англичан и в осажденной крепости, куда королевскую гвардию загнали, как в крысоловку. Не хватало еды и корма для коней, и кони падали и на телах солдат цвели синие струпы, от голода варили кожаные ремни и жарили крыс.
Король стоял под дождем на стенах и смотрел вниз, как безумный, в последнее время Весопляс таскал его за собой, подпирая плечом, отдавал свою порцию омерзительного хлебова, но король умирал, он стал харкать и мочиться кровью и гноем, но каждый день выходил на стены и смотрел в долину, немо и страшно.
Сам воздух натужно звенел от зудения гнусавых шотландских волынок, от расцвета игры, перебранки меж осаждающими и осажденными и крепкого запаха пота и спиртуозных паров, которым воняли шотландские тела.
В то утро ослабевший король вывел войска из замка Клиффордов, готовилась битва, ибо осада уже была невыносима.
Красный солнечный шар прожигал редкие облака и скоро выплыла неизреченная чистая синева небес.
Король смотрел через огонь на сражение в долине, держась за локоть Весопляса.
- Сын - медленно сказал он - мне нечем дышать. Отчего это?
- Вы хотите правды, ваше величество? - спросил Феликс, удивленный обращением “сын”.
- Да.
- Вы умираете. - просто ответил Весопляс и король с трудом различал его слезные глаза - и первые и вторые.
- Возьми мою корону, сын мой.
- Я не сделаю этого, король. Вы мне как отец, я не могу сорвать корону с коченеющего тела, пусть это сделают другие. Я слишком не люблю вас, отец, чтобы ограбить.
Эдуард сдавил плечо Весопляса
- Я испытывал тебя. Если бы ты согласился, я бы убил тебя тотчас. Но теперь я буду ждать тебя в аду или раю, как сына. А сейчас не мешай мне. Короли и волки не должны умирать от старости.
Тут Эдуард оттолкнул юношу и спокойно шагнул со стены.
Весоплясу показалось, что тело короля падает томительно долго, в переливах алого плаща и наконец грянулось, оплыло, смешалось с жидкой глиной и болезненным снегом. И было неторопливо, как на театре, покрыто алыми складками.
Весопляс медленно погребально затрубил в рог.
Бароны, пустившие было коней в гущу битвы, разом повернулись и набросились на труп Эдуарда, как черные крысы, ярились кони, шла грызня, и тело становилось землей под острыми копытами темных баронских лошадей.
Меньше чем через три часа англичане были разбиты, уцелевшие разбежались и встала у дверей замка Клиффордов глухая влажная тишина.
Шотландцы решили идти на Ньюкасл, вслед за варварскими отрядами скрипели закрытые повозки с крестами на пологах.
Весопляс, не стыдясь дорожной грязи стоял коленопреклоненный на мозаичных полах дворца и молчал.
Лжец, лиса, вор. Наверняка он сам столкнул старика с крепостных зубцов. И теперь, убив отца и сына, оплакивает их.
- Нет Эдуарда I, нет Эдуарда II, но может быть поможет Эдуард III, младенец… - прошептал Весопляс.
- Горе стране, где король-ребенок. - сказала королева-мать- оседлайте мне лошадь и вы, пятеро будете сопровождать меня. Что же до тебя, мальчик, я хотела бы видеть тебя своим пажом. В изгнании мне будет скучно без твоих песен. мне жаль будет твоего свежего молодого лица. Едем со мной.
- Я остаюсь. - ответил Весопляс.
- Тебе что-нибудь надо? Деньги, титул?
- Горячей воды, ножницы и чистую рубаху - ответил Весопляс.
Тем же вечером дворец опустел, как кладбище после Страшного Суда.
Лишь в угловом окне западного флигеля теплился огонек.
Всю ночь, ветреную, февральскую я бродил в бесконечных мокрых палисадах, косился на окно, оплетенное бледными плетьми плюща. Меня можно было принять за умирающего от любви, с непокрытой головой, бледного, больного.
Но мною двигала одна лишь ненависть.
Я подтянулся, зацепившись за черепичный подоконник ссаженными пальцами.
Я хотел увидеть его, преисполненным непотребства, рукоблудящего, сплетшегося в чудовищном соитии с каким-нибудь конюхом или вором.
Весопляс спокойно спал на лавке в молельной. Он был обнажен и нескромно прикрыт вытертой волчьей шкурой. Подле него догорал светильник.
По лицу Весопляса было видно, что ему не снится ничего.
Я поднял исписанный листок из его рук, прочел:
” Темнеют лица жен, трещат хребты мужей.
Счет хлеба - по зерну на плесневом ноже,
Путь голода, войны, терпения и боли.
В бесхитростных сердцах, грех юности безусой,
Родятся в год лихой великие безумства
Путь смелости, путь жалости, путь радости и Бога.
Встречает день слепой, река находит русло,
В тот добрый час, когда великое Безумство,
Взрослея, превращается в обычную любовь.”
Я наклонился над ним, готовый пережать горло, но поцеловал его в слегка влажный лоб и вышел вон.
Через две недели крестовые обозы достигли Нью-Кастла. Оставшиеся в городе жители вышли на соборную площадь.
В конском навозе копошились воробьи, день по-весеннему был ярок, солнце маслянисто играло на крышах. Ты, моя потаенная, стояла рядом со мной в толпе, прятала руки в беличью муфту. По случаю прибытия неведомого каравана, ты принарядилась, ветер взметывал тройной подол красной фламандской юбки.
Кого мы могли ждать в эти проклятые времена? Торговцев, актеров, бродяг - египтян?
Из повозки кряхтя, поплевывая и сконфуженно попердывая, выбрался обрюзгший краснорожий человек в роскошном облачении Судии Он был молод, по-хамски здоров и упруг, как коровячье вымя. Но, отдавая дань игре, выделывался, кривляясь, как пропахший мочой старик. За ним из повозок, будто крысы из горящего амбара, полезли монахи.
-Кто это? - спросил я у впереди стоящих.
- Инквизитор - ответили мне те, кто расслышал простуженный крик глашатого.
Вместе с монахами стоял и Командор Тамплиеров, зеленое инквизиторское знамя снова было поднято над толпой. Инквизитор требовал бумаги, подписанные самозванцем и еретиком Даниелем фон Малегрином. Суетились секретари.
Однако, мой донос возымел действие.
И тут, холодея, я понял, что если Инквизитор, этот кривляка с пивным пузом, просмотрит подписи под преступными документами, он не увидит там имени Феликс Монжуа. Везде, везде, эта тварь, Весопляс, ставил одну подпись: Даниель, граф фан Малегрин.
- Кто здесь назывался Папским легатом Даниелем, графом фан Малегрином? - спросил Судья.
-
Проклятое имя… Трижды вбили мне его в лоб…
Тот ужас, что я испытал, хватаясь за ледяную руку твою, моя безумица, не сравним ни с чем. Лучше бы меня погребли заживо, лучше бы я утонул в море или погиб в стычке. Но не в огне!
Ты слышишь, Господи, не в огне!
Ты была спокойна, по-библейски сложив руки на отягощенном чреве.
- Так кто здесь назывался именем Даниель? - спросил Судья.
-
- Я не назывался. Я и есть Даниель граф фан Малегрин, светский шпион при королевских дворах. - Весопляс неторопливо спешился, поглаживая рыженького жеребчика своего по шее.
-
- У вас есть бумага, удостоверяющая ваши права - спросил Судья.
Весопляс протянул бумагу.
Ты рассеянно заозиралась, и тут, наглец, женоподобный ублюдок, оттолкнул меня плечом и взял тебя за руку.
- Ты что… - как из-под воды спросил я, медленно отступая.
- Пшел вон. - спокойно произнес Весопляс.
Играл Папа, играли спутники его, было старческое слабоумие был смех и шепотки в толпе.
- Смотрите, смотрите на него, пусть он не смотрит на нас, говорили в толпе, толпа, вы слышали, как он советовал королю, как его слушали в папской канцелярии. Ведьма, ведьма с ним… И беременная от черта! Его сожгут Вот он!
- Кто? - спрашивал я.
- Граф Даниель фан Малегрин, - отвечали мне, - содомит и растлитель, дурной советчик и малефик.
Имя… Имя мое… Как во сне я смотрел.
- Подпись! Подпись поддельная! - закричал Судья - Взять самозванца!
Я видел, как солдатня и монахи рванулись к вам, как ты закричала, весело по-звериному, закричала ты, Агнес любимая, несущая чужого ребенка.
Вас били до крови и заламывали руки, я молился в голос, чтобы из тебя вырвали твой незаконный плод.
Я слушал твой хрип, Весопляс, видел тебя в их руках, ломоть живого кричащего мяса.
Ты играл, Весопляс, задыхаясь, путаясь в подлеске, и говорил говорил кровью, которой был полон твой рот.
Я не видел вашего процесса. Не слышал твоих ответов вор, который взял мое родовое имя, как последний грош из чашки нищего.
Знаю лишь одно, в твою камеру Весопляс, пришел тот, кто называл себя когда-то Плаксой. Он исповедовал тебя и вложил облатку в ржавую гортань.
Собираясь уходить, Ян по прозвищу Человек обернулся.
- Зачем же ты, парень, обладая таким умом и сметливостью, столь любящий своего князя, стал лжецом и вором, как не тошно тебе было совращать обоих Эдуардов, сильных мира, которые правили и отдавал приказы?
- Отче, - сказал Весопляс - я лишь та крыса, что побуждает вас прибраться в доме. Пока будут живы те, что ставят ногу на горло мужчине или женщине, я буду возвращаться. Я тот танцор и игрец в пестром плаще, который скликает крыс на свой вечный последний праздник. Дай мне поцеловать ее перед костром, черна она, но прекрасна, возлюбленная моя… - прибавил Весопляс и заснул.
“Кто там в плаще гуляет пестром,
Людей пугая взглядом острым,
На черной дудочке свистя…
Господь, спаси мое дитя”
Я бросился в Глазго к душепокупщику Раймону и пал в ноги ему,
- Я продал тебе душу, демон, продал за ночь с Наамах! Пощади их, не в огне! Пусть не в огне!
- Простите, сказал Раймон, - но за вас, дабы вы развлекались с Ноэми - продал душу Феликс Весопляс. Вот его подпись. Форма соблюдена и договор необратим. А ваша душа, дорогой Даниель, не сочтите за дерзость, нам не надобна. Товар неходовой. Может быть в картишки сыграем? Не бойтесь - партия на интерес. Больше с вас взять нечего.
Ты умер на рассвете.
Я видел ваше сожжение, стоя в толпе вместе с остальными.
За гомоном зрителей, не расслышал ни псалмов, ни приговора.
Первой вывели тебя, моя преступница. Твои волосы остригли, чрево тяжко выделялось под смертным балахоном. Из-за жестокости времен скверных, военных, инквизиторы обошли кодекс и не дали тебе дождаться родов.
Почему так знакомо лицо палача?
Кат шел не скрывая лица, ражий дебелый, Весопляс казался рядом с ним ребенком.
Как бережно и важно вел его палач, словно прогуливался со взрослым сыном, гордый и ласковый.
Я был ошеломлен - в черном колпаке заплечных дел мастера вышагивал Смерд - теперь я понял, что имел в виду монах Ян Человек, когда сказал: лучше бы Смерд умер.
“А я, хозяин, привык… Куда ведут, туда и пошел. Дело крепостное - тошней масла. Когда убиваешь - тогда становишься свободным. Некуда мне было приткнуться. Бродил я по городу не у дел, а тут вылез бирюч и кликнул: Умер городской палач… А я подошел и сказал: Я за него…”
Вас привязали к столбу, и бесновалась вокруг не прекращающаяся игра.
Огонь лизал ваши колени, жаркая короста томилась на телах ваших.
Ты обнимал ее, а не я.
Тебя сожгли, носитель имени моего, а не меня.
Спина к спине вы были сожжены у столба, младенец выпал из лопнувшей утробы женщины и сгорел. Пепел и куски ребер и черепов собраны на чистые полотенца и выброшен в проклятый колодец, глотку которого засыпали камнями и забыли дорогу к нему.
Довольно, моя единственная.
Свеча на исходе, Агнес и Феликс, единственные, кого я не помню на этой земле.
Спустя три года я женился на дочери Корчмаря. То ли Мари… То ли Женевьева… Я прожил длинную жизнь, крестил внуков. Мы были счастливы.
Тому уже пять лет, как я умер от старческой немощи, оплакан и похоронен в ноябре, и с тех пор не видел ни рая ни ада.
Каждую весну вы приходите ко мне, неверная жена и порочный друг. На двоих у нас одно имя.
Храни Господь нашу душу, бедный Даниель Малегрин.
Комментарии: 2, последний от 11/01/2008.
© Copyright Максимов Феликс Евгеньевич (felixmaximov@gmail.com)
Обновлено: 23/08/2008. 246k. Статистика.
Повесть: Фэнтези Ваша оценка: шедеврзамечательноочень хорошохорошонормальноНе читалтерпимопосредственноплохоочень плохоне читать
Связаться с программистом сайта.
Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати: Ю.Иванович “Невменяемый скиталец” В.Бодров “Охотник” В.Гозалишвили “Каменный клинок” Г.Левицкий “Рим и Карфаген. Мир тесен для двоих” (истор.) А.Круз “Эпоха мертвых. Москва” С.Палий “Бумеранг” К.Пьянкова “Из любви к истине” А.Трубников “Меченый Маршал” О.Демченко “Мир в подарок” Д.Казаков “Русские боги” В.Клюева “Магия обреченных” А.Одувалова “Низвергающий в бездну” А.Сухов “Имперский городовой” И.Эльтеррус, В.Вегашин “Черный меч” Р.Артемьев “Хроники Аскета. Вторжение” А.Ивакин “Мы погибнем вчера” Е.Красницкий “Отрок. Стезя и место” Н.Савицкая “Темный дар” А.Кош “Игры Масок” С.Кайманов “Практическая антимагия” О.Верещагин “Горячий след” Илья Те “Война для Господа Бога” М.Палев “Ожерелье Клеопатры” Л.Пушкарева “Потерянное одиночество”
Сайт - “Художники” Доска об’явлений “Книги”
X Имя пользователя * Пароль * Запомнить меня






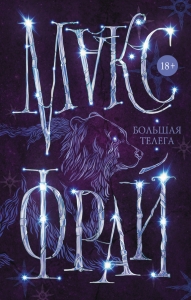



Комментарии к книге «Игра», Феликс Евгеньевич Максимов
Всего 0 комментариев