Уильям С. Берроуз Нагой обед
ВВЕДЕНИЕ
ПИСЬМЕННОЕ ПОКАЗАНИЕ: СВИДЕТЕЛЬСТВО, КАСАЮЩЕЕСЯ БОЛЕЗНИ
Я очнулся после Болезни в возрасте сорока пяти лет, спокойный и здравый, к тому же относительно неплохо себя чувствовал, если не считать ослабленной печени и внешнего вида, обычного для всех, переживших Болезнь, – как будто плоть твою взяли напрокат… Большинство выживших не помнят подробностей бреда; я же, по всей видимости, записывал и болезнь, и бред в деталях. В точности не помню, чтобы я составлял эти заметки, которые теперь публикуются под названием Нагой Обед. Название предложил Джек Керуак. Я не понимал, что оно означает до самого своего недавнего пробуждения. Означает же название именно то, что говорят слова: НАГОЙ Обед – застывшее мгновение, когда всем видно, что на конце каждой вилки.
Болезнь – это наркомания, и я был наркоманом пятнадцать лет. Когда я говорю наркоман я имею в виду зависшего на мусоре (родовое понятие обозначающее опиум и/или его производные включая все синтетики от демерола до пальфиума. Я употреблял мусор во многих формах: морфий, героин, делаудид, эвкодал, пантопон, диокодид, диосан, опий, демерол, долофин, пальфиум. Я курил мусор, ел его, нюхал, колол внутривенно-подкожно-внутримышечно, вводил его в ректальных свечах. Игла не важна. Нюхаешь ты его куришь или пихаешь себе в задницу результат один и тот же: наркомания. Когда я говорю о наркомании я молчу про кайф, марихуану или любые препараты гашиша, мескалин, Bannisteria Caapi, ЛСД6, Священные Грибы или любые другие наркотики галлюциногенной группы… Не существует свидетельств тому что употребление каких бы то ни было галлюциногенов ведет к физической зависимости. Действие этих наркотиков физиологически противоположно действию мусора. Достойная сожаления путаница между этими двумя классами наркотиков возникла благодаря рвению американских и иных отделов по борьбе с наркотиками.
Я наблюдал каким в точности образом вирус мусора работает в течение пятнадцати лет пристрастия к наркотикам. Пирамида мусора, один уровень пожирает тот что под ним (не случайно благополучные торчки всегда жирны а наркоман с улицы всегда худ) до самой вершины или вершин ибо существует множество пирамид мусора пожирающих народы мира и все они построены на основных принципах монополии:
1 – Никогда не отдавай ничего просто так.
2 – Никогда не отдавай больше чем от тебя требуется (всегда лови покупателя голодным и всегда заставляй его ждать).
3 – Всегда забирай все обратно если это возможно.
Сбытчик внакладе не останется. Наркоману нужно больше и больше мусора чтобы поддерживать человеческий облик… откупайся от Мартышки.
Мусор – отливка монополии и обладания. Наркоман стоит в стороне пока торчковые ноги несут его прямиком на луч мусора к рецидиву. Мусор поддается исчислению и точному измерению. Чем больше мусора потребляешь тем меньше у тебя остается а чем больше у тебя есть тем больше потребляешь. Все галлюциногенные наркотики почитаются священными теми кто ими пользуется – существуют Пейотовые Культы и Культы Баннистерии, Гашишные Культы и Грибные – «Священные Грибы Мексики позволяют человеку увидеть Господа» – но никто никогда не предлагал считать священным мусор. Опиумных культов нет. Опиум штука мирская и количественная как деньги. Я слышал что был некогда в Индии благотворный и не образующий привычки наркотик. Он назывался сома и изображался в виде прекрасного голубого прилива. Если сома и существовала то был там обязательно и Сбытчик разливавший ее по пузырькам и монополизировавший ее и продававший ее и превративший ее в обычный стародавний МУСОР.
Мусор – идеальный продукт… предельный товар. Не нужны никакие торговые переговоры. Клиент приползет даже по канализационной трубе и будет умолять продать… Торговец мусором не продает свой продукт потребителю, он продает потребителя своему продукту. Он не приукрашивает и не упрощает товар. Он принижает и упрощает клиента. Он платит мусором своим сотрудникам.
Мусор выводит основную формулу «злого» вируса: Алгебру Потребности. Лик «зла» – всегда лицо тотальной нужды. Конченный торчок – человек тотально нуждающийся в ширке. Преодолев определенную частоту потребность не знает абсолютно никаких границ или контроля. По выражению тотальной потребности: «А сам-то стал бы?» Да сам-то стал. Стал бы врать, накалывать, стучать на друзей, воровать, все что угодно делать лишь бы удовлетворить тотальную потребность. Ибо иначе бы ты оказался в состоянии тотальной болезни, тотального обладания, не в том положении чтобы поступать как-то иначе. Глухие торчки – больные люди не умеющие поступать по-другому. Бешеная собака не выбирает – она кусает. Напускное ханженство ничего не значит для конечной цели если только эта цель – не поддерживать активность мусорного вируса. А мусор – это большая индустрия. Помню разговаривал я с одним американцем работавшим в Комиссии по Афтозе в Мексике. Шестьсот в месяц плюс представительские.
«И сколько еще продлится эпидемия?» – полюбопытствовал я.
«Столько, на сколько мы сможем ее поддержать… Ну и… может потом афтоза вспыхнет в Южной Америке,» – мечтательно протянул он.
Если вы желаете изменить или уничтожить пирамиду чисел упорядоченных по отношению друг к другу вы изменяете или удаляете нижнее число. Если же мы хотим уничтожить пирамиду мусора, мы тоже должны начать с самого дна: с Уличного Наркомана – и хватит донкихотствовать против «шишек» так называемых, все они незамедлительно заменимы. Наркоман на улице которому мусор необходим чтобы жить дальше – вот единственный незаменимый фактор во всем мусорном уравнении. Когда не останется больше наркоманов чтобы покупать мусор не будет и торговли мусором. Сколько будет существовать потребность в мусоре, обязательно будет и тот кто станет ее обслуживать.
Наркоманов можно излечить или изолировать – то есть, посадить на рацион морфия под минимальным надзором как носителей тифа. Когда это будет сделано, мусорные пирамиды мира рухнут. Насколько мне известно, Англия – единственная страна применяющая этот метод к проблеме мусора. В Великобритании около пяти сотен наркоманов пребывают в карантине. Через одно поколение когда изолированные наркоманы вымрут, и откроют болеутоляющие средства действующие на внемусорной основе, вирус мусора превратится в некую оспу, в закрытую главу – станет медицинским курьезом.
Уже существует вакцина способная низвести вирус мусора до уровня замкнутого в себе существования в прошлом. Это – Лечение Апоморфином открытое английским врачом чье имя я должен утаить в ожидании разрешения огласки и цитирования из его книги охватывающей тридцатилетний опыт апоморфиновой терапии наркоманов и алкоголиков. Соединение апоморфина образуется путем кипячения морфия с соляной кислотой. Его обнаружили за много лет до того как начали употреблять для лечении наркоманов. Многие годы апоморфином не имеющим наркотических или болеутоляющих свойств пользовались исключительно как рвотным средством при случаях отравления. Он воздействует непосредственно на рвотный центр затылочных долей мозга.
Я обнаружил эту вакцину в конце своей мусорной карьеры. Я жил в комнатке посреди Туземного Квартала Танжера. Уже год я не принимал ванну и не менял одежду – и даже не снимал ее если не считать того что каждый час втыкал иглу в волокнистую серую одеревеневшую плоть предельной наркомании. Я никогда не убирался в комнате и не вытирал пыль. Коробки с пустыми ампулами и всякий мусор громоздились до самого потолка. Свет и вода давно отключены за неуплату. Я абсолютно ничего не делал. Я мог смотреть на носок своего ботинка по восемь часов кряду. Меня подвигало к действию только когда склянка с мусором истощалась. Если в гости заходил какой-нибудь приятель – а заходили они редко поскольку к кому или к чему осталось заходить – я сидел безучастный к тому что он попал в мое поле зрения – на серый экран становившийся все мутнее и слабее – и не обращал внимания когда он из него выходил. Если б он умер прямо у меня на глазах я бы продолжал сидеть уставясь на ботинок ожидая случая обшарить его карманы. А вы разве не стали бы ждать? Поскольку мне вечно не хватало мусора – никому его не хватает. Тридцать гранов морфия в день и все равно не достаточно. И долгие ожидания перед аптекой. Задержка – правило в мусорном бизнесе. Человек никогда не приходит вовремя. Это не случайно. В мире мусора случайностей нет. Наркомана учат снова и снова что именно произойдет если он не рассчитается за свой рацион мусора. Гони башли, а не то. А моя доза внезапно начала подскакивать все выше и выше. Сорок, шестьдесят гран в день. И все равно мало. И расплатиться я уже не мог.
Я стоял там с последним чеком в руке и понимал что это мой последний чек. Я сел на первый же самолет в Лондон.
Врач объяснил мне что апоморфин воздействует на затылочные доли мозга регулируя метаболизм и нормализуя ток крови таким образом что энзимная система привыкания к наркотику уничтожается за четыре-пять дней. Как только затылочные доли приводятся в норму употребление апоморфина можно прервать и пользоваться им только в случае ремиссии. (Никто не захочет принимать апоморфин оттяга ради. Не зафиксировано ни одного случая подсадки на апоморфин) Я согласился пройти курс лечения и лег в клинику. Первые сутки я буквально обезумевал и бился в паранойе как и многие другие наркоманы в жестком воздержании. Этот бред рассеялся суточным курсом интенсивной апоморфиновой терапии. Врач показал мне схему. Я получал микроскопические количества морфия которыми никак не возможно было объяснить отсутствия у меня более суровых симптомов воздержания вроде судорог ног и спазм желудка, жара и моего собственного особого симптома, Холодного Ожога, чего-то вроде гигантского улья охватывающего все тело и натертого ментолом. У каждого наркомана есть свои личные симптомы взламывающие любой контроль. В уравнении воздержания недоставало одного фактора – этим фактором мог быть только апоморфин.
Я видел что апоморфиновая терапия в самом деле работает. Через восемь дней я покинул клинику – ел и спал я нормально. Я соскочил с мусора на два полных года – рекорд за двенадцать лет. Рецидив правда произошел на несколько месяцев в результате боли и недомогания. Еще один курс лечения апоморфином не давал мне сесть на мусор пока я писал эту книгу.
Апоморфиновое лечение качественно отличается от других методов. Я перепробовал их все. Краткосрочное снижение дозы, медленное снижение дозы, кортизон, антигистамины, транквилизаторы, лечение сном, толсерол, резерпин. Ни одно из этих средств не действовало когда предоставлялась первая же возможность ремиссии. Могу сказать определенно что я не излечился метаболически до тех пор пока не прошел апоморфиновую терапию. Ошеломляющие данные Лексингтонской Наркологической Клиники по рецидивам привели многих врачей к утверждению, что наркомания неизлечима. В Лексингтоне пользуются долофиновой методикой снижения дозы и насколько мне известно никогда не пробовали апоморфин. Фактически, этим методом лечения в значительной мере пренебрегали. Не проводилось никаких исследований ни с вариациями апоморфиновой формулы, ни с ее синтетиками. Вне всякого сомнения, могли бы получить вещества в пятьдесят раз сильнее апоморфина, и побочный эффект рвоты мог бы быть устранен.
Апоморфин – метаболический и психический регулятор, употребление которого можно прервать, как только он сделает свою работу. Мир затоплен успокоительными и возбуждающими средствами в то время как этот уникальный регулятор не получает должного внимания. Ни одна крупная фармацевтическая компания не проводила никаких исследований. Я предполагаю что изучение вариаций апоморфина и процесса его синтеза откроет новые медицинские горизонты, уходящие далеко за пределы проблемы наркомании.
Вакцинации оспы противостояла крикливая полоумная группа анти-вакцинистов. Без сомнения, заинтересованные или неуравновешенные лица поднимут вопль протеста, когда из-под них выдернут вирус мусора. Мусор – большой бизнес, в нем всегда найдутся и придурки, и манипуляторы. Им не следует позволять вмешиваться в сущностно важную работу по инокуляционной терапии и карантинированию. Мусорный вирус – проблема здоровья общества номер один в сегодняшнем мире.
Поскольку Нагой Обед рассматривает эту проблему здравоохранения, он, по необходимости, груб, непристоен и отвратителен. Болезнь зачастую состоит из отталкивающих подробностей не для слабых желудков.
Определенные эпизоды книги, названные порнографическими, были написаны как памфлет против Смертной Казни в манере Скромного Предложения Джонатана Свифта. Эти части намеренно обнажают смертную казнь как непристойный, варварский и омерзительный анахронизм, коим она и является. Как и всегда, обед наг. Если цивилизованные страны желают вернуться к Друидическим Обрядам Повешения в Священной Роще или к тому, чтобы пить кровь вместе с Ацтеками и кормить их Богов кровью человеческих жертв, то пускай увидят, что же на самом деле они едят и пьют. Пусть увидят, что лежит на кончике этой длинной газетной ложки.
Я уже почти закончил продолжение Нагого Обеда. Математическое расширение Алгебры Потребности за пределы мусорного вируса. Поскольку существует множество форм наркотической зависимости, я считаю, все они подчиняются основным законам. Как сказал Гейдерберг: «Возможно, это и не самая лучшая из всех возможных вселенных, но она очень даже может оказаться одной из простейших». Если человек сможет увидеть.
Постскриптум… А сами-то?
А говоря Лично и если человек говорит как-то по-другому, то мы с таким же успехом можем начать поиски его Протоплазменного Папашки или Мамы-Клетки… Я Не Желаю Больше Слышать Этого Остохреневшего Мусорного Базара и Мусорных Приколов… Те же самые вещи произносятся миллион раз и даже больше, и нет смысла ничего говорить, поскольку в мире мусора НИЧЕГО Никогда Не Происходит.
Единственное оправдание этого опостылевшего смертного пути – ОТКАЗ когда мусорный контур перекрывается за неуплату и клемент подыхает от нехватки мусора и передозировки временем а Парниша и думать забыл о финтах своих упрощая путь под мусорные покровы как обычно и случается с такими парнишами… Ускоряется состояние тотального обнажения, когда Пыжику-Отказнику ничего не остается делать кроме как видеть нюхать и слушать… Берегись автомобилей…
Ясно что мусор – Маршрут-Вокруг-Света-Подталкивая-Шарик-Опия-Собственным-Носом. Только для Скарабеев – спотыкающихся бродяг мусорных доходяг. А значит подлежащих свалу на свалку. Осточертело их везде видеть.
Торчки вечно сетуют на Холод, как они его называют, поднимая воротники черных пальто и хватаясь за свои увядшие шеи… чистейший мусорный розыгрыш. Торчку незачем согреваться, ему хочется быть Прохладным-Холоднее-ЗАМЕРЗШИМ. Но Холода ему хочется так же, как и Мусора Своего – НЕ СНАРУЖИ где он ему ни к чему, а ВНУТРИ чтоб можно было рассиживать с позвоночником точно замороженный гидравлический домкрат… его обмен веществ приближается к Абсолютному НУЛЮ. ЗАШИРЕННЫЕ пыжики зачастую ходят по два месяца не испражняясь и зарабатывают себе заворот кишок – А сами-то что? – Требующие вмешательства машинки для удаления яблочных сердцевин или ее хирургического эквивалента… Такова жизнь в Старом Ледяном Доме. К чему дергаться и тратить ВРЕМЯ?
Внутри Еще Одно Место, Сэр.
Некоторые сущности оттягиваются по термодинамике. Они изобрели термодинамику… А сами вы разве не стали бы?
А некоторые из нас Оттягиваются Иначе и это ясно как божий день как мне нравится видеть то что я ем и наоборот mutatis mutandis в зависимости от обстоятельств. Столовая Нагого Обеда Билла… Подходите… Полезно для старых и малых, людей и зверей. Ничего лучше чем немножко змеиной шарлатанской панацеи подмазать колеса и пуститься в путь с балаганом Джек. На чьей ты стороне? Дзен-Мороженого Гидравлика? Или хочешь осмотреться что к чему вместе с Честным Биллом?
Вот значит в чем Проблема Мирового Здравоохранения о которой я говорил еще в Статье. Перспектива Открывающаяся Нам Друзья МОИ. Что это я слышу – какое-то бормотание про персональную бритву и некоего халявного жоха известного тем что изобрел Банкноту? А сами-то? Бритва принадлежала человеку по фамилии Оккам и он отнюдь не коллекционировал шрамы. Людвиг Витгенштейн Tractatus Logico-Philosophicus: «Если предложение НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО оно БЕССМЫСЛЕННО и приближается к ЗНАЧЕНИЮ НУЛЯ».
«А что может быть НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЕЕ мусора если он Вам Не Нужен?»
Ответ: «Наркоты, если вы сами не сидите НА МУСОРЕ».
Скажу вам так парни, я слышал какой-то навязший в зубах базар но ни одной другой ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ и приблизиться не удалось к этой старой термодинамической мусорной От-ТАСКЕ. Теперь ваш героиновый драпарник едва ли вообще что-то говорит и это я еще могу стерпеть. Ваш «Шаровой» же более активен поскольку у него по-прежнему есть шалаш и лампа… а может и 7-9-10 залегшие там как рептилии в спячке поддерживая температуру на Разговорном Уровне: Как опустились остальные торчки «в то время как Мы – У НАС есть этот шалаш и эта лампа и вот этот шалаш и эта лампа и этот шалаш и у нас тут славно и тепло тут славно и тепло славно и ТУТ У НАС и славно а СНАРУЖИ ХОЛОДНО… ХОЛОДНО СНАРУЖИ где эти глотари шлака и ширевые и двух лет не протянут и даже полгода вряд ли продержатся доходяги пошиб в них не тот… А МЫ СИДИМ ТУТ и ДОЗУ никогда не наращиваем… никогда-никогда не наращиваем дозу никогда вот только СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ сегодня ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ а все эти глотари нифельные и игловые там снаружи на холоде… И мы никогда не глотаем никогда никогда никогда не глотаем… Прошу прощения я пока отлучусь к Источнику Живительных капель они у всех в карманах имеются и опиумные пульки засунутые в жопу в гондоне с Фамильными Драгоценностями и прочей сранью.
Внутри есть место еще для одного, Сэр.
Что ж раз эта запись заводится снова миллиардный световой год и пленка никогда не меняется мы не-торчки принимаем решительные меры и мужики отделяются от юных Торчков.
Единственный способ защитить себя от этой кошмарной опасности – перейти СЮДА и завалиться с Харибдой… Нормально будет к тебе относиться пацан… Конфетки с сигаретками.
Я пятнадцать лет в этом шалаше. Вошел-вышел вошел-вышел вошел-ВЫШЕЛ. Вышел и Баста. Поэтому послушайте Старого Дядюшку Билла Берроуза который изобрел Регулирующую Примочку к Счетной Машине Берроуза на Принципе Гидравлического Домкрата как бы вы ни дергали за ручку результат один и тот же для данных координат. С ранних лет учился… а сами-то?
Дурцефалы Всех Стран Соединяйтесь. Нам нечего терять кроме Своих Сбытчиков. А ОНИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
Опустите глаза ВЗГЛЯНИТЕ ВНИЗ вдоль этой мусорной трассы прежде чем пойти по ней и затусоваться с Гнилой Урлой…
Умнику совет не помешает.
– Уильям С. Берроуз
МЫСЛИ ВДОГОНКУ ПИСЬМЕННОМУ ПОКАЗАНИЮ
Когда я говорю, что не помню как написал Нагой Обед, это, разумеется, преувеличение, и не следует забывать, что у памяти есть различные области. Мусор – болеутоляющее средство, он убивает также и боль, и удовольствие, внутренне присущие осознанию. В то время, как фактическая память наркомана может быть довольно точна и обширна, его эмоциональная память может оказаться скудна и, как в случае с тяжелой формой пристрастия, приближаться к аффективному нулю.
Когда я говорю: «вирус мусора представляет сегодня проблему здравоохранения номер один в мире», я имею в виду не только действительные болезнетворные воздействия опиатов на здоровье индивида (которые при контролируемой дозировке могут быть минимальны), а и истерию, которую зачастую употребление наркотиков разжигает в группах населения, уже подготовленных средствами массовой информации и службами по борьбе с наркотиками к истерической реакции.
Проблема мусора в ее теперешнем виде началась с принятия Соединенными Штатами в 1914 году Акта Гаррисона О Наркотиках. Антинаркотическая истерия распространилась сейчас по всему миру и представляет собой смертельную угрозу для личных свобод и должной защиты закона где бы то ни было.
– Уильям С. Берроуз
Октябрь 1991
Чувствую стремнина крутеет, вон они там задрыгались, готовят серики свои дьявольские для стукачиков своих, замурлыкали над ложечкой и пипеткой что я скинул на станции Вашингтон-Сквер, перемахиваю через турникет и два пролета вниз по железной лестнице, еле успеваю на поезд А на окраину… Молодой, смазливый, стриженный ежиком фрукт типа рекламного спеца с престижным универом за плечами, придерживает мне дверь. Очевидно, я отвечаю его представлениям о народном характере. Знаете таких субъектов что вечно подтусовываются с барменами и таксистами, рассуждая о хуках справа и Доджерах и запанибрата с продавцом из Недика. Жопа с ручкой, в общем. Как раз в этот момент тот душман в белом пыльнике (только представьте себе – следить за кем-нибудь в белом пыльнике, за педака проканать пытаясь, я полагаю) вылетает на платформу. Я уже представляю себе, каким тоном он говорит, держа мою аптеку в левой руке, а правой мацая пушку: «Мне кажется, вы что-то уронили, приятель».
Но подземка уже поехала.
«Пока, топтун!» ору я, радуя сердце фрукта дешевым понтом. Заглядываю фрукту в глаза, подсекаю белые зубы, флоридский загар, вискозный костюмчик с лоском за двести долларов, застегнутую наглухо рубашечку от Братьев Брукс и Ньюс под мышкой для реквизита. «А я читаю только Малыша Абнера.»
Квадрат желает схилять за хипа… Лепечет что-то про «план», покуривает сам время от времени, в доме держит небольшую заначку – угощать угорелых из Голливуда.
«Спасибо, пацан,» отвечаю я, «я уже вижу, что ты наш.» Его лицо расцветает как игральный автомат – глупо, розово.
«Закозлил он меня, точно,» угрюмо продолжаю я. (Примечание: Закозлить на жаргоне английских воров означает донести) Я придвинулся поближе и уцепился своими липкими от пластилина пальцами за его вискозный рукав. «А мы с тобой кровные братья по грязной игле. Могу тебе по секрету сказать, ему горячая шпиганка светит. (Примечание: Это колпачок ядовитого ширева, который толкают наркоману, если его надо устранить. Часто дается стукачам. Обычно горячее ширево – это стрихнин, поскольку на вкус и на вид похож на шмаль)
«Видел когда-нибудь, как горячее ширево торкает, пацан? Я видел, как его Кандыба схавал в Фильке. Мы ему в комнату поставили зеркало одностороннее и посадили хозяина наблюдать с другой стороны. Он даже иголку из вены вытащить не успел. Обычное дело, если шмаль нормальная. Их так и находят потом – в машинке полно сгустков крови, сама в посиневшей руке торчит. И в глазах взгляд такой, когда его шарахает – цимес просто, Пацан, доложу я тебе…
«Помнишь, ездил я с Линчевателем, лучшим Ломщиком в нашем деле. Ну, в Чи еще… Раскручиваем мы это педиков в Линкольн-Парке. И вот однажды вечером Линчеватель заявляется на работу в ковбойских сапогах и черной жилетке с офигенной бляхой а через плечо еще и лассо болтается.
«Я ему грю: «Чего это с тобой? Уже с дуба рухнул?»
«А он на меня смотрит и отвечает: «Грабли не топырь, незнакомец» и выуживает старый ржавый шестизарядник и тут я задаю деру через весь Линкольн-Парк, а вокруг только пули рассекают. Он же успел троих пидаров вздернуть, пока его менты не повязали. Я в смысле, что Линчеватель свою кликуху правильно заслужил…
«Замечал когда-нибудь, сколько выражение передается от голубых к зэкам? Типа «ломись», как бы давая понять, что вы с ним в одной телеге?
«"Впендюрь ей!»
«"Ломи Дурцефала, он уже вон пассажира готовит!»
«Что-то Бобер слишком быстро письку на него раскатал.»
«Как Сапожник (он это погоняло заработал разводя фетишистов в обувных магазинах) говорит: «Дай лоху конского возбудителя, и он еще за добавкой приползет». А когда Сапожник видит лоха, он неровно дышать начинает. Харя у него вспухает вся, и губы лиловеют, как у эскимоса в жару. Затем он медленно так, не спеша, надвигается на этого лоха, прощупывает его, пальпирует пальчиками гнилой эктоплазмы.
«У Бажбана подкупающая внешность маленького мальчика, ребенок сквозь него прямо просвечивает синей неонкой. Зашел такой прямо с обложки Сэтердей Ивнинг Пост вместе с кучкой других остолопов и заформалинился в мусоре. Лохи у него никогда не гундят а Жоржики на цырлах иглу за ним таскают. Как-то Синюшный Мальчонка начал съезжать, и наружу такое выползло, что даже санитара со скорой бы вырвало. Бажбан под конец включается, начинает бегать по пустым кафетериям и станциям метро и вопить: «Вернись, пацан! Вернись!!» и кидается вслед за ним прямо в Ист-Ривер, под воду сквозь презера и апельсиновые шкурки, сквозь мозаику плавающих газет, в саму молчаливую черную жижу, к гангстерам, закатанным в бетон, и к пистолетам, расплющенным так, чтобы избежать пронырливых пальчиков любопытствующих экспертов по баллистике.»
А фрукт мой думает себе: «Вот это тип! То-то расскажу о нем парням в Кларке.» Он коллекционирует народные характеры, замереть готов, если Джо Гулд ему чайку покажет. Поэтому вешаю я ему на уши, типа крутой, и сбиваю стрелку, продать немного «плана», как он его называет, думая про себя: «Загоню-ка я придурку кошачьей мяты.» (Примечание: Кошачья мята пахнет как марихуана, когда горит. Часто втуляется неосторожным или неопытным)
«Ну ладно,» сказал я, постукивая пальцем себе по запястью, «долг зовет. Как сказал один судья другому: «Будь справедлив, а если не можешь, то суди от фонаря».»
Залетаю я в кафетерий, а там Билл Гэйнз съежился в паленом пальтугане в углу, будто полупарализованный банкир в 1910 году, и Старина Барт, потасканный и неприметный, ломает фунтовый кекс грязными пальцами, лоснящимися от пластилина.
У меня на окраине были клиенты, о которых заботился Билл, да и Барт знал нескольких реликтов еще со времен гаяновых раскурок, призрачных дворников, серых как пепел, привратников-привидений, выметающих пыльные вестибюли медленной старческой рукой, кашляя и сплевывая поминутно в предрассветном отходняке, вышедших на пенсию барыг-астматиков в театральных отелях, Пантопонную Розу, пожилую мадам из Пеории, стоических официантов-китайцев, по которым никогда не видно, есть у них долбата или нет. Барт выискивал их, прогуливаясь своей старой торчковой походкой, терпеливо, осторожно и медленно, ронял им в обескровленные ладони несколько часов тепла.
Однажды прикола ради я сходил с ним на один такой обход. Знаете, как старики уже теряют всякий стыд по части еды, и когда смотришь на них, тошнит? Со старыми торчками точно так же насчет мусора. Они лепечут и повизгивают при виде его. Слюна висит у них с подбородков, в животе урчит и все нутро у них скрежещет в перистальтике, пока они лизнуть собираются, растворяя пристойную кожу своего тела, так и ждешь, что в любой момент сейчас огромный пузырь протоплазмы вырвется из них на поверхность и всосет в себя мусор. Отвратительное зрелище в натуре.
«Что ж, мои мальчишечки тоже такими когда-нибудь станут,» подумал я философски. «Странная штука жизнь, а?»
И вот, значит, обратно в центр, к станции Шеридан-Сквер, на тот случай если душман еще рыщет по подсобкам.
Я говорил, что это ненадолго. Я знал, что они там свои макли плетут и злую ментовскую порчу наводят, подкидывая мне моргалки в Ливенворте. «Бесполезно его на иглу подсаживать, Майк.»
Я слышал, что они замели Чапина на колесах. Этот старый евнух обесхуевший просто сидел в подвале участка, пичкая его сериками денно и нощно, год за годом. А когда Чапин кинулся в петлю в Коннектикуте, этого старого акуса находят со свернутой шеей.
«С лестницы упал,» говорят. Знаете эту вечную ментовскую баланду.
Мусор весь окружен чарами и табу, заговорами и амулетами. Я мог отыскать своего связного в Мехико как по радару. «Не на этой улице, на следующей, направо… теперь налево. Теперь опять направо,» а вот и он, беззубое старушечье лицо и вымаранные глаза.
Я знаю, что этот старый сбытчик ходит везде и мычит себе под нос песенку, и все, мимо кого он проходит, подхватывают. Он так сер и призрачен, что они его не замечают и думают, что песенка у них сама в мозгах мычится. Так клиенты и подсаживаются на Улыбки, или на Я Настроен Любить, или на Говорят, Мы Слишком Молоды, Чтобы Ходить Вместе Долго, или на то, что у него сегодня в программе. Иногда можно увидеть, к примеру, полсотни крысячьего вида пыжиков, до визга оприходованных, бегущих гурьбой за парнишкой с губной гармошкой, и сидит Чувак на плетеном стульчике, хлеб лебедям кидает, жирный травестит прогуливает свою афганскую борзую по Восточным Пятидесятым, старый алкаш ссыт на Эль столбо, радикал из студентов-еврейчиков раздает листовки на Вашингтон-Сквер, садовник стрижет кусты, дезинсектор, рекламный фрукт в Недике, что запанибрата с продавцом. Всемирная сеть торчков, настроенная на пуповину протухшей молофьи, перетягивающаяся в меблирашках, дрожащая в предутренних ломках. (Старые Медвежатники сосут черный дым в подсобке Китайской прачечной, а Меланхоличная Малышка подыхает от передоза временем или отвыкши дышать в долбате) В Йемене, Париже, Новом Орлеане, Мехико и Стамбуле – дрожа под отбойными молотками и паровыми экскаваторами, по-торчковому визгливо драконя друг друга на чем свет стоит, никто из нас ничего подобного прежде не слыхал, а Чувак высунулся из проезжающего парового катка, и я грюкнулся в ведерко гудрона. (Примечание: Стамбул сейчас сносят и отстраивают заново, особенно ветхие торчковые кварталы. В Стамбуле больше героиновых героев, чем в Нью-Йорке) Живые и мертвые, в тоске или откидоне, подсевшие или спрыгнувшие, или подсевшие снова, заходят они на лучик мусора, а Связник жует Чоп-Суи на Долорес-Стрит, пеленг Мехико, макая пальцами фунтовый кекс в кафетерии самообслуживания, загнанный сюда с толкучки с цепи сорвавшейся сворой Людей. (Примечание: Люди на новорлеанском жаргоне значит душманы)
Старый Китаец зачерпывает речной воды в ржавую консервную банку и промывает сифилис тяги, плотный и черный как шлак. (Примечание: Сифилис тяги – это пепел скуренного опия)
Ладно, у душманов остались моя ложка с пипеткой, и я знаю, что они выходят на мою частоту по наводке этого слепого стукача, известного под именем Вилли-Диск. У Вилли круглый рот, похожий на диск, обрамленный чувствительной, постоянно встающей черной волосней. Он ослеп, ширяясь в глазное яблоко, нос и нчбо у него изъедены от вдыхания гаррика, а тело – сплошная зарубцевавшаяся масса, тердая и сухая как дерево. Говно жрать он может теперь только этим своим ртом, иногда тот покачивается на конце длинной трубки эктоплазмы, нащупывающей эту неслышную частоту мусора. Он идет за мной по следу через весь город в номера, из которых я уже выехал, и душманы наезжают на каких-то новобрачных из Сиу-Фоллз.
«Ладно, Ли! Выходи из-за занавески! Мы знаем, что ты там» – и тотчас выдергивают у парня член.
И вот Вилли припекает, и ты всегда слышишь в темноте его (он функционирует только в темноте) скулеж и чувствуешь ужасающую настырность этого слепого, ищущего рта. Когда они уже подтягиваются кого-то брать, Вилли совершенно выходит из-под контроля и ртом проедает дырку прямо в двери. Если менты не успеют утихомирить его разрядником для скота, он готов высосать все соки из каждого наркоши, которого вложил.
И я сам знал, и все остальные знали, что они спустили на меня Диска. И если мои пацаны-клиенты когда-нибудь расколются в суде: «Он заставлял меня совершать всякие ужасные половые акты в обмен на мусор,» – я могу навсегда расцеловаться с топталовкой.
Поэтому мы затариваемся гарриком, покупаем подержанный студебеккер и отчаливаем на Запад.
Линчеватель закосил под шизу, одержимого бесами: «Я стоял вне себя, пытаясь остановить призрачными пальцами эти повешения… Я дух, желающий того же, чего хотят все духи – тела – после того как Долгое Время перемещался по ничем не пахнущим переулкам пространства где никакой жизни нет только бесцветная никакого запаха смерти… Никто не в состоянии дышать и чуять ее запах сквозь розовые спирали хрящей окаймленных кристальными соплями, говном времени и плотскими фильтрами черной крови как кружевом.»
Он стоял там в продолговатой тени зала суда, все лицо изодрано будто изломанная пленка похотями и голодами личиночных органов копошащихся в предполагаемой эктоплазменной плоти мусорного оттяга (десять дней на инее во время Первого Слушания) плоти блекнущей при первом молчаливом касании мусора.
Я видел как это произошло. Десять фунтов скинуто за десять минут стоя со шприцем в одной руке поддерживая штаны другой, его отрекшаяся плоть пылает холодным желтым нимбом, именно там в нью-йоркском гостиничном номере… ночная тумбочка замусорена конфетными коробками, окурками сигарет, каскадом сыплющихся из трех пепельниц, мозаика бессонных ночей и внезапных приступов голода у торчка в тасках лелеющего свою младенческую плоть…
Линчевателя судит Федеральный Суд по обвинению в самосуде Линча и он оказывается в Федеральном Дурдоме специально приспособленном к содержанию духов: точное, прозаичное воздействие объектов… умывальник… дверь… параша… решетки… вот они… вот оно… все связи обрезаны… снаружи ничего… Мертвый Тупик… И Мертвый Тупик в каждом лице…
Физические перемены сначала были медленны, затем поскакали вперед черными толчками, проваливаясь сквозь его вялую ткань, смывая человеческие черты… В его месте вечной тьмы рот и глаза – это один орган бросающийся щелкая прозрачными зубами… но ни один орган не постоянен в том что касается либо его функции либо его положения… половые органы дают побеги где угодно… задние проходы открываются, испражняются и закрываются снова… весь организм целиком изменяет цвет и консистенцию за какие-то доли секунды…
Бажбан – угроза обществу из-за своих приступов, как он их называет. К нему подступал Лох Внутри а это шарманка которую никто не может остановить; под Филькой он выскакивает из машины отмазать нас у блондинки и легавым одного взгляда на его рожу хватило чтобы замести всех нас.
Семьдесят два часа и пятеро клементов в кумаре с нами в стойле. Теперь не желая разлатывать свою заначку перед этими голодными чушпанами, приходится поманеврировать и дать сламу на фараона прежде чем оттырить себе отдельную морилу.
Запасливые торчки, иначе белочки, хранят курки против любого шмона. Ширяясь всякий раз, несколько капель я намеренно роняю в жилетный кармашек, подкладка вся уже заскорузла от ширева. Пластиковая пипетка хранилась у меня в башмаке, английская булавка вколота в ремень. Знаете, как описывают эти прибамбасы с пипеткой и булавкой: «Она схватила безопасную булавку, всю ржавую от запекшейся крови, выдолбила здоровенную дырку у себя в ноге, как бы раззявившуюся непристойным, гноящимся хавлом ожидающим невыразимого совокупления с пипеткой, уже засунутой ею прочь с глаз в зияющую рану. Но ее отвратительная гальванизированная нужда (голод насекомых в пересохших местах) обломила пипетку во глубине плоти ее изуродованного бедра (похожего скорее на плакат об опасности эрозии почв). Но какая ей разница? Она даже не побеспокоилась вынуть осколки, глядя глядя на свою окровавленную ляжку холодными пустыми глазами торговки мясом. Какое ей дело до атомной бомбы, до вольтанутых клопов, до злокачественной квартплаты, Дружелюбная Касса уже готова изъять ее просроченную плоть… Сладких снов тебе, Пантопонная Роза.»
В реальной же сцене вы щипком захватываете немного мякоти ноги и быстро пронзаете ее булавкой. Затем прилаживаете пипетку над отверстием, а не в нем, и медленно и осторожно подаете раствор, чтобы не брызнуло за края… Когда я схватил Бажбана за бедро плоть подалась под пальцами как воск да так и осталась, и медленная капелька гноя просочилась из дырочки. А я никогда не дотрагивался до живого тела, такого холодного, как у Бажбана тогда в Фильке…
Я решил обломить его если даже это значило спертую пьянку. (Это такой английский деревенский обычай, когда нужно устранить престарелых и прикованных к постели иждивенцев. Семья, подверженная такого рода несчастью, устраивает «спертую пьянку», когда гости заваливают матрасами старую обузу, сами забираются сверху и надираются вусмерть) Бажбан – мертвый груз нашего дела и должен быть выведен в трущобы мира. (Это африканский ритуал. В обязанности того, кого официально называют «Проводником», входит выводить всяких старперов в джунгли и там бросать)
Приступы Бажбана становятся привычным состоянием. Фараоны, швейцары, собаки и секретарши рычат при его приближении. Светлокудрый Бог пал до неприкасаемой мерзопакостности. Жохи не меняются, они ломаются, раскалываются вдребезги – взрывы материи в холодном межзвездном пространстве, дрейфуют в разные стороны в космической пыли, оставляют за собою пустое тело. Фармазоны всего мира, одного Лоха вам никогда не выставить: Лоха Внутри…
Я оставил Бажбана на углу, краснокирпичные развалюхи до небес, под нескончаемым дождем копоти. «Схожу наеду на одного знакомого лепилу. Сразу вернусь с хорошей чистой аптечной Мурой… Нет, ты здесь постой – не хочу, чтоб он еще и на тебя кулак подносил.» Сколь долго бы это ни было, Бажбан, дожидайся меня вот на этом самом углу. Прощай, Бажбан, прощай, парниша… Куда они деваются, когда выходят из себя и оставляют тело позади?
Чикаго: невидимая иерархия выпотрошенных итальяшек, вонь атрофировавшихся гангстеров, привидение, по которому земелька плачет, сбивает вас на углу Северной и Хэлстеда, Цицерон, Линкольн-Парк, попрошайка снов, прошлое вторгается в настоящее, прогорклое очарование одноруких бандитов и придорожных буфетов.
Во Внутрь: обширнейший подотдел внутренних дел, антенны телевидения уперты в бессмысленное небо. В жизнеупорных домах цацкаются с молодняком, впитывают в себя немного того, что он отвергает. Только молодняк приносит что-то, а молодым он остается недолго. (Сквозь решетки Восточного Сент-Луиса пролегает мертвая граница, дни речных лодок) Иллинойс и Миссури, миазм кучеройных народов, низкопоклонствующих в обожествлении Источника Пищи, жестокие и уродливые празднества, тупиковый ужас Многоногого Бога простирается от Кучевилля до лунных пустынь перуанского побережья.
Америка – не юная страна: она была стара, грязна и зла еще до первопоселенцев, до индейцев. Зло затаилось там в ожидании.
И вечно легавые: уравновешенные и ловкие наймиты полиции штата с высшим образованием, отрепетированная примирительная скороговорка, электронные глаза просвечивают насквозь вашу машину и вещи, одежду и лицо; оскаленные крючки больших городов, вкрадчивые деревенские шерифы с чем-то черным и угрожающим в старых глазах цвета поношенной серой байковой рубахи…
И вечно засады с машиной: в Сент-Луисе махнули студебеккер 42 года (в нем был встроенный дефект конструкции как и в Бажбане) на старый перегретый лимузин паккард и еле доехали до Канзас-Сити, а там купили форд, который жрал топливо, как выяснилось, отказались от него ради джипа, который слишком гнали (ни к черту они не годятся на шоссе) – и спалили у него что-то внутри, начало греметь и перекатываться, вновь пересели на старенький восьмицилиндровый фордик. Если надо доехать до конца, с этим движком ничего не сравнится, жрет он там горючку или нет.
А тощища США смыкается над нами как никакая другая тоска в мире, хуже, чем в Андах, высокогорные городки, холодный ветер с открыточных пиков, разреженный воздух как смерть в горле, речные города Эквадора, малярия, серая как мусор под черным стетсоном, дробовики, заряжаемые с дула, стервятники роются в грязи посреди улиц – и что вас поражает, стоит сойти с парома в Мальмч (на пароме налога на газ не берут) Швеция вышибает из вас всю эту дешевую, беспошлинную горючку и прямо вытирает об вас ноги: в глаза никто не смотрит и кладбище в самом центре города (каждый город в Швеции, кажется, выстроен вокруг кладбища), и днем совершенно нечего делать, ни бара, ни киношки, и я взорвал свой последний кропаль танжерского чая и сказал: «Килограша, а не пойти ли нам обратно на паром.»
Ничто не сравнится с американской тоской. Ее не видно, никогда не знаете, откуда она подползет. Возьмите, к примеру, какой-нибудь коктейль-бар в конце боковой улицы подотдела – в каждом квартале свой бар, и своя аптека, и рынок, и винная лавка. Заходите, и тут вас шарахает. Но откуда она берется?
Не от бармена, не от посетителей, не из кремовой пластиковой отделки табуретов у стойки, не из тусклой неоновой вывески. Даже не из телевизора.
А наши привычки лепятся этой тоской, как будет лепить вас кокаин, опережая антрацитовый соскок. А мусор уже на исходе. И вот мы здесь в этом безлошадном мухосранске строго на сиропе от кашля. И сблевали мы весь сироп, и поехали дальше и дальше, холодный весенний ветер свистал сквозь эту кучу металлолома вобравшую в себя наши дрожащие и потные кумарные тела ведь вас всегда сваливает простуда когда из тела вытекает мусор… Дальше сквозь шелушащийся пейзаж, дохлые броненосцы на дороге и стервятники над топью и пнями кипарисов. Мотели с фанерными касторовыми стенками, газовой горелкой, тощими розовыми одеялами.
Залетная мазь, гастролеры и шаровики, уже замочили лепил из Техаса…
А на луизианского лепилу никто в здравом уме никогда не наедет. Такой в штате Антимусорный Закон.
Наконец, приехали в Хьюстон, где я знаю одного аптекаря. Я там пять лет не был, а он поднимает взгляд и моментально меня срисовывает, просто кивает и говорит: «Подождите у стойки…»
И вот я сажусь и выпиваю чашечку кофе, и через некоторое время он подходит, садится рядом и спрашивает: «Так что вы хотите?»
«Кварту гатогустрицы и сотню нембиков.»
Тот кивает: «Заходите через полчаса.»
И вот когда я возвращаюсь, он протягивает мне пакет и говорит: «Пятнадцать долларов… Будь осторожнее.»
Двигаться настойкой дурцы – жуткая заруба, сначала надо выжечь алкоголь, затем выморозить камфару и отсосать эту бурую жидкость пипеткой; вмазываться нужно в венярку, иначе схватите абсцесс, куда бы не вмазывали. Самый ништяк – хапнуть ее с дуровыми сериками… Поэтому мы выливаем ее в бутылку из-под Перно и стартуем в Новый Орлеан мимо радужно переливающихся озер и оранжевых всполохов газа, мимо болот и мусорных куч, крокодилов, ползающих по битым бутылкам и консервным банкам, мимо неоновых арабесок мотелей, севшие на мель шмаровозы орут непристойности проезжающим машинам со своих необитаемых островков помоек…
Новый Орлеан – мертвый музей. Мы гуляем по Толкучке, нюхтаря дурцу и сразу же находим Чувака. Мир здесь тесен, и душманы всегда знают, кто банкует, поэтому он прикидывает, какая, к чертям, разница, и толкает кому попало. Мы затариваемся гарриком и отваливаем в Мексику.
Обратно через озеро Чарльз и страну дохлых автоматов, южный конец Техаса, шерифы, чпокающие черномазых, оглядывают нас и проверяют бумаги на машину. Что-то спадает с плеч, стоит пересечь границу в Мексику, и неожиданно пейзаж лупит вас в лицо, и между вами с ним нет ничего, пустыня, горы и стервятники; крохотные пылинки, описывающие круги, а иные – так близко, что слышно, как крылья рассекают воздух (сухой сиплый звук), и когда они что-то замечают, то изливаются стремительно из голубого неба, из этого сокрушительного проклятого голубого неба Мексики, черной воронкой вниз… Ехали всю ночь, на заре очутились в теплом туманном местечке, собаки гавкают и слышно, как льется вода.
«Пиздопропащенск,» сказал я.
«Что?»
«Городок так называется. Уровень моря. Отсюда прямо вверх нам ползти еще десять тысяч футов.» Я лизнул и улегся спать на заднее сиденье. Хорошо она машину водит. Это видно сразу, как только человек садится за руль.
Мехико где Лупита сидит как ацтекская Богиня Земли, скупо выделяя маленькие чеки с паршивым говном.
«Продавать – больше входит в привычку, чем употреблять,» говорит Лупита. У непользующихся кровососов развивается контактная привычка и вот с нее-то уже соскочить нельзя. У агентов она тоже есть. Возьмите Брэдли-Покупателя. Лучший агент по борьбе с наркотиками в своей отрасли. Любой на мусоре его сделает. (Примечание: Сделает в смысле врубится или оценит) То есть он может подрулись к такому пирату и огрести все скопом. Он так анонимен, сер и призрачен, что пират его потом и не вспомнит. Вот он и винтит одного за другим…
Так вот, Покупатель все больше и больше становится похожим на драпарника. Пить он не может. Стоять у него не стоит. Зубы выпадают. (Как беременные женщины теряют зубы, выкармливая постороннего человека, так и торчки теряют свои желтые клыки, выкармливая мартышку) Он все время посасывает леденец. Особенно врубается в Бэби Рутс. «В натуре омерзительно видеть, как Покупатель сосет эти свои леденцы,» свидетельствует один мент.
Покупатель принимает зловещий серо-зеленый оттенок. Факт в том, что его тело само начинает вырабатывать свой собственный мусор или его эквивалент. У Покупателя – постоянный подхват. Чувак Внутри можно сказать. Или он так сам считает. «Вот просто засяду в комнате и все,» говорит он. «Ебать их всех. Со всех сторон квадраты. Я – единственный полноценный в нашей отрасли.»
Но приход нисходит на него великим черным ветром сквозь кости. Поэтому Покупатель выслеживает какого-нибудь молодняка и дает ему чек, чтоб закорешиться.
«О, ладно,» говорит мальчуган. «Так что вы хотите сделать?»
«Я просто хочу потереться об тебя и поймать кайф.»
«Ну… Ну, хорошо… А вы что, физически не можете, как все люди?»
Позже мальчишка сидит в Уолдорфе с двумя коллегами, ломая пальцами фунтовый кекс. «Самое отвратительно в жизни, ради чего я стоял спокойно,» рассказывает он. «Он каким-то образом весь размягчается, как медуза из студня, и так мерзко меня окутывает. Потом весь увлажняется, как будто зеленая слизь выступает. Поэтому я догадываюсь, что у него что-то вроде какого-то жуткого оргазма… У меня чуть крыша не едет от этой зеленой дряни, которой он меня облепил, а воняет он как старая гнилая канталупа.»
«Да все равно на шару и уксус сладок.»
Мальчишка обреченно вздыхает: «Да, наверно ко всему привыкаешь. У меня с ним завтра опять стрелка.»
Покупатель подсаживается так все туже. Подзарядка ему нужна уже каждые полчаса. Иногда он крейсирует по участкам, подмазывая попкарей, чтоб впустили его в стойло к пыжикам. Постепенно он доходит до того, что сколько бы контактов у него ни было, словить приход не получается. И тут он получает повестку от Районного Инспектора:
«Брэдли, вышеповедение дает пищу слухам – и ради вашего же блага я надеюсь, что это не более чем слухи – настолько они отвратительны… Я имею в виду, что супруга Цезаря… хрумп… то есть. Департамент должен быть вне подозрений… определенно, вне тех подозрений, которые вы, кажется, возбуждаете. Вы порочите весь дух нашей отрасли. Мы готовы принять вашу немедленную отставку.»
Покупатель бросается наземь и подползает к Р.И. «Нет, Начальник, нет… Департамент – это вся моя жизнь.»
Он целует руку Р.И., засовывая его пальцы себе в рот. (Р.И. должен чувствовать его беззубые десны), жалуясь, что потерял все зубы «на шлювбе». «Умоляю вас, Начальник. Я буду подтирать вам зад, стирать ваши испачканные гондоны, драить вам ботинки салом с собственного носа…»
«Нет, в самом деле, это отвратительно! У вас что, гордости никакой нет? Должен вам сказать, я испытываю отчетливое омерзение. Я имею в виду, что в вас есть что-то, ну, гнилое, что ли, и несет от вас как от компостной кучи.» Он подносит к лицу надушенный платок. «Я должен просить вас покинуть этот кабинет немедленно.»
«Я все сделаю, Начальник, все что угодно.» Его разоренное зеленое лицо раскалывается в ужасной ухмылке. «Я еще молод, Начальник, и довольно силен, если подкачаю крови.»
Р.И. отрыгивается в носовой платок и указывает на дверь вялой рукой. Покупатель встает и мечтательно смотрит на Р.И. Его тело начинает изгибаться как прутик лозоходца. Он стремительно бросается вперед…
«Нет! Нет!» орет Р.И.
«Шлюп… шлюп шлюп.» Через час Покупателя в отключке находят в кресле Р.И. Сам Р.И. исчез бесследно.
Судья: «Все указывает на то, что вы, неким невыразимым образом э-э… ассимилировали Районного Инспектора. К сожалению, доказательств этому нет. Я бы рекомендовал, чтобы вас изолировали или, точнее, содержали в некоем заведении, но мне не известно ни одно подобное место, соответствовавшее бы человеку вашего калибра. Весьма неохотно я вынужден распорядиться об освобождении вас из-под стражи.»
«Его в аквариум надо поставить,» говорит арестовавший его офицер.
Покупатель наводит ужас на всю отрасль. Исчезают торчки и агенты. Подобно летучей мыши-вампиру, он испускает наркотические миазмы, затхлый зеленый туман, анестезирующий его жертвы и парализующий их до беспомощности в его обволакивающем присутствии. Собрав улов, он заползает на несколько дней в нору, словно насытившийся боа-констриктор. В конце концов, он попадается за перевариванием Коммиссионера По Наркотикам и уничтожается из огнемета – следственная комиссия постановляет, что такие средства оправданы, поскольку Покупатель утратил свое человеческое гражданство и, следовательно, является существом без видовой принадлежности и угрозой наркотической отрасли на всех уровнях.
В Мехико весь трюк в том, чтобы найти местного наркошу с официальной чекухой, по которой им каждый месяц выделяется определенное количество. Нашим Чуваком был Старый Айк, большую часть жизни проведший в штатах.
«Я ездил с Айрин Келли, рисковая баба была. В Бьютте, штат Монтанья, ее от кокса жутики взяли, и она забегала по всей гостинице с воплями, что китайские литера за ней с мясницкими тесаками гоняются. Я знал одного тихаря в Чикаго, тоже марафет во всю втыкал, так он кайф от кристалликов ловил, голубеньких таких. И вот, значит, у него чердак однажды слетает и он начинает орать, что на него Федералы охотятся, несется по этому переулку и голову в мусорный бак засовывает. А я говорю: «И что же это, по-твоему, ты делаешь?» а он отвечает: «Пошел вон, а не то пристрелю. Я спрятался лучше некуда."»
Тут мы получаем немного кикера по чекухе. Шпигайся им в главный канал, сынок. По запаху можешь отпределить, как прошел – чистый и холодный запах в носу и горле, а за ним сквозь самый мозг хлынет чистое удовольствие, поджигая все эти снежные связочки. Голова у тебя разлетается снежными взрывами. Через десять минут хочется еще один сеанс сделать… через весь город и пешком пройдешь ради следующего сеанса. Но если на кикс фарта нет, то ты поешь, поспишь и забудешь о нем.
Тяга к нему – только в мозгу, это нужда без чувства и без тела, нужда призрака, по которому земля плачет, тухлая эктоплазма, выметаемая старым ширакетом с кашлем и харчками в утренней долбате.
Однажды утром просыпаешься и хаваешь ускоритель, и чувствуешь, как под кожей мураши побежали. 1890 черноусых фараонов блокируют двери и заглядывают в окна оскалив синие отчеканенные бляхи вместо зубов. Наркуши маршируют по комнате, распевая Мусульманский Похоронный Марш, несут труп Билли Гэйнза, стигматы его ран от струны мерцают мягким голубым пламенем. Целеустремленные детективы-шизофреники обнюхивают твой ночной горшок.
Коксовые жутики… Расслабьтесь, пускай себе мультик крутится, да ширнитесь посильнее беляшкой казенного образца.
День Покойников: На меня напал жор и я слопал сахарную башку моего маленького Вилли. Тот заплакал, и мне пришлось выйти на улицу за новой. Прошел мимо коктейль-бара, где оттаскивали джай-лайного букашку.
В Куэрнавако – или это было в Тэкско? Джейн знакомится со шмаровозом, дующим в тромбон, и испаряется в облаке чайного дыма. Шмаровоз – один из тех артистов, что втухают по вибрациям и диетам, которые служат ему средством унижения женского пола, он насильно заставляет своих кисок глотать все это говно. Он непрерывно развивал свои теории… он устраивал бывало киске экзамен и грозился бросить ее, если она не запомнит всех нюансов его последней атаки на логику и человеческий образ.
«Так, бэби. У меня тут есть чего дать. Но если ты не примешь, я просто больше ничего не смогу сделать.»
Он был ритуальным чайным планкешей и очень пуритански относился к мусору, как к нему обычно относятся некоторые плановые. Он утверждал, что чай позволяет ему соприкоснуться с голубыми гравитационными над-полями. У него были телеги на любой предмет: какое исподнее полезно для здоровья, когда нужно пить воду и как подтирать задницу. Лицо его было красным и блестящим, нос – большим и гладким, с широкими ноздрями, красненькие глазки, зажигавшиеся, когда он смотрел на какую-нибудь биксу, и гасшие, когда он смотрел на что-нибудь другое. Плечи у него были очень широкими и наводили на мысль о каком-то уродстве. Он вел себя так, как будто других мужиков не существовало, передавая распоряжения в ресторане или магазине обслуживавшим его мужчинам через тетку-посредника. И ни один Чувак никогда не вторгался в его запущенное тайное пристанище.
И вот, значит, откладывает он мусор и извлекает чай. Я три раза дергаю, а Джейн посмотрела на него, и вся ее плоть закристаллизовалась. Я подскочил с воплем «Шугань берет!» и выбежал из дому. Выпил пива в ресторанчике – бар с мозаикой, очки футбольных матчей и афиши коррид – и стал дожидаться автобуса в город.
Год спустя в Танжере я услышал, что она умерла.
БЕНВЭЙ
Итак, мне поручено нанять Доктора Бенвэя для оказания услуг Исламу Инк.
Д-ра Бенвэя пригласили советником в Республику Свободию – место, отведенное под свободную любовь и нескончаемое купание. Граждане ее общительны, уживчивы, честны, терпимы и превыше всего прочего чисты. Но вызов Бенвэя свидетельствует, что не все благополучно за этим гигиеничным фасадом: Бенвэй – манипулятор и координатор знаковых систем, специалист по всем фазам допроса, промывки мозгов и контроля. Я не видел Бенвэя со времени его внезапного отъезда из Аннексии, где заданием его была Т.Д. – Тотальная Деморализация. Первым шагом Бенвэя стало упразднение концентрационных лагерей, массовых арестов и, при определенных ограничениях и особых условиях, использования пыток.
«Я сожалею о жестокости,» говорил он. «Она не эффективна. С другой стороны, продолжительное плохое обращение, на грани физического насилия, способствует возникновению, при умелом применении, тревоги и чувства особой вины. Следует иметь в виду несколько правил или, скорее, направляющих принципов. Объект не должен осознавать, что плохое обращение с ним – намеренный штурм его личной целостности античеловеческим неприятелем. Его нужно заставить почувствовать, что он заслуживает любого обращения, которое получает, поскольку с ним что-то (никогда не уточняется, что именно) кошмарно не так. Нагая нужда маньяков контроля должна быть пристойным образом прикрыта произвольной и запутанной бюрократией, с тем чтобы объект не смог вступить с неприятелем в непосредственный контакт.»
От каждого гражданина Аннексии требовалось подавать прошение на постоянное ношение с собой целого портфеля документов. Граждане могли в любое время задерживаться на улице; и Экзаменатор, могущий быть одетым в партикулярное платье, в различную форму, зачастую – в купальный костюм или пижаму, иногда совершенно обнаженный, если не считать бляхи, приколотой к левому соску, по произведении проверки каждого документа проштамповывал их. При последующей инспекции от гражданина требовалось предъявить должным образом внесеные печати последней инспекции. Экзаменатор, при остановке большой группы граждан, проверял и проштамповывал только карточки нескольких избранных лиц. Остальные в таком случае подвергались аресту, поскольку их карточки не были должным образом проштампованы. Арест означал «временное задержание»; иными словами, заключенного отпускали только в том случае, если и когда его Объяснение, Данное Под Присягой, должным образом подписанное и скрепленное печатью, заверялось Помощником Арбитра По Объяснениям. Поскольку это официальное лицо едва ли вообще когда появлялось у себя в кабинете, а Объяснение, Данное Под Присягой следовало представлять лично, объяснители неделями и месяцами ожидали в неотапливаемых помещениях без стульев и услуг туалета.
Документы, выписанные исчезающими чернилами, превращались встарые квитанции из ломбарда. Постоянно требовались все новые и новые документы. Граждане носились из одного бюро в другое в лихорадочных попытках успеть к невозможным срокам.
Из города были убраны все скамьи, отключены все фонтаны, уничтожены все цветы и деревья. Огромные электрические звонки на крыше каждого жилого дома (все проживали в многоквартирных домах) звонили каждые четверть часа. Часто их вибрации выбрасывали людей из постели. Прожекторы шарили по городу всю ночь (никому не позволялось пользоваться навесами, шторами, ставнями или жалюзи).
Никто никогда не смотрел ни на кого другого вследствие закона о докучании, с вербальным домогательством или без оного, кому угодно с какой угодно целью – сексуальной или иной. Все кафе и бары были закрыты. Спиртное могло приобретаться только при наличии особого разрешения, причем приобретенное таким образом спиртное не могло быть продано, отдано или любым иным способом передано другому лицу, и присутствие иного лица в комнате расценивалось как доказательство prima facie заговора с целью передачи спиртного.
Никому не разрешалось запирать дверь, и полиция обладала ключами-вездеходами ко всем комнатам города. В сопровождении менталиста они врываются в чье-либо жилище и начинают «поиски».
Менталист приводит их к тому, что человек желает сокрыть: тюбик вазелина, спринцовку, носовой платок с засохшей спермой, оружие, нелицензионный алкоголь. И подозреваемого всегда подвергали унизительнейшему обыску нагишом, при котором отпускались презрительные и уничижительные замечания. Многих скрытых гомосексуалистов приходилось выносить в смирительных рубашках после того, как в задний проход им подкладывали вазелин. Или придирались к любому предмету. К перочистке или к обувному рожку.
«А каково предназначение вот этого?»
«Это перочистка.»
«Перочистка, говорит.»
«Я уже все понял.»
«Полагаю, этого нам уже хватит. Собирайся, ты.»
Через несколько месяцев вот такого граждане жались по углам словно кошки-невротички.
Разумеется, полиция Аннексии обрабатывала подозреваемых агентов, саботажников и политических уклонистов на конвейерной основе. Что касается допроса подозреваемых, Бенвэй мог сказать следующее:
«Хотя в целом я избегаю применения пыток – пытки выявляют оппонента и мобилизуют сопротивление – угроза применения пыток полезна для вызывания в объекте соответствующего чувства беспомощности и благодарности лицу, ведущему допрос, за их неприменение. Пытки, к тому же, могут выгодно применяться как наказание, когда объект уже достаточно смирился с таким обращением и готов принять наказание как должное. С этой целью я разработал несколько форм дисциплинарной процедуры. Одна известна под названием Коммутатор. В любой момент могут приводиться в действие электрические сверла, подведенные к зубам объекта; а сам он получает инструкции управлять произвольным коммутатором, вставлять определенные вилки в определенные розетки, реагируя на звонки и огоньки. Стоит ему допустить ошибку, как на двадцать секунд включаются сверла. Частота сигналов постепенно увеличивается, превышая его способность к реакции. Полчаса на таком коммутаторе – и объект ломается как перегруженная мыслящая машина.
«Изучение мыслящих машин больше учит нас работе мозга, чем методы интроспекции. Западный человек находит себе внешнее выражение в форме устройств. Когда-нибудь втыкали рассыпуху в венярку? Сразу же дает по мозгам, приводя в действие связки чистого удовольствия. От морфия же кайф во внутренностях. Как ужалитесь, так сразу прислушайтесь к себе. Но кокс – это разряд электричества в мозгу, и тяга к коксу – дело одного лишь мозга, нужда без тела и без чувства. Заряженный коксом мозг – это сбесившийся китайский бильярд, мигающий голубыми и розовыми огнями в электрическом оргазме. Коксовое удовольствие ощущается мыслящей машиной – первое пробуждение отвратительной насекомой жизни. Позывы к коксу длятся лишь несколько часов, ровно столько, сколько стимулируются коксовые каналы. Разумеется, воздействие, равносильное коксовому, может производиться электротоком, активирующим коксовые каналы…
«Поэтому через некоторое время каналы, подобно венам, изнашиваются, и наркоман вынужден искать новые. Вена-то со временем восстановится, и путем искусного чередования вен наркот может уравнять шансы, если не станет прожигателем топлива. Но клетки мозга, исчезнув, не восстанавливаются, и когда у наркомана заканчиваются клетки мозга, он попадает в ужасную хуйню.
«Сидя на корточках на куче старых костей, испражнений и ржавого железа, в белом мареве стрема, до горизонта расстилается панорама нагих идиотов. Полная тишина – их речевые центры уничтожены – если не считать потрескивания искр и хлопков лопающейся плоти, когда к позвоночнику сверху и снизу прикладывают электроды. Белый дымок опаленной плоти висит в неподвижном воздухе. Группа детишек привязала идиота к столбу колючей проволокой, развела у него между ног костер и стоит, смотрит со звериным любопытством, как языки пламени лижут ему ляжки. Его плоть дергается в огне насекомой агонией.
«Как обычно, я отвлекаюсь. За неимением более точного знания об электронике мозга, наркотики остаются сущностно важным инструментом следователя в его атаке на личную целостность объекта. Барбитураты, разумеется, практически бесполезны. То есть, любой, кого можно сломать подобными средствами, не устоит и перед детскими методами, используемыми в американском околотке. Для растворения сопротивления часто бывает эффективен скополамин, но он ослабляет память: агент может быть готов к тому, чтобы выдать свои секреты, но совершенно не в состоянии их вспомнить, либо легенда и информация о тайной жизни могут неразрывно перемешаться. Мескалин, гармалин, ЛСД6, буфотенин, мускарин во многих случаях приносят успех. Бульбокапнин вызывает состояние, близкое к шизофренической кататонии… могут наблюдаться мгновения автоматического послушания. Бульбокапнин – депрессант, воздействующий на затылочные доли мозга, вероятно, выводящий из действия центры движения в гипоталамусе. Другие наркотики, вызывавшие экспериментальную шизофрению, – мескалин, гармалин, ЛСД6 – стимуляторы задних долей. При шизофрении задние доли поочередно стимулируются и подавляются. За кататонией часто следует период возбуждения и моторной активности, когда псих носится по палатам, и от него достается всем. Шизики в ухудшенном состоянии иногда отказываются двигаться вообще и всю жизнь проводят в постели. Нарушение регуляторной функции гипоталамуса указывается в качестве «причины» (каузальное мышление никогда не даст точного описания метаболических процессов – ввиду ограничений существующего языка) шизофрении. Чередование доз ЛСД6 и бульбокапнина – причем бульбокапнин подкрепляется кураре – дает самые высокие результаты автоматического послушания.
«Есть и другие процедуры. Объекта можно низвести до глубокой депрессии, вводя ему большие дозы бензедрина в течение нескольких дней. Может быть вызван и психоз – непрерывно большими дозами кокаина или демерола, либо резким прекращением применения барбитуратов после длительного курса. Привыкание у него можно вызвать и дигидрооксигероином, а затем подвергнуть его отказу (этот состав, по идее, в пять раз сильнее героина по формированию привычки, и отказ от него пропорционально суров).
«Существуют различные «психологические методы», принудительный психоанализ, например. От объекта требуется каждый день по одному часу заниматься свободным ассоциированием (в тех случаях, когда время не играет роли). «Ну, ну. Давай не будем такими негативными, мальчик. А то Папуля сейчас позовет гадкого дядю. И пойдет с малышом погулять к коммутатору.»
«Случай с агентом-женщиной, забывшей свою подлинную личность и слившейся с собственной легендой – она до сих пор фарцует где-то в Аннексии – привел меня к другому трюку. Агента натаскивают на отрицание собственной личности путем вхождения в легенду. Так почему бы не применить психическое джиу-джитсу и не подыграть ему? Предположить, что легенда – это и есть его личность, другой у него просто нет. Личность его, как агента, становится бессознательной, то есть выходит из-под его контроля; и ее можно раскапывать наркотиками и гипнозом. Под таким углом даже квадратного гетеросексуального гражданина можно превратить в педика… то есть, усилить и поддержать его отрицание собственных, в нормальном состоянии подавленных гомосексуальных стремлений – одновременно лишая его пизды и подвергая гомосексуальной стимуляциию Затем наркотики, гипноз и – « Бенвэй вяло взмахнул кистью руки.
«Многие объекты уязвимы для сексуального унижения. Нагота, стимуляция возбудителями, постоянный надзор в целях смущения объекта и предотвращения его облегчения мастурбацией (эрекции во время сна автоматически включают огромный вибирирующий электрический зуммер, выбрасывающий объекта из постели в холодную воду, таким образом сокращая возможность ночных поллюций до минимума). Сплошной оттяги – загипнотизировать священника, внушив ему, что он сейчас вступит в гипостатический брачный союз с Агнцем – а затем направить похотливого старого барана прямо ему в зад. После этого Следователь может овладеть полным гипнотическим контролем – объект прибежит по первому же его свисту, насрчт на пол, не успеет Следователь вымолвить Сезам Откройся. Нет необходимости напоминать, что подход сексуального унижения противопоказан явным гомосексуалистам. (Я имею в виду, что давайте не будем тут спускать глаз со всей балчхи и помнить старую партийную линию… никогда не знаешь, кто может подслушивать) Припоминаю одного мальчонку, которого я оформил так, что он обсерался при одном моем появлении. После этого я его подмывал и чб. Самый смак. К тому же, он очень славненьким был. А иногда объект заливается мальчишескими слезами, поскольку не может сдержать семяизвержения, когда вы его ебчте. Итак, вы ясно можете видеть, возможности бесконечны, словно петляющие тропы громадного прекрасного сада. Я лишь едва поскреб эту милую поверхность, как меня подвергли чистке эти Обломщики… Что ж, «son cosas de la vida».»
Я добираюсь до Свободии, которая чиста и скучна Боже мой. Бенвэй руководит И.Ц., Исправительным Центром. Я заглядываю к нему, и «А что стало с тем-то и тем-то?» заводит его надолго: «Сиди Идрисс Смизерс по кличке «Стукач» напел Отправителям насчет сыворотки долголетия. Старого педака могила исправит.» «Лестер Строганофф Смуунн – «Эль Хассейн» – заделался Латахом, пытаясь усовершенствовать О.А.П. – Обработку Автоматического Послушания. Мученик отрасли…» (Латах – состояние, бытующее в Юго-Восточной Азии. Во всем остальном Латахи обычно сохраняют здравый рассудок, но стоит привлечь их внимание щелчком пальцев или резким окриком, как они импульсивно начинают подражать любому движению. Форма маниакального невольного гипноза. Иногда они наносят себе увечья, пытаясь имитировать движения нескольких человек одновременно)
«Останови меня, если ты уже слышал вот этот атомный секрет…»
Лицо Бенвэя сохраняет свои очертания в этой вспышке настоятельности, в любой момент оно может подвергнуться невыразимому расколу или метаморфозе. Оно мигает, словно картинка, входящая и выходящая из фокуса.
«Пошли,» говорит Бенвэй, «и я проведу тебя по И.Ц.»
Мы идем по длинному белому вестибюлю. Голос Бенвэя вплывает ко мне в сознание из какого-то неопределенного источника… голос без тела, иногда он громок и ясен, иногда едва слышим, как музыка где-то на улице, продуваемой ветрами.
«Изолированные группы, вроде аборигенов Архипелага Бисмарка. Среди них явная гомосексуальность не распространена. Проклятый матриархат. Все матриархаты анти-гомосексуальны, конформны и прозаичны. Как только окажешься в таком матриархате – очень осторожно начинай перемещаться к ближайшей границе, только не бегом. Если побежишь, какой-нибудь несостоявшийся скрытый гомик-фараон наверняка тебя пристрелит. Значит, кому-то хочется создать плацдарм гомогенности в такой неразберихе потенциалов, как Западная Европа и США? Вот еще один ебаный матриархат, что б там ни вякала Маргарет Мид… Там у нас источник беспокойства. Дуэль на с коллегой в операционной. А моя ассистентка-бабуинесса прыгнула на пациента и разорвала его в клочья. Бабуины всегда нападают на самую слабую сторону в ссоре. И правильно. Мы ни на минуту не должны забывать своего достославного человекоподобного наследия. Противником выступал Док Браубек. Абортмахер на пенсии и пухлый шифер (вообще-то он был ветеринаром), призванный на службу ввиду нехватки людских ресурсов. Так вот, Док все утро проваландался в больничной кухне, ставя пистоны в жопы медсестрам, заправляясь угольным газом и Климом – а перед самой операцией вкатывает себе двойную дозу муската, нервы успокоить.»
(В Англии и, особенно, в Эдинбурге граждане пропускают каменноугольный газ через Клим – кошмарную разновидность порошкового молока, похожую по вкусу на тухлый мел – и тащатся от результатов. Они закладывают все имущество, чтобы оплатить счета за газ, а когда все-таки приходит человек и перекрывает газ за неуплату, их вопли слышно на много миль вокруг. Когда гражданин болеет от его нехватки, то говорит «Я спекся» или «Эта старая печь мне на спину лезет».
Мускат. Цитирую из статьи автора о наркотических препаратах в Британском Журнале Наркомании: «Заключенные и моряки иногда прибегают к мускату. Примерно одна столовая ложка его запивается водой. Результат отдаленно напоминает действие марихуаны с побочными эффектами в виде головной боли и рвоты. В семействе мускатных есть несколько наркотиков, употребляемых индейцами Южной Америки. Обычно они вводятся вдыханием через нос сухого порошка, приготовленного из растения. Знахари принимают эти пагубные вещества и впадают в конвульсивные состояния. Их подергиваниям и бормотаниями придается пророческое значение.»)
«У меня был бодун ягический, ей-Богу, и я не собирался терпеть всч это дерьмо от Браубека. Тут он полез со своими советами, мол, я должен разрез начинать не с переда, а с зада, причем бормочет какую-то хрень невнятную – чтоб я точно вырезал желчный пузырь, не то он все мясо на хуй испортит. Думал, что он – на ферме, курицу потрошит. Я велел ему идти и засунуть голову обратно в духовку, после чего у него хватило бесстыдства пихнуть меня под руку, которой я отделял бедренную артерию пациента. Кровь забила фонтаном – и прямо в глаза анестезиологу, который выскочил и воплями помчался по коридорам, ни черта не видя. Браубек попытался заехать мне в коленом в промежность, а мне удалось чикнуть ему по подколенным сухожилиям. Он пополз по полу, тыча меня скальпелем в ноги. Виолетта – это моя ассистентка-бабуинесса, единственная женщина, на которую мне было не наплевать, – совсем ополоумела. Я уже вскарабкался на стол и приготовился прыгнуть на Браубека и затоптать его обеими ногами, когда ворвались легавые.
«Ну вот, вся эта катавасия в операционной, «это невыразимое происшествие», как его назвал Супер, стало, можно сказать, последней каплей. Готовая поживиться нами, волчья стая сомкнулась вокруг. Распятие – больше никак это не назовешь. Конечно, я и сам тоже «думхайтов» понаделал то тут, то там. А кто нет? Был случай, когда мы с анестезиологом выжрали весь эфир, и на нас пациент наехал, а меня обвинили в том, что я забалтываю кокаин средством для чистки унитазов. На самом деле, этим Виолетта занималась. Но не мог же я даму подставить…
«Поэтому в конце концов вышибли нас из отрасли. И дело не в том, что Виолетта не была bona fide коновалом, да и Браубек, в общем-то, им тоже не был, но даже мой диплом поставили под сомнение. Виолетта же знала о медицине больше, чем вся Клиника Майо. У нее была потрясающая интуиция и высокое чувство долга.
«Вот так я и оказался двинутым под зад коленом и без диплома. Сменить профессию? Нет. Врачевание у меня в крови. Я умудрялся поддерживать навыки, делая за бесценок аборты в сортирах метро. Я даже опустился до того, что арканил беременных теток прямо на улицах. Это уж совсем неэтично было. Потом встретил обалденного парня, Плаценту Хуана, Магната Последа. Разжился на выкидышах во время войны. (Выкидыши – это недоношенные телята, рождающиеся прицепом с детским местом и бактериями, обычно в антисанитарных и вообще непригодных условиях. Такой теленок не может продаваться в пищу, пока не достигнет минимального возраста хотя бы в шесть недель. До этого времени он называется выкидышем. Торговля выкидышами влечет за собой суровое уголовное наказание) Так вот, Хуанито контролировал целый флот грузовых судов, зарегистрированный им под абиссинским флагом, чтоб избежать докучливых ограничений. Он дает мне место судового врача на пароходе Филиарис, более гнусной посудины по морям никогда не ходило. Одной рукой оперирую, другой отбиваюсь от крыс, кидающихся на пациента, а с потолка клопы со скорпионами как из ведра сыплются.
«Так значит, при таком раскладе кому-то понадобилась гомогенность. Можно, но стоить будет дорого. У меня-то уже весь этот проект в печенках сидит… Вот и пришли… Обузный Тупик.»
Бенвэй проводит рукой по воздуху, следуя изгибам какого-то орнамента, и дверь распахивается. Мы проходим внутрь, и она захлопывается. Длинная палата, сверкающая нержавеющей сталью, белокафельными полами, стеклоблоковыми стенами. Вдоль одной стены – кровати. Никто не курит, никто не читает, никто не разговаривает.
«Пойдем, поближе посмотришь,» говорит Бенвэй. «Ты никого не смутишь.»
Я подхожу и становлюсь возле человека, сидящего на постели. Заглядываю в его глаза. Никого там нет, на меня в ответ никто не смотрит.
«Н.Н.Т.», говорит Бенвэй. «Необратимая Невральная Травма. Сверхосвобожден, можно сказать… обуза для отрасли.»
Я провожу рукой перед глазами человека.
«Да,» говорит Бенвэй, «рефлексы у них еще остались. Смотри.» Он достает из кармана плитку шоколада, снимает обертку и подносит человеку под самый нос. Человек принюхивается. У него начинают шевелиться челюсти. Руками он делает хватательные движения. Изо рта начинает течь слюна, свисая с подбородка длинными сосульками. В животе у него бурчит. Все его тело извивается в перистальтике. Бенвэй на шаг отходит, поднимает шоколадку повыше. Человек падает на колени, задирает голову и лает. Бенвэй швыряет ему шоколадку. Человек кидается на нее, промахивается, возится на полу, пытаясь ее отыскать, чавкая и хлюпая. Он заползает под кровать, находит шоколадку и запихивает ее себе в рот обеими руками.
«Хосподи! Эти Н.Т. такие неотесанные.»
Бенвэй подзывает служителя, сидящего в другом углу палаты и читающего сборник пьес Дж.М.Барри.
«Уберите этих ебучих Н.Т. отсюда на хуй. И так уже грузят. На туризм плохо влияет.»
«Но что мне с ними делать?»
«Откуда я, к ебеням, знаю? Я ученый. Чистый ученый. Убирайте их отсюда, и дело с концом. Не собираюсь я больше об них зрение мозолить, и точка. Все они в совокупности – бельмо на глазу.»
«Но что? Куда?»
«По соответствующим каналам. Вызвоните Районного Координатора, или как он там себя называет… каждую неделю новый титул. Сомневаюсь, что он вообще существует.»
Доктор Бенвэй медлит у двери и оглядывается на Н.Н.Т. «Наши промахи,» говорит он. «Что ж, чего в работе не бывает.»
«А они когда-нибудь восстанавливаются?»
«Они не восстанавливаются, не желают они возвращаться, ушедши раз и навсегда,» тихо нараспев произносит Бенвэй. «Теперь в этой палате еще и какое-то внутреннее беспокойство появилось.»
Пациенты кучкуются, беседуя и сплевывая на пол. Мусор висит в воздухе серой дымкой.
«Сердце греет видеть вот такое,» говорит Бенвэй, «когда все наркоши просто стоят и ждут своего Чувака. Полгода назад все они были шизофрениками. Некоторые по многу лет с постели не вставали. А теперь погляди на них. За всю свою практику я ни разу не видел торчка-шизофреника, а они, в большинстве своем, все – шизофизического типа. Если хочешь кого-нибудь от чего-нибудь вылечить, найди того, кто этим не болеет. У кого, значит, этого нет? У торчков этого нет. О, кстати, в Боливии есть район, где не бывает психозов. Нормальный здоровый народ в этих горах обитает. Хотел бы я туда попасть, точно тебе говорю, пока его не испохабили грамотностью, рекламой, телевидением и автомобильными кинотеатрами. Исследование бы написать, строго по метаболизму: диета, употребление наркотиков и алкоголя, секс и т.д. Какая кому разница, о чем они думают? О той же самой белиберде, что и все остальные, готов спорить.
«А почему у наркуш не бывает шизофрении? Пока не знаю. Шизофреник может не обращать внимания на голод и умереть от недоедания, если его не накормить. А соскока с героина игнорировать никто не сможет. Сам факт пристрастия к наркотикам диктует необходимость контакта.
«Но это только один аспект. Мескалин, ЛСД6, разложившийся адреналин, гармалин могут вызвать шизофрению в первом приближении. Самая лучшая дрянь извлекается из крови шизофреников; поэтому шизофрения, вероятно, – наркотический психоз. У них есть метаболическая связь, Чувак Внутри, можно выразиться. (Заинтересованные читатели отсылаются к Приложению)
«На конечной стадии шизофрении затылочные доли мозга постоянно подавлены, а лобные остаются почти без содержимого, поскольку активируются только стимуляцией затылочных долей мозга.
«Морфий вызывает ответное действие противоядия, вырабатываемого затылочными долями, сходного с шизовой субстанцией. (Отметьте сходство между синдромом отказа и интоксикацией Яге или ЛСД6) Конечный результат употребления мусора – особенно это касается пристрастия к героину, когда наркоману доступны большие дозы, – постоянное подавление затылочных долей и состояние, весьма напоминающее предельную шизофрению: полнейшее отсутствие аффекта, аутизм, практически полное прекращение деятельности мозга. Наркоман может по восемь часов кряду только лишь разглядывать стену. Он осозначт всч, что его окружает, но это всч не имеет эмоциональных коннотаций и, следовательно, – не интересно. Вспоминать период тяжелой наркомании – это как прокручивать назад пленку с записью событий, пережитых только передними долями мозга. Плоские констатации внешних происшествий. «Я сходил в магазин и купил бурого сахарного песку. Пришел домой и съел полкоробки. Вкатил себе три грана, и т.д.» Полное отсутствие ностальгии в таких воспоминаниях. Однако, как только потребление мусора падает ниже нормы, субстанция отказа затопляет всч тело.
«Если всч удовольствие – лишь облегчение от напряжения, то мусор дает облегчение от всего жизненного процесса, отсоединяя гипоталамус, являющийся центром психической энергии и либидо.
«Некоторые из моих ученых коллег (безымянные жопы) высказали предположение, что эйфорическое воздействие мусора происходит непосредственно из стимуляции центра оргазма. Более возможным представляется, что мусор тормозит весь цикл напряжения, разрядки и отдыха. Оргазм в торчке не функционирует. Скука, всегда указывающая на неразряженное напряжение, наркомана никогда не беспокоит. Он может смотреть на свой ботинок по 8 часов. Он побуждается к действию только тогда, когда пустеют песочные часы его мусора.»
В дальнем конце палаты служитель рывком поднимает металлическую штору и хрюкает в матюгальник. Торчки несутся туда, храпя и повизгивая.
«Умник, тоже мне,» говорит Бенвэй. «Никакого уважения к человеческому достоинству. Теперь я покажу тебе палату легких отклонений и уголовников. Да, уголовник здесь считается легким отклонением. Он ведь не отрицает контракта Свободии. Он просто стремится обойти несколько его параграфов. Предосудительно, но не слишком серьезно. Вот по этому коридору… Пропустим палаты 23, 86, 57 и 97… и лабораторию.»
«А гомосексуалисты классифицируются как отклонения?»
«Нет. Вспомни Архипелаг Бисмарка. Никакой явной гомосексуальности. Действенному полицейскому государству полиция не нужна. Гомосексуальность никому не приходит в голову как мыслимый стиль поведения… Гомосексуальность – политическое преступление при матриархате. Ни одно общество не потерпит явного отрицания своих основных догматов. Здесь у нас не матриархат, Insh'allah. Тебе известен тот эксперимент с крысами, где их подвергают электрошоку и бросают в холодную воду, если они хоть носом поведут в сторону женской особи. Поэтому все они становятся крысами-чудиками – и то же самое в этиологии. А стоит такой крысе вякнуть: «Я гомик, и мне нраааавится» или «А тебе кто отрезал, урод двухдупельный?» – значит, это вякает квадратная крыса, так провякать. За время моей довольно непродолжительной работы психоаналитиком – источник достачи для Общества – один мой пациент кинулся в амок с огнеметом посреди Большого Центрального вокзала, двое совершили самоубийства, а один сдох на кушетке как крыса джунглей (крысы джунглей подвержены смерти, если внезапно оказываются в безнадежной ситуации). И вот его родня начинает гундеть, а я им говорю: «Обычное дело. Забирайте отсюда своего жмура. Он моих живых пациентов угнетает» – я заметил, что все мои гомосексуальные пациенты проявляют сильные бессознательные гетеросексуальные тенденции, а все мои гетеро-пациенты – бессознательные гомосексуальные. От этого мозги свихнуть можно, не так ли?»
«И какой вывод ты из этого делаешь?»
«Вывод? Да никакого. Просто мимолетное наблюдение.»
Мы обедаем в кабинете у Бенвэя, и тут ему звонят.
«Что такое?… Чудовищно! Фантастика!… Продолжайте и ждите.»
Он кладет трубку. «Я готов немедленно принять предложение ислама Инкорпорейтед. Похоже на то, что электронный мозг впал в неистовство за партией в шестимерные шахматы с Техником и выпустил на волю всех подопечных И.Ц. Перейдем же на крышу. Целесообразен Оперативный Вертолет.»
С крыши И.Ц. мы озираем панораму ни с чем не сравнимого ужаса. Н.Н.Т.-ы стоят вокруг ресторанных столиков, с их подбородков свисают длинные ленты слюны, в животах громко урчит, иные извергают семя при виде женщин. Латахи подражают прохожим с обезьяньей непристойностью. Торчки уже обшмонали все аптеки и ширяются на каждом углу… Кататоники украшают собой парки… Возбужденные шизофреники носятся по улицам с искромсанными нечеловеческими воплями. Группа Ч.И. – Частично Исправленных – окружила каких-то туристов-гомосеков с жуткими улыбками пониманья и показывают Нордический череп из-под низу с двойной выдержкой.
«Чего вы хотите?» рявкает один из педиков.
«Мы хотим вас понять.»
Отряд завывающих симопатов раскачивается на люстрах, балконах и деревьях, гадя и мочась на прохожих. (Симопат – научное название этого отклонения не приходит мне в голову – это гражданин, убежденный, что он обезьяна или иной представитель обезьяньих. Это расстройство свойственно армии и вылечивается увольнением из рядов) Амоки носятся трусцой, рубя всем головы, их лица нежны, отсутствующи и по ним бродят мечтательные полуулыбки… Граждане в начальной стадии Шпиг-утота хватаются за собственные пенисы и взывают к туристам о помощи… Арабские мятежники ойкают и воют, кастрируя, потроша и обливая горящим бензином… Танцующие мальчики раздеваются в стриптизе до самых внутренностей, женщины запихивают себе в пизду отчленчнные гениталии, вращая бедрами, виляя задницами и кидая их затем своим избранникам… Религиозные фанатики разглагольствуют перед толпой с вертолетов и дождем обрушивают на их головы каменные скрижали, исчирканные бессмысленными посланиями… Люди-Леопарды разрывают просто людей на куски железными когтями, отфыркиваясь и урча… Посвященные в Людоедское Общество Квакиутля откусывают носы и уши…
Копрофаг требует себе тарелку, срет в нее и съедает говно, восклицая при этом: «Ммм, вот мое питательное вещество.»
Батальон безудержных зануд рыщет по улицам и вестибюлям гостиниц в поисках жертв. Интеллектуальный авангардист – «Разумеется, единственную литературу, которую стоит всерьез рассматривать, сейчас можно найти только в научных докладах и периодике» – сделал кому-то укол бульбокапнина и готовится прочесть ему бюллетень об «использовании неогемоглобина для контролирования множественной дегенеративной грануломы». (Доклады эти, конечно же, – чистая тарабарщина, им же состряпанная и распечатанная)
Начинает он вот так: «Вы мне кажетесь человеком разумным.» (Это всегда зловещие слова, мальчик мой… Чуть заслышишь их, не медли, беги, делай оттуда ноги моментально)
Английский колонист при споспешестве пяти полицейских мальчиков задержал некоего субъекта в клубном баре: «Послушайте, а знаете ли вы Мозамбик?» – и он пускается в бесконечную сагу о своей малярии. «И вот, значит, врач мне сказал: «Я могу посоветовать вам только уехать из этого района. Иначе я вас похороню.» Этот лепила немного промышляет похоронными делами на стороне. Взвешивая шансы, можно сказать, и то и дело спроворивая себе прибыльную шару.» А после третьего розового джина, познакомившись с вами поближе, он переключается на дизентерию. «Весьма необычный стул. Более-менее бело-желтого цвета, вроде тухлой спермы, и волокнистый, знаете ли.»
Исследователь в солнцезащитном шлеме свалил гражданина из духового ружья дротиком с кураре. Одной ногой он делаем ему искусственное дыхание. (Кураре убивает, парализуя легкие. Иного токсического действия он не оказывает, это, строго говоря, не яд. Если сделать искусственное дыхание, то объект не умрет. Кураре с большой быстротой нейтрализуется почками) «То был год чумы рогатого скота, когда всч вымерло, даже гиены… Поэтому я оказался без единой капли конского возбудителя в главном водосборе Бабуиньей Жопы. Когда мне его сбросили с самолета, благодарность моя была неописуема… На самом деле, а я ни единой живой душе никогда этого не рассказывал – неуловимые ничтожества» – его голос эхом разносится по громадному пустому вестибюлю гостиницы в стиле 1890х годов, красный плюш, фикусы в кадках, позолота и статуи – «Я был единственным белым, посвященным в печально известное Агутийское Общество, который наблюдал и участвовал в их невыразимо мерзких обрядах.»
(Агутийское Общество в полном составе вышло на Фиесту Чиму. (Чиму древнего Перу были сильно склонны к содомии и время от времени устраивали кровавые побоища дубинками, неся по нескольку сот потерь в течение одного дня) Юноши, злобно скалясь и подталкивая друг друга дубинками, маршем выходят на поле. И вот побоище начинается.
Милый читатель, уродство этого спектакля сношает любое описание. Кто еще может обссыкаться и сжиматься от страха, однако злобствовать, словно лиловозадый мандрил, чередуя эти прискорбные условия, будто скетчи в водевиле? Кто еще может срать на поверженного противника, который, умирая, поедает это говно и орет от радости? Кто еще может вешать слабую и покорную тварь и ловить ее сперму ртом, точно порочный пес? Милый читатель, я принужден уберечь тебя от этого, но перо мое своевольно, словно Старый Мореход. О Господи, что же это за сцена? Может ли язык или перо соответствовать этому скандалезу? Звероподобный юный хулиган выдавил глаз своему собрату и ебет его в мозги. «Тут мозг уже атрофировался и сух как бабушкина манда.»
Он обращается в хулигана Рок-энд-Ролла. «Ебу я старую пиздень – как в кроссворде, какое отношение ко мне имеет исход, если он исходит? Мой отец уже или еще нет? Я не могу трахнуть тебя, Джек, ты уже почти мой папа, и лучше было б перерезать тебе глотку и отхарить мою мать так честнее чем ебать отца или vice versa mutatis mutandis смотря по обстоятельствам, и перерезать глотку моей матери, этой освященной манде, хоть самым лучшим будет насколько я знаю задержать ее словесную орду и заморозить ее актив. В смысле, стоит парню намертво тормознуться со всего маху на стрелках, и он не знает, подставлять ли ему очко «большому папику» или работать торсом на старухе. Дай мне две пизды и хуй из стали и высунь свой грязный палец из моей сахарной попки ты что думаешь я лиловозадый прием уже сбежавший с Гибралтара? Мужчина и женщина кастрировал он их. Кто это не может один пол от другого отличить? Я тебе глотку перережу ебила ты белый. А ну, выходи в открытую как мой внук и встань лицом к лицу со своей нерожденной матерью в сомнительной битве. Конфузия выебла его шедевр. Я перерезал глотку дворнику довольно-таки по ошибке приняв его за другого, поскольку он такой ужасный заебанец как и старик. А в угольной яме все хуи на одно лицо.»
Так позвольте нам вернуться на пораженное поле брани. Один вьюноша проник в своего сотоварища, в то время, как другой юноша действительно ампутирует самую гордую часть трепещущего получателя того хуя с тем, чтобы член-посетитель проецировался для заполнения вакуума, коего природа бежит и извергает семя в Черную Лагуну где нетерпеливые пираньи хапают дитя пока еще ни рожденное ни – в виду определенных раз навсегда установленных фактов – вообще вероятное)
Другой зануда таскает везде с собой чемодан, набитый трофеями и медалями, кубками и лентами. «А вот этот я завоевал в Соревновании На Самое Изобретательное Половое Приспособление в Йокогаме. (Держите его, он в отчаяньи) Мне его вручил сам Император и в глазах у него стояли слезы, а все занявшие вторые места сами себя кастрировали ножами для харакири. А вот эту ленту я выиграл в Состязании По Деградации на Тегеранской встрече Анонимных Торчков.»
«Задвинулся морцефалем моей супруги, а она валяется с почечным камнем, здоровым как Алмаз надежда. Поэтому я даю ей пол-Вагамина и говорю: «Слишком сильного облегчения можешь не ждать… Заткнулась уже, ну-ка. Дай спокойно от лекарства покайфовать.»
«Стащил опиумную свечу из бабушкиной жопы.»
Ипохондрик арканит прохожего, втуляет его в смирительную рубашку и начинает ему вправлять про свою гниющую перегородку. «Ужасные гнойные выделения подвержены вытеканию… подождите и сами увидите.»
Он устраивает стриптиз с показом послеоперационных рубцов, направляя по ним непослушные пальцы жертвы. «Чувствуете эту нагноившуюся опухоль в промежности, где у меня лимфогрануломы… А теперь я хочу, чтобы вы пальпировали мои внутренние геморрои.»
(Сноска на лимфогранулому, «климактические бубоны». Вирусное венерическое заболевание, характерное для Эфиопии. «Не просто так известны мы как грязные эфиопы,» скалится эфиопский наемник, содомируя Фараона, ядовитый, как Королевская кобра. Древний египетский папирус все время говорит о них, об этих грязных эфиопах.
Итак, началось оно вАддис-Абебе как Джерсийский Отскок, но сейчас у нас современность, Единый Мир. Теперь климактические бубоны вспухают в Шанхае и в Эсмеральдасе, Новом Орлеане и Хельсинки, Сиэттле и Кейптауне. Но сердце тянет домой, и болезнь являет отчетливую предрасположенность к неграм, это фактически беловолосый мальчик сторонников белого господства. Но колдуны Мау-Мау, говорят, варганят не венерическое заболевание а чудо просто для белой толпы. Дело не в том что у кавказской расы иммунитет: пять британских матросов подцепили ее в Занзибаре. А в Графстве Дохлого Енота, Арканзас, («Самая Черная Грязь и Самые Белые Люди в США – Негритос, Не Дай Закату Застать Себя Здесь») Окружной Коронер свалился с бубонами спереди и сзади. Комитет бдительных соседей с извинениями сжег его заживо в уборной Здания Суда когда его интересное положение выплыло на свет. «Ладно, Лох, просто представь себя коровой с афтозой.» «Или зачумленным цыпленком.» «Не толпитесь, парни, у него кишки могут лопнуть в огне.» Болезнь имеет свойство в два счета распространяться по разным местам, в отличие от некоторых невезучих вирусов, коим суждено прозябать невостребованными в кишках клеща или тропического компара, или в плевках подыхающего шакала, распустившего слюни, серебристые в свете пустынной луны. А после первоначального повреждения в точке заражения болезнь перекидывается на лимфатические железы промежности, которые распухают и вскрываются гноящимися язвами, многие дни, месяцы, годы выделяющими волокнистый гной пополам с кровью и гнилостной лимфой. Осложнением часто бывает элефантиаз гениталий, и зафиксированы случаи гангрены, когда предписывалась ампутация органов пациента in medio от пояса вниз, но едва ли она того стоила. Женщины обычно страдают вторичным воспалением заднего прохода. Мужские особи, покорно соглашающиеся на пассивный половой акт с зараженными партнерами, точно слабые и вскоре становящиеся лиловозадыми бабуины, также могут вскормить в себе этого маленького чужака. За начальным проктитом и неизбежными гнойными выделениями – могущими пройти незамеченными в суматохе – следует сужение прямой кишки, требующее применения машинки для удаления яблочных сердцевин или ее хирургического эквивалента, дабы несчастный пациент не был низведен до состояния пердежа и испражнений в зубах, что способствует развитию трудно поддающихся лечению случаев халитоза и непопулярности у всех полов, возрастов и состояний homo sapiens. На самом деле слепого засранца бросила его полицейская собака-поводырь – в глубине души сама лягавая. До совсем недавнего времени удовлетворительного лечения не было. «Лечение симптоматично» – в отрасли это означает, что его не существует. Теперь же многие случаи поддаются интенсивной терапии ауреомицином, террамицином и некоторыми новейшими видами плесневых грибков. Однако, определенный значительный процентаж лечению по-прежнему не поддается, как горные гориллы…Поэтому, мальчики, когда эти горячие язычки играют среди ваших яий и мудей и быстро проскальзывают вам в жопу, словно невидимая голубая струя оргонной газовой горелки, пользуясь выражением И. Б. Уотсона, Подумайте. Хватит кайф хватать, пора пальпировать… и если вы нащупаете бубон, сожмитесь в себя и холодно прогнусавьте: «Вы думаете, мне интересно подхватить вашу старую кошмарную нечисть? Меня это совершенно не интересует.»)
Подростки-хулиганы Рок-энд-Ролла штурмуют улицы всех наций. Они врываются в лувр и плескают кислотой в лицо Моне Лизе. Они открывают зоопарки, приюты для умалишенных, тюрьмы, рвут водоводы отбойными молотками, вышибают полы из уборных пассажирских самолетов, пулями гасят маяки, подпиливают лифтовые кабели, оставляя один тоненький проводок, превращают канализации в водопроводы, швыряют акул, скатов, электрических угрей и кандиру в плавательные бассейны (кандиру – это такая маленькая рыбка, вроде угря или червяка, примерно четверть дюйма в толщину и два в длину, предпочитающая определенные реки Бассейна Большой Амазонки с дурной репутацией, она прошмыгнет вам в хуй или в сраку, а женщине – в пизду faute de mieux, и закрепится там острыми шипами, по каким именно соображениям – неизвестно, поскольку никто никогда не вызывался пронаблюдать жизненный цикл кандиру in situ), в водолазных костюмах таранят Королеву Мэри, что на всех парах направляется в Гавань Нью-Йорка, играют в «кто первый зассыт» с пассажирскими самолетами и автобусами, врываются в больницы в белых халатах, прихватив с собой пилы, топоры и скальпели в три фута длиной; вышвыривают паралитиков из барокамер (передразнивая их удушья, валяясь по полу и закатывая вверх глаза), делают уколы велосипедными насосами, отсоединяют искусственные почки, распиливают женщину напополам двуручной хирургической пилой, загоняют стада визжащих поросят в Обочину, они срут на пол Организации Объединенных Наций и подтираются соглашениями, пактами, договорами.
Самолетами, автомобилями, на лошадях, верблюдах, слонах, тракторах, велосипедах и паровых катках, пешком, на лыжах, санях, костылях и на палочке верхом туристы штурмуют границы, требуя с несгибаемым авторитетом убежища от «невыразимых условий, создавшихся в Свободии», а Торговая Палата тщетно пытается остановить этот потоп: «Пожалуйста, успокойтесь. Это просто несколько ненормальных, кои из ненормального же места вырвались.»
ХОСЕЛИТО
А Хоселито, писавший плохие, классово-сознательные стихи, начал кашлять. Немецкий доктор кратко обследовал Хоселито, касаясь его ребер длинными нежными пальчиками. Врач, к тому же, был концертным скрипачом, математиком, гроссмейстером и Доктором Международной Юриспруденции, с лицензией на практику в уборных Гааги. Врач махнул рукой, окинув отрешенным взглядом смуглую грудь Хоселито. Он взглянул на Карла, улыбнулся – улыбка одного образованного человека другому – и воздел бровь, говоря без слов:
«Алзо тля такофо клупофо крестьянина мы толшны испекать употрепления слофа, не так ли? Иначе он опосрчтся от страха. Кохел и слюна – опа слова катки, я тумаю?»
Вслух же он произнес: «Это катарро де лос пульмонес.»
Карл поговорил с врачом снаружи, под узким навесом, а капли дождя отскакивали от мостовой и мочили ему брючины, думая, скольким же людям он это говорит, а в глазах врача – лестницы, веранды, лужайки, проезды, коридоры и улицы всего мира… душные немецкие альковы, бабочка липнет, распластавшись, к потолку, тихая зловещая вонь уремии просачивается из-под двери, пригородные газоны под звук поливального распылителя, в спокойной ночи джунглей под неслышными крыльями комара-анофелеса. (Примечание: Это не фигура речи. Комары-анофелесы действительно бесшумны) Скромный дом призрения в Кенсингтоне, весь в толстых коврах: жесткий парчовый стул и чашка чаю, гостиная в духе шведского модерна с водяными гиацинтами в желтой вазе – снаружи фарфорово-голубое небо с плывущими облаками, под плохими акварелями умирающего студента-медика.
«Шнапса, я думаю, фрау Ундершнитт.»
Врач разговаривал по телефону – перед ним лежала шахматная доска. «Довольно серьезное поражение, я считаю… разумеется, не имея случая заглянуть во флюороскоп.» Он снимает коня, потом задумчиво ставит на место. «Да… Оба легкие… вполне определенно.» Кладет трубку и поворачивается к Карлу. «Я наблюдал, как эти люди поразительно быстро излечиваются от ран, с узкой сферой охвата заражением. Виноваты всегда легкие… пневмония и, конечно же, Старая Верная.» Врач хватает Карла за хуй, подскакивая и грубо, по-крестьянски, фыркнув. Его европейская улыбка независима от проказ ребенка или животного. Он гладко продолжает говорить на своем бестелесном английском, жутко лишенным акцента. «Наша Старая Верная Бацилла Коха.» Врач щелкает каблуками и склоняет голову. «Иначе они размножат свою глупую крестьянскую жопу до самого моря, не так ли?» Он взвизгивает, сунувшись лицом под самый нос Карлу. Карл отступает в сторону, а за ним – серая стена дождя.
«Неужели нет никакого места, где его могли бы вылечить?»
«Мне кажется, есть нечто вроде санатория,» он вытягивает из себя это слово с двусмысленной непристойностью, «в Районной Столице. Я запишу вам адрес.»
«Химическая терапия?»
Его голос падает во влажном воздухе фальшиво и тяжело.
«Кто может сказать. Все они – глупые крестьяне, а хуже всех крестьян – так называемые образованные. Этим людям следует препятствовать не только учиться читать, но и учиться разговаривать. Нет нужды не давать им думать; об этом позаботится природа.»
«Вот вам адрес,» прошептал врач, не разжимая губ.
Он уронил свернутую пилюлей бумажку Карлу в ладонь. Его грязные пальцы, лоснящиеся от пластилина, задержались у Карла на рукаве.
«Остался еще вопрос моего гонорара.»
Карл сунул ему скомканную банкноту… и врач растворился в серых сумерках, потрепанный и вороватый, как старый торчок.
Карл увидел Хоселито в большой чистой комнате, полной света, с отдельной ванной и бетонным балконом. И ведь не о чем говорить в этой холодной пустой комнате, водяные гиацинты растут из желтой вазы и фарфорово-голубое небо с плывущими облаками, страх то пропадает, то появляется в его глазах. Когда он улыбался, страх улетучивался маленькими кусочками света, загадочно таился в высоких прохладных углах комнаты. А что я могг сказать, чувствуя смерть вокруг себя и маленькие расколотые образы, что лезут перед сном в голову?
«Завтра меня отправят в новый санаторий. Приезжай меня навестить. Я там буду один.»
Он закашлялся и проглотил конфетку с кодеином.
«Доктор, я понимаю, то есть, мне дали понять, я читал и слышал – сам я не отношусь к медицинской профессии – и даже не пытаюсь делать вид – что концепция санаторного лечения в большей или меньшей степени вытеснена, или, по крайней мере, весьма определенно дополнена химической терапией. Соответствует ли это истине, по вашему мнению? То есть, я хочу сказать, Доктор, пожалуйста, будьте со мной откровенны, как человек с человеком, как вы относитесь к химической терапии по сравнению с санаторным лечением? Вы ее приверженец?
Индейское лицо врача с признаками больной печени было непроницаемо, как лицо банкомета.
«Полностью современная, как видите,» он обводит комнату жестом лиловых от дурного кровообращения пальцев. «Ванна… вода… цветы. Весь чох.» Он завершил выражением на кокни с торжествующей ухмылкой. «Я напишу вам письмо.»
«Вот это письмо? В санаторий?»
Голос врача доносился из страны черных скал и огромных бурых лагун, масляно переливавшихся на поверхности. «Мебель… современная и удобная. Вы так и находите, разумеется?»
Карл не мог разглядеть санатория из-за фальшивого фасада с зеленой лепниной, который венчала хитрая неоновая вывеска, мертвая и зловещая на фоне неба в ожидании темноты. Санаторий был, по всей видимости, построен на огромном известняковом мысе, о который волнами разбивались приливы цветущих деревьев и щупальцев лоз. В воздухе висел тяжелый запах цветов.
Комманданте сидел за длинными деревянными козлами под решеткой, заплетенной лианами. Он абсолютно ничего не делал. Он взял письмо, протянутое ему Карлом, и шепотом прочел от начала до конца, пальцами левой руки читая у себя по губам. Потом наколол письмо на шип над парашей. Потом начал что-то списывать с конторской книги, полной цифр. Он все писал и писал.
В голове у Карла мягко взрывались расколотые образы, и в неслышном падении он выскальзывал из себя. Ясно и резко с огромного расстояния он видел самого себя сидящим в столовой. Передоз гарриком. Его старуха трясет его и подносит к самому носу горячий кофе.
Снаружи старый наркуша в костюме Деда Мороза продает рождественские брелоки. «Боритесь с туберкулезом, народ,» шепчет он своим бестелесным торчковым голосом. Хор Армии Спасения, состоящий из искренних, гомосексуальных футбольных тренеров, поет: «В Сладком Грядущем».
Карл вплыл обратно в свое тело, мусорных призрак, по которому земля плачет.
«Я мог бы его подкупить, конечно.»
Комманданте постукивает по столу одним пальцем и мычит «Пробираясь до Калитки». Далеко, затем настойчиво близко – что-то вроде сирены в тумане, за долю секунды до скрежещущего грохота.
Карл наполовину извлек банкноту из кармана брюк… Комманданте стоял возле огромной стены шкафчиков и сейфов. Он взглянул на Карла, глаза больного животного потухли, умирая внутри, безысходный страх отражал лик смерти. В этом цветочном запахе, с банкнотой, наполовину вынутой из кармана, Карла охватила слабость, спирая дыхание, останавливая ток крови. Он оказался в громадной воронке, кружась спиралью вниз, к черной точке.
«Химическая терапия?» Вопль выплеснулся из его плоти сквозь пустые раздевалки и казармы, затхлые отели курортов и призрачные, кашляющие коридоры туберкулезных санаториев, бормочущий, отхаркивающийся серый запах воды из-под грязной посуды – запах ночлежек и Домов Престарелых, гигантские, пыльные таможенные сараи и склады, сквозь разломанные портики и размазанные арабески, железные писсуары, протертые до толщины листка бумаги струями мочи миллионов педиков, заброшенные и заросшие сорняками уборные с затхлым запахом говна, вновь превращающегося в почву, торчащий деревянный фаллос на могиле вымирающих народов, жалобный, как листва на ветру, через широкую бурую реку, по которой плывут целые деревья с зелеными змеями в ветвях, а грустноокие лемурывысматривают берег поверх громадной равнины (крылья стервятников шелестят в сухом воздухе). Путь усыпан рваными гондонами, пустыми пульманами из-под гаррика и тюбиками конского возбудителя, выжатыми досуха, как костяная мука на летнем солнцепеке.
«Моя мебель.» Лицо комманданте пылало металлом во вспышке настойчивости. Глаза его погасли. По комнате повеяло озоном. «Новиа» бормотала над своими свечками и алтарями в одном углу.
«Все это – Трак… современный, отличный…» он идиотски качает головой и распускает слюни. Желтый кот тянет Карла за штанину и выбегает на бетонный балкон. Мимо проплывают облака.
«Я мог бы вернуть свой депозит. Начните мне какое-нибудь маленькое предприятие где-нибудь.» Он кивает и улыбается, как заводная игрушка.
«Хоселито!!!» Мальчишки, играющие на улице в мяч, гоняющие быков и рассекающие на великах, поднимают головы, когда это имя со свистом проносится мимо и медленно тает вдали.
«Хоселито!… Пако!… Пепе!… Энрике!…» Жалостливые мальчишеские крики плывут в теплой ночи. Знак Трака ворочается ночным зверем и вспыхивает синим пламенем.
ЧЕРНОЕ МЯСО
«Мы друзья, да?»
Юный чистильщик обуви натянул свою фарцовую ухмылку и заглянул снизу в мертвые, холодные, подводные глаза Моряка – глаза без следа тепла, похоти, ненависти или какого бы то ни было чувства, подобных которым мальчишка не только ни разу в жизни не испытывал в себе, но и ни у кого не видел, одновременно холодные и напряженные, безличные и хищные.
Моряк наклонился и дотронулся пальцем до внутренннего сгиба локтя мальчишки. Он заговорил мертвым, торчковым шепотом:
«С такими венами, как у тебя, Пацан, я бы за всю оттянулся!»
Он рассмеялся, черный насекомый смех, казалось, служивший некоей непостижимой функцией ориентации, вроде писка летучей мыши. Моряк засмеялся трижды. Потом остановился и завис неподвижно, вслушиваясь в себя. Он нащупал неслышную частоту мусора. Лицо его разгладилось, будто высокие скулы облил желтый воск. Он выждал полсигареты. Моряк умел выжидать. Но глаза его горели отвратительным сухим голодом. Он медленным полуоборотом обернул свое лицо, полное контролируемой чрезвычайности, срисовывая только что зашедшего внутрь человека. «Жира» Терминал сидел там, прочесывая кафе пустым взглядом перископа. Когда глаза его наткнулись на Моряка, он коротко кивнул. Только оголенные нервы мусорной болезни засекли это движение.
Моряк протянул мальчишке монету. Он перетек к столику Жиры своей дрейфующей походочкой и уселся. Долго они сидели в молчании. Кафе было встроено в один бок каменного пандуса у подножия высокого белого каньона, сложенного из кирпича. Лица Города вливались внутрь по-рыбьи молча, испятнанные порочными пристрастиями и насекомыми похотями. Освещенное кафе было водолазным колоколом с порванным кабелем наверх, медленно оседавшим в черные пучины.
Моряк полировал ногти о лацканы пиджака из горной шотландки. Сквозь блестящие желтые зубы он насвистывал песенку.
Когда он шевелился, миазмы плесени исходили от его одежды, затхлая вонь опустевших раздевалок. Он изучал свои ногти с фосфоресцентным напряжением.
«Тут ништяк, Жира. Могу раздобыть двадцать. Аванс нужен, конечно.»
«Со свисту, что ли?»
«Ну не в кармане же у меня два десятка яиц. Говорю тебе – оно уже в натуре студень. Напрячься чуток – и готово.» Моряк рассматривал ногти, как лоцию. «Ты же знаешь, я всегда доставляю.»
«Давай тридцать сделаем. И десять тюбиков авансом. На этот раз завтра.»
«Мне сейчас тюбик нужен, Жира.»
«Прогуляйся – получишь.»
Моряк выплыл на Толковище. Уличный разносчик пихнул ему в портрет вайер, прикрыв им свою руку на моряцкой авторучке. Моряк шел дальше. Он вытащил ручку и разломал ее, как орех, своими толстыми, жилистыми, розовыми пальцами. Он извлек свинцовый тюбик. Один конец обрезал маленьким кривым ножом. Изнутри выползло черное облачко тумана и повисло в воздухе кипящим мехом. Лицо Моряка растворилось. Его рот пошел волнами вперед, смыкаясь на длинном тюбике, всасывая черный пух, вибрируя в сверхзвуковой перистальтике, и исчез неслышным розовым взрывом. Лицо вновь сошлось в фокусе, непереносимо резком и ясном, пылая желтой маркой мусора, опаляющей серые ляжки миллиона вопящих торчков.
«Так будет длиться месяц,» решил он, сверившись с незримым зеркалом.
Все улицы Города скатывались вниз между каньонами, становившимися все глубже и глубже, к громадной площади в форме почки, заполненной тьмой. Стены улицы и площади истыканы жилыми клетушками и кафе, некоторые из них – всего несколько футов глубиной, а некоторые простираются, пока хватает глаз, лабиринтами комнат и коридоров.
На всех уровнях пересечения мостов, подмосток, фуникулеров. Юноши-кататоники, переодетые женщинами, в платьях из джута и гнилых тряпках, с лицами, грубо и густо размалеванными яркими красками поверх слоя побоев, арабесок треснувших, сочащихся шрамов до самой жемчужной кости, толкают прохожего в молчаливой льнущей настойчивости.
Контрабандисты, торгующие Черным Мясом, плотью гигантской водной черной многоножки – иногда достигающей длины шести футов – обитающей в проходе между черных скал и переливающихся бурых лагун, выставляют парализованных ракообразных в закамуфлированных кармашках Толковища, видимых одним только Мясоедам.
Последователи устаревших немыслимых занятий, машинально рисующие этрусские закорючки, пристрастившиеся к еще не синтезированным наркотикам, чернорыночники Третьей Мировой войны, акцизные телепатической чувствительности, остеопаты духа, расследователи нарушений, изобличаемых ломовыми параноидными шахматистами, прислужники фрагментарных ордеров, записанных гебефренической скорописью и обвиняющих в несказанных надругательствах над духом, чиновники неконституционных полицейских государств, ломщики изысканных грез и ностальгий, испытанных на клетках мусорной болезни с повышенной чувствительностью и выменянных на сырье воли, пьяницы Тяжелой Жидкости, запечатанной в полупрозрачный янтарь снов.
Кафе Встреч занимает одну сторону Толковища, лабиринт кухонь, ресторанов, ночлежных каморок, опасных железных балконов и подвалов, выходящих к подземным баням.
На табуретах, обитых белым атласом, сидят нагие Воротилы, посасывая полупрозрачные разноцветные сиропы сквозь алебастровые соломинки. У Воротил нет печени, и они вскармливают себя исключительно на сладостях. Тонкие, лилово-синие губы прикрывают острый, как бритва, клюв из черной кости, которым они зачастую рвут друг друга в клочья, если не поделят клиента. Эти существа выделяют из своих возбужденных пенисов вызывающую привыкание жидкость, которая продляет жизнь, замедляя метаболизм. (Фактически, все агенты долголетия, как доказано, вызывают привыкание в прямой пропорции к их эффективности в продлении жизни) Зависшие на жидкости Воротил известны под названием Рептилии. Несколько таких Рептилий перетекают через стулья своими гибкими костями и черно-розовой плотью. Веер из зеленого хряща, покрытый полыми, возбужденными волосками, сквозь который Рептилии впитывают жидкость, взбухает за каждым ухом. Вееры, время от времени колыхаемые невидимыми токами воздуха, также служат некоей формой общения, ведомой только Рептилиям.
Во время Паник, случающихся раз в два года, когда освежеванная, обрушенная Полиция Грез штурмует Город, Воротилы ищут спасения в глубочайших расселинах стены, запечатывая себя в глиняные клетушки, и остаются там в биостазе на много недель. В такие дни серого ужаса Рептилии мечутся все быстрее и быстрее, с визгом проносятся друг мимо друга на сверхзвуковых скоростях, их гибкие черепа трепыхаются на черных ветрах насекомой агонии.
Полиция Грез рассыпается на комочки гнилой эктоплазмы, сметаемой прочь старым наркошей, кашляющим и отхаркивающимся в утреннем кумаре. Чувак Воротил приходит с алебастровыми банками жидкости, и Рептилии разглаживаются.
Воздух снова неподвижен и чист, как глицерин.
Моряк засек свою Рептилию. Он подплыл к ней и заказал зеленый сироп. У Рептилии был маленький, круглый диск рта с бурой щетиной, невыразительные зеленые глаза, почти полностью прикрытые тонкой пленкой век. Моряк ждал час, пока тварь не осознает его присутствия.
«Есть яйца для Жиры?» спросил он, и его слова зашевелились в волосках веера Рептилии.
Рептилии потребовалось два часа, чтобы поднять три розовых прозрачных пальца, покрытых черным пушком.
Несколько Мясоедов валялись в блевотине, слишком ослабев, чтобы пошевельнуться. (Черное Мясо – вроде разложившегося сыра, ошеломляюще вкусное и тошнотворное, поэтому едоки едят его и блюют, и едят снова, пока не падают в измождении)
Размалеванный юноша проскользнул внутрь и схватил один из огромных черных когтей, пустив клубы сладкого, тошнотворного дыма по всему кафе.
БОЛЬНИЦА
Заметки О Дезинтоксикации. Паранойя ранней стадии соскока… Все выглядит голубым… Плоть мертва, одутловата, тускла.
Кошмары Соскока. Кафе, обрамленное зеркалами. Пустое… В ожидании чего-то… В боковом проеме дверей возникает человек… Худощавый маленький араб в бурой джеллабе с седой бородой и серым лицом… У меня в руке кувшин с кипящей кислотой… В конвульсии необходимости я плескаю ее ему в лицо…
Все похожи на наркоманов…
Предпринимаю небольшую прогулку по больничному дворику… Пока меня не было, кто-то брал мои ножницы, они измазаны какой липкой, красно-бурой жижей… Без сомнения, эта сучка-криада подравнивает ими свою ветошь.
Ужасные на вид европейцы заполонили собой лестницу, перехватывают медсестру, как раз когда мне нужно лекарство, впустую ссут в тазик, когда я моюсь, занимают туалет по многу часов кряду – вероятно, пытаются выудить резиновый палец с бриллиантами, который закурковали у себя в заднице…
На самом деле, весь клан европейцев переехал ко мне поближе… Старой мамаше делают операцию, а ее доченька влезает в самое нутро проследить, чтоб эту рухлядь обслужили как полагается. Странные посетители, предположительно родственники… На одном вместо очков такие прибамбасы, которые ювелиры ввинчивают себе в глаза, чтоб изучать камни… Вероятно, опустившийся гранильщик алмазов… Человек, испохабивший Трокмортонский Бриллиант и вышибленный из отрасли… Все эти ювелиры, столпившиеся вокруг Бриллианта в своих рясах, прислуживающие Чуваку. Ошибка в одну тысячную дюйма полностью гробит камень, и им приходится специально импортировать этого типа из Амстердама, чтоб сделал работу… И вот он вваливается вусмерть бухой с громадным отбойным молотком и раздалбывает алмаз в прах…
Я не подрубаюсь по этим гражданам… Сбытчики дури из Алеппо?… Контрабандисты выкидышей из Буэнос-Айреса?… Нелегальные покупатели алмазов из Йоханнесбурга?… Работорговцы из Сомалиландии? Подельники, по меньшей мере…
Непрерывные сны о мусоре: Я ищу маковое поле… Самогонщики в черных стетсонах отправляют меня в Ближневосточное кафе… Один из официантов – связник по югославскому опию…
Покупаю пакет героина у Малайской Лесбиянки в кителе с белым ремнем… Тырю бумажку в тибетском отделе музея. Она пытается отлямзить ее обратно… Ищу место вмазаться…
Критическая точка соскока – не ранняя фаза обостренной болезни, а финальный шаг на свободу от мусорной среды… Начинается кошмарная интерлюдия клеточной паники, жизнь зависает между двумя способамибытия… В этот момент тяга к мусору концентрируется в последнем, всевыплескивающемся усилии и, кажется, приобретает сновидческую силу: обстоятельства подкладывают мусор тебе на пути… Ты встречаешь Шмекера былых времен, вороватого больничного служителя, старпера-писателя…
Охранник в форме из человеческой кожи, в черной куртке с пуговицами из съеденных кариесом желтых зубов, эластичной водолазке цвета полированной индейской меди, подростково-нордических смуглых штанах, сандалиях из ороговевших от мозолей подметок молодого малайского фермера, в пепельно-буром шарфике, повязанном и заткнутом под рубашку. (Пепельно-бурый – это цвет вроде серого под коричневой кожей. Иногда его можно найти у помесей негров и белых, смесь эта не сошла, и цвета разделились, словно масло на воде…)
Охранник – франт, поскольку ему больше нечем заняться, и всю свою зарплату он откладывает на хорошую одежду, и переодевается по три раза на дню перед громадным увеличивающим зеркалом. У него латинское смазливо-гладкое лицо с тоненькими усиками, словно прочерченными карандашиком, маленькие черные глазки, пустые и жадные, не видящие снов насекомые глаза.
Когда я добираюсь до границы, Охранник выскакивает из своей каситы, на шее у него болтается зеркало в деревянной рамке. Он пытается сдернуть его с шеи… Такого никогда раньше не было, чтобы кто-то добрался до границы. Охранник повредил себе гортань, пытаясь снять зеркальную рамку… Он потерял голос… Он открывает рот, видно, как внутри у него скачет язык. Гладкое тупое юношеское лицо и раскрытый рот с прыгающим внутри языком невероятно отвратительны. Охранник тянет руку. Все тело его сотрясается в конвульсиях неприятия. Я подхожу и отмыкаю цепь, перегораживающую дорогу. Она падает с лязгом металла о камень. Я прохожу. Охранник остается стоять в тумане, глядя мне вслед. Затем снова запирает цепь, возвращается в каситу и принимается выщипывать себе усики.
Только что принесли так называемый завтрак… Яйцо вкрутую с очищенной скорлупой являет собой предмет, подобного которому я ни разу в жизни не видел… Очень маленькое яичко желтовато-бурого цвета… Возможно, снесено утконосом. Апельсин содержал только громадного червяка и довольно мало всего остального… Вот уж в самом деле, кто смел, тот и съел… В Египте есть червяк, проникающий вам в почки и вырастающий там до невообразимых размеров. В конечном итоге, почка становится лишь тонкой скорлупкой вокруг червя. Небрезгливые гурманы ценят плоть Червя превыше всех прочих деликатесов. Говорят, она невыразимо вкусна… Коронер Интерзоны, известный по кличке Ахмед-Вскрытие, сколотил себе состояние, подпольно торгуя Червем.
Напротив моего окна – французская школа, и я врубаюсь в мальчишек через свой восьмикратный полевой бинокль… Так близко, что я мог бы протянуть руку и дотронуться до них… На них шортики… Я вижу гусиную кожу у них на ногах холодным Весенним утром… Я проецирую себя сквозь бинокль, через дорогу, призрак в утреннем солнечном свете, раздираемый бестелесной похотью.
Я вообще когда-нибудь вам рассказывал про тот раз, когда мы с Марвом заплатили двум арабским пацанятам шестьдесят центов, чтобы посмотреть, как они отдрючат друг друга? Тогда я говорю Марву, «Как ты думаешь, они это сделают?»
А тот отвечает, «Думаю, да. Они проголодались.»
А я говорю, «Вот такими они мне и нравятся.»
Я как бы начинаю от этого себя чувствовать грязным стариком, но, «Son cosas de la vida,» как сказал Трезвяга де ла Флор, когда легавые прикопались к нему за то, что он ухайдокал эту пизду, а труп завез в Бар-О-Мотель и выеб его…
«Она сама сильно допросилась,» говорит он… «Терпеть не могу этих воплей.» (Трезвяга де ла Флор был мексиканским уголовным зэком с несколькими довольно бессмысленными убийствами на счету)
Уборная была заперта три часа кряду… Думаю, ею пользуются вместо операционной…
СЕСТРА: «Не могу найти у нее пульс, доктор.»
Д-Р БЕНВЭЙ: «Может, она его себе в резиновом пальце в щелку запихала.»
СЕСТРА: «Адреналин, доктор.»
Д-Р БЕНВЭЙ: «Ночной портье весь его себе вмастырил оттяга ради.» Он озирается и берет такую резиновую присоску на палке, которой прочищают унитазы… Он надвигается на пациентку… «Проводите надрез, доктор Лимпф,» говорит он своему довольно потрясенному ассистенту… «Я сегодня буду массировать сердце.»
Д-р Лимпф пожимает плечами и начинает разрез. Д-р Бенвэй споласкивает вантуз, болтая его по унитазу…
СЕСТРА: «Разве его стерилизовать не нужно, доктор?»
Д-Р БЕНВЭЙ: «Весьма вероятно, но времени нет.» Он присаживается на вантуз, будто на трость с сиденьем, наблюдая, как ассистент делает надрез… «Вы, шпана зеленая, даже прыщика вскрыть не можете без скальпеля с электровибратором, автоматическим отсосом крови и наложением швов… Скоро мы будем оперировать с дистанционным управлением больных, которых так и не увидим… Только на кнопочки нажимать и придется… Из хирургии все мастерство уходит… Все знания, все умения… Я вам когда-либо рассказывал про тот случай, когда я вырезал аппендицит ржавой жестянкой из-под сардин? А однажды вляпался в историю без инструмента номер один, и пришлось удалять маточную опухоль зубами. То было в Верхнем Эффенди, а кроме этого…»
Д-Р ЛИМПФ: «Разрез готов, доктор.»
Д-р Бенвэй впихивает вантуз в разрез и начинает давить на него – вверх-вниз. Кровь хлещет на врачей, сестру и стену… Вантуз ужасающе хлюпает.
СЕСТРА: «Мне кажется, она скончалась, доктор.»
Д-Р БЕНВЭЙ: «Ну что ж, чего в жизни не бывает.» он подходит к шкафчику с препаратами на другой стороне комнаты… «Какой-то ебучий наркоман заболтал мой кокаин с хлоркой! Сестра! Отправьте мальчишку отоварить этот рецепт – мухой!»
Д-р Бенвэй проводит операцию в аудитории, полной студентов. «Ну, мальчики, теперь такие операции вы нечасто увидите, и вот почему… Видите ли, медицинской ценности в ней абсолютно никакой нет. Никто не знает, в чем была ее первоначальная цель, да и была ли она вообще. Лично я думаю, что она с самого начала была творением чистого искусства.
«Подобно тореадору, своим умением и знаниями избегающему опасностей, кои сам же на себя и вызвал, так и в этой операции хирург намеренно подвергает опасности своего пациента, а затем, с невероятной быстротой и проворством спасает его от смерти в последнюю возможную долю секунды… Кто-либо из вас видел когда-нибудь, как исполняет операцию Д-р Тетраццини? Я говорю исполняет с умыслом, поскольку его операции – это представления. Он начинает, запуская в больного скальпелем через всю комнату, а затем входит и сам, словно солист балета. Скорость его невероятна: «Я не даю им времени умереть,» говорит обычно он. Опухоли вызывали у него бешеное неистовство. «Ебаные недисциплинированные клетки!» рычал он обычно, атакуя опухоль ножом, как в уличной драке.»
Молодой человек спрыгивает с задних рядов к столу и, выхватив скальпель, надвигается на пациента.
Д-Р БЕНВЭЙ: «Эспонтаньо! Остановите его, пока он мне больного не выпотрошил!»
(Эспонтаньо – таким словом в корриде называют человека из публики, который выскакивает на арену, выхватывает запрятанную накидку и пытается проделать несколько пассов перед быком, пока его не успели оттащить с арены)
Ординардцы возятся с эспонтаньо, которого, в конце концов, вышвыривают из зала. Анестезиолог пользуется сумятицей, чтобы спереть крупную золотую фиксу изо рта больного…
Я прохожу мимо комнаты 10, из которой меня перевели вчера… Роды, полагаю… Горшки с кровью, тампонами и безымянными женскими субстанциями, которых хватит на то, чтобы загрязнить целый континент… Если кто-нибудь придет навестить меня в мою прежнюю комнату, то подумает, что я родил чудовище, а Госдепартамент теперь пытается это скрыть от общественности…
Музыка из Я – Американец… Пожилой господин в полосатых штанах и визитке дипломата стоит на платформе, обтянутой американским флагом. Разложившийся тенор в корсете – не вмещаясь в костюм Дэниэла Буна – поет Звездно-Полосатое Знамя по аккомпанемент всего оркестра. Он поет и слегка шепелявит…
ДИПЛОМАТ (читая с огромного свитка телеграфной ленты, который все увеличивается и запутывается у него в ногах): «И мы категорически отрицаем, что какой бы то ни было гражданин Соединенных Штатов Америки мужского пола…»
ТЕНОР: «О фкавы, видиф ты…» Голос у него ломается и выстреливает пронзительным фальцетом.
В радиорубке Техник мешает бикарбонат соды и срыгивает в ладонь: «Чертов тенор – ловкий жулик!» кисло бормочет он. «Майк! Рампф.», крик завершается отрыжкой. «Обруби этого пердуна понтяжного и выдай ему лиловый билет. Он уволен с этого момента… Поставь вместо него эту Лиз, атлетку, которая раньше мужиком была… Она, по крайней мере, тенор не по совместительству… Костюм? Откуда я, к ебеням, знаю? Я тебе не хлыщ-модельер из костюмерной! Чего еще? Весь костюмерный отдел закрыли по соображениям безопасности? Что я вам, осьминог? Давай поглядим… Как насчет номера с индейцем? Покахонтас или Гайавата?… Нет, так не годится. Какой-нибудь гражданин обязательно ляпнет, что нужно вернуть ее индейцам… Униформа Гражданской войны, китель с Севера, а штаны с Юга, чтоб как бы показать, что они снова вместе? Она может выйти как Буффало Билл или Пол Ревер, или тот гражданин, что никак не хотел валить с руля, то есть судно подкладывать не хотел, или как Пехтура, или Дохляк, или как Неизвестный Солдат… Так лучше всего будет… Накрой ее памятником, так на нее глазеть никому не придется…»
Лесбиянка, спрятанная в Триумфальной Арке из папье-маше, набирает воздуху в легкие и испускает неимоверный рев.
«О скажи, вьется ли Звездный наш Флаг…»
Здоровенная прореха распарывает Триумфальную Арку сверху донизу. Дипломат подносит руку ко лбу…
ДИПЛОМАТ: «Что любой гражданин Соединенных Штатов Америки мужского пола родил в Интерзоне или любом другом месте…»
«Над землчю СВОБОООООООООООООДЫ…»
Рот Дипломата шевелится, но никто его не слышит. Техник зажимает уши руками: «Матерь Божья!» вопит он. Его вставная челюсть начинает дрожать, как варган, неожиданно вылетает у него изо рта… Он раздраженно щелкает зубами, пытаясь ее поймать, промахивается и прикрывает рот ладонью.
Триумфальная Арка рушится с душераздирающим, оглушительным треском, обнажает под собой Лесбиянку, стоящую на пьедестале, облаченную лишь в суспензорий из леопардовой шкуры с неимоверными подкладными грудями… Она стоит там, глупо улыбаясь и поигрывая своими огромными мускулами… Техник ползает по полу контрольной рубки в поисках своей челюсти и орет неразборчивые приказы: «Шверх жвуковое фто-то! Жаткни тефь там!»
ДИПЛОМАТ (отирая со лба пот): «Какое бы то ни было существо какого бы то ни было типа или наружности…»
«Над страной храбрецов.»
Лицо Дипломата серо. Он шатается, запутывается в свитке, валится на перила, из глаз, носа и рта хлещет кровь, умирая от кровоизлияния в мозг.
ДИПЛОМАТ (едва слышно): «Департамент отрицает… не-американски… Он был уничтожен… в смысле, никогда не был… Категор…» Умирает.
В Контрольной Рубке приборные панели взрываются… огромные ленты электрического серпантина с треском проносятся по всей комнате… Техник, обнаженный, тело обожжено дочерна, шатаясь, бродит, будто фигура из Gotterdammerung, вопя при этом: «Шверх жвуково!! Эй вы чам!!!» Окончательный взрыв звука обращает Техника в угли.
Ночи доказал
Что наш флаг так же горд…
Заметки О Привычке. Ширяюсь Эвкодолом каждые два часа. У меня есть место, где я могу скользнуть иглой себе прямо в вену. Она остается все время открытой, как красный, гноящийся рот, вспухший и непристойный, накапливает медленную капельку крови и гноя после сеанса…
Эвкодол – химическая разновидность кодеина, дигидрооксикодеин.
Эта дрянь торкает больше как кокс, чем как марфа… Когда двигаешься Кокой в главный канал, к голове стремительно приливает чистое наслаждение… Через десять минут хочется еще одного сеанса… Удовольствие от морфия – в потрохах… После шпиганки вслушиваешься в себя… А марафет внутривенно – электрический разряд сквозь мозг, активирующий связки кокаинового наслаждения… У кокса нет синдрома соскока. Это – нужда одного лишь мозга, нужда без тела и без чувства. Нужда призрака, по которому землица плачет. Стремление к коксу длится всего лишь несколько часов, ровно столько, сколько стимулируются коксовые каналы. После этого о нем забываешь. Эвкодол же – как комбинация мусора и кокса. Если нужно сварганить какое-нибудь действительно адское говно – доверьтесь немцам. Эвкодол, как и морфий, в шесть раз сильнее кодеина. Героин в шесть раз сильнее морфия. Дигидрооксигероин должен быть в шесть раз сильнее героина. Вполне возможно разработать наркотик, формирующий такую привычку, что одного сеанса хватит на пожизненную наркоманию.
Продолжение Заметок О Привычке: Беря в руку струну, я непроизвольно тянусь левой рукой за перетяжкой. Этот жест я принимаю за знак того, что могу шоркнуться в единственную годную вену на левой руке. (Движения при перетяжке таковы, что обычно вы перетягиваете ту руку, которой тянетесь за жгутом) На краю мозоли игла скользит внутрь гладко. Я ощупываю вокруг. Вдруг тоненький столбик крови выстреливает в шприц, на какое-то мгновение острый и плотный, как красный шнурок.
Тело знает, в какие вены можно шоркаться, и передает это знание спонтанными движениями, которые вы совершаете, готовясь к шпиганке… Иногда игла шевелится и указывает, словно прутик лозоходца. Иногда послания я вынужден ждать. Но стоит ему прийти, как я постоянно натыкаюсь на кровь.
Красная орхидея расцвела на дне пипетки. Он с секунду посомневался, затем надавил на резиновый пузырек, наблюдая, как жидкость хлынула в вену, как бы засосанная неслышной жаждой его крови. В пипетке осталась переливающаяся тоненькая пленка крови, и белый бумажный воротничок весь пропитался ею, как бинт. Он нагнулся и набрал в пипетку воды. Когда он выжимал из машинки воду, зараза шарахнула его в живот – мягкий сладкий удар.
Опустил взгляд на свои грязные штаны, не менял их несколько месяцев… Дни скользят мимо, нанизанные на шприц длинной ниткой крови… Я забываю секс и все острые наслаждения тела – серый, привязанный к мусору призрак. Мальчишки-испанцы зовут меня El Hombre Invisible – Человек-Невидимка…
Двадцать отжиманий каждое утро. Употребление мусора удаляет жир, оставляет мускулы более-менее нетронутыми. Наркоману, кажется, нужно все меньше и меньше ткани… Возможно ли будет выделить сжигающую жир молекулу мусора?
Больше и больше статики в Аптеке, бормотанья контроля, как телефонная трубка, снятая с крючка… Потратил весь день до 8 вечера, чтоб нахнокать две упаковки Эвкодола…
На исходе и вены, и деньги.
Откидон продолжается. Вчера ночью проснулся от того, что кто-то сжимает мне руку. То была моя другая рука… Засыпаю за чтением, и слова принимают значение шифра… Одержим шифрами… Человек заражается цепочками болезней, выдающих зашифрованное послание…
Ужалился на глазах у Д.Л. Нащупываю вену в босой левой ноге… У торчков нет стыда… Они непроницаемы для отвращения остальных. Сомнительно, чтобы стыд мог существовать в отсутствие сексуального либидо… Стыд торчка исчезает вместе с его несексуальной общительностью, которая также зависит от либидо… Наркоман относится к своему телу безлично, как к инструменту поглощения среды, в которой он обитает, оценивает свою ткань холодными руками лошадника. «Ширяться сюда бестолку.» Мертвые рыбьи глаза шарят по изувеченной вене.
Пользуюсь снотворным нового типа, называется Сонерил… Сонным себя не чувствуешь… В сон сдвигаешься без перехода, резко выпадаешь прямо в середину сновидения… Я много лет провел на зоне, страдая от недоедания…
Президент – торчок, но не может принять это прямо из-за своего положения. Поэтому он шмыгается через меня… Время от времени мы входим в контакт, и я его подзаряжаю. Эти контакты выглядят, для случайного наблюдателя, как гомосексуальные практики, но действительное возбуждение не сексуально в первую голову, а климакс – момент разрыва, когда перезарядка завершена. В контакт вводятся восставшие пенисы – по крайней мере, мы пользовались этим методом в начале, но контактные точки изнашиваются, как вены. Теперь мне иногда приходится проскальзывать своим пенисом под его левое веко. Разумеется, я всегда могу заразить его Осмотической Подзарядкой, которая соответствует подкожному впрыскиванию, но это означает признать поражение. О.П. испортит настроение Президенту на много недель и вполне может повлечь за собой атомные заморочки. И Президент платит высокую цену за свою Окольную Привычку. Он пожертвовал всем контролем и зависим, как нерожденное дитя. Окольный Наркоман страдает от целого спектра субъективного ужаса, неслышного фотоплазменного неистовства, омерзительной агонии костей. Напряги нарастают, чистая энергия без эмоционального наполнения, в конце концов, продирает все тело, швыряя его в стороны, будто человека в контакте с высоковольтными проводами. Если его связь подзарядки намертво обрезана, Окольный Наркоман впадает в настолько яростные электрические конвульсии, что кости его расшатываются, и он умирает с собственным скелетом, изо всех сил пытающимся выкарабкаться из своей нестерпимой плоти и бежать по прямой к ближайшему кладбищу.
Отношения между О.Н. (Окольным Наркоманом) и его С.П. (Связным Подзарядки) так интенсивны, что они в силах терпеть общество друг друга лишь очень краткие и нечастые промежутки времени – я имею в виду, помимо встреч для перезарядки, когда все личное общение затмевается процессом подзарядки.
Читаю газету… Что-то насчет тройного убийства на рю де Рьма, Париж: «Сведение счетов.»… Продолжаю ускользать… «Полиция идентифицировала автора… Пепе Эль Кулито… Маленькая Срака, уменьшительно ласкательная кличка.» Что, в самом деле так написано?… Пытаюсь поймать слова в фокус… они распадаются бессмысленной мозаикой…
ЛАЗАРЬ, СТУПАЙ ДОМОЙ
Роясь в поблекшей пленке на съемной границе – в вялой серой местности, зияющей зловонными провалами и испещренной отверстыми дырами торча, Ли обнаружил, что молодой планкеша, стоящий в его комнате в 10 часов утра, вернулся с Корсики после двух месяцев водолазания и соскочил с иглы…
«Пришел повыпендриваться своим новым телом,» решил Ли, содрогаясь от утренних ломок. Он знал, что видел – ах да, Мигель, спасибо – три месяца назад, сидя в Метрополе, отключился над черствым желтым эклером, которым два часа спустя отравится кошка, решил, что усилия, затраченного на то, чтобы увидеть Мигеля вообще в 10 утра, вполне достаточно и без невыносимой работы по исправлению ошибки – («что это за ебаная ферма?»), что, к тому же, потянет за собой нынешний вид Мигеля в сильно попользованных областях, как некоего громадного, неудобного зверя, лежащего поверх остальных вещей в чемодане.
«Ты великолепно выглядишь,» сказал Ли, стирая более очевидные признаки отвращения неряшливой, повседневной салфеткой, при виде серой жижи мусора, проступающей на лице Мигеля, изучая узоры изношенности, как если бы и сам человек, и его одежда много лет перемещались по закоулкам времени, а космическая станция, где можно было бы привести себя в порядок, им так никогда и не попалась…
«Кроме этого, к тому времени, как я мог бы исправить ошибку… Лазарь, иди вон… Уплати Чуваку и ступай домой… К чему мне лицезреть твои старые телеса, взятые напрокат?»
«Ну что ж, клево, что ты соскочил… Оказал себе любезность.» Мигель плавал по комнате, гарпуня рыбу рукой…
«Когда там, то о гарике вообще не думаешь.»
«Тебе так лучше,» сказал Ли, мечтательно оглаживаяшрам от иглы на тыльной стороне руки Мигеля, медленными завихрениями пальца водя по изгибам и узорам гладкой лиловой плоти…
Мигель почесал руку… Выглянул в окно… Его тело шевелилось крохотными гальванизированными рывками по мере того, как зажигались мусорные каналы… Ли сидел и ждал. «От одного сеанса еще обратно никто не садился, пацан.»
«Я знаю, что делаю.»
«Все всегда знают.»
Мигель взял пилочку для ногтей.
Ли прикрыл глаза: «Слишком утомительно.»
«А, спасибо, было здорово.» Брюки Мигеля опали на лодыжки. Он стоял в бесформенном чехле плоти, из бурой становившейся зеленой, затем бесцветной в утреннем свете, комьями отваливавшейся на пол.
Глаза Ли шевелились в веществе лица… маленький, холодный, серый проблеск… «Убери за собой,» сказал он. «И без этого грязи хватает.»
«О, э-э, конечно,» Мигель загоношился с совочком.
Ли спрятал пакет героина.
Ли жил на постоянном трехдневном оттяге с, разумеется, определенными, э-э необходимыми перерывами, чтобы подкинуть дровишек в огонь, снедавший его желто-розово-бурое желеобразное вещество и не подпускавший излишек маячащей плоти. В начале плоть его была просто мягка – так мягка, что его до кости ранили пылинки, сквозняки и шуршавшие мимо полы пальто, в то время как непосредственный контакт с дверями и стульями дискомфорта, казалось, не вызывал. Ни одна рана не заживала в его мягкой, неуверенной плоти… Длинные белые щупальцы грибов обвивали обнаженные кости. Затхлые ароматы атрофировавшейся мошонки окутывали его тело мохнатым серым туманом…
Во время его первой жестокой инфекции закипевший градусник сверкнул ртутной пулей прямо в череп медсестре, и та пала замертво с исковерканным воплем. Врач окинул его одним взглядом и захлопнул стальные шторы надежды на спасение. Он приказал немедленно вышвырнуть с территории больницы и пылающую постель, и ее обитателя.
«Он, наверное, сам свой пенициллин вырабатывать умеет!» проворчал врач.
Но инфекция выжгла плесень… Ли теперь жил с разными степенями прозрачности… Хоть он и не был в точности невидимкой, но разглядеть его, по меньшей мере, было сложно. Его присутствие не привлекало особого внимания… Люди прикрывали его проекцией, либо отмахивались от него, как от отражения, от тени: «Какая игра света или неоновая вывеска.»
Теперь Ли чувствовал первую сейсмическую дрожь подступавшего Старого Верного Холодного Ожога. Он выпихнул дух Мигеля в коридор добрым, твердым щупальцем.
«Господи!» сказал Мигель. «Мне пора!» Он выскочил наружу.
Розовые языки гистамина пыхнули из раскаленной сердцевины Ли и покрыли собой всю его болезненную периферию. (Комната была огнеупорной, стены из железа обожжены и усеяны лунными кратерами) Он вмазался по-крупной и фальсифицировал свой распорядок.
Он решил навестить коллегу, НеГодного Джо, которого подцепило во время приступа Шпиг-утота в Гонолулу.
(Примечание: Шпиг-утот, буквально, «попытка подняться со стоном…» Смерть посреди кошмара… Состояние, поражающее выходцев из ЮВ Азии мужского пола… В Маниле около двенадцати смертельных случаев Шпиг-утота рагистрируется каждый год.
Один из поправившихся рассказывал, что у него на груди сидел «маленький человечек» и душил его.
Жертвы зачастую знают, что умрут, выказывают страх того, что их пенис войдет в тело и прикончит их. Иногда они хватаются за пенис в состоянии вопящей истерики, зовя других на помощь, чтобы пенис не сбежал и не пронзил им тело. Эрекции, вроде тех, что обычно происходят во сне, считаются особенно опасными и способными вызвать начальный приступ…Один человек разработал хитроумное приспособление в духе Руба Голдберга для предотвращения эрекции во сне. Он он умер от Шпиг-утота.
Тщательные вскрытия жертв Шпиг-утота не выявили никаких естественных причин смерти. Часто наблюдаются признаки удушения (вызванного чем?); иногда незначительные кровотечения из поджелудочной железы и легких – недостаточные для смертельного исхода и также неизвестного происхождения. Автору пришло в голову, что причина смерти – неверно направленная сексуальная энергия, заканчивающаяся эрекцией легкого с последующим удушением…1)
НГ жил в постоянном страхе эрекции, поэтому его привычка все скакала и скакала вверх. (Примечание: Хорошо известный утомительный факт, печально известный, скучный и замысловатый факт заключается в том, что любому подсевшему из-за какой бы то ни было неспособности вообще будет выставлен, в периоды нехватки или лишения2 неслыханно раздутый, геометрически прогрессирующий, множащийся счет)
Электрод, подсоединенный к одному из яичек, затлел на мгновение, и НГ проснулся от запаха горящей плоти и потянулся за заряженным шприцем. Он свернулся зародышем и скользнул иглой себе в позвоночник. Затем вытянул иглу, тихонько вздохнув от удовольствия, и осознал, что в комнате находится Ли. Из правого глаза Ли, волнообразно колыхаясь, выдвинулся слизень и написал на стене радужно переливающейся жижей: «Моряк – в Городе, скупает ВРЕМЯ.»
Я жду перед входом, когда в девять часов откроется аптека. Двое мальчишек-арабов подкатывают мусорные баки к массивной деревянной двери в побеленной стене. Пыль перед дверью исчерчена струйками мочи. Один из мальчишек склонился, перекатывая тяжелый бак, штаны натянуты на его поджарой юной попке. Он смотрит на меня безразличным, спокойным взглядом животного. Я просыпаюсь как от толчка, осознавая, что мальчик может быть настоящим, а я просохатил стрелку, назначенную у меня с ним на сегодняшний день.
«Мы ожидаем дополнительных уравниваний,» говорит Инспектор в интервью Вашему Корреспонденту. «Иначе наступит,» Инспектор задирает одну ногу типично нордическим жестом, «кессонная болезнь, не так ли? Но, вероятно, мы сможем обеспечить подходящую декомпрессионную камеру.»
Инспектор расстегивает ширинку и начинает выискивать мандавошек, то и дело подмазываясь мазью из маленького глиняного горшочка. Интервью явно подошло к концу. «Вы не уходите?» восклицает он. «Что ж, как сказал один судья другому: «Будь справедлив, а если не можешь, то суди от фонаря». Сожалею, что не в состоянии соблюдать привычные непристойности.» Он протягивает правую руку, всю в вонючей желтой мази.
Чей-то Корреспондент бросается вперед и сжимает испачканную руку обеими своими. «Было очень приятно, Инспектор, невыразимо приятно,» произносит он, сдирая с рук перчатки, комкая их и швыряя в мусорную корзину. «Представительские расходы,» улыбается он.
ШУМНАЯ КОМНАТА ХАССАНА
Позолота и красный плюш. Бар в стиле рококо, обрамленный розовой раковиной. Воздух насыщен сладкой злой субстанцией, вроде разложившегося меда. Мужчины и женщины в вечернем платье посасывают слоеные разноцветные ликеры сквозь алебастровые трубочки. Ближневосточный Воротила сидит нагой на табурете у стойки, покрытый розовым шелком. Он слизывает теплый мед с хрустального кубка длинным черным языком. Его половые органы сложены идеально – обрезанный хуй, черные с отливом волосы лобка. Губы его тонки и лилово-сини, будто губы пениса, а глаза пусты от насекомого спокойствия. У Воротилы нет печени, поддерживает себя исключительно сладостями. Воротила толкает стройного светловолосого юношу на тахту и со знанием дела раздевает его.
«Встань и повернись,» приказывает он телепатическими пиктограммами. Он связыват мальчику руки за спиной красным шелковым шнуром. «Сегодня вечером мы дойдем до конца.»
«Нет, нет!» вопит мальчик.
«Да. Да.»
Хуи извергаются неслышным «да». Воротила раздвигает шелковые занавеси, за которыми перед подсвеченным экраном из красного кремния стоит виселица из тикового дерева. Она располагается на возвышении, украшенном ацтекскими мозаиками.
Мальчик валится на колени с протяжным «ООООООООХ,» обсераясь и обссыкаясь от ужаса. Он ощущает тепло говна между бедер. Огромная волна горячей крови вздувает его губы и гортань. Тело его сжимается в зародыши сперма горячей струей бьет в лицо. Воротила зачерпывает горячей благоухающей воды из алебастровой чаши, задумчиво подмывает мальчику жопу и хуй, вытирает его мягким синим полотенцем. Теплый ветер играет по телу мальчика и волосы его полощутся свободно. Воротила просовывает руку мальчику под грудь и ставит его на ноги. Держа за оба прижатые к телу локтя, подталкивает его вверх по ступенькам под самую петлю. Он останавливается перед мальчиком, держа петлю обеими руками.
Мальчик смотрит в глаза Воротиле, пустые, словно обсидиановые зеркала, пруды черной крови, дыры между кабинками сортира, смыкающиеся на Последней Эрекции.
Старый сборщик мусора, лицо утонченное и пожелтевшее, точно китайская слоновая кость, выдувает Таски из своей гнутой медной дудки, будит испанца-шмаровоза, у которого встал. Спотыкаясь сквозь завесу пыли, говно и дохлых котят, выходит блядь, неся охапки мертоврожденных зародышей, рваные гондоны, окровавленные тампоны, говно, завернутое в яркие красочные комиксы.
Обширная тихая гавань с радужно переливающейся водой. Сполохи заброшенных газовых скважин на дымном горизонте. Вонь нефти и канализации. Больные акулы рассекают черную воду, отрыгиваются серой из гниющих печенок, не обращают внимания на окровавленного, сломанного Икара. Нагой Мистер Америка, сгорая от неистовства костяного себялюбия, выкрикивает: «Моя жопа посрамит Лувр! Я пержу амброзией и сру какашками из чистого золота! Мой хуй извергает мягкие брильянты в свете утреннего солнца!» Он сигает с безглазого маяка, целуя и дроча перед лицом черного зеркала, скользит по наклонной с загадочными гондонами и мозаикой тысячи газет сквозь утопленный город из красного кирпича, чтобы осесть в черную жижу с жестянками и пивными бутылками, гангстерами в бетоне, пистолетами, расплющенными и бессмысленными, чтобы избежать инспекции табельного оружия снедаемыми любопытством экспертами по баллистике. Он обслуживает медленный стриптиз эрозии окаменелыми чреслами.
Воротила накидывает петлюна голову мальчика и затягивает узел, лаская его за левым ухом. Пенис мальчика ушел в себя, яйца туги. Он смотрит прямо перед собой, глубоко дыша. Воротила обходит боком вокруг мальчика, пихая его в задницу и оглаживая гениталии иероглифами насмешки. Он заходит мальчику за спину и после серии толчков пропихивает хуй ему в жопу. Потом стоит и вращает бедрами.
Гости шикают друг на друга, перепихиваются и хихикают.
Внезапно Воротила сталкивает мальчика вперед, в пустоту, прочь от собственного хуя. Он придерживает мальчика за кости таза, перебирает своими стилизованными иероглифическими руками и, дотянувшись до шеи мальчика, переламывает ее. Тело мальчика содрогается. Его член восстает тремя сильными рывками, подтягивая вверх лобок, немедленно извергает семя.
Зеленые искры взрываются у него в глазах. Сладкая зубная боль пробивает ему шею вниз по позвоночнику до самой промежности, сотрясая тело спазмами упоения. Все его тело выжимается наружу через хуй. Заключительная конвульсия мечет огромную струю спермы поперек красного экрана, будто метеорит.
Мальчик падает, мягко и нутряно засасываясь в лабиринт грошовых галереек и непристойных картинок.
Его жопа прямо выстреливает острой какашкой. Пердеж сотрясает его стройное тельце. Сигнальные ракеты взрываются зелеными купами на другой стороне реки. Он слышит слабое тарахтенье моторки в сумерках джунглей… Под неслышными крыльями комара-анофелеса.
Воротила снова натягивает мальчика себе на хуй. Мальчик извивается, насаженный, точно рыба на острогу. Воротила раскачивается у мальчика на спине, тело его пульсирует жидкими волнами. Кровь струится у мальчика по подбородку изо рта, полуоткрытого, сладкого и надутого в смерти. Воротила плюхается вниз с жидким, насытившимся шлепком.
Конурка с синими стенами без окон. Грязная розовая штора закрывает дверь. По стене ползают красные жуки, собираются по углам. Нагой мальчик посреди комнаты тренькает на двухструнном уде, ощупывает взглядом арабеску на полу. Другой мальчик развалился на постели, покуривая кайф и обдувая дымом свой напряженный хуй. Они играют на постели гадальными картами, чтобы посмотреть, кто кого ебет. Жульничают. Дерутся. Катаются по полу, рыча и плюясь, как юные животные. Проигравший садится на пол, уперев подбородок в колени, зализывает сломанный зуб. Победитель сворачивается на постели, делая вид, что спит. Всякий раз, когда второй мальчик подбирается поближе, лягает его. Али хватает его за лодыжку, зажимает ее под мышкой, рукой перехватывает ляжку. Мальчик отчаянно брыкается, стараясь попасть Али в лицо. Вот зажаты и вторая лодыжка. Али нажимает и ставит мальчика на лопатки. Хуй мальчика вытягивается вдоль живота, паря и свободно пульсируя. Али закидывает его руки себе за голову. Сплевывает на хуй. Второй глубоко вздыхает, когда Али вводит свой хуй внутрь. Рты трутся друг об друга, размазывая кровь. Резкий затхлый запах взломанной прямой кишки. Нимун загоняет внутрь как клин, выжимая спермь из второго хуя длинными горячими струйками. (Автор наблюдал, что хуи арабов имеют склонность быть широкими и клинообразными)
Сатир и нагой парнишка-грек в аквалангах выделывают балетные па в поисках чудовищной вазы из прозрачного алебастра. Сатир ловит парнишку спереди и вихрем разворачивает к себе. Они движутся рывками рыб. Парнишка выпускает серебристую струйку пузырьков изо рта. Белая сперма извергается в зеленую воду и лениво парит вокруг извивающихся тел.
Негр нежно поднимает утонченного китайского мальчика в гамак. Он закидывает ноги мальчика ему за голову и оседлывает гамак. Он проскальзывает своим хуем в мальчиков изящный тугой зад. Он нежно раскачивает гамак взад и вперед. Мальчик вопит, зловещим высоким воем непереносимого восторга.
Яванский танцор в изысканном вращающемся кресле тикового дерева, установленном в гнезде между двух ягодиц из известняка, стягивает американца-мальчика – рыжие волосы, ярко-зеленые глаза – себе на хуй ритуальными движениями. Мальчик сидит, насаженный на него лицом к танцору, вращающему себя круговыми движениями, испуская жидкую субстанцию на кресло. «Уииииииииииии!» визжит мальчик, когда его сперма брызжет на тощую смуглую грудь танцора. Одна из капель ударяется в уголок танцорова рта. Мальчик запихивает ее пальчиком внутрь и смеется: «Чувак, вот это как раз я и называю всасыванием!»
Две арабские женщины со зверскими рожами стащили шортики с маленького светловолосого французского мальчишечки. Они ебут его красными резиновыми хуями. Мальчишечка рычит, кусается, брыкается, заходится в рыданиях, когда его петушок встает и прыскает.
Лицо Хассана вспухает, наливаясь кровью. Губы его лиловеют. Он сдирает с себя костюм из банкнот и швыряет его в открытый сейф, закрывающийся бесшумно.
«Зал Свободы здесь, народы!» орет он со своим липовым техасским акцентом. Десятигаллонная шляпа и ковбойские сапоги все еще на нем, он пляшет Разжижительскую Джигу, заканчивая гротескным канканом под мелодию Она Обдала Волной Жара.
«Да будет так! И не закрыта ни одна дыра!!!»
Пары в барочно изукрашенных сбруях с искусственными крылышками совокупляются в воздухе, вопя, как сороки.
Воздушные акробаты исторгают друг у друга семя в пространстве одним уверенным движением.
Эквилибристы искусно отсасывают друг у друга, балансируя на опасных шестах и стульях, клонящихся над бездной. Теплый ветер несет с собой запах рек и джунглей из туманных глубин.
Мальчики сотнями пикируют сквозь крышу, подрагивая и брыкаясь на концах веревок. Мальчики виснут на разных уровнях, некоторые под самым потолком, а другие в нескольких дюймах от пола. Утонченные балийцы и малайцы, мексиканские индейцы с суровыми невинными лицами и ярко-красными деснами. Негры (зубы, пальцы, ногти на ногах и лобковые волосы позолочены), японские мальчики, гладкие и белые, как китайский фарфор, венецианские парубки с тициановскими волосами, американцы со светлыми или черными чубчиками, спадающими на лоб (гости нежно откидывают их наверх), дующиеся светловолосые поляки с карими глазами животных, арабские и испанские уличные мальчишки, австрийские мальчики, розовые и нежные, с легкой тенью светлых волос на лобке, скалящиеся немецкие юноши с ярко-голубыми глазами вопят «Хайль Гитлер!», когда под ними проваливается крышка люка. Соллубис срет и хнычет.
Г-н Богато-Вульгарный жует свою гавану, похотливый и мерзкий, раскинулся на флоридском пляже в окружении жеманных блондинчиков-плашкетов.
«У этого гражданина есть Латах, которого он импортировал из Индо-Китая. И вот прикидывает он повесить этого Латаха и отправить своим друзьям телевизионную короткометражку на Рождество. Цепляет он, значит, две веревки – одна как бы на растяжку, а другая – самое то, что надо. Латах же этот поднимается в состоянии кровной вражды, надевает свой костюм Деда Мороза и делает все с точностью до наоборот. Наступает рассвет. Гражданин нацепляет одну веревку, а Латах, как это у Латахов обычно бывает, нацепляет другую. Когда дверцы люка опускаются, гражданин виснет взаправду, а Латах стоит с карнавальной резинкой. Ну, и понятно, имитирует каждое подергивание и каждый спазм. Кончает три раза.
«Этому продувному Латаху палец в рот не клади. Я взял его на один из своих заводов экспедитором.»
Ацтекские жрецы сдирают облачение из синих перьев с Нагого Юнца. Они перегибают его назад над известняковым алтарем, прилаживают ему на голову хрустальный череп, закрепляя два полушария, переднее и заднее, хрстальными винтами. На череп обрушивается водопад, переламывая мальчику шею. Он извергает семя в радуге на фоне восходящего солнца.
Резкий белковый запах семени заполняет воздух. Гости ощупывают руками подергивающихся мальчиков, сосут им хуи, виснут у них на спинах, будто вампиры.
Нагие лейб-гвардейцы вносят искусственные легкие, наполненные парализованными юношами.
Слепые мальчики на ощупь выбираются из громадных пирогов, разложившиеся шизофреники выскакивают из резиновой пизды, мальчики с кошмарными кожными болезнями восстают из черного пруда (студенистая рыба покусывает желтые какашки на поверхности).
Мужчина в белдом галстуке и парадной рубашке, нагой от пояса и ниже, если не считать черных пажей, беседует с Пчеломаткой в элегантных тонах (Пчеломатки – старухи, окружающие себя педиками, чтобы образовать «рой». Это зловещая мексиканская практика)
«Но где же скульптурная группа?» Он разговаривает одной стороной лица, другая же корчится в Пытке Миллиона Зеркал. Он дико дрочит. Пчеломатка продолжает беседу, не замечая ничего.
Кушетки, стулья, весь пол начинают дрожать, сотрясая гостей до такой степени, что они превращаются в размытых серых призраков, визжащих в охуелой агонии.
Два паренька отбивают под железнодорожным мостом. Поезд сотрясает их тела насквозь, спускает их, растворяется с дальним гудком. Квакают лягушки. Пареньки смывают сперму с тощих смуглых животов.
Купе поезда: два обдолбанных юных торчка по пути в Лексингтон сдирают с себя штаны в конвульсиях похоти. Один из них намыливает себе хуй и пропихивает его в жопу другому, как штопор. «Бооооооооооооооже!» Оба извергают семя, вставая одновременно. Они отодвигаются друг от друга и натягивают штаны.
«Старый лепила в Маршалле выписывает настойку и сладенькое прованское масло.»
«Геморрой матери-старушки вопит, аж кровью обливается, по Черному Говну… Док, предположим, это твою мать отодрали в жопу местные пиявки, что так и кишат мерзопакостно… Деактивируй этот добок, мамаша, меня от тебя уже тошнит»
«Давай заглянем туда и разведем его на рецепт.»
Поезд рвет себе дальше сквозь дымную высветленную неоном июньскую ночь.
Картинки мужчин и женщин, мальчиков и девочек, животных, рыб, птиц, ритм совокупления вселенной течет по комнате, виликий синий прилив жизни. Вибрирующий, беззвучный гул лесной глуши – внезапная тишь городов, когда торчок выправляет баш. Мгновение, когда все замерло в ожидании чуда. Даже Владелец Льготного Билета прозванивает засоренные линии холестерола в поисках контакта.
Хассан визжит: «Это ты натворил, А.Дж.! Ты мне балчху изговнял!»
А.Дж. смотрит на него, лицо отстраненное, как известняк: «Себе в жопу засунь, чурка разжиженная.»
Врывается орда обуянных похотью американских баб. Сочащиеся пизды, с ферм и пижонских ранчо, с фабрик, из борделей, из сельских клубов, особняков и пригородов, из мотелей, с яхт и из коктейль-баров, сдирают с себя одежду для верховой езды, лыжные костюмы, вечерние платья, ливайсы, домашние халаты, бумазейные платьица, брючки, купальники и кимоно. Они вопят, подвизгивают и воют, прыгают на гостей, как бешеные суки в течке. Они рвут ногтями мальчиков-висельников, вопя: «Ты, пидар! Сволочь ты! Еби меня! Еби меня! Еби меня!» Гости с воплями разбегаются, уворачиваясь от висящих мальчиков, опрокидывают искусственные легкие.
А.Дж.: «Позовите моих Швейцеров, черт побери! Охраните меня от этих лисиц!»
Г-н Хислоп, секретарь А.Дж., отрывает взгляд от своих комиксов: «Швейцеры уже разжижились».
(Разжижение включает в себя расщепление белка и низведение к жидкости, которая впитывается в чье-то другое протоплазменное существо. Хассан, сам видный разжижитель, в данном случае, вероятно, оказывается в выигрыше)
А.Дж.: «Сачки хуесосные! Куда мужику без Швейцеров? Нас приперли к стене, джентльмены. Сами наши хуи поставлены на кон. Товсь отразить абордаж, г-н Хислоп, и раздайте холодное оружие людям.»
А.Дж. выхватывает абордажную саблю и принимается сечь головы Американским Девчонкам. Он похотливо распевает:
Пятнадцать живых на сундук мертвеца
Йо Хо Хо и бутылка рому.
Пей, дьявол всч доведет до конца
Йо Хо Хо и бутылка рому.
Г-н Хислоп, скучающий и безропотный: «Ох, Хоссподи! Снова он за старое!» Он вяло размахивает Веселым Роджером.
А.Дж., окруженный и сражающийся против огромного численного превосходства, откидывает голову и орет в мегафон. Сразу же следом тысяча эскимосов в течке хлещет внутрь, хрюкая и повизгивая, хари распухшие, глаза красны и пылают, губы лиловы, накидываются на американских женщин.
(У эскимосов сезон течки начинается, когда племена кратким Летом собираются вместе, чтобы потешить себя оргиями. Лица их распухают, а губы лиловеют)
Штатный Штемп с сигарой в два фута длиной просовывает голову сквозь стену: «У вас тут что, бродячий зверинец?»
Хассан заламывает руки: «Бардак! Грязный бардак! Клянусь Аллахом, я никогда не видел ничего настолько мерзкого!»
Он бросается на А.Дж., сидящего на рундуке, на плече – попугай, на глазу – повязка, пьет ром из кружки. Он озирает горизонт в большой медный телескоп.
Хассан: «Ах ты дешевая фактуалистская сука! Вали, чтоб и тени твоей больше не падало на мою шумную комнату!»
СТУДГОРОДОК УНИВЕРСИТЕТА ИНТЕРЗОНЫ
Ослы, верблюды, ламы, рикши, повозки с товаром, толкаемые изо всех сил мальчишками, глаза выпучены, словно языки удавленников – пульсируют красным от животной ярости. Стада баранов, козлов, длиннорогатого скота проходят между студентами и кафедрой лектора. Студенты сидят везде на ржавых парковых скамейках, известняковых блоках, парашах, ящиках из-под стеклотары, нефтяных бочках, пнях, пыльных кожаных подушечках, заплесневелых спортивных матах, одеты они в ливайсы – джеллабы… рейтузы и дублет – глушат самогон трехлитровыми банками, кофе из жестянок, смолят ганжу (марихуану) косяками, забитыми из оберточной бумаги и лотерейных билетов… шмаляются мусором с помощью английских булавок и пипеток, изучают беговые формы, комиксы, кодексы майя…
Профессор прибывает на велосипеде, волоча связку бычьих голов. Он влезает на кафедру, хватаясь за поясницу (подъемный кран раскачивает у него над головой мычащую корову).
ПРОФ: «Прошлой ночью был выебан Султановым Войском. Спину растянул на службе своей постоянной королеве… Не могу выселить эту старую манду. Нужно, чтобы лицензированный электрик мозга разъединил ей синопсис за синопсисом, а хирург-пристав выставил ее кишки на тротуар. Когда Ма нагрянет к какому-нибудь мальчонке со всеми пожитками, тот, себя не помня, начинает избавляться от такой Завидной Постоялицы…»
Он бросает взгляд на бычьи головы, мыча песенки 1920-х годов. «Охватил меня, мальчики, приступ ностальгии, и хочу его выместить, хочешь-грохочешь… мальчики гуляют по балаганному Прешпекту, жуя розовую сахарную вату… пихают друг друга под ребра, подглядывая за стриптизом в окошечко… сдрачивают в Чертовом Колесе, швыряясь спермой в красную и дымную луну, встающую над литейными цехами за рекой. Нигра болтается на трехгранном тополе перед Старым Зданием Суда… похныкивающие тетки ловят его сперму вагинальными зубами… (Муж смотрит на маленького мутанта с узкими глазами, цвета вылинявшей серой фланелевой рубахи… «Док, я подозреваю, что он – Нигра.»
Врач пожимает плечами: «Это Старая Армейская Игра, сынок. Горошина под гильзой… Вроде видишь – вроде нет…»)
«А Док Паркер в подсобке своей аптеки ширяется лошажьим героином по три грана на шпиг – «Тонизирует,» бормочет он. «И Вечная Весна.»
«"Ручонки» Бенсон Городской Извращенец принял кверенсию в школьном сортире (Кверенсия – термин корриды… Бык найдет место на арене, которое ему понравится, и останется там, а тореадор вынужден входить туда и встречать быка на его, бычьих условиях, или же выманивать его оттуда – либо одно, либо другое). Шериф П.К. «Плоский» Ларсен грит «Нам как-то придется выманивать его из этой кверенсии.»… А Старая Ма Лотти уже десять лет как спит с дочкой-покойницей, подлеченной дома к тому же, просыпается, дрожа, на рассвете Восточного Техаса… стервятники вылетели по-над черной болотной водой и пнями кипарисов…
«А теперь, джентльмены – я полагаю, среди присутствующих нет трансвеститов – хи хи – и все вы являетесь джентльменами по уложению Конгресса, причем остается только установить мужского ли вы пола особи, определенно никаких Переходников ни в каком направлении допущено не будет в этот достойный зал. Джентльмены, предъявите холодное оружие. Итак, всех вас кратко проинформировали о важности хранения своего оружия хорошо смазанным и готовым к любого рода действиям на флангах или же в арьергарде.»
СТУДЕНТЫ: «Слушайте! Слушайте!» Они устало расстегивают свои ширинки. Один из них выставляет напоказ громадную эрекцию.
ПРОФ: «А теперь, джентльмены, о чем это я? Ох да, Ма Лотти… Она просыпается, дрожа в нежной розовой заре, розовой, будто свечки на именинном тортике маленькой девочки, розовой, словно сахарная вата, розовой, как раковина морская, розовой, как хуй, пульсирующий в красном ебаном свете… Ма Лотти… харрумпф… если эту велеречивость не прекратить, она поддастся немощам старости и сойдет к своей дочери в формальдегид.
«Поэма о Старом Мореходе Кольриджа-поэта… Мне следует обратить ваше внимание на символизм самого Старого Морехода.»
СТУДЕНТЫ: «Самого, чувак грит.»
«Следовательно, обратить внимание на его собственную неаппетитную личность.»
«Это не очень мило с твоей стороны было, Педель.»
Сотня малолетних преступников… выкидные ножи, щелкая клыками, надвигаются на него.
ПРОФ: «О, силы земные!» Он отчаянно пытается замаскироваться под старуху в высоких черных ботинках и с зонтиком… «Если б не моя подагра, не очень правильно могу сгибаться, я б отвлек их, предложив свою Сахарную Попку, как это делают бабуины… Если на более слабого бабуина нападает более сильный, то более слабый бабуин либо (а) представляет свою хрумкую попочку, я полагаю, именно это слово подходит, джентльмены, хе хе для пассивного совокупления, либо (б) если он бабуин иного типа, более экстроверт и лучше приспособлен, то он поведет атаку на еще более слабого бабуина, если сможет такового найти.»
Обветшалая Шансонетка в тряпье 1920-х годов, как будто она спала в нем с тех самых пор, как колыхалась по унылой чикагской улице в свете неона… мертвый груз Дорогих Дохлых Дней висит в воздухе как призрак, по которому землица плачет. Шансонетка: (тенор консервированного жара). «Найдите слабейшего бабуина.»
Приграничный салун: Педак-Бабуин, одетый в синенькое платьице маленькой девочки, поет безропотным голоском на мотив Синего Платья Алисы: «Тут нет бабуина слабее меня.»
Товарняк отъединяет Профа от его малолеток… Когда поезд проходит, у них уже жирные брюха и ответственные посты…
СТУДЕНТЫ: «Мы хотим Лотти!»
ПРОФ: «То было в иной стране, джентльмены… Как я говорил ранее, меня так грубо прервала одна из моих размноженных личностей… много с этими маленькими тварями хлопот… представьте себе Старого Морехода без кураре, лассо, бульбокапнина или смирительной рубашки, тем не менее, способного цеплять и удерживать живую аудиторию… В чем состоит его грумп главный трюк? Хи хи хи хи… Он не останавливает, в отличие от так называемых в настоящее время артистов, просто первого встречного, тем самым навлекая непрошенную скуку и случайно происходящие трудности… Он останавливает тех, кто не может не слышать ввиду уже существующих взаимоотношений между Мореходом (каким бы старым он ни был) и э-э Свадебным Гостем…
«Что Мореход говорит на самом деле, не важно… Он может нести околесицу, безотносительно, даже грубо и безудержно сенильно. Но со Свадебным Гостем что-то происходит, вроде того, что происходит в психоанализе, когда оно происходит, если происходит вообще. Если мне будет позволено немного отвлечься… мой знакомый аналитик всегда говорил сам – пациенты слушают терпеливо или нет… Он пускается в воспоминания… рассказывает грязные анекдоты (старые) достигает таких контрапунктов идиотизма, что и присниться не могли Окружному Ярыжке. Он довольно продолжительно демонстрирует, что ничего никогда не достигается на вербальном уровне… Он пришел к этому методу, наблюдая, что Слушатель – Говорящий – вовсе не читает мысли пациента… Это пациент – Говорящий – читает его мысли… То есть, пациент обладает СЧВ-знанием снов и замыслов аналитика, в то время как сам аналитик вступает в контакт с пациентом строго из передних долей мозга… Многие агенты пользуются этим подходом – они знамениты своим велеречивым занудством и тем, что не умеют слушать…
«Джентльмены, метну-ка я бисер: О ком-то можно узнать гораздо больше говоря, нежели слушая.»
Свиньи бросаются вперед, и Проф. сыплет ведра бисера им в корыто…
«Я недостоин есть его ноги,» говорит самый жирный из них хряк.
«Всирано глина.»
ЕЖЕГОДНАЯ БАЛЕХА У А.ДЖ.
А.Дж. поворачивается к гостям. «Мокрощелки, елдаки, ни рыба и ни мясо, сегодня я представлю вам – вот этого международно известного импресарио порнокино и коротковолнового телевидения, одного его, единственного, Великого Секисуку!»
Он показывает в сторону красного бархатного занавеса шестидесяти футов в высоту. Молния вспарывает занавес сверху донизу. Великий Секисука является во весь свой рост. Лицо его огромно, недвижно, как погребальная урна Химу. Он облачен в полный вечерний костюм, в синей накидке и с синим моноклем. Громадные серые глаза с крохотными черными зрачками, словно плюющимися иголками. (Один лишь Координатный Фактограф способен выдержать его взгляд) Когда он гневается, заряд его гнева сносит монокль через весь зал. Многие актеры, которым неблаговолили звезды, испытали ледяной взрыв недовольства Секисуки: «Вон из моей студии, дешевая сявка! На шару хотел мне фуфловый оргазм втулить?! ВЕЛИКОМУ СЕКИСУКЕ?! Да я определю, как ты кончаешь, по одному большому пальцу на ноге! Идиот! Гнус безмозглый!! Нахальный чемодан!!! Иди жопой своей торгуй и запомни – чтобы работать на Секисуку, нужны искренность, искусство и преданность. А не мыльное трюкачество, не дублированные вздохи, не резиновые какашки и склянки с молоком, спрятанные за ухом, и не ширки Йохимбином, тайком пронесенным за кулисы.» (Йохимбин, производное коры дерева, растущего в Центральной Африке, самый безопасный и эффективный возбудитель. Действует, сужая кровеносные сосуды поверхности кожи, особенно в районе половых органов)
Секисука извергает свой монокль. Тот пропадает из виду, затем возвращается, будто бумеранг, прямо в глаз. Он делает пируэт и тает в голубом тумане, холодном, как жидкий воздух… затемнение…
На экране. Рыжеволосый, зеленоглазый мальчик, белая кожа, чуть-чуть веснушек… целует худенькую девочку-брюнетку в брючках. Одежда и прически подразумевают бары экзистенциалистов всех городов мира. Они сидят на низкой постели, застеленной белым шелком. Девочка расстегивает ему штаны нежными пальчиками и вытягивает его хуй, он маленький и очень твердый. Капелька смазки поблескивает на его кончике жемчужиной. Она нежно ласкает головку: «Раздевайся, Джонни.» Тот снимает одежду стремительными уверенными движениями и встает обнаженный перед ней, хуй его пульсирует. Она жестом велит ему повернуться, и он делает на полу пируэт, передразнивая манекенщика, с рукой на бедре. Она снимает рубашку. Ее груди высоки и невелики от возбужденных сосков. Она выскальзывает из трусиков. Волосы на лобке черны и поблескивают. Он садится с ней рядом и тянется к ее груди. Она останавливает его руку.
«Дорогой, я хочу оприходовать тебя,» шепчет она.
«Нет. Не сейчас.»
«Пожалуйста, мне хочется.»
«Ну, ладно. Схожу вымою жопу.»
«Нет, я сама.»
«Ах, да ну его, она не грязная.»
«Нет, грязная. Пойдем же, Джоник.»
Она ведет его в ванную. «Ладно, нагибайся.» Он опускается на колени и наклоняется вперед, уперев подбородок в банный коврик. «Аллах,» произносит он. Он поворачивает голову и ухмыляется ей. Она моет ему зад мылом и горячей водой, засовывая в проход палец.
«Больно?»
«Нееееееееееет.»
«Пойдем, малыш.» Она ведет его за собой в спальню. Он ложится на спину, закидывает ноги себе за голову, перехватывает их под коленями, держа себя за локти. Она опускается на колени и гладит сзади его бедра, его яйца, пальцы перебегают вниз к неувядаемому водоразделу. Она раздвигает ему ягодицы, нагибается и начинает вылизывать анус, медленно передвигая голову по кругу. Она толкается языком в стенки заднего прохода, вылизывая все глубже и глубже. Она закрывает глаза и ежится. Она вылизывает неувядаемый водораздел. Его маленькие тугие яички… Огромная жемчужина выступает на кончике его обрезанного хуя. Ее рот смыкается вокруг головки. Она ритмично посасывает, вверх-вниз, замирая на касании вверх и описывая головой круг. Ее рука нежно перебирает ему яйца, соскальзывает вниз средним пальцем ему в жопу. Отсасывая, она опускается к корню его хуя и насмешливо щекочет ему простату. Он ухмыляется и пердит. Она лижет ему хуй уже неистово. Его тело начинает биться, сокращаясь к подбородку. С каждым разом биение все длиннее. «Уииииииии!» вопит мальчик, каждый мускул напряжен, все тело тщится опорожниться через хуй. Она пьет его молофью, заполняющую ей рот огромными жаркими толчками. Он отпускает ноги, и те хлопаются обратно на кровать. Он выгибает спину и зевает.
Мэри пристегивает резиновый пенис: «Стальной Дэн III из Йокогамы,» произносит она, поглаживая ствол. Через всю комнату брызжет молоко.
«Молоко точно пастеризованное? Смотри, не зарази меня какой-нибудь ужасной скотской болячкой, типа сибирской язвы, сапа или афтозы…»
«Когда я была трансвеститкой Лиз в Чи, то, бывало, подрабатывала дезинсектором. Подклеивала симпатичных мальчишечек ради того, чтоб меня отлупили, как мужика. Потом поймала одного пацана, оглушила его сверхзвуковым дзюдо, которому научилась у старой дзэнской монахини-лесбиянки. Связываю его, сдираю всю одежду бритвой и ебу его Стальным Дэном I. Он был так рад, что я его вообще не кастрировала, что обкончал весь мой клопомор.»
«Что стало со Стальным Дэном I?»
«Разорван напополам одной коблой. Самая пиздатая хватка, что я когда-либо терпела. Она вагиной своей могла б свинцовые трубы пережимать. Один из ее коронных номеров.»
«А Стальной Дэн II?»
«Изжеван на части оголодавшим кандиру в Верхней Бабуинсракии. И не смей мне тут уиииикать на этот раз»
«Почему? Это так по-мальчишечьи.»
«Босоногий мальчик мой, сравни всех этих олухов со своей мадам»
Он смотрит в потолок, заложив руки за голову, хуй пульсирует. «Так что же мне делать? Срать я не могу, когда в меня эта хуйня воткнута. А интересно, можно ли ржать и кончать одновременно? Помню, в войну, в Жокейском Клубе Каира я и мой приятель Лу, жопа с ручкой, оба джентльмены по постановлению Конгресса… ничто другое не могло ни с одним из нас такого сделать… Так вот, мы ржали так, что все обоссались, и официант сказал: «Ах вы пахтаки проклятые, а ну, вон отсюда!» То есть, если я могу до уссачки ржать, значит, можно ржать и до успермячки. Поэтому расскажи мне что-нибудь действительно смешное, когда я начну кончать. Это можно определить по неким предчувствующим подрагиваниям предстательной железы…»
Она ставит пластинку, металлический кокаиновый би-боп. Она смазывает поеботину, закидывает ноги мальчика ему за голову и вставляет ему в жопу несколькими штопорными движениями своих текучих бедер. Она описывает ими медленный круг, вращаясь вокруг оси ствола. Она трется своими твердыми сосками о его грудь. Целует его в шею, подбородок и глаза. Он проводит руками ей по спине, к ягодицам, втягивая ее поглубже себе в жопу. Она врашается быстрее, быстрее. Его тело дергается и извивается спазмами конвульсий. «Побыстрее, пожалуйста,» говорит она. «Молоко остывает.» Он ее не слышит. Она прижимается губами к его рту. Их лица плотно прилегают друг к другу. Его сперма бьет ее в грудь легкими горячими струйками.
В дверях стоит Марк. На нем черный свитер под горлышко. Холодное, привлекательное, самовлюбленное лицо. Зеленые глаза и черные волосы. Он смотрит на Джонни с легкой презрительной усмешкой, склонив голову набок, руками касаясь карманов пиджака, грациозный балет хулигана. Он дергает головой, и Джонни проходит мимо него в спальню. Мэри следом. «Ладно, мальчики,» говорит она, садясь, голая, на розовый шелковый подиум лицом к постели. «Приступайте!»
Марк начинает раздеваться плавными движениями, вращая бедрами, ужом выскальзывает из черного свитера, обнажая прекрасный белый торс в издевательском танце живота. Джонни смертельно серьезен, лицо заморожено, дыхание быстро, губы сухи, снимает одежду и бросает на пол. Марк опускает трусы, и те ниспадают ему по ноге. Он лягает их, словно хористка, на другую сторону комнаты. Вот он стоит обнаженный, хуй его жчсток, напряжен и торчит. Он обводит медленным взглядом тело Джонни. Он улыбается и облизывает губы.
Марк падает на одно колено, рукой притягивая к себе Джонни за спину. Встает и швыряет его на постель в шести футах от них. Джонни приземляется на спину и пружинит. Марк подскакивает и хватает Джонни за лодыжки, закидывает ноги ему за голову. Марк разводит губы в тугом оскале. «Ладно, Джонни, мальчонка.» Он сокращает свое тело, медленно и уверенно, словно смазанная машина, вставляет свой хуй Джонни в жопу. Джонни испускает громкий вздох, извиваясь в экстазе. Марк сцепляет руки на холке у Джонни, насаживая его себе на хуй, и так уже упрятанный по самую рукоятку у Джонни в заднице. Воздух с громким свистом вырывается у него между зубов. Джонни кричит птицей. Марк трется свои лицом о лицо Джонни, оскал исчез, лицо невинно и пацаняче, когда вся его жидкость вбрызгивается в дрожащее тело Джонни.
Сквозь него с ревом проносится товарняк, гудит гудок… свисток парохода, сирена, шутиха взрывается над маслянистыми лагунами… Грошовая галерея открывается в лабиринт грязных картинок… церемониальная пушка бухает в гавани… вопль проносится по белому больничному коридору… наружу вдоль широкой пыльной улицы меж пальм, со свистом через пустыню словно пуля (крылья стервятников шелестят в сухом воздухе), тысяча мальчиков кончает одновременно в уборных, в унылых сортирах публичных школ, на чердаках, в подвалах, в штабах, устроенных на деревьях, на чертовых колесах, в заброшенных домах, известняковых пещерах, лодочных станциях, гаражах, сараях, на продутой ветрами щебенке пригородов за глиняными стенками (вонь засохших экскрементов)… черная пыль садится на тощие бронзовые тела… обтрепанные штаны спадают на потрескавшиеся босые ноги в крови… (место, где стервятники дерутся за рыбьи головы)… у лагун в джунглях, злобная рыба пытается схватить белую сперму, плывущую по черной воде, песчаные мухи кусают бронзовый зад, макаки-ревуны будто ветер в деревьях (земля великих бурых рек, по которым плывут целые деревья, ярко-окрашенные змеи в ветвях, задумчивые лемуры наблюдают за берегами своими печальными глазами), красный самолетик выписывает арабески в синей субстанции небес, бьет гремучая змея, кобра отпрядывает, раздувается, выплевывает белый яд, жемчужные и опаловые щепки опадают медленным молчаливым дождем сквозь воздух, чистый, словно глицерин. Время скачет сломанной пишущей машинкой, мальчики уже старики, молодые бедра подрагивающие и подергивающиеся в мальчишеских спазмах, обмякают и вянут, накинутые на стульчак сортира, скамейку в парке, каменную стенку в лучах испанского солнца, продавленную постель меблирашки (снаружи краснокирпичная трущоба в ясном зимнем свете)… подергиваются и дрожат в своем нечистом исподнем, нащупывая вену в ломоте утра, в арабском кафе, бормоча и пуская слюни – арабы перешептываются «Меджуб» и бочком отодвигаются подальше – (Меджуб – особый сорт мусульманского религиозного безумца… зачастую страдающего эпилепсией среди прочих расстройств). «Мусульмане должны получать кровь и молофью… Видите, видите, где кровь Христа струится в постоянстве спермы,» завывает Меджуб… Он восстает, вопя, и черная кровь бьет плотной струей из его последней эрекции, бледно-белая статуя, стоящая так, словно он переступил одним махом Великий Забор, влез внутрь, невинный и спокойный, как мальчишка перелез бы через ограду поудить рыбу в запретном пруду – через несколько секунд он поймает огромного сома – Старик выскочит из маленькой черной хижины, матерясь, с вилами, и мальчишка рванет, хохоча, по полям Миссури – наткнется на красивый розовый стрелолист и на бегу сорвет его летящим захватом юной кости и мускулов – (его кости растворяются в поле, он лежит мертвый под деревянным забором с дробовиком под боком, кровь из мерзлого красного рта сочится на зимнее жнивье Джорджии)… Сом вздымается у него за спиной… Он подходит к забору и перекидывает сома в траву, запятнанную кровью… рыба лежит, извиваясь и хватая ртом воздух – сигает через забор. Он хватает сома и несется вверх по сбитой в камень красной грунтовке меж дубов и хурм, сбрасывающих красно-коричневую листву в ветреный осенний закат, зеленую и плакучую в летнюю зарю, черную на фоне ясного зимнего дня… Старик изрыгает проклятья ему вслед… зубы вылетают у него изо рта и свистят над головой мальчишки, он порывается вперед, жилы на шее туги, как стальные обручи, черная кровь бьет одним плотным сгустком через забор, и он падает бесплотной мумией у лихорадочного синеголовника. Чертополох прорастает в его ребрах, в его хижине бьются окна, пыльные осколки стекла в черной шпатлевке – крысы носятся по полу и мальчишки сдрачивают в темной затхлой спаленке летними днями и жуют ягоды, выросшие на его теле и костях, рты извожены лилово-красными соками…
Старый торчок отыскал вену… кровь распускается в пипетке, словно китайский цветок… он догоняется героином, и мальчишка, сдрочивший пятьдесят лет назад, сияет, безупречный, сквозь измученную плоть, наполняет уборную сладким ореховым духом молодой мужской похоти…
Сколько лет нанизано на иглу с кровью? Руки обмякли на коленях, он сидит, глядя наружу, в зимнюю зарю, вычеркнутыми глазами мусора. Старый педик извивается на известняковой скамейке в Чапультепек-Парке, пока индейцы-подростки проходят мимо, закинув руки за шеи друг друга, за талии, напрягая свою умирающую плоть, дабы та заняла юные ягодицы и бедра, тугие яйца и брызжущие хуи.
Марк и Джонни сидят лицом друг к другу, в вибрирующем кресле, Джонни насажен на хуй Марка.
«Все готово, Джонни?»
«Врубай.»
Марк щелкает выключателем, и кресло дрожит… Марк склоняет голову глядя снизу вверх на Джонни, лицо его отстраненно, глаза бесстрастно и насмешливо остановились на лице Джонни… Джонни вопит и хнычет… Его лицо распадается словно тает изнутри… Джонни вопит как мандрагора, вырубается когда брызжет его сперма, обвисает на теле Марка, ангел в обрубе. Марк треплет Джонни по плечу рассеянно… Комната как спортзал… Пол из пенорезины, покрыт белым шелком… Одна стена – стекло… Восходящее солнце наполняет комнату розовым светом. Вводят Джонни, руки связаны, между Мэри и Марком. Джонни видит виселицу и оседает с громким «Оххххххххххх!» подбородок его тянется к хую, ноги подгибаются в коленях. Брызжет сперма, выгибаясь почти вертикальной дугой у него перед самым лицом. Марку с Мэри внезапно не терпится, они разгорячены… Они толкают Джонни вперед на помост виселицы, устеленный заплесневелыми суспензориями и потниками. Марк поправляет петлю.
«Ну вот, пожалуйста.» Марк начинает спихивать Джонни с помоста.
Мэри: «Нет, дай мне.» Она сцепляет руки у Джонни на ягодицах, упирается в него лбом, улыбаясь ему прямо в глаза, она отступает, стягивая его с помоста в пространство… Его лицо набухает кровью… Марк протягивает вверх руку единственным грациозным движением и переламывает Джонни шею… звук как палка сломанная в мокрых полотенцах. Дрожь пробегает по телу Джонни… одна нога трепещет словно птица в силках… Марк обмотался вокруг перекладины и копирует подергивания Джонни, закрывает глаза и высовывает язык… Хуй у Джонни подскакивает и Мэри направляет его себе в пизду, корчась возле него в текучем танце живота, постанывая и визжа от удовольствия… пот стекает по ее телу, волосы свисают на лицо мокрыми прядями. «Срезай его, Марк,» вопит она. Марк дотягивается выкидным ножом и обрезает веревку, ловя Джонни в падении, опуская его на спину а Мэри по-прежнему извивается насаженная… Она откусывает Джонни губы и нос и высасывает ему глаза с легким хлопком… Она отрывает огромными кусками ему щеку… Вот она уже обедает его хуем… Марк подходит к ней а она отрывает взгляд от полусъеденных гениталий Джонни, все ее лицо в крови, глаза фосфоресцируют… Марк ставит ногу ей на плечо и пинком опрокидывает на спину… Прыгает на нее, ебет ее обезумев… они катаются из одного угла комнаты в другой, крутятся кувырком и подскакивают высоко в воздух словно большие рыбы на крючке.
«Дай я тебя повешу, Марк… Дай я тебя повешу… Пожалуйста, Марк, дай я тебя повешу!»
«Конечно крошка.» Он рывком грубо ставит ее на ноги и заворачивает руки за спину.
«Нет, Марк!! Нет! Нет! Нет!», визжит она, обсираясь и мочать от ужаса пока тот тащит ее к помосту. Он бросает ее связанной там на куче старых гондонов, а сам поправляет веревку натянутую через всю комнату… и возвращается к ней неся петлю на серебряном блюде. Вздергивает ее на ноги и затягивает узел. Он поглубже всовывает в нее свой хуй и вальсирует по помосту а затем – в пустое пространство раскачиваясь большой дугой… «Уииииии!» вопит он, превращаясь в Джонни. Ее шея лопается. Великая текучая волна струится сквозь ее тело. Джонни плюхается на пол и вскакивает на ноги спокойный и готовый ко всему как молодое животное.
Он прыгает по всей комнате. С воплем томленья разбивающим вдребезги стеклянную стену он подскакивает в воздух. Дроча кувырком, на три тысячи футов вниз, его сперма парит рядом с ним, он вопит всю дорогу в раскалыыающую синеву неба, восходящее солнце обжигает его тело как бензин, вниз мимо огромных дубов и хурм, болотных кипарисов и красных деревьев, чтобы разбиться в текучем облегчении на заброшенной площади вымощенной известняком. Сорняки и лианы прорастают сквозь камни, а ржавые железные болты в три фута толщиной пробивают белый камень насквозь, пачкают его ржавчиной бурой как дерьмо.
Джонни обливает Мэри бензином из непристойного чимуйского кувшинчика из белого нефрита… Он умасливает собственное тело… Они обнимаются, падают на пол и катаются под огромным увеличительным стеклом вправленным в крышу…вспыхивают с криком раскалывающим стеклянную стену, выкатываются в пространство, ебясь и вопя в воздухе, вспыхивают пламенем и кровью и гарью на бурых скалах под солнцем пустыни. Джонни мечется по комнате в агонии. С воплем раскалывающим вдребезги стеклянную стену он встает раскинув руки навстречу восходящему солнцу, кровь брызжет из его хуя… беломраморный бог, он стремительно падает сквозь эпилептические взрывы в старого Меджуба что корчится в говне и мусоре у саманной стены под солнцем которое исшрамляет и грабастает кожу гусиными цыпками… Он мальчик спящий у стены мечети, спускает в эротическом сне в тысячу пизд розовых и гладких словно раковины морские, в восторге от колючих волосиков лобков скользящих по его хую.
Джон с Мэри в гостиничном номере (музыка Восточного Сент-Луиса Тра-ла-ла-ла). Тепелый веченний ветерок надувает линялые розовые занавески на открытом окне… Лягушки каркают на пустырях где растет кукуруза а мальчишки ловят маленьких зеленых ужиков под разбитыми известняковыми стелами испачканными говном и оплетенными ржавой колючей проволокой…
Неон – хлорофилльно-зеленый, лиловый, оранжевый – вспыхивает и гаснет)
Джонни штангенциркулем извлекает из пизды Мэри кандиру… Бросает ее в бутылку мескаля, где она превращается в магейного червя… Опрыскивает ее джунглевым размягчителем костей, ее вагинальные зубы вытекают вместе с кровью и кистами… Пизда ее сияет свежестью и сладостью словно весенняя травка… Джонни вылизывает Мэри пизду, сначала медленно, со всевозрастающим возбуждением раздвигает губы и лижет изнутри чувствуя как покалывают волосы ее лобка его распухший язык… Руки закинуты назад, груди торчат прямо вверх, Мэри лежит пронизанная неоновыми гвоздями… Джонни переползает по ее телу наверх, хуй его с сияющим круглым опалом смазки на отверстии щели, проскальзывает сквозь волосы ее лобка и входит в пизду по самую рукоятку, всосанный изголодавшейся плотью… Лицо его вспухает кровью, зеленые огни взрываются в глазах и он рушится с живописной железной дорогой вместе сквозь вопящих девчонок…
Влажные волосики у него под яйцами высыхают до травы под теплым весенним ветерком. Высокая долина джунглей, лианы вползают в окно. Хуй у Джонни распухает, большие буйные бутоны вскрываются. Длинный корень весь в клубнях выползает из пизды Мэри, нащупывает почву. Тела распадаются в зеленых взрывах. Хижина рушится развалинами битого камня. Мальчик – статуя из известняка, побег вырывается из его хуя, губы раздвинуты в полуулыбке торчка в откидоне.
*
* *
Шпик закурковал героин в лотерейном билете.
Еще одна ширка – а завтра лечиться.
Путь долог. Задроты и подставы часты.
Долго мотался срок по регулярному сухостою до оазиса свиданий под финиковыми пальмами где арабские мальчики срут в колодец и валяют рокешник по пескам мускульного пляжа жуя горячие собаки и выплевывая самородки золотых зубов.
Беззубые причем строго от длительного голода, на ребрах можно отстирывать замасленную робу, такие они гофрированные, дрожа спускаются со шлюпки на Остров Пасхи и бредут на берег на ногах негнущихся и хрупких как ходули… отключаются в клубных окнах… падшие в жир нехватки-нужды продать тощее тело.
Финиковые пальмы засохли от нехватки встреч, колодец наполнился сухим дерьмом и мозаикой тысяч газет: «Россия отрицает… Министр внутренних дел рассматривает с патической тревогой… Люк раскрылся в 12:02. В 12:30 врач вышел поесть устриц, вернулся в 2:00 благодушно похлопать висельника по спине. «Что? Вы разве еще не мертвы? Наверное придется потягать вас за ногу. Ха Ха! Не могу позволить вам давиться с такой скоростью – Президент мне сделает выговор. А какой позор если труповозка вывезет вас отсюда живым. У меня тогда яйца отпадут от стыда а ведь я дослужился подмастерьем до опытного быка. Раз два три взяли».»
Планер падает молча словно эрекция, молча словно замасленный стакан разбитый молодым воришкой со старушечьими руками и вычеркнутыми глазами мусора… В бесшумном взрыве он проникает в разломанный дом, переступая замасленные кристаллы, в кухне громко тикают часы, горячий воздух ерошит ему волосы, его голова распадается тяжелым дрянным гамбасом… Старик выкидывает красный патрон и вытанцовывает вокруг своей машинки. «А, херня, чуваки, раз плюнуть… Рыбка в бочке… Бабки в банке… потаскун юный, черномазый плашкет пробитый и чуть что так сразу ноги раздвигает… Ты меня слышишь где б ты там ни был, мальчик?
Я сам был когда-то молод и внял сиренному зову легких деньжат и баб и тугозадых мальчонок и ради всего не повышай мне давление я намереваюсь рассказать тебе сказку от которой хуй у тебя восстанет и ойкнет на розовую перламутровую природу пизды или милая бурая покрытая слизью трепещущая мелодия молоденькой задницы сыграет на твоем члене как на блок-флейте… а когда стукнешься о жемчужину простаты острые брильянты соберутся в яйцах золотого паренька неумолимых точно камни в почках… Жаль что пришлось тебя убить… Старая серая кобыла уж не та что раньше… Не может лажать публику… приходится сбивать зал в полете, на бегу или же сидючи… Как старому льву что занемог дырками в зубах ему необходима эта паста амидент чтоб чувак мог все время кусать мясо… Дерьмо это со старыми львами точно тут на мальчиков перейдешь… А кто виноват, коль скоро мальчонки эти такие сладенькие такие холодненькие такие чистые в Лечебнице Св. Джеймса?? Так, сынок, вот только ригор мортиса твоего мне сейчас не хватало. Хоть немного уважай стареющего мудилу… Сам когда-нибудь можешь стать нудьгой ебучей… Ох-хо; наверное, нет все-таки… У тебя, как босоногого бесстыжего содержанта Хаусмана, есть весь набор Свернушегося Шропширского Инженю твои быстрые ноги на бункере перемен… Но этих шропширских мальчуганов не убьешь… его вешали так часто что он сопротивляется как гонококк полукастрированный пенициллиновыми восстановлениями до омерзительной силы и множится геометрически… Так оставьте нас бросать шары за пристойное оправдание и положите конец этим чудовищным обнажениям за которые шериф взимает фунт плоти.»
Шериф: «Я спущу ему штаны за фунт, толпа. Подходи. Серьезный и научный экспонат касательно местонахождения Центра Жизни. В этом типе девять дюймов, дамы и господа, измерил их сам изнутри. Только один фунт, одна педацкая трехдолларовая купюра за то чтобы увидеть как юный мальчонка кончает по меньшей мере трижды – Я никогда не опускаюсь до обработки евнуха – совершенно супротив его воли. Когда его шея резко лопнет, этот тип как говно точно встанет по стойке смирно и всех вас обтрухает.»
Мальчик стоит на крышке люка переминаясь с ноги на ногу: «Божже! Чего только мальчонке не натерпеться в таких делах. Наверняка ведь, говном клянусь, какой-нибудь старикашка липнуть станет.»
Люк падает, веревка поет как ветер в проводах, шея лопается громко и ясно будто китайский гонг.
Мальчик срезает себя финкой, гонится за вопящим пидором по центральному проходу. Пидор ныряет сквозь стекло зыбалки в грошовой галерее и читает сосюру ухмыляющемуся негру. Затемнение.
(Мэри, Джонни и Марк раскланиваются с петлями на шеях. Они не так молоды как кажутся в Порнухе… Похоже, они устали и раздражены)
СБОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Доктор «Пальчики» Шафер, Лоботомный Парнишка, поднимается и обращает на Конферентов холодную голубую вспышку своего взгляда:
«Господа, человеческая нервная система может быть редуцирована до компактного и сокращенного спинного мозга. Головной же мозг, передняя, средняя и задняя его доли, должны следовать за аденоидом, за зубом мудрости, за аппендиксом… Я представляю вам свой Труд жизни: Полного Всеамериканского Обестревоженного Человека…»
Взрев труб: Человека вносят в обнаженном виде два Носильщика-Негра которые роняют его на подиум со зверской, злорадной грубостью… Человек извивается… Его плоть превращается в клейкое, прозрачное желе рассеивающееся зеленой дымкой, являя всем чудовищную черную многоножку. Волны неизведанной вони наполняют комнату, обжигая легкие, выворачивая желудок…
Шафер заламывает руки всхлипывая: «Кларенсе!! Как ты можешь поступать так со мной?? Неблагодарные!! Все до единого неблагодарные!!»
Конференты отпрядывают бормоча в смятении: «Боюсь, Шафер зашел слишком далеко…»
«Я ведь предупреждал…»
«Блестящий парень этот Шафер… но…»
«Человек на что угодно пойдет ради известности…»
«Господа, это неизъяснимо гадкое и во всех смыслах незаконное дитя извращенного мозга Доктора Шафера не должно увидеть свет… Наш долг перед человеческой расой ясен…»
«Чувак, да свет-то он уже точно увидел,» вымолвил один из Негров-Носильщиков.
«Мы должны вытоптать эту Не-Американскую тварь,» произносит жирный жаборожий врач с Юга пивший кукурузный самогон из глиняного кувшинчика. Он пьяно надвигается, затем останавливается в отвращении от значительных размеров и угрожающего внешнего вида многоножки…
«Принесите бензин!» ревет он. «Мы должны сжечь этого сукина сына как завравшегося негритоса!»
«Что до меня, то я не высовываюсь,» произносит четкий хиповый врач оттянутый ЛСД25… «Чего ради ловкий Окружной Прокурор будет…»
Затемнение. «Порядок в Суде!»
О.П.: «Господа присяжные, эти «ученые господа» утверждают, что невинное человеческое существо, столь бессмысленно ими убиенное, внезапно превратилось в огромную черную многоножку, и «их долгом перед человеческой расой» было уничтожить этого монстра прежде чем он смог любыми средствами находившимися в его распоряжении продлить свой род…
И что же, нам проглотить эту ткань лошажьего навоза? Принимать такую бойкую ложь как какая-нибудь замасленная и безымянная жопа? Где же эта чудная многоножка?
«Мы уничтожили ее,» нагло утверждают они… А мне бы хотелось напомнить вам, господа и гермафродиты присяжные, что этот Великий Зверь» – он показывает пальцем на Доктора Шафера – «в нескольких предыдущих случаях уже представал перед судом по обвинению в невыразимых преступлениях мозгового изнасилования… На простом английском языке» – он стучит кулаком по ограждению ложи присяжных, его голос возвышается до крика – «на простом английском, господа, в насильственной лоботомии…»
Присяжные открывают в изумлении рты… Один умирает от инфаркта… Трое падают на пол корчась в оргазмах непреодолимой похоти…
О.П. драматически тычет перстом: «Это он… Он и никто другой низвел целые пределы нашей прекрасной земли до состояния граничащего с крайней степенью идиотизма… Это он набил огромные склады, ряды за рядами, слои за слоями беспомощными существами каждой нужде которых следует потакать… «Трутни» зовет их он с циничной ухмылкой чистого образованного зла… Господа, говорю вам, что бессмысленное убийство Кларенса Корови не должно остаться безнаказанным: Это гнусное преступление вопит как раненный пидар и требует правосудия по крайней мере!»
Многоножка мечется по залу в возбуждении.
«Чувак, да этот ебила проголодался,» вопит один из Носильщиков.
«Вы как хотите, а я пошел отсюда.»
Волна электрического ужаса одним махом пронизывает Конферентов… Они штурмуют выходы вопя и царапаясь…
РЫНОК
Панорама Города Интерзоны. Начальные такты Покеда, Восточный Сент-Луис… то громко и ясно то тихо и прерывисто будто музыка где-то на ветреной улице…
Комната кажется трясется и дрожит от движения. Кровь и субстанция многих рас, Негритянской, Полинезийской, Горно-Монгольской, Пустынно-Кочевнической, Полиглото-Ближневосточной, Индейской – рас, еще не придуманных и не рожденных, комбинаций, доселе неосуществленных, протекает сквозь твое тело. Миграции, неописуемые путешествия по пустыням и джунглям и горам (застой и смерть в закрытых со всех сторон горных долинах где растения вырастают из гениталий, обширные ракообразные насиживают внутри яйца и проламывают скорлупу тела) через Тихий океан в каноэ с выносными уключинами к Острову Пасхи. Сложносоставной Город где все человеческие потенциалы разложены на огромном молчащем рынке.
Минареты, пальмы, горы, джунгли… Вялая река кишащая злобной рыбой, широкие заросшие сорняками парки где мальчишки валяются в траве, играют в загадочные игры. Ни единой запертой двери во всем Городе. Любой заходит к тебе в комнату в любое время. Начальник Полиции – Китаец он ковыряется в зубах и слушает обличения высказываемые сумасшедшим. Время от времени Китаец вынимает изо рта зубочистку и поглядывает на ее кончик. Хипстеры с гладкими медного цвета лицами валандаются в дверных проемах покручивая ссохшимися головками на золотых цепочках, их лица пусты невидящим спокойствияем насекомых.
У них за спинами, в открытых дверях, столики и кабинки и бары, и кухни и бани, спаривающиеся пары на рядах латунных кроватей, паутина тысячи гамаков, торчки перетягиваются перед ширкой, дурцефалы, драпарники, люди едят болтают моются там, в дымке дыма и пара.
Игровые столы где играют на невероятные ставки. То и дело какой-нибудь игрок подскакивает с воплем отчаянья, проиграв свою юность старику или став Латахом своему оппоненту. Но есть ставки и повыше чем юность или положение Латаха, игры где только двое игроков на всем свете знают каковы ставки.
Все дома с Городе соединены друг с другом. Дома из дерна – высокогорные Монголы помаргивают в дымных проемах – дома из бамбука и тика, дома из саманных кирпичей, каменные и краснокирпичные, южнотихоокеанские и маорийские дома, дома на деревьях и речных лодках, деревянные дома в сотню футов длиной укрывающие целые племена, дома из ящиков и гофрированного железа где старики сидят в гниющем тряпье помешивая консервированный жар чтоб остыл, громадные ржавые железные каркасы вздымающиеся на двести футов в воздух из болот и мусора с опасными перегородками воздвигнутыми на многоуровневых платформах, и гамаки болтающиеся над пустотой.
Экспедиции уходят в неведомые места с неведомыми целями. Прибывают незнакомцы на плотах из старых ящиков связанных гнилой веревкой, они шатаясь бредут из джунглей глаза распухли и заплыли от укусов насекомых, они спускаются по горным тропам на потрескавшихся кровоточащих ногах сквозь пыльные продутые ветрами окраины города, где люди испражняются рядами вдоль саманных стен а стервятники дерутся за рыбьи головы. Они падают в парки на заплатанных парашютах… Пьяный фараон сопровождает их регистрироваться в здоровенную общественную уборную. Снятые с них показания насаживаются на колышки и затем используются как туалетная бумага.
Кухонные запахи всех стран висят над Городом, марево опия, гашиша, смолистый красный дым Яге, запах джунглей и соленой воды и загнивающей реки и сухих экскрементов и пота и гениталий.
Высокогорные флейты, джаз и бибоп, однострунные монгольские инструменты, цыганские ксилофоны, африканские барабаны, арабские волынки…
Город навещают эпидемии насилия, а неприбранных мертвецов пожирают на улицах стервятники. Альбиносы мигают на солнце. Мальчишки сидят на деревьях, томно дрочат. Люди, пожираемые неведомыми болезнями наблюдают за прохожим злыми, знающими глазами.
На Городском рынке есть Кафе Встреч. Последователи устаревших, невообразимых ремеселрисующие каракули по-этрусски, подсевшие на еще не синтезированные наркотики, банкометы пришпоренного Гармалина, мусор низведен до чистой привычки предлагающей сомнительную безмятежность овоща, жидкости чтобы вызвать состояние Латаха, Титонские сывортоки долголетия, фарцовщики черното рынка Третьей Мировой войны, акцизные телепатической чувствительности, остеопаты духа, следователи нарушений обличаемых льстивыми параноиками-шахматистами, служители фрагментарных ордеров записанных гебефренической скорописью обвиняющих невыразимые увечья духа, бюрократы призрачных департаментов, официальные лица безконституционных полицейских государств, карлица-лесбиянка доведшая операцию Шпиг-утота до совершенства, легочная эрекция которая удушает спящего неприятеля, продавцы оргонных цистерн и маших для расслабления, брокеры изощренных мечтаний и воспоминаний проверенных на клетках мусорной болезни с повышенной чуствительностью и выменянных на сырье воли, врачи искусные в лечении болезней спящих в черной пыли разрушенных городов, накапливающих яд в белой крови безглазых червей медленно наощупь пробирающихся к поверхности и к человеку-носителю, заболеваний океанского дна и стратосферы, заболеваний лаборатории и атомной войны… Место где неведомое прошлое и возникающе будущее встречаются в вибрирующем беззвучном гуле… Личиночные сущности в ожидании Живого…
(Часть описывающая Город и Кафе Встреч написана в состоянии отравления Яге… Яге, Аюахуаска, Пилде, Натима – индейские названия Баннистериа Каапи, быстрорастущей лианы характерной для амазонского региона. См. обсуждение Яге в Приложении)
Заметки из состояния Яге: Образы падают медленно и молчаливо словно снег… Безмятежность… Вся оборона рухнула… всч свободно входить или выходить… Страх просто невозможен… Прекрасная голубая субстанция вливается в меня… Я вижу архаическое ухмыляющееся лицо будто маска из южной части Тихого океана… Лицо сине лилово забрызгано золотом…
Комната приобретает аспект ближневосточного борделя с синими стенами и красными лампами с кистями… Я чувствую как обращаюсь в негритянку, черный цвет молча вторгается в мою плоть… Конвульсии похоти… Ноги мои приобретают округлую полинезийскую полноту… Все шевелится корчащейся потаенной жизнью… Комната – ближневосточная, негритянская, южнотихоокеанская, в каком-то знакомом месте которое я никак не могу определить… Яге – это путешествие во времени-пространстве… Кажется, комната трясется и дрожит от движения… Кровь и субстанция многих рас, Негритянской, Полинезийской, Горно-Монгольской, Пустынно-Кочевнической, Полиглото-Ближневосточной, Индейской – рас, еще не придуманных и не рожденных, комбинаций, доселе неосуществленных, протекает сквозь тело… Миграции, неописуемые путешествия по пустыням и джунглям и горам (застой и смерть в закрытых со всех сторон горных долинах где растения вырастают из гениталий, обширные ракообразные насиживают внутри яйца и проламывают скорлупу тела) через Тихий океан в каноэ с выносными уключинами к Острову Пасхи…
(Меня осеняет, что предварительная тошнота от Яге – это от того, что укачивает при перемещении в состояние Яге…)
«Все знахари используют ее в своей практике чтобы предсказывать будущее, находить потерянные или украденные предметы, ставить диагнозы и лечить болезни, называть виновного в преступлении.» Коль скоро Индеец (смирительная рубашка для Герра Боаса – специфическая шутка – ничто так не злит антрополога, как Первобытный Человек) не рассматривает ни одну смерть как случайность, и они не знакомы с собственными саморазрушительными тенденциями презрительно относящимися к ним как к «нашим нагим собратьям», или вероятно чувствуя что эти тенденции превыше всего прочего подвержены манипуляциям чуждых и враждебных волеизъявлений, любая смерть – убийство. Знахарь принимает Яге и личность убийцы открывается ему. Как вы можете себе представить, рассуждения знахаря в течение одного из таких джунглевых дознаний порождают некоторое чувство беспокойства среди его избирателей.
«Давайте надеяться, что Старый Ксиуптутоль не взбеленится и не назовет одного из мальчиков.»
«Прими кураре и расслабься. У нас сеанс назначен…»
«А если он взбеленится? Пощипывая эту Натиму все время он уже двадцать лет земли не касается… Говорю вам, Босс, никто по этой дряни так ударяться не может… От нее мозги спекаются…»
«Значит объявим его некомпетентным…»
И вот Ксиуптутоль шатаясь вываливается из «"и говорит что мальчишки территории Нижней Цпино это сделали-таки, что никого не удивляет… Старый Брухо тебе говорит, дорогуша, им сюрпризы не нравятся…
По рынку проходит похоронная процессия. Черный гроб – арабские надписи серебряной филигранью – влекомый четырьмя гробоносцами. Процессия скорбящих поет похоронную песнь… Лох и Джоди пристраиваются к носильщикам сзади, из гроба вырывается труп хряка… Хряк одет в джеллабу, изо рта торчит трубка для кайфа, одно копыто сжимает пачку гряязных картинок, на шее болтается мезуза… На гробе написано: «Это был благороднейший араб из всех.»
Они поют омерзительную пародию на похоронный маршна ломаном арабском. Джоди может так по-китайски изображать что сдохнгуть можно – как истеричная кукла чревовещателя. Фактически, он ускорил анти-иностранный мятеж в Шанхае унесший 3000 жизней.
«Встань, Герти, уважь местных чурок.»
«Если не я, то кто же.»
«Дорогой мой, я сейчас работаю над изумительнейшим изобретением… мальчик, исчезающий, как только ты кончаешь, оставляя запах горелых листьев и звуковой эффект свистков паровозов вдалеке.»
«Сексом когда-нибудь занимался без гравитации? Сперма твоя просто парит в воздухе словно славная эктоплазма, а посетительницы подвержены непорочному или по меньшей мере непрямому зачатию… Кстати напоминает о моем старом друге, одном из самых привлекательных людей что я знал и одном из безумнейших абсолютно испорченном богатством. Он бывало ходил с водяным пистолетом и впрыскивал сперму в баб-карьеристок на вечеринках. Выигрывал все процессы о разделе детей как нечего делать – своей-то спермой никогда не пользовался, понимаешь.»
Затемнение… «Порядок в Зале Суда.» Поверенный А.Дж. «Убедительные тесты показали что мой клиент не имеет э-э персональной связи с э-э маленьким происшествием очаровательной истицы… Возможно она готова соперничать с Девой Марией и зачать непорочно назвав моего клиента гррмпф призрачным сводником… Мне это напоминает об одном деле в Голландии пятнадцатого века когда молодая женщина обвинила престарелого и уважаемого колдуна в вызове суккуба который впоследствии приобрел э-э карнальные знания о данной молодой персоне с при настоящих обстоятельствах прискорбным результатом беременности. Поэтому колдун был осужден как пособник и злостный вуайер прежде в течение и после факта. Тем не менее, господа присяжные, мы больше уже не рассматриваем подобные э-э легенды; а молодая особа приписывающая э-э свое интересное положение вниманию суккуба, будет расцениваться в наши просвещенные дни, как романтик или же простым английским языком как проклядая врунья хехе хехе хе…»
А теперь Час Пророка:
«Миллинс умер на илистом грязном берегу. Бесплатно для легких дернул только один раз.
«"Есть, Капитан,» сказал он, прищурившись на палубе… А кто сегодня вечером наденет цепи? Это указывает на наблюдение некоторой осторожности при подходе против ветра, коль скоро попутному ветру не удалось выжать ничего стоящего ржавого груза… Сеньориты в этом сезоне в моде в Аду, а я устал так долго карабкаться на пульсирующий Везувий чужих хуев.»
Нужен Восточный Экспресс отсюда в то место где не спрятаться (золотые россыпи) часто встречаются в этих местах… Копай понемножку каждый день вот время и скоротаешь…
Дрочливые призраки шепчут жарко во внутреннее ухо…
Пробей свой путь к свободе.
«Христос?» насмехается порочный, сочный старый Святой накладывая блинчик из алебастровой чаши… «Дешевка! Думаешь, я унижу себя совершением чуда?… Да этому только в цирке выступать…
«"Подходите, Лоханки и Лоханы, и маленьких Лоханят тащите. Полезно для старого и малого, человека и зверя… Единственный и законный Сын Человеческий излечит мальчику триппер одной рукой – одним лишь касанием, толпа – сотворит марихуаны другой, прогуливаясь по воде яко посуху и прыская вином из сраки… Держитесь подальше, толпа, а не то вас озарит сиянием его личности.»
«А я же знал его тогда, дорогуша… Помню выступал он с Пародиями – тоже высший класс – в Содоме, а это дешевый был городишко… Исключительно от голода… Так вот, этот гражданин, этот ебаный Филистер подваливает из Заштат-Баала или откуда-то еще, и называет меня ебаным фруктом прямо на сцене. А я ему говорю: «Три тыщи лет в шоу-бизнесе и рыльце еще ни в чем не замарал. А помимо этого чего ради я должен за каким-то необрезанным хуесосом говно лопать.»… Потом он заходит ко мне в гримерку извиняться… Оказывается, он крупный лекарь. Славный парнишка, к тому же…
«Будда? Известный метаболический торчок… Сам по себе врубаешься. В Индии где никакого понятия о времени нет, Чувак частенько на месяц запаздывает… «Погодите чч-то я не понял, это второй или третий муссон? У меня как бы стрелка в Кетчупуре более-менее.»
«А все эти торчки рассиживают в позах лотоса наземь поплевывают и ждут Чувака.
«А Будда значит грит: «С какой радости я должен на слух принимать. Ей-Богу метаболизую свой собственный мусор.»
«"Мужик, да как ты можешь. Таможников же потом с себя не стряхнешь.»
«"А ко мне они не липнут. У меня приколюха есть, усекли? Я блядь Святой с сего момента.»
«"Ебаный стос, шеф, вот так поворот.»
«"Ща кое-кто из граждан точно крышей съедет только свяжутся с Новой Религией. Эти неистовые личности не прорубают как отвязываться. Класса в них нету… А кроме этого, их скорее всего линчуют ибо кому понравится если кто-то будет ходить и понты резать что он лучше других? Ты че, кент, народу кайф ломаешь?… Поэтому тут все по уму разыграть надо, по умум… Принимаем предложение, толпа, или на фиг. Мы тебе в душу впендюривать ничего не будем, в отличие от определенных дешевок которые останутся неназванными и пребудут нигде. Освободите пещеру для действий. Я щас метаболизую чуму с мурой и обойдусь Огненной Проповедью.»
«Магомет? Вы чч смеетесь? Его сочинила Торговая Палата Мекки. Египетский рекламный агент политрук конченый а дальше сами допишете.
«"Я еще одну возьму, Гас. А потом, ей-Аллаху, пойду домой и приму свою Суру… Погоди пока утреннее издание по базару пойдет. Разворочу Слитые Образы вдрызг.»
«Бармен поднимает глаза от беговой формы. «Ага. И крах их будет ужасен.»
«О… э… ну да, вполне. А теперь, Гас, я выпишу тебе чек.»
«"Ты всего лишь самый печально известная бумажная вешалка в Большой Мекке. Я не стенка, Г-н Магомет.»
«"Ну, Гас, у меня как бы два типа паблисити есть, благоприятная и наоборот. Ты уже наоборот хочешь? Я должен получить Суру касающуюся барменов кои не выписывают кредит для тех кто в нужде.»
«» И крах их будет ужасен. Продали Аравию.» Он перескакивает через стойку бара. «С меня хватит, Ахмед. Забирай свои Суры и ступай. На самом деле, я тебе помогу. И не лезь.»
«"Я твою телегу так починю, хуесос неверующий. Я тебя насухо передавлю как жопу у торчка. Я ей-Аллаху весь Полуостров высушу.»
«"Это уже континент…»
«Оставь то что сказал Конфуций стоять рядом с Малюткой Одри и косматыми псами. Лао-Цзы? Его уже почесали… И хватит этих липких святых со взглядом патического смятения как будто их ебут в жопу а им будто бы все равно. И чего ради позволять какому-то старому захезанному гаеру рассказывать нам в чем мудрость? «Три тыщи лет в шоу-бизнесе и рыльце еще ни в чем не замарал…»
«Во-первых, каждый Факт лишен свободы вместе с зуктерами и теми кто оскверняет богов коммерции играя в мяч на улицах, и какой-то старый седой ебила вываливается одарить нас плодами своего зрелого идиотизма. Неужели мы никогда не освободимся от этого седобородого придурка рыскающего по каждой горе в Тибете, могущего выволочься из хижины на Амазонке, взять кого-нибудь на гоп-стоп в Бауэри? «Я ожидал тебя, сын мой,» и выдает силосную яму полную кукурузы. «Жизнь это школа где все ученики должны выучить разные уроки. А теперь я отомкну свою Кубышку Слов…»
«"Боюсь я ее сильно.»
«"Не-ет, ничто не отвратит наступающего прилива.»
«"Я не могу отвратить его, мальчики. Sauve qui peut.»
«"Говорю вам когда я покидаю Мудреца я даже человеком себя не чувствую. Он преобразовывает мои живые оргоны в мертвое говно.»
«И вот рая я получил такое исключение почему бы мне не жахнуть живым словом? Слово нельзя выразить непосредственно… На него вероятно можно указать мозаикой сопоставлений вроде вещей позабытых в ящике гостиничного номера, определенных отрицанием и отсутствием…
«Наверное подоткну себе живот… Может я и стар, но до сих пор желанен.»
(Подтычка Живота есть хирургическое вмешательство в целях удаления жира на животе с одновременным произведением складки на стенке желудка, ведущей к созданию корсета из плоти, который, однако, может прорваться и расплескать ваши ужасные старые кишки по всему полу… Стройные и фигуристые модели Плотских Корсетов, разумеется, наиболее опасны. На самом деле, некоторые модели-экстремисты известны в промышленности под названием Н.З. – Ночных залетов.
Доктор «Каракуля» Райндфест прямолинейно запуливает: «Постель это самое опасное место для П.К.-шников.»
Гимн П.К. – песня «Поверь Мне Коль Все Эти Чары». Партнер П.К. в самом деле подвержен тому, что «объятья растают как тают подарки от фей»)
В белом музейном зале полном розовых ню солнечного света шестидесяти футов высотой. Обширное подростковое бормотание.
Серебряные поручни… пропасть на тысячу футов вниз в сверкающий солнечный свет. Маленькие зеленые грядки капусты и салата. Смуглые вьюноши со скобелями выслеживаются старым педиком с другой стороны сточной канавы.
«Ох дорогуша, интересно а они человеческими экскрементами удобряют… Может прямо сейчас удобрят.»
Он выхватывает перламутровый оперный бинокль – ацтекская мозаика на солнце.
Длинная вереница греческих пареньков строем подходит с алебастровыми вазами полными говна, опорожняют их в дыру в известняковом мергеле.
Пыльные тополи дрожат по ту сторону Плазы де Торос.
1
См. статью д-ра Нильса Ларсена Мужчины Со Смертельным Сном в Сэтердей Ивнинг Пост от 3декабря 1955 года. А также статью Эрла Стэнли Гарднера для Правдивого Журнала.
2
Такая штука, как слишком много оттяга, знаете-ли.



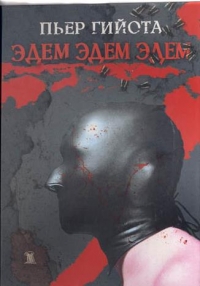

Комментарии к книге «Нагой обед», Уильям Сьюард Берроуз
Всего 0 комментариев