Феликс Коэн Жизнь как женщина (донос)
Уже ручка шуршит по бумаге, уже слова складываются в предложения, предложения в абзацы, абзацы заполняют страницы, а ты все еще задаешь себе вопрос: «А зачем?»
Все или почти все, кто пишет, мне кажется, постоянно себя об этом спрашивают. По разным причинам.
И по-разному отвечают, если считают, что они знают ответ.
Например, «писать, как и писать, следует тогда, когда уже не можешь» — М. Жванецкий.
А если я еще не страдаю настойчивыми позывами к мочеиспусканию и, следовательно, в достаточной мере ощутить этого состояния не способен?
Значит ли это, что в таком случае не нужно даже пробовать писать. Неужели следует предположить, что все, кто пишет, страдают болезнями мочевых путей.
То есть писатель должен быть преимущественно преклонного возраста, который, кроме всего прочего, может поделиться с читателем своим большим опытом. Кому же нужен такой болезненный, плачевный в буквальном смысле опыт? Кроме того, среди хороших писателей встречаются иногда весьма молодые люди, которым эти болезненные состояния незнакомы. Как же пишут они?..
В мемуарной литературе часто проскальзывают намеки, что некоторые великие писатели-гуманисты в личной жизни были большими сволочами.
Может, это у них от жгучих болей, столь необходимых таланту? Ведь писать кровью в моче часто значительно болезненнее, чем кровью сердца. Кто попробовал и то и другое — тот знает.
Следует ли понимать Жванецкого так, что хороший стиль рождается в момент непреодолимого желания опорожнить мочевой пузырь?
Возможно ли, что все литературные шедевры рождают сидя на судне или с уткой в руках? Вместо пера.
Может, писать, как и писать, следует стоя (с открытым водопроводным краном для стимуляции)?
Возможно, у хорошего писателя, учитывая возраст, подобные состояния есть сублимация либидо? Не будем углубляться во Фрейда.
Поставить постоянный катетер — вот выход. Пойдут ли писатели на это?
Возможно, они и притронуться не дадут к своим больным пузырям и измученным преждевременными семяизвержениями (в момент рождения некой изумительной страницы), склерозированным воспаленным простатам в надежде создать еще одно (а то и два) нетленное произведение? Не говоря уже о худшем, в смысле диагноза.
Что-то интересное было у Э. Хемингуэя: писать нужно только о том, что знаешь; мало того, если пишущий действительно знает, о чем он пишет, он может это отметить вскользь, почти не останавливаясь на теме, а может и вообще об этом не писать — все равно читатель увидит, что писатель знает. Красивая мысль, правда?!
А мне любопытным кажется писать не о том, что я знаю или понимаю, а о том, чего я никак понять не могу.
Когда ты решился писать, что тоже процесс мучительный, сразу появляется следующий вопрос, вернее, три: «Как? Когда? И о чем?»
На них есть столько ответов — не хватит жизни прочесть.
Вопросы возникают сразу же, когда садишься писать, и чем дальше пишешь, тем больше страдаешь. Ты раздираем противоречиями, ты ненавидишь своего героя и в то же время постоянно видишь себя в нем. И знаешь, что это не ты… но иногда так похоже.
И ты вместе с ним любишь и ненавидишь эту Юльку, это источающее похоть, бесчувственное, подверженное только страстям животное, эту звездную невесту, источник стыда и восхищения, которой Бог по неизвестной причине дал глубокие, находящиеся где-то за пределами всеобщего взрыва всполохи чувственного света, которые не ощущаются ею, потому что ее предел — это ощущение полового удовлетворения.
Есть от чего прийти в отчаяние.
Любовь и ненависть, и отчаяние — вот мои причины. И если я этого не испытываю — писать мне не хочется.
Взять хотя бы ее партнера, ее половую «идею фикс». Нужно бы о нем написать, но писать о нем нечего. Он-то вообще здесь причем? Герой пытался о нем рассказать — не получается: ни плохой, ни хороший, ни умный, ни глупый, ни злой и ни добрый, даже, наверно, ни жадный. Бесталанный, бесцветный. Никакой. Зато с подлянкой. «Жил-был у бабушки серенький козлик».
Ну что поделаешь, если женщине нравятся козлики, особенно когда они велеречивы, с гнильцой и мелкой подлостью.
«В нем есть сочетание качеств, мне приятных».
Это она про человека, не про окрошку.
Я бы написал и о нем, но эта история не сборник кулинарных рецептов. Набор его качеств представлен.
Когда действительно были любовь, или ненависть, или отчаяние, то ты должен себе простить необходимые предательства друзей, близких людей, родных, любимой. Потому что, когда пишешь, не можешь не заложить в большей или меньшей степени тех, о ком пишешь. Писательство — всегда донос.
Так уж заведено.
Вот тут-то у тебя появляются враги…
И исчезают друзья…
И ты становишься одинок…
Время писать наступило — садись и пиши…
О чем?..
Чаще всего о женщинах, потому что ты ощущаешь, как сквозь каждую из них за тобой подглядывает бессмертие…
Мне известен один человек, для которого вся его реальная жизнь, все окружающие предметы и события, человеческие взаимоотношения и сны, общественные и государственные институты — все, что виделось, слышалось, мыслилось, чувствовалось и ощущалось, — представлялось женщиной… Абсолютно все.
О нем я и расскажу…
Мы познакомились в банях на Фонарном переулке. Настоящие парильщики знают эти старые с кирпичными флигелями Купеческие бани.
Из красных, толстых, полуразвалившихся стен вываливаются крошащиеся кирпичи и прорастают зеленые кустики. Дворики маленькие — там можно сидеть на скамеечке голым.
Классы неопрятные, в шкафчиках бывают тараканы. С темного, в сырых разводах потолка со ржавыми поперечными металлическими балками капает вода. По стенам из плохо отмытого кафеля в заплатках также стекает влага.
Но парная превосходная, и пар держится долго. Такого пара давно уже нет в «Сандунах».
В парной всегда чисто, опавшие листья веников выметены, полы протираются теплой, влажной тряпкой.
Моего знакомого там знали все, подзывали к телефону — звонили, как правило, женщины.
В бани он приходил всегда с бутылкой водки, парой соленых огурчиков из «бочки», щепоткой квашеной капусты или лещем.
«Баня не столовая, а закуска — враг прихода» — сообщал он, наливая всем желающим. Сам пил мало. Говорил достаточно, однако больше слушал. Его манера общения располагала к откровенности.
Банные байки про баб вызывали у него неизменное восхищение и, казалось, искреннюю зависть, стимулируя рассказчика усилить фантастичность предлагаемых событий.
Серьезность и абсолютное доверие к этому вранью вызывали подозрение, тем более когда я замечал, как сквозь доверчивую улыбку внезапно и мимолетно продирался его внимательный, профессиональный взгляд.
Сам он о женщинах не говорил, ссылаясь на плохое знание темы.
Загадочная русская душа. Еврейского разлива.
Только однажды, неожиданно, мне была поведана некая история. История была длинной, и мы несколько раз встречались и бродили по городу. Чаще всего вдоль Фонтанки. История, скорее всего, давняя, но рассказывалась так, будто произошла вчера.
Рассказывая, он подсмеивался над собой.
Возможно, у него была еще какая-то другая жизнь, в которой все было серьезно.
Но прежде всего мне хотелось бы заявить: все, что рассказано им, и в первую очередь имена собственные, фамилии, события, время и место, является абсолютным вымыслом, несмотря на кажущееся сходство.
Посудите сами, особенно те из читателей, которым покажется, что они точно знают этих действующих лиц или героев (как Вам будет угодно), разве эти герои на самом деле такие? Нет, они совершенно не такие.
Да и человек, который рассказал мне эту историю якобы о себе (знать точно я не могу, но абсолютно убежден), — стукач. А что возьмешь со стукача?
Ну, а мы с Вами?.. Нет?
Хотя бы, один разок?..
«По жизни»…
То-то и оно!
Часть I Тела
«Дракона образ явится (тогда),
Когда придет мгновение творчества».
М. БасёПопки, попки, попки… — проплывали, покачиваясь, мимо него, двигающегося по солнечной стороне Невского проспекта к Адмиралтейству. Они то обгоняли его, то отставали, втиснутые в джинсики или брючки с низкой талией, или в короткие, чуть ниже трусиков, и так же обтягивающие плотные юбочки. Попки казались упругими, плотными, налитыми, что на самом деле далеко не всегда соответствовало действительности.
На самом деле (он видел это каждый день), когда снимешь джинсики, картина менялась к худшему: терялись упругость и округлость, обнаруживались недостатки, исправлять которые было, собственно, частью его работы.
Эти дефекты порой вызывали у него любование и даже — желание — своей индивидуальной сексуальностью, теплотой, если хотите; отличием от общепринятых норм, навязанных эстетикой.
«Ведь я не допускаю мысли, что там — „наверху“ — были заняты чем-то более важным или отвлеклись в момент производства этих попок». Скорее всего, они такими и были придуманы. Возможно, для избранных. А я сейчас возьму и ножом приведу все это к общепринятым кондициям (на радость тупой владелице и к своему удовлетворению). А потом, разглядывая с ней вместе результат, буду говорить: «Видите, иногда приходится исправлять то, что в „там“ не досмотрели».
Жаль, что вожделение пропадает.
Тем не менее во всех этих попках имелось притягивающее и желанное единство.
Только ниже начиналась разножопица…
Ниже попок были бедра, чаще всего приятные, по-русски грузноватые. Тут особой хирургии не требовалось. Можно исправить — воля и терпение.
Стопы. Голени… Это явление в России столь удручающе, что ни о какой коррекции с помощью пластических или эстетических хирургов чаще всего даже думать не следует.
И колени… — но о них лучше говорить, посмотрев спереди. В сумме получаются наши русские походки — выйдите и посмотрите…
Попробуем бросить взгляд спереди. На тех, что идут навстречу.
А навстречу двигались молочные железы — большие и маленькие, втиснутые в тесные бюстгалтеры или без оных (прямо под короткими кофточками, широко открывающими обнаженный живот между ними и низко сидящими джинсиками).
Те груди, которые под кофточками без бюстгалтера продолжали стоять, особенно большие, были, скорее всего, с подложенными под них аккуратным, незаметным разрезом силиконовыми протезами.
«Наша работа, — скептически подумал он. — Скоро дойдем до того, что все, кроме кожи, да и то частично, будет вставлено нами. Не без потерь для чувствительности.
Царство красоты и фригидности.
Кукла в секс-шопе и та натуральней!»
Натянутая кожа живота не соответствовала дряблости кожи плеч и бедер (как у Юльки. Но об этом позже).
Угадывался длинный поперечный разрез, искусно спрятанный под резинкой трусиков, — результат абдоминопластики. «Кожа в этом случае часто бывает натянутой и не очень эластичной, — думал он, — и что бы там ни говорили, чувствительность снижается».
Зато пупки были замечательные: как естественные, так и «наши». На плотных втянутых животиках они выглядели юными и похотливыми. Особенно когда в край пупка вставлялся маленький золотистый или перламутровый шарик или какая-нибудь другая блестящая штучка. Эротика. Ложное впечатление невинности. Вот, собственно говоря, и все хорошее.
Таз спереди при отсутствии вида притягательной попки представлял зачастую картину отталкивающую — эти два кривых бедрышка, стоящие отдельно под поперечной балкой таза, как Бранденбургские ворота, — триумфальная арка, победившая либидо.
Лобки… — либо проваленные в промежность, либо торчащие бугром, под которым зияет пространство между изогнутыми бедрами и ноги смотрятся не вместе, а совершенно отдельно.
Грубые большие деформированные колени, которых даже брюки скрыть не могут. Затейливо изогнутые голени, исторгающие чувство жалости, и эти ступни, то волочащиеся по асфальту, то грубо с топотом его попирающие, то вообще какие-то кособокие.
Возникает желание спросить: «Ну, зачем Вы носитесь по косметическим клиникам и кабинетам, саунам, аэробикам, фитнесс-клубам?
Научитесь сначала ходить, а то вам вилы хочется дать в руки, а не член».
В общем, если на женщину смотреть выше талии спереди, а ниже ее сзади, то это оптимальное решение эстетической задачи с точки зрения возможной эрекции…
И над всем этим лица… Лица — это вообще сплошное вранье. Как вследствие косметических ухищрений, так и без оных. И, глядя на них, ты никогда не поймешь — это хирург поработал или они от природы такие.
Разве только утром, если тебя родимчик не хватит.
(Может, прав Заславский? Может, действительно у меня нет этого «органа любви»? Снова перед глазами возникла Юлька, дремучая и жирная, вспомнилась всюночная скука от заката до рассвета, когда ты лежишь в ее безразличном теле, дрожа от холода одиночества, безрадостно целуя грубо очерченный примитивный рот, который кто-то наивный неумело пытался приспособить для орального секса. Но об этом позже.)
Свет померк, и окружающее показалось ему бесконечным копошением тысяч женских тел, худых и толстых, молодых и старых, красивых и отвратительных, с мокрыми влагалищами, потных во время соития.
На углу Невского и Мойки он перешел проспект (в неположенном месте) и отправился по набережной за Синий мостик в Фонарные бани, где по пятницам собирались художники и был Анатолий Заславский, который в скором поезде Санкт-Петербург — Мурманск в мгновения ока лишил его «органа любви» по своей дурацкой, но, как и все, что он делал, гениальной прихоти.
Тогда Аршакуни и Заславского пригласили выставиться в краевом музее одного северного города. Не буду его называть — поймете сами. Ехать в город М. одним им не особенно хотелось. Поэтому они прихватили жену Завена Петросовича Нину в качестве: скорой помощи, организатора пищевых ресурсов, сдерживающего начала в плане ненормативной лексики, свойственной им, общего руководителя неразберихой, которая обязательно возникнет в силу равнодействующей нашего общего тотального склероза.
А я был взят, наоборот, как упертый сквернослов, видимо, чтобы ненормативная лексика все же присутствовала и имел место продуктивный диалог во время поездки. Кроме того, с моим присутствием облегчались поиски самого глупого. Официальной же моей задачей было: организация пространства, ощущение времени, им не свойственное, и производство событий в том и другом.
Ввиду моих ошеломляющих лексических способностей (в смысле все той же ненормативной лексики) я считался человеком, близким к народу, и должен был произнести вступительную речь, после которой сложное и высокое искусство этих художников станет простым и понятным людям.
Билеты и отдельное купе помог раздобыть один влиятельный человек, пациент, которого не назову. Не бандит, кстати. Один звонок — и мы поехали.
Поезд двигался сначала через замусоренные пригороды, затем через какие-то болотца, чахлые перелески и сосенки. Завен непрерывно смотрел в окно, куда-то вперед. Было любопытно — куда, но побеспокоить вопросом я не решался. Может, у него там, впереди, вдохновение? Скорее всего, не ответит. А если и ответит — понятно не будет. Вопрос: «Куда ты смотришь?» — может воспринять слишком глубоко — в смысле мироздания. (Классик все-таки.)
Его масляные, почти черные, армянские глаза, всегда изучающе вопросительные, в настоящий момент непрерывно мелькали в горизонтальном направлении.
«Железнодорожный нистагм», — определил я.
Ситуация становилась угрожающей — не дай Бог, нистагм станет постоянным. Это может перейти в дурную привычку — бегать глазами перед людьми. Люди будут думать, что он с ними лукавит, а художники, которые только и ждут случая, на кого бы им обидеться, будут обижаться. Тактичный Завен этого не переживет.
Я взглянул на Нинку — реакция была мгновенной: «Завен, хочешь пирожок?»
Он отвернулся от окна. Нистагм прекратился.
«Спасен!» — вспомнил я.
Голодный гений опасен для окружающих, мне думается. Кстати, «мне думается», по-русски неправильно. Страдательный залог тут неуместен. Правильно — «я думаю». Любимые фразы интеллигентской тусовки 70-х. «Мне думается», «мне представляется»…
Что значит «мне представляется»? Мерещится, что ли?
С другой стороны, «не пишется что-то» — звучит убедительно. Модальность создает ощущение вмешательства потусторонних сил, в том смысле, что я хочу писать, но не могу — препятствует рок. Комплекс вины за безделье снят. Впрочем, какой же может быть комплекс вины за безделье у нас?!
(Взять бы да и удавить эту ленивую суку Юлию! Но об этом позже.)
Завен съел пирожок и пошарил глазами по столу. «Нистагм может вернуться», — с тревогой подумал я. Его общеизвестный многолетний голод к работе в последнее время сублимировался в чрезвычайный аппетит. (Биологическая компенсация заботливой природы?) Вкушал он с восторгом, как Гаргантюа, оставаясь при этом сухоньким и небольшим. Все, по всей вероятности, уходило в бешеноактивную деятельность мозга. Другого объяснения не нахожу…
От пирожка мысль моя, убаюканная стуком колес, перенеслась к «шарлотке», которую испекла мне в дорогу девушка Юля, не преминув сообщить за две минуты до отправления поезда, что из дома до вокзала ее привез некто, который ждет ее в машине, чтобы отвезти назад. Потому спешит.
Какова умница, а?! А главное — тактична. Это она специально или не понимает, дура? «Не дотрахалась, что ли? — зло подумал я. — Кукла бесчувственная!»
Интерес к «шарлотке» я сразу потерял при мысли о том, как они трахались стоя, как раз когда она замешивала тесто.
«Все возвращается на круги своя», — подумал я, вспомнив историю, случившуюся много лет назад.
Тогда мой институтский товарищ, лауреат всероссийского конкурса чтецов, помню, на каком-то из спектаклей познакомил меня с молодой актрисой — удивительной красоткой, как мне, и особенно другим, казалось. (Значит ли это, что наше бытие является чередой бессмысленных повторений во времени? Не знаю.)
Все половое во мне пришло в неистовство. Гормональный выброс был так силен, что мир в моем сознании пошатнулся и померк, и только в центре светилось, как мерцающая таблица зачатия в виде кружочков с крестиками и кружочков без крестиков, ее источающее желание существо.
«Ну, вот, опять началось», — с тоской тогда подумал я, но было поздно — «крыша» съехала.
Не помню, был ли я на ней женат. Об институте брака стоит поговорить. Но не мне — сам я был женат всего семь или восемь раз, точно, правда, не помню. Что достаточно мало.
Во всяком случае, во дворцы бракосочетаний, куда нельзя было ходить повторно, а их было в Ленинграде четыре, меня уже не пускали. И еще помню, что в ЗАГСе я был один раз до дворцов и пару раз после.
По сравнению с количеством заключаемых в стране браков эта цифра недостоверна и ничтожно мала для выводов.
А что касается этой барышни, то вспомнил — женат на ней я не был. Она была замужем. (Что косвенно связано с пресловутой «шарлоткой».)
Было лето. Виделся я с ней каждый день, а хотелось — каждую минуту. Вскоре в окрестностях Ленинграда не было ни одного природного уголка, где бы мы не примяли траву.
Как сдал выпускные экзамены, я не помню. Среди генетических схем совокуплений в мозгу всплывала картина: мы с ней вдвоем на севере, где больные ждут энергичного, хорошо подготовленного уролога. Поселимся, будем жить в почете и достатке…
Ну, если бы не затмение мозга, неужели я бы не сообразил, что ждет меня там поголовный триппер и редкие случаи отморожения члена.
А события катастрофически нарастали.
Я уже не мог с ней трахаться так редко, то есть ежедневно. Очевидно, мне хотелось непрерывно — и в день выпускного экзамена, встретив ее, идущую в магазин за молоком с бидоном, я взял ее за руку, довез до Московского вокзала, купил билеты в первый попавшийся поезд до наших южных морей, и мы, как были, налегке, с бидоном, отъехали в Эдем.
Эдем представлял собой рыбацкую хижину на берегу Азовского моря.
В сарае висели вяленые судаки, тарань, осетр; пахло копченой рыбой.
На песке, у воды, как черные киты, выброшенные на берег, лежали перевернутые вверх дном просмоленные рыбацкие баркасы.
Вечером хозяйка приносила теплое парное молоко.
Ночью было прохладно и чуть-чуть сыро. Кровать с двумя большими пуховыми подушками и пуховой периной, в которой мы утопали. Она горячо дышала мне в шею, положив голову на плечо. В таком положении затягивать перерывы не было никакой возможности, и эти редкие минуты перерывов вспоминаются мне как некие моменты тихого блаженства и покоя.
Все остальное время я проводил в ней: на полу, на кровати, на столе, на всем, что могло выдержать нас двоих. Вы, в общем, все это знаете. Никаких открытий.
Утром не в силах заснуть мы выползали на пустынный, едва согретый солнцем песчаный берег моря и окунались в прохладную соленую воду, чтобы немного очнуться. Пляж был покрыт диким сероватым песком с большим количеством мелких ракушек, которые не кололи ноги. И море было такое же серое и гладкое.
Засыпая, я смотрел на нее — загорелую, голую, стоящую по щиколотки в воде.
И все это вместе — серый песок и море, почти красное солнце, ее загорелое тело и рыжие волосы на фоне серо-утреннего неба, струящиеся в воздухе прозрачные потоки — вызывало ощущение несбыточно прекрасного…
«Ну, прямо Серов какой-то, не этот, а тот», — возникало в мозгу перед тем, как я проваливался в небытие…
Прошел месяц. Грянуло письмо от мужа… Никто не знал, где мы, кроме моего вероломного друга-чтеца. Значит, он нас и заложил. (Настучал-таки.) Пришла пора возвращаться. (Нет, о «шарлотке» я не забыл, скоро доберусь.)
В Ленинграде я не остыл. «Крыша» протекала, разум по-прежнему был помутнен. Тут я сообщил любимой о моих планах оздоровления золотоносных районов страны. К удивлению, идея поддержки не нашла, и теплое гнездышко в крае вечной мерзлоты не свивалось. Лежа со мной, она тем не менее шептала о том, что муж каждый день просит ее бросить меня и вернуться; он любит ее, он несчастен и болен, но у него твердая перспектива аспирантуры и успешной научной карьеры… Кроме того, и у нее есть перспектива хорошей работы.
(Еще бы, с такими данными.) Холодный ветер прагматизма проник в мой спинномозговой канал, однако половых центров он не отморозил. «Очевидно, у меня они функционируют автоматически, составляя синдром перманентной эрекции, близкой к приапизму», — уныло подумал я.
«Ну, что ж, остаюсь в Ленинграде!» — и, сидя в теплоте между ее ног, прямо на кровати я настрочил в Магадан письмо с просьбой осветить, как именно и где точно я смогу улучшить урологическую помощь в крае.
Существо ответа я знал заранее, и он пришел: «Места уролога в Магадане и области нет, и Вы будете работать там, куда Вас пошлют».
В комиссии по распределению, предъявив письмо, я сообщил, что кем угодно могу работать и в Ленинграде. «К сожалению, перераспределить Вас может только министерство», — ответили мне.
За неимением теплой промежности по соседству я быстро написал письмо в министерство на подоконнике, снял десять копий и первую немедленно отправил в Москву. «После пятого или шестого отказа они мне пришлют перераспределение», — думал я позже, прижавшись щекой к ее лобку, покрытому кудрявыми рыжими волосиками. Жизнь без подруги я себе не представлял, и, кроме того, нужно было доказать ее мужу, что я тоже кое-чего да стою. (Ну, вот, к теме «шарлотки» мы уже практически подошли.)
Заканчивался сентябрь, и начинался новый этап — со мной стал встречаться ее муж. По просьбе главврача одной районной больницы Ленобласти, случайно встреченного в электричке, я начал работать хирургом в больничке поселка городского типа в трех часах езды от города.
Мне выделили комнатку метров десяти на втором этаже деревянного дома с печечкой и «удобствами» во дворе. (Правда, электричество было, не буду усугублять.)
Туда приезжал супруг с целью просветить меня, что в городе я известная личность определенного типа и, естественно, уважать он меня за это не может, и, если я желаю добра нашей даме и т. д…
Я желал. Кроме того, это не было угрозой. Это была выстраданная, логически выверенная мысль о том, что ей с ним лучше. Так что до кровавого мордобития дело не дошло. К сожалению.
«Послушай, — сказал я ему, — пусть она решает. Скажет, что остается с тобой, — ну, что ж. А нет, не обессудь». Но его такое решение вопроса не устраивало (сейчас, из-за Юльки, о которой я скажу позже, его идиотизм мне понятен).
Тем временем похолодало. Выпал снег. В моей деревеньке было слякотно, холодно и грустно. Я часто ездил в город.
Она и ее подруга, а затем еще одна моя знакомая приезжали ко мне в деревню. Забавно было смотреть из окна больнички, как они топают от перрона по грязной дорожке на высоких каблуках, в дубленках ко мне в каморку, едва прогреваемую печечкой, прямо на жесткую кровать.
Особенно трогательно выглядела подружка — нежная блондинка с тонкими мелкими черточками лица, большеголубоглазая, шикарно одетая от трусиков до носового платка, с удивительным по тем временам парфюмом — любовница богатого «пушника»-швейцарца. Кроме того, я завел подружку прямо там, в поселке. (Очевидно, чтобы не застояться.)
А в городе я чаще всего приезжал прямо к ней в квартиру. Захаживал и муж. Вы, наверное, знаете эти дома эпохи конструктивизма с множеством дверей маленьких квартирок, выходящих в один длинный, через весь дом, коридор с двумя окошками по торцам. Окна микроскопических кухонек также выходили в коридор рядом с дверьми. Слышимость была великолепной — осуществленная строителями идея отсутствия личных тайн у граждан страны победившего социализма.
В результате любое соитие за закрытыми дверями превращалось в свальный грех.
Власть — «Софья Власьевна» — передержанная, растленная, больная, лицемерная и злобная баба, желала знать о своих гражданах все — даже как они онанируют. Умирающая Софья Власьевна казалась мне затасканной, переходящей из рук в руки шлюхой с распахнутой пещерой гнилой промежности, где бесследно исчезали зазевавшиеся люди.
Дни и ночи она попирала улицы своими гигантской толщины и тяжести больными слоновостью ногами, распространяя вокруг себя трупный, горький запах формальдегида. Действительно, и у нее на глазах, и даже спрятавшиеся от нее глубоко в подвалах за закрытыми на толстые засовы дверями, вокруг нее погибали все, на ком останавливался ее всепроницающий беззрачковый взгляд…
Я позвонил в дверь. Любимая открыла и пошла на кухню что-то жарить на сковородке. (Тема «шарлотки» приближается. Помните, как ее жарила подружка?) Я поплелся за ней на кухню и там, не выдержав вида движущейся передо мной плотной попки, содрал с нее трусики, поднял юбку и усадил на кухонный столик…
В коридоре послышались шаги, и раздался звонок в дверь. (Обязательная сцена. Тема «шарлотки» развивается стремительно. Дальше спад.) Мы замерли, не желая покидать друг друга.
После долгого молчания раздался второй звонок.
«Открыть, не вставая?» — ехидно прошептал я ей на ухо…
Через некоторое время в форточку у ее бедра упало несколько гвоздик. Послышались и затем стихли удаляющиеся шаги. Вот и римейк «шарлотки».
«Вам понятно, почему я ее не ел? — спросил он меня. — И что Вы скажете о мести провидения?»
Тем временем Завен, который уже длительное время смотрел на «шарлотку», проглотил слюну и перевел глаза на Нину. Нина опять не подвела, и «шарлотка» была мгновенно разрезана на большие куски.
(Тут опять обнаружился Заславский — драма начала свой стремительный и бесповоротный бег.)
— Почему ты не ешь «шарлотку»? — спросил меня Заславский, как бы не догадываясь о коварстве своего вопроса. — Она такая вкусная, видно, девушка тебя любит, раз испекла и принесла тебе в дорогу такую замечательную «шарлотку»?
— Боюсь проглотить презерватив, — ответил я и уставился в окно.
— Как ты можешь говорить так про свою девушку?! Она же тебя любит! Ты совершенно не понимаешь женщин! Ты о них не думаешь! Если бы девушка испекла такую «шарлотку» мне…
— (Далась им эта «шарлотка».) Что же ты мне душу-то мутишь, Толя? А что касается женщин, и думать тут нечего, да и бесполезно, нужно просто трахаться и все! (Особенно с такой блядью, о которой я скажу позже.)
— Как это просто трахаться? Нет, ты не можешь о девушке думать правильно. Ты думаешь неправильно. Женщина — это вообще совсем другое, чем тебе кажется. Ты вообще когда-нибудь любил женщину?
— Даже еб, — процитировал я.
— Вот, видишь, — сказал Заславский укоризненно. — А если бы ты любил, как я, то знал бы, какой это ужас! Это кошмар, катастрофа! Это так тебя ранит, разрывает, уничтожает! Ты даже себе представить не можешь! Ты теряешь все! Ты перестаешь что-либо понимать… Впрочем, что я тебе говорю — ты этого ощутить не можешь, у тебя нет органа любви!
— То есть как это нет? — обиделся я. — Значит, у тебя есть орган любви, а у меня нет?! И где он находится?
— Где находится, сказать не могу, но у всех людей он есть, а у тебя нет.
— Толя, если ты хочешь меня оскорбить, то так и скажи! Что ты из меня инвалида какого-то делаешь? Все, что есть у тебя, есть и у меня! И даже больше! Спроси у женщин, которых ты так хорошо знаешь. И орган любви у меня тоже есть. Просто я его не показываю.
Поезд медленно подходил к перрону города М. Опоздание по нашим меркам было незначительным — на сорок минут всего.
Нас встретили, помогли довезти картины до музея, поселили в квартире местного художника (бывшего петербуржца). Он сам ушел жить в мастерскую.
Переночевав, мы отправились развешивать картины. Выставка открывалась завтра.
Публика собралась интеллигентная, были дети. Смотреть же с позиции Зигмунда Фрейда или, скажем, Луки Мудищева было не на что. Правда, выявилась молоденькая симпомпошка — журналистка.
Выступление превращалось в тет-а-тет. Прошепелявив что-то про ярких, красочных, чувственных художников, которые в этот «суровый и мужественный край» и т. д., я быстро закруглился. Да и ситуация с биологических позиций казалась ненадежной: одна особь при отсутствии естественного отбора?.. Могла быть ошибка.
В итоге мы вместе с друзьями, прихватив журналистку, отправились выпивать в мастерскую радушного Мского художника. Там, сидя за столом и погрузив левую руку в теплую литературную промежность, а правой держа непрерывно наполняемый стакан, я сквозь него внимательно смотрел на друзей, оживленно обсуждавших проблемы бесконечного течения живописи.
«Может, так сидеть и слушать — это и есть счастье», — подумал я (не имея в виду, конечно, руку в промежности). Доза выпитого приблизилась к полулитру.
Следующая пара дней прошла в непрерывном запое.
«Так и уедешь, не взглянув на ихнюю северную цитадель», — подумал я и вечером вышел прогуляться.
«Она» подошла ко мне возле отеля с каким-то северным названием. Лет шестнадцати-семнадцати, чистенькая хорошенькая с совершенно невинным лицом.
— Хотите отдохнуть?
— А я не устал. Меня и так посадят за педофилию.
— Мне уже девятнадцать.
(Тогда… Почему-бы и нет? Вообще, я не фанат такого отдыха, но последние дни я на себя не похож.)
— Согласен. Ну и какова цена ривьеры?
— Пятьдесят баксов.
— Недорого… Что, не сезон?.. Ну, ладно, веди. Выпить взять что-нибудь? Только ни слова про пиво, а то буду считать тебя участницей рекламного ролика… И про сухой мартини со льдом! Убью!
— Что, какая-то сука заказывала?
— Ты догадлива.
— Водка или коньяк Вас устроит? Без рыбы и икры — у нас морской город — не удивите. Возьмите что-нибудь острое. Не затруднит?
— Не затруднит. И рванули отсюда.
Начиная с девятого класса и вследствие полного отсутствия в окружающем нас быдле чего-либо привлекательного — все это ложное кипение, весь этот науськанный романтизм-патриотизм: «Вперед же по солнечным реям! На фабрики, шахты, суда!..», за которым лежала Софья Власьевна и имела нас своим полугнилым клитором — только девушки казались чем-то действительно стоящим, искренним и нормальным. По крайней мере, интерес к ним был настоящим. И мы трахались каждый день, в редких случаях через день, по одиночке и все вместе, не потому, что были испорчены, а потому, что было весело, и не вследствие эмоций, которые сейчас стараются выдавить из нас порнофильмы — продукция для людей, которым, кроме кровенаполнения полового члена, другие задачи общения с женщиной, а также органы чувств, кроме зрения, вообще неизвестны.
Все эти порно и эротические сцены снимаются часто в таких роскошных местах: синие лагуны, песчаные пляжи и коралловые острова, зеленые джунгли, снежные вершины гор… И тут как раз, когда ты увлекся всей этой красотой, на экране начинают мелькать уже надоевшие до зубного скрежета половые органы: оптом и в розницу, вместе, отдельно и в опасной близости друг от друга; эти бесконечные задницы во весь экран, уже залитые спермой, как кремом, или еще нет. И ты с раздражением думаешь: «Ну, когда же с экрана исчезнет вся эта трихомудия и ты снова можешь увидеть столь удивительные природные места». А вот фильмы моей юности, взятые в качестве трофея, были совершенно иные: «Судьба солдата в Америке», «Серенада солнечной долины» и наконец «Чайки умирают в гавани». «Чайки умирают в гавани» — это пара: американский солдат и девушка, танцующие в послевоенной Европе. И эта мелодия: тара-тара-тара-там-та-та-та-та-та-там…
Уже через много лет ставший известным переводчиком Дима Брускин всегда, когда приходил в «Асторию», подходил к трубачу Володе и просил: «Володя, давай из „Чаек“».
Дима Брускин был человеком необычайно талантливым, по образованию физиком. А языки выучил совершенно самостоятельно, без всяких курсов и институтов. Вот как он объяснял свою склонность к выпивке: он жил на переулке Антоненко, в доме сразу за Мариинским дворцом, и из его окна, если выглянуть, был виден угол гостиницы «Астория» с надписью над ней, но не всей, а только частью «Асто»:
«Вот каждый раз, когда я выглядываю в окно, я вижу: „А сто?“ — вспоминаю и бегу». Новым знакомым Дима представлялся: «Дмитрий Брускин — переводочник». С этого все и началось.
Однажды по пути из «Астории» домой он упал с Синего мостика в Мойку и так удачно, что встал на ноги. Пьяный он был совершенно, и жена кричала ему: «Дима, стой на месте! Ни шагу!» И действительно, любой шаг в сторону, и он мог утонуть в яме, нахлебавшись этого говна.
Вызвали пожарную команду, которая тотчас и приехала, но поскольку лестницы пожарных машин поднимаются вверх, а с Синего мостика нужно было опустить лестницу вниз, то пожарные достали веревку и бросили Диме, чтобы он обвязался. Дима завязал веревку на своей шее и сказал: «Тяни».
Умер Дима Брускин. Умер в Америке Кирилл Косцинский. Где-то исчез Боб Пустынцев, который так знал, любил и понимал джаз. Увижу и услышу ли его замечательные, редкостные пласты?
А джаз? Ах, этот джаз! Глоток свежего воздуха. Играли на разных «халтурах» — на институтских вечерах с липовыми лозунгами и темами, чтобы не «замели», в 232-й школе, в Техноложке им. Ленсовета, Политехе, в Бонче, в Корабелке, на литфаке за Смольным…
Без всяких объявлений, наоборот, тайно — но всегда собиралась толпа: стильные девочки в капрончике и туфельках на каблучке, «чуваки» без шапок с «коками», «французскими», «канадками», сделанными в парикмахерской на углу Плеханова и Майорова двумя единственными в городе девушками Тосей и Люсей и, видимо, единственными в то время фенами.
Мы стояли на морозе часами, чтобы пойти и послушать. Или пробирались через подвалы и крыши по черным лестницам. Кому повезло и он был знаком с музыкантами — мог пройти, гордо неся инструмент.
Это и была слава. Настоящая. А не рекламная.
А музыканты? Какие это были музыканты! Самозабвенные, преданные и бескорыстно влюбленные в джаз, пророки — они сами были музыкальными инструментами, пульсирующими ритмами независимости и непримиримости. Кандат, Носов, Игнатьев, Пожлаков, Гена Рассадин, Сережа Самойлов, Толя Васильев, Милевский, Гольштейн, Неплох, Чевычелов и другие.
Но Нонна Суханова была у нас одна — наша первая джазовая звезда — высокая, миловидная, с прелестными (голубыми или серыми? Нет, все-таки голубыми) глазами, академическим английским и другом-болгарином, высоким, крупным, черным, в дубленке с черным мехом.
Все они были разными по уровню музыкантами. Но не плохими, нет, не плохими. Во всяком случае, достаточно хорошими, чтобы джаз вошел в нас навсегда.
И Сергей Самойлов в его комнате на Загородном, в которой стоял какой-то стол с магнитофоном и приемником, всегда настроенным на 31,6 или 49,8; кровать, установка ударных инструментов и все; и сам стильный Самойлов с вечной трубкой в углу рта.
А были и просто великолепные музыканты, такие как Игнатьев и Носов и, конечно, Гена Гольштейн — лучший из лучших, и не только в Совдепии, но и, возможно, в Европе — не музыкант даже, а сама музыка, как и его кумир тех лет «Berd» — Чарли Паркер.
Потом уже были джаз-клубы — «Белые ночи» на Майорова, «Комсомольское» кафе на Тверской в Москве, Давид Голощекин, «Диксиленд», Фейертаг. Но то позже, когда старая шлюха-власть сделала вид, что джаз ей нравится.
На следующий день после вечера мы ходили в «Север» обсудить, кто и как играл.
Если в «Север» было не попасть, шли в «Восточный» — восточный зал гостиницы «Европейская», где на пять рублей можно было покушать с девушкой, взяв двух цыплят табака, бутылку вина и кофе с мороженым. Так что стипендия в двадцать семь рублей и несколько дежурств в «психушке» или на «пьяной травме» позволяли туда ходить довольно часто.
Там бывали все: будущие поэты и писатели, артисты, спекулянты, фарцовщики, воры в законе и просто ребята с Невского.
Сидели, болтали, смотрели на других, приглашали чужих женщин с риском для внешности обеих сторон потенциального конфликта.
Зал был слегка прокурен. В вестибюле Стас Домбровский, жестко улыбаясь, беседовал с каким-то рыжим, тоже невысоким евреем, впоследствии оказавшимся Иосифом Бродским.
Перманентно хмурый Сергей Филиппов стоял с рюмкой у буфета. Сразу не поймешь — он набрался или дурака валяет.
Появлялся высокий, плотный, как правило, уже загруженный Довлатов с красавицей женой.
За соседним столиком сидел Валера Левин, мой однокашник, в окружении «балетных». Еще за одним столиком, ближе к оркестру, тоже в окружении девушек из балета сидел другой Левин — мой коллега. Балет был их «профсоюз», и они исправно и регулярно платили «членские» взносы, только первый предпочитал Мариинку и солисток, а второй — «корду», «Березку», Мюзик-холл, не обращая внимания на профессиональную одаренность, а ориентируясь преимущественно на длину ног.
Сам я балетом интересовался мало, видимо, мешала живость воображения, но такой вакхический праздник, как приезд «Березки» в Петербург, никогда не пропускал. Что ни говори, характерный танец требует темперамента. Поверьте, это так.
Как-то за соседний столик присел кинорежиссер из известной киношной и театральной фамилии с известной актрисой. Через некоторое время она встала, подошла к моему столику, где я мирно беседовал с очередной женой, и спросила: «Вы разрешите известному режиссеру пригласить Вашу подругу?» «Господи, — подумал я. — Что же заставило тебя, такую талантливую, обаятельную, чуткую, подойти с малоприятной просьбой от этого малоизвестного родственника „известных“?»
— Передайте Лёне — несколько лет назад, когда он делал свой «вариабельный» экран, свою «латерну магику», я дарил корзины цветов его «приме», так как это было единственное достойное внимания явление во всей той галиматье. И он меня попросил сделать так, чтобы я принес корзину не ей, а как бы всей труппе.
— Леня, — ответил я тогда, — ты что мыла поел? Подними жопу, слетай на станцию метро «Петроградская» и купи корзину цветов своей труппе сам.
— И сейчас тоже скажите ему: «Леня, подними жопу и сам подойди к женщине познакомиться, раз уж снизошел обратить внимание, а мы пока подумаем, будем знакомиться или нет».
Как-то подошел худой и черный. Будучи нетрезвым, начал приставать к моей подружке. На предложение «быстро слинять» ответил гордо: «Вы знаете, кто я? Я — Битов!»
— Нет, ты еще не Битов, но если не отвалишь, возможно, будешь.
(Ну, и что Вы на это скажете? Посмотрите сейчас — стал-таки Битов.)
Самым колоритным в зале и на Невском был Володя Большой — громадный, чуть оплывший, но резкий — сказывалась школа Алексеева.
Говорун и красавец. Близкие друзья называли его Ёлт (дурачок) за удивительную способность вытворять нечто несуразное по поводу первой встречной юбки, причем ни внешность особы, ни ее характер не имели никакого отношения к спектаклю. Это был театр одного актера для самого себя. При том, что никто никогда не видел ни одной женщины, способной устоять пред ним хотя бы полчаса. А если он поцеловал…
Однажды с одной из своих жен, не помню какой, я поднимался на второй этаж «Европы» в ресторан, там играли Колпашниковы, а я с одним из них учился в школе. Навстречу немного навеселе спускался Володя. Полведра — на взгляд определил я дозу (у Володи в руках пол-литра выглядела, как рюмка, а полведра были началом пути).
Увидев меня, Володя бросился ко мне и поцеловал в рот. Я пропал. Я падал в бездну. Голова закружилась. К счастью, поцелуй был недолгим — Володя голубым не был…
До сегодняшнего дня не могу представить, что случалось в таких ситуациях с хрупкими дамами. Очевидно, они проваливались в эти умопомрачительные глубины, не желая возвращаться.
А как он разговаривал на улице?! В одну из новогодних ночей мы шли по Крестовскому от площади Льва Толстого к Троицкому мосту.
По пути Володя забалтывал встречных девиц. Что он нес в минуты вдохновения, невозможно передать.
В итоге к перекрестку с улицей Мира за ним шли, открыв от изумления рот, четыре девицы, причем каждая была убеждена, что разговаривает он только с ней. Периодически Володя спрашивал: «Девушки, куда вы все за мной идете-то? Вам пора домой. Баиньки. Вас мамы ждут». Девушки шли как глухие.
Если бы Володя сегодня появился среди этих дегенератов с Тверской, этих спортсменов-кадровиков (как они там себя называют — «сити-бойзы»?), они бы до конца своей жизни занимались лишь онанизмом.
И сейчас (я готов на спор с этими «заклейщиками» поставить тысячу долларов против презерватива) в любой точке земного шара на предмет снять «телку» они, подойдя к ней, увидели бы только Володину задницу. И мою, хотя я себя Володей не считаю.
У него был такой номер: на мосту, скажем, на Аничковом или Литейном, он подходил к девушке знакомиться. Получив «вдруг» неуверенное «нет», он с отчаянием произносил: «Я брошусь с моста» — и забирался на перила. Когда побледневшая девушка шептала: «Вы не броситесь» — тут же сигал в воду. В одежде. Без дураков. Потому и Ёлт.
Как-то я ему сказал: «Большой, в Неву, пожалуйста, только не в Фонтанку, Мойку или каналы. Кроме говна там полно презервативов — а ты ведь ими не пользуешься?»
Кстати, один мой друг, припоминаю, катаясь на лодочке и мучимый жаждой, глотнул из Фонтанки воды. Из боткинских бараков я получил фото, где он, завернувшись в больничный халат, наподобие римского патриция, стоит перед высокой больничной оградой. Свою выстраданную мысль он оформил так:
«Решетки, стены, провода Разрушьте! Дайте мне свободу — И из Фонтанки больше воду Я пить не буду никогда!»Однажды Володя, познакомившись с девушкой, отправился с ней купаться на Неву напротив улицы Чернышевского. Там был песчаный пляж. Набережную строили, и у берега стояли баржи с песком, гравием, каменными плитами.
— Ты уже с утра со мной, — заявил Володя, — и не хочешь стать мне близкой. А сейчас ближе тебя ко мне никого нет, — он посмотрел по сторонам.
— Я не могу так сразу, — потупилась девушка.
— Тогда я утоплюсь, — заявил Володя, зашел в воду и нырнул.
Он проплыл под килем ближайшей баржи, вынырнул с другой стороны, незаметно вышел на берег и в плавках дошел два квартала до Захарьевской, к себе домой. Маме сообщил, если появится девушка, сказать ей, что его нет дома, что бы она ни заявила. Мама так и сделала.
Девушка, бросив Володины вещи с: «Как я теперь буду жить?!» — рухнула на диван. Мама, как могла, ее успокаивала, говоря, что Володя, может, еще найдется, что лучше девушка пусть зайдет завтра и тогда будет яснее.
Ошеломленная бесчувственностью родной мамы, девушка бросилась вон из квартиры и, пролетев два марша лестницы, с криком: «Это из-за меня он погиб!» — вылетела на улицу и начала носиться по памятным местам Петербурга, пока не загремела в Скворцова-Степанова, где и провела два месяца с реактивным психозом.
Когда ее выписали, она с недоумением твердила: «Ах, он действительно меня любил, Вовик!»
И еще долгое время никакие психотропные препараты не могли повлиять на это безмерное удивление силой Володиной любви. Когда мы советовали Володе ее навестить, он бесчувственно отвечал: «Ребята, это невозможно. Она уже привыкла, что меня нет». Такой гуманист.
Это был человек незлобивый, избегающий драк. И причину мы знали — он боялся, боялся покалечить. Это, конечно, не мы, готовые махаться по любому поводу, и не Эльдарик, человек задиристый и драчливый.
Роста Эльдар был среднего, но тонкий и сухой и выглядел желанным и сладким для драки. На самом деле он был не сахар, ой, не сахар. И бил, как утюгом.
В связи с комплексом по поводу внешней субтильности всегда искал клиента — человек больше восьмидесяти килограммов веса и особенно мастерский квадрат на пиджаке были верной приметой Эльдара надо уводить, иначе…
Помню, сидели мы в «Кронверке», не на палубе, а внизу, в трюме. У нас в гостях была средних лет пара из Польши. Эльдар танцевал с женой, как вдруг какой-то крупный человек, толстый, танцуя, задел Эльдара с дамой — Эльдар отлетел в сторону, как пушинка.
— Ты, че толкаешься? — спросил Эльдар.
— Давай, вали, — ответил тот, — я не заметил.
Не заметить Эльдара — это даже хуже, чем оскорбить.
— Ты, вааще, плохо видишь? — спросил Эльдар. — Зенки-то раскрой!
— Да пошел ты, — ответил тот.
Эльдар вмазал — эта колонна как стояла у столба, так там и опустилась. Изо рта и разбитого носа текла кровь. Наш польский гость, увидев, впал в коллапс и рухнул головой в холодное…
Наверху мы объяснялись с мэтром.
— Я знаю, — говорил мэтр. — Вы — гости директора. Но тем не менее…
В это время четверо мужчин вытащили из трюма и проносили мимо нас находящегося в бесчувствии польского гостя.
— Ну, и что Вы сделали с нашим «сосал-демократом»? — нагло спросил Эльдар.
Непримиримости ему было не занимать. Получив тринадцать лет строгого режима за то, за что сейчас могут представить к награде, Эльдар почти все деньги истратил, чтобы тринадцать лет «строгого» превратились в три года «химии». В первый же день в зоне, когда принесли баланду, Эльдар, известный своей прихотливостью в еде, сказал: «Это я есть не буду».
— Будешь, фраер, — шепнул верзила напротив, — накормим!
— Не буду, — сказал Эльдарик и надел ему миску с супом на голову…
Уже через месяц зоны Эльдара можно было видеть в кабаках с каким-то мужиком, иногда вместе с дамами.
— Это кто? — как-то спросили мы у Эльдара.
— Это — замначальника зоны. Он обещал отпустить меня на полгода раньше, — сообщил Эльдар.
— Эльдар, ты совсем мудак — он такой сладкой жизни не видел и не увидит. Не то что через полгода — он тебя вообще не отпустит…
Когда Эльдар вернулся из зоны и подъехал к райотделу за пропиской, ему навстречу спускался следователь, который его сажал: «А, Эльдарик! Уже вернулся? И на машине? Мы же ее конфисковали?!»
— Твое дело — ловить, — ответил Эльдар.
Как-то мы с Фельгиным на «крыше» жуем бастурму. За соседний столик присел здоровый чернявый парень, уже поддатый. Выпив еще граммов двести, он обратил внимание на нас, и мы ему явно не понравились. У него, видимо, были давние претензии к жидам, и он их высказал.
— Слушай, козел, — сказал я, — ты нам тоже не нравишься, но мы тихо сидим и тебя, пидор, не трогаем.
Парень взял со стола нож и направился к нам.
— Не здесь, — сказали мы, — ты же людей напугаешь. Пошли?
Мы спустились, перешли улицу Бродского к Филармонии. Людей не было, но было светло, как днем, — белые ночи. Парень шел за нами.
— Ты зачем ножик из ресторана спиздил? — спросил я его.
В это время, присев и распрямившись, Фельгин, вложившись, слева, врезал крюком в челюсть, как в мешок. На ринге этого было бы достаточно, чтоб даже счета не слушать, учитывая квалификацию Фельгина. Парень даже не шелохнулся, продолжая поносить жидов. Фельгин был ошарашен — и тут я, завернув, кулачок внутрь, жестко, с ноги, как учили, вставился ему в подбородок… Он только головой тряхнул и выронил нож, но отношение к евреям не изменил.
— Он совсем бухой, мы его не завалим, — сказал сообразительный Фельгин.
— Мы не завалим, а вот Лева Мельников только бы достал до бороды, и этот жидоненавистник, бухой или не бухой — не важно, на четвереньках, мотая головой, так и полз бы до ближайшего приемного покоя.
Вот и Большого только экскурсы в еврейскую тему вызывали на действия. Все остальные тексты он добродушно не замечал.
Вижу его на Невском с тремя мужиками — лезут на драку.
— Ребята, ну не бейте меня сегодня, у меня сегодня от этого выходной, я по морде не получаю, ладно? — просил он. — Может, выпьем по рюмашке — у меня есть и мирно разбежимся, а то уроните, разобьете в кровь, а у меня свидание! А то, давайте, приходите завтра — помахаемся, хорошо?
Помню еще: отмечаем в «Восточном» покупку Володей мокасин у фарцовщика. Замшевые, редкой красоты и качества, как сейчас бы сказали — эксклюзив.
Володя, как обычно, шатается по ресторану, пьет за всеми столиками — популярность, куда денешься. К нашему столу подходит поддатый гражданин, садится на Володино место, наливает водки — выпивает, закусывает, наливает снова. Мы не обращаем внимания — у Володи весь город знакомые.
Возвращается Володя: «Это кто?»
— Володя, мы решили, что это кто-то из твоих.
— Впервые вижу, — отвечает Володя и к гостю: — Ты кто?
Тот что-то буркнул в ответ с полным ртом, продолжая жевать.
— Ну, поел? Теперь иди, — говорит Володя, поднимает товарища со стула и сажает рядом с ножкой стола, чтобы не упал. Садится сам, наливает рюмку, берет что-то на вилку, подносит ко рту.
Парень падает носом вперед и злобно зубами вгрызается в Володины эксклюзивные мокасины.
Мы замерли. В уме пронеслось: «В лучшем случае — инвалидность…»
— Ты что, не наелся? — сочувственно спросил Володя, отпихнул его ногой и потерял к нему интерес…
Я уже довольно долго шел за проституточкой по темному городу… Вообще, на свой счет я здорово заблуждаюсь. Мне всегда казалось, что я избегал и даже побаивался драк, а выходит, махался почти все время. Да и не мудрено — вырос у Сенного рынка, все равно что на Лиговке. В пятом классе уже четверть учеников была в колонии, а вторая четверть не села лишь потому, что не поймали.
Леха сел в шестом классе. Надолго. Форточник. В зоне, в Дрогобыче, вместе с Магометом окончили школу с медалью и поступили в институты. Я трепался: «Ну, если бы не зона, в какой институт вы бы поступили? Ни за что бы вы не были интеллигентными людьми, ворье».
У Леши была удивительная морда — каждый посетитель мужского пола после нескольких рюмок уже до зуда хотел дать ему по ней. Леша обычно не возражал, но на последнем курсе случилась история.
В Старый новый год, выходя из «Астории», где мы обычно собирались, мы перешли улицу на стоянку такси напротив. В это время (время было позднее) какой-то здоровенный толстяк с двумя тетками подошел и встал впереди нас.
— Позвольте, здесь очередь, — интеллигентно заметил Леша.
— Я — инвалид, — нагло.
— Хорошо, — сказал Леша. — Я вам уступлю очередь. В сантранспорт. Сейчас новогодняя ночь, и на стоянке такси ваша инвалидность ни при чем.
— Уступишь, жидок, — был ответ.
Леша «звякнул», инвалид грохнулся навзничь, головой о лед, загремев на три месяца в больницу. Леша получил три года условно. С его прошлым ситуация была тяжелой — «выступать» в общественных местах он больше не мог, а желающих в подпитии дать Леше по морде не убавилось. Выход был найден довольно быстро.
— Ребята, — ласково улыбаясь, говорил он, — вы хотите меня отбуцкать, но я, к сожалению, не могу — я нахожусь в длительном отпуске от мордобития. Но если вы настаиваете и никак не можете подождать — вот, пожалуйста (широкий жест в мою сторону), он Вас удовлетворит, паскуды…
И мы отправлялись в вестибюль или в туалет.
Долгое терпение Леши и его неудовлетворенность таким положением вещей вылились в конце концов в шутку над однокурсниками при распределении.
Часть мужчин должны были пойти служить врачами на флот. Естественно, никто не хотел. И, естественно, после врачебной комиссии все шли на прием к военкому с отказом. У всех были «серьезные» причины не идти в армию. И тут в Леше проявилось то, из-за чего интуитивно все хотели дать ему по морде.
Леша зашел в приемную военкома, где перед дверью сидели будущие армейские врачи, и без вызова и очереди прошел в кабинет.
— Ну, что у Вас? — с ненавистью на него глядя, спросил военком. — Какая у Вас причина?
— Хочу служить в Вооруженных силах! — громким, хорошо поставленным голосом неожиданно для военкома заявил Леша. (Он мог себе это позволить — у него мама была инвалидом первой группы, и взять единственного ребенка в армию никак не могли.)
Военком радостно вздрогнул и засуетился: «Наконец родное». За последнее время даже в самых сладких снах ему такое присниться не могло. А наяву он этого не слышал никогда.
— Проходите, садитесь, — ласково заворковал военком, — а где бы Вы хотели служить?
— Хотелось бы на подводной лодке, — серьезно заявил Леша.
— Уж не душевно ли больной? — с тревогой взглянул военком на Лешу. — Да нет, не похоже. Скорее всего, просто идиот.
Военком расслабился.
— Вы знаете, на подлодку особая комиссия — нужно крепкое здоровье.
— Я здоров, — ответил Леша, — вот только мама…
— А что мама? — тревожно спросил военком.
— Да мама у меня инвалид первой группы…
Повисло молчание. Военком скис.
— Тогда Вам в армию нельзя.
— Товарищ военком! Возьмите меня во флот, я очень хочу служить на подводной лодке. Не буду Вам врать — не только потому, что мне нравится морская форма и я люблю флот. Вы же знаете, врач на «гражданке» мало зарабатывает, а на подводной лодке платят хорошо. Я найму маме человека, который будет за ней ухаживать, и сам буду посвободней. Пожалуйста!
— Алексей Маркович, дорогой, я ничего не могу сделать — закон, — ласково сказал военком.
— Скажите, пожалуйста, товарищ полковник, а если я напишу рапорт? Я же добровольно.
— Рапорт? — задумался военком. — Рапорт, пожалуй, имеет смысл. На имя командующего. Вот, возьмите заполните анкету, — он протянул Леше бланки и ручку, — в двух экземплярах.
Леша сел писать. Военком, по-доброму улыбаясь, сидел за столом. В кабинете ненадолго наступила тишина.
— Товарищ полковник, — раздался Лешин голос, — скажите, пожалуйста, если у меня сведения в одной графе не помещаются, можно я в соседнюю перенесу?
— Да, конечно, — задумчиво ответил военком, — а в какой графе у Вас не помещается?
— Вот тут графа судимости, а за ней сразу же графа награды. У меня в судимостях не помещается, можно я в награды залезу? — спросил Леша.
— А что, Вы были судимы?
— Товарищ военком, военное детство, Вы знаете. Что мне всю жизнь за это отвечать? — голос Леши задрожал. — Я уже отвечал. И не раз.
— Нет, офицер с судимостью, пожалуй, не получится.
— Но все же, товарищ полковник, вдруг получится? Я, пожалуй, напишу и пошлю… А, впрочем… Я буду надеяться, и зря. Как Вы думаете? Положа руку на сердце, товарищ полковник, не возьмут?
— Скорее всего, не возьмут, — сокрушенно ответил полковник.
— Ну, что же, я тогда и писать не буду, — чуть не плача заявил Леша.
Военком проводил его до дверей, пожал руку. Леша вышел. Вошел следующий.
За дверью некоторое время было тихо, потом раздался дикий рев командного голоса военкома. Что это было, передать невозможно — «ревущие сороковые».
Полковник ревел еще целую неделю. И все, кто приходили к военкому на прием после Леши, отправились служить врачами в армию и на флот.
Об институте он вспоминал редко.
«Медички — не девички». Они имели меня в аудиториях, коридорах, в подвале и комнатах общежития. Отказать не мог. Перманентная эрекция не позволяла. Двух девиц со своего курса я встретил на Невском, напротив «Елисеева».
— Вы что здесь делаете? — с удивлением спросил я.
— Работаем. Хочешь, сделаем тебе такой минет — закачаешься.
— Уже качнули. Может, вам еще и заплатить?
Подошел Леня Шрам: «Снимаешь телок? Они — профессионалки (слово „путаны“ было в Петербурге не популярно)».
Леня Шрам, по-видимому, «блатной», игрок в «шмен», относился ко мне по-приятельски — неизвестно, почему. Он был с Невского, но с другого Невского — криминального. Как и Филон. У него был грубый шрам через всю правую половину лица от лба до подбородка — след ножа.
— Давай, я тебе заряжу в «шмен» в обе ручки на три цифры на червончик, на фарт?
— Леня, я тебе лучше просто отдам червончик, чтобы не мучиться.
— Нет, я хочу поиграть.
— Ну, что ж, заряжай.
Выиграв червонец на «фарт» и повеселев, Леня предложил: «Давай забежим тут в одно местечко, недалеко, а потом вернемся».
— Пошли, — Леня привел меня в какой-то полуподвал на Петра Лаврова возле Литейного. — Это — «малина», — сказал Леня. — Ты молчи, я буду разговаривать.
В небольшой комнате с завешенным двумя ситцевыми занавесочками окошечком стояла кровать с множеством металлических блестящих шариков на спинках, застеленная, с горкой больших подушек и маленьких, вышитых крестиком, разбросанных по покрывалу. На кровати сидели две хмельные блондинки с толстыми ляжками. Семиструнная гитара на стене с обязательным бантиком. Стол, уставленный бутылками с «Московской», хлеб, вареная колбаса. Находилось несколько плотных парней с челками в «лондонках», фиксатых.
«Ну, прямо, кино — „Путевка в жизнь“. Ловить нечего, надо линять», — подумал я. Леня пошептался с парнями, и мы ушли.
— Ну, как? — спросил Леня.
— Экскурсия впечатляет, — ответил я.
— Подельники, — уточнил Леня, ухмыляясь.
Леня иногда отмазывал меня в разборках, один раз даже круто.
Сижу вдвоем с девушкой в «Восточном». Крупная, парикмахерша, звали, кажется, Галя. Я обратил внимание, что Галь в моей жизни встречалось довольно много — пара сотен точно. Интересно, это так в популяции или игра судьбы? Что касается Наташ, Светлан, Зоек, Марий, Тань, Лен, Свет и т. д., которые со мной баловались, то их значительно меньше — по нескольку десятков, не более.
Цили, Рахили, Сары, Ребекки вообще отсутствовали — результат моего полового антисемитизма. Раисы встречались — двунациональное имя, а в половом смысле — ничего особенного.
Чуть не забыл: кореянки и полукореянки, китаянки и полукитаянки, казашки и полуказашки, туркменки и полутуркменки имели место. Следствие ежегодных катаний на лыжах на Чимбулаке над Алма-Ата. Мнение, что они какие-то другие, — расистский миф.
Еще существовали Гели — это, по-моему, татарки — они бреются.
И, конечно, Гелла, думаю, что полное имя Гелена, полячка — мое первое увлечение.
Из-за нее я люблю Вильнюс, и всегда для меня женщина — это женщина. Не дырка.
История произошла после восьмого класса. Я был крупный мальчик, выглядел старше своих лет, начитан, в те времена всегда серьезен и очень убедительно «косил» под студента.
Двигаюсь я через «Катькин» садик к Александринке взять в костюмерных мастерских костюмы для школьного театра напрокат. Вдруг слышу: «Давид!» Оглядываюсь — высокая, хорошенькая, тоненькая, года двадцати одного, одета, с большими темными глазами, не уличная. Подхожу…
— Ты давно из Варшавы? — спрашивает. (Сразу подумал — штучки Володи Большого. Ну, погоди, Ёлт.)
— Никогда в Варшаве не был, — отвечаю.
— Ой! Ради Бога, извините, — с легким акцентом: Я вас спутала с моим другом в Варшаве.
— А что, похож?
— Очень.
— Вы живете в Варшаве?
— Сейчас уже нет. Сейчас живу в Вильнюсе.
— А у нас что делаете?
— Приехала на неделю посмотреть город.
— Можно мне Вам его показать?
— Это было бы замечательно, но я завтра вечером уезжаю.
— У нас почти двое суток. Вы ведь не откажете старому варшавскому другу. Я только забегу в театр в костюмерную на десять минут.
— Вы работаете в театре? (Соблазн был велик…)
— Нет, я не работаю в театре. Это ничего? Подождете? (Даже соврать не мог — дела серьезные.)
— Подожду.
Пока бегал, сверлила мысль: «Уйдет». Вернулся — на месте.
— Пойдемте. Вы голодны? Пойдемте в «Север» — перекусим.
Два дня, как мгновение. В розовом тумане. Провожал ее до вокзала:
— Мне очень жаль, что Вы уезжаете.
— Мне тоже.
— Я очень хочу с Вами увидеться снова. Давайте встретимся через неделю в Вильнюсе, скажем, в пять вечера на каком-нибудь видном и известном месте, где не ошибешься, — я буду в Вильнюсе впервые.
— У башни Гидемина. Не ошибетесь.
И она уехала — ни адреса, ни работы, ничего, кроме имени. Пике.
(Ну, Большой, если это твои задвижки — вернусь и сделаю обрезание, второй раз.)
И побежал доставать деньги.
В пять вечера она была у башни, и опять неделя пролетела как миг. Первые два дня я ночевал на улице — в гостиницу в моем возрасте в Совдепии попасть было невозможно. Нашел родственников. Гостиницу снял только раз на ночь за большие деньги, не оформляясь. Какой-то утлый клоповник. Но нам было все равно. Днем в городе мы встречаться не могли — муж ее, как выяснилось, был известный адвокат. Их многие знали, и она боялась. Мы каждый день уезжали за город в район озер под Вильнюсом.
Дни были солнечными и жаркими. Раскаленные сосны, теплый белый песок, запах горячей хвои, ее тело и мои пятнадцать лет.
Через десять дней я уехал. Договорились встретиться десятого декабря на мосту в восемь вечера — она жила на той стороне реки.
В восемь я был на мосту. Холодно. Она не пришла. Я простоял двое суток, деться ей было некуда — мост был один. На третьи сутки к вечеру я ее увидел…
— Ты давно здесь стоишь?
— Третьи сутки…
— Ой, прости, я совсем забыла.
— Хорошо. Встретимся завтра в это же время. Обязательно. Приходи, а я совсем забуду, но ты жди!
И ушел. И уехал…
Так вот, сижу я с Галей в «Восточном». В то время вышел из отсидки один известный фарцовщик. Его жена, говорят, пока он сидел, закрутила роман с каким-то деятелем, как две капли воды похожим на меня. Судьба такая, что ли? Вечно на кого-нибудь похож. Как правило, с неприятностями. Но тогда я ничего этого не знал.
Ну, сижу я с этой Галей, или как ее там, и уже трахаться хочется неимоверно, как вдруг подходят к ней два чувака, причем морда одного из них явно знакома, а второй только что из зоны — еще волосы не отросли. Разговаривают с ней грубо, но чувствую: претензии ко мне.
— Молодые люди, отойдите от девушки, а то ей душно, — обратился я довольно мирно, даже вежливо.
А мне: «Ты лучше закройся. Пока. Мы тебя на улице подождем».
И, действительно, выходим на улицу — ждут.
Я говорю Гале, или как ее: «Выходи на Невский и двигай тихонечко — я тебя догоню. Если не догоню — тебе два шага до твоего дома на Рубинштейна».
А мы втроем двигаемся к памятнику Пушкину работы скульптора Аникушина. И, чувствую, претензии ко мне серьезные — «распишут», деться некуда.
Проходим мимо входа в гостиницу «Европейская» — и тут из вертушки в дверях прямо на меня выкатывается Леня Шрам. Ситуацию он оценил мгновенно и, не глядя на двоих, спрашивает у меня: «Ну, че здесь?»
— Да вот, Леня, у нас новости, — пожаловался я, — не успеешь в ресторан с телкой прийти, как начинаются прихваты. Скоро на «Центр» нельзя будет выйти!
— Ну, ладно, ты иди, — говорит Леня, — я тебя отмажу.
В это время фиксатый опускает руку в карман.
— Во, — обращается к нему Леня, — руку в карман засунул. Зачем? Ты же меня знаешь — если я засуну, то достану, а если достану — то всажу. На раз!
— Леня, у нас к нему разговор.
— Разговор будет ко мне, я за него отвечаю! А ты, Давид, иди.
— Это не Давид, — сказал второй, — это Ося.
— Я не Ося… Я останусь, Леня?
— Как не Ося?! — второй был ошеломлен.
— Так, не Ося, возьми ксиву и посмотри. — Я достал и открыл паспорт.
— Вали, — повторил Леня, — догоняй свою телку, я разберусь. Ты мне не нужен.
Я ушел. Не слабо, чтобы тебе башку оторвали только потому, что с кем-то спутали.
Мы с Лешей идем по Невскому из «Крыши». Часов в одиннадцать вечера. Я снял девушку из Дома мод. Как раз она рассматривала журнал, на котором и красовалась. Длинная чувиха. В прикиде. Идем тихонечко, вдруг сзади какой-то разговор. Касается моей длинноногой подруги. Оборачиваемся: кап. три, два кап. лея и младший лейтенант. Поддатые круто. Хотят ссоры.
Леша оборачивается и вежливо говорит морячкам: «Товарищи офицеры, отодвиньтесь подальше, дышите нам в шею, а мы потеем».
Офицеры не отстают, говорят обидные вещи про девушку, она ведь не как у них обычно — не с Московского вокзала и не шлюха из «Метрополя». Поворачиваюсь и я, сообщаю, соблюдая субординацию: «Товарищ капитан третьего ранга, смотрите какой чудный вечер, давайте будем отдыхать красиво. Заткните ваших адмиралов, а не то мы им пасти порвем».
От компании у «Севера», играющей в «шмен», отделяется Леня Шрам: «Опять ты? Помочь надо?» — «Не нужно, Леня — беседуем».
Перешли Садовую. Морячки не угомонились. У Фонтанки Леша не выдержал: «Товарищи офицеры, я вижу вам мой дружок не нравится. Давайте с ним в подворотню — только по одному и по очереди». И я с одним лейтенантом вхожу в подворотню, где он начинает читать мне инструкцию, как нужно вести себя с офицерами. Видно, не может начать.
— Ты зачем сюда зашел? — зло спросил я. — Дать мне по лицу? Так и давай! — и бью его в лоб.
В подворотню вбегают два капитана, а за ними Леша с криком: «Мы с вами так не договаривались!» К моему удивлению, после недолгой потасовки эту компанию мы уложили. Потом мирно вышли, сказали майору, чтобы он их подобрал, и не спеша отправились с девушкой дальше. У кино «Хроника» оглядываемся: военные топают за нами — морды побитые.
«Теперь младшие не вынесут позора перед своим майором — мы-таки нарушили субординацию. Будут стоять насмерть. Пока не утонут — как крейсер ''Варяг''». Вероятно, нам придется открыть им кингстоны, чего бы не хотелось. Сворачиваем на Маяковскую, пока не замели. «Если повернут за нами, отметелим по-серьезному у фонтанчика напротив НИИ нейрохирургии. И медицинская помощь рядом. А то они от нас не отстанут», — развил Леша нашу стратегию…
Но они за нами не пошли.
Здесь же у Маяковской я впервые видел, как «заряжает» Володя.
Поздно ночью он неторопливо волочил свои сто двадцать кг по проезжей части Невского в сторону площади Восстания, не желая идти по тротуару, хотя тротуар на Невском широкий. Напротив «Колизея» некто налетел на Вову и, ударившись о него, как о столб, обозлился.
— Слушай, — спросил Вова, — тебе что, улицы мало?
Мужик выругался.
— Не мешай мне, видишь, я себя выгуливаю, — буркнул Вова.
— А я хуй положил, — невежливо ответил парень, — сейчас я тебя отметелю, толстого.
Володя не обиделся: «Я прошу, не сейчас. Ладно? Я гуляю. Ты тоже можешь топать, но не близко, а то от тебя пахнет». Парень предложил зайти в парадную.
«Ну, что ты, — любезно обратился к нему Володя, — если не допил немного, на тебе три шестьдесят две — купи бутылку на Московском. Не пугай меня, а то и так поздно, темно и страшно».
И тут парень допустил ошибку — он в неприемлемой форме поставил Володю в известность о его национальности. Информация была излишней, Володя и так знал — кто он. Он парня даже не ударил, он его легонько толкнул, одной рукой. Парень перелетел через тротуар и врезался рылом в изящную, в виде круга с решеткой часть металлических ворот дома. Когда он повернулся, морды не было совсем — на ее месте была багровая вдавленная решетка. Мы порядком струхнули.
Но не всегда подобные встречи кончались благополучно. Как-то раз я сидел в ресторане «Октябрьский», а рядом, за другим столом, сидела симпатичная женщина с плотным, слегка оплывшим крупным мужчиной с черными кучерявыми волосами и мощной челюстью. Я пригласил ее на танец раз, затем второй, а когда подвигал ей стул, «здоровый» заявил, что больше дама танцевать со мной не хочет, он в этом убежден.
— Может, спросим у дамы? — поинтересовался я.
— Лучше выйдем, — заявил мужик.
— Ну, что ж, пошли. (Потом я долго себе говорил: «Ну, нельзя же так. Думать надо».) Хотя, в общем, выхода не было — отказать в удовольствии кавалеру я уже не мог.
Это был чемпион или призер первенства Европы по вольной борьбе в тяжелом весе. Я этого не знал, а если бы и знал — куда деться? Понты.
Мы вышли в вестибюль. Напротив были окна на Лиговку — первый этаж. Он начал сразу, не разговаривая. Я почувствовал, как какой-то ураган подхватил меня и швырнул беспомощным котенком через вестибюль в окно. «„Давид и Голиаф“ — как было на самом деле», — подумал я, перед тем как грохнулся на тротуар Лиговки. Два ребра и бугор плечевой кости были сломаны.
«Хорошо еще, что первый этаж, — ухмыльнулся я, превозмогая боль. — Уйду, не расплачиваясь».
Девушки по-прежнему мелькали, как в калейдоскопе. Встречая на улице какую-то неясно знакомую, на всякий случай здоровался. Слушался совета приятеля: «Ты можешь не выяснять, если поздоровается — значит, трахались».
В то время я начал седеть, но довольно странно, голова еще была черная, а грудь и лобок совершенно седыми. По пути в Киев в командировку я познакомился с молодой девушкой-стюардессой, такой ласковой, миленькой блондиночкой-хохлушкой. Я привел ее в свою гостиницу, и, когда разделся, девушка радостно рассмеялась: «Я никогда не видела такого седого писа», — весело сказала она, а потом целыми днями восхищалась и ласкала его, бесконечно удивляясь. Такое искреннее умиление.
Я тогда понял — дело не в нас в целом. Мы не причина, мы чаще всего повод для выражения их восторженного состояния.
Еще через несколько лет он заскучал, вернее, появилось безразличие. Когда кто-нибудь из друзей звал в гости: «Приезжай, у меня две классные мочалки из Москвы», — он обычно отвечал: «Ну, что я из центра попрусь в Удельную, приезжай лучше ты ко мне». Ажиотажа уже не было. Эти годы казались ему чередой бесконечных легких встреч, ненадолго удовлетворяющих тщеславие, если женщина была эффектна и привлекала всеобщее внимание, если нет — второй раз с ней он уже не встречался.
Как-то Сема Качко неожиданно обобщил настроение. Мы стояли у Гостиного Двора на углу Садовой и Невского. На противоположном по диагонали углу, над кукольным театром Евгения Деммени, была реклама — бегущая строка. По строке бежало: «Новый японский фильм „Горький рис“». (Дело в том, что на жаргонном идиш «делать рис» означало не обрезание, а трахаться.)
— Я пойду, — сказал Сема, — это кино про нас.
Сема Качко был человек занятный. Вдруг он решил жениться. Ну, понятно, на богатой невесте. Папа ее был очень обеспечен, и, если дочка выходила замуж, зять мог ни о чем не беспокоиться. Главное, чтобы он был человек серьезный и у него было занятие.
Пусть даже ученый — хер с ним, «обеспечим» — еврейские папы очень любят своих еврейских дочек.
Сема Качко не вписывался в пейзаж. И он это понимал.
В половине седьмого в «Восточном» появляется Сема в темном костюме и белой рубашке с галстуком: «Ребята, я иду в Филармонию…» Подумав, мы решили, что это жаргон.
«Кого дают?» — ошарашил Сему неожиданным вопросом находчивый Вова.
Находчивый Сема к ответу готов не был. Он задумался… Ответ тоже был ассиметричный.
— Я купил билеты во второй ряд, в центре, с рук. Бабок отдал немеряно… Какой-то крутой из Штатов — Ван Клиберн. Иду с невестой.
Повисло молчание. Представить себе Сему Качко в Филармонии никто не мог.
Подвел итог Володя:
— Раз. Встречаешься с девушкой, нам ее не показываешь. Два. Купил билеты в Филармонию. Три. Сколько можно было на эти деньги сидеть здесь?
— Сема? Давай мы тебе с девушкой здесь споем и даже станцуем!
— И стоить это тебе будет дешевле. Ты хоть знаешь, что тебя ждет?
Сема не знал. Без двадцати семь он ушел.
Мы сидели и грустно смотрели друг на друга. Сему было жалко — он не ведал.
Без двадцати восемь в зал влетает Сема:
— Наливай, у меня есть час!
— «Семь сорок», — заказал Вова оркестру.
Сема начал рассказ:
— Когда я с девушкой вошел в зал сразу понял: «Попал!»
Все люди одеты торжественно, но не круто, выпивших с виду нет, что тревожно.
Народу — толпа! Чего-то ждут, но на фуршет не похоже. Наверху даже стоят немолодые женщины. И тихо.
Вышел длинный кучерявый блондин, поклонился и сел…
С первых тактов музыки Сема ощутил беспокойство — никто не наливал, все сидели тихо, как замерли. Выпить хотелось страшно, чесался нос. Спина занемела, но пошевелиться он не мог — видимо, это не позволялось. Смекнул и делал вид, что завороженно смотрит на музыканта, но прикрыть глаза для лучшего слушания, как многие, не решался — боялся уснуть.
В перерыве он разыскал на хорах старушку, подвел ее к своему месту, усадил и, наклонившись к своей девушке, шепнул: «Фаня, я не могу сидеть, когда пожилая женщина стоит. Пусть бабуля посидит второе отделение, а я сзади постою, хорошо?» — и через две минуты с криком «Наливай!» он уже приземлялся за наш стол.
Я думаю, что никогда в жизни Фаня больше не встречала столь куртуазного молодого человека. Да и в Филармонии Фаня тоже тогда была впервые — в папиной лавке подобные молодые люди не попадались…
Мы с девушкой двигались в сторону обещанного за деньги отдыха. Город был темный, прохладный и пустой.
«Ладно, Юля, — думал я, — вот я сейчас посплю с ней, а потом мы вместе пойдем искать тебе подарок. За „шарлотку“. Извини, в магазине в момент приобретения подарка я ее трахнуть, к сожалению, не могу». (Привидилась обвисшая, круглозадая Юлька со своей улыбкой дегенератки.)
Мы с девушкой вошли в однокомнатную квартиру, чистую и вполне приличную. Выпили. Вымылся я, потом она. Вышла в хорошем белье, чистенькая и ароматная. «Следит за собой, — оценил я, — как профессия шагнула вперед, видимо, финансируется не так, как наша обшарпанная медицина». Я взглянул на ее тело повнимательней: «Эта модель для любви в коррекции не нуждается…»
В койке она совсем забылась и, потеряв профессионализм, впала в оргазм. Потом еще долго лежала, закрыв глаза и улыбаясь.
(Это еще что? Мин Херц? Мы сейчас, «Соня», как раз на работе.
Ну, прямо, Комиссаржевская.)
И вдруг слышу:
— Давай еще раз без резинки. Не бойся, я здорова.
Я подозрительно посмотрел на нее.
— Не беспокойся, денег не надо! Могу ведь в кайф изредка.
Мылся под душем. «Любимая» (что ни говори, а отношения стали любовными) стучала кофейником на кухне.
— Тебя еще кофием напоят, видимо, работник ишо, — посмотрел я в зеркало и приосанился.
Девочка-то какая умелая и без аульских грубостей. (Не как тебя учил какой-то примитивный мудак, Юля.)
Последнее время я совсем охерел — стригусь каждые две недели, за одеждой слежу, стало важно, как выгляжу. (На себя бы посмотрела, дура.)
А вот эта девочка, как яблочко. И прихорашиваться мне не надо. Имидж менять.
Я оделся, положил деньги.
— Можешь заходить, если понравилось. Когда захочешь. Ты еще долго здесь будешь?
— Не знаю, — соврал я, — буду, зайду. Ты классная.
На улице я посмотрел на часы — половина двенадцатого. Пора было двигать назад — заметать следы перед друзьями и знакомыми. Представитель культурного города все-таки. Не Содом и Гоморра.
Уже передо мной маячила плоскогрудая девственница-мораль с лошадиной мордой, плотно сжатыми тонкими губами, сквозь которые она цедила ветхозаветные прописные истины. Я шел по холодной улице и представлял себе, как моралистки в однополом экстазе феминизма исподтишка облизывают мораль и ее сестру-близнеца — нравственность, родившихся, следует полагать, в непорочном зачатии от фригидной матроны-этики. Интересно, а вообще, эти две так похожие бабенки трахались с кем-нибудь или нет? По-моему, трахать здесь можно только в переносном смысле. И вообще, могут ли в непорочном зачатии от девственницы-этики родиться близнецы? И можно ли считать искусственное оплодотворение непорочным зачатием? И кто был этот неизвестный гениальный хирург древности, сумевший имплантировать сперматозоиды в девственную, бесплодную слизистую матки чопорной и спесивой этики.
(Во всяком случае, результат оказался спорным и с большими последствиями. Так что приличия соблюдать все-таки придется.)
А вышеуказанная семейка теперь решила прикрыть глаза на этические проблемы гомосексуализма. Не без влияния «Софьи Власьевны», которая тут же вылизала этих трех девственниц, чтобы показать свою свободотерпимость, когда дело касается свободы и равенства однополой любви.
Равенство в чем? Их кто-то сегодня ограничивает законами?
Ну, не понятны людям с нормальной ориентацией их половые интересы! И тем более, как у них могут родиться дети.
Я, например, никак в толк не возьму.
И стремление гомосексуалистов к службе в армии вызывает у меня подозрение относительно наших детей. Я очень сомневаюсь тогда в свободе их сексуального выбора. Особенно, судя потому, что у нас происходит в шоу-бизнесе, индустрии моды, поп музыке — везде, где пахнет большими деньгами, порочностью и дурным вкусом.
Да, мои дорогие геи и лесбиянки, если то, чем вы занимаетесь, не называют сегодня половыми извращениями, то это не значит, что все это не порочно. Хотя бы потому, что не ведет к продлению человеческого рода и, следовательно, бесплодно.
И не изображайте из себя патриотов — лично я убежден, что ни одна лесбиянка не бросится «передком» на амбразуру во имя отечества и редкий педераст вынет член из задницы и побежит бороться за свободу и независимость, если это независимость Родины, а не свобода сексуальных меньшинств.
И все эти «калифы на час» в сфере личного добывания денег на дешевых шоу, сиюминутных модах — на всем, что вскоре, как мыльный пузырь, лопнет и даже памяти не оставит, но сегодня дает бешеные деньги, все они отнюдь не демократы. Попробуйте попасть туда с нормальной половой ориентацией, узнаете.
Только через жопу.
Люди эти в большинстве не добряки, не «хорошие друзья», а моментально откусят у вас все, что, с их точки зрения, у вас неправильно.
Все это безголосое пение; лишенное пластики и понятия притоптывание, весь этот надутый блеск, спортивно-имперская эстетика, призрак легкого богатства, эти Киркоровы, «На-на», этот накачанный зайчик из «Большой стирки» — не думайте, что они наивны.
Они — с властью, и очень хорошо знают, что ей нужно.
Как, впрочем, и народный акын Розенбаум. Есть у него, с моей точки зрения, лишь одно хорошее качество — не голубой.
Мне никогда не хотелось быть геем. И представить себя бабой, коровой, даже щукой я не могу.
(А если «активным», то с моими способностями по передней части женщин я, скорее всего, всю жизнь не буду вылезать из задницы. Уже в буквальном смысле. Ибо в переносном — мы все практически не вылезаем из нее от рождения до смерти. И мне эта гармония малопривлекательна.)
О другом аспекте гомосексуализма сказал один выдающийся артист: «Я не могу — я очень смешлив».
Действительно, представить себе это забавно: мошонка «дамы», должно быть, находится в смятении, недоумевая, что, собственно говоря, с ней происходит, одуревая от попытки разгадать, какова теперь ее функция, не мешает ли она радости соития.
Честно говоря, я и сам не понимаю, а спросить не решаюсь.
Для однополой любви нужно много фантазии.
Как, кстати, называть пассивного, «душечка» или «дружок», как вы думаете?
Такие тонкости — «Гей», славяне.
Наверное, нужно долго учиться.
А с противоположной стороны в смысле пола — эти лизухи мне тоже непонятны в их святой, пиздострадательной борьбе. Кто с вами борется? Кому вы нужны?! Лижитесь себе до мозолей на языке. Хотя, когда я представляю себе их всех вместе голыми, зрелище эпическое — «Всеобщий пиздец».
С точки зрения новой «милухи», вероятно, лучше все-таки любоваться на экранах всей этой дешевой ерундой, возмущаться и устраивать теледиспуты «Про это…», чем вдруг задуматься: «А какова на самом деле эта сука-власть, которой, по сути, любая свобода поперек горла, кроме сексуальной?»
И я снова увидел, как эта пожилая проститутка, измученная климактерическим неврозом, мерзкая и жестокая, выбирает себе любовников — министров, депутатов, губернаторов.
Вспомнил их рожи, пьянствующие с комсомольских времен, не любимые женщинами и потому стремящиеся к власти, чтобы взять женщину страхом. Убогие, косноязычные, готовые бесконечно лизать пахнущие тленом гениталии власти за возможность иметь что угодно, чего у других нет. И осуществлять безнаказанно свои идиотские, садистские желания.
И в первую очередь, они содомируют то, в верности чему бесконечно клянутся, — Родину.
Изнасилованные своей обожаемой хозяйкой, они в свою очередь насилуют страну и народ, требуя проявления показной любви к ним в песнопениях и речах.
Так как же жители этой страны будут искренни, как они дадут здоровое потомство?
И вот уже зовут из соседних стран, стран Востока и Прикавказья, здоровых мужчин в надежде, что, мерзко подкладывая под них своих женщин, они исправят демографию.
Впрочем, в это они тоже не верят, иначе зачем их дети учатся и остаются жить за границей?
Кто над этим задумывался?
А ведь, действительно, вся эта педерастическая деятельность в области так называемого творчества нас отвлекает. Инфантильные поп-группы и ансамбли, империя мод, визажисты, затраханные топ и фотомодели — синтетические, потерявшие по мере проникновения в этот гребанный мир звезд все женское, если оно когда-нибудь у них было.
Только гордые бизнесмены, измочаленные финансовыми перегрузками, могут все это фригидное ебать. Потому что им все равно что, лишь бы другим показать.
Это вечером. А утром?
Когда они увидят их без грима, их паралич не разобьет — они живучие.
Когда я добрался до мастерской, стол был пуст, Завен находился в атараксии, близкой к нирване.
— Ну, как Вам понравился город? — спросил радушный хозяин.
— Город живописный и сексуальный, — вежливо ответил я, вспомнив фигуру воина-защитника, фаллическим символом стоящего на пригорке.
Все уже собрались домой. Благостно улыбающийся Заславский посматривал на меня, возможно, что-то подозревая. (Или он уж очень проницательный, или мы в какой-то другой жизни были очень похожи.)
Нина и Завен собирались в гости к его однокашнику. Он не видел его несколько десятков лет.
— Опять застолье, — подумал я. (Ну, Завен-то справится, а за Нину я беспокоюсь — выпить еще туда-сюда, а съесть столько она не сможет.)
Мы с Заславским вернулись к себе. Он лег спать, а я сидел на кухне с чашкой кофе. Не спалось (опять хотелось трахнуть эту девочку).
Часа через три появились Завен и Нина в подпитии с двумя пакетами, набитыми колбасой, сыром, ветчиной, хлебом, консервами.
Зачем-то принесли семь полурастаявших стаканчиков мороженого.
— Это зачем? — спросил я, кивнув на стаканчики.
Нинка находилась в том градусе, в котором обычно у нее начинается самобичевание, — она чувствует свою ничтожность рядом с гениальностью окружающих ее людей. Губки припухли и сложились в горестную складку: «Завенчик захотел», — всхлипнула она, и из ближайшего ко мне глаза полилось.
В Завене заговорили царственные предки. Он взглянул гордо и нелюбезно, как петух, который готовится вскочить на курицу: «Нина, я принес мороженое ре-бя-там! Они его любят».
«Ребята» мороженого не могли…
Только мы успели заснуть, раздался звонок в дверь.
Было противно, но пришлось открывать.
Ворвалась группа выспавшихся жизнерадостных аборигенов с целью вывезти нас на природу — увидеть незабываемые красоты тундры на последнем осеннем издыхании.
Заславский тут же с готовностью показал ответную жизнерадостность. (Ему-то что — он выспался. Кроме того, он всегда радуется не к месту.)
Мы выдали коллективу по кислой, маложизнерадостной улыбке, и началась тошнотворная суета. Излишняя и мало понятная нам бодрость гостей вызывала немотивированную злобу. Мы попросили их спуститься вниз, чтобы самим быстренько одеться и выйти, и, как только захлопнулась за ними дверь, завалились в постели.
Все, кроме Заславского.
Одержимый дурацкой бодростью, Заславский тормошил нас. Ему в голову пришла идиотская мысль, что заставлять ждать людей на улице — неприлично.
Чтобы как-то прийти в себя, я налил по пятьдесят граммов мне и Нинке и принес ей в кровать.
— А бутербродик? — жалобно попросила Нина.
— Ты совсем стала похожа на Завена, — буркнул я, но бутерброд все-таки принес. Полегчало мало.
Хмуро рассевшись по автомобилям, все отправились на поиски «самого» из ближайших мест. День был солнечный, но прохладный. Знобило. (Скорее всего, с перепоя.)
Место было найдено, как раз когда у меня проснулся интерес к окружающему.
Вокруг красиво было до неприличия: деревья на сопках с красными, желтыми, багровыми, вишневыми листами; между ними черными и темно-зелеными вертикалями — ели. Серые валуны. Разновысокие, какой-то немыслимой яркости и цвета растения и цветы. Зеленая трава, чистые ручейки и речка, впадающая в аквамариновое озеро, — все это маниакальное изобилие красок совершенно непредставимо в этих заполярных местах. Как отчаянный короткий вопль пред небытием полярной ночи. Как сон о фантастической красоты женщине, которая приходит к тебе перед пробуждением и тут же исчезает.
Остается поллюция, которую с полярной ночью, конечно же, не сравнишь.
Хозяева уже сооружали пикник на покрытом скатертью большом валуне. Горел костерок, а на нем жарились сосиски на шампуре. В той самой холодной речке остывали бутылки…
И тут произошло непоправимое — Завен нашел белый гриб!
(Не помню, чтобы в Урарту росли грибы. По крайней мере, сведений об этом в доступной мне литературе я не нашел. Откуда у потомка древних армянских царей такая страсть к собиранию грибов?!)
Да, душа Завена временно отлетела в подосиново-подберезовиковые, бело-рыжиковые края. Что по сравнению с этим железнодорожный нистагм?!
Завен взял целлофановый пакет и растворился в лесах.
Вечерело… Заславский уже набрал полную корзину грибов и с периодическими криками: «Это надо писать! Это надо писать!» — сидел на валуне, глядя на погруженное в лес озеро.
«Да, лес — это не хуй собачий», — подвел Заславский итог своим наблюдениям. Более проникновенного, полного восторга и упоения описания русской природы я не припомню.
Мое внимание привлекли несколько хорошеньких женщин, участвующих в пикнике, но частью с мужьями — частью мужья находились в непосредственной близости.
«Даже не думай, — сказал я себе, — ты в гостях!»
Сосиски остыли, хотелось есть, но начинать без Завена было невозможно. Все-таки главный представитель делегации и суеты.
Наконец из леса выявилась счастливая армянская физиономия Завена. Он бережно держал помятый подберезовик. Он его обожал.
Взглянув на корзину Заславского, Завен осунулся и помрачнел.
И тут Заславский совершил очередную глупость — наклонился и прямо у ног Завена нашел и вытащил из мха еще один белый гриб с толстой ножкой, маленькой темно-коричневой твердой шляпкой, не гриб — красавец.
Завен издал нечленораздельное. В его глазах появилось тоскливое безумие и высветилась клинопись, столь похожая по написанию на адрес из трех букв по-русски. (Я на его месте дал бы Заславскому по морде.)
— Вот почему тебя не любит Зяма и почему, глядя на тебя, руки бывшего пулеметчика тянутся к пулемету, — сказал я Заславскому.
Вечером мы уехали домой.
Вагон покачивало. Завен опять непрерывно смотрел в окно, по-прежнему вперед. Я не выдержал:
— На что ты там смотришь, Завен?
— Господи, — воскликнула Нина, — да на паровозик.
(«Ведь надо же, — подумал я с завистью, — я даже на женщину так долго не смотрю».)
И вспомнил его трамвайчики и трамвайные парки, буксиры, салюты на набережных.
И арочные коридоры академии, где в сумерках неутомимый Коля Кошельков, собрав вокруг себя группу слушателей, вещал новое: «А, ты, а, послушай…»
Лекции Смолянинова, столы, скамейки, стены и коридоры, изрезанные и разрисованные профилем Махи — Валеры Ватенина, — треугольник носа и точка глаза.
Кстати, Маха не имеет совершенно никакого отношения к Гойе.
Дело было так. В деревне жил поросенок по кличке Маха. Некто сообразительный сфотографировал Валеру и поросенка нос к носу — сходство имелось. Друзья стали называть Валеру Махой. Это было беззлобно — его все любили. Иногда он обижался. Потом привык. Художник он был превосходный, и вся академия его знала. Часто можно было услышать такой диалог:
— Пойдем зайдем к Валере, посмотрим.
— К какому Валере?
— Да к Махе.
Продолжалось упорное изображение профиля Валеры в туалетах, на полу, на подоконниках — во всех местах и на всех поверхностях. Неофиты приобщались к этому наскальному творчеству моментально.
— Почему его везде изображают? — спросил я как-то у Ванечки Васильева.
— Да просто, — ответил он.
Вспоминаю библиотеку, в которой практически единственной в то время можно было посмотреть монографии по современному искусству; издания «Скира» и прочие необыкновенные вещи…
Клетушки дипломников, в одной из которых Завен писал мой портрет, а потом записал, видимо, думая, что он мне не понравился.
(И до сегодняшнего дня я, вспоминая, ковыряю его душу, а когда окончательно достаю и он мне говорит: «Да напишу я тебя», — отвечаю: «Так и таким, как тогда, ты меня уже не напишешь!»)
И Людочка Куценко, которая с недовольным: «Опять ты с бабами?! Ты не даешь им диплом писать!» — влетала во флигелек во дворе академии, где писали диплом Валера и Ванечка, запершись со мной и двумя девицами, с водкой и закуской на столе и незаконченными работами на подрамниках.
Валера обладал восторженной утонченной сексуальностью. Близость с женщиной для него всегда была событием, мифом. Однажды в мастерской он покрыл небольшой шкафчик резьбой. Это были какие-то фонтанирующие фаллосы, истекающие женские промежности, акты, зовущие линии женских тел… Без восточного религиозного привкуса. Чистый, наивный восторг и изумление бытием.
Он был великий, космический человек.
«В моей голове стучит Вселенная…»
Его уже нет.
И бесконечные хождения по ночам с Ванечкой от его дома на Некрасова до моего на Жуковской, туда и обратно, туда и обратно, пока не расставались на середине.
Однажды среди ночи откуда-то неожиданно вынырнул Леня Шрам.
Взглянув на обычно серьезное, озабоченное лицо Ванечки, он вдруг спросил его: «Что с тобой, кореш? Может пришить кого-нибудь?» А потом мне: «Твой человек? Скажи ему, если кто-то ему мешает — уберем!» — и растворился в темноте.
Ванечка опешил — он тогда не знал некоторых смутных сторон моей жизни.
— Кто это? — испуганно спросил Ванечка.
— Это мой дружок, — ответил я и добавил не без лукавства, — Ванечка, если он обещал убрать — уберет!
Ванечка еще много лет помнил эту встречу — Леня умел производить впечатление.
И долгие сидения на громадном сундуке на кухне у Ванечки, его мама всегда с чаем, разнообразным вареньем, оладушками, пирожками и вопросительно наивными и серьезными глазами и руками, несущими чашки или стаканы в подстаканниках.
Приходил Гера Егошин, постоянно внутренне небезразличный, настроенный на спор.
И его «Маяковский» и «Хемингуэй» Кошелькова и многое другое, что выплывало в памяти неизвестно почему и исчезало.
Тогда опять начиналась череда женских тел, слышались их стоны, вскрики и писки, благодарное трепетание после и жажда поглотить до…
Заславский свесил ноги со второй полки:
— Я тебе все-таки расскажу, что ты не понимаешь про Юлю, — занудил он снова.
— Подожди, Толя, я сейчас выйду покурю, а потом ты меня просветишь. Кстати, тему Юли можешь дополнить органом любви, которого у меня нет.
Я выглянул в окно: состав двигался по дуге среди сопок, озер и болот. Изогнутая кишка зеленых вагонов заканчивалась тепловозом зеленым с красным. Тепловоз как тепловоз, ничего особенного. Это потом на картинах Завена оживший яркими ощущениями детства, казалось, давно исчезнувшего из нашей памяти он будет смотреться как чудо.
И мы будем спрашивать себя: «Как же так можно?» А никак нам не можно. Потому что мы уже не можем так долго смотреть на паровозик.
Я прошел мимо ног Заславского, который, видимо, готовил тезисы про Юлю и орган любви, и вышел из купе. Покурив в тамбуре, вернулся и встал напротив.
Из соседнего купе доносился женский голос:
— Коля, я тебе приготовила ужин: вот курочка, огурчики соленые, яички, колбаска… Покушай?!
— Иди на хуй, — отозвался Коля.
«Это приглашение? Или отказ от еды?» — задумался я над сложностью русской идиомики.
Заглянул в купе. Заславский сидел, свесив ноги, Завен смотрел в окно, интеллигентная Нина с обожанием смотрела на Завена.
В глазах ее читалось — спасу, сохраню, защищу.
— Ну, — сказал я Заславскому, — начинай!
— Вот ты вернешься, — начал Толя, — а там ждет тебя Юля.
«Это точно, — подумал я, — возможно, даже не одна, а с венерической болезнью». (Слышался голос Заславского, ковыряющего мне душу.)
«Я ведь сразу побегу к ней, как только сойду с поезда».
Он перешел Невский у Строгановского дворца и по Мойке отправился в «Фонарные купеческие» бани, где его ждали художники: завернутый в простыню и похожий на Козьму Пруткова Заславский, восточный человек — Мурик, Жорес и Лева — гуманитарий, профессор, к несчастью заболевший болезнью Паркинсона, что позволило его безжалостным друзьям заметить, глядя на его дрожащую руку: «Теперь ты можешь заниматься онанизмом неутомимо и как угодно долго».
Будут художники из других групп, возможно, стерлиговцы. А может, и не придут. Они осторожны в общении. Предпочитают себя в собственном соку. Как горбуша.
Скульптор Роберт Лотош, ироничный и добрый.
Купеческого вида, большой и плотный, похожий на Александра на коне в садике Мраморного дворца, а на самом деле чуткий, рефлексирующий, с редким свойством товарищества — Задорин.
Борщ, непрерывно рисующий везде: на улице, в кафе, в метро, в автомобиле, даже в парилке, одетый только в блокнот и карандаш.
Интересно, рисует ли он на даме, не в смысле боди-арта, а буквально?
Мы решили, что это невозможно вследствие того, что Борщ выдвинул тезу: «Художнику мешает женщина».
Чтобы его спасти, мы стали изобретать некий механизм или приспособление, который поможет Борщу совокупляться, не отвлекаясь от рисования.
Потому что пока единственное, чем он мог заниматься, не мешая своему непрерывному рисованию, это онанизмом, так как тут, как правило, занята только одна рука, а во второй он может держать карандаш. Главное в смысле рисунка — не перепутать руки.
В последнее время, однако, Борщ выдвинул антитезу: «Женщина помогает художнику». (Очевидно, изобрел приспособление сам.)
Еще придет Зяма, воспитанный, интеллигентный, обиженный этой властью, которую во время войны он защищал на фронте, придирчивый к себе и другим, иногда с ехидцей и горьким юмором, с неприятием компромиссов в работе, но гостеприимный, радушный, добрый и тактичный дома.
Можно ли парную сравнить с женщиной? Пытались, но безуспешно. Не получается даже у Заславского. Парная не самоистязание. Это отдых души и тела. Покой и безразличие. Ленивая беседа. Пятьдесят граммов. Предмет гордости.
Любой из нас скорее согласится, что он плохой художник, или поэт, или врач, чем признать себя не лучшим в умении парить и париться. И это совершенно серьезно и значимо. И споры в этом вопросе непримиримы.
Но, если ты дошел до состояния благостного покоя, когда тебя не волнует никто и ничто, когда у тебя нет никаких желаний, даже женщины, а только прийти домой, лечь в чистые и холодные простыни и провалиться в сон, значит, тебя парили правильно и ты был в бане.
Во всех остальных случаях ты в баню не ходил — ты ходил мыться.
А вот все отвратительное и только изредка прекрасное в мире — есть женщина, что я и раньше подозревал, а теперь знаю доподлинно. (Спасибо, Юля.)
Где-то в середине должны быть нежные встревоженные девицы. Но тут у меня опыта мало.
Пара десятков девственниц, которые благодаря своему непреодолимому желанию и моим усилиям лишились этой данности, не могут служить основанием для умозаключения из-за малого количества наблюдений.
Тем не менее, работая длительное время консультантом в гинекологической клинике, я столкнулся с одной парадоксальной ситуацией, определяя показания к срочному хирургическому лечению по поводу аппендицита, гнойного воспаления придатков или разрыва фолликула у девственницы (последнее срочной операции не требует).
Так вот, опросы и обследования показали, что девицы встречаются в популяции только до 14 и после 27 лет?!
Куда они исчезают от 14 до 27 лет и откуда вновь появляются после 27 — этот парадокс доказательная медицина объяснить бессильна. И мой скромный опыт наблюдения двух десятков девиц в районе 18 лет, как я уже говорил, статистически недостоверен. Их можно принять к сведению только как исключение. К тому же я не помню ни лиц, ни девиц, а учета не веду.
Существует миф, будто женщина привязана к персонажу, дефлорировавшему ее, всю жизнь. Не думаю. И как быть сегодня с тинейджерами, которые теряют девственность, обкурившись, наглотавшись таблеток, и не помнят ни где, ни как; с одним или с целой компанией.
Во всяком случае, мои девицы забыли о своей драгоценной потере на следующий день, может быть, через неделю. За одним исключением, и то, думаю, не из-за потери девичества.
Она забралась ко мне в кровать после того, как подбросила монетку — «орел» или «решка». Выпала «решка». Она тем не менее разделась и легла под одеяло… Наплевав на судьбу… И напрасно.
Мы познакомились на Моховой у Театрального института, куда она поступала. Видная девица. Густая рыжевато-русая, длинная, толстая коса.
Каждый день мы встречались у ее института на Моховой. Светлые ночи и ее длинные белые ноги, и запах свежести от ее волос, когда она спала, повернувшись ко мне спиной. Через полгода нарисовалась очередная жена.
— Не уходи! Не бросай! Посмотри на меня! Разве она лучше?!
— Что же делать, пришла другая…
А через восемнадцать лет ко мне на отделение пришла девочка лет четырнадцати и спросила: «Вы доктор такой-то. Моя мама больна, ей нужна операция. Она хочет чтобы операцию делали Вы».
— А как фамилия твоей мамы? — спросил я, пытаясь понять. Была названа фамилия известного артиста…
— Хорошо, пусть приходит…
Я сразу узнал ее, хотя выглядела она неважно. Значит, все эти годы она меня помнила, может, даже знала, что я один, но не появлялась. Не могла простить!..
— Будешь оперировать меня?
— Буду, если доверяешь. Я постараюсь.
Я бы все исправил. Я бы вернул ее! Ведь она, оказывается, одна такая! Но поздно — саркома с метастазами. И я бессилен… И все бессильны… Через три месяца она умерла.
Я не взял ее портрет — может быть, одну из лучших работ Валеры, потому что появилась тогда другая. Где он? В «Русском» и в «Третьяковке» нет — я справлялся. Может, у кого-нибудь из коллекционеров или уже за рубежом? Не знаю. Но я ищу. Возможно, найду. Хожу смотрю немногие фильмы, в которых она снималась, — и помню, помню, ее помню.
А женщины, каждая новая — рвали фотографии, рисунки, письма; поворачивались спиной к афишам предыдущих… Вот их всех я как раз и не помню.
Свой ответ Заславскому я придумал. Сейчас спущусь в гранитную нишу набережной на ступеньку и запишу…
Я сел на ступеньку, но писать не хотелось.
«Передам устно».
Я вошел в предбанник. Мурик и Жорес беседовали о мифотворчестве, приходя к выводу: что такое миф — никому не известно. Сережа Вульф, бросивший пить и потому находящийся в стойкой депрессии, но не потерявший юмора, хмуро заявил: «Я знаю, что такое миф. Миф — это порошок».
Художник Арон Эйнштейн приехал из Нижнего Тагила, где он мечтал стать художником с детства. Его практичная еврейская мама говорила ему: «Арон, зачем тебе быть художником? Ты хочешь валяться пьяный на земле? Иди в монтеры! Будешь закручивать лампочки. У тебя всегда будет работа!»
Арон был послушный мальчик и пошел в ПТУ, откуда через полгода сбежал в художественное училище, где быстро осознал, что он такой гений, каких вообще больше быть не может. Нигде. По крайней мере, в Нижнем Тагиле.
Поэтому, закончив училище, он отправился в Санкт-Петербург поступать в Высшее художественное училище имени Мухиной.
В «Мухе» его ждал страшный удар — у приемной комиссии стояла толпа абитуриентов, каждый из которых был такой гений — не меньше, а даже больше, чем он. Арон испугался не на шутку. Конкурс на живописный факультет и рисунок среди гениев был велик, и благоразумный Арон поступил на интерьер, где конкурс был меньше.
Впоследствии мама уже известного художника, приезжая к нему в Петербург и наблюдая беспорядок в его жилище, — все эти холсты, подрамники, этюдники, мольберты, тюбики красок, обрывки бумаги, книги, разбросанные повсюду, говорила: «Арон, я на тебя столько денег истратила. Я бы могла ходить вся в золоте», — и все еще настойчиво советовала сыну приобрести профессию.
«Арончик, ты столько лет меня рисуешь, и все хуже и хуже, сейчас я вообще себя не узнаю». А когда Арончика не было дома, тихо договаривалась с его тещей выбросить весь этот мусор и хлам и навести порядок в доме.
Заславский, завернутый в простыню, собрал вокруг себя небольшую аудиторию — развивает наболевшую тему эрекции в свете ее практической целесообразности.
— Как мне определенно известно, эрекция у нас у всех есть, но мы не умеем ею пользоваться. А это важно! Потому что эрекция сама по себе еще не главное. Ею, в принципе, никого не удивишь, а правильно употреблять эрекцию может не всякий. Если бы этому вовремя учились… Но где? Кто из нас может откровенно сказать: «Я правильно употребляю эрекцию?» Задумайтесь и ответьте…
Его внимательно слушал Борщ, что-то рисующий в своем блокноте. Возможно, эрекцию — виртуально. А возможно, в нем вырисовывалась идея использовать эрекцию как добавочный элемент в процессе непрерывного рисования. Но его знания в этой области в связи с постоянной сменой тез и антитез, взаимно друг друга уничтожающих, практически сводились к нулю. Несмотря на механизмы.
Я разделся, распарил веники и отправился в парную. После третьего захода распаренный сидел на лавочке, завернувшись в простыню, в полудреме, лениво вспоминая прошлое.
Довольно скоро этот бесконечно разворачивающийся клубок женских тел мне стал настолько безразличен, что, кроме работы, ничего интересного в окружающем мне не виделось.
«Если я „кеен“ — потомок священников первой череды, результат прямой передачи свойств мужской дефектной игрек-хромосомой, — уныло размышлял я, — влачу подобное безрадостное существование, то какую печальную двусмысленную жизнь вели мои предки, обладая, как и я, этой не подверженной никаким влияниям эрекцией?!»
Я вспомнил, как мне неожиданно показалось, что я влюбился наконец в одну ни на кого не похожую даму.
Она любила музыку… Нет, не так. Она существовала в музыке. Эта помесь сольфеджио и ураганного темперамента была производное старой интеллигентной дворянской семьи, предки которой прослеживались два столетия и не стерлись в ее генах, несмотря на многолетнюю настырную уравниловку Совдепии. Она и внешне была необычна: очень длинное, лошадиное лицо, совершенно не пролетарский удлиненный тонкий нос, спесивый взгляд разных глаз — один темно-карий, другой зеленовато-серый с желто-золотистыми треугольничками, хрупкая, с удлиненным, возбуждающим какими-то неясными движениями телом, от прикосновения приходящим в трепет.
Мне казалось, что я от нее ошалел. Лежа в кровати после чего-то совершенно невообразимого, она в перерывах делилась со мной информацией: «Женщина — это музыка. Ты знаешь, профессиональные музыканты, наверное, такие…» (Да уж, конечно, вспомнил я одну скрипачку — студентку Консерватории, с которой мы голые бегали вокруг стола в ее антикварной гостиной.)
«Свое неповторимое звучание женщина отдает тебе, чтобы ты услышал. Спать одновременно с несколькими женщинами может только недоумок. Ты же не бык, в конце концов не стадо оплодотворяешь. Это все равно, что слушать две разные мелодии одновременно — не услышишь ни одной.
А ты до конца должен внять божественному звучанию, которое есть в каждой из нас. Конечно, музыкальная пьеса может быть короткой или длинной, но всегда рано или поздно заканчивается. К сожалению. Вот тогда можешь слушать другую музыку».
Ее совершенная неповторимость, фантазии и импровизации на несколько месяцев привязали меня.
Потом музыка сфер смолкла.
Но она была права — с тех пор спать одновременно с несколькими я не мог, вернее, не хотел. За редким исключением.
И совершенно не мог ложиться с женщиной, ко мне безразличной. Если она не проявляла ко мне интереса, я ощущал себя насильником.
«Избалован или, может, гордыня?» Ну что интересного, когда подружка даже не притворяется, что любит. Даже моя безотказная данность после того ликбеза в подобных ситуациях недоумевает. Вот новости-то! Но зато, когда проявляется интерес, можно ломать переборки. Легко. (Наконец-то «Он» становится разборчив, но, думаю, что ненадолго. Возможно, приобретает некоторую интеллигентность в сексуальных отношениях. Это пройдет.)
Что касается женщин как музыкальных произведений, то они чаще всего были короткими, как увертюра или даже как удар смычка. В итоге количество женщин нисколько не уменьшилось, звучали они все глуше и на одной ноте, и все шло к тому, что я перестану их различать.
Бесконечные короткие курортные романы.
Осталось одно воспоминание: как-то в Ялте в ресторане «Таврида» я пригласил официантку и уехал с ней на Ай-Петри. Мы намеренно загулялись. Последний автобус ушел. Ночь упала внезапно, и стало холодно. Хозяин сторожки вынес нам огромный тулуп, и мы, закутавшись в него, улеглись на самой вершине. С нее, далеко внизу, насколько доступно зрению, были видны огни побережья… Чувство, что я ебал не ее, а весь Крым, сохранилось до сих пор.
Странно — когда я имел одну молодую, но благодаря своим связям (в основном половым) уже ответственную работницу Горсовета, впечатления, что я имел Советскую власть, не было. Скорее она меня. Тут есть какая-то психологическая тонкость.
Еще в институте пару летних сезонов я работал в пионерлагерях тренером, начальником клуба, еще кем-то, чтобы не ездить на уборку овощей и не совокупляться с однокурсницами в дождь на картофельных грядках.
Воспитательницы, пионервожатые, поварихи поздними вечерами, забыв про детей, оглашали стонами и сладострастным повизгиванием тихие дремучие окрестности.
Днем тоже приходилось трахаться на маленьких островках неизвестного озера или прямо в лодке с риском перевернуться и утонуть.
Он задумчиво смотрел, собираясь продолжить рассказ. Все эти воспоминания и многие другие (о всех невозможно рассказать), видимо, составляли даже не основу, а само его существование.
Оттенки отношений, ощущения занимали его непрерывно. Он действительно во всем окружающем видел женщин; женщину и только ее. Все остальное для него существенного значения не имело. Все остальное было его второй, не главной жизнью.
Секс — опасное для жизни занятие, требует мужества… Отвага усиливает либидо. Как война.
Незатейливые связи на работе: в коридорах, кабинетах, перевязочных, на лестнице, под лестницей, на перилах, столах, каталках, подоконниках — на дежурствах и в дневные часы, во всех уголках больниц, где работал.
Изредка с вылеченными особями у них дома. На работе больные женщины сексуальных переживаний не вызывают. За редким исключением. Но тут нужно быть верным деонтологии, хоть изредка.
Еще соседки в домах, где я жил. Они тоже никак не могли пропустить такую тусовку. Весь этот сексуальный бум рано или поздно превращается в необходимость, в нудную, унылую, бесконечную работу с короткими всплесками удовольствия.
Это и есть моя жизнь? Эти девушки, женщины, бабы, телки, особи, прошмондовки, сучки, чувихи, шкуры, путаны, бляди, дырки — красавицы и страшки, теплые, как печка, и холодные, как морг, длинноногие и коротышки, сисястые, крутозадые и плоские, как пустыня, плотные, как лесной орех, и расплывающиеся, юные и нет.
Неожиданный ток теплоты в тебе, вызванный их наивной, даже трогательной привязчивостью, быстро проходит, и опять ты лежишь, дрожа от холода одиночества. И ее холодный рот, ищущий тебя, и все это тоскливое трахание происходят только потому, что член твой, несмотря ни на что, стоит. (Какой ужас! Нет, не то, что стоит, а то, что тоскливо.) Жизнь по-прежнему плывет унылой чередой безразличных соитий, в беготне за проходящими по улице юбками, зазывающими возможностью необычного и всегда обманывающими, бесконечными постелями, парадными, кустами, содранными купальничками, трусиками, панталончиками; хаотичным удовлетворением — трение об обнаженную плоть, затем вспышки оргазма, безразличие, пот, спутанные волосы, утомление и неприятный запах изо рта.
«Так что же? Так я и буду семяизвергаться, и эта груда копошащихся женских тел с разными запахами, повадками, ртами, грудью, бедрами — любящих и безразличных — и есть мое существование в этом мире?.. И нет надежды?.. И невозможно найти ту, которая даст мне хотя бы чувство покоя и удовлетворения?.. Хотя бы полового?.. И как бы самому зажечься тем светом, который редкими всполохами озарял эту груду женской плоти? То, что люди называют любовью. Неужто мне не дано?»
Он вышел из бани и проходными дворами сначала с Воскресенского на Казанскую, а затем со Столярного переулка через проходные дворы вышел на канал Грибоедова, где на углу канала и Гривцова переулка, как раз напротив школы, в которой он учился, стоит большой дом в стиле модерн. На первом этаже дома за огромными витринами, которые к вечеру закрывались железными жалюзями, когда-то висели на металлических стойках толстые, перетянутые веревочками, аппетитно вдавленными в их кожу, непередаваемой красоты и желанности колбасы.
Мои голодные одноклассники неоднократно пытались стащить эту колбасную грезу. Я стоял на «атасе», хотя голоден не был. Как говорили педагоги — «ложное чувство товарищества».
Когда появлялся милиционер или сторож, или кто-то в грязном белом халате, я честно кричал: «Атас!» — и мы бегом смывались через проходной двор между Гривцовым и ул. Петра Алексеева, на которой я тогда жил в доме с тремя дворами, тоже проходными.
Во дворах к окнам кухонь были прибиты коричневые деревянные ящики с маленькими круглыми дырками — холодильники, где хранились продукты.
На мощеной булыжником земле стояли в квадратных поленницах дрова, поквартирно. Еще дрова, уже напиленные и наколотые, хранились в мокрых подвалах, разгороженных клетушками с замками. Пройти к ним можно было только по доскам, брошенным на уложенные в воду кирпичи. Там мы и пережидали возможную погоню.
Или бежали в другой проходной двор, сразу за 232-й школой, что на углу Гривцова и Казанской. В этой школе я тоже учился и тоже был выгнан после неоднократного вызывания родителей, как, впрочем, и еще из шести школ — «ни за что!». Я ничего худого учителям не делал, даже любил их, но не пользовался взаимностью. (Все-таки они суки.)
После шестого класса мама перестала ходить в школу, заявив, когда ее вызывали, что ничего нового она там больше не услышит.
За школой проходные дворы мимо известных «Гороховских» бань выводили на Гороховую улицу и — «с концами».
Иногда всей «шоблой» мы забегали ко мне домой, и мама угощала нас чаем с испеченными ею круглыми и в форме месяца коржиками, полученными в результате разрезания раскатанного теста стаканом. Муку мы получали, стоя ночами во дворе гастронома на углу Садовой и Гороховой. Мука выдавалась по 1,5 кг на человека, в том числе и на детей. В серых пакетах из грубой бумаги. Зимой стоять было холодно, но стоять нужно было всем, иначе не дадут.
Проходные дворы в центре города я знаю хорошо, как игру в «зуску» или «маялку», «чхэ», «слона», «качание прав» («Ты Колю Косого знаешь?»), катание на «колбасе» трамвая («Осаживай!»), «стычки» — двор на двор или двор на «ремеслуху» — бляхи, ножички. А вот математику узнать в школе не успел.
В общем, «кореш» я, видимо, был неплохой. Это мамина заслуга — когда в первом классе я пришел из школы зареванный и пожаловался: «Мама, меня Молчков избил» (Молчков у нас был в «верхах»). Мама ответила: «Вернись и дай сдачи!»
— Да-а-а-а, а он не один, — взрыднул я.
— Не имеет значения, — ответила мама. Тема была закрыта.
Впереди него по Садовой, оживленно разговаривая, шли два чукчи, или нанайца, или эвенка. Обгоняя их, он прислушался — чукчи говорили о «жидах», что они, то есть «жиды», могут… и т. д.
Ну, скажите на милость, откуда за полярным кругом антисемиты? Они же нас, круглоглазых, не различают, мы для них, косорылых, как и они для нас, все на одно лицо. Они что, нас по запаху, как ягель, или по вкусу, как нерпу, различают? Откуда они в Нарьян-Маре или в Улан-Удэ среди стад оленей в вечной мерзлоте еврея видели? Разве что Рому Абрамовича.
(Можете себе представить, какой антисемитской командой будет «Челси» через пару лет?)
На углу Невского и Садовой я нырнул в подземный переход и вышел к «Елисееву». «Нужно еще появиться на работе, посмотреть прооперированных».
Медицина — единственная женщина, отношения с которой у меня стабильно взаимоблагожелательные. За многие годы совместной жизни я редко ей изменял.
Это были периоды охлаждения, усталости, раздражения, удивления безмерной сложностью ее естества, непонимания. И любовники ее, в отличие от сожителей с властью, были людьми удивительными — умными, тонкими, разносторонне одаренными, знающими и рукастыми. Ревновать к таким просто глупо. (Да, а прихлебателей-руководителей?.. Но она их не любит, и это по ним видно.)
Период детского восторга сменился временем романтической увлеченности — когда знания и опыт уже позволяли принимать непростые решения и сохранился кураж: «Если не ты, так кто?!» Это время любви между хирургом и Венерой Медицейской самое замечательное. Только изредка человеческая неблагодарность все-таки досаждала…
Один известный «мим», который пырнул себя ножом на гастролях в другом городе, приревновав к кому-то свою пустоголовую жену, через некоторое время после той срочной операции поступил к нам с сильными болями и вздутым животом — спаечная кишечная непроходимость. Это, к сожалению, бывает нередко. Четырехчасовая операция осторожного, тщательного рассечения спаек, а затем укладывания кишок в порядок, по возможности, исключающая повторения приступа, весьма травматична.
Послеоперационные боли, ненадолго снимаемые наркотиками, его капризный, избалованный, изломанный характер; полное нетерпение к малейшей боли, страх привели к тому, что несколько суток после операции он вообще не спал, даже с наркотиками и измотан был окончательно.
И тогда (сейчас я бы этого не сделал ни за что, ну разве за деньги), используя знания, полученные в течение двух лет занятий у профессора Буля — известного гипнолога, я, несколько дней оставаясь после работы и дежурств, погружал его в лечебный сон, давая выспаться.
Через десять дней он выписался.
А еще через год в метро мы сидели на скамейке рядом, и он меня не узнал. Он долго всматривался в меня и наконец спросил: «Мне кажется, я вас где-то видел, но не помню где?»
«Видел, — подумал я, — а мог бы и не видеть. Дело даже не в том, что я, возможно, сохранил тебе жизнь, потому что успел и не медлил, а в том, что я вместо твоей потаскухи жены сидел с тобой часами, избавляя от страданий и бессонницы».
(Ну, что здесь такого? Какая благодарность? Доктор делал свое дело.)
А вот прямо противоположное — после четвертого курса на практике в маленьком северном городке я удалил отросток мальчику восьми лет, а года через полтора в дождливый день на Невском, около Пассажа, на шею мне виснет, оставив мамину руку, мальчик с криком: «Доктор! Это мой доктор!»
(Ну, что вы скажете? Это же надо! И у нас бывают приятные минуты.)
Моя больничная жизнь текла своим чередом, и в один прекрасный день меня вызвал главврач: «На партбюро больницы разобрать ваше поведение мы не можем — вы не член партии, но мне надоели разговоры о визитах ваших многочисленных жен и намеки на бесконечные интимные отношения во всех отделениях больницы!»
— Что-нибудь конкретное? — поинтересовался я. — Фамилия, имя, отчество?
— Конкретного ничего, — и многозначительно: — но вам нужно подумать.
— Подумать? О чем? В этой печальной обширной области моей жизнедеятельности, дорогая Виктория Григорьевна, я не думаю — это бесполезно, я действую. Но если дама заявит, что я был с ней в близких («Вы понимаете, о чем я?») отношениях, отказываться не буду даже под пыткой. Сам об этом говорить не могу.
Вышел из кабинета в тошнотворном настроении: «Неужели мой член представляет такую жизненную угрозу рабочему коллективу? Достала эта поголовная страсть к стукачеству, зависть и неприязнь, письма, жалобы, доносы».
Ну, что, сука, добилась своего: выпестовала пролетарскую интеллигенцию — сплетников, завистников и сволочей. Вот они — профессора, распивающие пиво у ларьков и тут же на них мочащиеся или в лучшем случае в подъезде.
Готовые работать ни за что — за чечевичную похлебку, за награды, грамоты и должности. Позволяющие себе — единственная отрада — сделать чужую личную жизнь предметом уничтожения себе подобных.
А дальше что? Дальше они уже сами себя — «единогласно».
Поэтому различные собрания от политбюро до партячейки ЖЭКа становятся абсолютно одинаковыми по содержанию и репрессивным возможностям, и общее собрание коллектива больницы может закопать тебя и превратить в ничто с таким же успехом, как и пленум политбюро ЦК.
И только ли власть тому причиной? А засранные туалеты в больницах, замоченные и загаженные лестницы? Обшарпанные дома, засыпанные мусором дворы, пьянь, валяющаяся на улицах в лужах собственной блевотины, — это тоже власть? Нет — это уже народ-«богоносец», которому на самом деле эта власть нравится.
Кончено! А то скоро на собрании коллектива больницы будут рассматривать мой член. Уж лучше я сам им его покажу. В переносном смысле. Пора валить. Уезжаю!
Интересно, что бы сказал тогда Заславский по поводу моего такого решения. И что он скажет сейчас по поводу любви, если я наконец расскажу ему о Юльке.
Я знаю, что он скажет. Он скажет: «Во, бля!»
Часть II Сука
«Что ты там стонешь? Кряхтишь на печи, дед?
— Да ебусь, будь оно неладно».
АнекдотДонос в чистом виде — жанр литературы, где содержание безраздельно господствует над формой. Ценность содержания столь высока, что формой можно пренебречь.
И всегда есть успех. Всегда есть читательская аудитория, внимательная и придирчивая, правда, небольшая, но постоянная и профессиональная.
Это самый искренний литературный жанр, даже если написана неправда. Ибо кто более искренен в своей зависти или ненависти к ближнему, чем автор доноса?
Когда через несколько лет работы в Израиле я вернулся, это была другая страна, другой город.
Нет, трещины в асфальте и дыры на мостовой оставались теми же, что и много лет назад. Радость встречи с ними, возможность с закрытыми глазами ходить по улицам и переулкам, точно зная: вот здесь будет та самая яма в асфальте, которую лихо зальют, а через месяц она вновь возродится; тот же стук разбитых «шаровых» и «мостов», треск продырявленных глушителей, грязные в трещинах и ямах дворы с жалкими деревцами, засыпанными городской пылью, пахнущие мочой парадные, загаженные испражнениями, прикрытыми газеткой, лифты — все было как прежде. Это, конечно, не радовало, но тем не менее…
Теплота и покой были во мне, и досада от этой бесконечной грязи не могла уменьшить радости встречи.
«Многое изменилось — и это изменится», — наивно надеялся я, гладя и целуя глазами очертания особняков, набережные, каналы и речки, мосты, садики и парки; заглядывая в родные дворики моего холодного таинственного города.
Это мое. Я дома.
И теплые глаза женщин. Глаза, способные заглянуть в тебя и увидеть. Излучающие мягкий свет и тщательно скрываемую беспомощность. Жаждущие любви и готовые на жертвы во имя ее.
«Сколько же лет я вас не видел?! Милые!» Так вот что не давало мне там жить! И я вспомнил, как уже с утра, по дороге в госпиталь, я наливался злобой от вида раскрашенных, самодовольных, непонятно почему уверенных в своей неотразимости волосатых самок, в глазах которых ничего, кроме тупого самодовольства, не читалось.
Броско одетые, чтобы обратить на себя внимание, с ушами, шеей и пальцами, унизанными и обвешанными толстыми золотыми украшениями, с подведенными, на первый взгляд, большими и красивыми глазами, в которых ничего, кроме интереса к твоему члену (не выше), к жратве, шмоткам и унылым клубным, ресторанным и магазинным развлечениям, не читалось.
И половой акт для них — нечто вроде «стейка» на природе.
И на каждой написана цена — от проститутки до жены крупного бизнесмена или политика. А за что же платить? За ваши совершенно одинаковые, пресные половые щели? За вашу унылую, но лихорадочную технику и безграмотное бесстыдство, подразумевающее осведомленность в науке любви? Чтобы потом, утром, видеть лежащий рядом с тобой без косметики ужас?
А вокруг — покрытые пылью столетий холмы и камни исторической Родины. Толпы бездельников «датам» в черных шляпах или кипах — пейсатых, в черных же лапсердаках, запорошенных перхотью.
«Народ сохранил Книгу или Книга сохранила народ?» И вот, чтобы ответить на этот и другие подобные вопросы, раввины молятся, читают, едят, плодят бесконечное количество «датимчиков», а народ Израиля и диаспора их кормят.
Ну, допустим, ответят они на этот софизм, что в принципе невозможно. Что-то изменится? Эдуард Лимонов нас полюбит? Вряд ли.
Забавно, но ожидаемо было, что многие эмигранты, бывшие работники периферийных парткомов, преподаватели и профессора марксистско-ленинской философии — эти ревностные сторонники атеизма, как только спускаются с трапа самолета в Израиле, тут же надевают кипу и отправляются в синагоги.
А синагог в каждом городе не меньше, чем партячеек у нас. Совдепия в религиозном варианте.
А упертая еврейская интравертность? Это незамечание других народов в демократическом и даже многонациональном государстве Израиль?
Старый еврей с маленьким мальчиком двигается по улице горного Цфата. Говорят по-русски. На тротуаре лежит упавший с откоса большой камень…
— Нема, подними камень и отнеси в сторону — еврей споткнется и упадет! — Нема не обращает внимания.
— Нема, я тебе сказал, — подними камень. — Еврей! Споткнется и упадет. — Нема играет. Ноль внимания.
— Нема, убери камень, еврей споткнется…
Я: «А если не еврей споткнется, так, хер с ним, пусть падает?!»
На Невском солнечно. Спустившись в метро «Невский проспект», я поехал в ресторан на Крестовский остров, где собралась погулять наша «банда» с Невского. Приехал из Штатов Филон, постарел. Не знаю, ма питом? С чего вдруг раскукарекался об Израиле — как он любит эту страну, какие там замечательные люди и жизнь и что каждый должен жить в Израиле.
«Ну, и что ты там не живешь? — зло спросил я: — воровать можно везде, как и „крутиться“. Тебя, что, конгресс Соединенных Штатов не отпускает? Что это вы все так любите Израиль со стороны? Ты там жил? Ты знаешь, сколько там говна? Твоего ребенка учили ябедничать с детского сада… Если его дразнят, он должен пойти и сказать учителю. Мой не скажет — пусть лучше тот, кому он даст по морде, пойдет и скажет учителю. Твоего ребенка, лишенного национальной неприязни, учили ненавидеть арабов? И это народ, который тысячелетия страдает от национальной ненависти.
Это твой мальчик облысел, после того как пошел в школу? Это его учили подсматривать, не едят ли родители мясное с молочным?
Что тебе там нравится? Ты был под ракетами Саддама, служил в „мелуим“ на территориях, ездил по территориям ночью, стоял на автобусных остановках, ожидая взрыва? Ты хоть что-нибудь для Израиля сделал?!
Ты любишь Израиль — так приезжай и живи в нем! А не появляйся прятаться от Интерпола».
Филон побледнел и полез под пиджак.
— Выйдем, я тебя грохну!
Магомет, сидевший напротив меня, приоткрыл сонные глаза: «Профессор, куда ходить, врежь в „дзюндзик“ прямо здесь!» Витька, по кличке Пацан, шепнул: «Остынь, он в Нью-Йорке непростой».
Володя Большой сидел и молчал — ему, как всегда, «до лампы». Потом буркнул: «Обнюхайтесь — свои».
Эльдар вдруг встрепенулся:
— А здесь не Нью-Йорк, Дод, что сидишь! Дай ему в лоб!
— Да, не могу я. Я с ним вырос. Пусть бухтит…
И правильно. Сейчас бы жалел.
Через несколько лет Филона грохнули в Нью-Йорке на какой-то очередной разборке.
Где-то в мире растворился Леня Шрам. Я вспоминаю о нем тепло, хотя для других он был иным, «непростым». Все они были непростые.
Тем не менее среди моих интеллигентных друзей, пожалуй, только Снежкина и Мишико я бы оставил за своей спиной в драке.
Многое в России изменилось, но не власть. Новая власть оказалась такой же дешевкой, такой же безжалостной сукой, как и старая.
Изменились люди, даже друзья. Но не все. К счастью, не все.
«Это ничего, — думал я, — ничего».
Главное, я вернулся. Может, здесь и полюблю наконец. Мой Бог, дай мне?! Как-нибудь, я не знаю как. Дай мне знак?! Многие же могут!
Бог дал. Свершилось…
Он дрожал от холода и сырости, от ненависти к себе и стыда, двигаясь по темному продрогшему городу. Улица и прохожие сквозь моросящий дождь видны были неясно, отвлекая внимание, неотчетливо ощущаемые им, как помеха. Перекрестки с мелькающими в тумане желтыми огнями светофоров появлялись и исчезали куда-то.
Куда и зачем шел, он не знал, хотя само по себе движение имело цель — просто двигаться. Двигаться ни к чему или кому-либо, а от всех, в никуда.
На углу Знаменской и Жуковской, у супермаркета, его внимание на мгновение привлек тот самый нищий с испитым отечным лицом, грязный и обросший кустами свалявшейся щетины. Нищий лежал у супермаркета рядом со своим костылем — осоловелый, промокший, полуживой.
Он видел этого нищего осенью, когда познакомился с ней. Тогда это был опрятный молодой человек с костылем в довольно чистом костюме, с интеллигентной речью, но уже нагловатыми глазами. Нищий просил денег, протягивая руку.
«Что же привело тебя сюда? Скоро тебе конец», — подумал он тогда.
«Ему конец, — посмотрел он на нищего. — А мне?» Растерянный, непонимающий, как Иов, он, вытирая ладонью мокрое от дождя лицо, с болезненным недоумением спрашивал: «Господи, за что, за что?»
Озноб. Боль и ощущение тяжести за грудиной последнее время не проходили: «Скорее всего, невроз… Ну, не стенокардия же?.. Хотя…
Когда же все это началось? В сентябре?
Да, видимо, в сентябре».
Захватив 0,8 «Синопской», Гена Зубков, Юра Гобанов, Саша Носов, Алеша Гостинцев — все стерлиговцы и я после бани направились в галерею, что на Мойке у Синего мостика. Баня со стерлиговцами приобретает некий обрядово-христианский характер с привкусом незыблемости древних банных рецептов. Как монастырская уха со стерлядью.
Мат запрещен — Зубков страдает выраженной непереносимостью к нецензурщине. Болтовня о женщинах теряет свою яркую цветовую гамму и приобретает контрастные черно-белые графические свойства. Беседа становится биполярно унылой, ибо Алеша Гостинцев всех, кого замечал, — желал, а Юра Гобанов всех, кого замечал, имел. Вот, собственно, и весь разговор.
Спасает водка, что и неукоснительно выполняется.
Презентация закончилась, все было выпито и съедено вчистую. Но была 0,8 и готовность поднять ощущение прекрасного до необходимых высот. Тем более что два «пузыря», принятых нами, приятно разместились в наших желудках еще в бане.
Гости ушли, но еще остались две молодые особы, которые там и работали. Приятной наружности. Одна более молодая, симпатичная, с бледным, очень незначительной землистости лицом, наводящим на мысль о больных придатках. Другая — постарше, но славная.
Открыв бутылку и выпив по рюмашке, мы посмотрели на стены — холсты как холсты. Беседа снова перетекла в русло более актуальной женской темы. Мысли излагались благостно, хотя это не самое заметное в нас качество, особенно у Носова.
К середине бутылки, когда еще ничто не предвещало катаклизмов, ручей благожелательности начал иссякать. Нужно было бежать за следующей.
Но тут вошла…
«В чем дело?» — насторожился я.
Посмотрел еще раз — ничего особенного: черные волосы, миндалевидные, восточные глаза, большие, обещающие.
Грузноватое, но не толстое, с сексуальными миазмами тело, упакованное в стильную одежду, полные длинные ноги под юбочкой, вызывающие желание заглянуть повыше. Ноги чересчур ровные, иксобразные — определенно перенесла рахит.
— Тип не мой, — подумал я, — мне это нужно?
Но раздеть и завалить в кровать почему-то хотелось. Немедленно.
Это было в среду. Через два дня я уезжал к себе в хижину.
— Поедешь со мной?
— Поедем.
Дорога на остров длинная, почти триста километров, с множеством поворотов, спадов, подъемов, построенная, говорят, еще Маннергеймом с целью избежать нападения самолетов на автоколонны. Красивая, сложная, но не утомительная. Вспомнил перевал на Таштагол. Здесь, конечно, такой высоты нет. Но достаточно.
Приехали поздно и сразу пошли в баню.
Раздетая женщина почти всегда сюрприз, даже для врача. Но не настолько. Видимо, когда-то была полной и активно худела — складки и рубцы на коже живота, рук, бедер; длинные, похудевшие и потому какие-то жалкие, повисшие груди, обвисший животик — по сложению ей было лет 50.
«Да, досадно, — подумал я. — А главное — вокруг тайга и некуда бежать».
После бани, натопив камин и накрыв стол, я пригляделся к ней повнимательней — красива, но грубовата, глаза чуть навыкате (экзофтальм? хотя у некоторых народов Кавказа незначительное лупоглазие бывает в норме).
Много бровей, носа, рта, тела — восточное изобилие.
«Пэрсик, блин!» (Волосы на ногах, наверное, сбриты, но должны быть.)
«А усики?!»
Усиков нет. Пока нет. «Куда же ты их дела?»
Кавказская слабость, изнеженность и лень. Восточная вежливость.
Вскоре последует этническая грубость. Возможно.
Кожа была необычайно нежной и тонкой, вероятно, из-за атрофии, но желание гладить ее было непреодолимым, а это не мало, ой, не мало.
«Ну, и что ж, что девочка слегка обвисла?!» — заговорил во мне адвокат. Трахаться все равно придется. «Хотела быть светской и востребованной».
Диета у нее безрадостная: овощи, фрукты, травки — вот и обвисла.
Обвиснешь с репы-то!
Толстых любят на Востоке, а ей, видимо, с ними не хочется. Ей хочется с интеллигенцией.
Она скинула халатик и легла.
Лежала на спине, камин горел, я оттянул одеяло и обомлел — сосков не было. «Господи, я же их в бане видел!»
Испуг был недолгим — соски тут же нашлись: один — левый — в левой подмышке; другой — правый — справа чуть выше пупка вместе с обвисшей титькой.
Я водрузил все это на место для гармонии и сексуальных восторгов и в дальнейшем старался не выпускать из рук, контролируя ситуацию.
Прильнув губами к ее шее, я начал изображать из себя нежного и удивительного…
Что дальше? А ничего! Лежит тюлень тюленем, влагалище широкое, излишне, нежно говоря, просторное, да еще контрацептивы пенятся…
Лобок — горой, покрытой лесом, — выступает над промежностью; клитор отнесен от входа дальше, чем хотелось бы.
«Да, не просто ей будет найти партнера».
«Эх, баклажаны, кабачки», — вздохнул я и повторно забрался на нее.
«Интересно, чем она сейчас со мной занимается: любовью, сексом или мы, вообще, просто трахаемся.
Не любовью точно — как можно заниматься тем, о чем понятия не имеешь.
И не трахаемся — малообученная, служить по контракту, пожалуй, не возьмут.
Скорее всего, она занимается сексом. Старается очень. Половые учения.
Может быть, мы ебемся? Нет, нет, до такого еще не дошло.
Точно, девушка определенно занимается со мной сексом.
Движения постоянные, туда-сюда… Дышим диафрагмой и ждем оргазма.
Ну вот, и моя задышала часто, постанывает… Видно, дождалась».
Финал коитуса вышел непредсказуемым — я долго лежал, обнимая ее, неожиданно для себя изнемогая от удовольствия. Вопреки всему этому анатомическому кошмару, радуясь чувству прикосновения к ее удивительной плоти. Тень Шиллера, вдохновляющегося запахом гнилых яблок, витала надо мной.
«Да, любопытная девочка. Впрочем, случайная связь не повод для психоанализа. Через пару дней вернемся в Петербург и забуду». На всякий случай сказал: «Ты, надеюсь, догадываешься, что это несерьезно». (Легко быть искренним, когда это тебе ничего не стоит.)
Просчитался… Не забыл.
С удивлением обнаружил, что ищу с ней встречи. Звонил. Встречались. Болтали. Начитанная. Правда, в этом плане кем-то подготовлена.
Это ничего, должны же быть идолы. Кастанеда.
Культ наркотиков и полового чувства. (Хорошо читать, чтобы завалить в кровать.)
Понятно, с кем тусуется. Надеюсь, еще не колется.
Эталон времени.
Повстречаемся, пока ничего другого нет.
Пригласила к себе домой — по ней видно, что этот шаг для нее непрост. Сколько там на ее койке перележало до меня? Скорее всего, немного — не Клеопатра. Да, и не важно.
Квартирка — осуществленная обывательская мечта. После дорогого современного ремонта.
С ее образованием и начитанностью плоско: четырехзвездный отель — стерильно, чистая ванночка, совмещенная с туалетом. Очень удобно для совокуплений. Все точненько приложено, приклеено, подвешено.
Тапочки. Курить только на лестнице. Стульчики, салфеточки, приборы.
Замечательно держит вилку и нож — хоть рисуй.
Еще какой-то фикус в кадке.
Образование — лепестками, как артишок: различные языковые курсы, менеджмент, музыкальная школа. Какой-то из появившихся во множестве гуманитарных университетов. Сам знаю один, да и то в основном потому, что руководителя постоянно вижу по телевизору.
(Образование серьезное — не забалуешь.)
Откуда она к нам приехала? Нальчик? Баку? Нарьян-Мар? Ташкент? Грозный?.. Впрочем, Ломоносов тоже пешком из Холмогор пожаловал. А результат?!
Основал первый русский Университет (а сколько там зданий, этажей и факультетов? А сколько великих ученых оттуда вышло?.. А школ? Скромный был человек).
А в современных гуманитарных университетах «школы» еще нет и, Бог даст, не будет. Самого ректора часто показывают по телевизору в высоконаучной обстановке: на роликах, на водных лыжах, на горных лыжах, за игрой в лаун-теннис, в гольф, причем все это он выполняет одинаково незатейливо. Скоро, видно, займется борьбой — трудности науки. И еще телевизионные беседы с необходимыми известными неизвестными.
Мемориальной доски еще нет, но она появится, как только профессор грохнется с роликов.
А пока из его тележной академии за деньги толпой выходят деятели искусства и культуры, в том числе и «моя дорогая».
На стенах в квартире хозяйки, столь интересующейся изобразительным искусством, ничего не висит: картин, рисунков, акварелей, гравюр, пастелей и т. п., что намекало бы…
Стены искусством не испорчены. Должно быть, нарушает интерьер, в цвет обоев не вписывается или с кадкой с фикусом не сочетается…
Все это проносится в моей голове, пока я голый лежу на спине, а она, сидя рядом, держит рукой и, нежно на меня глядя и целуя, медленно к нему наклоняется. Интересно — так и начинается любовь? Видимо, «минет» в интерьер вписывается, хотя «искусство» непростое.
(Что это ты пытаешься заглотить его до самого желудка? Это что, страсть? Ради Бога, не обдирай его зубами?! Кто тебя этому учил? Вряд ли это самообразование. («Тут ты прав».) В вашей Высшей школе это тоже проходили? Ты что, пропускала занятия?)
Путь самурайки. Впрочем, будем восхищаться и восклицать, а то сломаем путь. (Господи, ну что же это она делает, он же у меня не застрахован, придется куда-нибудь обратиться для срочных лечебных мероприятий. А это недешево. Любовь сейчас дорогое удовольствие. Во всех смыслах.)
Дождь то усиливался и стучал по пузыристой поверхности Фонтанки, то затихал. По той стороне реки, шлепая по лужам, проезжали автомобили. Бронзовый «чижик-пыжик» в своей гранитной нише выглядел озябшим.
Он вынул сигарету, прикрыл ее от ветра и дождя курткой, прикурил и затянулся. «В сентябре еще не курил», — вспомнил он.
Тогда я встречался с ней часто, почти каждый день. Мир стал солнечным, прозрачным и наивным, с ней было легко и радостно, как в детстве, — в те немногие запомнившиеся часы, когда в морозный солнечный день ты бежишь на привезенных папой из Китая лыжах вокруг бухты, которая тремя большими заливами, как кленовый лист, выливалась из океана через узкий пролив. Лыжню проложили пограничники вдоль самого края высокого, скалистого, обрывистого берега, поросшего тайгой, и довольно опасно было катиться с сопки на сопку по лыжне. Снег был так искрист и так нестерпимо бел, что болели глаза.
Внизу, в бухте, у причалов, подводные лодки лежали, как огромные темные морские животные.
А справа, насколько хватало глаз, темно-зеленая тайга, качаясь на сопках, уплывала на север — в бесконечность — за Ванино до Магаданского края. Именно в тайгу убежала рысь, порвавшая несколько наших кур, и именно к ней я повернул от берега в лес.
Когда я вбежал в сарайчик, распахнув дверь, там царил переполох: утки, забившись в угол металлической клетки, которая их и спасла, растерянно крякали. Куры разметались по всему сараю. Ошалевший от ужаса петух, потеряв всю свою мужскую гордость и достоинство, сидел на сучке под самой крышей с сумасшедшим от страха глазом и горланил.
— Буду мстить, — решил я.
За плечами самодельный лук и стрелы — наконечники из пуль карабинов.
Я на охоте. Никакого страха. «Последний из могикан». Страх я почувствую в сумерки, когда буду возвращаться и когда мне будет казаться, что в темной кроне каждого дерева сидит эта молниеносная, большая, с короткими симпатичными прядками на ушах, свирепая и безжалостная кошка…
Темнеет, и скоро придет с работы мама, которая наконец выполнит обещание когда-нибудь «убить меня» за подобные дела.
(Так вот как давно у меня желание возмездия. Считай с детства?)
— Где ты? Почему тебя еще нет? — это Юля по телефону. Как замечательно!
Я видел ее прелестную, тонкую, совсем юную шею, изысканные пальцы и кисть, ни на что не похожий окружающий ее свет.
— Это неправда, — твердил я себе, — такого со мной не может быть.
— Посмотри, какая она красавица, а ты этого не видел. Какая же она на самом деле? — спрашивал себя я — второй.
— Все это любопытно, — съязвил внутренний голос (третий?). — Главное, надолго ли?
Она перестала изображать из себя секс-бомбу, но все-таки при поцелуях втискивала мне в рот свой язык до самого корня.
«Опять мастер-класс, — с досадой думал я. — Ну, и долго будет этот ликбез продолжаться? Прекрати уже! Я не в публичный дом пришел за наукой. Где ты всего этого поднахваталась? Не в кино, ли?» (Не в кино, не в кино, кретин.)
Что-то я перестал замечать ее телесные недостатки…
Мираж, обман зрения, ощущение чего-то все более притягивающего, неизвестного и не имеющего определения, мистического, поднимающегося из самых глубин ее естества. (Быть может, из моего? Не знаю.)
— Осторожно, — твердил я себе, — отойди, не надо!
— Нет, надо! Сколько уже было — не надо? Быть может, это то, чего ты ждал всю жизнь? Давай, проваливайся! Посмотри на нее глазами любви, джигит.
— А откуда мне их взять?
— Ты же чувствовал, что в ней что-то есть? Падай!
Упал и разбился в кровь.
Сигарета кончилась. Он закурил от нее другую. Поежился: «Дожди, дожди».
В октябре дожди не закончились. Нищий у супермаркета погрузнел, посинел, стал грязен. Уже не просил вежливо, а, засучив штанину, показывал всем липовую рану на голени, закрытую грязной повязкой.
(Откуда столько нищих в городе развелось? Разных мастей и возрастов дети, какие-то инвалиды всех войн, в которых участвовала Россия; старушки, разыгрывающие шекспировские драмы прямо на улице, — особенно одна: скрюченная в три погибели, предварительно рассыпав мелочь на асфальте, она стучала своей клюкой по тротуару — будто бы потеряла деньги и не может их собрать. И так это горестно, что приходилось отдавать ей свои. Уже второй год на одном и том же месте. Действует безотказно.
Сколько же нужно платить милиции, чтобы они наконец перестали «доить» нищих и убрали их с улиц.)
В октябре мы часто бывали дома вместе из-за погоды, и я часами мог наблюдать, как она, лежа на диване, читает или сидит у компьютера, или готовит свои треклятые овощи, ощущал ее удивительную, как мне тогда казалось, еще не залапанную чувственность и чудо прикосновения к ней. В моем внутреннем «я» царил сумбур.
Мы потихоньку медленно поднимались к перевалу наших внезапных отношений, а там, за перевалом, надеялся я, лежала солнечная долина, а за ней новые вершины и долгий путь по искристому снегу к новым блистающим пикам.
Но уже из ущелий задувало, и снежные полки у вершин грозили обрушиться лавинами.
Погода переменилась — потемнело, повалил снег, пронизывающий холодный ветер дохнул с вершин… (метафора).
Как-то в Русском музее она вдруг пропала. Я поискал ее глазами, изумился, но вспомнил, что у нее часто болит живот, возможно, от препаратов для похудения, поэтому обеспокоился и поехал к ней домой. Открывает.
— Что случилось? Ты нездорова?
— Нет, просто взяла и ушла, — ответила она с вызовом. Я опешил.
— То есть как это просто?! Ты не могла мне сказать, что уходишь?! Чтобы я тебя «просто» не искал. Я что тебя к себе привязываю? Хочешь уйти — уходи! Но ты же не в ауле — сообщи: «Извините, я ухожу».
«Извини». Я повернулся и ушел.
На следующее утро она сидела перед моим кабинетом. Вошла вслед за мной и с кавказскими истерическими нотами и придыханием, не извиняясь, быстро произнесла примерно следующее: «Я все поняла! Ничего не говори! Я не могу слушать!»
(Что Вы скажете, — она не может. Она извиниться не может — ну, кишлак!)
Такое впечатление, что извиниться должен я. Гордый и лично независимый аул.
Дома вышла из ванной со всем набором нелепостей ее тела.
Если каждую ее часть, кроме шеи и рук, рассматривать отдельно, они ужасны. А в целом, вместе с ее этими дикими движениями, грубой речью, резким смехом и высоким визгливым голосом, создается некая ущербная гармония, вызывающая сочувствие. Трогательно. Может, ее вздорное поведение — компенсация комплекса? Очень хочется думать, что комплексы в ней есть. Интеллигентно.
Она обнимала, гладила и нежно прикасалась ко мне.
— Что это с ней сегодня?! — недоумевал я, вновь удивляясь ее нечеловеческой чувственности: «Господи! Что это?!»
И вдруг, теряя реальность, утопая в пульсирующих волнах ее чувственности, я ощутил темные глубины ее клеточного дыхания, ведущие за пределы эволюции в бесконечные пространства зачеловеческого. Я обмер…
Началось яркое, удивительное и мучительное пребывание в подсознательном. Казалось, я спал. Но это не было сном. Да и спал ли я вообще эти полтора года?
Когда был с ней — не спал, чтобы не потерять ни одного мгновения ощущения ее; когда был без нее, она все равно заполняла мой мозг и мое тело.
В этом мире столько без сна не прожить. Но меня здесь и не было.
Гулом тысячелетий, глухим отзвуком прошлого, манящими вспышками будущего и безвременьем настоящего стала она для меня.
Дрожь плоти и оторопь бесчувствия, мрак непонимания и всполохи ясности ее «я», ее существования в этом для меня уже нереальном мире, когда все вокруг погружено в небытие и есть только — лицо, голос, изгибы тела, движения, ее богоданная чувственность, открывшаяся мне, — вот что было временем моего существования…
Когда я вынырнул из безвременья, реальность снова окружила меня, и при взгляде на женщину я понял: «Она не знает, кто она».
«Боже, что ты со мной делаешь?» — вот, собственно, и все, единственный ее возглас. Секс оставался для нее совокуплением, приводящим к оргазму, что-то в ряду удовольствий вроде туристических поездок, одежды, еды, хороших книг, косметических салонов.
— Господи, почему ты поместил такое в это скудоумное создание, в этот шедевр примитивных несуразностей, почему? — не понимаю.
В последующее время я, видимо, был нездоров. Многое ранее важное для меня потеряло смысл…
Вдруг у нее появилось новое увлечение — занятия иностранным языком. Углубленные. У нее дома, с преподавателем. Не ошибетесь, если предположите, что с мужчиной. И меня не удивит, если вы догадаетесь, о чем я подумал в аспекте, куда они «углубляются». Я был «против» по двум причинам: первое — бесцельно занятие иностранным языком — «чтобы знать», а на дому да с чаем — практически бесполезное времяпрепровождение. Язык она знать не будет.
(Ревную. — Это еще откуда? Но неприятно.)
— С точки зрения твоих соседей по площадке, мужчина, который приходит в квартиру незамужней женщины, вряд ли выглядит преподавателем иностранного языка, даже если он заговорит на нем еще на улице, — грубо заявил я.
Она озлилась:
— Да! Взяла преподавателя — высокого блондина с серыми глазами, я таких люблю.
— Блин, Пьера Ришара что ли? Литературщина какая-то, — сказал я. (Что делать — я черный, да еще плюсквамперфект, а в презент — седой, в тех местах, где не лысый. И глаза темные. Слава Богу, рост достаточный. А все равно, обидно.)
Поссорились…
Дождь на время прекратился. Он тихонько потопал по той стороне Фонтанки вдоль Летнего сада к Неве. Я пошел за ним.
«Что это меня все к Фонтанке тянет, как Раскольникова к Сенной? — удивился он. — Может, мне хотелось тогда перед ней пасть на колени? Это фрейдизм».
Тогда, в ноябре, ссора оставила осадок. Душевное раздражение и досада заставляли все время о ней думать. «Почему она так небрежно на мое самолюбие наступает? Надо плюнуть и уйти…» Но уйти я уже не мог. Вползал в неосознанную зависимость. Поэтому позвонил. Светский разговор — то-сё. Спросил, не поужинаем ли вместе? Согласилась. Ждал у моста.
Появилась.
(Вот, блин, Тегеран какой-то: темная кожаная куртка, черная юбка, сапоги черные, голова погружена в черный платок, частично завернутый на лицо, — и это все при ее восточных чертах! Все из хорошего дома и дорогое.
Жена беженца с Северного Кавказа и одновременно его вдова?
Хотелось спросить: «Уж, не на рынок ли мы собрались к родственникам? Где вы, Хачики, Исмаилы? Это пришли не ко мне, это пришли к вам».
— Запад есть Запад, Восток есть Восток. И друг друга нам не понять.)
Тут я приуныл.
Сейчас поедем к знакомым. Они не скажут, только посмотрят. Но этого достаточно. Сообщил себе удивительное: «Ну, не все же балетные, Давид. Ты, между прочим, с ней „у койке“ не Черного лебедя танцуешь». Один мой приятель на вопрос: «Почему ты встречаешься с такими неинтересными женщинами?» — ответил: «Ну, кто-то же должен».
Но я не должен. Мне, идиоту, хочется.
Вот, поссоримся, и «вернусь» в балет. Войду в члены. Тем более у меня там абонемент еще с «Березки». Начнем с начала ту же песню: «То березка, то рябина…»
Зато им Камасутру учить не надо. По сравнению с балетными эти поклонницы восточных единоборств — просто коровы.
Декабрь наступил какой-то не зимний — противный и сырой. Я встречался с ней реже, от случая к случаю, у нее вдруг появилась постоянная занятость: сегодня иностранный язык, завтра подруга придет ночевать, послезавтра еще что-то… А еще поездки к папе с мамой, тут уж ничего не поделаешь. Появился, наверно, кто-то? Вполне возможно.
В редкие встречи я с умилением наблюдал, как она с топотом шарашит из ванной с опасностью для окружающих предметов. Конечности, особенно стопы: крупные — беловаты; немного дискоординирована — ходит чуть-чуть уточкой, переваливаясь. К тому же экзофтальм и какие-то мелочи, в частности нарушение цикла. Во что это складывается? Нужно показать эндокринологу и гинекологу. Волосы излишне выпадают? — Дерматологу… А почки?.. — Я начал водить ее по врачам…
Встречи становились все более редкими и прохладными. Опять что-то с ней происходило, какая-то другая жизнь. Выяснить не удавалось. Но впечатление, что она меня избегает, было. И никаких объяснений, несмотря на намеки. А это уже хамство.
Холодный, спокойный, невинный взгляд — монахиня штопаная. А известно ли тебе, что колючую проволоку придумала именно монашка?.. Я немотивированного хамства не переношу. И не забываю. Рассчитаюсь стократно.
Блистающие ледники и теплые арыки в долине; зной Кара-Кумов, когда в клочья разрываются баллоны на дисках; ледяной, узкий серпантин у перевала на Таштагол — колеса скользят и виснут над пропастью, а там, внизу, не видно дна — только облака и парящие над ними птицы; киты в Татарском проливе, страшное течение Амура у Гнивани, Красное и Средиземное моря, где я тонул, и Мертвое море, где утонуть невозможно…
— Что-то у тебя есть, давай, колись!
Допросился. Рассказала. Лучше бы не просил, а убил суку.
— Позвонил мне «Он», человек, с которым мы расстались, — он меня бросил. (Не может быть! Как же он посмел. Вот это все бросил? Так много? Он человек щедрый.)
— Единственный, кто был до тебя. (Ну, надо же — опять второй! Где-то я подобное слышал. Серебряный призер? Как все. Пиздит, конечно, но приятно. Ладно, послушаем дальше.)
— Ты знаешь, он меня не соблазнял — это я его соблазнила. (Мне это нужно знать? Кстати, а я тебя соблазнял? Или как он?)
Я ее не прерывал, просто отвечал про себя…
— Он встречался с моей подругой, и я сделала так, чтобы они занимались сексом (ты давай проще — еблись, что ли?) у меня дома. (Коварная Медичи какая! Ты заманила их к себе в дом, чтобы подсыпать ему в сперму яд? Хотела ее им отравить? Догадался…)
— Я не понимаю, он у тебя первый или нет.
— Нет, он у меня не первый. Я спала еще с одним, но оставалась девственницей. (Это забавно. Если бы забеременела, могло сойти за непорочное зачатие. Доказала бы в суде — прецедент был. Может быть, тебя даже канонизировали бы, дуру. Как блядь невинную. А я, выходит, третий. Любопытно, каким я приду к финишу.)
— Я так его хотела. (Вторая по значимости мотивировка к половому акту — см. учебник сексопатологии — стр. 211.)
— Я прямо сгорала от страсти. (Это описано. А все почему? — потому что жила в большом своем доме с многими комнатами. Жила бы, как все, в одной комнате в коммуналке — с детства могла бы видеть, как мама с папой занимаются этим, и не вызывала бы у тебя такая безделица нездоровой экзальтации.)
— Потом я уговорила его лечь со мной! (Вот эту часть поподробнее, пожалуйста, и с картинками. В какой момент уговорила? Достала ли сразу его член из ее промежности и задвинула с криком боли и торжества в себя или сначала отвела в ванную, чтобы отмыть выделения? Он успел с подругой кончить или нет, а то бы пришлось подождать какое-то время. Или ты прямо вместе с собой завалила его на подругу — вопрос важный в плане мотивации. Подруге, наверное, было тяжело физически и морально. Надо посмотреть что-то подобное в животном мире.)
— Тогда подруга поссорилась со мной. (Удивительно. А должна была аплодировать? «Ну, почему же она поссорилась со мной из-за такой ерунды, что я ей такого сделала?» Как это мило, чисто и наивно.
Ну понятно, только что лишилась девственности, считаешь, что все должны разделить с тобой это счастье.)
— До этого мы встречались одной компанией.
— Ему сорок лет, он женат, но с женой они живут свободно. (Как свободно — как птицы? Клюют друг друга потихоньку?)
— Жена спит со своими дружками, а он — со своими подружками. (Оригинально.)
Он такой неповторимый, такой непревзойденный в сексе! (Да, ну?! А откуда ты знаешь, какой он неповторимый? Ты же была девственницей. Ага-а-а, догадываюсь — я вышел из призеров. Слушай, может, потом его кто-нибудь повторит, если того, следующего, с подругой ты опять уложишь на себя?)
— Сейчас он больше не хочет спать со мной, и я вся извелась. (Может, потому, что боится повториться? Ты же прервала его коитус с подругой, выдернула член, а это не физиологично. Может, он не не хочет, а не может с тобой, потому что ему противно? Может быть, ему всегда с тобой противно, как мне сейчас. Слава Богу, история вроде бы движется к финалу…)
Я собрался уходить.
— А еще он заразил меня сифилисом. (Пардоньте, ошибочка — оказывается это только завязка. И потом, что означает «еще»? По-моему, одного сифилиса вполне достаточно.)
— Он этого не знал, это я заметила. (Откуда ты знаешь, что он не знал. Может знал, да не сказал. Ты так быстро впрягла его, что он только успел пискнуть «Мама!».
— Тогда он уже заразил нескольких женщин и жену, потому что спал со мной и другими одновременно. Он всегда рассказывал мне об этом. Мне это неприятно, но он такой откровенный, он сказал, что он таким был и будет всегда. (Не человек — монумент! Ну, а ты? Дура — это лапша. Довольно инфантильная. «Таким я буду всегда!» Он просто на тебя положил. С другой — я тебя уверяю — он так однолюбив и чист — закачаешься… Ты что, действительно ему веришь?! Я знаю откуда ты — из Урюпинска).
— Мы все вместе лечились. (Интересно, это она по глупости или намеренно?
В какое изысканное общество ты попала, если вендиспансер считать Версалем.
А как они держат вилку и нож?
А во рту у тебя или у них не было первичной сифиломы?
Анальное отверстие тебе доктор тогда осмотрел, любимая?)
Я смотрел на ее спокойное, безмятежное лицо.
Спросил: «Ты что зомбирована? Ты не понимаешь? Сифилис не болезнь — это клеймо. На всю жизнь. А твой недоразвитый (кто?) наверняка тебе сказал: „Ерунда, два укола и все!“ Нет — это начало, последует продолжение. Посмотрим лет через десять-пятнадцать, если доживешь».
Он вышел на набережную Невы и остановился, облокотившись на гранитные перила горбатого мостика через Фонтанку. Темная вода Невы покрылась рябью. Он видел тот декабрьский вечер и свой шок от ее рассказа, и как он сделал все, чтобы она не заметила его состояния.
Нужно было бежать, как от лавины, когда ты в солнечный теплый день спускаешься по целику в кулуаре, наслаждаясь легким и искрящимся снегом, глубоко подсев назад, чтобы носки лыж не зарывались в снег, и вдруг слышишь вверху легкий хлопок, и ты знаешь, что это, и стремительно большой дугой уходишь вниз и в сторону, вниз и в сторону, чтобы лавина не догнала тебя, не зацепила, смяла, завертела и раздавила насмерть или, в лучшем случае, отбросила на склон в виде мешка с костями, с разодранным от крика, забитым снегом ртом… Нужно было бежать.
Не было бы потом нескольких месяцев тщательно скрываемого стыда, отчаяния и тоски. Но он сидел и слушал, парализованный вековым контрастом между видимым и сутью женщины.
— Я все делала, чтоб он был со мной! Я возила его к родителям.
Но он не хочет меня! А-а-а-а!
Рот противно раззявился, и она заревела.
(Ей любви не надо, ей нужно, чтобы ее хотели. Немного, сука.)
Что-то в ее горестном признании было абсолютно ложно. Какое-то самолюбование. Она, мне кажется, внутри даже гордилась собой. (Тебе достаточно давать всем, кто бы ни попросил? Лишь бы попросил. Ну, это правильно. Для этого вас и придумали. И венерические клиники открыты круглосуточно. Не очень верится в глубокое горе твоей безответной дерьмовой страсти.)
Может, она себе представляется гордой героиней роковой любви: «Да, он — подонок, но…»
Он хочет, я хочу — вот и вся любовь, все мечты.
Мифы у вас, леди, какие-то постирушные. Омылки. Как у проститутки по поводу сутенера. Отдохновение от блядства.
Что ж я так лопухнулся-то? Господи, стыдно-то как. Ей всего-то и надо, чтоб потрахаться. А как же та ночь?
Этот метеоритный, искрящийся поток чувственности? Дыхание пророков?
В ночи таких откровений, возможно, рождаются гении и святые.
Ты в своих цыплячьих совокуплениях превращаешь влагалище в обычный членоприемник, стирая свое предназначение, а оно у тебя есть. Страх не успеть к раздаче удовольствий? Смотри, судьба не простит, она — женщина суровая.
Сифилис — только начало, только предупреждение. Увидишь.
(Врезать сейчас по ее невинной роже?)
Мир распался, свет померк, и внезапно я увидел свою душу. То, что я увидел, не имело отношения ни к дыханию, ни к свету.
Это была пульсирующая, тонкая, но не прозрачная, прочная преграда из какой-то живой ткани — занавес между мной и невидимым, но явно ощущаемым темным пространством по ту сторону — нестрашным и манящим. Я успокоился, как вдруг снова ощутил унижение и стыд, и ярость ослепила меня! Черепная коробка треснула.
Весь этот коктейль, замешанный на судорожных и безнадежных вспышках неприятия обжег меня ненавистью.
Обжигающий, пустынный ветер, набирая силу, свернулся в бешеный вращающийся огненный смерч, который, разорвав меня на части, ударился о мою душу и прожег ее. Образовалась черная обугленная дыра. («Ты разорвала мне душу!») Там, в глубине что-то было, но чтобы увидеть это нужно было туда броситься. Страха я не испытывал. Я бросился и там увидел ее, Юлию, безжизненными, ледяными глазами — глазами непрощения.
Я увидел ее жидкие, выпадающие прямые волосики, лупоглазые, большие, но невыразительные птичьи глаза. Ее крикливый, тонкий, с противными истерическими нотками и хрипотцой голос, ее дряблую, старушечью, в многочисленных рубцах после похудания кожу и обвисший жабий животик. Жалкие, пустые, как две висящие тряпочки, груди, рыхлые, толстые, целлюлитные бедра, бездонную черную дыру вялого влагалища, когда она стоит «раком» и лиловые половые губы приоткрылись, а из них на волосатый лобок стекают зеленовато-белые выделения, и я, ненавидящий, завороженный каким-то проклятьем, ввожу член, испытывая наслаждение рокового, порочного, непреодолимого желания, противоестественного, как совокупление с матерью.
Она продолжала что-то говорить…
(Что меня удерживает около этой девахи? Своя баба? Да, нет. Какая там «своя» — секуха!)
Улыбнулся: «Ну, что ж, будем считать, что сюрприз удался. Я пойду».
Валил мокрый снег. Ветер. Темно. Внезапно я почувствовал приступ тошноты, озноб, боль в области сердца. «Примерно так начинается инфаркт. Хорошо бы с коротким болевым приступом и обширный — не хочется затруднять коллег в кардиореанимации». Началась рвота, и боли уменьшились. Я дошел до Знаменской.
Попрошайка у супермаркета уже не мог стоять, а синюшный и бесчувственный сидел у своего костыля.
«Ну, ты-то меня точно обгонишь, если будешь так продолжать, — про себя сказал я, — или если моя подружка не расскажет еще какую-нибудь занимательную историю о себе». Пожалуй, расскажет.
Боли окончательно не прошли, было одиноко, я спустился в какой-то подвал, где за стойкой стояла полная, с оценивающим взглядом; взял графинчик водки, бутерброд с кетой и стакан…
И сама налила чудаку полстаканчика, Не видали в шалмане подобные почести, А Тамарка, в упор посмотрев на шарманщика, Приказала: «Играй!..» — Человек в одиночестве.Почему история, как две капли воды похожая на другие, приобретает неожиданную остроту, вызывает боль и непонимание, когда это касается меня?
Возьму бутылку и зайду к Пете Татарникову. Когда-то с ним меня познакомил Сережа Снежкин. С ним и еще с Мишико Калатозишвили. Они тогда находились в состоянии юности и будущего величия.
(Они — лучший подарок Снежкина мне.)
Бутылку разопьем — один я пить не умею. Поэтому, возможно, и не могу жить за пределами многострадальной от пьянства Родины. Хотя пытался.
Однажды много лет назад я захотел выпить и начал обзванивать друзей. Как назло, одних не было, другие были чем-то заняты, третьи болели. «Ты знаешь, старик, с удовольствием, но сегодня никак не могу». То есть «ни на двоих», «ни на троих», ни «на компанию». Ситуация для нашего миропонимания катастрофическая — уж чтобы выпить не могли?! Праздник был испорчен.
Тогда я попросил их всех написать автопортреты. Мысль была такая: ставишь бутылку на стол, наливаешь стакан, смотришь на портрет друга и предлагаешь: «Дернем?» И никаких отказов — всегда отвечает: «Наливай!» Всегда свободны и не болеют.
Кое-кто предложил фотографии.
(Это надо же!)
«Вы недопонимаете слово „живопись“. На ваших поминках с вашими фотографиями я еще успею выпить. Или на кладбище. Но это уже без вас.
Но пока хоронить вас я еще не собираюсь».
Петя откроет мне дверь со своим обычным, угрюмым выражением лица, вызывающим желание спросить: «Петя, что-нибудь стряслось?!»
«Да ничего, — ответит он с возмущением (все спрашивают, надоели), — просто я всегда такой. У меня такое лицо».
Это правда.
Потом на лице появится осторожная усмешка. Желто-серые глаза посмотрят с озорством, пряча понимание.
Его усмешечка останется с ним на весь вечер. Он будет что-то рассказывать, показывать свои последние работы, терпеливо ожидая, когда я наконец скажу, зачем пришел. Он очень тактичен — осколок древнего дворянского рода. И интеллигентен.
(Как же я расскажу ему про все это дерьмо? Я не могу. Стыдно. А больше некому.)
Интеллигенция — эта несчастная, русская женщина. Исхудавшая, плохо одетая, часто больная, излишне эмоциональная и надломленная — эта прекрасная и, несмотря ни на что, вечно молодая девица ошеломляет своей скрытой красотой, светом доброты, независимости и истины тех, кто умеет смотреть.
И сколько бы эта лживая сука-власть ни домогалась ее любви — не получается. Она пыталась принудить ее к сожительству силой, недоеданием и холодом, тесными клоповниками маленьких комнатенок в коммунальных квартирах, доносами, цензурой и тюрьмой — впустую.
Сейчас, притворяясь доброй, любящей независимую прессу и свободу, натасканная своими советниками, имиджмейкерами, прикормленными ею деятелями театра, литературы, кинематографии, подкрашенная и обновленная купленными художниками, прославляемая артистами, певцами, декламаторами — всей этой кодлой опущенных ею прихлебателей, она пытается соблазнить интеллигенцию, облизывая подарками и наградами ее тело, совращая славой, затыкая ее рот своей вымытой и надушенной, затасканной половой щелью; любыми способами она пытается склонить ее к противоестественному однополому акту любви.
Любви не получается. Она ведь очень смешлива, эта девушка! Можно, правда, изнасиловать. Что и делается.Я думаю, что мира как объективной реальности с течением в нем времени нет. Я не замечаю течения времени и происходящих в нем событий. Постоянно думаю о ней — на работе, дома, на улице. Рассказать кому-нибудь, что я почти полгода сплю с сифилитичкой?! Вылечившейся, правда.
Дурной сон? Я начал видеть сны? Так я не сплю вовсе. Или сплю наяву? Совершенно отчетливо и точно вижу свое прошлое, а когда видения проходят, окружающая жизнь, потеряв длительность, кажется сном. Может, так и есть…
В этом видится что-то китайское. В Совгавани было много китайцев… Или корейцев. Я их не различаю…
…Я снял лыжи и вошел в дом, где меня ждала встревоженная мама.
— Убью тебя когда-нибудь, — сообщила она мне, пытаясь отпаивать водкой из пипетки заболевшую курицу. У нее с курами и утками была взаимная страсть. Только наши «птички», завидев ее издалека, стремглав, с кряканьем и кудахтаньем неслись к ней вниз по пыльной дороге. Подсобное хозяйство. С целью получения дополнительных белков.
— Я сегодня была в школе. Вызывали. Когда прекратятся непрерывные драки с Бородиным?!
— Он хочет мою бляху.
— Так отдай ее.
— Не могу. Это подарок от нашего шофера.
— Он что, тебя в школу подвозит? Несмотря на запрет папы?
Я промолчал. До школы было около трех километров. И мороз — 35 градусов.
— Пожалуй, подарок отдавать нельзя, — заключила мама. — Выясните, кто у вас главный на дипломатических переговорах, и прекратите эти бородинские сражения, а то он тебе глаз выбьет, Кутузов!
Я опять промолчал — это было невозможно.
— Ладно. Иди посмотри хотя бы, как выглядит учебник математики. И прекрати исправлять в дневнике двойки и единицы на другие более достойные отметки. А бляху сними! В драке побеждает не оружие и тем более не сила. В драке побеждает характер.
Юля в одну из наших ссор принесла в целлофановом пакете и вывалила на стол все мои забавные сувенирчики, которые, видя в окружающем мире только ее, я приносил ей, испытывая не свойственную мне стыдливую нежность.
— Хочешь обидеть меня, тварь?.. Тебе удалось!
В кабинете прокурено. «Ай-яй-яй-яй — нельзя врачу курить на работе! К тому же белый язык и отвратительный привкус во рту.
А когда с вонючими ногами в кабинет? Это, пожалуйста?»
У нее ноги не пахли. Или пахли? Всегда в носочках. Носочки — сосочки… Соски на ее висящих грудях высокочувствительны. Целовать их приятно, и она подрагивает. Замечательно, что можно засунуть себе в рот оба соска сразу — висящие титьки позволяют.
Строит изогнутую линию на компьютере. Графика. Грудь, как баклажан… Баклажаны она нарезает тонко, обжаривает, что-то туда добавляет. Они пристают к нёбу, и на нёбе привкус жира…
В рубашечке. Напротив. Откинувшись на стуле. Одну ногу согнула и положила под себя. Там, в глубине, между холмами ног покрытый темными волосами, бугор, а под ним разрезанный баклажан, правда, не белый, а красный в глубине. Оттуда появляется серая сыворотка, каплями выступает на волосиках, а затем затягивается обратно в глубину. Напоминает какое-то морское дышащее животное.
Прекратить жевание! Залезть под стол — и броситься туда прямо с головой.
Не могу нарушать трапезу — воспитан.
Салатные листы, как и ее подмышки, — влажные. Спина и живот мокрые.
Время половина первого — пора заканчивать прием. Дефлоратор, которого она на себя завалила и который, прежде чем девочку трахать, не потрудился на член свой посмотреть и помыть его после последней случки или сходить на профилактику, а просто совал его во все отверстия, удивляя нашу барышню? А как же безопасный секс? Он бы полез к ней прямо под столом, жуя баклажан?..
Широко раскинув ноги… Кофе в «Чашке» хороший, но не домашний. Ее попка на уровне кофейника, большая и белая, как газовая плита; бедра длинные, тяжелые — без щелей.
«Возьми меня сзади» — наклоняется над диваном, чуть раздвигает свои бедра так, что видно зияющее бледно-розовое влагалище, и ждет… Белая корова с задранным хвостом на зеленом холмике… Будет мочиться или ждет быка? Снимешь трусы и трусишь к ней. Не к корове, конечно…
Стоит над плитой. Черная аккуратная головка на длинной шее, большие глаза травоядного, передние лапки тонкие — что-то держит. Ушки. Складка живота свисает до промежности и закрывает лобок, как сумка. Длинные ноги с мощными бедрами, зад — сундуком… (Нет, не корова. Кенгуру, конечно. Она произошла от кенгуру! Утраченное звено эволюции: приматы — Юля, то есть кенгуру, — человек.)
Иду по Большой Морской на выставку Феликса Волосенкова, посвященную как раз этой теме.
Последние годы Волосенков впал в язычество. Непосредственное общение с Богом Волосом, близость с которым он ощущает и даже может это доказать, приводит его к совершенно неожиданным мировоззренческим концепциям.
Поиски такой химеры, как утраченное звено эволюции, по непонятным мне причинам лежит почему-то в русле его языческих ощущений, что при его эрудиции и таланте наводит на мысль: «Он нас всех дурачит».
Меня — точно.
В его теологических выкладках явно прослеживаются элементы политеизма. По крайней мере, так, запросто, взять Бога в собеседники — черта абсолютно иудейская.
Что же касается утраченного звена, то ему здесь виднее — он ближе к первоисточнику.
Что бы он сказал о моих кенгуриных догадках? В отличие от приматов кенгуру всегда на двух ногах. «Прыг, прыг» — из ванной в постель и назад. «Прыг, прыг»…
«Баварец — переходная ступень от австрийца к человеку» — Фон Бисмарк. Этот, как видите, построил уже не звено, а целую цепь.
Таких два ума изредка тоже бывают в умопомрачении, как выясняется…
Отчаяние. Пустота и отчаяние. Бред.
«У меня побаливает спина». (Естественно, Юля, расплата за хождение на двух ногах.)
Это сон или явь: о твоей мастурбации, подсмотренной мной, о болезни твоего вечно раздраженного клитора и моих болезненно эротических фантазиях: откуда-то появляется эта сундукоподобная задница, и где-то за моими ушами раздвигаются длинные, жирные, заканчивающиеся белыми носками ноги. Момент семяизвержения оттягивается: отвлекают носки, хлюпание во влагалище и поиски исчезнувших в подмышках сосков. «Не могу я больше! Умучился».
А может, это мазохизм? «У меня мазохизм!» Какая новость! Автора этого прекрасного времяпровождения звали Зохер Мазох. «У меня — захеризм».
(С Юлькой все-таки — скотоложество. Сейчас кончим и, блея, поскачем на лужок. Метемпсихоз?)
«Больной хочет сохранить крайнюю плоть…»
«Зачем, без нее гигиеничнее». Объяснял. Не хочет понимать. Ладно.
Гора салата. Овощи в сметане. Сыр. Белое в складочку тело.
Опять — удручающе выступающий лобок в черных волосах… «Есть на Волге утес». Интересно, случались переломы члена о лобок? Бред.
Пах до половых губ выбрит. Красные пустулки раздражения. Как прыщики. Прогулка языком от шеи до щели заканчивается синхронно с взятием ею моего члена в рот. Глубоко. Покусывает. Царапает. Лицо сосредоточено — старается. Терплю. А то нетактично.
«Нетактично есть много сыра, когда она худеет».
Как кусочки сыра, засохшие выделения по краю влагалища…
Она сидит на мне мокрая. Из нее вытекает прямо мне на мошонку. Так ей болезненно и нравится — еще помнит дефлорацию.
Тогда этот ущербный целколоматель не подумал, что под ним девочка, и трахал ее грубо и безразлично, приучая к ощущению боли. (Возможно, как гипотеза.)
На ее лице появилась жестокая восточная ухмылка — собирается кончать. Так вот в чем дело — примесь восточной крови требует грубости, боли, насилия, унижения, в том числе унижения безразличием. Относиться к ней как к падали? Наш дефлоратор просто попал в струю.
«Белое тело дьяволицы…» Эти веселые поиски ее отвисших сосков.
Ну, что я мучаюсь? Сама сказала: «Позвони…» Позвоню!.. Рехнулся?
Это унизительно! Не буду я из-за пизды! Даже не извинилась!
Не вникает аул, что близкому человеку (ноги-то раздвигала) слушать такое признание — не «травку» курить.
Ты в каком городе теперь живешь? Здесь перед каждым домом нужно останавливаться и говорить: «Извините».
Вытаращила зенки сурово…
«Не будем мы тебе за блядство аплодировать».
Извинись, иначе в приличный дом пускать нельзя.
«Извини, я не хотела, я не понимала». Не унижай меня, тварь! Я ведь на тебя рассчитывал — хотела ты этого или нет.
Не обращаешь внимание?! Меня нет?! Поторопись! Я начну платить по счету.
(Господи! Как трудно! «У тебя сердце-то есть?»)
«Молюсь, чтобы вдали от дома… ты понял, что такое сердце и как оно чувствует».
Сердце мое ныло почти каждый день, и каждый день я ночами шатался по городу. Январь подходил к концу.
Она не звонила.
Нищий у супермаркета изменился мало, и я думал, что если так пойдут дела, то, возможно, к известному финишу приду первым я, а не он…
Еще две недели прошло. Не звонит.
В декабре у нее был день рождения. Собирались отметить.
Ночной город все тот же: мокрый снег, туман, слякоть, озноб. Все тот же набивший оскомину «чижик-пыжик».
Видно, еще не унесли его на металлолом сподвижники по курению «травки» моей дорогой возлюбленной. И нищий у супермаркета куда-то пропал.
Отвезли в лечебницу?
Я практически один.
Тогда я стоял на перевале, над урочищем Чембулак, один, греясь на солнышке. Все судьи, которые просматривали трассу завтрашнего спуска, уже скатились.
Снизу задуло, ветер нагнал в ущелье туман, видимости внизу не было, и спускаться стало небезопасно. Я решил переждать. Спускаться направо в долину было бессмысленно — выката оттуда не было.
Там, невдалеке, за вершинами, лежал Иссык-Куль, а если через долину уйти налево, то недалеко и до границы с Китаем.
Было тепло. В глубоком пушистом снегу рядом со мной плавали две куницы. Легкие, они тем не менее проваливались в снег полностью, оставляя на поверхности кончики своих пушистых хвостов. Они ныряли и появлялись и вдруг — исчезли.
И тогда из-за хребта в шагах тридцати от меня, как мне показалось, появился он.
Я слышал, что барс не менее опасен, чем тигр. Впрочем, это не имело значения, так как оружия у меня не было, а если бы и было, я все равно не умею им пользоваться.
Бесшумно и неторопливо он двинулся ко мне, подрагивая хвостом. «Нехороший признак», — подумал я.
Я испугался, но почему-то не очень. Видимо, не осознал. (Встреча с барсом — редкость. Они пугливы.)
Барс остановился довольно близко от меня. «Достаточно для прыжка». Желания бороться за жизнь не было никакого. Мы посмотрели друг на друга.
Говорят, что животное отводит глаза от взгляда человека. Этот не отводил. Видимо, уже считал меня пищей. Он смотрел на меня почему-то голубыми, безжалостными, изучающими глазами…
Прошло несколько долгих, очень долгих секунд. Затем барс неторопливо повернулся и исчез за перевалом…
Внизу прояснилось. Стали видны склоны. Я спустился до «лавинки», где хозяева-скалолазы готовили в мою честь бешбармак. Водку из долины я поднял еще накануне. Налил стакан, руки мои слегка дрожали. Я основательно напился у них и уснул прямо на полу.
Сейчас эта женщина кажется омерзительной и страшной — все эти дремучие заросли в промежности, эти темно-коричневые, бахромчатые, покрытые волосами снаружи и сине-розовые внутри, жадно приоткрытые половые губы.
Лихорадит. Мутный и дрожащий окружающий мир. Озноб.
«Ты позвонишь?! Будешь извиняться или ждать, пока я от тебя камня на камне не оставлю?» Я не хочу видеть тебя такой! Нет, не хочу!
Опять белые носочки. Тоже ведь — эпопея! Представьте себе, практически она их не снимает никогда.
Как в гробу.
И когда трахается — тоже.
Направленные в зенит и разведенные, мощные, увенчанные носочками торчат ее ноги, а между ними, у основания этой пирамиды, где тепло, копошусь я, добывая трением оргазм.
А дело в том, что у нее ноги постоянно мерзнут. Не женщина, а передвижной госпиталь.
В тему…
Холодно на улице.
Как в ту новогоднюю ночь…
Я провожал Ванечкину девушку домой, на Исполкомскую. Почти дошли до дома — какой-то темный переулок, упирающиийся в ее парадную.
Из подворотни двое длинных, внезапно. И сразу нож у живота.
«Шубу, пальто и деньги — по-быстрому!»
Холод в животе. Тоска. Время потекло медленно-медленно, в нереальности.
Лица плохо видны.
Снимаю с себя шарф — целую вечность. Передаю тому, у которого нож. Он отводит руку с ножом от живота и двумя руками подхватывает шарф.
Неловко ударяю его в лицо, выталкиваю девушку на мостовую и кричу: «Беги!»
Мгновенно. Второй стоит, как мумия.
Время стремительно полетело. Перебегаю на ту сторону переулка, где у ремонтирующегося дома грудой лежат кирпичи. Поднимаю один. Возвращаюсь.
(Зачем? Стыдно за мгновение страха?)
Они ждут меня.
Выбросил кирпич — неудобно. Снова ударил того, что с ножом. Опять не очень удачно. С их стороны никакой активности. Получил по морде и стоит.
Присмотрелся — оба бухие.
Из парадной, где живет Ванечкина девушка, вывалилось несколько мужиков в рубашках и галстуках — это в мороз-то.
Торопливо направляются к нам.
Двое повернулись и неспеша пошли по переулку…
Никто их не догонял.
— И представьте себе, вот я на ней женился (а ведь был готов) — через неделю эти замечательные внешние данные, кишлаковое миропонимание и истерические горные выкрики доведут меня до катарсиса.
А как будет раздражать то, что сейчас радует? Это отдельная тема. Большая. Потребуется эссе. Там я напишу про подружек — важный нюанс.
Особенно одна — тронутая на сексе «мечтательница».
Каждый раз у нее «мужчина моей мечты».
Сейчас некто богемный с велосипедом и «жуткой» эрекцией.
Когда я ощупываю ему брюки, он у него такой большой и крепкий… Белесые ресницы и удивленно-простодушный взгляд серых глаз — естественно бесстыдна. «Но он почему-то со мной не спит, не хочет — говорит, что жена».
(Видимо, у них с Юлей одна проблема.)
«Ты как-нибудь все-таки воткни его в себя, а то он велосипедную раму хуем переломит, и возникнет уличный инцидент. Даже ДТП».
Или она обкуренная всегда, или экзальтированная, не понять.
У супермаркета нищего по-прежнему нет. Плохой признак.
«Господи, пусть она оставит меня в покое! И где она?! Где? Может, больна?»
Как у собаки, которая не знает, где находится ее хозяин, у меня появлялось беспокойство.
«Это не она больна, это я».
Не звонит. Хорошо, позвоню я.
Позвонил. Вежливо попросил десять минут для разговора. Последовало приглашение. Пришел.
Она стояла у открытого окна с сигаретой. Слушала. Ей не нравилось. (Да и кому понравится?)
Не более.
— А я хочу, как все, — лежать и читать, ходить в парикмахерскую, на массаж и в магазин. И нигде не работать. Разве это плохо?
— Это не плохо. Только за чей счет? Чем будешь расплачиваться — венболезнями?
— Не понимаю только, как боги, создавая твою плоть, забыли про твой дух? Видимо, надеялись на тебя.
Так что какая-то надежда у тебя есть, пока.
Не удостоила ответом.
Тогда вот что тебя ждет, примерно: сувенирная лавочка. Торгуешь, счастливая от непонимания. И раз в неделю секс — после подсчета выручки.
Или, возможно, через много лет. Дома под электрической настольной лампой. Одинокая. Больная. Брошенная всеми. С хроническим воспалением глаз и книгой в руках. Седая. Закутанная в теплую шаль. В носках.
Ты не любила, и тебя не будут любить.
Ученик, вечная сигарета во рту. Язвительная. Репетитор.
Все-таки достойней, чем в лавке.
Так будет, если ты не разозлила судьбу. Я ведь тебя долго не видел. Может, уже поздно.
И поплывешь ты по своему Обводному каналу, совокупляясь с отбросами.
Он вынесет вас в залив, к отстойникам.
Там ты и останешься: с посещением вендиспансеров, гинекологических клиник, в обманчивом сумеречном свете существования в этом заросшем и смрадном болоте, которое и будет твоя жизнь.
Тебя будут щупать за вялые груди, прижиматься, механически лихорадочно флагеллировать, чтобы получить в итоге жалкий и слабый абортивный оргазм.
А очищенная, прозрачная вода потечет дальше в океан, где плавают крупные, здоровые и быстрые рыбы.
Как люди молодые и сильные, ощущающие долг перед предками, которого лишена ты.
И когда в коротких пароксизмах понимания ты шепчешь: «Какая я помойка!» — это вселяет надежду.
Она мне звонила целый день, но я вернулся только поздно вечером. Был занят.
Звонок: «Я тебя просила все это говорить? (Без „здрасьте“.) Мне плохо, я не могу!» — упавшим, отчаянным голосом, горестно всхлипывая.
— Я сейчас приеду.
Открывает в халатике, в пресловутых носочках — вся зареванная. Волосенки на голове непричесаны, редкие; глаза красные, настроение, видать, я ей испортил.
— Зачем ты мне все это наговорил, теперь не знаю, как мне жить?
Вот тебе на! Кто бы мог подумать? Переживает.
Расстроился сам. Честно говоря, не ожидал. Говорю что-то, глажу по голове, обнимаю, вытираю слезы, чувствую ее тело, его мягкую податливость.
Не люблю я мириться в постели — как-то пошло, но жалость, жалость и желание ее прикосновения…
Когда я стал ее раздевать, она вдруг выключила ночник: «Я стесняюсь».
Неужели это она произнесла?! После всего этого дикого опыта?! Она стесняется! Как это замечательно. В их жизни «я стесняюсь» — раритет.
И вдруг я снова провалился в некий звездный, искрящийся мир, где в глубине ощутил запредельное, неземное чувство ее плоти, дышащей страстью пророков, горячих неизвестных звезд. Я снова исчез на мгновение — мгновение, которое стало моим отдельным существованием.
Я взглянул на нее — на лице ничего. Да, у нее долгий путь. Буду ждать.«Господи, — думал я, — ты дал женщине это уникальное генетическое богатство, этот тканевой беспредел — так дай же ей разум это осознать! Ведь ты такое не даешь навечно. Как поделиться, как объяснить?»
Я стал осторожен и нежен. Такой брезгливый от природы — я вылизывал ее оскверненное болезнью и грубостью лоно, ее клитор. Я слышал благодарные, нежные стоны. Что тянуло меня в эти вылеченные, но скомпрометированные болезнью места — любовь, жалость, страсть? Не знаю. Не понимаю. (Может, сублимация некрофилии?)
Иногда в глубинах ее естества ощущалось дыхание вечности, близкое, наверное, к смерти. Что это было? Не знаю.
Она снова рядом, и этот волшебный покой и безмятежность снова вернулись ко мне. К тому же она была уже другая — мягкая, лучшая, деликатная и ласковая, неожиданно уступчивая. И в близости она стала совсем иной — исчезли эти убогие заученные приемы, появилась некая застенчивая скованность, нежность, какое-то внутреннее самоограничение. Губы стали добрыми, не получающими, а отдающими, как и ее внимательные движения. Был в нашей близости какой-то незнакомый посторонний привкус, и тело мое тогда говорило — «доверять нельзя».
Время от времени в меня вливалось и наполняло до краев потрясающее ощущение ее, до последней клеточки, и я проваливался туда, где есть настоящая она. Эти ночи стоили жизни, унижений, стыда — всего…
Она сидела на краю дивана голенькая, поджав и охватив руками ноги и положив голову на колени, нежная и хорошенькая, как маленький осьминожек, сидящий на камешке на дне Совгаванской бухты.
Я лежал на небольшой скале недалеко от берега, греясь на солнышке, и смотрел в воду.
Зеленая, прозрачная, холодная вода просматривалась глубоко до дна.
Толпа маленьких крабов, относимых прибоем, снова поспешно стремилась к скале, заросшей снизу водорослями. Они забирались выше воды, чтобы затем, пятясь боком, свалиться обратно в море.
Длинные зеленые и багровые водоросли поднимались ото дна к поверхности.
Вдруг стремглав вылетала какая-то рыбка и, дрогнув хвостом, исчезала…
Прошла еще пара недель, и все покатило, поехало по накатанной колее ее психологических циклов. В гармонию наших с трудом восстановленных взаимоотношений стали врываться уже знакомые диссонансные, резкие, дисгармоничные звуки — иностранный, подруги, родители и т. д. и т. п.
Отказывает по телефону невежливо и безразлично-утомленно, мол, «достаешь» ты меня.
«Непонятно, опять кто-то новый появился или кто-то старый?» Как мне это надоело.
Позвони, скажи: «Извини, дорогой, все кончено, расстаемся». Красиво.
И разбежались. Я наступлю на себя. Тогда я смогу.
Да, что я — бык на привязи?
Гусыня. Домашняя откормленная гусыня с зобом, набитым баклажанами. Перчики, огурчики, помидорчики, травка… Аккуратное жевание… («Сделать тебе кофе?») Мое колено между ее бедер… Чувство ирреальной зависимости. Сумеречное ощущение биологических глубин… Истерия пола, откуда? Может, там, далеко в черных дырах генетической вселенной, в ее гусиное стадо залетал лебедь? Отмеченные дефектом Y-хромосомы?.. И этот же лебедь около моих предков? Невероятно! Между ними залегали такие расстояния… Он что, многоцелевой истребитель с неограниченной дальностью полета? Тогда таких не было, уровень развития техники не позволял. Откуда же эти генетические несуразности? Откуда все-таки этот биологический раритет?
— Но она тебе все-таки что-то дала? — это Ира, моя подружка.
— Да ничего она мне не дала, кроме своих заплеванных половых органов. А всю ее остальную создал я, да и существует она только в моем воображении. Но я думал, что создал ее из своего ребра, а она из глины. Из глины и грязи своего аула. В такую душу не вдохнешь. Да и не надо — она ей будет только мешать. И среди таких же глиняных истуканов, состоящих из желудков и промежностей, ей будет хорошо!
Раздражающая, отвратительная безысходность отбрасывает меня в сумерки, и я вновь вижу свою душу.
Я вижу, что на самом деле это не преграда и не занавес, а холст, натянутый, новый, который ты бы могла заполнить красками, яркими и незабываемыми, и твои касания этого холста позволили бы тебе увидеть и ощутить прекрасную, дышащую, цветную композицию, неповторимый, значимый, живой орнамент, который ты могла бы сохранить как надежду на лучшее. Этот холст ты порвала, и жить мне не хочется.
Смутно вижу знакомые дыры на асфальте, разрытую для ремонта трамвайных путей Садовую, пирожковую «Метрополя», «Екатерининский» садик, закрытый на время ремонта зеленый магазин «Елисеева». Где я на самом деле?
Острая боль в спине согнула меня и бросила на асфальт. Двое суток в холодном поту, скрюченный, тратя все силы, чтобы сдержать крик от невыносимо острой боли, я лежал на полу, исколотый многочисленными препаратами, блокадами, снова блокадами и снова инъекциями, вызывая недоумение коллег отсутствием эффекта от столь интенсивных мероприятий. На третьи сутки боль внезапно и полностью прошла.
(Ты меня отвлекаешь от нее, Боже?)
Еще длительное время я плохо ходил… Страх боли при любом движении…
Каждый день, несмотря на боль, бег, подтягивания, триста наклонов на пресс, отжимание от земли, растяжки, теннис. Я восстановился.
«Так это — любовь, Заславский, или нет?» — спросил я.
«Конечно, любовь», — ответил Заславский.
Это все.
«Это все? А дальше? Ведь что-то должно быть дальше? — спросил я его. — Нет конца».
«Дальше?» Он очнулся.
«А что такое „дальше“ — время, пространство, длительность? Я даже не знаю, что такое время. Я не знаю ничего.
Может, время — это гигантский маятник, раскачивающийся под сводами другого Исаакиевского собора, имя которому — бесконечность…
И каждое качание — это человеческая жизнь, или эпоха, или галактика?
А может, это стремительно убегающая в неизвестность прямая; и где-то там, в конце, кто-то скажет: „Время истекло“.
А может, время — это диалектическая спираль с неизбежными повторениями? Или замкнутый круг? И ты снова будешь в этом месте с этой женщиной?
Не дай Бог!»
Так что же в конце концов было «дальше»? — Ты мне расскажешь?
Дальше — была надежда, которой теперь не осталось.
Дальше я пытался ее забыть. Не очень удачно. Тело и мозг стонали.
Находиться с ней в одном городе я больше не мог — уехал работать в «ближнее» зарубежье.
Я сижу в ливанском ресторанчике. Уже поздно. Вспомнил. Сегодня день ее рождения.
Напротив меня молодая женщина. Звать ее Милена. Милена метиска — папа русский, мама азербайджанка. У нее огромные зеленые глаза, чуть с горбинкой восточный нос, славянский рот и губы. Большие ровные и белые зубы. Она мила и интеллигентна. Она дружит с главным дирижером госсимфонического оркестра и с солистами. Ее знают в опере и в балете, и в драмтеатре. И еще у нее удивительно нежная кожа, особенно на бедрах, упругих и плотных, и впалый животик. После спектаклей, до того как здесь ложатся спать, мы долго бродим по всяким притончикам и болтаем. Ей нравится со мной.
А еще она, как и та, любит сухой мартини. На этом сходство кончается…
Вскоре я вернулся в свой город. Я не могу без него.
Глаза на Невском. Они мельком замечают меня, чтобы тут же забыть.
Но не все. В глазах посторонних ты задерживаешься на более или менее длительное время. Еще дольше ты остаешься в глазах близких тебе людей. Как надолго — зависит от тебя.
Скорее всего, там, в этих глазах, протекает вторая и настоящая наша жизнь, которая может длиться долго-долго, уже после смерти, а может закончиться мгновенно, как и здесь.
Как длительно и каков ты там, тебе не дано знать. Тебе это никто откровенно не скажет. И поэтому ты делаешь все возможное, чтобы задержаться там, в глазах, как можно дольше. А не потому, что ты хочешь попасть в рай и обрести «царствие небесное», в которые не веришь.
В этой толпе где-то, неспеша, идет «моя» Юля.
За это время она уже перебывала в постелях нескольких случайных знакомых.
Периодически дает «своему» — не в силах отказать.
И каждый раз это заканчивается курсом лечения в вендиспансере или в гинекологическом кабинете.
Мы встретились еще раз. Это была уже не она — дошедший свет погасшей звезды.
Я лежу на диване около холодного, остывшего небесного тела.
Господи! Не может быть! Значит, я был согрет, а затем расплавлен, разорван на куски пламенем давно погасшей звезды, генетической, мгновенной вспышкой свойств тысячелетних предков. И я рвался к этому миражу, наступая на самолюбие и стыд?!
Значит, все давным-давно погибло? Осталась эта унылая деваха?
Подо мной расплывающееся тело — тело женщины в возрасте.
Ноги там, в зените, увенчанные на этот раз голубоватыми носочками.
(«Неделька?» Каждый раз, меняя партнера, меняет цвет носочков? Чтобы запомнить?)
— Мне больно! — визжит.
— Тебе больно? А помнишь твое: «Немного больно — это даже приятно».
«Так получи! Могу порвать влагалище — наслаждайся!»
(Где это чувство? Где оно?)
Она уже несколько раз кончила. Скука-то какая.
Грустно и безнадежно. Такая же, как и все. Дырка. Половая щель. Из нее дует.
Была еще одна «Щель», у Астории. Туда часто забегали писатели, поэты, художники.
После редколлегий, приемочных комиссий, где их заставляли совокупляться с властью безрадостно и постыдно. (Точно так же, как мы с Юлькой сейчас.)
Грустные глаза, безысходность, чувство унижения:
«Водочки и бутербродик…»
Она — у стола — голая грузная тетка. Небрежно откинув назад голову, неряшливо что-то жрет («Я люблю хорошую жрачку… Хочу жрать»).
Совершенно голая, с толстыми тяжелыми ляжками и жопой, в голубых носках на толстых икрах. Мощная.
Предмет вожделения на лесоповале.
Промежность воняла рыбой из-за хронического, плохо вылеченного, после неоднократных попыток, воспаления потерявшего чувствительность влагалища.
(Она мне безразлична.)
Снова потекло бездушное, безликое и холодное бытие. По-прежнему были женщины, и я отогревался на мгновение в теплом, благодарном трепетании тел.
Однажды в Петербурге я встретил одну весьма молодую и прелестную особу. Очень высокая. Характерные, как у Модильяни, черты лица. Чистые. «Ты из-за этого с ней встречаешься?» — спросила меня как-то Люба, скульптор.
«Нет, я с ней встречаюсь потому, что она потрясающая, но пока этого не знает. Но я расскажу».
Каждый день звонит мне и говорит, как ей без меня плохо. Что она без меня не может уснуть потому, что она меня чувствует и хочет, что я ей снюсь и она уже больше не может меня ждать и что она купила новые потрясающие трусики и их без меня не наденет, и что я ей открыл целый мир. Она не представляла, что это так прекрасно, и она не знала, что такие мужчины, как я, вообще, существуют, и она меня любит, и другие милые глупости, которые так важно, так необходимо слышать мужчине.
В ее серых глазах, которые иногда становятся зелеными, порой мелькает тревога — вдруг я куда-нибудь исчезну, пропаду, и тогда она погибнет.
(Она совершенно не видит меня: «Ты такой красивый!»)
Она видит какой-то открывшийся ей и неведомый мне мой особый мир, который ее потрясает, вырываясь наружу в глазах.
Мне это знакомо. Но я бесконечно изумляюсь, что же такого она во мне нашла.
Катастрофически хорошеет.
Весь ее поразительный мир обрушивается на меня.
И потом еще долго, очень долго после мучительного стона она в беспамятстве лежит на мне, и тело ее благодарно подрагивает.
Я завороженно смотрю на нее: «Неужели ты мне наконец это дала, Судьба?»
Когда придет время, я обниму ее и умру. («Сентиментально?») А может, она просто пойдет без меня, одна, куда-нибудь. Ну, и слава Богу. Пусть идет. Она и так намучилась со мной. А я буду умирать один… («Сентиментально!»)
«Так это любовь, Заславский, или нет?»
«Конечно, любовь», — ответит Заславский, делая ручками.
«Толя! Здесь противоречие. С одной стороны, безразличное, примитивное себялюбие, злобная простонародная упертость, с другой — нежность, преданность, тревога, открывшаяся тебе бесконечная, удивительная, сверкающая вселенная».
«Где любовь, Заславский, где она?! Там? Или там?»
«В единстве противоположностей?»
В этом «единстве» рождаются монстры. Их вряд ли можно любить. Неубедительно…
«Таким образом, любви нет, Заславский, нет! Есть только добро и зло. И никаких „единств“».
Этого достаточно.
«Бог-отец, Бог-сын, Святой Дух — все мужчины, — думал я, — а вместе — святая троица — женщина». (Как? Они тоже видят мир как я?!)
Этого понять нельзя. Это чудо. Видимо, любовь — тоже чудо. Чудес не бывает, Заславский. Мы их придумываем.
Ангелы скорее всего тоже мужеского полу.
То есть, как я понимаю, женщин «там» нет. Ну, и что мне «там» делать с моими сексуальными амбициями и традиционной ориентацией? Нечего. Подожду.
В ноябре израильтяне не купаются. Купальный сезон давно закончен.
На пляжах будки спасателей и перевернутые лодки. Безлюдно.
Вода еще теплая, и мы с моим шестилетним сыном приезжаем на пляж около Акко рядом с ливанской границей и плаваем. Сын у меня плавает с четырех лет, играет в теннис, катается на лыжах в горах. Джентльменский набор.
Мы разделись, вошли в теплую воду. Ветер косо дул с берега. Не очень сильно, и опасность его мы недооценили.
Отплыв метров на пятьдесят, мы повернули и беззаботно направились назад, к берегу. Волна подхватывала нас и с шипением несла к берегу на радость сыну, но гребень проходил, и откат возвращал нас на то же место. Я встревожился.
Положив сына на свою спину так, чтобы он держался за плечи и помогал ногами, я пытался двигаться один. Безрезультатно. Столь близкий берег практически не приближался.
Я понял — и на мгновение слабость и страх обессилили меня: «Мы не выплывем!»
На берегу сидит и читает совершенно беззаботная жена, а мы здесь рядом тонем.
«Главное, не испугаться и не испугать сына. Тогда все, — подумал я, — я с ним на плечах не выплыву».
— Давай поиграем в такую игру: как только волна нас подхватит, я тебя толкну изо всех сил, и мы будем плыть наперегонки, а когда схлынет — ты держись за мое плечо и отдыхай. Согласен?
— Давай, папа!
Во время отката я греб изо всех сил, чтобы остаться на месте. Берег если и приближался, то незаметно.
В двух шагах, на берегу, у воды, стояла жена и смотрела на нас.
Я ей крикнул: «Позови кого-нибудь!» Но звук относило ветром.
Я замахал руками. Она приветственно помахала в ответ. Она не волновалась — привыкла, что я в море плаваю часами, и была уверена, что мы дурачимся. В воде, по ее мнению, со мной ничего не может случиться.
Конечно, если бы я был один.
Доплыл бы куда-нибудь, на какой-нибудь риф или отмель — вода теплая, можно барахтаться хоть до вечера.
А с ребенком?
— Ты не устал?
— Немного устал, папа.
— Ты же мужчина! Держись! Уговор дороже денег!
Берег — вот он, его почти можно коснуться, но не приближается. Да и жену звать бессмысленно. Плавает она плохо. Утонем все.
«Так вот почему здесь так часто тонут даже умеющие плавать», — подумал я.
Волна тащила нас к берегу, но ветер, не менее сильный, относил назад.
Я посмотрел на море. Там, метрах в трехстах от нас, в стороне, по ветру, торчал коралловый риф. Без ребенка я бы доплыл до него, а с ним — нет. Нужно плыть к берегу.
Только бы он не испугался.
Подталкивая его и сопротивляясь откату, я продолжал плыть. Бесконечно долго. Устал. Усталость шептала: «Смирись!» Но смириться я не мог…
Наконец ноги коснулись дна. Могли быть еще ямы, но, к счастью, их не было.
Безучастный ко всему окружающему я свалился на песок прямо у воды.
Изредка непереносимая боль в спине сворачивает меня, и я падаю. В мучениях, с отброшенным в сторону зонтиком, пытаясь ощупать свое скованное болью тело, не в силах повернуться, я валяюсь в дождь в луже под водосточной трубой, за которую пытался ухватиться, падая. Из трубы на меня льется грязная вода с крыши. Я жалок.
— Вам помочь? Вызвать «скорую»? — спрашивали люди, глядя на мое измученное болью лицо.
— Не беспокойтесь. Это скоро пройдет.
И действительно, боль внезапно и надолго исчезала.
Временами нестерпимое жаркое белое пламя расплавляет мой мозг. Горячий песчаный ветер пустыни разрывает черепную коробку изнутри.
Смерть тогда кажется желанной, как женщина.
Приходи ко мне! Обними мою голову прохладными руками, нежно. И боль пройдет.
Приходи! Я готов.
Голова взрывалась, разлетаясь на куски. Становилось легче.
Мокрый от пота и обессиленный, я лежу во влажном белье с закрытыми глазами, боясь пошевелиться.
Боль не возвращается.
Перед глазами протекает жизнь. Женщины доступные, но непостижимые. Сначала непривлекательные и болезненные ввиду забывшего их Высшего разума из-за его тысячелетнего склероза, а затем красивые сделанной мною красотой.
«А может, наше существование в той неизвестной нам жизни бесполо и преследует более существенные высокие и неизвестные нам цели?» Возможно, но абсолютно непонятно.
Тогда вся эта суета вокруг любви становится бессмысленной. Нужно просто жить, как живется. На этом этапе. Тогда почему мы страдаем? Бессмысленно. Все бессмысленно и непостижимо…
Проплывают в памяти места, где я бывал, друзья, художники, счастливый пророк Заславский и Юля. Та Юля. Из доноса. Несчастное и постыдное проникновение в другой мир.
«Ты еще видишься с этой „пещерой“, бываешь в ней?» (Это Нина.)
«Брось думать об этой дуре! Прекрати ее спасать!» (Это Ира.)
«Не могу, я ответственен. Мне известно, что будет».
Говорил и той когда-то: «Одним позволено на этом „празднике жизни“ с первым встречным, „просто так“ с любым, с кем хочет, а тебе, видимо, нельзя! Ты не как все. Не судьба». — Не понимала.
Я давно не видел ее, а недавно и случайно узнал — смерть кивнула и ей, и ее минуты застучали быстрее. Она опять заражена. И серьезно. (Нашла, наконец, что искала.)
«Я не забыл ее, не забыл…
Но забуду!
И доплыву.
И выживу, сука!»
Послесловие Список иллюстраций
«Толя» — А. Заславский, автопортрет.
«Завен» — З. Аршакуни, автопортрет.
«Завен» — 3. Аршакуни, автопортрет.
«Маха» — Попытки неизвестного в будущем художника.
«Маха» — В. Ватенин, автопортрет.
«Ванечка» — И. П. Васильев, автопортрет.
«Герман» — Г. Егошин, автопортрет.
«Мурик» — М. Тажибаев, автопортрет.
«Лева» — М. Тажибаев.
«Робик» — Р. Лотош, автопортрет.
«Саня» — А. Задорин, автопортрет.
«Борщ» — А. Заславский.
«Вольф» — А. Заславский.
«Зяма» — С. Эпштейн, автопортрет.
«Арон» — А. Зинштейн, автопортрет.
«Гена» — Г. Зубков, автопортрет.
«Саша» — А. Носов, автопортрет.
«Юра» — Ю. Гобанов, автопортрет.
«Алеша» — А. Гостинцев, автопортрет.
«Петя» — П. Татарников, автопортрет.
«Снежкин» — П. Татарников, портрет С. Снежкина.
«Мишико» — П. Татарников, портрет М. Калатозишвили.
«Феликс» — Ф. Волосенков, автопортрет.
«Володя Большой» — П. Татарников, портрет В. Берновского.
«Юля» — А. Эйнштейн.
На обложке: «Портрет Феликса» — А. Задорин.
На вставке: «Перед зеркалом» — А. Задорин.


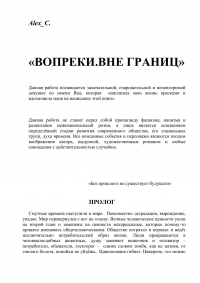


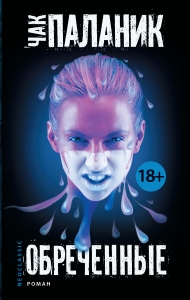

Комментарии к книге «Жизнь как женщина (донос)», Феликс Коэн
Всего 0 комментариев