Крис Вормвуд По дорожкам битого стекла
Часть 1
Глава 1
К двенадцати ночи он проснулся, ощущая себя вороном в собственном гнезде. Его тело вяло шевелилось, вспоминая движения и их смысл. В волосах запутались чёрные перья. Он выглядел слишком болезненно, специально подчёркивая свои синяки под глазами и выступающие скулы, делая провалы лица более чёткими и тёмными. Его лицо было прекрасно, как мёртвый череп. Его ногти неровно накрашены красным лаком, словно он только что опускал пальцы в свежую кровь, которая ещё не успела толком свернуться, а всё ещё хранит в себе спелую яркость.
По стёклам стекали потоки свежего дождя. Это ночь не отпустит снова. Трещины и линии — самый милый сердцу узор собственной квартиры под самой крышей. Здесь такие длинные лестницы, что по ним можно подняться в небеса или скатиться в преисподнюю. Ступени такие кривые, что приходится подниматься осторожно, мечтая о крыльях. Коридор со скрипучими половицами настолько огромен, что по нему могут маршировать вымышленные армии видений. Обои отклеиваются, словно кожа мертвеца, а с потолка сыпется белая пудра. Летний снег.
Её не было рядом, но он ощущал её присутствие. Этой женщины, что появилась из ниоткуда и так и осталась в соседней комнате посреди своих красок и насквозь мёртвого хиппизма. Он даже немного любил её, особенно, когда она называла его «Воронёнок», вместо привычного «Герман». Это всё татуировка — ворон, сжимающий в лапах алый мак. Галлюциногенная банальность. Бессмысленный символ. Германа и правда начало тянуть к этим птицам с того самого дня появления на плече этого рисунка. Это мутная тёлка, да, вчера её звали Вера. Наверное, сегодня она Катрин или, может быть, Мария?
Не хотелось вставать.
Обычно поутру они любили спорить: кто из них двоих больше похож на мёртвую шлюху. Теперь он снова понял, что говорит сам с собой от скуки и неудержимой словесной диареи, что приходит по утрам вместе с нежностью. В такие моменты хочется грызть подушки и облизывать собственные пальцы.
Он встал с постели, оглядывая свою «пижаму», обычно он спал голым, в собственной коже, намертво приклеенной к телу. На нём оказалась просто огромнейшая футболка без рукавов, рваная с лёгким запахом собственного пота и женских духов. Крест на чёрной ткани в переплетении роз начинался в районе груди, а заканчивался в районе паха. Уморительно по-готски романтичный рисунок. Ещё на Германе оказались большие чёрные шорты, которые совсем уж уныло болтались на выпирающих тазовых костях. Он слишком тощий. Месяцы почти полного голодания помогли достичь своего идеала. В двадцать два ему не давали на вид и шестнадцати. Приходилось носить с собой паспорт с почти непохожей, получужой фотографией, чтобы в магазине продавали виски и коньяк.
В соседней комнате она рисовала радугу из чёрного с серым и слушала Joy Division, постепенно теряя контроль. Ночное солнце-фонарь светило в окно. Герман взял сигарету и закурил. Тонкий дым с гвоздикой от сигарет «Джиром», немного напоминающих опиум или ладан. Этот запах пьянил и опутывал, словно сети дьявола.
— Ты опять забыл, как меня зовут? — спросила она, откидывая волосы на спину. Её грудь как всегда обнажена и кожа покрыта следами краски. Он ничего не ответил.
— Называй меня Анаис, — улыбнулась она, не отрываясь от мольберта, на котором расцветали серые краски.
Конечно же, это не настоящее имя. Очередное из выдуманных. Когда в постели ты зовёшь её Анной, может ударить по щеке с размаху и сказать, что её имя Вероника. И эта история повторяется каждый раз.
Герман затянулся густым ароматным дымом, который смешивался с пропахшим краской воздухом. Ночь стояла душная, как дыхание пьяного. Он курил, прогуливаясь по квартире, оставляя карандашом рисунки на стенах. Здесь как всегда цветы, птицы, паутина и глаза. Сортир похож на библиотеку, здесь больше книг, чем во всём доме. Потому что действительно мало литературы, достойной чего-то большего. Энциклопедии, пропахшие освежителем воздуха, призванным скрывать ароматы дерьма.
Осталось только натянуть джинсы, сунуть голову под дождь душа и выйти в объятья улиц. Центр Москвы был городом в городе, королевством светлячков и пристанищем бродяг. Дождь как раз закончился принося долгожданную прохладу. Герман жил в районе Китай-города, в старом доме где-то в районе бывшей Хитровки. Как же приятно выйти на улицу в первом часу ночи, чтобы позавтракать и выпить пару коктейлей в одиночестве ночного города. Он совсем не боялся ходить в позднее время суток, в отличие от других обделённых физической силой тонких длинноволосых мальчиков. Воронёнок умел быть незаметным, когда это нужно. Он был частью этого города и давно научился сливаться с его фасадами. Это полезно для живущих в своем собственном мире, где живут мёртвые рок-звёзды, они трахают надменных андрогинов, те порождают чёрных бабочек. Своеобразная идиллия.
Прогуливаясь по Москве, Герман часто представлял себя в других городах, в которых был или, чаще всего, не был. Зато он мог находиться в Париже, Амстердаме и Новом Орлеане одновременно. Он послал одну девчонку, которая отказывалась понимать его отвратительную странность, каждый раз объясняя, что они в Москве и сейчас тут холодно и грязно. Она круто трахалась, но привязанность к реальному миру губила все нити, связывающие друг друга. Это так важно, чтобы те, с кем ты спишь, могли вляпаться в твой мир полностью, чтобы никогда от него не оправиться до конца. У той, что жила за стеной и меняла имена, была своя собственная реальность, где не всегда было место Герману, но он охотно мирился с тем, что их разделяет, радуясь, что они не столь близки, чтобы ненавидеть друг друга.
«Вселенная преподносит сюрпризы — Сегодня в небесах, завтра на карнизе»,— у него была постоянная привычка напевать абстрактный бред. Он решил запомнить строчку и вплести её позднее в песню.
В голове бродили мысли, их было необычайно много, словно под травой. Казалось, что ценности прошедших эпох неизбежно станут принтами на футболках хипстеров. Рядом как назло образовалась толпа неспящих очкастых подростков, пьющих свой детский кофе с молоком. Им не понять, как травить себя отборным бразильским с перцем, солью, мускатом и корицей. Ради бога, только не кладите в него ваниль. Новый Иисус во втором пришествии будет превращать кофе в латте.
Герман заказал на завтрак пасту и чашку чёрного кофе без сахара. Все эти редкие посетители ночного кафе собирались вскоре вернуться домой. Их сонные веки слипались под напором ночи. Они не знали, что у этого странного парня в углу день только начинается. Полуночник — это диагноз, они всегда узнают своих на пустынных дорогах города.
* * *
«Вы тащите свои маленькие трагедии через всю жизнь, как крест на Голгофу. И с каждым шагом всё тяжелее. То, что нас породило — убьёт нас», — промелькнула в голове Макса отчаянная мысль. Не беда, что его крест был всего лишь гитарой, но за время пути она стала просто свинцовым грузом. Свинец, как на саркофаге. Ему вдруг захотелось, чтобы его прах навеки обрёл покой в деревянном гробу гитары. Нет, скорее уж где-нибудь в пакетике от чипсов, наглухо прилипшем ко дну мусорной корзины. Но было ещё слишком рано, чтобы становиться прахом. За этот жизненный цикл мы успеем побывать жидкостью, мякотью, твердью, дымом и пеплом.
Перед ним раскинулся город без лица. Там под бессмысленной маской из дешёвого пластика лишь коварная улыбка голого черепа. Глазницы пустоты. Сотни светлячков разбиваются о бетон, фосфорицирующие воды плещутся у ног. Пора бы стать патриотом и наесться родной земли. Города живые, только Москва была кадавром. Она казалась настолько ужасной, что не хотелось даже думать о ней, о сущностях её обитателей, наполняющих собой бетонные коробки.
Хотелось просто лечь на асфальт, впитывая последнее ночное тепло, или просто загорать под осколком луны. Улицы несли вперёд, спариваясь друг с другом, они порождали переулки и проспекты. Чужой незнакомый город оказался предсказуем до боли. Так просто запомнить, куда ты шёл, даже не пытаясь заблудиться в этом центре дырявой вселенной.
Москва искрилась, словно потухающий костёр. Рой светлячков рассекал бурое марево. Трасса так похожа на реку с раскалённой лавой. Сейчас всё казалось до ужаса сюрреалистическим, словно смотришь кислотный сон или крутишь перед глазами калейдоскоп. А ноги несли дальше. Вдоль проспектов и бульваров к воде. Река пахла смертью или морем. Гниющие рыбы, отбросы, водоросли, чьи-то неопознанные трупы, запутавшиеся в корягах. Москва — город-кадавр, во чреве которого ещё продолжают копаться черви, имитируя жизнь столицы. Они впитывают его ядовито-гнилостные соки, рвут на части его плоть, перерабатывают в отходы. Её лицо, как трещины асфальта, рыхлая брусчатка. Её вены — трубы с гнилой водой.
Макс больше любил ночные автобусы, чем города. Там на жёстком сиденье, обитом дешёвым винилом, он чувствовал себя вне времени. Можно было ощущать себя сущностью, живущей целую вечность за этими цветастыми шторами с запахом резины, воображая себя артистом бродячего цирка, заблудившимся в путях вечных гастролей. Когда не было денег, он путешествовал автостопом, но это давалось ему с трудом. Ненависть к красношеим водителям КАМазов жила в нём всегда. Но жизнь казалась просто немыслимой без проплывающей линии горизонта за окном.
Ночь дарила галлюцинации на трезвую голову. Слабее, чем от кислоты или других веществ, но в то же время, неумолимо приятных. Это как, когда болеешь в детстве и смотришь часами на белый потолок, затянутый маревом темноты. Если смотреть на него долго, то тьма источает жёлтые искры, позднее они рождают в себе таинственные картины.
* * *
Герман шёл на звук, на эту странную песню в царстве бетонных домов. Незнакомый низкий голос резонировал от стен. В нём была сила. И нельзя было различить слов этой песни или звона гитарных струн. Эта музыка, которая вроде бы есть, но её нет. Если забыться и включить разум, то чарующие звуки потустороннего мира рассыплется на обломки несвязных аккордов. Эта песня похожа на призыв. Она идёт не от ума, а от сердца. Это было оскорбительно для его идеального слуха. Очаровательная какофония, порнография звука.
Герман вошёл в арку. В этом узком не очень московском дворе музыка стала ещё громче. От этого можно сойти с ума.
Там в свете лунного фонаря сидел кто-то. Терзая струны гитары, он продолжал свою песню. Незнакомец наконец-то заметил, что не один. Его глаза распахнулись, словно он вышел из транса. Музыка смолкла, но всё ещё дребезжали стёкла.
— Ты кто? — спросил Герман, но в тот же миг, это вопрос показался ему глупым.
— Я Тот, — ответил уличный музыкант. — Это как Тот или Этот, а может быть не Тот. Короче, зови меня Максом.
Его мимика и интонации успели в краткий миг перейти от растерянного испуга до дружелюбной заинтересованности. У Макса оказалось неожиданно крепкое рукопожатие.
Герман присел рядом, поздно вспомнив про недавний дождь.
— Ты откуда? — спросил у него Ворон.
— Я оттуда, где ещё светит солнце.
— Я ненавижу солнце, оно щиплет мне глаза.
— Там это не больно.
Они закурили, провожая белый дым в чёрную ночь. Герман морщился от запаха этих дешёвых сигарет, но что ещё можно было ожидать от такого человека как Макс. «Если отпустить его сейчас, то это будет просто ещё один странный человек, которого я видел всего раз в жизни».
— Я знаю тут за углом один бар, просто бухло уже не продают… — начал Герман.
— Чувак, у меня же нет денег.
— Деньги — просто бумага, поэтому я угощаю, — сказал он.
Макс встал, отряхивая свои джинсы, на которых уж не было живого места от дырок и заплаток. Он выглядел довольно странно. В своей явно не по размеру армейской куртке, испещрённой различными надписями вроде «Реализуй свои преступления». Вместо пояса он использовал нечто похожее на пулемётную ленту.
Герман разглядывал его лицо. Макс выглядел мило, но был совсем не в его вкусе. Длинные светлые волосы до плеч. Аккуратный нос и широкие скулы. Какой-то слишком светлый взгляд, в котором ещё светятся искры наивности.
Она направились к одному бару на Китай-Городе, который казался Герану самым антуражным местом во всей Москве. Он походил на сомнительные заведения из американских фильмов восьмидесятых. Яркие вывески с рекламой элитного пива, плакаты с полуголыми женщинами, абажуры, по форме напоминающие маковые цветы и пустующий стриптизёрский шест. Беззвучный телевизор транслировал музыкальный канал, а из колонок доносилась песня Cockney Rebel — «Sebastian». Герман сразу узнал этот трэк. Было время, когда он интересовался британским глэм-роком.
— Одни меня звали Себастиан, другие — просто козёл, — произнёс Макс полушёпотом.
— Чего?
— Да так, просто кое-что другое напомнило.
Ночь за окном расцветала новыми красками с каждым новым глотком виски. Все ярче мерцали огоньки клуба. Герман любил пить чистый «Джек», Макс же предпочитал «Вайт Хорс» с колой.
Их разговор тёк в странное русло созерцательности мира. Пожалуй, его можно было бы даже нарисовать. Галлюциногенные ночи Москвы очень этому способствовали. Герман и Макс были не слишком похожи, столь же незначительными были их кардинальные отличия. И с каждым словом зарождалось это чувство, что их встреча не случайна.
— Клепаешь свою фальшивую Америку из этикеток «Джек Дениэлса»? — усмехнулся Макс, — Какая разница? Внутри нас Россия. Её не вытравить даже отборнейшим забугорным пойлом. Она как вирус. И если ты родился в ней, то ты болен. Дар? Проклятье? Просто данность, — ответил Герман.
Они заказали ещё.
— Зачем ты приехал в Москву? — спросил вдруг Герман. — Я живу здесь с рождения. Но всё равно не понимаю, что хорошего можно тут поймать.
— Это как крик в горле, что может зарождаться слишком долго раскалённым комом внутри. Это так всегда, когда ты понимаешь, что если ты не сделаешь что-то то, ты умрёшь. Это как обязанность перед богом, простое желание выразить себя. Мне нечего было ловить в моём городе.
Герман покосился на гитару в старом чёрном чехле.
— Ты ведь именно по этой причине здесь.
— Ты догадлив.
— Пойдём на набережную, я хочу, чтоб ты сыграл мне ещё.
Расплатившись, они вышли в ночь, только теперь их было двое — одна разделённая надвое тень. Пройдя её немного, они оказались на пустой деревянной пристани.
— Почему именно здесь? — спросил Макс, доставая гитару.
— Просто слушай аккомпанемент волн.
Старая акустика — «Colombo», шедевр китайской мебельной фабрики нестройно пела под пальцами. Но в этот раз что-то было не так. Его песня не звучала тем же тёмным волшебством, что и час назад. Герман уже жалел о своём решении, пока Макс не начал петь. В его слегка хрипловатом голосе смешивалось отчаянье и очарование. Редкое сочетание. Его песня — трогательно грязная баллада и о смерти:
«Отрицая любовь порочную, Я дарил себе мертвецам. Я желал увидеть воочию Тех, кто дарит запах цветам».Но ничто не становилось в сравнении с красотой его голоса, глубокого и сочного. Германа поразил его диапазон.
— Чёрт, я хочу тебя, — произнёс Ворон, затягиваясь сигаретой.
— Что ты сказал? — Макс с недоверием повёл бровь, надеясь, что он ослышался.
— Хочу тебя в свою группу.
— Я с радостью. А что вы играете?
— Я ещё не знаю. Но ты понимаешь, с тобой мы сможем свернуть горы? Поиметь весь мир! — Герман по-дружески обнял Макса за плечи. — Немножко колдовства, и всё получится.
— Что ты подразумеваешь под колдовством?
— Сам не знаю, просто вырвалось.
— Если так задуматься, то музыка — это тоже магия. Как мне кажется, единственная магия, что ещё действует в этом мире.
Они ещё с минуту просидели молча, глядя на волны реки с именем города. Она несла в себе спутанный поток мыслей этих двоих и отражение общей мечты.
— После такого я обязан угостить тебя травой, — сказал Герман.
— Странно, я не думал, что ты дуешь.
— Дую, и много чего ещё.
— Пойдём, я тут не далеко живу.
— Пойдём.
Макс никогда не отказывался от бесплатных веществ, да и вообще от всего бесплатного.
По пути Макс понял, что немного нетрезв, так как его начало слегка пошатывать, но, в целом, разум оставался чистым. Дом в самом центре, красивый и старинный, но с насквозь прогнившим нутром подъезда, как и со всеми зданиями позапрошлого века.
— Осторожно. У меня сумасшедшая лестница, — сказал Герман, вцепляясь пальцами в перила.
В квартире пахло благовониями и сигаретами. Из двери одной из комнат тянулась полоска света. Игра песня «The Doors» — Soul Kitchen. Макс задрал голову вверх, созерцая необычайно высокие потолки.
— Пойдём в кухню.
Здесь было просторно. Сквозь огромное окно светила луна, отбрасывая свет на плиты из фальшивого мрамора. Макс сел на прожжённый множеством окурков диван. Когда у кого-то дома стильный бардак, сразу видно, что имеешь дело с настоящим человеком, а не вшивым лицемером.
Герман достал откуда-то маленькую серебряную шкатулку с гербом.
— В ней мой дед хранил кокаин, — сказал он вкрадчивым голосом.
Макс успел разглядеть на шкатулке герб Третьего Рейха.
— Так кем был твой дед? — спросил он, ухмыляясь.
— Комендантом концлагеря. А бабушка была еврейкой. Там они и познакомились.
Макс не знал верить или нет этой истории, но ему показалось, что расспрашивать дальше будет просто невежливо.
Герман достал машинку для самокруток и принялся крутить косяки, мешая траву с ароматным табаком.
— Пошли в комнату, — сказал он, когда с изготовлением косяков было закончено. — У меня там звёзды на потолке, будет интересно залипать.
Комната оказалась маленькой, но уютной. Почти большую её часть занимала большая кровать, застеленная чёрным покрывалом. Книги и диски были сложены на полу ровными стопкам, некоторые из них были почти в человеческий рост. Перед кроватью стоял большой старый телевизор.
— Я люблю смотреть мультики, — сказал Герман, ловя взгляд Макса. — Особенно «Поллитровую мышь» или «Металлопокалипсис».
Взгляд Макса прошёлся по корешкам книг: Габриель Витткоп, Жан Жене, Поппи Брайт, Джоэл Лейн, Ирвин Уэлш, Чарльз Буковски, многое из этого было ему знакомо.
На тумбочке лежал раскрытый том манги Суэхиро Маруо.
Герман включил странную музыку на музыкальном центре. Это было нечто мрачное и медитативное.
— Обычно, многие, когда укуриваются, предпочитают слушать психоделик, а это что-то новое, — сказал Макс.
Геран сел на кровать, скрестив ноги по-турецки. Перед ним в пепельнице-черепе лежали два аккуратных косяка. Макс сел рядом. Они молча закурили, втягивая дым как можно глубже в лёгкие, чтобы почувствовать всю травяную зелень ямайского рая. Сначала немел язык, потом лицо, затем конечности переставали слушаться и от тебя оставались одни только глаза.
— Это заборная штука, — сказал Макс, глядя куда-то внутрь себя.
— Съешь печеньку, — сказал Герман, протягивая ему овсяное печенье.
Макс ел печенье, боясь откусить себе пальцы. Он почувствовал, что его накрывает всё сильнее и сильнее. Словно тело испытывает лёгкие космические перегрузки в этом странном путешествии вглубь себя.
— Что это было?
— Просто печенька из Амстердама.
Макс чувствовал, что его затягивает в воронку жёлтого света. Нет, это не обычный травяной приход, это что-то круче. Он пытался что-то рассказать о своей песне, но мысли не слушались и всё время текли не в то русло.
Дверь едва слышно отворилась, скрипнул паркет, и в комнату буквально вплыла полуголая девушка. Её длинные рыжие волосы рассыпались по плечам, почти скрывая маленькие упругие груди. Из одежды на ней была только длинная хиппарская юбка. На коже виднелись чёрные полосы от краски. Макс наблюдал за ней, не зная, видение ли это извращённые игры реального мира. Контуры реальности начинало размывать.
— А он не похож на тех, кого ты обычно трахаешь, — сказала она Герману, плавно пускаясь на кровать.
Герман ничего не ответил, продолжая наблюдать за плавностью её движений. Она словно сделана из волн. Он припомнил, что сегодня она называлась Анаис. Она приблизилась к Максу и провела рукой по его щеке. Их взгляды пересеклись. Казалось, что глаза у неё какого-то необычного цвета, то ли василькового, то ли вообще лилового. Но, это всё скорее всего, галлюцинации в темноте.
— Ты красивый, — сказала она, осторожно целуя в губы.
В её слюне была мята и что-то спиртное. Макс коснулся руками её груди, осторожно сжимая соски. Ещё никогда ему не доводилось трогать девушек так в первые минуты знакомства. Но она была не против. Герман наблюдал за всем лёжа по другую сторону кровати с видом сытого удава. Она уже сидела на Максе, запуская руки ему под футболку. Снова какой-то туман, лёгкое помутнение, сознание и он не понял, как оказался в ней. В тот момент ему почему-то показалось, что он весь в её власти и плавно растворяется в её соках. Вспомнилось что-то про суккубов и ещё бог знает что, прежде чем он понял, что это обычный секс под веществами и ничего жуткого тут нет. Ощущения и восприятие обострилось до предела. И Герман тоже был с ней и в ней. Во всём этом акте была странная порочная нежность. На какой-то миг им даже казалось, что они слышат мысли друг друга и чувствуют то же самое.
Это длилось долго, даже слишком долго. Или просто время под травой тянулось гораздо медленнее. Всё казалось таким безумным и лишённым смысла, что становилось странно. А потом не стало ничего.
— У тебя такой взгляд, что я подумала, будто ты девственник, — послушался Максу её голос сквозь сон.
Они уже не видели рассвета за плотными шторами, всё для них слилось в сплошную ночь.
Глава 2
Макс проснулся, видя вокруг себя черноту. Сначала ему показалось, что это продолжение предыдущей ночи, однако очень скоро он понял, что это уже начало ночи следующей. Он чувствовал жар прижимающегося к нему тела, он уже слишком давно привык просыпаться один. В этом было какое-то непередаваемое приятно забытье.
— Твою мать, что, вообще, вчера было? — спросил он, скорее у самого себя.
— Ничего особенного, — спокойно ответил Герман.
— А, кажись, вспоминаю… Чёрт, я трахнул твою девушку… извини, — это прозвучало так по-дурацки наивно.
— Ничего страшного. Я сам этого хотел, к тому же она не моя девушка. Не люблю эти штампы. Мы просто живём вместе, мы просто друзья.
Они вставали с кровати, не глядя друг на друга, чтобы проскитаться по квартире двадцать минут, уподобляясь зомби, забывая свои цели и смысл. Проснувшись ночью, тяжело понять суть своего пробуждения.
— В принципе, я даже смогу приготовить завтрак, — Макс по-хозяйски нырнул в холодильник.
— Ненавижу, когда готовят мужики, — сказал Герман.
— Мне просто до ужаса захотелось сделать пожрать.
— Валяй, если сможешь меня удивить.
Умение готовить очень полезно для того, кто привык скитаться по впискам — это своеобразная плата за присутствие.
— Она опять куда-то ушла, так что мы с тобой сегодня одни, — как-то зловеще произнёс Герман.
— И что? — равнодушно спросил Макс.
— Ничего. Просто порой её присутствие меня раздражает.
— Именно поэтому у меня нет девушки. Я люблю просыпаться один.
Макс размахивал ножом в воздухе, словно разделывая невидимый труп.
— Я думал, потому что ты её убил.
— Я бы с радостью, но…
— Ты просто слишком добрый. Люди типа тебя не в силах убить кого-то кроме себя.
Нож врезался в куриную плоть, словно стараясь опровергнуть доброту своего хозяина. Но во всех его движениях было маниакальное сострадание с преклонением перед смертью.
— Не понимаю веганов, — хмыкнул Герман. — Их пугает вкус смерти в мясе, а мне же он нравится больше всего.
— Сегодня у нас на завтрак куриная смерть со спагетти.
Кухня наполнялась запахом еды. Становилось жарко, но в то же время, уютно.
Они сли есть, запивая спагетти пивком из холодильника.
Завтрак, вернее — ужин, погрузился в молчание. Секунды тишины складывались в минуты. Было слышно, как тикают часы, и гудит дорога за окном.
— Знаешь что, если ты уйдёшь отсюда, я себе этого не прощу, — начал Герман; как всегда, слова опережали его сознание. — Такие встречи неспроста. Что-то подсказывает мне, что твоё появление должно изменить мою жизнь.
— Ты о чём? — повёл бровью Макс.
— Я о твоём голосе. Он до сих пор не уходит у меня из головы. Это просто потрясающе. Если научить тебя правильно им пользоваться, то мы сможем покорить этот мир. Не зря же я убил двенадцать лет своей жизни на музыку.
— Я и думать уже забыл об этом. Когда-то лет в четырнадцать мы создали свою группу, чтобы играть в подвале эти рваные рифы панк-рока. Страшная глупость, как мне кажется с высоты прожитых лет. Потом все угомонились, вчерашние панки разбрелись по институтам или молча канули в Лету.
Герман слегка поперхнулся:
— Не сравнивай это, чёрт возьми. Я говорю тебе совсем о другой музыке.
В голове его заплясали перспективы и далёкие планы. Каждый из них был особым радужным видением: вот он стоит с гитарой на освещённой софитами сцене; музыка, которую извлекают его пальцы, льётся божественным нектаром или бушует неистовым ураганом, стоит только пожелать. И весь зал тянет к нему свои длинные белые руки. Белые руки в тонких витых браслетах или металлических шипах, руки с синими прожилками вен и розовыми отметинами свежих шрамов. Больше всего в этом видении Герману запомнились именно руки. Он лишь довольно хмыкнул, записывая это в свой новый фетиш.
— Много бухла, девок и кокаина! — Герман довольно втянул носом густой варёный воздух кухни.
— Блин, я тоже так хочу! — воскликнул Макс.
— Я сделаю из тебя легенду. Мы будем жить счастливо и умрём в один день.
— За легенду! — они чокнулись бутылками с пивом и подумали о том, что вечер надо продолжить чем-то покрепче.
Они сидели на пригорке возле железнодорожных путей. Поезда скользили во тьме, разбивая тихую ночь грохотом тысячи колёс. Железная дорога манит. Она почти как вода. Новая отдельная стихия. Максу вспомнился родной город, где он точно так же приходил к путям и часами смотрел на поезда, что стремительно проносятся, игнорируя крохотный полустанок. Поезда влекло лоно юга. Затем без всякого энтузиазма железные черви ползли на север сквозь синий лес и тоскливую ночь.
Есть у англичан такое понятие, как «trainspotting» — глазение на поезда, в переносном значении этот термин означает наркотический трип.
— Знаешь, я только что поймал себя на мысли, что я делаю кучу всего аморального, и совесть продолжает меня грызть, — осознал вдруг Макс.
— Приготовь для неё топор, — рассмеялся Герман, туша бычок о влажную землю.
— Наверное, где-то в душе я всё ещё глупый набожный ребёнок. Я совершал за свою жизнь много всего, что противоречит нормам морали, но я уверен, что от этого никому не было плохо. Но, чёрт побери, мне стыдно после каждой пьянки, после каждый ночи, после каждого косяка.
— Ты бы не делал этого, если бы тебе не нравилось.
— И, кажется, я кое-что понял — мне нравится сам стыд и это ощущение, что моя жизнь неправильна и аморальна.
Герман кивнул и отхлебнул из бутылки чистого абсента.
— Это как поцеловать солнце в пылающие уста! — произнёс он с нагнанным пафосом после того, как утих разбушевавшийся в горле пожар.
— Или как чёрную кошку в анус! — рассмеялся Макс, забыв о своей недавней святости.
Мимо пронёсся поезд, стук колёс слился со звонким смехом. Глупость. Проклятая животная глупость. Но как же приятно просто так смеяться! Бессмысленный смех над бренностью жизни. А эта земля, она же полна костей. В этом районе одни сплошные кости, череда погостов под каждым кустом. И каждый мертвец заливается смехом в ответ. Мёртвым тоже смешны заморочки живых.
— Мне проще, я родился без понимания зла и добра, — подумал вслух Герман, возвращаясь к свернувшемся диалогу.
Ночь стояла безумная с пением сверчков и ещё какой-то неведомой твари. Звёзды рассыпались по небу осколками серебра. И именно сейчас хотелось жить как никогда.
— Почему ты заговорил со мной вчера? — спросил вдруг Макс.
— Потому что мне было одиноко. Вокруг меня мало людей, которые внесли бы что-то новое в эти бесконечные дни.
— Я много раз так делал раньше, когда на меня давило одиночество. Я много пил и шатался где попало, из-за этого все думали, что я общительный. А я просто покупал бутылку водки средней паршивости и приходил под мост к панкам. Я казался им воплощением помойного Христа в венце из лучезарной фольги. Я нёс какой-то бред и угощал всех подряд. Когда заканчивалась водка, я бежал за портвейном, потому что денег на водку уже не хватало. Это были пьянки, я скажу тебе, до самых астралов. Я мог петь, плакать, быть собой под этим чёртовым мостом с этими гнилыми маргиналами. Конечно, они были мне противны до ужаса, но у меня в те времена просто не было других друзей. Вот и вчера я понял, что тебе одиноко. Возможно, вокруг тебя есть люди, вокруг таких они есть всегда, но тебе с ними пусто.
— В чём-то ты прав.
Герману не хотелось думать о грязи социума в такую чудесную ночь, когда вокруг только звёзды, где-то глубоко под землёй продолжают улыбаться черепа и всюду расцветает тёмное волшебство иных реальностей. Мир останется этим миром, не возникнет ничего лишнего по воле полупьяного сознания, но так приятно думать, что всё не то, чем кажется. И в душу снова вторгалось смысловое бессмысленное. Они пили за будущее и победы над ветряными мельницами.
* * *
— Проснись, — услышал Макс над самым ухом.
Этот голос звучал где-то в подкорке мозга, будоража ещё не проснувшееся сознание.
Он разлепил глаза, получая вспышку яркого света. Солнце начинало действовать на него, как на вампира.
— Ты чего!? Сейчас же день.
— Это великий день! — твердил Герман.
— Чего? — Максу хотелось зарыться ещё глубже в подушку.
— Ты не помнишь, что ты мне наобещал?
— Всё что угодно, только не собственную задницу.
— Ты подписал контракт с дьяволом. Вчера ты согласился начать репетировать, потому что мы ничего не делаем — только бухаем, как два бездарных козла.
Сознание постепенно начало просыпаться вместе с дурнотой наступившего утра. Макс неохотно встал с кровати; спотыкаясь на ходу о всякий хлам, он пополз приводить себя в порядок. Подобие завтрака из пива и полуобугленной колбасы слегка привело его в чувства.
— Не сходи с ума, я вообще спать не ложился, — сказал Герман, глядя в окно мутным взглядом.
— Почему?
— Хотелось достичь этого особого состояния, когда реальность сливается со сном. Я просто могу отключить сознание и пустить сквозь пальцы ток.
— Вряд ли ты переживёшь это.
— Я ментально.
Третья комната странной квартиры оказалась совсем необитаемой. Она напоминала палату умалишённого из-за стен, обитых войлоком. Жидкий свет просачивался сквозь жалюзи, открывая пространство, заставленное гитарами. Макс хотел их сосчитать, но стало лень. Вязь проводов стелилась по полу, как побеги неведомых растений. В углу стоял большой синтезатор, а также куча различной техники, о предназначении которой Макс мог только догадываться. Он задумчиво коснулся рукой стены, ощупывая жёсткую обивку звукоизоляции.
— Почти как волосатая стена, — прошептал он.
— Тоже смотрел «Побег из Вегаса»? — спросил Герман.
— Да, один из любимых фильмов на данный момент.
Воронёнок взял одну из своих гитар: чёрный «Фендер» с пятнами красной краски, что так походила на свежую кровь.
— Наиграй что-нибудь из своих песен. Я подберу мотив. Только главное — спой. Мне плевать, как ты сейчас сыграешь.
Макс коснулся струн, чувствуя, как они поют под пальцами, наслаждаясь звуком из колонок. Он плохо помнил слова своих песен, поэтому решил спеть ту, что застряла в памяти раскалённым гвоздём. Он запел свою глупую и полудетскую балладу «По дорожкам битого стекла». Слова путались в голове, пересохшее горло словно наполнялось песком, когда он выплёвывал горькие колючие слова:
«По дорожкам битого стекла, Как по рекам с серной кислотой. Белым голубем взлетая над толпой. В небе больше света и тепла».— Прекрати! — закричал Герман. — Что ты, вообще, вытворяешь?! Я тебя другого слышал в прошлый раз.
— Тогда я был пьян… а сейчас несколько похмелен, — растерянно ответил Макс.
— Это не оправдание!
Когда дело доходило до музыки, он готов был сожрать любого с потрохами.
— Давай ещё раз.
Макс покорно вздохнул и снова запел сначала, неохотно переваривая застрявшие в горле слова. Он сам слышал, что получается ещё хуже.
— Хватит, — Герман багровел от злости. — Я не понимаю, что с тобой. Не пой на связках!
— Мне кажется, так лучше звучит.
— Ты можешь сорвать себе голос вообще.
— Я не могу иначе. Если тебя не устраивает, тогда сам пой.
— Я не могу петь так, как можешь это ты… как мог бы ты, — Воронёнок снова разошёлся, на глазах мутируя в здоровенного ворона, а то и вовсе в птеродактиля.
Макс чувствовал, как эта злость передаётся ему.
— Чувак, меня уже в конец заебали твои подъёбки. Я не могу так, слышишь! — закричал он в ответ на очередную колкость. — Меня больше всего бесит этот снобизм. Каждый мудак, имеющий на себе клеймо профессионала, считает своим долгом меня травить, вместо того, чтобы помочь мне!
Герман застыл, созерцая перед собой растрёпанного юношу с глазами, горящими гневом, который был готов обрушить гитару на его голову, чтобы дополнить нарисованную кровь настоящей. Макс был шикарен в своём безумии, как восставший из ада Иисус.
— Зашибись. А теперь пой, — Герман расплылся в улыбке.
— Чего? — Макс только начал приходить в себя.
— Просто пой. Вложи в эти слова всю свою ненависть.
Он снова обнял гитару, и теперь казалось, что он уже не поёт, а кричит, выплёскивая душу на захламлённый пол. Его голос обрёл силу, о которой он и не подозревал прежде. Это было преображение из тихого и спокойного человека в живой сгусток ненависти к миру и любви к искусству. Он был нежен, трогателен и до дрожи отвратителен. Герман слушал его, затаив дыхание, не рискуя нарушать эту идиллию звоном своей гитары. Пустота разбирала его изнутри, словно желудок выскребали столовой ложкой.
— Вот так всегда и пой, — сказал Воронёнок, похлопав Макса по плечу.
Глава 3
Лето проходило в репетициях и пьянках, так что порой очень трудно было отличить одно от другого. Нужно был ставить голос, учить ноты, не пить холодное пиво и культивировать в себе ненависть и любовь к миру. Временами это даже нравилось. У Макса впервые появилось ощущение, что он кому-то нужен. Самое главное, что он впервые был нужен самому себе. Он нужен Герману, пускай даже лишь как средство на пути к цели. Голос этого странного мальчишки казался Ворону изощрённым золотым инструментом, который следовало только отстроить. Судьба никогда не подбрасывает в его мир случайных людей, проще говоря, Герман никогда не обращал на них внимания. Статистам и манекенам всегда останется их роль в постановке его жизни. Они никогда не представляли для него ценности. Но он до сих пор не мог дать себе ответа: как именно он отличает «настоящих» людей от всех прочих. Наверное, по особому блеску глаз. В его жизни было несколько таких не случайных, но на данный момент пришлось уйти в добровольное затворничество во имя великой цели. Несмотря на то, что они проводили с Максом наедине почти двадцать четыре часа в сутки, ему почти не хотелось его убить, а это уже хороший знак. Интровертская натура пришельца хорошо уравновешивала буйный нрав Воронёнка. Если было нужно, то Макс становился просто тенью, сливаясь с обоями, но стоило о нём вспомнить, как он появлялся рядом.
Они пили, не зная избавления. Если не выпить на двоих по литру рома, виски или текилы, то день явно не задался. Похмелье обходило стороной эти две светлые головы, словно боясь за сохранность мира. Герман успел окрестить этот состояние алкогольным метаболизмом. Они всегда могли твердо стоять на ногах и довольно ясно соображать. Если хотелось чего-то большего, то всегда можно было сгонять за травой, игнорируя более тяжёлые наркотики.
— Я бы хотел героин, — сказал как-то раз Макс.
— Только после того как станем рок-звёздами. По той же причине я до сих пор воздерживаюсь от него.
В воздухе стояла густая пыль. Раскрытое окно хлопало рамами. Мухи парили под потолком, совершенно игнорирую липучку. Внешний мир грохотал машинами и слепил пережаренным солнцем. День казался безрадостным. Он тянулся с пяти утра, как безвкусная жвачка.
— Лето течёт словно гной, — вздохнул Герман, растекаясь по столу в ленивой полуденной скуке.
Макс одарил его неодобрительным взглядом:
— Ты умеешь портить картину мира. Я хотел сказать «течёт как ликёр из бутылки или тянется словно желе».
Воронёнок взглянул в окно на чуть подёрнутые салатовой дымкой клёны и небо цвета асфальта.
— Лето уже умирает. Я добил его вчера из винтовки в небо. Оно корчилось и истекало дождём. Я был только этому рад. Ведь столько бессмысленных лет я слоняюсь по ночной Москве, и кажется мне, что только в ней есть подлинная жизнь. В жизни есть кайф, сок и кислота.
— Тебя заносит.
Они сидели на кухне и наслаждались пустотой вперемешку с сигаретным дымом.
— Мы ведь написали уже достаточно материала… — лениво промямлил Макс.
— И что ты хочешь? — Воронёнок вполглаза посмотрел на него.
— Чего-нибудь. Жажда никуда не уходит. Это так похоже на томный онанизм под одеялом. Мы ведь даже ей эти песни не сыграли. Нашу музыку не слышал никто… даже соседи.
— Хочешь сыграть для кого-нибудь?
— Да, и мне плевать для кого.
— Если тебе действительно плевать, то я знаю одно место.
Герман взял со стола телефон и удалился в комнату.
* * *
Вечер тонул в тумане с реки. Какая-то немосковская погода для конца лета. На Павелецкой душно и туманно, как в болотах Миссисипи. Трамваи отстукивали свой заунывный мотив по блестящей глади рельсов. Максу всегда было не по себе от этих жёлто-красных чудовищ. Не то, чтобы в его родном городе их не было, просто там они смотрятся менее пугающе. Он огляделся по сторонам. Тут всё не так, как в той Москве, к которой он привык, вроде бы и тоже центр, но как в другой мир попал: чёрные и серые дома, утопающие в густой зелени, зловонные подворотни, битые арбузы на мостовой, серые стайки бомжей и запах адской серы в воздухе.
— Москва — это не город, а совокупность государств, — произнёс Герман, читая мысли друга. — Калейдоскоп. Кривая мозаика. Она красива, но только касками и урывками. Если собрать воедино все детали, то они теряют всякую прелесть, сливаясь в единый уродливый гул.
Макс понял, что Ворона опять понесло. Но его речь в такие моменты казалась безумно красивой. Ещё никто на его памяти не выражался так. Люди из его прежнего круга были способны видеть красоту, но были совершенно не в силах её описать, кроме как: «Охуитительно, бля».
Они шли дальше по кривой брусчатке и трамвайным рельсам, вглубь тумана.
— Надо будет гитару тебе потише сделать, а микрофон погромче, — снова ворчал Герман. — Играть ты по-прежнему не умеешь, а нормального состава у нас нет. Ненавижу акустику, блять.
Максу оставалось только кивать и соглашаться. Вечер стекал вниз по сознанию.
— Мы почти пришли, — сказал Герман, указывая на железную дверь, ведущую в полуподвальное помещение. На двери даже не было вывески или каких-либо опознавательных знаков, только пятна ржавчины и коричневые разводы.
— Подожди. Я покурить забыл, — Макс полез за сигаретами.
Только теперь он почувствовал, что начинает волноваться. Под рёбрами начало глухо тянуть. Ему со школьных времён не доводилось выступать на сцене. Раньше его песни слышали только разрисованные стены перехода и равнодушные прохожие. Теперь перед ним зияли скользкие ступени в личное чистилище. Он либо умрёт… со стыда, либо выйдет оттуда живым и обновлённым.
— Я тут выступал иногда, — Герман тоже потянулся за сигаретой. — Когда мне были нужны деньги, я играл тут каверы на «ДДТ» и «Аквариум». Мэ-э-эрзость.
— Угу.
— Подожди, чуть не забыл, — Герман полез в карман за маленькой трубкой.
Вытащив из другого кармана пакетик с травой, он без палева забил трубку и, раскурившись, сделал одну затяжку, затем передал Максу:
— На, так легче будет.
Сладковатый дым превосходного каннабиса ворвался в лёгкие. Мысли воспарили и голова прояснилась. Это было то состояние тончайшей укуренности, когда можно чувствовать себя богом и не терять ясности ума. Трава блаженна и чиста. Она не поможет играть лучше, просто прогонит страх и вдохнёт уверенность.
Внутри было не продохнуть от дыма и пивных испарений. Гнусный запах заспиртованных наглухо тел бил в ноздри. «Куда ты меня привёл?» — хотел спросить Макс, но всё же промолчал. Всё вокруг показалось ему просто испытанием. Ему не нужно играть божественно, главное просто преодолеть себя. Тем временем Герман о чём-то перетирал с хозяином пивной, активно жестикулируя.
— Это даже не андеграунд, это просто дно, — сказал Герман, возвращаясь к Максу.
— Днище.
Они рассмеялись, на миг забыв про окружающую мерзость.
На маленькой сцене помещались лишь два барных табурета, очевидно, самых лучших, что имелись в данном заведении. Подошвы кед прилипали к полу, который не мыли с прошлого года. Надписи на стенах и смрад, стоящий вокруг, напоминали об общественном туалете. Герман попросил, чтобы их не объявляли, у этого новоявленного дуэта не было даже названия. Ничего не говоря, они начали песню. Макс пожалел, что поёт на русском, сейчас ему до одури хотелось, чтобы никто из присутствующих здесь не понял ни слова. Он не даст этим грязным скотам лезть немытыми руками в свою душу. Но надо было петь, и он закрыл глаза, чтобы не видеть этих красных пропитых лиц. Лишь тепло гитары в руках придавало уверенности. Максу казалось, что он стал играть лучше, но всё равно не важно по сравнению с Германом. Макс искоса глянул на него, тот увлечённо был погружён в собственный мир и его атмосферу, не открывая глаза, он сплетал свои нити мелодии.
«Сегодня я играю для себя. Мне наплевать на эти рожи. Я просто закрою глаза и представлю самую лучшую на свете публику. Главное, петь громче, чтобы не слышать возгласы из зала. И не смотреть на них», — думал Макс. В кратких перерывах между песнями он оглядывал зал: серых рож становилось всё меньше, густой смрад табачного дыма рассеивался. Наверное, там за окнами уже совсем стемнело?
По телу разливалась волна кайфа. Макс был переполнен самим собой, и больше ничего на свете ему не было нужно. Только петь. Привычно пропускать через себя воздух и парить на шёлковых крыльях. Внешний мир сдавал позиции перед внутренним. Здесь — грязная пивная, полусонные алкоголики, там — превосходный спектакль за шторами век. Главное, петь и не думать: как ты это делаешь. Слова вспоминаются сами собой, а пальцы зажимают верные аккорды. Макс признавался себе, что в тайне надеялся, что в это ужасное заведение нагрянет какой-нибудь известный продюсер и обязательно заметит их группу, которая сияет как жемчужина посреди грязи. Он предложит им выгодный контракт, и скоро весь мир заговорит о них. Мысль была отчаянной и глупой, но чрезвычайно вдохновляла. Так незаметно для себя они отыграли всю программу.
Заведение было почти пусто, если на считать одного дремавшего в луже разлитого пива алкаша.
— Я даже рад, что они ушли, — сказал Макс, оглядываясь. — Некому будет нас бить.
— У нас остался самый преданный поклонник, — рассмеялся Герман, показывая на пьяницу.
Откуда-то послышался голос официантки:
— Всё, молодые люди, мы закрываемся.
Она взяла тряпку и принялась будить спящего. Его голова откинулась под неестественным углом, закатившиеся глаза уставились в потолок.
— Боже мой! Он мёртвый! — завизжала женщина и тут же скрылась в подсобке, очевидно, в поисках хозяина.
Мертвец так и остался сидеть, растерянно глядя в потолок. В воздухе повисло сладковатое предчувствие беды.
— Валим отсюда, — скомандовал Герман.
Похватав инструменты, они скрылись за дверью.
— Погоди, мы же не взяли расчёт? — спросил Макс.
— И хрен с ним. Пусть оставят себе эти копейки. Мне не хватало только, чтобы они на нас труп повесили.
— Видно же, что он сам умер.
— Я всё равно не хочу этого разбирательства.
Быстрым шагом они удалялись из скверного места, и остановились отдышаться только у самого метро.
— Это феерично, чёрт возьми! — воскликнул Герман. — После нашего первого выступления в зале остался только один человек, и тот оказался мёртвым. Вот она — сила искусства!
Глава 4
Герман обычно смотрел по телевизору только канал с мультиками, он говорил, что это помогает ему не сойти с ума, не засорять мозги. Было забавно смотреть, как он убитый ДХМами почти до состояния Иисуса, смотрит на сверкание разноцветных картинок, живущих в чёрном ящике. Герои этих мультфильмов беспрестанно сквернословили и втаптывали в грязь все остаточные ценности реального мира. На самом деле они глубоко презирали этот трёхмерный мир, где всё подчиняется законам физики и банальной логики… до той поры пока твою жизнь не скрасят наркотики. Макс с Германом сами становились похожи на парочки циничных мультяшных героев, общаясь вместе, замыкаясь друг на друге они вырабатывали свой собственный способ мышления. Дай им волю, они сочинили бы свой язык, чтобы больше ничего не связывало их с это бренностью дурного бытия.
Иногда встречая знакомых по пути в магазин, Воронёнку казалось, что они напрочь утратили связь друг с другом.
— Как дела? — спрашивал кто-то из них.
— Я бы знал, если жил.
Она периодически объясняла общим друзьям, что дело в том, что эти два дурака упарываются ночами напролёт и пишут песни, которые очевидно никто не поймёт. Раз уж парни надеются стать рок-звёздами, то не стоит им мешать в этом начинании. Тем более, что осенью у Германа учёба и он всё же вылезет в реальный мир, так или иначе.
Реальность — это шоу уродов, воплощение гнилья и бессмысленного существования. Воздух отравлен ядом конформизма, тем временем как внутри стены распирает нигилизм и максимализм. Пока Воронёнок мнил себя богом, Макс не прекращал обгладывать себя до костей. Он сам был ненавистен себе больше чем прежде. Внешний мир, населённый людьми казался ему предельно нормальным и обречённым на будущее, тем временем, как он сам ощущал себя вырожденцем, опустившимся ниже плинтуса, которому больше нет дороги назад. Даже Герман, имея поддержку, может выплыть из этой утопии, чтобы вернуться к мирному существованию в благополучии и гармонии с собой и с миром. В этом и было их основное отличие, которое по мнению Макса, мешало им существовать дальше, мешало им творить… Но он не мог остановиться на полпути. Это вечное чувство вины перед миром не давало ему отступать дальше.
— Было бы лучше, если бы мы собрали полноценный состав, — сказал Макс как-то раз.
— Слишком рано. Они слишком ленивы, чтобы писать вместе с нами. Они хотят готовый материал. К тому же, ты не хочешь, чтобы по твоему миру топтались грязными ногами? Тогда доведи всё до конца. Музыканты — лишь бледные тени нас с тобой. Они ремесленники, а мы творцы. Не дай им себя замарать.
Макс задумался о том, что так или иначе нельзя быть единым со всем коллективом неизвестных людей. Он нашёл общий язык с Германом и мог его переносить, даже будучи трезвым. Не факт, что так выйдет с остальными. Они же всего лишь люди.
Глупость — скопление огромнейшей глупости и тщеславия. Макс ощущал эту ауру и она почти давила его, привыкшего к безнадёжности и пессимизму. Дурной настрой спасает от разочарований. А им предстоит ещё много разочарований в этой жизни, пока не настанет долгожданный конец. Жизнь похожа на скучный длинный фильм, снятый на айфон каким-то хипстером. Они называют это говно артхаусом. Макс с Германом оба презирали современное искусство. Воронёнок мог часами говорить обо всех технических промахах, допущенных создателями якобы специально. Максу же казалось, что он просто чего-то недопонимает в искусстве. Он был равнодушен к живописи, хотя мог с лёгкостью отличить хорошую картину от мазни арбатских художников. Кинематограф казался ему дурацкой заменой книг (за исключением особенно безумных шедевров). Электронная музыка напоминала халтуру, выполненную за час на китайском синтезаторе.
Современный мир навевал на Макса тоску своей упрощённостью. Потом он вспоминал о средневековье и окончательно успокаивался. В современном мире все идиоты? Церковь зомбирует население? Культурный уровень падает с каждым годом? Расслабьтесь, веке в одиннадцатом было гораздо хуже! Но если учитывать цикличность истории, то мир погружается в новые тёмные века.
А за окном снова барабанил дождь. Наступившая осень сразу сделала внешний мир неуютным и отменила ночные прогулки. Дурной звонок разорался раненой птицей. А она пошла открывать, хотя в такое время заходить совершенно некому и незачем. Но есть такие люди, что порой готовы вспомнить эту старую традицию хождения в гости без приглашения. Герман выполз из комнаты бледной тенью и отправился в коридор в надежде разведать обстановку. Что-то так и не дало выпроводить их обратно. Может быть, здравый смысл, который твердил, что пора заканчивать с этим затворничеством.
Для Макса они были просто людской безликой массой. В своём отстранении он не способен был запоминать имена и лица. Осталось только представиться и молча слушать их мирские разговоры. Они пили сухое вино. Макс же налил себе стакан только из приличия. Ему становилосьсь плохо от этого напитка, всё, что слабее виски вызывало у него похмелье. Было заметно, что девушке Ворона (или кто она там ему?) эти люди тоже не нравились. Она пила вино, сидя на подоконнике, сжимая в пальцах светло-синий бокал. В ней всегда жила некая самодостаточность, позволяющая существовать отдельно от людей, совершенно не мешая им.
Они говорили о музыке. Герман делился идеями, однако, наотрез отказываясь показать что-либо. В этом плане он оказался слишком суеверным, не желая светить сырым материалом даже в кругу своих. Макс вышел на кухню, ему хотелось немного тишины. В любых домах, где ему доводилось бывать, именно кухни всегда казались самыми безопасными и уютными местами.
Минуту спустя, вошла она. В её руках по-прежнему покоился бокал с вином. Она опустилась на тот же подоконник, что оккупировал Макс. Они молча сидели и смотрели на дождь, ведя ментальный разговор о погоде.
— Слушай, а как тебя зовут на самом деле? А то Герман всё время забывает и придумывает тебе новые имена.
Она рассмеялась и, убрав волосы за ухо, произнесла:
— Алиса. Лиса или Элис. Кому как нравится. А Герман просто любит поиграть в загадку.
— Ну да… разве у тебя могло быть другое имя?
Они молча соприкоснулись бокалами в тишине.
— А кто все эти люди? — спросил Макс.
— Вот тот высокий, это Пашка, они когда-то играли в одной группе. Тех двоих не очень гетеросексуально вида вида я вообще не помню, но пару раз видела. Вроде милые. Того чувака, что не снял шапку, я вообще не знаю. И среди них всех, как же я могла её упустить — госпожа Лукреция, старшая сестра Германа. Я зову её то Лушей, то Лукерьей.
— Да, они похожи.
— Это ещё не всё. Самое забавное, что он спит с ней. Как мне кажется, что его извращённая натура просто не может обойтись без инцеста. Скорее всего, это дань его нарциссизму, она так на него похожа, что у него складывается впечатление, что он трахает самого себя в её лице. Наверное, это мечта каждого, иметь столь похожего брата или сестру. Я не знаю. Она меня не переносит, считая, что Герман должен быть только её, но я как-то не претендую.
— Да уж, истории одна ахуительнее другой, — Макс сделал над собой усилие и выпил глоток отвратительного вина.
В горле встал привкус уксуса. «Нет, ну я не верю, что это вино стоит косарь. Дрянь как за сто рублей из пакета». Вино вместе с бокалом отправилось в раковину.
— У меня остался ещё коньяк, — сказала Алиса.
— Не отказался бы.
Они пили вдвоём почти в полной тишине, пока она вдруг не сказала:
— Если будет скучно — заходи.
И это прозвучало так пошло и двусмысленно, что Максу сразу стало не по себе. Где-то в глубине его сознания на Элис ещё стоял ярлык «не такая», развратная, но не такая. Даже после того, что у них было. Но с другой стороны эти слова прозвучали так просто и ненавязчиво, что стало понятно — перепихнуться, для неё как выдохнуть. Легко и ничего не значит.
— А у тебя есть девушка? — спросила она.
Этот пошлый и банальный вопрос, который задаёт каждая, кто мечтает занять вакантное место.
— Это просто любопытство? — спросил Макс.
— Да.
— Нет, и никогда не было… в плане отношений, разумеется.
Она слегка улыбнулась.
— Вы с Германом в этом похожи. Сторонники free love, которые просто боятся кому-то принадлежать.
— Скорее просто не хочу. Наше время диктует иные рамки: семья, любовь, борщ. А я стараюсь быть выше этого. Мне кажется, я слишком циничен для таких вещей.
В кухню ввалился Герман, его уже слегка шатало, но он просто светился радостью.
— Луш и этот чувак согласились с нами играть! — воскликнул он.
— А на чём простите будет играть Луш? На чужом чувстве прекрасного? — с сарказмом спросила Элис.
Герман проигнорировал её замечания, как бывало обычно.
— Лукреция — клавиши, а этот на басу.
— Осталось найти барабанщика или драм-машину, — подумал вслух Макс.
— Мне кажется драм-машина с нами сопьётся.
Он вернулся обратно в комнату, подчиняясь возгласам сестры. Макс и Элис налили ещё по стакану. Дождь закончился сменившись кромешным мраком. Послышался звук входной двери и топот в коридоре.
— Герман выгнал всех кроме Луши, — сказала Элис спустя какое-то время.
Она подвинулась ближе к Максу, так что её голова лежала у него на плече. А он только подумал о том, что от него наверное воняет потом и перегаром, но, похоже, её это не пугало.
— Они устроили трахадром за стенкой. Я слышу как скрипят пружины, — прошептала она.
Максу почему-то невольно представилось это зрелище: соитие почти одинаковых тел, почти близнецов, тех, что похожи во всём… кроме пола. Сплетение тонких белых рук и чёрных шёлковых волос. Ясно вырисовывалось как вздымается татуировка на плече Германа и чёрный ворон машет крыльями. Он помотал головой, чтобы прогнать видение. Ему самому стало стыдно за желание подглядывать и представлять. Инцест — одно из немногих извращений, которое казалось ему довольно жутким… до данного момента. Макс внезапно подумал о том, что вдруг у него дальше возникнет новое желание — присоединиться.
— Пошли в мою комнату, — сказала Элис, буквально утаскивая его за руку.
— Только осторожнее, тут везде краска, предупредила она в последний момент, когда Макс уже успел наступить во что-то босой ногой.
Эта комната была большой и светлой. В середине стояла большая кровать с балдахином из белого щелка. Пол оказался усеян палитрами с разведённой краской, открытыми тюбиками и другими рисовальными принадлежностями а порой и совсем странными вещами. На подоконнике имелся самый настоящий советский проигрыватель. Поймав заинтересованный взгляд Макса, Элис достала из ящика пластинку «The Doors». Проигрыватель заскрипел и через пару секунд запел голосом Моррисона.
— Травы не хочешь? — спросила Элис, покачиваясь в такт музыке.
— Ты ещё спрашиваешь?!
Она достала с полки красивый расписной бонг.
— Впервые через такой курю. Обычно либо через бутылку, либо из трубки, как Герман приучил.
— Эта штука эстетичнее.
Эта трава оказалась лёгкой и ласковой, как волны на море в солнечный полдень. Максу казалось, что он парит на надувном матрасе посреди открытого океана, а вокруг лишь приятная пустота. Губы Элис нашли его, выводя из временного ступора. Ничего не говоря, она повалила Макса прямо на свежую палитру. Он был слишком расслаблен, чтобы сопротивляться. В этот момент ему думалось совсем о другом: «Современное искусство — совершеннейшая дрянь, кровавый понос, наполненный глубинным смыслом. Музыка в России — говно. Я уже устал это хаять. Лучше просто быть лучше их всех». Макс пытался запомнить мысль и обязательно донести её до Германа завтра утром.
Мозг включился, когда они с Алисой занимались любовью на залитом краской полу. Хотелось что-то возразить, но было явно лень. А столько всего хотелось сказать о нелепой наигранности их слов и движений.
Глава 5
Мёртвые вороны в сереющем небе над городом. Чёрные перья на коже асфальта. Разве у него есть кожа? Герман понимал, что его трясёт, что мысли его превратились в один сплошной поток из боли и смерти. Он не мог жить в своей голове. Ему хотелось пригласить туда всех, кто упрекает его в неправильности действий. Всех-всех-всех в собственную голову, как в камеру пыток или комнату страха. Сегодня нужно было притвориться нормальным, стать человеком, лицом без эмоций. Быть тем, кто просто сидит на заднем ряду за колонной. Универ нравился ему все прошлые годы, но к пятому курсу это выпотрошило его нутро настолько, что стало тошно смотреть в лица бывших друзей. Его физическое состояние оставляло желать лучшего. Прохожие на него пялились, но не так, как обычно. Словно на блаженного. Словно он произносил все свои мысли вслух. Так и есть — всё вслух шипящим несвязанным голосом. Холод сводил конечности. Он пошатнулся и упал в кучу листвы. Она мягко пружинила под телом, принимая его в свой плен, — всё бы ничего, если бы не резкий запах гнили. Прелесть… — это от слова «преть». Мёртвая ворона оказалась совсем рядом с его лицом: печально открытый клюв с тянущейся оттуда ниточкой неизвестно чего, бельмастые глаза в красном ореоле и свалявшиеся перья, пропитанные запёкшейся кровью. Герман и ворона ещё долго смотрели друг на друга, наслаждаясь упадком и чёрной дырой Москвы.
Наконец Герман встал, отряхнулся и пошёл домой пьяной походкой трезвого человека. Настроение было окончательно испорчено. В институт идти не хотелось, так что пришлось возвращаться домой, туда, где Макс спит и видит десятый сон. С наступлением осени тот решил устроиться на работу, но Герман сказал, что это бесполезно, потому что денег у него и так достаточно: компенсация за смерть отца и ежемесячные проценты от дохода его фирмы. Не так много, но жить можно. Ему не хотелось отпускать друга в плен работы.
«Ты станешь одним из бесполезных рабов, — говорил он. — Лишишься способности думать и соображать. Мне когда-то уже довелось работать от звонка до звонка на моего батю. Так я приходил домой и тупо ложился с пивом перед телевизором, потому что больше ничего не мог делать. Я несколько месяцев не прикасался к гитаре, не читал книг, я даже не мог слушать какую-то слишком сложную музыку. Мне просто хотелось заработать денег для моих увлечений, к которым я на тот момент уже начинал терять интерес. Я отмотал свой срок в офисном рабстве, благополучно выйдя на свободу. Теперь у меня есть репбаза на дому — мечта любого музыканта. Боже, сколько же я в неё угрохал?!»
Дома пришлось стерпеть железный взгляд Элис (со вчерашнего дня она попросила называть её так всегда). Она ничего не сказала, просто молча убивала его глазами. Герман невольно позавидовал Максу, который может хоть под мостом жить, но никто ему слова поперёк не скажет, потому что не ждёт от него вообще никаких перспектив. Скоро о прогулах Воронёнка узнает Лукреция, а затем уже и матушка, тогда и начнётся мозгодробительное воспитание. Он навсегда связан с музыкой, она стала ему словно петля, которая губит и душит, но жить без неё невозможно. Герман осознавал, что ему никто не верит, но никто ещё не знает, какое секретное оружие у него есть.
— Я хочу выступить уже на Хэллоуин, — сказал он спящему Максу, но тот ничего не ответил.
Они по-прежнему спали в одной кровати, только всегда между ними лежала гитара, как символ целомудренности, словно меч, что клали рыцари в свои постели, гарантируя тем самым неприкосновенность дамы.
Не раздеваясь, Герман рухнул на кровать, прислонившись щекой к холодному грифу гитары. «Хоть кто-то меня понимает».
— Почему ты никуда не пошёл? — спросил Макс, просыпаясь.
— Я вдруг упал посреди дороги и понял, что это нога судьбы отвесила мне пинка.
— Больно было?
— Не очень, просто судьбоносно.
Герман лежал, закинув руки за голову и глядя в потолок. Казалось, что он смотрит в ночное небо или изучает фигуры облаков, но уж точно не пялится в старую побелку. На его лице играли тени многих улыбок.
— Знаешь, меня стали пугать люди, — сказал Воронёнок. — Я смотрел на этих угрюмых похмельных мужиков, менеджеров с лицами манекенов, женщин, потерявших всякую привлекательность, детей с отпечатками дебилизма на лице. Я понимал, что я не хочу быть, как они. Именно этим летом я сделал правильный выбор — посвятить свою жизнь полностью музыке. Вокруг меня великое множество «не таких, как все», у них это пройдёт, у них это временно. Я буду музыкантом, чтобы продлить свою юность. Я хочу, чтобы весь мир сошёл с ума, услышав мою музыку. Я не дам серости поглотить меня.
Весь день они провели в музыкальной комнате. Герман сочинял новые гитарные партии, и Максу они нравились. Ещё ни один человек не мог передать с такой точностью музыку, звучавшую в его собственной голове. Герман умел подбирать на слух, в этом и было его главное достоинство. Макс мог слушать его часами. Герман играл на всём сам. Потом он долго сводил записи: гитара, бас, синтезатор, сэмплы барабанов. Голос Макс записал не с первой попытки. Петь в микрофон оказалось непривычно и странно.
— Ты не думай, что это великая музыка, — сказал Герман. — Просто домашнее баловство. Помогает составить примерную картину нашей задумки. Я хочу видеть за каждым инструментом человека, хочу видеть лицо. А здесь получается слишком много меня.
— Но давай прослушаем окончательный вариант.
— Давай.
Песня лилась монотонными волнами, напоминая ночную реку, в которой отражаются звёзды. Однотонный бит, сочная линия баса, яркое гитарное соло, разбавляющие откровенно готическое звучание, и клавиши, создающие звук органа. Голос Макса вился змеёй меж камней, источая яд и сладость.
Эта песня была про опиум, немного провокационная и больная, и в то же время трогательная и сексуальная.
Очень странно пахнет ладан, Вызывает привкус горя. Одеяла белый саван Нас накрыл. Процесс ускорен,Макс не смог удержаться, чтобы не подпеть собственному голосу.
— Блин, я не знаю, почему так, но мне самому нравится эта песня, — сказал он, раскидываясь на полу. Ему казалось, что он втягивает песню в лёгкие, стараясь насладиться всем её смертоносным ядом. Такое случалось с ним крайне редко, практически никогда.
— Я бы что-то ещё подправил. Но уже когда дело до нормальной студии с хорошей аппаратурой дойдёт, тогда и исправлю. А в целом она мне тоже нравится — как хороший набросок, в котором можно увидеть корни шедевра, — вздохнул Герман, затягиваясь своим опиумным «Джеромом».
Запах этих сигарет смешивался со звуками песни, осаждаясь в мозгах.
Макс выглянул в коридор и понял, что уже стемнело. Весь дальнейший вечер прошёл на кухне в тишине и сиреневом дыме. Город оживал огнями. Дождь стекал по сознанию тонкой барабанной дробью. Они пили остывший с утра чай, пока Элис не принесла пиццу из ресторана внизу. У всех троих настроение было заворожено-сказочным. Она попросила послушать песню, и ей впервые это позволили. Макс же решил не пускать больше в свой мозг эти звуки, чтобы они не успели опостылеть вконец.
— Так вот почему ты сегодня не пошёл в универ? — спросила она у Германа.
— Да, и не только по этой причине. Свинцовое небо, мёртвые вороны, адский холод. А в целом, мне просто лень видеть эти застиранные лица людей вокруг. Мне осточертели их разговоры. Я тоже сру каждый день, но я же не говорю об этом.
— В смысле? — спросила Элис, на всякий случай отставляя от себя пиццу.
— В мире так много бытовухи. Её больше, чем хотелось бы. И разве что став принцем небесного замка, можно огородить себя от неё. Я тоже хожу за хлебом, пью кофе, ношу джинсы, но я совсем не считаю нужным об этом говорить, а уж тем более писать. Это так низко. Словно у них нет больше ничего в голове и за душой.
— Смирись, — сказала она.
«Никогда», — хотел ответить Герман, но не стал озвучивать вслух.
* * *
Золотистое солнце уже наливалось ярко-алым. День шёл к закату, несмотря на еще ранний час. Промышленный район утопал в дыму и смраде. В то же время пахло осенью и гарью. Этот запах так полюбился Максу, потому что возвращал его во времена октябрьских костров, когда на склонах полыхала сухая трава. А в полумраке всё походило на дикий шабаш. И дети летели к огню, как мотыльки, бросая в пламя палки и мусор, мечтая, чтобы костёр стал выше. Сейчас это напоминало Максу отголоски каких-то языческих обрядов, которые были ведомы ему в ту пору. И всё было живым: это не простой огонь, а рыжий скалящийся зверь, что отчаянно впивается в подношение из сухих досок. А дым не просто дым, а танцующие призраки, которым повезло вырваться на волю. А в одном наушнике, как назло, заиграла «Ghost Dance» Патти Смит. Её текст был понятен Максу не до конца, однако картинка на слух подбиралась та, что нужно. Наконец он понял, что пора возвращаться в реальный мир.
— Боже! Какая дыра! — воскликнул он, оглядываясь по сторонам.
Макс видел деревья в рыжем налёте осени, серый бетонный забор, венчаемый колючей проволокой, и тянущиеся за ним бараки.
— Здесь только не хватает таблички «Arbeit macht frei», а в целом вполне себе концлагерь.
— Репетиционный базы всегда находятся у чёрта на рогах, — ответил Герман, передавая Максу тяжеленную гитару.
Настала его очередь нести бесценный инструмент.
— Всё дело в том, что я нашёл живого барабанщика. У меня дома просто нет установки, да и геморроя с ней столько, если перетаскивать. К тому же я не хочу, чтобы малознакомые люди топтали мою квартиру. А тут заодно вспомнил, что у меня есть знакомая админша на базе, так что она с удовольствием нас пустит за так, ещё и кофейку налёт.
— А расплачиваться ты натурой будешь? — спросил Макс скептически.
— Почему бы и нет, — пожал он плечами и улыбнулся, как внебрачный сын Моны Лизы и чеширского кота.
На репетиции Герман проявлял себя как явный лидер. Впрочем, на эту должность никто и не претендовал. Макс им восхищался. Этим умением расслышать фальшивую ноту и направить всех в правильное русло. Вокалист понимал, что ему остаётся просто петь, здесь у него самая последняя роль. Как если бы в человеческом теле отказал бы вдруг голос, оно могло бы ещё функционировать.
Герман пару раз отводил его в сторонку и объяснял, что нельзя отрываться от коллектива. Индивидуализм тут не очень-то приветствуется. Он учил его чувствовать группу, точно так же, как он чувствует песню в своей голове. Это казалось Максу чем-то почти магическим, но в то же время понятным. Они играли ещё не очень ровно, на ходу разучивая новые песни. Каверы давались им немного лучше. Но их можно было играть только для разминки. Максу нравилось петь заезженный «Smells Like Teen Spirit», в эту песню «Nirvana» он вкладывал столько своего, что невольно хотелось ему верить. Однако её решили не исполнять на концертах и вообще где-либо. Под конец репетиции все ощутили себя усталыми, но счастливыми. Словно раньше кровь дремала в застойном болоте, а теперь она хлынула по венам проточной рекой.
В целом, по мнению Германа, вышло лучше, чем он предполагал. Он потратил немало времени, чтобы собрать состав, который может из себя хоть что-то представлять. Он уже не раз обжигался с поиском музыкантов по объявлениям на сайтах, предпочитая искать их в реальной жизни, где есть возможность сразу составить впечатление о человеке и его способностях. Эти ребята были способны на большее, чем его прошлый коллектив, который планировался как готический, но в итоге скатился в сторону унылого симфо-блэка. Из прежнего состава уцелеть удалось лишь Лукреции. Жанр нынешней команды пока было трудно определить, но это нравилось Герману, пусть даже в своём зачаточном состоянии.
— Ну и как тебе первая репетиция? — спросил Макс, когда они уселись за столиком пивной.
— Могло быть лучше, могло быть хуже, но я доволен, — ответил Герман.
— Так что с названием?
— Я уже давно думал над этим, но слишком давно в моей голове крутится название «Opium Crow», что-то в этом есть. В целом, должно вписаться в нашу концепцию. Просто ничего лучше я не вижу.
— Я тоже, — Макс кивнул, касаясь его плеча.
Их общая магия помогла необычайно сплотить коллектив. Каждая репетиция терзала нервы, словно наматывая их на гитарные колки, но в то же время дарила ощущение полёта. Макс понимал, что не чувствует себя отбросом, только когда поёт. Это внушало надежду: словно идёшь по лабиринту с закрытыми глазами и чувствуешь впереди дуновение свежего ветра; это ещё не выход и даже не луч дневного света поверхности, это просто первый признак, что ты будешь спасён. Все участники группы, кроме Германа, по-прежнему воспринимались им как безликие тени, однако он научился чувствовать их инструменты. На какую-то духовную близость рассчитывать было бесполезно, но Макс осознавал, что всё ещё подсознательно в ней нуждается.
Он сказал как-то раз Герману перед сном:
— Знаешь, только когда я пою, мне не хочется покончить с собой. Только тогда мне кажется, что я живу не зря. Словно во мне поселился злобный демон, тот же самый, что пригнал меня в этот город и заставил заговорить с тобой. Он хочет, чтобы я пел. Всё остальное время я чувствую себя усталым полутрупом и ненужным куском дерьма. Я балансирую между раем и помойкой, стараясь не потерять себя окончательно.
— О, ты даже не знаешь, какой это кайф — отыграть на настоящем концерте. Остался месяц до Хэллоуина. Я уже прислал демку оргам, ожидаю ответа.
— Ты уверен, что за месяц мы успеем сыграться?
— Уверен как никогда.
На этом они заснули, ныряя в общие видения о мировой славе и вселенском избавлении. Где-то там, за ширмой бытия, их сознание было общим и цельным.
Глава 6
— Нам всё же разрешили выступить в «X-club» на хэллоуиновской пати! — Герман расхаживал по комнате важный, как готический грач. — Выступление уже через три дня. Думаю, мы готовы.
Макс сидел и воодушевлённо слушал.
— В этой помойке? — спросила Элис.
— Ну а что поделаешь? Мне вообще сказали, что мы лучшее среди того шлака, что набрался у них в этот раз. К тому же, мы знакомы с директором клуба по моей прошлой группе. Неоднократно у них выступали среди этого мракобесия.
Герман уселся в кресло с выражением утрированного пафоса на лице.
— В былые времена, до того, как клуб впервые закрыли, я любил потусить там в женском туалете, спасаясь от ужасной музыки.
— А что в мужском? — спросил Макс со скептически искривлённой улыбкой.
— Ну там грязно и вообще не романтично. А в гримёрке звукоизоляция плохая.
Герман внимательно рассмотрел Макса: его торчащие во все стороны серые волосы со светлыми перьями, выгоревшими за лето, драные джинсы, протёртые во всех местах, и футболку с пацификом, выложенным из ножей и пистолетов. Он вообще почти всегда ходил в одной и той же одежде из своего скудного багажа и совершенно не парился по поводу внешнего вида.
— Макс, я отдам тебя в руки Элис, чтобы она привела тебя в порядок. Мы же не грандж, чёрт возьми, играем, в таком виде на сцену нельзя.
— Делай, что хочешь, главное, чтобы я сам себя не испугался.
— Шмотки мои наденешь, ты уже отощал до моего размера и так. А мне всё равно этот ворох гото-тряпок некуда девать.
Максу ничего не оставалось, кроме как согласиться. Сценический образ и всё такое. Элис утащила его в свою комнату, чтобы проделать какие-то махинации с волосами. Ножницы щёлкали где-то над ухом, как маленькие гильотины.
— Только, пожалуйста, оставь мне немного волос, — взмолился Макс.
— Не бойся. Будут тебе волосы.
На пол опадали серебристо-серые змеи, которым лезвие гильотин снесло голову.
— Если не возражаешь, я тебя чуть-чуть перекрашу. У тебя слишком безликий цвет волос, в нём теряется твоё лицо. Я, конечно, не профессиональный стилист и даже не мужик-гей, так что делать буду на свой вкус, — рассмеялась она.
— Мне всё равно. Сделай из меня рок-звезду, детка, — последнюю фразу Макс произнёс, намеренно утрируя.
Краска жутко воняла и немного жгла кожу головы, но даже это казалось терпимым.
— Слушай, процесс очень нудный. Надо пока отвлечься, — предложила Элис. — Расскажи мне, что ли, во что ты веришь?
— В Ничто — это главный бог нашего поколения, когда власть правительства не имеет авторитета, недостаточно на нас давит, чтобы заслужить волну негодования или немого смирения. Авторитет бога упал ниже плинтуса. Ну, это лично для меня. Я вообще считаю, что умному человеку просто негоже примыкать к какой-либо политической или религиозной организации. Я не одобряю действующую власть, точно так же мне противны действия оппозиции, потому что и то и другое — стадо. Православие корыстно, любит деньги и власть, в сатанизме хватает юношеского максимализма, а атеисты забывают, что стали последователями точно такой же религии.
— Ты не веришь в бога?
— Трудный вопрос. Если бы окончательно не верил, тогда мне бы не приходилось так злостно богохульствовать.
— А Герман был прав в том, что в тебе ещё живёт некое чувство, напоминающее совесть. И когда ты поступаешь плохо, ты это сознаёшь. Вот и твоё отличие ото всех.
— Я бы с радостью её убил.
— Не стоит. Именно это и отличает тебя от нашего грязного мира.
Скоро пришло время смывать краску. Когда волосы высохли, они оказались совсем белыми, почти как паутина, но это выглядело настолько естественно, словно седина. Рваные пряди имели разную длину и лишь самые длинные едва доходили до плеч. Элис сказала, что это ещё не всё. Она открыла большую палетку теней, которая походила больше на палитру художника, чем на набор для макияжа. Вздохнув, Макс принял и это. Мягкие кисточки приятно касались его кожи. Особенно приятными были ощущения на веках. Кто-то из прежних друзей Макса сказал бы, что это нереальная педерастия, но ему было всё равно. Заведшийся в мозгах Зигги Стардаст одобрительно кивал, рассыпаясь блёстками. В конце концов, в семидесятых-восьмидесятых именно так снимали тёлочек, и если сейчас тёлочки предпочитают чётких пацанчиков, то это их проблемы. Пока Макс думал, Элис красила ему ногти чёрным лаком. Он всё же настоял на глянцевом без блёсток, единственном, на его взгляд, допустимом цвете лака для ногтей.
— Вот теперь вообще замри и не двигайся минут пять, — велела она.
— Я никогда не чувствовал себя настолько беспомощным, — вздохнул Макс, откидываясь в кресле.
Казалось, что прошла вечность, пока его руки покоились на подлокотниках.
— Подожди, в зеркало пока не смотрись, — сказала Элис, протягивая ему ворох одежды. — Примерь сначала. Только осторожнее, мейк не размажь.
Затем она стыдливо удалилась, словно и не видела его голым ранее. Джинсы Германа оказались непривычно узкими, однако втиснуться в них всё же удалось. Макс пару раз запутался в чёрной футболке, состоявшей, как казалось, из одних только дыр. Он подкрался к большому резному зеркалу в углу и сдёрнул с него драпировку. То, что он не узнал себя, было мягко сказано, перед ним стоял кто-то другой, как бы это банально ни звучало.
Его лицо казалось мёртвым, но в то же время глаза блестели каким-то живым огнём, и тёмно-вишнёвые губы искривлялись в улыбке. Undead. Эта мимика раньше была несвойственна Максу, он вообще был скуп на гримасы, словно раньше лицо было незнакомым инструментом, которым он просто не умел управлять. Под глазами залегли глубокие чёрные тени, на манер готических музыкантов старой школы. Грим казался неаккуратным, но выверенным до последней детали, и даже красный ореол вокруг глазниц вносил свои черты. Брови превратились в две тонкие нити.
Кем бы ни было это существо в зеркале, Макс понял, что оно ему нравится. Он поймал себя на том, что стоит на коленях перед зеркалом, в попытке прикоснуться к собственной руке, преодолев прозрачный барьер иномирья.
В комнату вошёл Герман, заставив Макса оторваться от самосозерцания. Воронёнок тоже весьма изменился за этот краткий промежуток времени — судя по всему, он сам наводил себе марафет. Его волосы торчали во все стороны, в некоторых прядях красовались настоящие вороньи перья. В одном ухе сияла серебряная серьга с крестом. Грим его походил на раскраску Макса, разве что казался ещё более зловещим. Весь его вид чем-то напоминал мёртвого шамана. Его тощая грудь была лишь слегка прикрыта чёрной рыболовной сеткой. Костлявые руки оставались открытыми, и татуировка с вороном сверкала на плече. Кожаные штаны Германа казались такими узкими, что готовы были лопнуть при первом шаге, однако как-то держались.
Он отстранил Макса, чтобы его отражение тоже поместилось в резную оправу старинного зеркала. Хотелось сказать что-то типа: «Мы выглядим, как парочка мёртвых педиков из восьмидесятых», — однако все слова казались сейчас такими неуместными. «Это просто маскарад для сцены. Просто маски и просто игра». Герман подошёл так близко, что Макс чувствовал кожей его ауру, от которой даже волосы на теле становились дыбом, словно подносишь руку к включенному советскому телевизору. Макс продолжал смотреть не отрываясь куда-то в стену, Герман был на полголовы ниже его.
Макс попытался увернуться от протянутых к нему рук с длинными чёрными ногтями, но, пятясь назад, споткнулся обо что-то и упал. Но нет, скорее, осел в полуобмороке, не чувствуя удара. Под ним оказалось что-то мягкое, наверное, подушка. Герман, смеясь, запрыгнул на него сверху. Их губы оказались так близко, что Максу стало не по себе. Когти гладили его рёбра сквозь рубашку.
— Успокойся. Это только для сцены. Я же помню, что ты не нравишься мне без образа, — прошептал он. — Хотя сейчас ты милашка.
Макс вздохнул с облегчением. Ещё не хватало приставаний друга, на которые он никак не мог ответить по идеологическим соображениям. Он лишь расслабился на секунду, пока не почувствовал на своих губах чисто символический поцелуй. Он задёргался, сопротивляясь. Герман схватил его за запястья, прижимая к полу. Макс закричал, пытаясь пнуть его ногой по яйцам.
— Боже, ты стонешь, как Эксл Роуз. Как, наверное, весело трахать вокалистов! — на последней фразе Герман сам заржал, понимая смысл сказанного.
Пользуясь моментом, Макс, выпутался из цепких объятий и отполз в дальний угол комнаты.
— Я пошутил. Это всё только для сцены. Наша целевая аудитория — это тёлки. Тёлки любят педиков, — начал оправдываться Герман. — И тогда нам дадут! — последнюю фразу он произнёс голосом Бивиса.
— Идиот, тебе что, мало дают?! — закричал Макс, всё ещё отходящий от шока.
— Всех тёлок не перетрахать, но надо к этому стремиться, мой друг!
В комнату вернулась Элис. Вернее, она наблюдала эту картину уже несколько минут, но никто в силу обстоятельств не обратил на неё внимания.
— Герман, он всё равно тебе никогда не даст! — заявила она.
— Какая досада, — саркастически прощебетал Воронёнок и выпорхнул из комнаты.
— Просто, чтобы тебе дали, ты должен приложить усилия. И перестать быть настолько мрачным и нелюдимым самовлюблённым кретином. А вот чтобы дали Максу, он должен просто стоять и смотреть в пол. Он слишком милый, поэтому ничего делать не надо.
Герман только фыркнул. Элис наклонилась к Максу.
— Надо бы смыть с тебя этот грим.
Вместо ответа он довольно ощутимо схватил её за руку.
— К выступлению я смогу повторить то же самое, — произнесла она, немного растерявшись, когда увидела странный блеск в глазах Макса. Они стали насыщенно-синими, но от них веяло не прежней добротой и наивностью, а самой настоящей страстью.
— Иди сюда, — сказал он, притягивая её к себе.
* * *
С утра Макс облазил в сети все карты в поисках леса или чего-то отдалённо похожего на него. Выбор его пал на Измайловский парк, потому что все остальные пункты были слишком далеко от дома. Хотелось немного побыть одному, но одиночество на людных улицах Москвы уже порядком ему надоело. Он ценил грязную красоту исторического центра, но порой хотелось чего-то иного. Натянув обычную серую куртку, рваные джинсы и кеды, он молча покинул Воронье Гнездо и отправился в сторону метро. Ему вспомнились слова Германа о том, что в вагоне лучше сидеть на полу, потому что так открывается лучший вид на члены и жопы. Однако он не воспользовался этим советом и приткнулся на так называемом «месте для бомжей» — тройной седушке в конце вагона. Путь предстоял неблизкий: от «Китай-города» с пересадками до «Измайловской». Повезло же пернатому жить в самом центре столицы.
Макс замечтался и пришёл в себя, когда на седушку напротив опустился самый настоящий бомж. Макс их всегда немного побаивался: они напоминали ему зомби из старых голливудских фильмов. Всему виной, наверное, была серия «Саус Парка» с аналогичным сюжетом. Бомж достал из пакета бутылку «Блэйзера» (дешёвого полуторалитрового коктейля, которым питалась дикая неформальная молодёжь, тусившая в переходах и скверах), от одного взгляда на который у Макса заболела печень, вспоминая бурную молодость. Очевидно, бомж как-то не так растолковал его взгляд и, протянув бутылку с кислотно-оранжевой жидкостью, сиплым голосом спросил:
— Буш?
— Нет, спасибо, — ответил Макс, затыкая нос.
Бомж вздохнул, отпил своей отравы и полез в карман, извлекая оттуда конфету.
— Буш?
— Не-а, — ответил Макс, ретируясь в другой конец вагона.
Больше он решил не вступать в контакт с аборигенами подземки. В отличие от большинства приезжих, техническая сторона метро его совсем не пугала, а вот внутренняя жизнь порой нагоняла ужас. Собаки, разъезжающие в вагонах, мыши-полёвки, рассекающие по путям. Ещё страшнее были бабки и бомжи. Ужасы метрополитена не кончались на этом. Макс никогда не думал, что способен чего-то бояться до такой степени. В вагон со зловещим скрипом въехала коляска с безногим инвалидом в военной форме. Гнусавым громким голосом он просил помочь, кто сколько сможет. Макс вжался в сиденье. Реальность и собственное подсознание вдруг поменялись местами. Инвалид смотрел на всех здоровых людей ненавидящим взглядом — конечно же, он хотел видеть каждого из них на своём месте, а самому забрать себе ноги всех пассажиров в вагоне. Наверное, его тележка, проходя по узкому коридору меж сидений, выпускает острые лезвия, которые быстро пилят тонкие кости почти без боли и шума, отрезая ноги всем пассажирам на радость зелёному карлику. Макс больше не мог выносить этого зуда под коленями и взгляда инвалида, продолжавшего клянчить мелочь. Словно острые лезвия циркулярной пилы врезались в его кости. Боли не было, только мерзкий зуд. Точно такой же зуд застрял в мозгу.
Он потянул ноги к себе, полностью забираясь на сиденье. Макс чувствовал, как немеют его пальцы и отнимаются ноги. Обращать внимание на сидевших рядом уже не было сил. Макс сгруппировался, как зародыш, закрыв глаза, прижимая лицо к коленям. По вискам тёплыми струйками стекал пот. Липкий и противный, словно связка червей. В нескольких сантиметрах от него пронеслось смертоносное кресло, громко шурша колёсами, так что даже звук поезда мерк по сравнению с ним. Тело холодело, словно подступала студёная вода. С трудом дотянув до остановки, Макс выскочил из вагона. Ни о каком лесе уже и мысли быть не могло. Бегом по эскалатору наверх и спасительный звонок дрожащими пальцами.
— Слушай. Это смешно и нелепо, но забери меня отсюда.
— Что случилось? Где ты?! — кричал в трубку сонный и взволнованный Герман.
— Я на этой… как её там? — Макс обернулся по сторонам в поисках названия станции. — На «Бауманской». Я не могу спускаться в метро. Я тебе потом всё объясню, просто забери меня отсюда.
Всю историю Макс поведал Герману, когда они ехали на заднем сиденье такси полчаса спустя. Руки тянулись к сигарете каждые пять минут. Салон наполнялся горьким дымом, не спасали даже открытые настежь окна. Благо водитель не возражал.
— Ты, главное, успокойся. Есть у этого города дурное свойство — пробуждать у людей фобии, — твердил Герман. — У кого-то боязнь толпы, у кого-то — птиц. Да и вообще, хрен знает что. Я-то инвалидов не боюсь, просто мерзко становится. Но ты, главное, успокойся и не вспоминай. В следующий раз просто закрой глаза и мысленно перенесись оттуда. Не совсем помогает, но отвлекает зато.
Макс тяжело вздохнул, переваривая события скверного утра. Герман обнял его, гладя по волосам. Но в этих объятьях не было больше никакой педерастии, как в их вчерашней шутке.
— Я периодически наблюдал здесь странные вещи, — продолжил Герман. — Старухи, что торговали по ночам мёртвыми потрохами близ Лубянки, стену ужаса в Староколпачном переулке, мёртвую женщину в Яузе. Москва не город, а энергетический вампир, пожирающий наши страхи.
Глава 7
В день концерта все были на взводе, особенно Герман, чей и без того взрывной характер трансформировался в локальный Везувий. До концерта Максу запретили пить, курить и дышать, ибо вредно для голоса. Впрочем, на два последних пункта потом махнули рукой, иначе им не видать живого вокалиста. Воронёнок по десять раз обзванивал всю группу, громко матерясь, чтобы проверить боеготовность участников.
— При первой же возможности свалю все обязанности на менеджера, — заявил он, чуть не разбив телефон.
— Что там опять? — спросил Макс.
— Лукреция ноет, что не успевает дошить платье. Я посоветовал ей запилить его булавками, всё равно на один раз. Короче, хрен знает, что у нас получится.
Макс удалился подальше от эпицентра стихийного бедствия. Он сам поражался своему спокойствию, накрывавшему его лёгкой волной блаженства. Сегодня он выступит на сцене, и больше уже ничего не надо. Макс спрятался в комнате Элис наедине с проигрывателем и записями Сальери. Где-то ближе к вечеру его всё же выволокли из укрытия.
— За нами скоро приедут. Хватай концертное барахло и возвращайся в мир живых, — сказал Герман, стоя в дверях.
— А я тут подумал: не мог Сальери отравить Моцарта, он был слишком самодостаточен для этого, — ответил Макс невпопад и пошёл собираться.
— Нет, мне кажется, что мог, но только из-за неразделённой любви, — крикнул Герман из другой комнаты.
Мыслями Макс был уже далеко не здесь, а где-то в мире своих песен. Сегодня видения столь плотно объяли его, что было трудно различить контуры обоих миров. Мир грязи и мир мёртвых цветов шли рука об руку. Оба они были отвратительны и уродливы. Но в любой красоте прозревает зерно уродства. Красота в чистом виде безлика, как лист бумаги.
— Ты сегодня что, принял чего-то? — спросил Герман, пока они ехали в машине.
Макс только покачал головой, разглядывая капли дождя, ползущие по стеклу. В окна светил город. Такой ненавистный и любимый, как слишком горькое питьё или переслащённая отрава. И он был прекрасен, как целый мир, даже с трезвых глаз.
— Знаешь, как выглядели клубы в моём городе? — начал он, не поворачиваясь к Герману. — Это был какой-то советский ДК колхозника или кинотеатр тех же годов. Место с обшарпанными стульями и стёсанными ступенями. Там всегда пахло побелкой и пылью. Этот запах было не переглушить даже сигаретами, пивом и потом. И я ходил туда, чтобы один день из моей жизни не был похож на другой. И мне было наплевать на качество звука. Я бы мог напиваться и под жужжание бензопилы.
— Тут получше. Только всё равно шлак, — ответил Герман. — Мне больше нравились клубы в Лондоне или Амстердаме.
Они снова погрузились в молчание. Машина летела сквозь вечернюю демоническую Москву, сливаясь с общим потоком разноцветного огня. Макс выводил пальцем на стекле узоры из ломаных линий. Герман гладил чехол гитары, которую не позволил запихнуть а багажник.
— Знаешь, а я всё ещё боюсь… — начал Макс.
— Выступления? — спросил Герман. — Мы все его боимся.
— Да не ссыте вы, — отозвался с водительского сиденья барабанщик, делая резкий поворот.
— Нет, я о вчерашнем, — Макс перешёл на шёпот. — Вдруг он подстерегает меня, чтобы отпилить мне ноги.
— Прекрати ты. После того, как я набил татуировку, мне снилось, что ворон выклёвывает мои глаза и относит на могилу глухого музыканта, и только потом осознаёт, что глаза ему не нужны. У каждого есть свои страхи. Они тоже должны быть источниками вдохновения, как и всё, что мы видим вокруг.
Спустя двадцать минут они оказались у клуба. Дождь всё так же накрапывал с неба, напоминая китайскую пытку. Герман поздоровался за руку с охраной, спросил об общих знакомых и почти искренне улыбался. Потом они искали директора, который обнаружился в баре. Одна из команд уже начала саундчек. Макс пожалел, что не взял с собой беруши. Волны чужой музыки нарушали его хлипкую гармонию в голове.
— Борис, знакомься, это наш новый вокалист. Настоящий гений, если не лажает, — Герман представил его бородатому мужчине в футболке с эмблемой клуба. Максу пришлось пожать его ладонь, крупную и сухую.
— Что ж, очень хорошо, Ворон. Я надеюсь, этот проект лучше предыдущего.
— Я тоже на это надеюсь.
— Хэллоуин. Всем наплевать на музыку. Пиво, костюмы и пьяные танцы.
Макс слонялся по клубу в ожидании саундчека. В коридоре висела огромная афиша с праздничной тыквой и эмблемами групп. Пальцы коснулись алых букв «Opium Crow», вороньих перьев и силуэтов маковых лепестков. На душе сразу стало теплее. Словно мудрый ворон благословил его своим крылом. Начинал нарастать лёгкий мандраж. Вскоре явились и остальные участники группы: Лукреция и басист. Макс опять поймал себя на том, что не может запомнить, как зовут барабанщика и бас-гитариста, как ни крути. За весь месяц он им и слова не сказал, уделяя внимание только звучанию их инструментов.
Максу нравился безлюдный клуб. Почти два часа до начала вечеринки: тишина и темнота. Вот только Герман вытащил всех на сцену. Поначалу звук просто оглушал: на базе они играли относительно тихо.
— Первый микрофон погромче сделайте! — закричал Герман звукорежиссёру.
От звука собственного голоса закладывало уши. Пришлось привыкнуть: это же их собственная песня. Герман всё же решил сыграть сегодня «Цветы загробного мира», эту шизофреническую балладу по мотивам манги Суэхиро Маруо «Безухий Хоити». Нечто подобное главный герой новеллы исполнял на могиле мертвецам. Макс повторял слова, входя в предконцертный транс. Ему вдруг подумалось, что надо было перевести её на английский, чтобы никто не догадался, о чём на самом деле этот бред. Современные группы прикрывают свою поэтическую бездарность англоязычными текстами, наивно полагая, что так их заметят на Западе. У «Opium Crow» пока что была лишь одна, «Insane», в русском варианте — «Душевнобольной». Герман на этот счёт выразился довольно точно: «Вот пригласят на Запад, тогда и можно будет тексты перевести на забугорный, а пока так».
Сейчас, во время саундчека, Герман выглядел нереально бледным и нервным. Отыграв пару песен, он всё же смог вернуть душевное равновесие по мере настройки аппаратуры. Время поджимало, и пора было в гримёрку.
— Знакомься, мой юный друг. Вот это — гримёрка. Здесь трахают шлюх и нюхают кокс, — развёл руками Герман, показывая два видавших виды виниловых дивана и подобие зеркала. — Но мы пока ещё не рок-звёзды, так что даже пить до выступления не будем.
— Почему? — спросил кто-то.
— Не хочу повторять ошибки прошлых лет. Так что давайте курнём трубку, и чтобы орги нас не спалили.
С опозданием явилась Элис, чтобы запомнить всем, что они ещё не накрашены и не одеты.
— Ну и гады же вы, — начала она. — Не могли мне халявную проходку сделать. Пришлось немного на входе поскандалить, но всё обошлось. Я никого не убила.
Глядя на хрупкую рыжую девушку, с трудом верилось, что она способна какого-то убить, но проверять не хотелось.
Макс снова влез в свою концертную шкуру, которая по совместительству служила ему карнавальным костюмом. Это был просто образ его самого, призванный задвинуть за угол прежнюю личность и выпустить зверя. Он чувствовал себя чистым холстом, на который с каждым взмахом кисти гримёра наносят новую личность. Макс посмотрел на себя в зеркало. Отражение подмигнуло ему и оскалилось. Снаружи уже давно играла музыка и слышались голоса.
— Пойдём посмотрим, что там происходит? — предложил он Герману.
Тот уже закончил подводить глаза и согласился. Они просочились в душный зал клуба, смешиваясь с толпой. Здесь курили даже на танцполе, и облака разноцветного дыма поднимались к потолку. Люди — чёрные тени с бледными лицами и узорами, изображающими шрамы. Все они вились у сцены, лениво попивая коктейли под незамысловатый электронный ритм. На сцену взгромоздился лысый карлик в серебристом костюме и дурным скримом запел «Катюшу». Макс инстинктивно зажал руками уши и ринулся обратно в гримёрку.
— Господа, я был в аду! — гордо объявил он всем собравшимся.
— Вот видишь. Нам за своё выступление бояться нечего, — успокоил его Герман.
— Но, это даже не музыка. Я не понимаю, как это может вообще кому-то нравиться. Даже в попсе есть какой-то намёк на мелодичность, чёрт возьми, — сказал он, медленно стекая по дивану.
— Говноедство — одна из проблем музыки в России, — спокойно ответил Герман, затягиваясь сигаретой. — Эта толпа чумна и пьяна, ей сойдёт абсолютно всё.
После выступала какая-то команда, обозначившая свой стиль как готик-метал. «Ну это когда ты понятия не имеешь о готик-роке, но трахать херок всё равно хочется, — охарактеризовал сей жанр Герман. — Кому какая разница. У нас никогда не было шварц-сцены, только извечная арш-сцена во все времена». Но это почти можно было бы слушать, если бы не явный плагиат и напускную депрессивность звучания.
— Ветераны клуба, — сказал Герман. — Кроме «X», их, по ходу дела, никуда не пускают, как и большинство здесь присутствующих.
Макс чувствовал, как мандраж нарастает вкупе с экстазом. Скоро ему предстояло выйти на сцену. Сладкий водоворот дыма марихуаны уносил его вглубь сознания. Все участники тоже приняли по чуть-чуть, дабы ловить общую волну. Время приблизилось к двум часам ночи, когда они вышли из гримёрки на эшафот маленькой сцены. Ночь Дьявола в самом разгаре. Глаза ряженой нечисти смотрели из темноты зала, что казался чёрной зыбью Стикса. Несколько минут, чтобы подключить инструменты. И вот уже прозвучали первые вступительные аккорды «Романтика». Макс видел глупые лица толпы, и понимал, что сейчас он никому на хрен не нужен со своим пониманием мира и музыки. Они просто смотрят на него, как на нечто нарушающее их эстетические нормы. На того, кто реально безумен. Он не запел в том самом понимании песни. Он дал первый и решительный залп голосом, заставив всех вздрогнуть. Даже надменные девицы у стойки, едва не расплескав своё пиво, уставились на сцену. Он не уйдёт с этой сцены забытым, даже если ему суждено умереть прямо здесь, на этих пыльных досках. Больше не было той боязни звука, что преследовала его на саундчеке: голос работал во всю силу. Макс не боялся забыть слова — казалось, что они шрамами запечатлелись на его запястьях и каждая клеточка горит этой знакомой болью.
Я снимаю лицо, понимая, что я не красавец, Мне не светит любовь или пошлый испорченный глянец,— пропел он, то почти скатываясь в постпанковский речитатив, то снова давая голосу возможность плыть по волнам музыки.
Элис наблюдала из зала за танцем разноцветных прожекторов по бледному лицу Макса. Даже Герман и вся группа ушли вдруг для неё на второй план. Она следила за его движениями и пальцами, обхватившими микрофонную стойку. Он извивался у микрофона с долей какого-то мёртвого зловещего эротизма. Он уже не был собой — сбросив в гримёрке человеческую кожу, он стал вдруг демоном. На краткий миг ей показалось, что она влюбляется. «Это не твой человек, он полностью принадлежит искусству. Он уже продал свою душу», — сказал внутренний голос, и с ним пришлось смириться.
Они уже начали играть «Опиум» без перерыва и разговора с публикой, просто инструменты на миг замолкли, чтобы разродиться вновь этим переливчатым безумием. Герман чувствовал, как его уносит на волнах собственной музыки с нежным опиумным дурманом. Сейчас, во время выступления, песня звучала агрессивнее, чем это было на репетиции. «Если уж сбиваться, так всем вместе», — вздохнул он, понимая, что получается, тем не менее, у них неплохо. Толпа внизу раскачивалась, как мёртвые деревья на ветру, руки были белыми гниющими ветвями. Герман играл своё соло, глядя поверх голов. Лица живых мертвецов несколько пугали его в этот миг. Он улыбался так, чтобы каждая девчонка в зале думала, что он улыбается именно ей.
Очень странно пахнет опий, Навевая мысль о смерти. Выйди из своих утопий На поверхность земной тверди,— пел тем временем Макс, протягивая руку к залу.
Он двигался в такт музыке, слившись в безумном танце с микрофонной стойкой. Это выглядело чересчур сексуально, но для него уже не было рамок приличия. Элис знала, что девушки в зале могут не обращать внимания на музыку, но сто процентов хотят вокалиста. Потому что сейчас в нём было столько страсти, смерти и наркотического угара, что просто невозможно было пройти мимо. Эго голос — звенящая вода в хрустале. Сегодня он казался ниже и глубже, словно петь приходилось из самой могилы, создавая классический вокал для готик-рока.
Песня закончилась неоднозначной фразой:
Нежным лезвием по коже, Прогоняя жизнь и стыд. Вены вспороты и, может, Твоя жертва всё простит.В темноте прозвучало что-то похожее на аплодисменты. Макс с Германом как-то наигранно поклонились, и музыка заиграла вновь. Безумное и полукакофоническое вступление «Insane», от которого мозги стекали в ботинки вместе с глазами и ушами. Эти кривые гитарные рифы и солирующая партия баса сливались с голосом Макса, который буквально бился в припадке:
I got up in the morning and put both my eyes In the jar full of spirit to keep them away, I got up in the morning concealing my face To prevent its disgusting decay. [1]Элис показалось, что на английском он поёт лучше, полностью отдаваясь песне, не спотыкаясь о неудобные русские звуки. В зале творилась какая-то вакханалия. Публика наконец разошлась и начала изображать что-то вроде танцев. Они были безумны, как и их наряды, — дети, играющие в мертвецов под звуки музыки давно умершего жанра. Песня оборвалась, уходя в пустоту. Настала очередь для «Цветов загробного мира». Тут Герман позволил себе сделать маленькое отступление и рассказать историю песни, не забыв упомянуть Маруо-сама.
Макс приник к микрофону и запел:
Когда цикады воспоют, Умри под облаками. Возненавидь весь мир, мой друг — Рожден иными небесами. Когда умрешь, нарви цветов, Растущих в собственной могиле. Твой дом — твой гроб, твой сладкий сон — Не дай разрушить нечестивым. И не рожденное дитя, из чрева выползая, Станцует на твоих костях, песнь о тебе играя. С песчаной бурей отходной, Проснись в гробу, проснись и пой. Так плачь же, смертный, и вопи, Танцуя в собственной крови. Счастливым летним днём Ты обернешься льдом С гирляндой в волосах И радостью в глазах.Когда песня закончилась, к Максу наконец-то вернулось восприятие реальности. Он слышал аплодисменты, гул одобрения, вопли презрения и множество других совершенно ненужных звуков. Но сейчас он мечтал лишь об одном — о стакане холодного пива. Он спрыгнул со сцены, очутившись в толпе, с которой было очень легко смешаться.
— Эй, круто отыграли, — кто-то похлопал его по плечу.
— Спасибо, — равнодушно ответил Макс, держа путь в сторону бара.
После них вышла ещё одна группа, название которой он пропустил мимо ушей, но публика приветствовала их куда теплее, чем все остальные коллективы. Герман догнал его возле барной стойки.
— И это сейчас ценит публика, — сказал он сквозь рёв музыки. — Ты только посмотри и послушай.
На сцене стояла девушка в туго затянутом корсаже корсаже. Рваная чёрная фата скрывала почти всё её лицо. Шлейф от платья стелился по полу. Эдакая готическая дива, которой мечтает стать каждая тринадцатилетняя «готесса». Под металлические рифы и клавишное соло она запела голосом простуженной Тарьи Турунен.
— Ну сколько раз твердили миру: не пойте на связках, суки! — прошипел Герман.
— Да и музыка — кто в лес, кто по дрова. Полный фейспалм, — Макс осушил залпом почти половину пивного стакана.
— Знаешь, в чём фишка? Они уже десять лет играют.
Макс скривился вместо ответа.
— Неудивительно, что на них так фапают. В стране, где слушают «Отто Дикс», возможно всё, — продолжал Герман.
Он достал из кармана плоскую флягу коньяка и присосался к ней, словно к живой воде.
— Пойдём отсюда. Лучше уж траву в женском туалете покурим, там звукоизоляция хорошая.
Глава 8
Снился шум. Словно его порождала сама голова и выплёскивала в окружающий мир. Мысли пресекались ядовитыми иглами. Макс резко приподнялся с постели. Мир вокруг поплыл.
— А ты не говорил мне, что у тебя вращающаяся кровать, — улыбнулся он сквозь боль.
— Чего? — спросил Герман, выпутываясь из кокона разноцветных одеял.
— Я почти проснулся, но мир не перестал вращаться.
— Это не мир, — ответил Воронёнок. — Это ром, виски, текила и абсент. Чарующий хоровод, не правда ли? А когда они танцуют вместе с травой, то становится уже трудно остановиться.
Он произнёс свою речь и упал обратно, стараясь придавить голову подушкой, чтобы мозги не сбежали через ухо.
Потом пришла Элис, принесла «Алкозельцер». Стало чуточку легче дышать, хотя дурнота не покидала. Герман извлёк из шкафа всю аптечку и они закинулись всем подряд. Обезболивающие на старые дрожжи дают неожиданный эффект. Вроде голова ещё болит, дурнота накатывает, но становится подозрительно весело.
Макс посмотрел на часы: было где-то около шести вечера. Самое лучшее время для пробуждений в растянувшейся осенней тьме.
Они снова бесцельно пялились в канал с мультиками, где смешивалось всё. Хотелось спать, но открытые глаза всё ещё транслировали в мозг безумные картинки.
— Что вчера было? — спросил Макс.
— Да много чего весёлого.
— Лучше не рассказывай. Как мы выступили, на твой взгляд?
— Хреново, но знаешь, чуть менее хреново, чем те, кто играл с нами на одной сцене. Так что это помогает держаться на плаву в океане нечистот, — Герман развёл руками, словно стараясь обхватить всё бескрайнее пространство фекальных коридоров.
— А если честно? — в голосе Макса мелькнула слабая надежда.
Герман ничего не ответил, только простонал.
— Всё говно… потому что в России нет рока, — выдавил он после паузы. — Русские не могут играть рок, потому что холодно, прими это как аксиому. Русский рок — это не музыка, это социальное явление, которое вообще тяжело назвать культурой. Собственно, говоря откровенно и объективно, мы из этого говна ещё не выплыли.
— Что ты всё про говно заладил? — хмыкнул Макс.
— На сегодняшний день это моя система метафор, — Герман, пошатываясь, поднялся с кровати. — Это моё мироощущение, склеенное из непонятно чего… — он запнулся на полуслове и рухнул обратно, растекаясь по кровати, ощутив блаженную слабость в мышцах.
— Тебя адски несёт.
— Я знаю… дай немного побыть убитым пророком, пока зелёная фея танцует на моих струнах, что всего лишь иглы, торчащие из моих вен. Ах… битая кривая психоделика. Во мне умер поэт. Я — братская могила.
Макс слушал переливы его голоса, что сейчас походил на вороний грай. И ему казалось, что он понимает, что говорит Герман, видит образы в его голове. Они психоделически мрачны, как кадры из старого мультфильма «Кот Фриц», где всё вокруг пышет марихуаной, любовью и безысходностью, а чёрные вороны играют джаз на крышах многоэтажек.
Всё вокруг менялось с невероятной быстротой, словно мчишься на хиппивагене по радуге, а попадаешь прямиком в крематорий Дахау. Цвети от безысходности и пиарь экзистенциализм, как будто он был придуман вчера! Любовь ждёт тебя за каждым углом с верным средством от боли в башке.
Ночь тянулась в смоляном ожидании чего-то. Конца пытки или конца света. И всему виной даже не похмелье, а какая-то невнятная брешь в груди после того самого концерта. Это дьявольская опустошенность, когда не знаешь толком, следует ли продолжать, несмотря на то, что это не было явным провалом.
Они вышли на улицу, сами не зная зачем. Кажется, купить сигарет или что-то поесть. Эти спонтанные желания порой возникали у них синхронно. Было холодно, ледяной ветер сковывал пальцы. Макс опустил их в карманы куртки. На дне барахталась какая-то мелочь. Он сгрёб её в ладонь и принялся считать.
— Пойду куплю пива, — кивнул он в сторону палатки.
Герман не глядя насыпал ему в руку целую горсть мелочи. Он не любил, когда эти бесполезные деньги оттягивают карман. Макс вернулся с двумя бутылками «Будвайзера». Герман так же молча взял свою. Где-то с минуту они стояли, глядя на автостраду, попивая отличное тёмное пиво.
— Хочу, чтобы было тепло, — сказал Макс, присаживаясь на бордюр.
— Хочу быть бомжом, — сказал он, плотнее вживаясь в роль.
— Ты и так бомж, — улыбнулся Герман.
— Мне стыдно.
— За что?
— За то, что ты меня подобрал, а теперь я стал твоим проектом.
Герман из солидарности присел рядом.
— Кто бы меня теперь подобрал? Нас всех, — сказал он, обхватывая руками острые колени. — Подберите бродячую рок-группу! — обратился он к какой-то проходящей рядом женщине.
Та ничего не ответила, лишь презрительно фыркнула.
— Никому мы не нужны, — констатировал Воронёнок. — Будет лето — мы сбежим отсюда.
Жизнь потянулась в ожидании лета под дулом ноября.
* * *
Они были на какой-то готической вечеринке. Максу казалось до ужаса скучным наблюдать всё с позиции зрителя. Клуб вне гримёрок и сцены не представлял для него ценности. Отсутствие живой музыки навевало мысль о сельских дискотеках где-то в Аду.
— Скучно, — сказал он Герману.
— А ты что — ожидал попасть в «Batcave»?
Тот ничего не ответил. Глядя на этих людей, невольно хотелось проклинать это пустое и броское время. Уже не вернуть «Batcave», разница места и времени беспощадна. Им осталось только горевать по эпохе, которую они так и не застали. И вряд ли могли себе даже представить. Но в них жила эта неясная ностальгия по миру, о котором они знали только по аудиозаписям и чёрно-белым фото.
Их даже узнавали некоторые посетители клуба, приветственно размахивали руками или просто кивали. Герман знал, что за ними наблюдают. Когда он отошёл, к Максу тут же подвалила какая-то девушка.
— Зачем ты тусуешься с этим идиотом? — спросила она.
Макса раздражало, что во время разговора эта особа постоянно подпрыгивала и втягивала шею.
— Эти бездари тянут тебя на дно, — хмыкнула она, не дожидаясь ответа.
Макс так ничего и не сказал, молча развернулся и пошёл. Ему вообще было нечего говорить, хотелось съязвить, но на языке не хватало яда. Спутники странной чёрной мадам оживлённо зашептались.
Откуда-то из темноты снова появился Герман:
— Вот, стоило на пять минут тебя оставить, как ты тут же куда-то вляпался, — довольно громко произнёс он, утаскивая Макса за руку подальше от этих людей. Его распирало от смеха явного злорадства. Компания за столиком провожала их пронзительными взглядами. Недолго думая, Воронёнок демонстративно приобнял Макса за плечи.
— Ты их знаешь? — спросил тот, когда они переместились в туалет. Здесь было потише и вообще как-то более приятно, чем во всём клубе.
— Конечно, — ответил Герман. — «Devil's Rose» в полном составе. Ты же наверное, помнишь их по Хеллоуиновской патичке?
— А… кажись, она после нас выступала.
— Я с них угараю.
— А за что они тебя не любят?
— Ну зато, что я играю лучше их, а ещё люблю члены и трахаю свою сестру. Короче, за правду. Если быть честным, то меня мало кто любит. Может быть, потому что я лучший, а может, потому что я просто есть. Я не очень заморачиваюсь по этому поводу. Ты и так знаешь обо мне больше, чем все они, если ты всё ещё рядом, значит, это тебя не пугает, — Герман подмигнул своему отражению в мутном зеркале.
Они вышли на улицу, чтобы до утра переждать в каком-нибудь баре. Было около двух часов ночи. Городские огни растекались в чёрном молоке ночи. Всё, как летом, только холодно, сыро и страшно. Макс сам не знал, откуда берётся этот страх, но поздняя осень — самое лучшее для него время. Именно тогда хочется веселиться до смерти, чтобы не чувствовать ледяные клешни ноября, сомкнувшиеся на его сердце.
— Тухло всё, — сказал Макс, глядя на разноцветную рябь от фонарей, растёкшуюся по луже.
— Не впадай в депрессию по причине того, что современную музыку не изменить. Всё пройдёт, если заниматься своим делом. Это просто затянувшееся похмелье, это пустота, которую невозможно выдохнуть. Ты чувствуешь себя живым, когда ты поёшь?
— Только в этот миг мне не страшно. Я чувствую словно вокруг меня ломаются бетонные стены, мои собственные рамки. А всё остальное время я словно сплю.
Они продолжали брести вдоль дороги. Даже ночью в Москве жизнь кипела, только сейчас она напоминала шевеление опарышей в трупе.
* * *
Герман хотел сделать репетиции чаще, но музыкантов это не устраивало. Очень скоро им пришлось расстаться с басистом по идеологическим причинам. Герман пожелал ему сдохнуть в дороге, но дальнейшая судьба его неизвестна. Воронёнок знал, что судьба в скором времени сжалится над ним и укажет верный путь.
Остаться без басиста в такой момент было чем-то сродни катастрофе. Он не торопился с поисками, доверяя своей интуиции. Он встретил в метро странного парня с огромным чехлом за спиной, в котором покоилось что-то явно больше обычной гитары. Это был странный тип со здоровенным начёсом иссиня чёрных волос. Он был одет в огромную камуфляжную куртку и постоянно теребил ногти, покрытые облезшим чёрным лаком. Герман долго смотрел на него с другого конца вагона, пока не решился подойти.
— Эй, ты часом не басист? — спросил он.
— Часом да, — ответил тот, пряча взгляд, по его щекам пробежал лёгкий румянец.
Он очень заметно нервничал в общении с незнакомыми людьми.
— Куда путь держишь? — спросил Герман, стараясь перекричать шум метрополитена.
— С репы.
— Чувак. Шли их к чёрту! Иди к нам. Хватит играть с говнарями.
Парень почесал голову, наводя на голове ещё больший беспорядок.
— Э-э-э… ну давай.
Они обменялись телефонами. Герман понял, что точно возьмёт его в группу, даже без предварительного прослушивания. Образ этого парня глубоко запал ему в душу.
Его звали Дани. Какая-то своеобразная вариация от имени, не имеющая иных привязок.
— Почему ты подошёл ко мне? — спросил он в следующий раз.
— Ну у тебя было такое выражение лица, что я сразу понял, что ты басист.
На репетиции он довольно быстро подбирал партии и вливался в струю. Все заметили, что с появлением нового басиста «Opium Crow» стали звучать агрессивнее и живее. Макс ничего толком не мог сказать про нового басиста кроме:
— Мне кажется, он внешне косит под Никки Сикса.
Герман пожал плечами.
— Скорее он похож на Саймона Гэллапа.
* * *
Ближе к «Концу света» подвернулось ещё одно выступление. Шёл 2012 год. Эта тема была актуальна и ожидаема. Двадцать первого декабря мир готовился разорваться на куски. Для группы это оказалось проще, чем прошлый концерт. Всё те же несчастные полчаса в тесном винегрете из начинающих групп самого разного жанра. Макс умудрился поцапаться за сценой с гитаристом «Devil's Rose», им удалось разойтись почти без жертв, хотя тот, похоже, затаил обиду. «Opium Crow» отыграли его как очередную репетицию, холодно и отстранённо. Однако оказались весьма тепло встречены интернет-прессой. Они навали их «экзистенциальными романтиками», музыка которых похожа на «непроходящий бед-трип». Герман даже был почти доволен этим отзывом и не хотел никого убивать.
Сам Апокалипсис они встречали на крыше многоэтажки с кальяном и мартини. Лёд в бокале возникал сам собой. Пальцы коченели. Мрачный мир утопал в снегах. Небо наливалось алым, изредка его украшали вспышки траурного салюта. Из колонок доносился джаз, и казалось, что осталась всего секунда до взрыва. Ровно в двенадцать вспышки раздались во всех концах Москвы. По небу заплясали золотые фейерверки, мир на миг опустился во мрак, потом воссиял вновь.
— Чёрт, так мы никогда не умрём, — вздохнул Герман, опрокидывая в себя стакан ледяного мартини.
— С новой эпохой тебя, — сказал Макс, пряча обветренное лицо в шарф.
В эту ночь было особенно морозно, но Герману не терпелось встретить последний день мира на крыше, чтобы лучше видеть, как рушится город. Хотелось увидеть, как Останкинская телебашня взлетает ракетой и протыкает луну, трескается асфальт, выпуская потоки магмы, а с неба падает метеоритный дождь, уничтожая всё живое на своём пути, а потом всех вокруг накрывает облаком ядовитого газа. Но ничего не произошло, календарь Майя завертелся в обратную сторону, начиная новый бессмысленный виток существования Вселенной. Все в этот миг ощутили лёгкое разочарование. Теперь они просто обречены на жизнь.
* * *
В католическое рождество Макс украл из костёла фото мёртвой монашки. Он толком не знал, чем оно ему так понравилось, наверное, просто потому что лежало одиноко рядом с ящиком для пожертвований. Она была красива, пожалуй, даже лучше многих живых женщин. Вся в своей черно-белой бледности в окружении цветов, и прекрасные глаза её крепко-накрепко закрыты. Герману она тоже понравилась. Они решили, что если когда-то будут выпускать альбом, то данное фото станет отличной для него обложкой. А пока монашке оставалось висеть над кроватью вместе с другими открытками и вырезками из газет.
Новый год запомнился только тем, что его никто не хотел отмечать. Все были сыты по горло этим вечным праздником жизни. В этот день ещё одной банальной пьянки. Вся группа собралась дома у Германа, притусовались ещё несколько знакомых, которых никто не звал, но и выгонять не стремился. Где-то часам к трём все уже разбрелись спать, убаюканные абсентом и джином, радуясь, что праздник прошёл без эксцессов.
Глава 9
Это был День Всех Влюблённых, когда в воздухе носились розовые миазмы дешёвой романтики. Снег парил за окном, словно божья перхоть. Макс проснулся в постели Элис, опутанный её рыжими волосами, словно змеями. Он смутно припомнил минувшую ночь в аромате дыма. Элис рисовала на его теле разноцветным акрилом. Следы краски остались на простыне и одеяле безумной экспрессией страсти и бреда.
— С днём сутенёра! — сказала она, не открывая глаз.
Сны ещё держали её в своих чарах.
Макс ничего не ответил, но эта трактовка праздника нравилась ему гораздо больше. Элис открыла глаза, поворачиваясь со спины на бок. Одеяло сползло с её голой груди.
— Доброе утро, — сказала она, шаря руками под одеялом.
— Угу, — ответил Макс, он так не любил эти формальности.
— У тебя скверное настроение.
— Возможно.
— Надо исправить, — улыбнулась Элис, исчезая под одеялом.
Он вышел на кухню спустя пятнадцать минут. Утренняя сигарета тлела в руке. Солнце запуталось в шторах.
— Чувак, ты выглядишь так, словно Зигги Стардаст обблевал тебя блёстками, — в дверной проём заглянул язвительный Герман.
Макс ничего не ответил, лишь скривил уголки губ, вспоминая, что всё ещё перемазан краской. Скрипнула дверь в комнату Германа, затем послышались шаги и лязг замка.
— Что это было? — спросил Макс.
— Призраки, их здесь много. Я так одинок, что меня окружают бесплотные духи и мёртвые шлюхи.
Он отошёл закрыть входную дверь.
— С праздником тебя, кстати, — сказал Воронёнок, возвращаясь на кухню.
— Не стоит.
— Почему?
— Это всё равно, что поздравлять тебя с днём подводника. Ты же не подводник — а я не влюблён.
Герман прошмыгнул мимо него и полез к холодильнику.
— У меня есть для тебя особый подарок!
— Если это бутылка холодного пива, то всегда пожалуйста.
— Нет, закрой глаза и протяни руки.
Макс вздохнул, послушно следую указаниям.
В руки ему упало что-то холодное и скользкое, весьма мерзкое на ощупь.
— Что за? — не выдержал Макс, опасаясь, что в руках у него кусок несвежего говна (вполне в духе Германа).
— Теперь можешь открыть глаза.
Он открыл глаза. Реальность оказалась куда более странной, чем все его предположения. В руках Макса лежало настоящее сердце, покрытое тонкой коркой наледи из морозилки. Полупрозрачный мясной сок с остатками крови струился по рукам. Выглядело оно жутко, но в то же время завораживающе.
— Ты псих. Где ты его взял? В морге, что ли?
— Нет, купил в магазине. Свиное сердце очень похоже на человеческое.
— Это самый милый подарок из всех, что я получал. Только вот что мне с ним теперь делать?
Герман положил ему руку на плечо.
— Ну, я подарил тебе сердце. И тебе решать, что с ним делать.
Макс так и стоял, глядя на сердце в своих руках, пытаясь понять подлинное значение этого подарка. Реалистичный вариант валентинки или же новая серия домогательств Германа? Просто так или скрытый подтекст? Или это просто ничего не значащий оригинальный подарок. Дверной звонок отвлёк его от этих мыслей. Положив сердце на сковородку, Макс пошёл открывать. «Кого там ещё принесло?». В дверях стоял Дани с замученным бессонным лицом и торчащими во все стороны волосами. Макс снова забыл, как его зовут. Он обычно не утруждал себя запоминанием имён, особенно тех, кто играет с ним в одной группе. А этого чувака Герман подобрал в метро не так давно. Он был странный, но играл как пьяный бог.
— Дани, какими судьбами? — спросил Герман, впуская внезапного гостя. — пришлось свалить со старой вписки, — ответил он, грустно улыбаясь. — Можно у тебя перекантоваться пару дней?
— Ладно, Элис всё равно уезжает.
Дани бережно поставил на пол басуху и швырнул рядом рюкзак.
— Я просто посплю в твоей ванной, — сказал он, сворачиваясь на коврике.
— Да ты как-то прифигел, — выдал наконец Макс.
Герман осторожно ткнул Дани ногой под рёбра.
— Пусть спит. Пол с подогревом.
— Да он упоролся.
— Он мудак. За этого я его и люблю, — улыбнулся Герман.
* * *
А Дани витал в своих туннелях пустоты где-то там, посреди чёрного мира и мутного водоворота. Он не был пьян, просто захлёбывался собой. Он не был достоин того, чтобы спать на кровати. Сейчас он вообще ничего не достоин. Дани не понимал, зачем наплёл им про какую-то девушку. Так, мнимый повод для страдания. Понятный и доступный. У него уже сто лет не было никакой девушки. У него сто лет не было материально повода для страдания. Игры собственного сознания и разочарование в жизни были слишком недоступны остальным людям.
Сегодня утром он выпил две упаковки кетарола и забылся в горячей ванне. На вписке не было никого. Из колонок в гостиной всё ещё играла музыка. Дани курил последнюю сигарету и смотрел на плесень, проросшую на кафеле. Он боролся с тошнотой, то и дело сглатывая горькую слюну. Как-то грустно умирать с горечью. В звуках за стеной смутно угадывалась «Just Another Psycho» — «M;tley Cr;e». Приятно умирать под хорошую музыку. Дани вдруг вспомнилось, что Йен Кёртис из «Joy Division» повесился под Игги Попа. Тоже неплохой выбор, но стоит приберечь этот треклист до следующей смерти. Где-нибудь там, на обратном круге изнанки, он выйдет в окно или прыгнет под поезд. Такое стечение обстоятельств его вполне устраивало.
Вода начала заливаться в уши. Музыка утонула в сплошном гуле. Он не успел ничего подумать или ощутить. Всё постепенно растворялось и исчезало из поля зрения — словно засыпаешь, только больнее. Дани не понял, как проснулся, исторгая из себя поток воды и белёсой жидкости, оставшейся от непереваренных таблеток. Его тошнило прямо на пол. Он перевесился через борт, который больно впился в грудь. Вода в ванной уже остывала. Дани чувствовал себя плавающим в прохладном бульоне. Голова раскалывалась.
Музыка снова звучала в ушах, только не было сил разобрать ни звука. Это была не эйфория жизни, а просто проигранная схватка с бренностью. У чёрного жнеца сегодня не встал.
Он собрался и пошёл бродить по выжженному морозом городу. Метель вал за валом нагоняла снежные волны. Острые иглы льда впивались в щёки. Дани, как всегда, был одет не по сезону, стараясь согреться под свитером и кожаной курткой. Он ездил на трамваях, наблюдая за провисающими за окном проводами. Дома и люди отматывались назад, как старая плёнка.
Как давно этот мир потерял цвет. Эта реальность даже не была уродливой, потому что в любом уродстве есть своя красота. Она была никакой. «В России даже радуга серая, как платки старух, плащи работяг и снег под их ногами», — подумалось Дани в тот миг. В этом мире не было сил жить и точно так же не хотелось умирать, потому что после смерти нет иной дороги, кроме как обратно сюда. Может быть, он уже умер и, не заметив этого, продолжил жить в аду?
Дани вышел на конечной в незнакомом районе, когда уже совсем стемнело. Из незакрытого подъезда пахло теплом и мочой. Лестницы уводили вдаль. Он бежал вверх, не чувствуя усталости и своей тяжёлой ноши. Кривая вывела его к чердаку. Распахнулся податливый люк. Его встретила тишина, пустота и голубиный помёт. Дани бродил по чердаку, пиная мусор. Открыв дверь, он вышел на крышу. Метель ударила в лицо. Перед ним шкурой неубитого зверя распростёрся город. С нескольких сторон чёрными силуэтами виднелись высотки. Вот они — цитадели зла. Дани держался за ржавый парапет, давясь морозным воздухом. Он чувствовал, что его знобит. Пришлось вернуться обратно в тёплый смрад чердака. Дани опустился на один из пыльных ящиков. Так он и заснул в обнимку с гитарой.
Он смутно помнил своё пробуждение. Лишь то, что в кармане обнаружился клочок бумаги с адресом Германа. Дани уже был там когда-то около месяца назад. Ему не казалось, что его могут ждать, просто сил уже не было, чтобы тусоваться на вписке с этими наркоманами, от которых приходится прятать деньги во внутренний карман трусов. Не то, чтобы эти люди как-то влияли на состояние Дани, но просто никак не способствовали его улучшению.
Герман казался ему адекватнее всех московских знакомых, хоть и был не без странностей.
Вот и сейчас, завершив цепочку воспоминаний, Дани проснулся от его голоса:
— Тебе чай или кофе? — спросил Герман, присаживаясь рядом на корточки, словно Дани был собакой. Если бы тот решил его погладить, басист бы не удивился. Только Герман явно брезговал к нему прикасаться.
— Водки, — ответил Дани. — Просто водки.
— Прости, мужик, у меня только виски.
— Тоже сойдёт.
Дани встал и побрёл на кухню. Он чувствовал себя несколько неловко после того, как так нелепо вырубился на полу в ванной. Макс сидел за ноутбуком, туша окурок в пепельнице-черепе. На его лице и руках всё ещё смутно виднелись следы краски и блёсток. Вокалист даже не поднял на него глаз, утопая в собственном виртуальном мире.
— Герман, мне тут тёлочка эта пишет. Как её там?
— Что пишет? — спросил Герман, наклоняясь к экрану, чуть не залив ноут виски.
Макс усмехнулся и неестественно высоким голосом зачитал: «Прости, что не вышло пообщаться получше, просто мы встретились в таких обстоятельствах. Но ты действительно классный парень, как мне кажется. Я хорошо разбираюсь в людях. Я знаю, у тебя большое будущее, но тебе не везёт, раз тебя окружают мудаки. Тебе было бы лучше работать с по-настоящему талантливыми музыкантами… — здесь Макс закашлялся от смеха и перешёл на нормальный голос. — Я не понимаю, что такой человек, как ты, делает в группе у этого Воронёнка. Он же педик и придурок, а я верю, что ты нормальный».
Здесь уже и Герман не выдержал и залился злобным смехом.
— Дай сюда, я ей ответ настрочу! — воскликнул он, отгоняя Макса.
— Только не от моего акка, придурок!
Но было поздно, Герман уже оживлённо что-то печатал.
— Блять, нахрена ты ей написал, что у нас с тобой прочные лаффки до конца жизни!? — закричал на него Макс. — Я тебе щас яйца бензопилой побрею.
— Не кипишуй. Я просто знаю, что это её взбесит.
— Щас она распространит слух, что я педик, и мне никто не даст, — продолжил Макс, скатываясь на смех.
— Глупый, педикам как раз все тёлки дают.
Ржали все, кроме Дани, которому снова стало неловко, — на этот раз из-за того, что о нём все забыли. Герман опомнился и налил ему целый стакан «Black Horse». Дани выпил залпом почти полстакана, чувствуя, как жар разливается по полумёртвому телу. Он бросил взгляд на батарею пустых бутылок под столом.
— Как у вас хватает сил столько пить? Я уже на второй день скатываюсь в уныние.
— Сам не знаю, атмосфера у нас такая, — Герман взгромоздился на подоконник, как на насест.
Дани продолжал наблюдать за Максом. Тот словно и не замечал его, почти как всегда на репетициях. Вокалист вёл себя так, словно кроме Германа на базе никого нет. Они с Дани не разговаривали, даже когда вдвоём выходили покурить. Ему всё больше казалось, что Макс милый, только когда молчит и поёт.
— Пойдём, что ли, поджемим, — прервал его размышления Герман, допивая виски прямо из горла. — Хватай гитару и пошли.
Дани кивнул и отправился за басом в коридор. Они уже играли раньше в третьей необитаемой комнате. Здесь Дани чувствовал себя, как ребёнок в магазине игрушек.
Ему обязательно надо было полапать все инструменты Германа. Гитары — они как живые, как тёлки или даже лучше.
Макс сел в углу, раскуривая бонг. Он вёл себя так, словно всё, что происходит рядом, его не касалось. Герман тоже затянулся. Дани решил отказаться, марихуана ему никогда не нравилась, в ней было что-то пошлое, что-то от наигранной радости хиппи. Герман стоял, глядя в потолок, пальцы осторожно касались гитарных струн, выдавая первые пронзительно высокие ноты. Мозговыносные звуки лились из динамика, красивые и отталкивающие.
— Чувак, ну ты как Хендрикс, — прокомментировал Дани.
— Не стоит, он бы в гробу перевернулся от такого сравнения, — ответил Герман, не глядя на него и продолжая выводить кривую своей мелодии.
Дани осторожно вступил, боясь нарушить хрупкий баланс. Герман одобрительно кивнул.
— Теперь просто отпусти мозги и пусти энергию в пальцы. Представь, что это всё, из чего ты состоишь, — сказал он.
Басист сделал вид, что понял, просто сегодня выключатель его мозга находился в положении «off». Он лишь позволил этому странному чувству нести себя дальше. Они играли, не обращая внимания на время. Это не было похоже на обычные репетиции с заучиванием партий, это было совместное творение зыбкой абстракции. Макс взял бубен и принялся подстукивать в такт. Музыка обитала в этом шаманском травяном кумаре, как живое существо. Она вилась и змеилась вместе с серым дымом и зыбким светом лампы. Дани понял, что хочет сохранить этот миг и впитать в себя, пока в голову снова не полезли скверные мысли о жизни. Но ему не хотелось думать об этом, как и верить в завтрашний день, который обречёт его на саморазрушение.
Они играли, пока не выбились из сил. Тогда Макс снова посмотрел на Дани и спросил: «Ты понял, зачем надо жить?» Тот лишь молча заглянул в его глаза и осознал, что вокалист всё знает и понимает. От этого стало странно, но в то же время так легко.
Дани понял, что эти двое завладели его душой, и он будет следовать за ними до конца. В этом и заключается его долг и его программа.
Глава 10
Никогда никого не любить — это как не переболеть ветрянкой: вроде всё хорошо, но как-то странно. И ведь чем позднее сталкиваешься с настоящими чувствами, тем выше вероятность летального исхода.
Макс отложил в сторону очередную книгу, в которой не понял ни слова. В последнее время у него не ладилось с художественной литературой. Рано или поздно понимаешь, насколько сильно книги идут вразрез с реальной жизнью. Книжные сюжеты слишком упорядочены, и когда жизнь состоит из сплошного хаоса, там не найдёшь ответов на вечные вопросы и не узнаешь себя в героях, за исключением того, что они любят заваривать кофе точно так же, как ты, или слушают те же самые песни.
Но это не сильно волновало Макса сейчас, гораздо сильнее его беспокоила собственная брешь в душе. Эти книги твердят о любви, объясняя этим все самые несуразные поступки героев. Любовь — это то, что заставляет зарыть в землю собственный эгоизм. Именно сейчас до него дошло, что он так ни разу никого и не любил. Любили ли его? Но этот вопрос останется без ответа.
Он любил этот уродливый мир, лица людей, животных, друзей, случайных подруг, но никогда не отдавал предпочтение кому-то конкретному. Его любовь была бесформенной и безразмерной, как огромный ком жвачки.
Хотелось с кем-нибудь поговорить, но Элис уехала, а Герман торчал на дне рожденья матери, играя в примерного сына. Оставался только Дани. Макс застал его на кухне за прослушиванием Боба Марли. Макс вообще не понимал, как можно слушать «The Wailers», не будучи укуренным, но Дани презирал марихуану, стало быть, у него просто было хорошее настроение.
— Слушай, а ты когда-нибудь кого-нибудь любил? — спросил Макс прямо с порога.
Дани снова опешил. Макс заметил, что он вздрагивает каждый раз, стоит только к нему обратиться, но почему-то на Германа он так странно не реагирует.
— Ну разве только свою правую руку, — заявил Дани.
— Гм, значит, я не один такой, — Макс потянулся за сигаретой.
— Нет, я просто сказал о более удачных моих влюблённостях. Об остальных своих слабостях я как-то не хочу вспоминать. Тёлки — это зло, зло с сиськами. Если какая-нибудь бабца захочет быть с тобой, то беги от неё, чувак, беги на край света, иначе она испортит тебе жизнь. А уж тёлки в жизни музыкантов ведут прямиком в могилу.
— Понял, — Макс послушно кивнул. — После концерта в субботу пойду искать себе тёлку.
— Да ты двинулся.
Но Макс пропустил его слова мимо ушей. Он понял, что ему стало скучно от собственной размеренной и тихой жизни, что настало время устроить себе эмоциональный взрыв. Каждый рано или поздно начинает сознательно портить себе жизнь. Ох уж этот сложный мир человеческих взаимоотношений.
* * *
Всю неделю они репетировали как проклятые, так что от собственных песен начало тошнить точно так же, как и от переходных хитов. Макс видел теперь всё несовершенство своего творчества, но был не в силах что-то изменить в такой короткий срок. Всё, что он мог сделать, — это просто петь лучше. Герман давно начал ощущать себя зомби, машинально исполняющим свои партии. Он порезал палец до крови, но старался всем видом не показывать, как ему больно. Позднее он уже привык к собственной боли, стараясь спокойно плыть на её волнах.
Макс замечал, как смотрит на него Лукреция. Этот взгляд казался просто невыносимым, он терзает даже сквозь закрытые веки и пелену песни. Это какая-то необъяснимая животная ненависть, та, что беспричинна, как настоящая любовь. Максу вдруг показалось, что если все нормальные люди ненавидят от ума или сердца, то ненависть Лукреции шла из её вагины. Им не из-за чего было враждовать, за все полгода знакомства они не перемолвились и словом. Макс знал, что сестра Германа его недолюбливает, но чтобы так… это было для него чем-то новым. Её бесил его голос и само присутствие в радиусе километра. Макс знал, что эта бомба негодования скоро рванёт, но он не хотел её провоцировать до концерта. Вот только работать становилось всё более неуютно. Он постоянно сбивался, тогда Лукреция шипела сквозь зубы, кивая каждому слову из замечаний Германа. Воронёнок вообще казался более нервным, чем обычно. Хотя, казалось бы, куда уж дальше?
К Максу снова вернулось забытое на время ощущение всеобщей ненависти. Он знал, что это опасно. Скоро всё обернётся снежным комом.
— Нахера нам вообще нужны клавиши? — выдал он, удаляясь покурить под негодующий гул сзади.
* * *
Утром перед концертом дико хотелось выпить, но весь алкоголь истёк ещё вчера, а бежать за новым было как-то неудобно. Пора было научиться выходить на сцену трезвым. Макс наблюдал за Германом, тот не психовал, что уже казалось странным. Он вообще не притрагивался к гитаре, лишь валялся на кровати и смотрел «Бивиса и Баттхеда».
— Знаешь, мне кажется, эти двое — лучшие в истории музыкальные критики, — заметил Воронёнок. — Просто они говорят всё, что думают, без всякого официоза.
— Как думаешь, что бы они сказали про нас? — спросил Макс просто так, чтобы поддержать беседу.
Вместо Германа голос подал Дани откуда-то с пола:
— Слышь, баклан, это же тёлки без сисек. Но ничё, мне нравится басистка. Она клёвая.
Герман кинул в него пустой бутылкой из-под колы. Роль «самой красивой тёлки» он решил оставить за собой.
Дани обозвал его дыркой от задницы и отправился, как он выразился, «дрочить гитару». Герман выключил телек и раскинулся на кровати, кутаясь в дурацкое леопардовое одеяло. Макс от нечего делать упал рядом. Скука звенела в нарастающей тишине. Герман долго молчал, разглядывая трещины в потолке с остатками лепнины.
— Блин, пиздец какой-то, — сказал Макс после долгой паузы, после его накрыло нездоровым смехом.
Герман обнял его за плечи, упираясь острым подбородком в основание шеи.
— Это мой чёртов образ. Он проникает в меня, пускает корни где-то внутри. Сначала он был со мной только на сцене или когда я сочинял свои песни. Теперь я всё больше и больше кто-то другой. И мне не нужен грим, чтобы быть Им, потому что Он плотно сидит внутри меня.
— Прекрати, — сказал Герман, прижимая его к себе.
Больше он ничего не говорил. Просто встал и вышел из комнаты. Наступило время готовиться к концерту.
Макс черкнул в блокноте пару строк как набросок для будущей песни:
Мой двойник мрачно сушил крылья На бельевой верёвке моих нервов. Он показал мне, что умеет быть сильным, Устало смеётся и стреляет первым. Он держал нож у моего горла, Пока не вспомнил, что у нас один голос. В моей груди прорастают зёрна, Семя чистого зла заронил полоз.Ему нравилась эта теория двойственности человеческого и творческого начала.
* * *
Макс, Герман и Дани приехали к клубу первыми. Возле входа курил гитарист «Devil's Rose». Макс не помнил, как его звали, но слышал, что в тусовке за глаза его называли Бройлером. «Шлюхи», — крикнул он, показывая пальцем на ребят.
— Шлюха здесь только твоя мамаша! — ответил Дани.
Макс ринулся дать Бройлеру в щи, но Герман успел его одёрнуть.
— Не надо, он того не стоит.
Виновник происшествия поспешил скрыться. Макс подумал о том, что непрочь в следующий раз подправить ему фейс. И даже не потому, что ему было обидно, а просто он слишком давно не дрался.
В гримёрке было светло и даже уютно. Несказанно радовало наличие дивана и зеркала. В соседней проходной комнате разминалась вискарём ещё одна команда. Периодически можно было слышать их вопли из-за полуприкрытой двери. На столе скучала бутылка «Столичной». Дани притащил. Он всегда считал, что это пафоснее «Джека». Пати обещала быть если не удачной, то уж точно весёлой.
— Элис нет. Кто же меня накрасит? — спросил Макс, ходя из угла в угол.
— У меня остался только огрызок карандаша, а тональник кончился. Тени я где-то похерил. Так что пойди спроси в соседней гримёрке у чуваков, — ответил Герман.
— Думаешь, у них будет?
— У этих будет.
Макс осторожно проскользнул во вторую гримёрку, где пьянствовали четыре весьма ярких парня со здоровенными начёсами. На вид им было где-то от пятнадцати до восемнадцати лет. Совсем ещё зелёные. В гримёрке пахло лаком для волос и табаком с лёгкой примесью травки.
— Ребят, у вас косметики не будет? — спросил он.
— Конечно, — ответили глэмеры, протягивая ему целую палетку теней.
— Тебя накрасить? — спросил один из них, который был почти на голову ниже Макса.
— Только не сильно, — ответил он, падая на стул.
— Кристи, сделай из него клёвую тёлку, — послышалось откуда-то.
— Раньше меня красила девушка, но она уехала, — сказал Макс.
— Тёлки не умеют красить, — кисточка пощекотала веки. — Есть разница между тем, чтобы накраситься, как педик или как шлюха. Мужской макияж не должен быть аккуратным, а то все решат, что ты педик. А чтобы склеить кучу баб, надо выглядеть как шлюха. Подобие притягивает подобие.
Кто-то подсунул ему под нос бутылку «Джека». Макс с удовольствием её принял. Он и сам не знал, почему вызывает у этих парней такую волну трепета. Он уже успел привыкнуть к не очень тёплому отношению в среде московских музыкантов.
— Мы выступаем сразу после вас, так что останьтесь послушать, — сказал парень в диких розовых лосинах.
Макс поблагодарил их и вышел. Герман вместе с Дани увлечённо обсуждали что-то. Барабанщик скучал в углу с бутылкой пива. Лукреция не любила тусоваться в гримёрке, так что, очевидно, зависала с подружками в зале. Макс остановился у зеркала, разглядывая свой макияж. Да, он действительно стал похож на мёртвую шлюху с этими в спешке нарисованными чёрно-красными тенями под глазами. Чёрная пыль осыпалась на лицо вместе с блёстками. В то же время всё это смотрелось весьма гармонично и даже красиво. Герман обычно аккуратно подводил глаза, Дани делал из себя грустную панду, барабанщик не пользовался гримом, ссылаясь на то, что его вообще не видно.
— Нам пора, — сказала Лукреция, входя в гримёрку.
Они выпили по стопке водки и вышли на сцену. Их уже узнавали. Это было приятно и весьма неожиданно. Этот клуб был куда больше, чем те, где «Opium Crow» раньше доводилось играть. В этот раз Макс даже не боялся смотреть в лица людей, которые столпились возле сцены. Надо было что-то сказать.
— Здравствуйте, — выдал он сквозь силу. — С вами группа «Opium Crow», мы проведём с вами ближайшие полчаса.
Приветствие оказалось сухим и скомканным, Герман сразу понял это и заиграл вступление. Это была новая песня «Бездна». Нервная и дёрганая наркотическая баллада. Клавиши солировали. Макса не покидало ощущение, что Лукреция словно сражается с ним. Ноты взрезали мозг. Он старался петь громче и сильнее. Герману казалось, что сейчас он выплюнет свои лёгкие, орошая зал потоками крови. Закончил Макс, почти сходя на театральный шёпот:
Мы сладость вдыхали небрежно В просторах загона манежа. Наш мир покрывался несвежей Кровавой коркой тоски.Германа интересовало, не сорвал ли он голос к чертям. Следующая песня показала, что нет. Они заиграли заводную и мрачную «Свободу». Никто не ожидал от Макса такого цинизма и злости.
В целом, сегодня «Crow» играли лучше, чем на репетиции. Подогретые алкоголем и энергией зала, они почти забыли про лажу. Они погружались в неистовый транс, впервые ощущая себя единым целым, живым инструментом, все части которого служат для одной цели. Это было редким, можно было сказать, единственным абсолютным согласием данного состава группы. Наверное, все они знали, что играют в таком виде в последний раз, и это ничуть их не огорчало.
Зал с радостью принимал новую песню, даже порождая лёгкий слэм перед сценой. Какая-то девушка в первом ряду стащила с себя футболку, оставшись в одном лифчике. Макс мельком взглянул на неё. Их глаза встретились.
Послышались первые аккорды «Insane». Кое-кто в зале уже знал эту песню. Послышались одобрительные крики. С сумасшедшей бас-гитарой Дани эта песня звучала ещё жёстче и безумнее. Вообще с его появлением звучание группы весьма изменилось. В процессе выступления он умудрялся курить или прыгать по сцене, как дикая обезьяна, что никак не влияло на качество его игры. Этот парень был мастером своего дела, прирождённым басистом. И публике он нравился куда больше, чем его предшественник, возможно, благодаря своему внешнему виду. Сегодня он обвешался цепями и звенел при ходьбе, как кентервильское привидение.
«Опиум» Макс и Герман спели вместе, прильнув к одному микрофону. Воронёнку казалось, что, если бы это продлилось чуть дольше, то концерт пришлось бы доигрывать со стояком. Непередаваемое ощущение губ Макса в опасной близости. Его горячее дыхание. Его налакированные волосы, щекочущие щёку. Пришлось абстрагироваться и думать непосредственно о песне, но она тоже вдруг начала казаться безумно сексуальной. Герман вздохнул с облегчением, когда она закончилась.
Макс краем глаза следил за той самой девушкой у сцены. Всё выступление она продолжала извиваться и танцевать. Они отыграли без происшествий ещё пару песен, закончив выступление коротким джемом.
Потом все собрались в гримёрке, чтобы выпить и обсудить свой выход.
— Ну я считаю, что нормально, хотя можно было бы и лучше, — сказал Герман. Он по-прежнему относился критически к собственной музыке.
— Если бы кто-то не лажал, то было бы идеально, — хмыкнула Лукреция, покидая гримёрку.
Макс был в слишком хорошем настроении, чтобы с ней собачиться.
— Кстати, пойдём послушаем следующую группу? Забыл, как они там называются, — предложил Макс.
— Ладно, пошли, — согласился Герман, хватая пиво.
В зале было темно и накурено. Лучи прожектора сновали туда-сюда по раскрасневшимся потным лицам людей на танцполе. Вскоре на сцене появились те самые ребята. — Здравствуйте, мы — «Pretty Kitty»! — прокричал в микрофон Кристи.
Сейчас он выглядел ещё более дико, чем в гримёрке. Начёс из бесцветно-белых волос делал его выше сантиметров на двадцать. Макияж уже изрядно потёк. Канареечно-жёлтая куртка выделяла его на безликом чёрном фоне. Он играл на ярко-розовой гитаре и пел так, словно ему оторвали яйца. Другие музыканты тоже отличались весьма ярким и эксцентричным внешним видом в стиле 80-х. Их встретили громкими аплодисментами, криками и нездоровым смехом.
Их музыка оказалась весьма сырой и неровной, но в то же время обладала достаточным драйвом, чтобы завести толпу. Многие уже знали их песни и охотно подпевали.
— Они мне нравятся, несмотря на то, что это полное дерьмо, — констатировал Герман.
И это по его шкале считалось весьма высокой оценкой для начинающей группы. В целом, они подавали бы большие надежды, если бы не культурный барьер между дикой Россией и цивилизованным миром.
В толпе мелькнул силуэт той самой девушки. Она так и не думала одеться. Макс устремился за ней в коридор, туда, где музыка не была столь громкой. Возле стен стояли люди, потягивая своё пиво. Кто-то из них даже пытался заговорить с Максом, но ему было не до этого. Он увидел её, она стояла одна, прислонившись к кирпичной стене.
Макс смог разглядеть девушку лучше: высокая блондинка с пирсингом в носу, с идеальной фигурой, почти не прикрытой одеждой. На груди красовалась татуировка со змеёй и цветами, узор в таком же стиле оказался у неё на плече. Макс не знал, что сказать, он был слишком трезв, чтобы знакомиться с девушками. Но она заговорила первой, едва он подошёл.
— Привет! Вы классно сыграли, — начала она с дежурной фразы.
— Спасибо, — ответил он. — Ты классно танцевала.
— Я знаю. Я часто здесь танцую go-go. Кстати, меня зовут Полина.
Макс коротко представился. Их бутылки звякнули соприкасаясь. Они и дальше болтали о чём-то бессмысленном, пока Макс не предложил переместиться в гримёрку. Дальше у кого-то нашлась трава и очень много текилы. Мир завертелся в неистовом водовороте.
Полина затащила Макса в кабинку в сортире под предлогом нюхнуть спидов. Алмазные дороги взорвались битым стеклом в мозгу. Он не помнил, как её рука оказалась у него в штанах.
Затем последовал грубый и грязный трах где-то за гранью реальности, сопровождаемый стуком в дверь. Макс обычно не использовал презервативы, но тут включилась природная брезгливость. Эта тёлка ассоциировалась у него всё с тем же клубным сортиром.
Они вышли из туалета вдвоём в весьма растрёпанном виде. Более того, все и так догадались, что они там делали. В гримёрке творился угар с участием «Pretty Kitty» и какими-то совсем левыми людьми.
— Пока тебя не было, я нассал тебе в пиво! — воскликнул Дани.
— Идиот. Я давно его выкинул.
— Чёрт, в чье же пиво я тогда нассал? — проговорил он растерянно, размазывая грим по лицу.
— Очевидно, в своё.
Потом кто-то пытался поджечь дверь при помощи дешёвого лака для волос, но эту затею пришлось быстро оставить, так как вмешался кто-то из оргов.
Герман сидел на диване и с равнодушным лицом беседовал с двумя толстыми девахами. Он читал им нудные лекции о музыке в России, они делали вид, что слушали его. Они хотели вовсе не этого, а ему было совершенно наплевать на всякую физиологию. Он утопал в виски и собственной крутости.
Неадекват вечера возрастал. Макс совершенно не помнил, как попал домой. Полина была рядом. Какая-то вялая возня в темноте на полу.
Ближе к утру удалось погрузиться в некое подобие сна, но это быстро закончилось, потому что амфетамины ещё не до конца отпустили бренное тело Макса. Пришлось отправиться на кухню, где Дани с каким-то чуваком всё ещё продолжали пьянствовать. Они уже и лыка не вязали, но продолжали вести войну с водкой. Солнце назойливо скреблось в окно. Воскресенье, восемь утра. Идиотское безумное счастье перемешалось со страхом и отвращением. Скорей бы она ушла, скорей бы все ушли или умерли.
Водка с утра немного успокаивала. Макс пил её залпом из бутылки, надеясь, что его скоро отпустит.
— Наша жизнь — отражение всего, о чём мы поём, или же наоборот? — спросил он у пустоты.
Дани же внезапно отозвался, заявив, что вообще не может воспринимать тексты. Он упал в глазах Макса ещё на пару пунктов.
— А где Герман? — спросил Макс просто для приличия.
— А к нему сейчас лучше не соваться.
— Ну и хрен с ним.
На Макса напало неистовое желание с кем-то поговорить. Он вернулся в комнату Элис. Только без неё эта спальня не казалась отдельным миром. Здесь были просто мёртвые стены и мёртвые рисунки. Максу даже показалось, что он скучает по ней, но не может поймать даже её тень. Мир изменился за какую-то неделю.
Полина лежала между стеной и кроватью на расстеленном одеяле. Макс понял, почему они всю ночь провели на полу. Должно быть, ему не хотелось осквернять ту кровать, где он был с Элис. Он понял, что становится сентиментальным и не успевает за собственными мыслями.
— Как мы дошли до всего этого? Почему мы стремимся сделать свою жизнь похожей на старые фильмы про рок-н-ролл? Почему мы не можем быть самими собой? — спросил внезапно Макс.
— Детка, ты есть тот, кто ты есть, — ответила Полина. — Ты рок-звезда, неужели ты этого не видишь?
— Это лишь образ, игры и фальшивка. Нам не вернуть прошлое, но мы никогда не повзрослеем. Это мёртвая точка. Это тупик. Мы не наиграемся. В тридцать мы будем теми лысеющими придурками в потёртой коже, что играют никому не нужную музыку в тех же клубах. Мир вокруг будет меняться, а мы нет. А нашим друзьям будет всё так же двадцать и они будут смотреть на нас сверху вниз, потому что они будут думать, что у них есть будущее. Будущее — это всё, чего я боюсь.
— Прекрати, ты классный, — сонно отвечала она.
Макс не верил ей и не верил сейчас никому. Просыпались люди, они ходили туда-сюда, здороваясь и прощаясь друг с другом. Никто из них не знал, реальны они или же являются просто галлюцинациями, но через некоторых из них видны были стены. И всё вокруг словно дымилось, поджариваясь на зимнем солнце. Тоска надвигалась, не хотелось вообще ничего. Вскоре появился Герман и попросил всех, кто здесь не проживает, покинуть квартиру. Макс пожалел, что дал Полине свой номер, но ради приличия записал и её телефон.
Даже, когда все ушли, он не смог спокойно заснуть.
— Не пойму, чего ты связался с Сиськой?
— С кем? — переспросил Макс.
— Та тёлка — это стриптизёрша из «Мартовского кота». У неё классные сиськи, стопроцентный силикон. Я тоже её трахал, как и все, кому доводилось выступать в том клубе. Вот теперь она добралась и до тебя.
— Она мне нравится. У неё с собой спиды и лёгкий подход к жизни.
— Ты просто идиот, — ответил Герман. — Из всех баб, которых только можно было встретить, ты нашёл самую конченую шлюху.
Глава 11
Утром разбудила Полина-Сиська и предложила встретиться. Макс хотел уже было отказаться, но она сказала, что у неё есть бутылка шатреза. Пришлось согласиться, поскольку все обитатели Вороньего Гнезда были на мели, а подобная роскошь перепадает редко.
— Зачем она тебе? — спросил Герман совершенно серьёзно.
— Ты знаешь про мою прежнюю жизнь. У меня никогда не было таких женщин. Они как те самые тёлки из журналов, на которых все мы дрочили в детстве. Навязанные обществом стандарты красоты ещё живы в моём мозгу.
— Я не дрочил, — ответил Герман.
— Ну ты это другой разговор.
— У тебя есть какая-нибудь приличная одежда? — спросил Макс, желая сменить тему.
— Бери что хочешь, вернее то, во что влезешь.
Герман уже привык, что все в этом доме носят его старые шмотки. У него накопилось много готической одежды в период повального увлечения шопингом.
Макс порылся в шкафу и стащил оттуда чёрные джинсы и свитер с черепами. Так же позаимствовал ботинки на десятисантиметровой платформе и короткое пальто.
— Я чувствую себя так, словно на мне твоя кожа, — сказал Макс, покидая Гнездо.
* * *
Дани слышал плачь синтезатора из-за незапертой двери. Что-то трагичное и околоджазовое. Пернатого колбасило, очевидно. Это не музыка, это какая-то плавна агония инструмента и человека. Это слишком очевидно, что все вокруг прибывают в каком-то ожидании великого краха. Дани знал, что приносит свою внутреннюю катастрофу везде и всюду. Таково предназначение хаотиков.
Через открытую дверь он видел мрак комнаты, силуэты белого лица и рук, выхваченных пламенем свечи. Всё это больше и больше походило на нуар-комикс. Герман не обращал на Дани никакого внимания, продолжая терзать инструмент.
— Я много думаю, зачем всё это? — спросил Воронёнок пару минут спустя.
— Ты со мной говоришь? — Дани стало немного неловко.
— Нет, со стенкой, — ответил Герман, не прекращая игры. — Всё вокруг дарит только разочарование и боль.
— Не драматизируй, кухонный Шопенгауэр.
Герман хмыкнул, для него было странно, что Дани знает, кто это такой. Да и вообще он как-то сомневался, умеет ли басист читать.
— Да нет, я не об этом. Просто валить отсюда надо, однозначно валить. Мы здесь умрём и бездарно сопьёмся. Мне тесно и больно.
— Куда ты хочешь? — спросил Дани, лениво.
— В Лондон, к примеру.
Широта размаха вороньих крыльев мечты поражала.
— Ты чего? У нас на это в жизни денег не хватит. Ну, может быть, только если проституция! Ты пойдёшь ублажать старых педиков, а я тёток в возрасте, тогда у нас всё получится где-то лет через десять.
— У меня есть свой план. Надо бы его ещё провернуть. Потрясти немного мою мамашу, — голос Германа звучал совсем убито.
— Она же и так урезала тебе финансирование так, что хватает лишь на водочку и бичпакеты. — Если я снова куда-нибудь поступлю, то всё наладится. Или сделаю вид, что поступлю. Но не хочу об это думать именно сейчас. Меня колбасит, так что сделай мне коктейль, — его пальцы ненесли последний трагический удар по клавишам.
Коктейлем Воронёнок называл странную бурду из водки, колы и корицы. Дани заметил, что он пару дней как уже перестал есть, полностью функционируя на своём топливе.
— Ты не думаешь пристрелить Макса? — предложил Дани, наливая водки своему «белому господину». — Он сейчас пьёт шартрез и жахает тёлку.
Воронёнок пожал плечами.
— Если бы мы хотели, то тоже сейчас пили бы французские ликёры и жарили бы баб. Мы с тобой в таком возрасте, когда это перестаёт быть интересным. Боль, пустота, все козлы, смысла нет, всё тлен. Потому что наслаждение ведёт за собой новую боль.
— Я тебя стукну, если ты скажешь это ещё раз.
* * *
Дома у Сиськи оказалась на редкость уютно, как на страницах мебельного каталога. Тупые декорации для рекламы. Запахи сандала и сигарет. Слишком чисто, чтобы быть жилым помещением. После атмосферного и яркого жилища Германа, эта квартира выглядела неестественно. Судя по всему, Сиська недавно сделала ремонт, потому и спросила у Макса сходу:
— Как тебе моя квартира?
— Очень даже ничего, — ответил он, снимая обувь (какой всё же кайф был выбраться из этих ботинок).
— Я заказала пиццу. Наверное, ты проголодался, — спросила она.
Макс кивнул. Пицца оказалась без мяса и вообще без сыра. Сиська, как и многие из московской околомузыкальной тусовки придерживались веганства. Герман говорил, что им просто не хватает денег на кожаную одежду и вкусную жрачку.
— А мне нравится вкус смерти, — сказал Макс, выковыривая из пиццы непонятную траву.
Во взгляде Полины мелькнула чёрная тень испуга. Он понял, что попал в точку.
Потом ни смотрели какой-то дурацкий фильм про рок, пили шартрез и разговаривали не о чём. Всё время хотелось спросить у Полины: «Ты действительно думаешь, что вся эта псевдоромантическая чушь уместна в нашем с тобой случае?». Фантом Сиськи в его голове отвечал, что всем хочется романтики. Осталось только запомнить это и записать.
И только в постели Макс понял, что до сих пор держало его рядом. Этот ключ от вселенной на дне её дна. Он любил её эти чёртовы полчаса. Всё остальное до и после были просто бездной мрака. Они снова закидывались наркотиками с какой-то вялой попыткой повторного секса. Ночь в бессоннице и поту. От этой дряни стало как-то не по себе. С рассветом стало немного легче. Всё было как в прошлый раз, Макс повторял снова и снова как он ненавидит себя, Полина продолжала повторять, что он классный, потому что такие девушки как она не встречаются с лохами.
С утра неистово захотелось бежать от всех. Сделать всё, что угодно, чтоб перестать существовать. Раз и навсегда бросить наркотики, чтобы так отвратительно не мутило. Выход на свет из мутной парадной, и дрожащие пальцы набирали телефон Элис. Соединяет слишком долго, и мысли утопают в киселе, опережая слова.
— Я же просила не звонить мне в роуминге, — раздалось на другом конце трубки.
— Я просто сказать, что скучаю.
— Но почему именно сейчас?
— Ты единственная нормальная девушка на земле, ты вообще единственная тут нормальная, — Макс почти сорвался на крик.
— Ты упорот?
— С чего ты взяла?
— Я слышу, как стучат твои зубы.
Дальше связь прервалась с глухим треском, очевидно, кончились деньги на счёте. На улице светило разбавленное солнце проклёвывающейся весны. Март. Сугробы до первого этажа и всё в порядке. Здесь просто минус пять. Весна не придёт и можно вмёрзнуть в лёд, спрятаться в сугробе до нового пришествия. От нечего делать Макс затянул довольно громко: «This is the end beautiful friend. This is the end my only friend, the end», так что прохожие начали оборачиваться. «Вы что не видели упоротую начинающую рок-звезду? — спросил он у кого-то, кто мог быть человеком или фонарным столбом одновременно, — Не беда, что я начинаю всю свою жизнь. Но взлёт — это лишь начало падения».
* * *
Никому не казалось, что Лукреция может ошарашить своим уходом, вопрос лишь в том, когда эта бомба должна была взорваться. Её атака была пусть ожидаемой, но всё же болезненной для группы. Все надолго запомнили её речь — этот поток грязи и ревности, в котором смешалось в кучу всё: личное, профессиональное и мистически интуитивное. Макс стоял у стены и курил, молча слушая эту речь, обращённую в его адрес. Она говорила так, словно его нет. Обращаться к Максу напрямую было что-то вроде дурного тона. Для неё он проклятый и прокажённый.
— Я последний раз прошу тебя вышибить этого придурка из группы и из своей жизни вообще. Я не намерена больше находиться рядом с ним.
Герман метнул об стенку пустую пепельницу. Та разбилась градом неровных осколков. Лукреция совершила роковую ошибку.
— Выбирай! Я или он!? — спросила она.
Он ответил неожиданно спокойно, словно все волны негодования жившие в его душе уже успели в один миг угаснуть.
— Ты знаешь, что нельзя делать выбор в пользу того, кто просит тебя об этом? И ты знаешь мой ответ, так что уходи… просто уходи отсюда.
Она ушла, не став просить об изменении решения. Капля гордости ещё оставалась при ней.
— Вся лишь разница в том, что друзей мы выбираем, а родственников — нет, — сказал Герман, закрывая за ней дверь. — Мне осточертело.
Вот уход барабанщика стал полнейшей неожиданностью. Эта та причина, которую бы назвали где-то в прессе «идеологические и творческие разногласия». Всё дело в том, что он бросил пить, а поведение группы грозило подорвать его образ жизни. «Ну и пошёл он в жопу», — сказал три оставшихся ворона и успокоились.
Ему на смену пришёл сессионщик по клички Джеффри, который просто любил стучать, много и громко, поэтому оказался незаменим. На данный момент он и так играл в трёх группах и с трудом совмещал график репетиций и выступлений. Он оказался довольно неплохим парнем, даже по мнению Макса.
В марте «Opium Crow» отыграли сразу два концерта. Подобие славы уже расползалось по городу. Мрачные клубные дети уже знали их песни. Соцсети уже приносили редкие письма от поклонников. Открывались двери тусовок. Поступило неожиданное предложение играть на ночных вечеринках поклонников тёмной альтернативы, платить не обещали, зато они получали по три бесплатных коктейля в баре. «Crow» неожиданно было чем себя занять.
Глава 12
Март догорал, но о том, как выглядит весна, все ужа давно забыли. Кажется, иногда в этом городе бывает тепло. Это ненадолго и точно не навсегда.
— Скорее бы уже лето, — вздохнул Герман. — Только летом я живу.
Ему казалось, что зима вынуждена держать его в коконе, пряча от внешнего мира. В такие моменты трудно проявлять какие-либо эмоции. Холод не очень способствует музыкальному таланту.
— У меня скоро день рожденья, — заявил Герман, прогуливаясь по кухне.
— У меня тоже, — лениво подал голос Макс, снова погружаясь в ноут.
— Какого числа?
— Пятого.
— А у меня седьмого.
— Надо отметить в один день, это будет лучше для печени.
* * *
Лукреция звонила пару раз, только вот её попытки помириться оборачивались новой ссорой. Герман был неприклонен. Его сложные и запутанные отношения с женщинами окончательно зашли в тупик. Они не понимали его и боялись. По крайней мере, так казалось Герману. В целом он не очень-то жалел о размолвке с сестрой. Воронёнок считал её весьма посредственной клавишницей и чёрным готическим пятном на репутации группы. «Crow» замучились срывать с себя ярлык готической команды. Им всегда хотелось казаться чуть выше рамок и стилей.
— Что тебе подарить на день рожденья? — спросил Гермна.
— Я был бы рад пакету героина и дробовику. Ненавижу дни рожденья.
— Тебе ещё рано. Жди до двадцати семи.
— Чувак, мне будет двадцать, это слишком много, чтобы быть правдой. Я ненавижу себя.
— Мне двадцать три, это трагичнее.
Герман обнял Макса, чувствуя холод и отрешённость его тела.
— Мы с тобой оба старые больные идиоты, мы умрём в один день.
Герману самому становилось не по себе от своих слов. Он понимал, что в них была довольно горькая доля правды. Ему было страшно умирать одному. Пройдёт ещё каких-нибудь лет пять и его внешность перестанет быть наживкой для случайных любовников. А чем старше ты становишься, тем больше тебе кто-то нужен и уже не на ночь, а насовсем. Он не хотел быть один.
— Что с тобой происходит? — спросил Герман.
— Знал бы я сам. Я устал, понимаешь. Я до ужаса себя ненавижу. Чем глубже я в этом дерьме из Полины, водки и «фена», тем больше я теряю себя. Я мог бы бросить всё и разорвать, но мне кажется, что я просто умру без хорошей порции гнили в жизни. Я маленькая помойная крыса и всегда останусь таким. Я отброс и в глубине души наслаждаюсь этим. Если до знакомства с тобой, я скитался по своему городу ночами и пил портвейн до алкогольной комы, общался с бомжами, то теперь я очевидно на каком-то новом уровне дерьма. Я в мире, где есть шлюхи, наркота и музыка. Порой мне кажется, что это мой потолок. Это моя дешёвая игра в рок-звезду. Я ваш хренов Сид Вишез. Я не способен на что-то большее. Я презираю свои тексты, потому что просыпаясь утром, я перечитываю этот бред и не понимаю, как я мог писать такое. Мой голос — это… дерьмо.
Герман пожал плечами, он не знал, что делать с этими приступами самобичевания. Он был не из тех, кто станет утешать и говорить, что всё хорошо. Просить Макса меньше пить было бесполезно, потому что Герман в последнее время сам не отлипал от бутылки. Ему казалось, чтобы лучше играть, надо быть очень пьяным, чтобы голова не мешала творческом процессу. Он не трезвел даже на сцене. Оставалось молиться, чтобы не стошнило.
— Мы с тобой два грёбаных разложенца, — вздохнул Герман, наливая себе ещё коктейля.
— Я сторчусь, ты сопьёшься, а Дани когда-нибудь суициднёт удачно. Великая история, великой группы. Джеффри потом будет давать посмертное интервью.
— Может быть, завяжем? — спросил Герман, сам не веря своим словам.
— И начнём играть христианский рок.
* * *
В День Грёбаного Рождения весна стала напоминать весну и даже не так мерзко было смотреть в окно.
— Вот мы и стали ближе к смерти! — воскликнул радостный Герман, просыпаясь утром.
Макс ничего не сказал, отворачиваясь к стенке. Ему всё было ненавистно с самого начала. Со словами «Братишка, я тебе покушать принёс» на пороге появился Дани с огромным шоколадным тортом.
— Ты умеешь испортить всё. Даже торт, — сказал Герман.
— Братишка. Это же сладкий хлеб, у нас в деревне все ели.
— Шутки из «Зелёного слоника» не смешные. Вообще я посмотрел его до того, как это стало мейнстримом, — подал голос Макс.
— Торт. Теперь я буду жирным, — хмыкнул Герман.
Недели две назад, он радовался тому, что весит пятьдесят семь килограмм при росте сто семьдесят пять. На данный момент он вообще ничего не ел, перебиваясь только соком. Макс считал его причуды несколько опасными, однако в этом мире каждый разрушает себя по-своему.
— Ты скелет, — сказал Дани.
— Ты жирный, — выдал Герман своё коронное.
Басист был единственным, кто ещё сохранил вид здорового человека, а не превратился в тень.
— Не хочу сегодня с кровати вставать, я вообще жить сегодня не хочу, — промычал Макс из-под одеяла.
— Вставай ты, труп! — Герман толкнул его в плечо.
— Понимаешь, праздники перестают нести хоть как-то смысл, если ты пьёшь каждый день. Всё как всегда, только надо же торжественно нажраться. Не хочу Сиську звать, но она же обидится и вынесет мне мозг. Видеть её не хочу.
— Зачем тогда ты с ней встречаешься? — спросил Дани.
— Я чувствую себя шлюхой, — Макс сам рассмеялся от такой мысли.
— Вы все любите драматизировать и играть в зависимости. Вам просто жизненно необходимо зависеть от кого-то или чего-то. Просто потому, что вам нравятся эти скандалы и жалобы. Тёлки — это говно. Жаль, что нельзя жениться на басухе и рожать с ней маленьких укулеле.
— Понимаешь, любить мы уже не умеем. Это всё, что нам осталось, — сказал Макс. — Это когда у тебя никогда не было примера нормальных взаимоотношений перед глазами. Скандалы становятся индикатором чувств. А всё, потому что мы вечно пускаем в свои постели, кого попало, а потом удивляемся почему такое дерьмо. И я бы просто не смог бы срать в душу нормальной девушке, поэтому я выбрал Сиську. Я могу показывать ей свою тёмную сторону, а она будет только рада, ведь у неё есть чувак, который поёт в рок-группе. А она идеальная девушка для меня — тупая безмозглая кукла. Мы просто поддерживаем имидж друг друга.
— Только потом вы оба об этом пожалеете, — сказал Герман.
Макс сполз с кровати и потянулся за гитарой. Вдохновение порой приходило внезапно. «Feel you like a whore», — напевал он, играя какой-то милый околоджазовый мотив. Получилась правдивая песня про шлюху и трах в туалете.
— А ты походу дела в душе романтик, — сказал Дани.
— А потом будет очень забавно объявлять со сцены: «А эту песню я посвятил своей девушке», — вставил Герман.
* * *
— Мне кажется, что алкоголь уже скучно пить, — сказал Дани, опрокидывая в себя стакан «Джека».
— Ну ты клизму что ли сделай, — посоветовал Макс.
— Я бы ширнулся, но боюсь игл.
— В лучших традициях рок-н-ролла ширяйся джеком, трахай шаурму и подтирайся кактусом.
Вопреки ожиданиям Германа в квартиру набилось полно народу. Большая часть была типичными халявщиками, тусующимися тут просто для массовки. Воронёку нравилась эта неуправляемая людская масса. Всё, как в старые добрые времена, когда он только начал жить один. Гнездо превратилось в флэт. Странно было приходить домой, когда люди на кухне спрашивают у тебя кто ты и сильно удивляются, когда узнают, что ты хозяин квартиры. Ещё забавнее было встречать каждый раз новых людей в своей постели. Эти времена были славными и безумными. Теперь же пришлось угомониться.
Макс скучал, он не знал добрую половину народа. Да и Сиська постоянно лезла целоваться и тискаться. Все присутствующие на вечеринки парочки вели себя абсолютно так же, словно у людей вообще нет какого-то иного способа проявлять нежность. И все вокруг обязательно должны это видеть. Потом Полина начала докапываться до Германа, предлагая ему замутить стрип-шоу с её участием на своём выступлении. Он кривился и говорил о формате группы. Кристи и сотоварищи наоборот звали её к себе, но Королева Силикона не благоволила им в последнее время. Дани заскучал и поджог себе штаны. Какая-то девчонка окатила его ведром воды, тем самым испортив басисту причёску.
— Нахер ты это сделал? — спросил Герман.
— Иногда просто необходимо сделать что-то тупое, чтобы развеяться, — сказал он, садясь обратно пить виски, сияя адекватностью и приличием.
Лукреция прислала Герману новую гитару «Gibson Les Paul», стараясь получить прощение. Он ничего ей не ответил, но от подарка не отказался. Воронёнок считал эту гордость излишней. А вещи всегда остаются хорошими и совсем не важно, кто их подарил и с какой целью. Ему нетерпелось опробовать эту гитару. Только с ней начали появляться мысли о записи альбома.
Весь вечер они не сталкивались, напиваясь в разных концах квартиры. Кристи пытался расшевелить Германа, но тот обращал на него мало внимания. Макс стрельнул у Сиськи ещё порошка, уходя в небытие. Это дерьмо перестало доставлять радость. У кого-то из гостей был с собой спайс. Макс решил добиться им, по привычке засыпая в бонг целую хапку.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил кто-то сквозь густой кисель. Изображение подрагивало и искрилось совсем.
Макс ответил что-то невнятное.
— Дай пять, чувак.
Рука прошла сквозь руку, не встретив сопротивления. Макс сполз по стенке. Ватные ноги отказывались держать тело. Кто-то стоящий над ним, спросил что-то, но Макс уже не смог разобрать слов. Язык потерял смысл. Он смотрел на свою руку и видел все семь астральных тел. Они трескались как панцирь или старая кожа змеи. Главное было не закрывать глаза, потому что тогда этот мир становился ещё ужаснее. В груди начало неприятно покалывать.
— Помогите, кажется мне совсем плохо, — сказал Макс, с трудом узнавая свой голос.
— Да расслабься ты.
— Нет, там что-то с сердцем, — повторил он.
Всё тяжелее становилось дышать. Это было бы менее противно, если бы не мелькание колючего света в глазах. Связь с реальностью истончилась, как нить. Макс понял, что проваливается в дырку в собственном зубе. Его тянуло в чёрный водоворот. «Это не свет в конце туннеля, это просто сфинктр изнутри», подумалось вдруг. Тело перестало слушаться, став вдруг мёртвым и ненужным. Было страшно и как-то грустно в шаге от грани перед порогом неизвестности. Всё вдруг перестало интересовать, став каким-то вторичным. У него не осталось имени, он стал просто искрой света. Где-то в вышине плыло множество таких искр, все они сливались в единую субстанцию. Соприкосновение с единым было главной и истинной целью. Макс соприкоснулся с субстанцией, став на миг её частью. Вот оно высшее наслаждение — просто перестать существовать. Один миг пленительного счастья, чтобы потом уйти в пучину и исчезнуть насовсем.
— Останешься? — прозвучал голос из ниоткуда.
Секунда тянулась бесконечно.
— Я, пожалуй, вернусь.
— Ты уверен?
— Я что-то там забыл. Возможно себя.
В следующий миг Макс услышал биение собственного сердца. До него только сейчас дошло, что всё это время оно было неподвижным и мёртвым. Перед глазами выступали силуэты. Он узнал Полину, Германа и остальных. Воронёнок держал его за руку. Макс понял, что находится на кровати, хотя, точно помнил, что отключился в коридоре.
— Надо же так упороться, чтобы пульс пропал, — сказал Герман.
— Я сдох. К чёрту. Я сдох, — повторял Макс.
— От спайса же не умирают.
— Значит, я был первым.
— Котик, как я рада, что с тобой всё впорядке, — проворковала Полина. Но было как-то совершенно не до неё.
Он посмотрел на часы и понял, что с момента упорки прошло пятнадцать минут, которые в сознании успели трансформироваться в годы. Вот уж точно «пятнадцать минут вечного ада». В голове всё ещё скакали ложные воспоминания. Собственные мысли казались открытыми для всех вокруг. Захотелось в сортир. Макс с трудом встал и поднялся, понимая, что его кроет. У дверей сортира стоял тёмный ангел в шелках и перьях. Он казался тут совершенно естественной частью интерьера.
— Дай пройти, — сказал Макс.
— Да ну вас наркоманов, — сказал ангел, размахивая косой смерти. — Надоели подыхать и возвращаться.
Он зловеще хихикнул и растворился в воздухе. «Наверное, этот чувак заходил за мной, но слегка опаздал». У наркоманов и смерти вообще странные отношения. Они давние друзья, потому что каждый торчёк умирает неограниченное количество раз. Он вообще считается немного мёртвым и смерть для него — нечто естественное, возможно он даже не заметит, когда на самом деле умрёт, это будет продолжением трипа.
Вернувшись, Макс налил себе целый стакан неразбавленного виски и залпом осушил его. Начало отпускать.
Чуваки вернулись с целым коробком натуральной травы. У Макса просто не было сил отказаться. Спустя полчаса после своей смерти в свой день рожденья, нет ничего лучше, чем сидеть с косяком в зубах и бутылкой виски в руке. «Смерть тебя ничему не учит», — бросил Герман, проходя мимо.
Максу он вдруг показался подозрительно похожим на ангела смерти из недавнего трипа.
Глава 13
Всё началось с того, что пьяный Герман решил склеить тёлку. Наверное, средний перст судьбы толкнул его на такой неожиданный поступок. Дело было в баре неподалёку от дома, который успел сильно испортиться за последнее время, собственно, как и все заведения Москвы.
Воронёнок подвалил к симпатичной шатенке где-то в два часа ночи. Бар был пуст и скучен. Из динамиков играл простуженный джаз. За окном мелькали силуэты такси.
— Детка, пойдём со мной, ночь слишком хороша, чтобы проводить её в одиночестве, — выдал он.
— Я с малолетками не связываюсь, — холодно ответила она, меряя его холодным взглядом.
— Мне двадцать три, — хмыкнул Герман.
— Мне тридцать два, — ответила она без тени смущения.
— С виду не скажешь.
Она была непрошибаема как стена, но отступать так рано не хотелось. Аргументов в голове было мало.
— Вообще-то я музыкант.
— А я работаю в музыкальном бизнесе, — бросила она небрежно.
Было ясно, что разглядывать себя в зеркало было ей интереснее, чем говорить с подвыпившим гитаристом. В голове Германа загорелась красная лампочка. Надо было срочно что-то делать, чтобы не опозориться. Женщина подняла голову и взглянула на него так, словно видела в первый раз. Герман вложил в ответный взгляд всё своё обаяние.
— Ладно, поехали со мной, покажу тебе настоящий секс, — снисходительно бросила она. — Всё равно делать нечего.
Герман пошёл, пусть даже и чувствовал себя оплёванным.
В такси он запустила руки ему в штаны. Пришлось держаться, чтобы не трахнуть её прямо на сиденье. Её квартира представляла из себя большую студию с минималистическим дизайном, что больше походило на жилище холостяка. Обилие пустых бутылок и коробок из под пиццы.
— Кстати, а как тебя зовут? — спросил вдруг Герман.
— Мария. Мария Тофель, — ответил она.
Это имя действительно показалось ему смутно знакомым.
— На выпей «Хенесси» и падай в койку, скомандовала она.
Это был чумовой трах. Мария взяла власть в свои руки. Она была жёсткой, как постельный фюррер. Она сидела сверху, пригвоздив Германа к кровати своим хрупким телом.
Когда Герман проснулся, всё тело отозвалось тягучей болью, словно он провёл всю ночь в камере пыток. На руках алели свежие следы от наручников и пара сигаретных ожогов. Лучше уж получать свою долю боли так, а не принимать на сердце. И то, что болит на душе отлично выходит через раны и порезы.
Вошла Мария в красном халате и поставила на столик перед кроватью бутылку хорошего «Гинесса».
— Вот. Похмелись.
— Обычно я похмеляюсь водкой, но это точно сойдёт.
— Твою печень уже можно пускать на фуагра.
Она закурила, опускаясь в кресло. Герман наблюдал за плавностью её движений и дымом от сигареты. Он понял, что скоро пора уходить. Бутылка с пивом опустела в несколько глотков.
— Кстати, пришли мне пару демок. Может быть, играешь ты лучше чем трахаешься, — усмехнулась Мария. — Я постараюсь тебе помочь, если это чего-то стоит.
От неё он вышел в приподнятом настроении. Было недалеко и вполне можно дойти пешком, наслаждаясь утренней прохладой, глядя на спешащих куда-то людей. Апрель перетекает в май и уже можно жить. От приятных мыслей отвлёк телефонный звонок. Звонила мать. Лукреция рассказала ей про проблемы с алкоголем. Она рекомендовала лечь в клинику. Предлагала найти самую лучшую и даже заграницей. Герман прекрасно умел врать, особенно в такие моменты. Мало того, что он честно полагал, что не нуждается в лечении и вполне себе может протянуть и так. Лукреция драматизировала. Она хотела любыми путями вырвать его из привычной среды.
Дома встретил Макс, излучающий какую-то подозрительную теплоту и любовь.
Ближе к вечеру Герман рассказал ему эту историю, тот смеялся, шутя про шоубизнес через постель.
— Вот не надо. Трахался я с ней просто так и это не стопроцентная вероятность, что всё выгорит. Тем не менее, Герман прислал ей пару домашних записей и вскоре забыл про этот инцидент.
* * *
В это время «Opium Crow» наконец-то удалось сделать себе сольный концерт в небольшом клубе за пределами садового. Герман считал такие места помойкой, но отказываться было глупо. На репетиции он превращался в полного тирана, стараясь добиться от всей команды идеального звучания. Чтобы расширить концертную программу пришлось добавить в неё каверы. На взгляд Германа Максу вообще не давались чужие песни. В «Welcome To The Jungle» его голос звучал как карикатура на голос Эксла Роуза. Учитывая, что настоящий голос Макса был намного ниже, это звучало несколько странно. Петь эту песню своим натуральным вокалом не получалось вовсе. С «Lost Boys» «The69Eyes» ситуация выходила обратная. Пришлось всё немного изменить, сделать кавер агрессивнее и жёстче оригинала.
— Да всё зашибись, только «shades of blue», а не «shit of blue», — поправил его Герман.
— Да ты думаешь слова кто-то слышит?
Позже Макс начал ныть, что без ритм-гитары ничего не звучит, но Герман скорее убьёт, чем допустит в группу ещё одного гитариста. Он был очень ревнив, если дело касалось собственной музыки.
— И вообще, мне скучно стоять без инструмента, как неприкаянному, — продолжал Макс. — Я тоже, между прочим, умею играть на гитаре и музыку тоже могу писать.
— Не говори при мне, что умеешь играть на гитаре, пока я тебя не треснул, — Герман начинал закипать.
После репетиции все собрались за пивом в парке.
— Знаешь, мне впервые уютно на наших репах, — сказал Макс. — Раньше я всё время чувствовал себя лишним либо каким-то отдельным элементом. Теперь же мне как-то спокойнее.
* * *
Перед концертом в гримёрку пришла журналистка одного из вебзинов, посвященного тёмной сцене. Рок-журналы постепенно канули в лету, уступив место интернету. Такие дети постоянно маячат на разных мероприятиях ради халявного прохода в клуб. Максу понравился её прикид готической школьницы и рваные колготки в сетку.
— Вы рискуете стать главным открытием этого года, — начала она, грызя кончик ручки. — Сколько уже существует группа?
— Где-то около полугода, — ответил Герман. — Но раньше у нас у всех были разные проекты.
— Я играл с пункерами в подвале, — рассмеялся Макс.
Девушка вопросительно посмотрела на Дани.
— Я вообще не играю, я яйца чешу, — ответил он.
— А кто из вас пишет тексты, а кто музыку? — она перешла дальше к списку вопросов.
— Большую часть текстов пишет Макс, но и я, когда у меня есть вдохновение. С музыкой аналогично, но все аранжировки мои, — сказал Герман.
— Как приходят идеи ваших песен?
— Сначала они шли ко мне из другого мира. Они были отрешёнными и странными, теперь же всё черпается из моей жизни, — ответил Макс. — Всё изменилось. Стало насыщеннее.
— Есть ли у вас кумиры в музыкальной среде?
Герман решил ответить первым. Он упомянул Дэвида Боуи, Элиса Купера, Хендрикса, Слэша, Роберта Смита и ещё целый список имён. Так же добавил, что никого не хочет копировать. Макс же от ответа воздержался, потому что было слишком трудно вспомнить хоть кого-то.
— Когда планируется выход вашего дебютного альбома? Мы и многие ваши поклонники уже заждались вашего диска.
— Не думаю, что это будет скоро. Мы ещё в полной мере не готовы к записи. Альбом должен быть по-настоящему классным, чтобы всех порвать.
— А ещё у нас пока нет денег, — встрял Макс.
— Мы думаем попробовать записать альбом на пожертвования наших поклонников, как делают сейчас многие. Наверное, отчасти это выглядит как грязное попрошайничество, но мы и так рок-н-рольные бомжи, — продолжил Герман.
Макс заскучал вопросы были скучными и банальными, ему хотелось как-то больше и откровеннее рассказать о природе своих песен. Сейчас он снова переборол своё отвращение к ним. Они снова казались живыми. Он вообще представлял себе интервью более интересным. Всякие там провокационные вопросы про шлюх и наркоту. Ему просто показалось, что публика знает о нём ещё слишком мало, чтобы распускать сплетни. Но ничего, ещё есть время подать им повод для размышлений.
Поры было выходить на сцену и снова жить. Взрываться, истекая собственной кровью, на глазах у удивлённой публики. Что его песни, если не чистая грязь? Людям нравится его музыка, но они предпочтут не касаться этого дерьма даже трёхметровой палкой. Если бы они знали, про что все эти песни, что эти истории не просто блеф, что это целые лоскуты жизни, смятые и разрозненные. А Макс будет и дальше медленно убивать себя, выжимая песни как кровь по капле. Они переживут его.
Герман снова выпил перед выступлением, чувствуя, как на него накатывает волна небытия. Дани пошутил как-то раз, что Воронёнок может играть ещё десять минут после того, как отключится. Эти руки помнят все ноты. Он мог играть спокойно, даже когда руки Макса обвивали его за талию, или даже когда тот опускался на колени, имитируя оральный секс с гитарой. Играть со стояком тоже просто и возможно.
Сегодня все были в ударе, и группа и толпа. Пот лился ручьями. Было жарко как в кровавой бане. «Opium Crow» жгли, переполненные чувствами.
* * *
Всё было хорошо и ничто не предвещало беды. «Opium Crow» прикатили на очередную вечеринку, которую они должны были обеспечивать музыкой. Был приятный майский вечер, источающий запах жасмина. Слишком душно, чтобы сидеть в клубе, дожидаясь начала. Герман прогуливался у чёрного хода на высоких каблуках. Макс и Дани, курили прислонившись к стене.
— Как ты вообще в этом выступать сможешь? — спросил Макс.
— Ничего, нормально, — ответил он. — Когда работал моделью, я ещё не такого натерпелся.
Из-за угла вырулила парочка в чёрном. Макс не обратил на низ никакого внимания. Герман узнал их и демонстративно отвернулся. Это были чувак и тёлка из «Devil's rose».
— Эй, Герман, ну ты совсем, как педик! — усмехнулась она.
Тот ничего не ответил. Дани как бы невзначай метнул в их строну бычок.
— Эй, мы назвали тебя педиком! — присвистнул Бройлер.
— Не потому ли ты называешь меня геем, что сам дрочишь на мои фотки ночи напролёт? — небрежно бросил Герман.
— Да пошёл бы ты! — Бройлер сплюнул под ноги.
— Сколько бы ты не косил под меня. Тебе никогда не сыграть и половину моих соло, — Герман картинно поправил волосы, растрепавшиеся на ветру.
— Дорогие гитары ещё не делают тебя музыкантом, — хихикнула девка.
Максу надоел этот балаган так похожий на спор двух блонднок. Он подошёл и положил руку Герману на плечо:
— Пойдём отсюда. Они меня утомляют.
— Да, твой любовник дело говорит. Проваливайте, — усмехнулся Бройлер.
Макс почувствовал, как в его голове щёлкнул переключатель. Режим надменного дружелюбия сменился расчётливой жестокостью. Его кулак прилетел в лицо гитариста «Devil's rose», разбивая и без того сломанный нос. Тот сделал ответный замах, но промахнулся. Удар сбил его координацию. Тёлка завизжала пронзительно как сирена. Герман отшатнулся в сторону, он понимал, что в драке от него толку мало. Дани пытался оттащить Макса, но получив локтём в лоб, быстро изменил своё решение.
Пока «Opium Crow» не выперли раз и навсегда с тёмных вечеринок, лишив при этом халявного бара и внимания тусовки. Всё было бы вполне приемлемо, если бы организаторы согласились бы назвать хотя бы одну причину. Дальше всё покатилось в ещё более скверную сторону, когда их выступление на фестивале было отменено, потому что «Devil's rose» отказались выступать с ними на одной сцене. Организаторы считали «DR» ценными участниками, потому и пошли у них на поводу. Герман злился, он говорил, что просто может губительно сказаться на их карьере.
Чёрная полоса тянулась бы и дальше, если бы внезапный звонок от Марии.
— Привет. Забыла совсем о тебе. Так бы и не вспомнила, если бы не наткнулась вчера снова на твою демку. В первый раз она меня не впечатлила. Но если хорошенько нюхнуть и переслушать, то всё встаёт на свои места. Не желаешь ли съездить в тур?
— Реально в тур? — переспросил Герман.
— Ну так сказать. Покататься в сторону югов. Я должна была вести «Х.Z.c» (по названию Герман догадался, что это очередная безликая альтернативная команда, пользующаяся успехом у школьников), но их гитарист сломал руку. А договорённость с клубами осталось. Я спросила: могу ли я отправить туда другую команду, некоторые из клубов дали согласие. Вы конечно хрен что получите, но дорогу, еду и бухло вам оплатят.
— Я только за, потому что Москва объявила мне бойкот.
— Это уже интересно.
— Чем же?
— Если тебя ненавидят, значит, это чего-то стоит? — сказала она на прощанье.
Глава 14
— Так и мы точно едем в тур? — спросил Макс в который раз.
— Да-да, в самый настоящий, — отвечал Герман.
— У нас будет крутой гастрольный автобус или частный самолёт? — спросил Дани мечтательно. Наверняка он уже представлял себе, как закидывается коксом на борту роскошного авиалайнера.
— Нам обещали выделить фургончик и трезвого водителя.
— Круто. Как хиппиваген.
— Нет, скорее газенваген, — обломал Макса Герман. — И вообще сам тур кажется мне стрёмным и тупым приключением. Я раньше как приличный человек ездил на гастроли в Польшу и Чехию. Но зато мы увидим море. Я сто лет никуда из Москвы не выбирался.
Элис вернулась за пару дней до отъезда. Ей ещё долго предстояло переваривать всю полученную за этот краткий миг информацию. Герман поведал ей о туре, а Макс о том, как умирал. Вообще вся жизнь в Гнезде во время её отсутствия сильно переменилась. Не было той силы, что могла держать эти два «таланта» в узде.
— Тебе нужна нянька типа Шэрон Осборн, — сказала она Максу. — Иначе ты совсем сторчишься.
— Шэрон, где моё бренди? — крикнул из угла Дани мерзким и скрипучим голосом.
— Вокруг меня только водка и наркота, в то время, как на самом деле мне нужно шоколадное молоко и печенье, — сказал Макс, когда они остались наедине.
— Зачем ты сам погружаешься в свой ад?
— Меня никто не любит. Я подыхаю от одиночества внутри меня.
— Герман ведь с тобой. Ты очень дорог ему.
— Ты не знаешь, как мы стали далеки с ним. Да и я хотел чего-то не того. Просто вот порой понимал, как сильно мне не хватает тебя. С тобой моя душа в равновесии. Я не хочу умереть. Может быть, это любовь? Я не знаю, я никогда её не чувствовал, — он заглянул ей в глаза, стремясь найти там ответ.
— Макс, — сказала Элис серьёзно. — Я слишком хорошо знаю жизнь, чтобы вляпываться в тебя.
Последние слова она произнесла с явным отвращением.
— Я просто понял, что если и быть с кем-то, то только с тобой. Ради тебя я смог бы бросить всё, что меня убивает, — в висках неприятно застучало.
— Тебя убивает сам твой талант и твоя сущность. Разве ты готов от этого отказаться? Ты не для меня и я не для тебя.
Макс вышел, понимая, что первой девушке в мире удалось его морально поиметь.
— Не надо на меня обижаться, я просто сказала правду. Так будет лучше для нас обоих. У нас же правда нет ничего общего, кроме постели, — сказала она ему вслед.
Он понимал больше чем сказано, он просто её недостоин. Ему действительно не хватало уровня, чтобы с ней связываться. Где-то внутри снова что-то рухнуло. Долгое время он думал, что чтобы завоевать девушку, надо просто хорошо выглядеть и круто трахаться. Но здесь было что-то не так. Ей была не интересна его чёртова душа. Для неё он был просто ребёнком.
От этой бессильной злости на себя осталось только взять и писать что-то. Макс весь день провалялся в кровати, пялясь в стенку. Наконец-то получилось выдать что-то способное охарактеризовать собственное состояние:
По проводам идёт дождь, Смешиваясь в липкой беде. Ты не знаешь, как заржавел нож, Которым я копаюсь в себе. Мёртвые помнят, мёртвые спят, Укутавшись в жухлой листве. Я пил и впитывал весну, как яд, Перестав на время думать о тебе.* * *
Они уехали дождливым утром, по направлению юга. Чёрный фургон «Газели» нёс их вперёд, потряхиваясь на неровной российской дороге. В нём не было сидений, только матрасы и спальники на полу. Это было даже удобнее. Герман заранее приволок лава-лампу и бонг, создавая атмосферу дорожных фургонов хиппи. Дани повесил на стены плакаты с голыми бабами, напрочь заклеив окна. Джеффри еле-еле удалось отпроситься с работы и выкроить в своём графике время.
Герман прихватил с собой три гитары, в том числе акустическую двенадцатиструнку, чтобы играть песни в дороге. Сейчас он этим и занимался, выдавая странные звуки. Дорога была для него отличным поводом порепетировать. Макс покуривал бонг и спал, пока Дани с Джеффом играли в карты. «Суровая жизнь, ребят, — говорил Макс, изредка просыпаясь. — Всё это время у нас не будет интернета, нормальной кровати, сортира и личной жизни. Мы все повязаны турингом».
Герман задумался: был ли Макс не пьяным и не упоротым хоть раз за последние месяца три. Сейчас его куда больше волновало не потеряет ли Макс голос из-за своих увлечений, но пока всё проходило нормально.
Они въехали в Тулу спустя три часа дороги. Макс прильнул к стеклу, изучая грязные улицы города. Он был так же мал, как его родное днище.
— Вы когда-нибудь играли в провинциальных клубах? — спросил вдруг Герман.
Все промычали что-то невнятное в ответ.
— Ну так вот, значит, главное ничему не удивляться, особенно хреновому звуку. Это в порядке вещей, но публика не жалуется. Им плевать, подо что колбаситься. Хорошо будет, если меня самого допустят за пульт.
Они попали на какую-то местную пати в кинотеатре, переоборудованном в клуб. «Crow» досталась роль хэдлайнеров. Радовало тут только дешёвое пиво и странная доброжелательность окружаюших. Ещё в гримёрке Макс почувствовал себя хреново. Подскочило давление. В аптечке нашлась пара таблеток обезболивающего, которое сделало всё тело ватным и разморенным. Стало мерзко, но он не звезда, чтобы отменять выступление из-за какой-то головной боли. Он никому об этом не сказал, но по лицу было видно, как ему хреново.
Они отыграли этот концерт крайне паршиво. Благо половину косяков этого вечера можно было списать на звук. Свои выступления — это единственное, за что группе действительно бывало стыдно. Макс стоял столбом, не в силах даже пошевелиться. Герман в какой-то момент наступил на шнур, из-за чего тот вылетел во время песни, но удалось довольно быстро вставить его на место. Всё шло через задницу, но публика старалась этого не замечать.
После концерта какие-то девчонки утащили их к себе на вписку. Макс старался окончательно не умереть, но всю ночь его непередаваемо тошнило. Он жалел о том, что у него нет сил, чтобы нажраться вхлам, как и вся остальная группа. Всё, что ему осталось, это жаловаться на жизнь девушке, которая так отчаянно хотела от него любви. Если бы он был жив, то наверняка бы её осчастливил, а так оставалось просто болтать с ней в перерывах между поблёвом. С утра все с трудом загрузились в автобус и двинулись вперёд.
— Если я умру в этом туре, то этом не будет ничего удивительного, — Макс развалился на матрасе, придерживая голову, чтобы она не отвалилась.
— Я тебе не позволю.
Герман злился из-за того, что не может сейчас играть по причине больной головы Макса. Это единственное, чем он тешил себя в поездке. Куда гуманнее было бы вообще отпилить ему эту бесполезную часть тела. Мешало только то, что он через неё поёт. Всё, что Воронёнку осталось сейчас — это много и сильно пить. Макс просил его постоянно гладить его по голове, в надежде, что это поможет ему заснуть. Но настроение у Германа было совсем не романтическое.
— Пора перестать так употреблять, а то второй день мигрени меня уже просто размазывает, — сказал Макс. — Это просто смерти подобно… Хотя нет, смерть приятнее.
Следующим городом был Курск, похожий на один большой скучный спальный район. Он казался жутким и пресным.
— Я не представляю, как бы я жил в таком городе, и что бы я делал ночью, когда некуда пойти? — спросил Герман, оглядывая улицы.
— Ты бы ничего не делал. Ты бы сидел дома, боясь выйти с наступлением темноты, потому что ты патлатый, — сказал Джефф.
Все остальные понимающе переглянулись, так как не являлись москвичами и не понаслышке знали ситуации в маленьких городах. А Герман крайне редко бывал в спальных районах Москвы, считая даже Красносельскую или Тульскую глубокой деревней. Зато он отлично знал все подворотни центра. Его виденье Москвы сильно отличалось от остальных.
Курск показался всем слишком пыльным. Даже дышать в нем было как-то непривычно. Перед концертом зашли на вписку. Здесь было даже относительно уютно: куча спальников, ковёр и «роллтоны». «Opium Crow» показалось, что они уже постепенно начинают привыкать к этой жизни.
Макс жаловался на то, что кругом воняет и его снова выворачивает наизнанку. Остальные ровным счётом ничего подобного не чувствовали. Он решил поспать пару часов перед концертом, пока все пошли в бар заливаться местным пивом. Снились кошмары, традиционные для больной головы. Уроды, метро и кровавые реки. Что-то такое, о чём можно писать самые жуткие песни. Иногда полезно поделиться со всеми собственным страхом. Безвозмездно подарить свою боль. Не за этим ли все его песни, чтобы другие знали про этот маленький ад в голове?
Макс хотел, чтобы все шли за ним, как за гамельнским крысоловом в пропасть. Умирая, он должен взять всех с собой. Всё шло от пустого эгоистического желания докричаться. Его музыка — это что-то тёмное, разрушительное, но сделанное с любовью. Он способен любить лишь её безумную силу.
Проснувшись от бреда, он умылся ледяной водой. Макс выглядел отвратительно, даже слишком. Под глазами залегли чёрные синяки. Лицо выглядело опухшим и сероватым.
— Здравствуй, грёбаный нарик! — сказал он сам себе.
Начало казаться, что это именно города выпивают его до капли своей непролазной серостью. Раньше бы всё обошлось, но сейчас Кадавр-Москва слишком плотно отравил его своими ядовитыми соками. И становится тошно вдалеке от этих миазмов. Тьма любит и хранит его.
Вскоре вернулись Герман и остальные.
— Как ты? — спросил Воронёнок.
— Терпимо, но всё равно неважно. Скоро меня можно будет сдать на удобрения, потому что я больше никуда не гожусь.
— Ты петь можешь?
Макс выдал что-то невнятное, сам удивляясь себе.
— Нормально, только безжизненно совсем, — ответил Герман. — Не говори ни с кем до концерта.
И он вышел на сцену в этот вечер и спел, выплёскивая всю свою густую тягучую боль. Порой Максу казалось, что он вообще не узнаёт своих песен, настолько чуждо и странно они звучали на этой аппаратуре. Мигрень не ушла. «Crow» в этот вечер звучали сносно, пусть даже в их выступлении не было прежнего драйва и присущей им дьявольской искры.
Макс был счастлив, когда всё это закончилось. Их вызывали нас «бис», но сознание уже уплывало в чёрную дыру. Он с трудом доковылял до дивана, чтобы отключиться там. Герман растолкал его двадцать минут спустя.
— Знаешь, если следующий концерт будет таким же дерьмовым, то я пошлю всё в задницу и уйду торговать носками, — сказал Воронёнок спящему полутрупу.
— Я просто самовыпилюсь из этого мира.
— Сделай, что хочешь, только воскресни ради бога завтра или никогда. Иначе я разворочу тут весь клуб, а потом оболью себя бензином и сожгу, жить становится просто нечего.
— Пошли спать. Я сейчас отключусь, — сказал Макс.
Глава 15
На следующий день стояла адская жара, совсем не характерная для начала мая. Хотя, если списать на географическое положение чёрного фургончика, то всё как раз сходилось. Все валялись на полу, изнемогая от духоты, стараясь спастись холодным пивом, купленным на ближайшей заправке. Оно предательски нагревалось в руках. Холодильника или даже кондиционера не было предусмотрено райдером начинающей группы. Тур продолжался в жёстких боевых условиях.
Дани открыл люк в потолке и принялся играть в собаку, подставляя лицо ветру. Время от времени он вываливал наружу язык, но, наглотавшись пыли, бросил эту затею.
— Слезь ты, к чёртовой матери, не хватало, чтобы нас оштрафовали! — прикрикнул на него водитель.
Тот подчинился, но далеко не с первой попытки.
Герман ныл о том, что ему надо помыться, ведь он уже три дня грязный. Обычно дома он ходил в душ по два раза в день, чем показался всем остальным излишне чистоплотным идиотом. Потому что, какой смысл мыться, если не воняет, или если с виду не грязный. Дани вообще добавил, что когда грязь засыхает, она отваливается сама собой. Герману от этого стало ещё более мерзко. Он уже искал глазами пруд, где можно устроить заплыв или утопить басиста.
Макса же бытовые условия перестали волновать ещё в первый день поездки. В принципе, всё житейское и телесное волновало его в последнюю очередь.
— Если у вас есть трава, то советую избавиться от неё до границы, — сказал водитель.
Макс полез в свои запасы. Там оставалось ещё прилично травы, а также рецепторных анальгетиков и снотворных. Таблетки можно было бы выкинуть, а вот от натурального продукта было жалко избавляться просто так.
— Быстро все курим эту дурь! — скомандовал он.
— Ну выкинь ты её, не будь жлобом, — скривился Джеффри.
— Нет, я не люблю разбрасываться своими веществами.
— Чувак! У нас же ещё впереди ночь в Белгороде, — встрял Герман. — Может быть, там?
— Мы сможем курить это всю дорогу, до и после концерта, плюс ещё поделиться с тёлками.
Дани тяжёло вздохнул.
— Ладно, я с вами, но только для общего дела. Я не люблю траву, моя мамаша постоянно её курила. У нас вообще все шкафы в доме были заняты горшками с рассадой и лампами. Я начал курить марихуану ещё в утробе. Она мне уже поперёк горла.
— Я хочу твою мамашу, — сказал Макс, затянувшись.
Дани издал какой-то сдавленный смешок.
— Да я не об этом. Хочу нормальную мамашу, и папашу заодно, а не семейку инженеров-«совков».
— Но ты ведь сам понимаешь, что когда твоя мать долбается и водит домой мужиков, это несколько ненормально.
— Мы сами сейчас глубоко ненормальны, — Макс затянулся снова, передавая бонг Герману.
— Но у нас же хватает ума не заводить детей, — хмыкнул тот.
— Ну, по крайней мере, пока мы не перебесимся, — возразил Джефф.
Герман посмотрел на него скептически, как на что-то странное и непонятное.
— Ты любишь детей?
— Я пока не знаю об этом, — барабанщик пожал плечами.
— Мерзкие дети, всех в суп, — рассмеялся Макс.
В Белгороде было жарко, настолько жарко, что хотелось содрать с себя кожу и поджарить мясо. В назначенном месте их встретил какой-то очень говорливый товарищ, который всё время старался поведать о достопримечательностях и красотах своего города. Герман послушно кивал, рассматривая невидящим взглядом очередной храм, торговый центр или общественный туалет. Ему очень не хотелось показаться избалованной рок-звездой. Макс в открытую уже выказывал своё пренебрежение, валяясь в клумбе. Ему было на всё наплевать. Воронёнку удалось сквозь зубы в вежливой форме объяснить, что они очень устали с дороги и хотят немного поспать и помыться.
Макс ныл, что ему хочется есть. Оттого и скупал в магазине всё, что было в красивых упаковках. В его состоянии вся еда казалась пищей богов. Никогда не ходите с укурками по супермаркетам. Неведомым образом ему удалось стянуть из закрытого шкафа большую бутылку «Джек Дэниелса».
— Блин, я ожидал такого от Дани, но не от тебя точно, — вздохнул Герман, покидая место преступления.
— Просто когда мне кажется, что этот мир задолжал мне, я ворую из магазинов. Если бы не я, у нас дома не было бы столько красивых пепельниц.
Герман остановился и потряс его за плечи:
— Так, ты главное не во что не вляпайся.
Макс посмотрел на него из-под полуопущенных век:
— Всё нормально. Правда.
Перед концертом все ещё раз причастились травой и вышли на сцену в разноцветный туман огней. Руки зрителей росли словно из земли, утопая в этом мареве. Кое-где светились глазами угольки сигарет. И даже самое мёртвое казалось живым. «Opium Crow» делились своим «приходом» с публикой. Макса шатало; он опустился на колени, допевая «Опиум». По правде говоря, сейчас больше хотелось гладить микрофон, чем петь. Но если задуматься, то слушать свой голос было тоже неплохо. Главное, чтобы не отпустило в самый неподходящий момент, когда краски вдруг померкнут и всё станет обычным и серым, как простой провинциальный клуб.
Он заглянул им в глаза, сразу во множество глаз, что сложились в единый калейдоскоп. Это дало им шанс заглянуть в него. «Мне нужны Ваши слёзы», — сказал Макс в перерывах между песнями. Зал закачался как море. Вдруг стало страшно, когда в сознании стали прорастать ядовитые цветы. Они окутывали зал и его самого. Эфемерная липкая гадость. Зёрна «Гавайской розы», что дал хозяин вписки, оказались не пустой «разводкой». Ничего, это можно пережить, если смотреть сквозь предметы, то ничего не будет. И мир станет прежним и прекрасным. Он и правда чудесен, если вовремя повернуть рычаги. Если допеть свою песню, не забывая слова. Макс понял, что уже давно поёт странный экспромт вместо текста «Свободы»:
«Свободу соблазну уродов, Вкусивших всю чёрную воду. Свободу больным и убогим, Презревшим единого бога».Никто, казалось, не обратил на это внимания, кроме Германа, что странно на него вытаращился, пропустив все свои бэк-вокальные партии. Надо отдать ему должное, он продолжал играть как ни в чём не бывало. Дани странно слажал, заставив всех вовремя подстроиться. Его, вероятно, просто испугало выражение лица Германа.
Выступление закончилось каким-то безумным психоделическим джемом с нотками тёмного шаманизма. Под такую музыку обычно просыпается древнее зло, чтобы идти пожирать солнце и выбивать глаз луне. «Opium Crow» буквально обрушили на толпу свой внутренний ад.
— И что это было? — спросил Герман после концерта.
— Это мой маленький ночной кошмар, — ответил Макс.
В этот вечер он курил, пока не «поймал бледного». Дани же тем временем сидел на коленях возле унитаза с банкой варёной фасоли. Периодически он кидал туда одну фасолину и удивлённо заглядывал в фаянсовую чашу белого друга.
— Да что вы все, с ума посходили? — на пороге возник Герман с бутылкой краденого виски.
Дани посмотрел на него слегка испуганно, затем вдруг выдал:
— Скажу тебе по секрету: я слышу, как разговаривают бомжи в подвале. Их слышно через унитаз. Я решил покидать им фасоли, но она не тонет.
— Ну смой её, что ли, — раздражённо сказал Герман.
— Нет, тогда она попадёт в фекалоприёмник, а я этого не хочу.
— Пошли отсюда. На, выпей, только угомонись, — он протянул басисту виски, тот немного приободрился.
Герман отправил всех спать на матрас, а сам остался на чужой кухне пить и смотреть на луну.
— Не спится? — спросил Димка, хозяин квартиры.
— Да, меня потихоньку задалбывает нянчится с этими дебилами. Что я, чёртов рок-н-ролльный негр, чтобы пахать за всех?! Словно можно повесть на меня все обязанности, а самим веселиться.
— Попробуй просто пустить всё на самотёк. Поверь мне, я знаю, у меня была своя группа.
Герман ничего не ответил. Ему хотелось сказать что-то вроде: «Где твоя группа, а где моя?» Он просто разозлился и пошёл спать, по привычке обнимая Макса во сне, хотя тот явно этого не заслуживал.
* * *
Утро было тяжёлым, тишина звенела струной. Назойливое солнце жгло усталые веки. Снова надо воскресать, собираться и ехать. Куда? Зачем?
— Мы просто так долго нигде не работали, что тур кажется для нас тяжким трудом, — вздохнул Герман. — Жутко это осознавать.
В Харькове у них было куда больше времени, чтобы развеяться и отдохнуть. Макс умудрился тут же устроить небольшой скандал в баре по поводу того, что в Украине нельзя курить в общественных местах. Ему это показалось чем-то выходящим за пределы мира. Сопровождающая девчонка так же предупредила, что здесь нельзя курить на улицах, но эта просьба осталась проигнорированной.
— Этот город вполне себе ничего, — сказал Герман, когда они добрались до квартиры, где предстояло провести пару ночей до отъезда. — Но только когда ходишь по центру. Это почти как Москва в миниатюре, можно найти даже что-то интересное, если у тебя больше сил и не отваливаются ноги.
— Ну зато тут вполне себе мило, — Макс развалился на диване, свесив голову вниз, — с этими виноградными лозами на балконе и наклонным полом в квартире. И упарываться уже не надо, так какой-то ленивый трип.
Под вечер время стало тянуться всё медленнее. Хотелось уже со спокойной душой отыграть концерт, но он будет только завтра. Дурацкое подвешенное состояние. Осталось только джемить, играя на чём попало, в том числе и на вёдрах. К радости Германа, тут нашлось старое пианино. Звучало оно неважно, зато можно было издавать звуки.
— Честно говоря, клавишные порой нравятся мне даже больше, чем гитара. Помогают лучше выразить настроение, — сказал он, наигрывая что-то.
— Ты всегда выглядишь каким-то зловещим, когда играешь на пианино, — заметил Дани.
— Ну вот такой вот я демон, — улыбнулся он.
Всё дышало пустотой и покоем, только звуки музыки прорывались словно сквозь толщу воды. Макс спал, свернувшись клубком. Впервые за долгое время ему казалось, что всё в порядке.
С утра они снова гуляли по городу, закупившись местным дешёвым коньяком «Шабо». В нём было что-то галлюциногенное и до одури романтическое. Что-то такое, от чего смердело молодёжным духом. Приятно было бродить тенистыми аллеями, передавая друг другу флягу чистого яда, словно впервые проникаться этим духом товарищества, что, казалось бы, улетучился.
Привал на пустынном кладбище с нагретыми солнцем плитами. Там было сделано несколько фотографий, которые по концепции Германа выражают торжество жизни над смертью, а, по мнению остальных, пьянка на погосте. Не хватало ещё сделать, как Мэнсон: накопать костей, чтобы дружно скурить их для призыва духов в сортире.
Настало время забирать инструменты и ехать в клуб. Это было небольшое заведение в самом центре города. Радовало то, что это было именно клубом со своей атмосферой и особой жизнью. Повсюду плакаты с музыкантами из «клуба 27», надписи на стенах. Единственное, что расстраивало, это маленькая сцена, предназначенная скорее для камерных акустических выступлений. «Opium Crow» приняли на редкость тепло и угостили отборным сидром.
В ожидании своей очереди к ним присоединилась ещё одна местная металлическая команда. Трепались о музыке и обстановке на андеграундной сцене. Обменивались впечатлениями. В курилке на лестнице подростки обсуждали кислоту. На площадке выше продавали марихуану. Всё это больше походило на ожившие картины из фильмов восьмидесятых. Герман не пожалел денег на увесистый пакет по смешной для Москвы цене. Ему тоже не мешало бы как следует упороться, чтобы понимать всю эту безумную компанию. Ничего нет лучше косяка в женском туалете.
«Crow» выступали последними уже поздним вечером, но публика ещё держалась, несмотря на количество пива. Группа поняла одно — им скучно играть свои песни каждый раз одинаково. Концерт превратился в буйство внезапных импровизаций. Практика показала, что с пивом эти эксперименты покатят, а вот что дальше — неизвестно. В целом, ребята всё же больше понравились публике, чем нет.
Оставалось только гадать: вся ли поездка в Украину окажется столь сюрреалистической, как пребывание в Харькове? Никто не сказал бы, что этот город им стопроцентно понравился, однако оставил что-то на душе.
— Что у нас дальше? — спросил Дани, когда они вернулись домой.
— Ну там ещё Полтава, Киев, Одесса, — ответил Герман, сверяясь с маршрутом.
— Чёрт, я думал, мы в Крым едем. Ты же говорил, на море! — плаксиво произнёс басист.
— Ну там в Одессе есть море.
— Там же еврейское море, а я хотел нормальное.
Все рухнули спать, потому что завтра снова ждал автобус и километры по выжженной степи.
Глава 16
Утром звонила Мария, сказала, что концерт в Полтаве отменён по неизвестным причинам. Герман почему-то вздохнул с облегчением. Выдвигаться в Киев решено было во второй половине дня, когда спадёт эта адская жара, накрывшая город.
Фургон ехал по степи, скользя по трассе как пароход в жёлто-зелёном море. В блёклом небе уже загорался закат, бросая золотистые отблески на горизонт. Мир дышал красотой и свежестью. Все прильнули к окнам, стремясь надышаться этим чарующим дорожным воздухом.
«Хотел бы я здесь остаться», — сказал Макс сам себе. Он понял, что это было зря, когда у автобуса спустило колесо. Легонько тряхнув, «Газель» съехала к обочине.
— И что мы теперь будем делать? — в голове Дани мелькнула лёгкая паника.
— Не ссыте, у меня запаска есть, только менять долго придётся, — водитель махнул рукой, вылезая из кабины.
Ребята вывалились из фургона, разминая затёкшие конечности. Солнце рисовало узоры в небе; бросая золотистые отсветы на дорогу и степь, оно садилось в густую траву, испещрённую лимонными и лиловыми цветами. Пустой пакет прокатился по трассе, как перекати-поле. Огоньки сигарет светились всё ярче в наступающих сумерках. Мелкие камушки хрустели под подошвами кед. Небо меняло цвет на розоватый. Белый след от самолёта взвился в небе причудливым драконом. Дани ходил вдоль дороги и снимал закат на камеру Германа.
— Это просто какой-то Техас, — приговаривал он, направляя аппарат на пустую дорогу.
Макс сидел на обочине и курил. Дани захватил и его в объектив.
— Не снимай меня! Я похож на сельского пидара, — сказал он, закрывая лицо женской соломенной шляпой.
— Ты такой милый, как гриб-псилоциб, что пророс сквозь асфальт.
— Что ты там наснимал? — спросил Герман, выхватывая камеру.
Там было небо, залитое светом поле, солнечные блики на боку фургона, чёрные силуэты, уходящие в закат.
— Странно осознавать, но это крутые фотки, — сказал Воронёнок. — Ты снимал раньше?
Дани просто пожал плечами.
— Нет, я просто пошарил в настройках, мой хипстерский друг.
Бросив окурок в пыль, Макс убежал в степь. Он мчался со всех ног, вскоре можно было различить только светлое пятно на фоне синеющей травы. Он бегал кругами быстро, как борзая.
— Что он там? — спросил Дани.
— В него вселился бес, это нормально.
Джефф, как самый ответственный, помогал водителю менять колесо.
Герман пошёл за Максом. Мокрая от вечерней росы трава ласкала голые щиколотки. Закатная степь завораживала и околдовывала. Макс сменил направление своего бега и рысью направился к Герману.
— Полегчало? — спросил Воронёнок, вынимая сигарету.
Макс молча кивнул, садясь в траву. Светлые волосы слиплись от пота. Лицо раскраснелось, так что видно было даже в полумраке. Герман опустился рядом с ним, чувствую всем телом сырость. Макс положил голову ему на плечо. За секунду до этого в его глазах сверкнуло отражение закатного неба, и тёплая улыбка пробежала по лицу.
— Я скучал, — прошептал Герман.
— Я всегда рядом, — ответил Макс так же шепотом.
— Только твоя оболочка. Я соскучился по тебе настоящему.
— Кто знает, кто из нас настоящий? — усмехнулся он.
Макс жестом попросил у Германа сигарету. Тот протянул свою, где осталась всего половина. Он затянулся, ощущая чужую слюну на фильтре. Несколько длинных минут они просто курили одну сигарету на двоих, глядя в небо. Макс мягко отстранился от Германа и уставился на дорогу.
— Нам пора, — сказал он, ориентируясь на какие-то свои знаки.
Колесо удалось поменять практически в темноте. Дорога продолжилась в тишине и молчании. Угрюмо покачивался красный фонарь и вился в воздух сигаретный дым. В колонках тихо играл «Current 93» — «All The Pretty Little Horses», сменив прежний угар мрачной меланхолией. Подборка музыки преподносила сплошные колыбельные для больных и одержимых детей.
* * *
Утопающий в цветущих каштанах Киев был похож на большой кремовый торт. Макс проснулся, когда они уже въехали в центр. Он смотрел в окно, стараясь осознать всю реальность происходящего. Ему казалось, что он плывёт среди облаков и предутреннего тумана. Гаснущие огни фонарей бросали блики на стекло. Захотелось кофе. Хорошего чёрного кофе с капелькой виски для вкуса. Герман сбросил с себя спальник, промычал что-то вполне согласное с Максом.
Сидя в сонной кофейне у окна, они наблюдали за просыпающимся древним городом. Он был словно динозавр, который сбрасывает с себя вековую труху, постепенно открывая слипшиеся веки. Нет, это не Москва, которая никогда не спит, это город, который дремлет. Дани снова испортил всё молчаливое великолепие, щёлкая вспышкой фотоаппарата.
— Я просто хотел сфотографировать мысль, — сказал он, ловя разгневанный взгляд Макса.
На фото был он с чашкой американо на фоне расплывающихся огней и синего морока.
Дальше все сидели в молчании, про себя жалея, что нельзя курить.
Вписка оказалась в самом центре возле метро «Золотые Ворота», в просторной квартире с большими потолками и окнами от самого пола. Запах травы, кофе, сигарет и благовоний создавал причудливую атмосферу. Это был слегка окультуренный хиппятник, где одновременно могли проживать до десяти человек. Разноцветные рисунки на стенах напоминали об Элис, только у неё всё получалось гораздо живее и приятнее взгляду.
Современные хиппи — бледные дети ушедшей эпохи. Цветы жизни, но больше не дети цветов. С кем им бороться, когда система сожрала их самих изнутри? Сегодня ты идёшь на фестиваль мира, завтра надеваешь костюм и спешишь в офис. И лишь где-то там за ступеньками кислотного рая тебе ещё споёт живая Дженис.
— Я пытался быть хиппи в молодости, — сказал Макс, глядя на «пацифик» на двери. — Но я понял, что я слишком злой для того, чтобы сеять Peace&Love.
Он знал, что все они лукавят, мир, любовь и пацифизм невозможны в эту эпоху. На стене для записей Макс оставил пару строк красным маркером:
«Я хотел бы быть честным, но в чём здесь прикол? Ты так же мёртв, как и твой рок-н-ролл».Герман обосновался на кухне, заняв подоконник как насест. Дани решил выпить с утра дешёвое фруктовое пиво, котыром они затарились в магазине рядом. Почти все суточные группы уходили на алкоголь, про еду они вспоминали крайне редко, и то — если воровали из супермаркетов. Жизнь превратилась в асоциальное раздолбайство.
Люди в квартире хотели общаться, но «Opium Crow» со вчерашнего вечера висели в лёгкой молчаливой прострации. Спать не хотелось, впрочем, как и погружаться в что-то другое кроме кофе и сигарет. Герман слегка скучал без «Джирома», вынужденный курить «Рич» или «Корсар». Он ненавидел вкус чистого табака. И, в отличие от Макса, не начинал курить всё подряд, когда заканчивались любимые сигареты. Воронёнок и здесь не бросал свой снобизм.
Макс настрочил Элис длинное сообщение, тщательно и вдумчиво подбирая слова:
«Привет. Знаешь, вчера я видел красивый закат. Я пытался надышаться этим моментом, чтобы впитать в себя частичку этой магии. Это то, что мне так хотелось тебе передать. В тот миг я был по-настоящему счастлив. Потом всё оборвалось от мысли, что я не могу разделить этот миг с тобой. Тогда ты бы поняла, что я чувствую по отношению к тебе. Мне хочется положить этот мир в карман и принести тебе».
Она ответила спустя пару минут:
«У меня есть рассветы и лимонный ликёр. Мне заебись».
Именно в этот момент Макс почувствовал себя униженным одной лишь меткой и точной фразой.
— Чёрт, а ведь те, с кем мы спим, нам не принадлежат, — сказал он вслух.
Герман усмехнулся с подоконника:
— Нам вообще никто не принадлежит. Даже мы сами, — он вздохнул, выдыхая дым, и продолжил. — Ты бродишь рядом, и я счастлив только оттого, что ты есть, потому что я знаю, что ты будешь со мной, а если нет, то мне просто не будет смысла тобой дорожить.
— Я не об этом, — выдавил Макс.
— Хочешь поговорить об этом?
— Пожалуй.
Они удалились в ванную и включили воду, чтобы никто не слышал.
— Так о чём же ты? — Герман ходил туда-сюда, шлёпая босыми ногами по кафелю.
— Просто из-за всей этой кутерьмы с Сиськой и прочими гадостями бытия я понял, что хочу быть с Элис.
Герман подавил издевательский смешок.
— Ну-ну.
— Что ты этим хотел сказать?
— Да то. Понимаешь, просто я не думаю, что в этом плане ты можешь её заинтересовать. Я тоже в своё время не смог. Такие девушки непрошибаемы. Ты можешь спать с ней, можешь что угодно, кроме того, чтобы залезть в её душу. Увы, чувак, мы ей не пара. Её нужен кто-то уровня бога, как минимум. Кроме шуток, чувак, я серьёзен как никогда. Она носится с тобой, как с сынком или младшим братом-дауном, но не более. Пожалуйста, не лезь в высшие материи, если не хочешь испортить себе карму. Это чревато.
Герман подошёл и обнял Макса тепло и по-дружески.
— Ты из-за этого ведь так бесился в последнее время?
Макс пожал плечами.
Герман успокаивающе прошептал на ухо:
— Не хватало ещё из-за баб с ума сходить.
— Мне просто грустно. Раньше такого не было.
— Всё когда-нибудь бывает.
Макс и Герман простояли молча где-то около минуты. Звук журчащей воды звенел в ушах.
Они вышли прогуляться вдвоём. Общение было натянуто милым и осторожным, так, словно боишься неосторожным словом нарушить хрупкий мир. Герман всё больше молчал, глядя на свои кеды.
— Куда мы, вообще, идём? — спросил он, остановившись возле арки.
— Если я правильно понял дорогу, то там есть то, что может тебя порадовать, — ответил Макс.
— Эта обоссаная подворотня меня не радует.
Они вошли в обычный двор. Макс уж было решил, что они завернули не туда, но продолжал идти вперёд. Он схватил Германа за руку и потянул за собой. Повернув за угол, они вышли к огромному вольеру, где прогуливались большие чёрные птицы.
— Ни хрена себе! — воскликнул Герман, присаживаясь на колени возле клетки с воронами.
Его пернатый собрат по ту сторону уставился на него своими пронзительными чёрными глазами. Ворон просунул голову сквозь решётку. Герман осторожно коснулся пальцами его клюва.
— Осторожно, они кусаются, — предупредил Макс.
— Меня не укусят.
Они молчали ещё несколько минут, пока Герман пребывал в завороженном созерцании трёх воронов, что скакали с насеста на насест, расправляя большие чёрные крылья. Потом он заговорил снова:
— У меня когда-то был ручной ворон. Его звали Эдгар. Он был очень умный, умнее многих людей. Мой самый лучший друг. Он заболел, мы с Лукрецией долго таскали его по врачам, ничего не помогло, никто не мог сказать, что с ним. Вскоре он умер. Знаешь, я не плакал, когда люди умирали, а тут птица… — он тяжело вздохнул, словно пытаясь подавить слёзы. — Это была не просто птица. Мы любили гулять вместе. Он всегда сидел у меня плече, даже не пытаясь улететь. По ночам он сидел у изголовья моей кровати, словно охраняя мои сны. Никогда ничего не портил и не гадил где попало, как прочие птицы. Я его даже похоронил, как человека, в маленьком красном гробике. Эта татуировка в память о нём.
Герман встал, расправляя плечи. Макс погладил его по спине.
— Забей, — сказал Герман. — Нет смысла горевать по тому, чего у тебя нет, лучше радоваться тому, что было. А птицы действительно классные. Мне только жаль, что они в клетке, а не на воле.
Глава 17
Все два дня до концерта «Вороны» провели, скитаясь по Киеву в поисках приключений, обшарив все дворы, крыши и мосты, а также множество баров с недорогой выпивкой и вкусной едой. Эти впечатления трудно было описать, да и вообще запомнить: они наслаивались одно на другое и мелькали, словно слайды.
Клуб располагался на самой окраине города и представлял собой заброшенный завод. Таких странных мест им видеть ещё не доводилось. Стены были выкрашены в грязно-красный цвет. С потолка свисали странные металлические предметы, начиная от абажуров, заканчивая утюгами и старыми велосипедами. Присутствовали тут и совершенно неожиданные украшения в виде огромных чудовищ, целиком сделанных из консервных банок, гигантских проволочных цветов и человечков из арматуры. Освещение было слабым, но сугубо в красноватой гамме. Группа не удержалась от небольшой фотосессии в этом странном и загадочном месте. Герман сказал, что это может пойти в буклет альбома, который они когда-нибудь запишут. Туалет был один — сразу мужской и женский, впридачу с незакрывающимися дверями, а где-то таковые отсутствовали вовсе. В зале не оказалось ни одного полноценного стола или стула. Везде находились бочки, старые усилители и ящики.
— Кажется, дизайнер этого заведения был либо гением, либо двинутым, — сказал Макс, прогуливаясь по пустому клубу.
К началу концерта народу набилось под завязку, так что негде было даже встать, не то что сесть. На сцене сплошная сборная солянка из фолка, инди-рока и панка. «Opium Crow» встретили тепло, но без бурного восторга. Публика больше оценила хорошо знакомые им каверы. Концерт проходил в какой-то даже домашней обстановке, несмотря на обилие народу.
В целом, самим «Crow» это выступление не показалось чем-то выдающимся, скорее рядовым и слишком гладким. Им всем не хватало форс-мажора в жизни. После концерта Макс с Германом пили пиво вместе с девчонками из местной панк-группы. Те звали на вписку, но пришлось отказаться, потому что на Золотых Воротах обещали вечеринку с отборным планом и домашним вином. Дани с Джеффом заливались водкой в баре. В Украине она казалась им необычайно вкусной.
Дома всё проходило мирно. Дым трубок с ароматным планом, тихое гитарное насилие в исполнении местных талантов, истории из жизни своей и чужой. Рыжая тёлка в цветастой майке предлагала Герману make love прямо на балконе. Он отказался, сказав, что устал. Они все устали и готовились к финальному рывку на море.
* * *
Есть города, которые сводят тебя с ума и выворачивают душу с первого взгляда. Романтики назвали бы это любовью. Этот город входит в вас, вкручиваясь ржавым болтом в многострадальный мозг, желая рухнуть вам на головы камнями с шатких балконов. Герман был очарован, впервые ступив на неровные булыжники одесской мостовой. Над ним нависали дома, увитые плющём. Они смотрели ему в глаза своими разноцветными окнами. Одесса оказалась не по-южному мрачной. Она словно праздник жизни, на который тебя не звали. По городу снуют туристы, они видят совершенно другое — море, рестораны и сувениры. Это их реальность, а в мире, где пребывал Герман, были старые мёртвые дома, витые ограды, тёмные парадные и грязные дворы.
Этот город пах корицей и рыбой. Непередаваемый коктейль из вони, морепродуктов, специй, духов и помоек за ресторанами. Сладковатая гниль. И тяжело понять, является ли этот запах приятным, или же нет. Никогда не нюхайте Одессу.
Герман с Максом только закинули вещи на вписку и сразу же отправились гулять по центру таинственного города.
— Я бы с радостью здесь умер, — сказал Макс, окидывая взглядом площадь.
— Почему?
— Это всё вокруг словно выпивает из меня все соки. Я безумно счастлив, но хочу умереть. Оно бушует во мне. Меня раздражает каждая мелочь, но, в то же время, я рад собственной злости. Я упиваюсь ей, как дешёвым вином. Я бы хотел выстрелить себе в висок на детском утреннике. Это было бы апогеем моего психоза.
Герман заглянул ему в глаза, пытаясь уловить в голубом мареве искорку подлинных эмоций.
— Я думал, тебе стало лучше.
Макс тряхнул головой.
— Я тоже так думал.
Они шли дальше вглубь переулка, что извилистой змеёй спускался вниз. Было тихо, так что можно услышать эхо своих шагов. Густая зелень нависала над головой. В воздухе висел аромат жасмина.
— Знаешь, — сказал Герман. — Всё, что с тобой происходит, очень похоже на маниакально-депрессивный психоз. Я не врач и не могу ставить диагнозы, я просто предполагаю.
— Может быть, — ответил Макс равнодушно, пиная пустую бутылку.
— Дожми этот концерт. Потом сможем, как следует, оторваться и отдохнуть. Если хочешь, то отдохнём друг от друга.
— Я вообще ничего не хочу, — Макс продолжал брести вперёд.
Герман схватил его за руку.
— Пожалуйста, оставь меня, — прошипел Макс, стараясь не сорваться окончательно.
— Куда ты?
— Мне просто нужно побыть немного одному.
Он умчался вниз по улице. Герман понял, что ему в жизни не угнаться за Максом, да и бежать за ним было бы крайне глупо. Воронова гордость перевесила.
* * *
Хозяином квартиры был довольно странный мужик неопределённого возраста по кличке Дядя Джи. Как и почему он получил такое прозвище, не помнил уже никто. Дани с Джеффом предпочли зависнуть вместе с ним, чтобы выпить пива и послушать дурацкие несвязные истории, от которых сильно разило выдумкой. Всё сойдёт, если нет других развлечений.
— Так вот, короче, — сказал Джи, разводя руками. — Один мой приятель как-то раз изнасиловал проститутку…
Тут Дани накрыло неистовым смехом. Он сполз с кресла на ковёр и облился пивом.
— Да погоди ты ржать! — прикрикнул Джи. — Изнасиловал её и сжёг в машине!
Дани зарылся лицом в коленки.
— Идёт проститутка по лесу, видит — машина горит, села в неё и сгорела, — выдал он, оторжавшись.
— Ты вроде сегодня ничего не курил, — сказал Джефф.
— Мне не надо, мне и так хватит.
Джефф тяжело вздохнул, ему показалось, что басист в состоянии смеяться даже над несмешными английскими анекдотами.
Пришёл Герман и рухнул на кровать.
— Ты где Макса потерял? — спросил Дани.
— Он свалил куда-то бродить.
— Зря ты его одного отпустил, — сказал Джефф.
— Мне, кажется, стоит больше переживать за Одессу, чем за Макса, — Дани снова заржал в голос.
* * *
Тропа вывела его к огромной лестнице, ведущей прямо в порт. В небе сгущались розовые тучи. Говорят, что с наступлением темноты вне центральных улиц становится опасно. Макс не придал этому значения. Он ходил и по более опасным городам, не имея при себе даже ножа. Сейчас он чувствовал себя опустошённым. Внутри не было ничего, кроме беспричинной злости и усталости. Этот город, горячие камни лестницы, радостные лица людей — даже это дерьмо казалось слишком светлым для Макса. В целом, не хотелось ничего, кроме как перестать существовать. Хотелось домой, но что делать когда ты уже и забыл это ощущение дома? Был ли он вообще когда-то? Можно ли вообще считать домом квартиру своих родителей? А потом что? Только череда вписок и «Воронье Гнездо». Являлось ли оно домом или дом это только то, что принадлежит нам?
Макс совсем запутался в собственных желаниях и мыслях. Он был так зол на Германа, что даже не мог думать о нём. Наконец-то эти проклятые ступеньки закончились. От порта пахло рыбой и фекалиями. Как же отвратительно море. Как вообще можно купаться в этой зелёной урине? Начало тошнить и мутить. Хотелось поскорее где-нибудь спрятаться. Из подземного перехода доносилась кустарная музыка. По старой привычке, Макс свернул туда.
В переходе панки насиловали акустику. По правде говоря, назвать их панками — это сильно им польстить. Просто сальноволосые дети дерьмового российского рока. Макс остановился рядом, стараясь угадать, что за песню так отчаянно пытается исполнить гитарист. К нему тут же подошёл чувак с кепкой в руках и попросил мелочи. Макс насыпал им чего-то не глядя.
— Можно мне гитару? — спросил он, когда песня закончилась.
Гитарист скептически посмотрел на него, протягивая инструмент. Гитара была расстроена в дрова, но это сейчас особо не беспокоило Макса. Потянуло сыграть русскоязычную версию «Insane».
«Я с утра просыпался и прятал глаза, Прямо в банку со спиртом, чтоб никто не нашёл. Я с утра просыпался и прятал лицо, Чтобы тленье его не взяло».Его голос звучал ниже чем обычно, злее и надрывнее. Внутри клёкотало самоотвращение. Прохожие шарахались, вжимаясь в дальнюю стену перехода. Макс наслаждался людским недоумением и немым обожанием со стороны этих уличных крыс в чёрном. Нет, они его ненавидели, как ненавидели каждого, кто хоть немного лучше пыли под ногами. Это мир, где отвратительное тянется к уродливому. Они везде одинаковы. Неприкрытая ненависть к тому, кто в чистой одежде или просто имеет хоть какие-то деньги. Макс закончил петь, вытирая полоску слюны с подбородка. Ему вдруг подумалось, не пошёл ли он пеной, как бешеная собака?
— Круто, — сказал толстый увалень в футболке с волком.
Его лицо было красным от загара и пьянства. Он зятянулся, бросая бычок себе под ноги.
— А Цоя знаешь что-нибудь? Ну там про «Звезду по имени Солнце».
Макс хотел сказать что-нибудь типа «иди ты на ***», но он оказался злее, чем думал. Миг — и гитара обрушилась на голову жирному. Всё как в замедленной съёмке — деревянные щепки, порванные струны, застывшее удивление в глазах. Макс бросил гитарный гриф, задев кого-то из дружков пострадавшего, и сделал то, что было вполне целесообразно для человека его комплекции — пустился бежать.
Опомнился он где-то на середине длиннющей лестницы. За ним никто не гнался. Это было вполне ожидаемо. Говнари слишком трусливы, чтобы дать сдачи хоть кому-то или же заступиться за своих. Макс понял это, общаясь с их представителями в своём городе, когда один «резкий» гопник мог запросто разогнать всю тусовку в десять — пятнадцать человек.
Надо было возвращаться домой. Он уже сорвал свою злость на самом ничтожном существе, что только мог встретить. Стало как-то спокойней и живей. По телу приятно разливался адреналин. Макс заглянул в магазин и купил ребятам водки с колой. Надо было сделать им приятное, а то Герман снова начнёт выступать. Конечно же, их всех можно понять. Он ведёт себя несколько неадекватно. Макс до ужаса боялся, что они могут от него отвернуться, тогда его жизнь будет кончена. После всего пережитого тяжело вернуться к прошлому.
Дверь открыл Герман с каким-то равнодушным и отрешённым видом. Макс обнял его в попытке растормошить.
— Прости, — прошептал он.
— Перебесился? — спросил Герман.
— Угу.
Далее Макс поведал всем историю про переход и гитару. Дани снова проникся и начал ржать.
— Я же говорил! — радостно закричал он.
Когда кончилась водка и лень было бежать за новой, всех потянуло на приключения. Дядя Джи сказал:
— Я всё равно делаю скоро ремонт, так что можно захреначить на стены всё, что угодно.
Дани недолго думая достал из холодильника шоколадную пасту и кинул полную банку в стену. Коричневые потёки украсили аккуратные кремовые обои.
— Что ты делаешь? — спросил Дядя Джи. — Я имел в виду рисунки.
— Ща будет, — сказал Дани, размазывая по стене коричневую массу.
— Что ты рисуешь? — спросил Джеффри.
— Неужели ты не видишь? Я рисую говно.
Джи присел на пол, хватаясь за голову:
— Сколько же у нас пустых бутылок. От них просто необходимо избавиться.
Он пошёл в другую комнату и достал пневматическую винтовку. Дани на миг забыл про рисование говна говном. Всё побежали выстраивать бутылку в дальнем конце коридора.
Макс всё это время молча сидел в гостиной, погруженный в свои мысли. Он слышал выстрелы и звон стекла. Этот звук завораживал. Герман стоял у дверного косяка, издали наблюдая за стрельбой. Ему не хотелось вмешиваться. Пули летели, бутылки бились.
Дани надоело играть с винтовкой. Он нашёл ещё одну банку шоколадной пасты и принялся разрисовывать все стены в туалете. Потом нашёл странную куклу, похожую на мёртвого младенца, и повесил его в петле прямо над унитазом. Дальше в ход пошёл кетчуп. Кресты и пентаграммы засияли посреди коричневого месива.
— Ну тебя и кроет, — сказал Джеффри, вполглаза наблюдая за его творением.
— Это мой алтарь Фекалоида, — ответил Дани.
Макс тем временем выглянул в коридор.
— Не ходи тут босиком, всё в осколках, — предупредил Герман.
Тот ничего не ответил, принимая из рук Дяди Джи винтовку. Макс стрелял не целясь, напевая:
«Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground». [2]Пули с удивительной точностью достигали цели, разнося в прах оставшиеся бутылки.
«Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down»,[3]— продолжал он.
— Боже, как я не люблю эту песню, — проворчал Герман.
Дани выводил кетчупом, шоколадной пастой и майонезом «Бордель у Дяди Жиди» на двери туалета. Виновнику торжества было ровным счётом наплевать.
— Бутылки кончились! — крикнул Макс. — Есть у кого-нибудь ещё?
Нашлись только две банки с помидорами, но всем было уже наплевать. Разлетелось стекло, потоки рассола и красной мякоти помидоров. Красиво и отвратительно. Макс сделал шаг вперёд и поскользнулся, падая на локти и колени. Осколки впились в руки, но боли не было. Только странное чувство нереальности происходящего. Он поднял вверх руку, покрытую сияющими алмазами битого стекла.
Кровь. Её слишком мало и она не такая красная, как должна быть. Так много порезов и так мало крови. Всё, что нужно сделать — это просто выпустить её на свободу. Макс схватил большой треугольный осколок. Он слышал сквозь шум в своей голове, как Герман кричит ему что-то. Но было поздно. Стекло врезалось в кожу, оставляя тонкие полоски ран.
Герман с силой схватил Макса за плечи, вырывая из рук стекло.
— Ты что спятил?! Что ты делаешь?! — закричал он.
На шум прибежали Дани и Джефф. Втроём им удалось скрутить вырывающегося Макса.
Он очнулся весь в крови на полу в комнате. Герман осторожно вытаскивал осколки из кожи пинцетом.
— Я не знаю, что мне сделать: пожалеть тебя или побить? — сказал он.
Макс только пожал плечами.
— Знаешь, я плохо помню, что было. Это какое-то помутнение. Я даже не был пьян.
Герман обрабатывал его порезы спиртом. Макс зашипел от резкой боли.
— Тебе повезло, что ты не гитарист. У тебя на пальцах места живого нет.
— Бывало и хуже.
* * *
В день концерта Макс не произнёс ни слова. Он сидел на кровати, словно тень самого себя. На все вопросы отвечал вялыми жестами. Потом перевязал руки до самых локтёй новыми бинтами. Ему хотелось, чтобы они выглядели более зловещими и как можно менее позёрскими. Так что пришлось отказать от краски, лишь разбередить ногтями затянувшиеся порезы, чтобы бинты окрасились настоящей кровью. Герман долго кричал на него, когда увидел это.
Максу просто хотелось создать более безумный сценический образ. На помойке во дворе обнаружилось подходящее платье: длинное чёрное с открытыми плечами. Макс даже и не подумал стирать его. Ему нравился этот запах гнили и сырости. На груди красовались подозрительные пятна, напоминающие кровь. Макс густо подвёл глаза, потом просто опустил лицо под струю душа. Косметика растеклась, придав ему весьма трупный вид. Он не мог ничего придумать с обувь, так что просто перевязал ноги бинтами.
— Где ты был, твою мать?! — воскликнул Герман, когда Макс в таком виде пришёл в гримёрку за пятнадцать минут до выхода на сцену. — И что с тобой случилось? Ты выглядишь так, словно тебя изнасиловал клоун, но должен признать, это охуенно.
— Я просто готовился, — ответил Макс.
Когда они вышли на сцену, в зале повисло недоумение. Кто-то свистнул из темноты. Макс уж было решил, что это может стать последним концертом в его карьере. Но он решил, что в таком случае разумнее всего будет сжечь клуб вместе с собой и всеми людьми. Сейчас он был практически серьёзно на это настроен. Он знал, что, стоит ему запеть, они все станут его рабами. Они пойдут за ним, в этот маленький ад в его голове. Именно здесь, в городе отбросов, Макс полностью осознал свою силу. Он пел с закрытыми глазами, урывками глядя в зал. Реальный мир стал набором слайдов.
Он извивался, буквально насилуя микрофонную стойку. Его переполняла нездоровая энергия. Бледный, тощий, израненный. Полностью лишённый привлекательности, но полный харизмы. Ему совершенно не хотелось быть очередным сладким мальчиком в глазах толпы. Он бешеное чудовище, демон, маньяк.
После концерта он просто отключился на диване в гримёрке и пробыл в небытие около двадцати минут. Макс проснулся от того, что Герман гладит его по спутанным и залакированным волосам.
— Весь твой ад можно терпеть только ради того, чтобы видеть тебя на сцене, — сказал Воронёнок.
— Пошли куда-нибудь? — предложил Макс.
Они переоделись из концертного в обычное и вышли на улицу, оставив ритм-секцию праздновать окончание тура в баре. Город просто светился от множества фонарей. Ночь здесь была просто продолжением праздника, а не временем для отдыха. Кругом люди, музыка и вывески многочисленных баров. По ночам здесь пахло жасмином, он словно оттенял дневную вонь пережаренной Одессы. Они двигались к набережной, стремясь слиться с темнотой.
— Лукреция выслала мне денег, — сказал вдруг Герман. — Я хочу зависнуть здесь ненадолго. Ты со мной?
— А что мне ещё остаётся? — усмехнулся Макс. — Конечно, я с тобой.
Глава 18
Макс проснулся в белом безмолвии, с ужасом оглядываясь по сторонам. Из полярного ужаса постепенно проступали силуэты мебели и собственные руки цвета топлёного молока. Увидев рядом спящего Германа, он успокоился совсем. Чёртова мансарда! Снова преподносит сюрпризы.
Вчера им удалось снять эту мансарду за смешные для Москвы деньги. Герман ради приличия предложил Дани остаться с ними, но тот сказал, что устал и хочет обратно.
— Я просто хотел воссоздать атмосферу прошлого лета, только уже не в Москве, — сказал Герман. — Я просто хотел побыть рядом с тобой в иной реальности.
Время застыло в белой комнате. Большие настенные часы шли в обратную сторону, шипел перевёрнутый телевизор. И больше ничего не напоминало о внешнем мире. Виноградные лозы оплетали балкон. Сквозь витражное окно свет падал на ковёр загадочным полукругом. Макс развалился в большой кровати. Она казалась ему просто огромной после всех неудобств тура. Герман спал рядом, раскинувшись крестом. Солнце сделало его кожу совсем смуглой за какую-то неделю пребывания вне дома. Наверное, он и сам уже успел позабыть про свою готическую бледность, которую обязывала хранить Москва.
Четыре часа дня — идеальное время, чтобы добраться до уютного кафе и позавтракать. Макс пытался заставить Германа есть. Он и сам сильно исхудал, потому что мог есть только за компанию. В последнее время они оба перебивались кофе и сигаретами.
— Ну съешь салат хотя бы, — уговаривал его Макс.
Герман сжался и заказал себе вегетарианских роллов с огурцом. Максу казалось, что ещё немного и Воронёнок приблизится к дистрофии. У него были такие тонкие запястья и совершенно паучьи пальцы. Удивительно, как он мог ими играть на гитаре.
— Зачем тебе это? — спросил Макс.
— Я люблю быть на грани, — ответил он. — Да и что ты со мной носишься, как мамочка?
— Наверное, просто надо о ком-то заботиться.
Герман фыркнул.
— Тебе самому нужна нянька.
— Может быть, всё же запишем альбом, когда вернёмся? — спросил Герман, желая сменить тему.
Макс странно уставился на свой стакан с виски.
— Я не знаю. Мне просто кажется, что мы ещё не готовы для этого. Музыку всё равно качают в Интернете, всё выкладывают в сеть. Мы, скорее, больше потеряем на аренду студии, чем отобьём это на продажах. Лейблы несут такие убытки. Однако, я сам качаю музыку и не помню, когда в последний раз покупал диск.
— А я покупаю, — вздохнул Герман. — Люблю коллекционные издания и всякий раритет.
— Ну мы не та группа, чьи альбомы станут покупать.
— Я думаю, Мария что-нибудь придумает на этот счёт. У этой бабы стальные яйца.
— Дало даже не в этом. Я хочу, чтобы альбом был самым лучшим. Это дебютник, тут нельзя выпускать проходной материал. Я хочу отобрать действительно классные песни. Я всё ещё недоволен собой.
Когда начало темнеть, они поехали на заброшенный пляж подальше от города. Туда, где среди обломков кораблей и строительного мусора можно было спокойно поплавать в бухте. Там не было людей и громкой омерзительной музыки, только крики чаек и пристальное око луны. Море билось у самых ног.
— Я, кажется, понимаю, за что люди любят море, — вздохнул Макс. — За его бесконечность. Мы не видим ничего за этим бескрайним синим пространством. Там только пустота, край света. Оно настолько глубоко, что мы не можем себе представить, что так бывает вообще. Это то, что сопоставимо со смертью. Огромный неживой зверь, а мы лишь можем осторожно играть с ним. Поистине хаотическая природа. Я немного боюсь его. Умею плавать, но не могу не бояться. Море — пространство нашего страха. Днём этого не замечаешь.
— Днём оно вообще отвратительное. Кругом люди, они валяются как тюлени на нагретом песке. А вода словно суп, переполненный телами. И всё кипит, смердит и живёт, — Герман кинул в воду камушек, тот потонул в белой пене.
Почти до рассвета они просидели на берегу пустынного моря, пока в бухте не начали появляться первые рыбацкие лодки. Это знак, что пора возвращаться домой, пока жизнь не вступила в свои права, пока свет не начал щипать глаза. Днём всё кажется совсем другим, улетучивается романтический флёр, тяжёлой лапой наступает обыденность. И не спастись. Такова участь современных вампиров, тех, у кого нет клыков и бессмертия, но они всё ещё любят смотреть на кровь издалека и боятся солнца.
Только здесь, на раскаленном южном берегу, можно почувствовать настоящее лето, не тот самый дешёвый суррогат, что можно встретить в средней полосе России. Комариный рай и сезон дождей. Макс задумался о том, что когда-нибудь он точно переедет туда, где тепло круглый год и жизнь легка и проста. Придуманный рай манил своей утопией. Но где-то там, за линией горизонта, в какой-то из сторон света, точно есть это счастье. Иногда становилось проще жить, стоит только включить воображение.
Макс запомнил навсегда эти душные дни в липких объятьях, ему казалось, что именно тогда он был по-настоящему счастлив. Они даже траву не курили, забыв про все остальные наркотики, выпивали только в профилакттических целях. Было здорово иногда побыть чистыми и в ясном сознании. Но нет, они были отравлены друг другом и городом. Наверное, никто из них не мог бы дать чёткого ответа, на вопрос о том, что же на самом деле происходит между ними. Здесь не было дружбы в чистом виде, как и явной любви или привязанности тоже. Тем не менее, они были скованы друг с другом золотой цепью и охотно мирились с этой ролью. Иногда это было тяжёло, но ещё более невыносимым стало бы существовать по-отдельности. Их жизни слились в одну, как два ручья, сходясь, образуют полноводную реку. В свою же очередь и Макс и Герман, безусловно, являлись самостоятельными личностями.
Когда становилось скучно, они брали гитару и шли на улицу. Там можно было играть что угодно, не ради денег, а искусства для. Тем не менее, в гитарном чехле обычно валялось немало разноцветных бумажек. В поисках общения они иногда забредали в клубы. Люди, их тела, движения и запах свежего пота — всё это казалось очень привлекательным со стороны. Девушки с прекрасными фигурами, совершенно безмозглые, часто составляли компанию Максу и Герману в ночных посиделках в мансарде. В такие моменты они чувствовали себя рок-звёздами в отпуске.
Пару раз звонила Сиська, Макс нёс всякий бред, зачастую просто притворялся пьяным. Он жалел, что рядом в тот момент не раздаются женские стоны. Он никогда не знал, что расставаться так сложно. Дело даже не в том, что трудно причинить человеку боль, а в том, что просто не хочется говорить об этом, да и думать вообще. Потому что для тебя это прошлое, а для них всё ещё настоящее. Отношения не нравились ему как факт. Они несли в себе много обязанностей и нелепых ритуалов. Максу надёжнее было существовать самому по себе.
В дождь они сидели на балконе с бутылкой коньяка «Шабо» и смотрели на бегущих по улице людей. Тротуар превратился в горную реку. Ветер трепал промокший насквозь флаг Конфедерации. Герман обнимал Макса, глядя на всполохи грозы. В нём ещё жил первобытный страх перед молнией. Она пугала и завораживала одновременно. Из комнаты доносилась одна-единственная песня, зацикленная по кругу — Rozz Williams & Gitane Demone — «Flowers». И всё остальное уже не имело значения. Блекло перед яркостью момента, когда вроде бы не случилось ничего особенного. Просто дождь, коньяк и объятия. Но именно тогда оба ощущали себя по-настоящему счастливыми. Этот мир ещё существовал, а песня бежала по кругу, потому что весь остальной альбом был редким шлаком. Жаль, что нельзя было зациклить момент из жизни, или навсегда остановить его. Тогда придёт Мефистофель и настанет время платить по счетам.
Герману в тот момент хотелось многое сказать или же спросить, но он не хотел разрушать эту идиллию. В цветущем аду на краю бездны они были вместе. Мысли утекали как дождь, просачиваясь сквозь трещины старого дома. Казалось, что он держится только благодаря плющу, оплетающему его фасад, как и этот вечер держался только за счёт дождя и грозы.
Должно быть, песня, «Стоячая вода», которую они написали в ту ночь, повествовала именно об этом моменте.
«Я спокоен. Я сыт и доволен. В этой стоячей воде, В тихом спокойном нигде В этой стоячей воде Я притаился на дне, Как в тихом омуте чёрт. Жив ли я или же мёртв?»В этой песне снова была чёрная меланхолия пост-панка. Тихая застойная вода болота; место, которое не тронуто переменами. Где-то там, на дне, ты вдали от бренности жизни, полностью познавший смерть. Тебя больше не тронут горе и тягость этого мира. Но ты вдали от любви и красоты. Это безвременье. Вечный тягучий застой. Это было лишь метафорическим повествованием о желании уйти на дно от всей грязи этого мира.
Что-то наподобие тех заготовок, что они делали прошлым летом. Тем не менее, Герману с Максом она казалась вполне позитивной и имела другой смысл, несмотря на мрачный, доводящий до безумия текст и такую же мелодию. Однажды кто-то сказал, что музыкой Германа управляет стихия воды. Он понял это только сейчас.
Глава 19
Возвращаться в Москву непривычно и странно. Кажется, что даже время здесь бежит быстрее: стоит только проснуться, как темнеет; только наступила ночь, как уже в окна стучится рассвет. Тут слишком шумно и душно, даже по ночам хочется провалиться сквозь землю от духоты. И где они только умудрялись черпать всю романтику прошлого лета, торча всё время в столице? Трудно было уснуть, оставалось пребывать в этом промежуточном состоянии отдыха от отдыха.
Макс смотрел на Элис и не понимал, что он находил в ней всё это время. Потом на смену пришло жуткое осознание, что он любил только образ и саму недосягаемость её сердца. Это как любить бога, которого нет. На самом деле, мы все любим лишь символы, мы любим саму любовь и себя в ней. Когда нам отказывают, это ущемляет наше самолюбие. Кого-то это заставляет меняться к лучшему, а кого-то повергает в пучины отчаянья.
Дани вернулся с какими-то наработками для песен. Герман смотрел на них довольно скептически, но конечный вердикт так и не вынес. Мария что-то намекала на альбом. Она говорила, что трудно раскручивать проект, имеющий только пару домашних демок. Максу хотелось биться головой об стену. Другая группа на их месте была бы рада возможности записать свой диск, но он по-прежнему был недоволен своими песнями. Ему нравилось, как они звучали на концертах, но студия заморозит это звучание, как бабочку в янтаре, сделает его мёртвым. Запись каждого инструмента в отдельности, потом сведение всего в единое целое. Можно было бы, конечно, пойти на рискованный шаг и записаться сразу всем вместе, чтобы сохранить подлинное звучание «Opium Crow».
Они долго спорили с Германом по поводу качества. Тот настаивал на шлифованном идеальном звуке и возможности показать себя с технической стороны. Потом всё же согласился, приняв к сведенью, что многие значимые для рок-музыки альбомы тоже писались «вживую» и ничуть не потеряли в качестве. Дело было лишь в толковом звукорежиссёре.
Вторым поводом для спора стала песня, которую предстояло записать. Герман хотел «Опиум», Макс настаивал на «Insane», как на самом любимом треке, из всех, что ему удавалось написать. Поводом послужило то, что текст «Опиума» казался слишком провокационным, в то время как «Insane» оставалась непонятной для большей части населения. Плюс ко всему, Макс настаивал на том, что баллады менее котируются, и выбирать её в роли дебютного сингла будет несколько нецелесообразно. В конце концов, Герман сдался, что, казалось бы, для него нехарактерно. Мария сняла им студию, правда, на утреннее время. Группа была готова уже ко всему.
* * *
Накануне записи позвонил Кристи и позвал тусить. Герман долго отказывался, но тот обещал что-то феерическое, такое, что запоминается надолго. Ребята отправились гулять по ночной Москве в компании глэм-рокеров. Кристи выглядел ещё более безумно, чем раньше; сейчас он походил на Майкла Монро в его лучшие годы. С ним были трое парней из его группы и несколько весьма колоритных персонажей 80-ые-style. Начёсы, рваная джинса, лосины и блёстки. И, конечно же, тёлки. А тёлки — это такие создания, призванные служить приятным дополнением к компании. Это что-то сродни модному аксессуару.
Очаровательная подмена реальности дешёвым портвейном. Ты забываешь глядеть на календарь и различать года с эпохами. Благородный розовый эликсир стирал границы, открывая новое и новое. Макс растянулся на траве, глядя в небо. Он видел новые звёзды в его глубине, несмотря на то, что небо оставалось непроницаемо-чёрным.
— Я бы отдал многое, чтобы смотреть на мир твоими глазами, — сказал Герман, падая рядом.
— Не надо. Это больно. Мне не хватает анестезии, чтобы пережить это. Чтобы не говорить с демонами, надо слишком много пить. Тогда можно стать им противным. У меня иногда получается.
— В прошлом году ты говорил мне о боли, что пригнала тебя сюда.
Макс горько улыбнулся.
— Я думал, что если петь, то она пройдёт. Но всё иначе — я умру, если не буду петь.
Они пили и верили в миф о собственном бессмертии. Словно шаманы под действием волшебных грибов, они заклинали демонов и спускались во тьму. Только там ещё существовал настоящий мир. И хотелось верить, что в другие времена был вечный праздник на грани безумия с реками виски и горами кокаина. И это всё обязательно будет, стоит только дотянуться. И потом упасть лицом в звёзды, лобзая холодный бетон, оставить свой след навеки. Романтика низменного процветала.
— Я люблю тебя, — сказал Герман в порыве чувств, когда они шли по набережной, чуть-чуть отстав от всей толпы.
— Я люблю только грязь, — ответил Макс, прижимаясь к витой решётке.
Впереди стояла девушка с лицом богини. Макс пошёл сказать ей, что она — само совершенство, и им обязательно надо потрахаться в кустах, но его стошнило ей под ноги, и романтика не задалась. Герман смеялся, несмотря на то, что ему плюнули в душу. Он всегда смеялся, когда больно.
— Он просто хочет, чтобы его любили, причём все сразу, — за спиной у Германа вдруг возник Дани. — Он просто вампир, который питается любовью.
Герман скептически посмотрел на Дани, стараясь поймать в фокус его лицо.
— Ты всё слышал? — спросил он.
— Ты кричал об этом на всю улицу.
Дани затянулся сигаретой.
— Но к утру об этом никто не вспомнит. Даже я, — сказал он, растворяясь в черноте.
Где-то минут десять Герман наблюдал беседу Макса и дерева.
— Спасибо, чувак, что выручил меня, — сказал он, обнимая ствол руками. — Ты единственный, кто меня понимает здесь.
Наверное, его надо было лечить или спасать, а может быть, просто убить. Герман задумался о том, что он не делает из своих страданий шоу, поэтому мало кто готов ему помочь, в отличие от Макса. Макса жалко, его жалеют все, как красивого щенка. Он трогателен до умиления в своей вечной истерике. Он просто использует людей, живя, как паразит. Макс подошёл и улыбнулся, Герман был готов всё ему простить. Руки сами потянулись обвить его за плечи.
На рассвете все побрели домой. Макс постоянно спотыкался и нес несвязный бред, который Дани окрестил языком бомжей.
— Нам же завтра на студию, да? — спрашивал он.
— Сегодня вообще-то.
Он ударил себя рукой по лбу и рухнул в траву.
— Мы сами не лучше, — констатировал Дани. — Но мы не можем всё проебать.
Дома пришлось запихивать бездыханного Макса под холодный душ. Герман был готов всё проклясть от головной боли. Ему хотелось просто придушить свеженького и бодренького Джеффа, который позвонил узнать про запись.
— Мы неправильная группа, — сказал Дани. — Наш барабанщик трезв.
— Зато у Макса всё по-рок-н-роллу. Мне кажется, он сдохнет до записи альбома. Если я не убью его раньше.
— Как бодрость духа? — спросил Джефф, когда они встретились в метро.
В ответ Герман лишь развёл руками, печально улыбаясь.
— Я вижу по вашим «щам», что всё отлично.
Макс пребывал в каком-то пограничном состояние между опьянением и алкогольной комой, с трудом принимая вертикальное положение. Казалось, что он вообще слабо воспринимает окружающий мир и вряд ли понимает, где находится.
— Кто это такой пьяный? — спросила Мария, встречая группу.
— Наш вокалист, — ответил Герман сквозь зубы.
— Какой хорошенький. Ему есть восемнадцать? Вас не посадят?
Макс открыл один глаз.
— Пошли трахаться? — спросил он у Марии, ненадолго приходя в сознание.
— Пей поменьше, а то совсем стоять перестанет, — ответила она, кривясь. — Зачем напоили ребёнка?
— Давайте скорее записываться, — сказал Герман, расчехляя гитару. — Моя голова гудит, и через час я буду трупом.
Первое осторожное касание струн унимает дрожь в руках, отбрасывая на второй план головную боль. Его гитара плавится в руках, отвечая пением на ласку. Притихли все, даже Мария. Звукорежиссёр даёт сигнал, и Макс открывает глаза. Он живёт только три минуты, пока длится песня. Всего остального времени не существует. Его бледная тень скитается по миру в простой оболочке из тела. Всё это просто сосуд для голоса.
Второго дубля не будет. «Opium Crow» не имеют на него морального права, как и на «живых» концертах. Макс прикусил губу. Кровавая дорожка стекала по подбородку вместе со слюной. Он был безумнее, чем лирический герой песни. Боль разрывала изнутри, словно желудок взорвался и кислота вытекает в пищевод.
После записи Макса долго тошнило кровью в туалете. Она была вязкой, густой и липкой. Макс услышал шаги за своей спиной.
— Чувак, я подыхаю, — сказал он в перерывах между спазмами.
— Ты допился до язвы, — холодно ответил Герман.
Макс с трудом поднялся на ноги. Его трясло и шатало. «Боже, какой он жалкий», — подумал Герман в тот миг.
Все уже расходились, когда Мария шепнула Герману на ухо:
— Я понимаю, почему он так пьёт. Подобный талант губителен. Береги его, и будет тебе успех.
Захотелось кинуть гитару в угол, чтобы больше никогда к ней не прикасаться. Все тринадцать лет, что он потратил на занятия музыкой, кажутся пустым звуком по сравнению со словом «талант». Никто не замечает его заслуг в группе. Все обращают внимание только на голос Макса и его чертову внешность. А Герман тает, просто растворяется, становится тенью какого-то выскочки, которого он сам пригрел, словно змею на груди. Но он любил его, так сильно, что уже начинал ненавидеть.
Ночь была густой как кисель. В воздухе висела тяжесть и напряжение. Макс размышлял о том, как низко можно пасть. Он был не властен над своей жизнью. Всё навалилось и превратилось в снежный ком. Только чувство стыда и тоски. И нет сил даже пить, чтобы глушить голоса в голове и свои кошмары. Они рядом, они реальны как никогда.
Глава 20
Днём пришла Лукреция. Попытка помириться с Германом чуть было снова не обернулась скандалом. Герман скинул ей песню. Она сказала, что теперь это звучит так, словно у группы есть будущее. Настоятельно советовала не потерять всё на свете. Она вытащила Макса на приватный разговор, сообщив Герману, что тут нет ничего страшного.
— Когда ты уже свалишь от моего брата? — спросила она, стирая с лица накладную улыбку. — Ты живёшь, словно паразит, постоянно цепляясь за кого-то, зная, что самому тебе не выжить.
— Когда сочту это нужным, — Макс присел на край стола.
— Я знаю, что ты недавно учудил в студии. Ты думаешь, что это поведение достойно музыканта? — она скрестила руки на груди.
Макс поймал себя на мысли, что у неё классные сиськи. От этого стало как-то не по себе. Она вообще сильно изменилась за это время. Перестала быть тощей доской, приблизившись к образу Диты Фон Тиз. Луш больше не женская версия Германа.
— Репутацию музыканта уже ничем не испортить, — ответил Макс после паузы. — Если не я, то кто? Ты знаешь хоть кого-то, кто смог бы заменить меня?
В глубине души он сам смеялся над собственной манией величия.
Она наступала:
— Уйди из группы. Или я сделаю так, что Герман тебя выгонит.
— Ты сама слышишь в своих словах логику? — Макс спрыгнул со стола и переместился на подоконник. — Без меня они никто.
Лукреция опешила. Он был доволен, словно опрокинул в себя залпом чан медовухи.
— Ты чёртова шлюха! — закричала она. — Ты спишь с ним.
— Почему я последним узнаю все новости? — спросил он, скептически глядя на неё.
Он слез с подоконника и оказался прямо перед Лукрецией. Она осыпала его оскорблениями. Максу вдруг подумалось, что ни одна женщина на свете так на него не кричала. Никто так люто не ненавидел его. Это что-нибудь да значит… Её злость, она ни как у всех людей — от головы или от сердца. Макс хорошо разбирался в потоках эмоций. Злоба Лукреции шла откуда-то снизу.
Он подошёл к ней сзади и схватил за грудь, чувствуя упругость её плоти. Она вскрикнула от неожиданности. Или это могло быть стоном возбуждения? Вторая рука нырнула ей в трусы. Там было влажно.
— Что ты делаешь? — прошептала Лукреция, её голос звучал неуверенно и хрипловато. — Прекрати.
Макс продолжил свои манипуляции рукой. Лукреция пыталась отбиваться, прижимаясь задом к его бедру.
— Это ты маленькая шлюха, — усмехнулся он.
Она вскрикивала, запрокидывая голову, стараясь вырваться из его объятий. Макс повалил Лукрецию на стол и, задрав юбку, сжал её ягодицы в руках. Рывком стащил с неё кружевные стринги. Вид её круглой задницы вызывал каменный стояк. Она взвизгнула, когда он вошёл в её сочащуюся дыру. Он не мог придумать более звучного эпитета её вагине. «Моя чёртова шлюха», — повторял он, наматывая на кулак её длиннющие волосы. Это был его низменный триумф. Наверное, каждая жуткая стерва в тайне мечтает быть жёстко оттраханой. Позабыв сопротивление, она отдавалась мягко и покорно, словно всю жизнь желала этого. Макс кончил с мыслями о собственном бессмертии, застегнул штаны и вышел в коридор.
— Что это было? — спросил Герман, сталкиваясь с ним в дверях.
Макс развёл руками и многозначительно улыбнулся.
— Я знал, что всё идёт к этому, но ты ёбнутый. Я же догадывался, что она течёт при мысли о тебе.
Минуту спустя появилась Лукреция, поправив причёску, она выскочила за дверь, шарахаясь от обоих парней, как от огня.
— А она не подаст на меня в полицию? — спросил Макс, делая неожиданно наивные глаза.
— Судя по тому, как она стонала — не подаст.
Макс закурил сигарету и уставился в окно.
— Как быстро мы сумели дойти до того, что женщины стали для нас просто кусками мяса? Когда я впервые переспал с Элис, она была для меня тайной и целым миром. Я ведь всегда ценил своих случайных подружек и раньше, даже толстую девку, с которой лишился девственности. Сейчас у меня столько баб, что я могу разбрасываться этими кусками вагины направо и налево. И я сам не стал лучше или привлекательнее. Просто я становлюсь знаменитым. Просто все узнали, что у меня классный голос. И я не знаю, кто стал хуже: я или люди вокруг? Я, потому что стал говном, или те, кто позволили мне таким стать?
Герман терялся от его пламенных речей, поражающих своей правдивостью и цинизмом. Он не прятал правды. Он был честен, как в своих стихах.
— Я пришёл, чтобы поиметь весь мир, и я сделаю это! — он рассмеялся, поднимая к небу кулак.
* * *
«Вороны» записали свой первый альбом «Road of broken glass» в конце лета. Он казался группе странным и очень разрозненным, в то время как музыкальная пресса и публика были в восторге. На обложке диска был эскиз татуировки Германа, тот самый ворон в окружении маков. Внутри в буклете фотография из киевского клуба. Макс не понимал до конца, что за чувства охватывали его, когда он держал в руках заветный диск. Теперь получится дать больше сольных концертов, не болтаясь в одном фекальном потоке с второсортными командами. Он не любил их не только потому, что считал себя лучше. Максу было глубоко непонятно, как за годы существования эти группы не продвинулись ни на миллиметр на пути к успеху, оставшись у всё тех же истоков с заблёванными клубами и аудиториями с фанами-малолетками.
Максу было тяжело общаться с поклонниками. Они казались ему слишком глупыми и примитивными, как любые потребители. Особенно выводили из себя письма типа: «Я тебя понимаю, мне кажется, мы родственные души. Твои песни полностью отражают то, что творится в моей душе». Макс невольно морщился. Ему не хотелось видеть родственные души в инфантильных подростках. Он не мог воспринимать своё творчество на должном уровне, чтобы все, кому оно нравилось, не казались бы тупыми уродами. Где эти чёртовы настоящие «родственные души»? Воронёнку же, наоборот, нравились их поклонники, он говорил, что это необычайная эмоциональная подпитка.
Осенью выдалась возможность скататься в мини-тур в Восточную Европу. Для Макса и Дани это оказался вообще первый выезд за рубеж. Было странно осознавать, что где-то там тоже живут люди, которым нравится твоя музыка. Местная публика оказалась спокойнее и сдержаннее. Пиво не напоминало мочу. И люди на улицах не пялились на них из-за длинных волос или необычной одежды.
— Чем чаще бываю в Европе, тем больше не хочу в Россию, — сказал Герман, когда они гуляли по Праге.
— Я с самого рождения не хочу в Россию, хотя кроме неё вообще ничего не видел, — ответил Макс.
Они зашли в бар. Макс считал свежевыданную наличку. Герману подумалось, что это вообще первые деньги, которые тот заработал сам.
— Где-то полтора года назад у меня не было ничего. Я был натуральнейшим бомжом, — сказал Макс, откидываясь на стуле. — Я был никем. Теперь я всё такой же никто, но у меня есть перспективы. И у меня есть немного бабла, я могу не клянчить пиво у всех.
— Ты звонил родителям? — спросил внезапно Герман.
— Я не связывался с ними с самого приезда в Москву. Я не думаю, что их порадует мой успех. Я же музыкант, а не юрист или менеджер.
— Моя мамаша меня простила, — выдал Герман. — Она сказала, что ей плевать, чем я занимаюсь и с кем я сплю. Хотя, сдаётся мне, что она поставила на мне крест.
Макс сделал глоток пива.
— Погоди, как думаешь, мы бы были такими, если бы нас любили? — спросил он.
Герман скривился. Наверняка, ему было больно признавать собственную ненужность.
— Нет. Мы бы были обычными, но, возможно, счастливыми.
Они вернулись домой в свою осень. Москва стала превращаться в перевалочный пункт, который всё меньше и меньше напоминал дом. И собственная постель, как что-то чужое и далёкое с остатками запаха тебя прежнего — того, кем ты перестал быть неделю назад. Слаще спалось в тесных гостиничных номерах, где изумрудная плесень заселила обои и с потолка сыплется штукатурка. Как только они возвращались, Герман сразу же начинал строить планы, куда бы свалить. Ему было наплевать на уют, он жил дорогой и концертами. Не терпелось порвать все отношения с Москвой.
Герман стелился перед своей матерью, всеми силами стараясь вызвать её доверие. Пока она, наконец, не сдалась и не отстегнула солидную долю семейного бюджета на его обучение в Лондоне. Это был много даже по меркам его семьи. Воронёнок точно знал, что учиться негде он не будет. Это было подло, низко и грязно. Но он пообещал себе обязательно вернуть ей деньги спустя пару лет. Так или иначе, но ему был нужен стартовый капитал. Пятнадцать тысяч фунтов были в самый раз.
Было решено, что Герман отправится в Лондон первым, чтобы создать иллюзию своего поступления. Матушка не требовала документальных подтверждений этому, но и на тот случай у Германа имелись пути отступления. Затем к нему присоединятся Макс и Дани. Джеффри же отказался от затеи с переездом. Ему хотелось играть в своём основном проекте. К тому же, он никогда не был частью «Opium Crow».
Холодным осенним утром Герман вылетел в Англию. Макс заранее с ним простился, не надеясь ни на что. Он уже был готов к тому, что золотая пора его жизни истекла. Они с Дани поселились в Мытищах у одной подруги Германа. Дни протекали в унылом бдении за ноутбуком с пачкой сигарет и бутылкой второсортного дерьма. Макс пытался работать курьером, но, как и с любой работой, у него не заладилось. У него вообще не было образования, даже неполного среднего, так что найти хоть какую-то работу было проблематично. Он начал играть на улицах, чтобы окупать сигареты и проезд в транспорте. Всё как тогда, в городе детства, когда он ушёл из дома. Макса пугала мысль, что он может вернуться в то дерьмо, из которого он только недавно вылез. Время очень быстро столкнуло его в бездну депрессии.
Пару раз заходила Лукреция. Она заплатила ему за секс сто долларов, кривясь в издевательской усмешке. Макс не мог отказать, он действительно хотел её и нуждался в деньгах. Она не нашла лучшего времени и места, чтобы его унизить. Он и не думал, что его тело можно оценить так дёшево. Лукреция ненавидела Макса, потому что не могла себе простить то, что испытывала влечение к этому кретину. Она ревновала его к Герману и наоборот, не имея возможности решить, кто же на самом деле ей дороже. Чем больше она его ненавидела, тем сильнее возрастало её желание. Она даже предложила ему переехать к ней. Макс понимал, что секс сексом, но жить под одной крышей с противным тебе человеком — это слишком для него.
Молодёжь двадцать первого века может спать с теми, кого ненавидит, и убивать тех, кого любит. Если роман с Лукрецией можно назвать романом, то его можно было отнести к самым ярким в жизни Макса на данный момент. Ему ещё не доводилось испытывать подобную гамму эмоций. Это было каким-то безумием. Они почин не разговаривали друг с другом, обвиняя во всех смертных грехах. Между ними был лишь скандал и постель. Почти что настоящая животная ненависть, от которой кровь бурлила внутри раскалённой лавой. А потом оставалось лишь чувство пустоты.
По вечерам были разговоры в скайпе с Германом. Каждый раз было тяжелее и тяжелее отвечать ему. Он был где-то там, по другую сторону жизни. Он даже немного поправился и приобрёл здоровый внешний вид вместо унылой наркоманской личины. Макс отсчитывал время. Кажется, прошло уже два месяца этого пустого бдения. Герман говорил, что поселился у своего нового знакомого, который вышлет им вызовы, так что скоро можно будет дёрнуть в Англию. Макс ему почти не верил. Его реальность носила менее позитивный характер. Дани сохранял более спокойное расположение духа. Он был самым настоящим пофигистом, если дело касалось его будущего. Он просто не верил в завтра и жил сегодняшним днём.
Лукреция четко выполняла указания Германа, помогая с оформлением загранпаспортов и виз. Ей пришлось окончательно смириться с планами своего брата. Он был не прошибаем.
Макс не верил в это до того момента, пока не очутился на борту самолёта, несущего его снова к мечте. Получение визы стоило ему немало нервов. Они с Дани напились как черти, потому что боялись перелёта и были слишком счастливы, чтобы трезво смотреть на мир. Это было правдой.
Они с Дани чётко осознавали, что переезд в Лондон — это ещё не победа, потому что дальше будет только сложнее. Попытка освоиться в новой стране будет стоить им много сил и нервов. Это был очередной шаг в неизвестность. Но, тем не менее, это сулило новое приключение. Попытка навсегда изменить жизнь и окончательно вырваться за рамки этой действительности.
Часть 2
Глава 1
Макс Тот
Я родился в городе, полном хрущёвок, заводов и пустых людей. Это маленький мерзкий мир, где каждый обречён изначально гнить. Я честно не понимал людей, что умудряются любить свои маленькие города. Это слишком похоже на свинью, которой так мила собственная навозная куча. Пусть воняет, но зато родная. Я был слишком чистым. Когда я говорил, что хочу летать, мне говорили, что я разобьюсь насмерть, если только рискну подняться в воздух. Когда я хотел радоваться, мне говорили, что у меня слишком громкий смех, меня заставляли молчать, когда хотелось петь. Меня привели в тесный загон моего двора и рассказали, с кем можно дружить, но только никогда не покидать этого пространства. Потому что иначе будет неудобно меня пасти. Отчуждение было моим привычным состоянием в этом мирке. Я говорил с собой, я говорил в себе, потому что окружающие не понимали моего детского лепета.
Происходящее со мной никому не казалось странным. Проще говоря, моим состоянием никто не интересовался. В этой семье ещё по старинке заводили детей только для того, чтобы они помогали по хозяйству и принесли бы стакан воды в старости. Только не будет ли эта вода слишком горькой? Большую часть времени я проводил один. Никому не было до меня дела. Я мог бы стать отличным маньяком, если бы не стал музыкантом.
В раннем детстве у меня не было друзей кроме дворовых псов, которых я подкармливал костями и прочими помоями из мусорного ведра. Шавки любили меня. Я брал их собой на прогулки по промышленным кварталам. Зимой они носились со мной по ледяной горке, когда я ехал на санках прямо к замёрзшему ручью. Я возвращался домой весь в снегу и грязи, когда небо над городом становилось красным от заводских выбросов. У нас была очень хреновая экология, но я привык, так что вырос почти здоровым.
Я рано начал читать, и, как сказал Холден Колфилд из «Над пропастью во ржи», «Я вообще необразован, но много читаю». Моим любимым писателем в детские годы был Джек Лондон, всё потому что мне не нравилось читать про людей и хоть как-то себя с ними ассоциировать. Мне не нравилась музыка. Я не мог понять, что все люди в этом находят. На меня эти звуки нагоняли тоску. Сейчас с моей колокольни весь ранний период детства вяжется у меня с ощущением постоянной шизофрении. Я не знал, что это были мои попытки осознать мир. Возможно, мой юношеский максимализм зародился слишком рано и продолжается до сих пор.
В школе я постоянно дрался. Не знаю уж, чем я так не понравился местным мальчишкам, но они выбрали меня мишенью для издевательств и насмешек. В школе у меня никогда не было настоящих друзей. В младших классах со мной редко общались в открытую. Они говорили со мной, когда никто не видел, словно я был опасным, но, тем не менее, интересным для них экспонатом. Я куда лучше сходился с детьми из двора и теми, с кем не был вынужден делить замкнутое пространство класса. Люди, которые меня плохо знают, всегда хорошо ко мне относятся. Я ударился в магию из простого желания всем отомстить. Мне даже казалось, что это работало. Мальчишка, что ударил меня, на следующий день сломал руку, как и его друг, что смеялся надо мной. Мне не хотелось идти по пути Света. Он слишком щипал мне глаза, как огонь церковных свечей. Если все выбирали день, то мне оставалась только ночь. Луна вместо солнца, дьявол вместо бога. В моём детском мире существовало только чёрное и белое. Я б стал великим магом, если бы рано или поздно в это не ударились все поголовно. Я просто не смог бы жить в мейнстриме. Шутка.
В средней школе я начал заниматься лёгкой атлетикой и бегом. Даже занимал призовые места на городских соревнованиях. До сих пор люблю бегать — это лучшее лекарство от стресса.
Так я и рос в этом городе, пропахшем нищетой и пылью. Зато в этом был плюс — никто никому не завидовал, потому что все жили плохо. Душный душевный лепрозорий. Все собирали бутылки, чтобы купить себе жвачек или ещё какого-нибудь другого дерьма. Родители не давали нам карманные деньги. Все ходили в обносках старших братьев, все жили в малометражных квартирах с желтыми обоями и коврами на стене. Нас всех, должно быть, точно так же не любили. Мы были случайностью, нас рожали для одной жизни, но мы попали совершенно в другую. Облупившиеся советские плакаты на стенах домов всё ещё смотрели на нас из чьего-то счастливого детства. А мы играли на стройках и кладбищах прекрасной эпохи. Мы родились, чтобы стать мусором. У нашего поколения не было смысла и целей. Если подростки восьмидесятых боролись с системой и таки сумели победить, то нам не оставалось ничего, кроме как бороться с собой. У нас не было явных врагов, кроме нас самих и времени, произведшего нас на свет.
Я взрослел и радовался этому. Я ждал времени, когда смогу отвечать за себя сам. Это бесправное существование в роли ребёнка просто выводило меня из себя. Внутри я казался себе очень взрослым, наверное, именно по сравнению с теми, кто меня окружал. «Счастливое детство» — это что-то несопоставимое с нашей жизнью. И в те времена я просто не встречал родителей, которые любили бы своих детей. Я не видел счастливых семей, где отец не был бы алкоголиком, а мать затравленной истеричкой. Это во многом повлияло на моё отношение к созданию семьи в дальнейшем. Я не верил в любовь, мне не хотелось создавать такой же ад для себя и другого человека. Сегодня вы влюблены и счастливы, завтра вы понимаете, что сломали жизнь себе и другому, ничего не достигнув, вам по сорок и жизнь кончена.
В тринадцать лет я начал пить и курить сигареты. Я думал, что это как-то поможет мне снять стресс. К тому времени он стал постоянным спутником. Я мотался между двумя горячими точками — школой и домом. Я получал довольно зверских пиздюлей от отца с матерью за свои оценки. Это было вовсе не из-за того, что я был тупым, как они считали. Я приходил в школу и просто отключался, спал с открытыми глазами с мыслями о сочащихся вагинах и прочей ерунде. Как бы я ни пытался, возвращаться в реальность у меня не получалось. Я не хотел учиться, мне совершенно не нужны были эти знания. Я был стопроцентным гуманитарием и не мог сложить в уме даже два двузначных числа. У меня всегда были хорошие оценки по языкам, истории, литературе и биологии. Всё остальное я предпочёл не знать. Учителя говорили, что я очень умный, просто чертовски ленивый.
Когда я начал выпивать, это чуть наладило мои отношения с одноклассниками. Они наконец-то меня приняли. В компании подростков считается очень крутым вести себя как взрослый. Я делал, что делал вовсе не по той причине. У меня какая-то извечная тяга ко всему низменному и разрушающему. К тому же мой отец был алкоголиком.
У меня даже появилась девушка, с которой в трезвом уме мне бы в голову не пришло встречаться. Вернее, она считала, что мы встречаемся. Она была весьма толстой, как распухший утопленник. Ей было пятнадцать, а мне тринадцать. Я трахал её из жалости. Мне нравилось делать добрые дела. Все девушки, с которыми я тогда спал, были не очень привлекательны и не пользовались вниманием. Мне было чётко наплевать на их внешность. Меня стали уважать остальные ребята. Особенно, когда я начал слушать панк-рок и отращивать волосы. Это была музыка отверженных. Мы с этой бандой аутсайдеров стали кошмаром в школе. Битые градусники, дрожжи в унитазе, разбитые рожи были нашей привычной темой. Мы мстили этому миру. Стены расцветали от наших «анархий» и пентаграмм.
Я начал учиться играть на гитаре под аккомпанемент из вечных заявления моих родителей, что ничего из меня не выйдет. Именно тогда в школьном подвале родилась моя первая группа. Моя память не сохранила название. Это был совершенно убийственный панк с текстами про бухло и секс. У нас не было нормальных инструментов кроме одной электрической гитары «Урал», двух старых акустик и самодельной барабанной установки. Это звучало просто отвратительно, мне даже стыдно вспоминать подобный этап своей жизни. Мы писали «демо» на кассетный магнитофон и раздавали послушать друзьям. Ещё я пел в школьном ансамбле. Уже тогда во мне проснулась тяга к сцене и вниманию. Участие в самодеятельности хоть как-то очистило мою карму перед лицом школы. Но вскоре меня тоже выперли оттуда с формулировкой «за неподобающее поведение». Я стоял на сцене в приличном чёрном костюме и пел какую-то околоджазовую песенку. Она была скучной, как и сам концерт. Я просто прильнул к микрофонной стойке, изображая с ней подобие полового акта.
Судьба занесла меня в компанию уличных панков, они казались мне куда отвязнее, чем мои школьные друзья. Они не знали морали и правил, для них не существовало авторитетов в виде родителей. Там, кажется, и началось моё падение. Я и не знал, что можно пить столько и в таких масштабах. Они познакомили меня с «планом». Первые несколько раз меня вообще не вставляло. Я уже верил в свою неуязвимость для травы, пока она довольно плотно не приняла меня в свои объятья.
Я стал неуправляем и совершенно отбился от рук, всячески стараясь следовать образу жизни моих новых друзей. С ними я увидел, что есть и другая жизнь с каким-то подобием свободы. В школе теперь меня видели пару раз в неделю, когда я приходил туда отсыпаться. Дома я тоже стал показываться всё реже. Мне не очень нравилось получать по лицу каждый раз. Для моих родителей я стал наркоманом и конченым человеком. Они постоянно смотрели мои вены в поисках следов от уколов. Для них наркотики ассоциировались только с героином. Они представить себе не могли, что это был вовсе не тот наркотик, что выбирали подростки в то время. Что бы я ни делал, для них я всегда оставался под героином. Я слушаю рок, у меня длинные волосы и странная одежда, стало быть, я наркоман и долблюсь в жопу. Можно сколько угодно объяснять обществу, что длинноволосые подростки в коже гораздо безопаснее короткостриженных в спортивных костюмах, но стереотипы так легко не вытравить. Я жил, сражаясь со всем миром. Всё было против меня. После того, как парни во дворе взялись учить меня жить при помощи бейсбольной биты, я не выходил из дома без ножа. (Странно, правда, биты у нас продавали, а вот мячи нет). Мне совсем не хотелось отступать от своих идеалов и стричься. Те, кто сдавался, были предателями в моих глазах. Их позицией было просто лежать, когда тебя бьют, молча отдать деньги и телефон, позволить себя унизить. Они так и остались жертвами, пусть нацепили на себя шкуры бунтарей. Странно, но таких большинство.
В пятнадцать я ушёл из школы раз и навсегда. Из дома мне тоже пришлось уйти. Я скитался по впискам, а временами вовсе бомжевал. Жизнь на улице выпила из меня все соки. Я ненавидел себя и был по уши в дерьме. Но, с другой стороны, у меня было просто завались свободы. Меня ловили менты и пытались несколько раз сдать в приют, но я убегал ещё по дороге. Мне везло. Родители тоже пытались наладить со мной отношения. Это заканчивало тем, что я выпрыгивал в форточку со второго этажа. Я не видел ничего более унизительного чем жизнь под замком.
Потом меня приютили какие-то девочки-хиппи. Им было меня до ужаса жалко, я умел пользоваться чужой жалостью. Я научился готовить, убираться и слушать. Это очень важные навыки для того, кто живёт по впискам. Я научился быть полезным, загоняя внутрь все чувства. Это особое умение не быть собой, но казаться всем таким хорошим. Я был просто тенью, на тот момент я просто забыл, что у меня были чувства. Именно так я пытался выжить. Потом я встретил Германа и снова стал самим собой. Моё желание петь перевесило. Кем я был? Просто бесполезным отбросом, обречённым на смерть от голода или передоза в канаве. Сейчас я чего-то да стою.
Началось время моего молчания, как снова в детстве. Я был бабочкой в коконе. Мне совершенно не хотелось из него вылезать. Я не мог играть свою роль, поэтому был тенью. Меня любили… скорее думали, что любят. Как можно было любить того, кого нет? Этого чуткого проницательного мальчишку, который был всегда вежлив и приятен в общении. Я не хотел их дружбы, мне нужен был ночлег или еда. Я уже так разочаровался в людях, что просто коротал время до смерти. Самообразование и книги помогли мне не сойти с ума.
Однажды я просто собрался и поехал в Москву. Моё желание двигаться дальше стало невыносимым. Я понял, что сгнию в этой дыре, превращусь в такой же бесполезный шлак, как и те люди, что окружали меня. Жители маленьких городов — опарыши в теле страны. Мне стало скучно, я облазил всё дерьмо своей малой родины. Я вывозился в нём весь, и с меня хватило. Я должен был стать великим или умереть. Я не хотел жить как все, этот мир меня отверг.
Герман Кроу
В целом, мою жизнь можно назвать сносной. Многие могли бы мне позавидовать, ведь у меня было многое. Надо отметить, что все мои блага были исключительно материальными. Да-да, это очень плохо для образа народного героя признаваться в своём финансовом благополучии. Но это не так хорошо, как могло бы показаться на первый взгляд. Быть ребёнком состоятельных родителей — это постоянный контроль и ограничение свободы. Сами понимаете, Россия, девяностые годы, не самое спокойное время, особенно, если мой отец бизнесмен. Я не выходил на улицу без присмотра, потому что меня могли похитить бандиты или чеченские террористы с целью выкупа. А мне хотелось играть в футбол с пацанами и лазить по заброшенным домам. А вместо этого я ходил в элитную школу, изучал три языка и учился играть на фортепьяно. Не могу не заметить, что эти навыки оказались весьма полезны, но это не заменит полноценного детства. Я рос в своём мирке среди книг, компьютерных игр и бессмысленной роскоши. Мои друзья были такими же скучными домашними детишками. В целом, вся наша дружба была навязана нам нашими родителями, кроме этого мы все имели мало общего.
Становясь старше, я больше проникался рок-музыкой. У меня было множество старых пластинок. Вместе с музыкой я впитывал мощный энергетический посыл, заключённый в ней, изучая культурные тенденции и мировоззрение людей, создававших её. Постепенно во мне тоже просыпался этот бунтарский дух. Я начал растить волосы и одеваться в чёрное. Это не могло не затронуть моих родителей. Семейный психолог сказал, что это естественный этап взросления и волноваться тут не о чем. Но мои предки всё равно стали вести себя настороженно, особенно после того, как этим заразилась и моя сестра. Мы красили волосы в чёрный цвет и доводили свою кожу до аристократической бледности. Все думали, что мы близнецы.
Я начал свой тихий бунт. Днём я был приличным мальчиком-отличником, ночами я сбегал из дома в клубы или на кладбища. Меня очень выматывала эта двойная жизнь. Я умудрялся играть две роли. Я убегал и бродил по разным местам. Общаясь со сверстниками из реального мира, я начинал понимать, что не всё в мире так гладко. У них ведь не было и половины того, что имел я. Они не могли позволить себе настоящий «Фендер», крутые шмотки и поездки за границу несколько раз в год. У меня случилось прозрение, что-то сродни тому, что было с Гаутамой Буддой. Я ушёл из дома где-то на неделю. Плохо помню, что со мной было. Я просто бродил по стрёмным квартирам, много пил, курил траву и нюхал всякую дрянь. Когда я вернулся домой, мне здорово досталось. Я заработал отвращение к себе и множество новых загонов. Но это стало первым шагом на моём пути к независимости.
Позднее я замечал, что мои родители стали относиться ко мне с некой опаской. Мы отдалялись друг от друга и я был этому рад. Пусть Лукреция и разделяла мои интересы, но вела она себя гораздо тише. Просто милая девочка в чёрном платье в пол, любящая классическую музыку и готические романы. А я становился просто куском проблемы. Я страдал суицидальными расстройствами и фобиями. Все руки от запястья до локтя были изрезаны ножом. Я голодал, добиваясь полмёртвой утончённости.
У меня развивалось гендерное расстройство. Да, были периоды, когда мне действительно хотелось стать женщиной. Я даже начинал принимать гармоны. Мне нравилось носить женскую одежду и пользоваться декоративной косметикой. И в эти моменты я ненавидел себя, ненавидел своё тёло, саму природу. Я был набором комплексов и фобий. По мне можно было защищать диссертацию по психологии. Со временем, это прошло. Я начал склоняться в сторону андрогинности, осознавая, что грани полов и так слишком размыты в современном обществе. И если ты ненавидишь своё тело, это просто повод украсить его татуировками, пирсингаом, шрамами. Мы вольны распоряжаться своей тушкой, как хотим.
Я не нравился приличным девушкам. Они считали меня сумасшедшим сатанистом и каннибалом. Готические сучки из клубов просто текли. Две тысячи пятый год не был проблемой для того, кто хотел поиметь «готэссу» на могиле. И всё нормально, если забыть, что девушки мне попадались сплошь глупые, не разбирающиеся в музыке, литературе и иных сферах бытия. Я не понимал, как другим парням удавалось прощать им эту оплошность. Я знал лишь одну умную девушку — мою сестру, остальные были просто живыми секс-куклами.
Не знаю, когда я начал понимать, что являюсь «не таким, как все» (ну вы поняли о чём я). В своей тогдашней тусовке я познакомился с одним парнем. Он был старше меня на три года. Мой снобистский интеллект нашёл отдушину в наших с ним беседах. К тому же он был чертовски красив. В юности я любил всех, кто похож на меня, так как был полностью поглощён своим нарциссизмом.
Разве что-то может быть искренним в годы постоянного блядства? Я начал встречаться с одной из стереотипных готических дев из тусовки. Тёлки вешались на меня, я не мог им отказывать. Гармоны играли и всё такое.
Она неплохо пела и закончила музыкальную школу. Так мы создали нашу первую группу, играющую унылейший готик-метал с англоязычными текстами про смерть, кровь и вампиров. Так я лишился сценической девственности, потому что больше уже ничего не мог лишиться. Наша группа прожила ровно столько, сколько и наши отношения. Моя девушка трахалась с басистом тайком от меня, так что я просто свалил из группы и её жизни.
Я плюнул на всё и заиграл блэк-метал. Носил камуфляжные штаны, патронтаж, мазался корпспеинтом и надрачивал тремоло на гитаре. Бог мёртв, любви нет, слава Сатане, Mayhem рулит! Я пребывал в извечном конфликте с нашим вторым гитаристом, так как играть сырой True Norwegian Black Metal для гитариста с моим уровнем было просто скучно. Мне хотелось вносить что-то новое в звучание нашей группы, чтобы не звучать как тысячи безликих команд из норвежских подвалов. В последствии меня обвинили в стремлении к продажности и коммерции, да и выгнали нахрен из группы.
Мой отец умер от инфаркта сразу после моего совершеннолетия. Помню, как стоял на похоронах и пытался выдавить из себя хоть слезу. Но мне не было грустно. Было просто как-то никак. После этого матери стало резко не до меня, и я смог спокойно съехать в отдельную квартиру.
Я учился в институте, в надежде, что экономическое образование сможет пригодиться мне в дальнейшем. Переваривал бесполезные знания и просто жарил свои мозги. Изредка я подрабатывал моделью для андеграундных фотографов, которых возбуждали мои кости. Получал за это копейки, но как-то не парился. В фешн-модели меня не брали из-за роста и не очень прямого носа, там я бы смог заколачивать куда больше бабок.
Всё это время я играл в различных командах в качестве сессионного музыканта. Никакого развития, просто машинальная отработка техники. Я продолжал писать что-то для себя, но всё время мне не хватало нормальной группы. Эта тоска просто разъедала изнутри. Я повторял попытки вновь собрать команду, но меня категорически не устраивал уровень всех участников. Все, кто умели хорошо играть, давно уже ушли в более успешные коллективы или играли за бабло у Стаса Михайлова. Я собственно, сам не брезговал подобным шансом заработать.
Я знал, что в тусовке меня все ненавидят и воспринимал это, как должное. Кто я для них? Просто богатый пидрила. Тот, у кого есть всё, к чему они так долго стремятся. Мне не нужно было копить целый год на новый айфон, я просто мог купить его, не особо думая о финансовых последствиях. Но мне был совершенно не нужен айфон. У меня были другие ценности. Я продолжал удивляться потреблядству русских. Времена дефицита сделали из них настоящих сорок. Они готовы платить бешеные деньги за любое говно, лишь бы оно являлось брендом. Нам продают убогие вещи за очень высокую цену, зная, что мы всё равно их купим, потому что очень хотим быть как все. Но, когда у тебя есть всё, ты можешь позволить себе носить джинсы из секонд-хенда и застиранную футболку, потому что тебя не волнует цена и самоутверждение за счёт внешней мишуры. Пока ты молод и красив, ты можешь надеть хоть мешок из под картошки.
При этом я был и остаюсь интеллектуальным снобом, свёрнутым на саморазвитии. Всегда презирал людей, которые не читают книги, ещё больше презираю тех, кто читает не те. Я вообще готов бить ногами всех любителей Ницше, так как те очень робеют при вопросах о других философах и могут припомнить только об идеях о сверхчеловеке. Если человек уверяет, что любит Ницше, то я могу быть с четкостью уверен, что предо мной быдло, пытающееся как-то оправдать свою маргинальность, при этом лишь поверхностно знакомое с первоисточником. Это как хипстер, читавший только Бродского, мнит себя знатоком поэзии, знает наизусть лишь «Не выходи из комнаты», от чего причисляет Иосифа к экзистенциалистам, толком не вдаваясь в значение слова. Отвратительнее этого только люди с глухим набором знаний, напрочь лишённые бытовой соображалки.
Глупый мужчина — это как некрасивая женщина, отвратительно и в корне неебабельно. Если некрасивая женщина ещё пытается спрятать своё уродство за косметикой и платьями, то глупый мужчина, глуп настолько, что везде пытается выделиться интеллектом, которого нет. Как можно ебаться с тупыми? Они в постели пустое место, не умеющие прислушиваться к желаниям партнёра. И им ведь это не объяснишь. А умным и не нужно ничего объяснять, они так всё понимают, потому что им дают.
Отличие альфа-самца от всех прочих, в том, что он не зациклен на поисках самки и угождению ей. Пока какой-нить омега ходит на курсы пик-апа, альфач просто добивается успехов своей области: пишет рульное музло или валит лес (тут это не так важно). Тёлкам совсем не нужно, чтобы вы уделяли им всё своё свободное время и целовали бы им ноги, им важно быть с тем, от кого они чувствуют силу, не важно внешнюю или внутреннюю.
Я не видел ничего пошлее любви. Люди превратили это чувство в низкую отвратительную грязь. Любовь мерзка, а секс прекрасен. Мои отношения плавно сошли на нет и я начал многое переосмыслять в своей жизни. Люди, которые кричат, что занимаются сексом только по любви, самые низкие бляди на свете. Как можно любить каждого, с кем спишь? А спят они со многими, поверьте. Зачем примешивать к человеческим взаимоотношениям такое грязное слово, как любовь. Существует слишком много чувств, которые просто не передать словами. И вот ты, наивный юнец или тёлка, считаешь, что любовь — это счастье. Поверь мне, она не принесёт тебе счастья, пока ты не будешь счастлив сам по себе.
Человек должен быть самодостаточным, это делает его личностью. Только хомячки в норках думают о том, что им достаточно одной лишь любви. Большинство людей просто не за что любить. Просто сядь в кресло и задумайся: «За что?». Я в своё время, тоже много задавался этим вопросом. Потом плюнул на всё и решил стать лучшим в мире гитаристом. Получилось или нет, я не знаю.
Почему меня любят девушки? Потому что я к ним равнодушен!
Я жил себе, потрахивая всё, что движется, невзирая на пол, возраст и расу. Культивировал в себе идеального подонка. Надрачивал своё гитарное мастерство, растил волосы до пояса, обрастал татуировками. Проблемой было лишь то, что я вообще никуда не двигался. Может быть, я открывал какие-то иные вселенные, когда путешествовал под веществами, но всё же моя жизнь была совершенно никакой. Кто-то сказал мне, что к творчеству куда больше располагает убийственная роскошь или крайняя нужда, но никак не сытое мещанство, что окружало меня тогда. Финансирование мне слегка урезали, но я особо не страдал.
Когда я встретил Макса, он показался мне похожим на пазл с отсутствующими детальками. Вроде бы и есть перед тобой личность, но какая-то не цельная ещё. Ему было всего девятнадцать. Вообще это был довольно странный, но очень интересный тип. В нём было что-то, что цепляло как рыболовный крюк. Он отвратительно пел, пока я не взялся его учить. Он оказался весьма способным учеником.
Вопреки всеобщему мнению, Макс всегда был очень застенчив. Ему было страшно разговаривать с незнакомыми людьми, особенно с девушками. Он просто терялся, поэтому много пил, чтобы проявлять хоть какую-то социальную активность.
Я спросил у него:
— Как тебе вообще удаётся клеить тёлок?
— Ну-у-у-у я просто стою и они сами подходят.
Макс и тёлки вообще странная тема. Они испытывали к нему смесь восхищения и отвращения. Он был похож на пугало: высокий, тощий, одетый в цветастые лохмотья. У него были милые жалостливые глаза. Сразу хотелось покормит его и взять к себе домой, что я и сделал в первый день нашего знакомства.
Макс приехал из какого-то занюханного городка, практически без денег. Он взял взаймы у какого-то приятеля пару тысяч и просто свалил куда подальше. Надо отметить, что деньги он вернул, но лишь лет пять спустя.
Поначалу я впадал в лёгкий когнитивный диссонанс от сочетания высокого интеллекта и совершенно дурацких манер. Оставалось только молиться, чтобы он ничего не разбил и не сломал. Ему до ужаса везло врезаться в деревья и столбы. Надо отметить, что делал он это с непринуждённой лёгкостью.
Он не ругался матом, он на нём разговаривал. И это не казалось мне грубым или вульгарным. Мастер слова остаётся верен себе всегда. Макс был грамотным подонком, отлично понимающим, на кого в этом мире можно залупаться, а на кого нельзя. Он не позволял себе и слова в осуждении меня, пока жил за мой счёт. Деньги — это единственное, что заставляло его быть паинькой. Жить четыре года по впискам, не имея работы — это большое искусство. Он родился рок-звездой. В основном его содержали тёлки. Если ты смазливый и хорошо трахаешься — это лучший выход.
Макс был красив до отвращения. Мне порой хотелось взять опасную бритву и порезать это лицо на лоскуты. Я не видел ничего отвратительней красоты и преклонялся перед его душевным уродством. Он должен был принадлежать мне со всей его душой. А его бренную оболочку можно отжать шлюхам и червям. Может быть, это и есть настоящая любовь? Я мёртв для чувств. Но мне хотелось застыть в его холодных глазах, как паук в янтаре. Он был мне нужен. Я хотел его убить.
Я продал его всем этим толпам поклонников, хотя мог бы оставить себе. Сделать трофеем на своей каминной полке. Называйте меня, как хотите, но считаю себя творцом демона Макса Тота. Я не знаю, как бы сложилась его судьба, если бы в тот душный летний вечер мы так и не встретились. Он бы сдох в канаве через пару месяцев или загремел бы в тюрьму.
Спал ли я с ним? Думайте, что да, вам так будет проще осознавать реальность. Но есть между людьми вещи глубже чем секс. Я готов был поклясться, что он меня ненавидел. Но память снова возвращала меня в то лето, когда мы могли пить вино на крыше и сидеть спина к спине. Я смотрел на бескрайние звёзды и чувствовал, что нет на земле человека роднее. Где этот мальчик с золотыми волосами и глазами цвета льда? Он умер, оставив на земле своего двойника. Все эти полтора года мы были ближе чем братья. Помню, что тогда я был живым. Я знал, что это часть меня, и если его не будет, я умру. Наверное, разделение пошло именно тогда, когда он перестал от меня зависеть.
Если человек уезжает надолго, то можно сразу с ним попрощаться. Люди меняются каждую секунду, долгая разлука несёт большие перемены.
Дани
Я никогда не знал, кто мой отец, и как-то не горел желанием это исправить. Я люблю тайны. Правда, мама говорила, что это лидер одной известной российской пост-панк группы. Многие находили нас похожими, но я от такой родни открещивался. Первые годы моей жизни проходили в вечной дороге. Моя мать не хотела завязывать с прежним тусовочным образом жизни, и каждое лето мы катались автостопом по России от Уральского хребта до самого Чёрного моря. Она носила меня за спиной в рюкзаке, как это делают цыганки. Мы побывали на множестве музыкальных фестивалей. Моя мама неплохо пела и играла на акустической гитаре. Так что музыка всегда окружала меня, я же вырос в среде грязных хиппи.
Когда бабушка умерла, мама поняла, что пора остепениться. Так и мы окончательно осели в Екатеринбурге, когда мне было пять. Но наша квартира по-прежнему была полна гостей: самых разных волосатых «системных» личностей, все художники, музыканты, поэты, как один, известные только в узких кругах. Мне было где-то лет шесть, когда я впервые осознанно взял в руки гитару. Друг моей матери решил показать мне пару аккордов. Конечно, для детских пальцев это было весьма трудно, но я старался.
Я практически не общался со сверстниками. Они казались мне какими-то необразованными дикарями. Главными моими друзьями были взрослые, которые в душе всегда оставались детьми. В школу я пришёл полный воодушевления и жажды знаний. Но после первой тройки по чистописанию, я навсегда забросил свою идею стать отличником. Меня чертовски разочаровал социум. Я, воспитанный коммуной последних постперестроечных хиппи, впервые столкнулся с грязью и невежеством.
Грязь заразна и притягательна. Хочешь выжить в мире подонков? Вливайся! Я и не заметил, как за несколько лет мутировал в вечно курящее нечто, больное хэви-металом. Моя мать и её друзья жили в мире прошлого, где была любовь, автостоп, песни у костра и цветы, но на дворе были эксзистенциальные девяностые. В моём же мире дети рабочих окраин играли с мёртвыми крысами, поджигали бомжей и сдавали бутылки, чтобы на вырученные деньги покупать сигареты поштучно. Девочки играли в проституток, посасывая леденцы у стен школы, за пару рублей, они показывали всем желающим трусы. Край наркоманов, гопников и самоубийц. Живя в этом мире, очень быстро становишься циником. Все воспоминания моего детства окрашены в серый. И, как ни старайся, я не смог бы вернуть им цвет.
В девяностых человечество мучилось невыносимым похмельем после разгульных восьмидесятых. А потом в нулевых натянуло приличную мину и, стыдливо улыбаясь, пошло на работу. Лучше не стало. В провинциях «похмелье» общества тянулось гораздо дольше.
Моя мать начала пить больше чем обычно. Это казалось мне тоской по утраченному времени. Все её друзья, либо умерли, либо куда-то пропали, либо стали приличными людьми. Она устроилась кассиршей в первый в городе супермаркет. Денег постоянно не хватало. Мне приходилось разносить газеты за гроши, но это скоро наскучило. Я замечал, как хиппи в нашей квартире плавно сменяли обычные алкоголики. По совету своего дружка она начала выращивать марихуану на продажу. Все шкафы в нашем доме были отведены под теплицы. Там в свете ламп росли кусты. Самая настоящая Нарния. Я начал курить траву лет с тринадцати, может быть, и раньше. В пятнадцать я занялся ей распространением, так как мне не давали карманных денег. Я хотел себе бас-гитару, новые «стилы» и тёлок.
Скоро все в школе знали, у кого можно купить травы. Я пользовался вниманием среди местных ребят, особенно старшеклассников. Мамаша отстёгивала бабки участкому, чтобы тот крышевал наш маленький наркокартель, так что мне можно было не бояться за свою задницу. В те времена я был счастлив: меня приглашали на все тусовки. Я был вхож во все круги нашей школы, начиная от богатеньких выскочек, заканчивая панкующими маргиналами. Образовалась моя первая группа. Девчонки стали замечать моё существование. А я был жирным и несколько тормозным ублюдком, так что для меня это был несравненный плюс.
Я смеялся над всеми, кто покупал у меня траву, потому что они не имели культуры употребления ганджи. Просто накуриться и ржать в компании — что может быть глупее и бессмысленнее? Мне больше нравилось употреблять одному, слушать музыку, размышляя о сущности бытия. Иногда я писал песни в этом состоянии. Нужно употреблять каждый грамм с пользой и жить каждый день, как последний.
С тёлками у меня пока что не складывалось толком. Я не знал, что с ними делать, на самом деле. Даже если девушки заговаривали со мной, я начинал нести какую-то херню в ответ. Мысли о ебле у меня были лишь теоретическими и абстрактными. В целом, девственность меня не очень тяготила. Секс для подростков — это просто способ поднять свой авторитет в обществе. Ими не движут чувства или искренняя страсть, в силу возраста эти существа ещё не способны на что-то большее. А я смотрел в зеркало и сам себя не хотел, не понимая всей силы своей отвратительной харизмы.
А пока я задрачивал бас, мечтая о местечковой славе и халявном пиве в гримёрке. Моя первая группа играла грязный и сырой метал. Наши тексты были о жизни подростков из спальных районов. Паршивая лирика пестрила матом и грязью. Что-то такое, что не сыграешь на школьном утреннике. Мы дали единственный концерт на сцене подвального клуба, но этого мне хватило, чтобы почувствовать, что я что-то могу в этой жизни.
В одиннадцатом классе у меня наконец-то появилась девушка. Её звали Оля. Три месяца мы держались за руки, не решаясь перейти к чему-то большему, пока она не трахнула меня на крыше многоэтажки. Я любил её и она меня, наверное. Не помню, как мне удалось закончить школу в круговороте травы, кислоты, бухла, секса и рок-н-ролла. Именно тогда я окончательно стал на свой путь, коему следовал долгие годы после. И всё было замечательно, всё было заебись. Я до сих пор вспоминаю это время, как самое беззаботное в моей жизни. Тогда мне казалось, что это и было самым настоящим счастьем.
Но всё закончилось, когда мне стукнуло восемнадцать. Начался осенний призыв, а чистить сортиры вилкой мне совсем не хотелось. Попасть в дурку, человеку, жарящему свои мозги на кислоте, было проще чем нассать себе в ботинок. Так я и загремел туда с диагнозом «маниакально-депрессивный психоз» в самый разгар его маниакальной стадии. Целый месяц я отдыхал в санатории концлагерного типа, поглощая галаперидол и другие весёлые препараты. Один из моих соседей по палате любил на досуге помазать стены говном не со зла, а скорее ради искусства. Большинство же являло собой, таких же, как и я, симулянтов.
Судьба свела меня с одним весьма удивительным человеком, он называл себя Лис. Он научил меня прятать таблетки под языком, а потом выплёвывать нахрен, чтобы окончательно не превратиться в овощ. Ясность ума даёт тебе большое преимущество над «овощами». По ночам, закрывшись в уборной, мы пили чефирчик для бодрости духа и вели душевные беседы. Мои друзья время от времени передавали мне пиво и сигареты. Посетителей ко мне не пускали, так что приходилось изощряться разными способами. Я спускал в окно бинт с зажигалкой на конце для утяжеления, к нему мне привязывали пакет с передачкой.
— Если мы когда-нибудь станем рок-звёздами и прославимся, то я во всех интервью буду говорить, что мы познакомились в психушке, — сказал однажды Лис, подогревшись пивом и халявным демидролом.
— Это было бы занятно, — ответил я, не совсем понимая суть его слов.
Мы не поднимали этой темы до самого выхода из лечебницы. Мы вернулись к жизни другими. Мир изменился, дав мне возможность смотреть сквозь него. К тому времени меня бросила девушка. Её любви не хватило на то, чтобы подождать какой-то месяц. Я прежний, наверняка воспринял бы это болезненно, но новый я отнёсся ко всему философски-похуистично.
Однажды, Лис пришёл ко мне в гости и напомнил мне о нашей идее. К тому времени, мне полностью наскучила моя предыдущая команда, так что я с радостью согласился.
Мы начали увлекаться психоделическими наркотиками, в частности имевшимися в наших лесах грибами. Лис писал очень странные тексты, смысл которых порой оставался тайной даже для меня. Отчаянье, боль и красота этого мира. Он совершенно не чурался экспериментов со звучанием, используя в нашей музыке самые разные инструменты и техники. Лис долго не хотел выступать по местным андеграундным клубам, ему куда ближе были улицы и переходы. Этим он зарабатывал себе на жизнь, так как презирал любую другую работу. А я к тому времени постепенно завязывал с продажей травы, не желая портить свою карму. Мой круг общения постепенно менялся, куда меньше понтующихся малолеток, больше взрослых и разумных людей.
Наш маленький бенд из трёх человек выходил на тесные сцены полутёмных клубов. Нас слушали сидя, никто не кидался нижним бельём, но я чувствовал, что, как ни странно, нас понимают. Это была совершенно другая музыка и другой мир. Именно тогда я понял, что окончательно готов связать свою жизнь с рок-н-роллом, и мне не нужны все эти крайности в виде наркотиков или высшего образования. Я не верил, что смогу прожить так долго.
Все мы на тот момент были увлечены локальным успехам нашей группы, чтобы заметить странности, что происходят с Лисом. Я думал, он сильно устаёт от гастролей и записи альбома, но это было что-то глубже и серьёзнее. Видения его мира грозили расколоть череп изнутри. Кто-то держит их под контролем, но Лис воровал у них свою жизнь. Я видел, как каждое выступление выпивает его о капли. Я спрашивал: «Что случилось?», он отвечал, что всё идёт своим чередом. А потом Лиса просто не стало. Он уснул и больше не проснулся. Кровоизлияние в мозг.
И я столкнулся с другими реалиями. Все мы знаем, что где-то есть смерть. Мы даже почти смирились с мыслью, что умрём, но всё это кажется чем-то далёким, пока не умрёт кто-то из близких нам людей. «Ничего, зато он меня никогда не предаст», — тяжело вздохнул я, стоя на его могиле с простеньким деревянным крестом. За эти два года он дал мне больше, чем другие за всю жизнь.
Я давился странной тоской, катался всё время в трамваях по кругу, попивая портвейн. И никто мне больше не был нужен. Я научился жить в самом себе. Но однажды я плюнул на всё, сел в поезд и отправился в большой город, в надежде стать его безликой крупицей. В Москве я был лишь однажды и ничего кроме клуба и метро не запомнил вовсе. Так что это был странный эксперимент. И вот я стоял один посреди города возможностей и не знал, что мне делать дальше. Хотелось жрать, спать или вовсе сдохнуть. Я просто ходил по улицам и заглядывал в лица. Я не знаю, что я искал. Всем было совершенно на меня наплевать.
Я толком не помню, как познакомился с парочкой наркоманов, которые предложили мне пожить у них за символическую плату. Я их боялся, но они, очевидно, принимали меня за своего. Варили мет на кухне, радовались жизни и искали по квартире жучки и скрытые камеры. Глядя на них, мне не очень хотелось приобщаться к миру «винтовых». Я вечно переживал, что они могут у меня что-то спереть, поэтому делал себе тайники в паркете и спал в обнимку с басом. Я подрабатывал грузчиком в супермаркете. Тратил все деньги на пиво и еду, к концу первого месяца я начал ощущать этот бессмысленный круговорот жизни. Жить, чтобы жрать и спать, просто для того, чтобы на следующий день найти в себе силы пойти на работу.
Я пытался найти себе группу по объявлением в Сети. За время поисков я познакомился с огромным количеством придурков всех мастей. Наивные девы и готик-метал, кавер-группы престарелого русского рока, гаражные банды школьников, безликие хеви-метал группы с патриотическими текстами. Я думал, что сойду с ума. Я всё ненадолго осел в одной хард-рок команде, но вся их вторичность казалась мне слишком скучной. В итоге меня выгнали с формулировкой: «Из-за тебя у нас сбивается барабанщик». Как это, я до сих пор не понял.
Герман подобрал меня как раз вовремя, потому что я уже начал впадать в отчаянье, разочаровавшись в столичной сцене. Когда он ко мне подошёл я немного опешил, честно, понятие не имел, что такому готичному типу надо от меня. Он выглядел жутко, но чертовски круто. Никто из нас тогда и не знал, что это будет началом самой крепкой дружбы. А вот Макса я поначалу боялся. Он был из тех, кто выражает своё презрение всему миру, не сказав ни слова. Он будет долго присматриваться к незнакомому человеку, прежде чем решит, что тот достоин его слов.
Мы потусовались годик по Москве и по России. Этого времени нам хватило для того, чтобы понять, что здесь нам больше делать нечего.
Герман Кроу.
Мы встретились в лондонском аэропорту. Просто стояли и смотрели друг на друга как две статуи, боясь нарушить иллюзию объятьями. И я и Макс были поражены и обездвижены. Дани я вообще не сначала не заметил. Не смог поймать в фокус своих глаз его внушительную фигуру.
— Зачем ты взял с собой эту гитару? — выпалил я вместо приветствия.
— Просто я должен держаться корней, — ответил Макс, глядя сквозь меня.
На языке вертелось куча невысказанных слов: «Пацаны, я так рад, что вы приехали! Охрененно, что так получилось», но нам оставалось только молчать и пялиться друг на друга.
Я махнул рукой, зазывая их вслед за собой. Главное, только не потеряться в толпе. Мы погрузились в такси. Шёл густой и липкий снег. Макс прильнул щекой к окну, стремясь разглядеть что-то в белом мареве Лондона.
— Почему ты молчишь? — спросил я вдруг.
— Не хочу рушить иллюзию. Скоро проснусь, и рядом не будет тебя, зимнего Лондона и нас всех тоже не будет.
Я молча обнял его, чувствуя даже сквозь куртку его острые плечи. Он положил голову мне на колени.
— Ты даже не представляешь, как мне хреново, — сказал он вдруг. — Я никогда раньше не летал самолётом. Я думал, что мы разобьёмся или моя голова взорвётся от этих перегрузок.
— Надо было проблеваться, — подал вдруг голос Дани.
Макс издал сдавленный смешок, снова погружаясь в свою тёмную медитацию на моих коленях.
Дома нас встретил Джек Ди, из-за его плеча выглядывал вечно испуганный Майк. Ему в отличие от драммера не нравилась идея проживания под одной крышей с неизвестными парнями из России. Я его даже в чём-то понимал, но сам был вынужден ютиться на этом флэту. Говорят, я был хорошим гостем.
Макс вяло поздоровался, бросив дежурное: «Hi, guys!». Дани и того сказать не мог.
В моей комнате не было ничего кроме гитар, сломанного шкафа и тонкого матраса на полу. Непривычная роскошь — быть животным. Кто сказал, что человеку действительно нужна кровать и трёхразовое питание? За два месяца в Лондоне я подавил в себе все зачатки конформизма. Макс рухнул на матрас, отбирая у меня единственную подушку. Мы пытались разместиться там втроём, но было слишком тесно, и кто-то постоянно оказывался на полу. Наконец дани не выдержал и отправился на кухню распивать вместе Джеком литр «Столичной». Они быстро нашли общий язык, при условии, что Дани ни слова не понимал по-английски. В школе он лишь худо-бедно выучил немецкий.
Мы легли спать, но сон мой оказался недолгим. Через пару часов меня разбудил Макс и сказал:
— Здесь всё в крови… Где-то здесь осколки моего черепа…
Я посмотрел в его глаза, они были закрыты.
— И если ты хочешь, то можешь потрогать мой мозг… он, кажется, ещё жив, — продолжал он.
Я разбудил его, вырывая из царства кошмаров. Оказывается, этот бред посещал его почти каждую ночь.
— Это каждый раз, когда у меня мигрень, — признался он. — Невыносимое чувство. Ты… это, чувак, извини, что разбудил.
В последующие дни у меня складывались впечатления, что я вижу перед собой совершенно другого человека. Я знал его, как милого отзывчивого парня, всегда готового прийти на помощь, и как отъявленного буйного психопата. Сейчас же предо мной был кто-то молчаливый и замкнутый. Он скользил по квартире словно тень, чертил какие-то символы углём на стенах, пугался каждого шороха. В редкие минуту своего хорошего настроения, он становился просто отвратительным.
— Напились мы с одной герлой как-то раз. Вот она прямо голая и уснула. Я всё её разбудить пытаюсь, а она ни в какую. Взял я тогда её мобильный и в пизду ей засунул и стал звонить. Вибрация на всю идёт. Она только во сне постанывает, но не просыпается. Так и продолжалось, пока телефон не выпал.
— Да ты поехал! — сказал я ему.
— И это мне говорит человек, который ебал родную сестру.
Мы постоянно таскались гулять. Макс принципиально не хотел платить по два фунта за метро, поэтому заставлял меня шататься везде пешком. Он был выносливый как лось, чего не скажешь обо мне. Даже для Дани двадцатикилометровые прогулки оказались не из лёгких.
— Города — это всё, что меня вдохновляет, когда люди потеряли цену, — выдохнул Макс, но тут же сменил тему. — Ты когда-нибудь сидел в Тауэре, мой друг? — спросил он.
Я покачал головой и ничего не ответил.
— Я сидел там и ел крыс. Двадцать хуевых лет я ел крыс, мечта увидеть кусочек неба. И вот я вижу его, а оно цвета дерьма.
Он заглянул мне в глаза. В них блестели отголоски безумия.
— Но я ничуть не расстроен, мой друг. Дерьмо — это наше всё.
Мы зашли в общественный туалет, чтобы занюхать «фен». На двери красовалась надпись, сделанная чем-то буровато-коричневым: «Худшая параша Британии».
— Давайте ебаться! — закричал Макс, расплёскивая ногами лужи дерьма на полу. — Вот оно святое! Самое лучше место для концерта. Лучшее для святого причастия.
Но стоило ему занюхать белую дорожку, как всё вмиг прошло и вернулось на круги своя. Он стал более вменяем, чем казался раньше.
Макс стал пропадать где-то целыми днями, возвращаясь лишь ради репетиций и кратковременного сна. Для меня оставалось загадкой, как он постоянно находил дорогу в этих хитросплетениях лондонских улиц. Это какое-то особое собачье чутьё. Я не был топографическим кретином, но постоянно путался и предпочитал пользоваться картой.
В те моменты мне казалось, что группа для него не более чем обязанность и рутинная работа, которую просто нужно выполнять от начала и до конца. Пока я был полон вдохновения и желания творить, он предпочитал полное погружение в своё сознание. А потом я просто дал себе установку — никогда ничему не удивляться. Даже если приду однажды домой и застану его в луже собственной крови и мозгов. Он становился до удивления непредсказуемым и отвратительным, но в то же время, чертовски притягательным. Он всегда знал, когда надо остановиться, чтобы не вывести меня из себя окончательно.
Джек Ди.
Я познакомился с Германом зимой 13-ого года. В те времена я играл в одной местной глэм-кор банде. У нас было небольшое выступление в баре недалеко от дома, где я тогда жил. Меня чертовски не пёрло это музло, но я любил стучать, пофиг где и с кем. Когда у меня не было группы, я часами играл на своей барабанной установке назло всем соседям. Ночь была для меня невыносимым временем тишины. Я больше всего опасаюсь отсутствия звука, точно так же я боюсь оглохнуть.
Ну так вот, отыграл я свой сэт. Грим потёк с лица, глаза слезятся от лака для волос. На ощупь иду к гримёрке. Тут меня кто-то хватает за руку. Смотрю — вроде девка, волосы длинные, лицо бледное. Ну в целом, готическая сучка. Тут слышу голос явно мужской с лёгким таким восточноевропейским акцентом:
— Круто играешь!
— Спасибо, — говорю я, пытаясь как-то отвязаться.
Трубы горят, выпить надо. В грмёрке цыпы ждут.
— У меня к тебе деловое предложение, — говорит он. — Пошли, я угощу тебя ромом.
— Я люблю виски, — отвечаю я.
— Ок, — говорит он и тащит меня за руку.
Мы пошли в так называемый «тихий бар» клуба, где было значительно тише, чем на танцполе. А глаза всё ещё слизятся, вытер майкой, вроде полегчало.
— Что ты хотел? — начал я.
— В жопу тебя выебать! — выпалил он, затем добавил: — Шутка. Не хочешь ли поиграть вместе?
— Ладно, — отвечаю, от виски я всегда становлюсь добрым и отзывчивым. — Что вы играете?
Он рассмеялся и сказал что-то вроде: «психоделик-глэм-панк-блэк-рок».
Мы знатно напились в тот вечер, проснувшись на утро у меня. Память сохранила довольно мало фрагментов. Он незаметно ушёл, оставив мне лишь диск своей группы и номер телефона кровью на зеркале, что ещё раз подтвердило эксцентричность Германа Кроу. Я прослушал этот диск несколько раз, чтобы до конца понять, что же на самом деле я услышал. Это было нечто невероятное. Визжащие гитарное соло, резкая смена высоких и низких частот. Это просто какой-то ультраандеграунд, блять! Голос вокалиста, его совершенно невозможно описать. Низкий, но в то же время совсем не грубый, он словно скребётся у тебя в мозгу, царапая череп изнутри. Что это за чертова страна? Что за блядский акцент?! Однако, барабаны показались мне слишком слабыми и сухими. И я просто не смог не отметить не лучшее качество записи. Тем не менее, спустя пару дней, я всё же позвонил.
— Что делать будешь? — спросил я.
— Гоу джемить вдвоём?! — завопил он.
Я согласился.
— И ещё, — добавил он, — если у тебя есть друг-басист, то можешь позвать и его, интереснее будет.
У меня не было басиста, но мой друг Майк Моррис неплохо рубил на гитаре. Парнишке всего шестнадцать, но он делал успехи. Герман пришёл к назначенному времени на базу, таща с собой в кейсе старенький «Гибсон». Ни с кем не здороваясь, он подошёл к усилителю, подключил гитару и заиграл отдалённо знакомую мне мелодию. Это был просто соляк из «Ворона», просто хренов соляк из фильма, но никто до него, не мог сыграть это так. Мы заворожено смотрели, как пальцы с черным маникюром пляшут по ладам. Он залажал концовку, не преподнёс это как собственную импровизацию.
Мы начали джемить. В игре Германа я слышал то всю грязь панк-рока, то технику консерватории. Он умел сочетать не сочетаемое. Он всегда выделывался, словно стоит не в грязном, пропахшем потом, подвале, а как минимум, перед полным стадионом фанатов. Ему было всё равно для кого играть. Мы слышали его, и он слышал нас.
Я узнал, что Герман живёт в дешёвом мотеле на окраине Лондона и предложил ему переехать к себе. Мне от бабули досталась квартира почти в центре. Ветхая совсем, но зато платить не надо. Я жил как ёбаный хиппи: где грязь, там и я, потому что я — это грязь. Мы выращивали цветную плесень на стенах ванной, предавая ей всё более причудливые формы. Я наблюдал насколько могут прогнить доски в полу, когда наконец-то выпадут стёкла в ветхих рамах. Там всегда стоял жуткий холод и почти не было мебели. По вечерам мы берегли электричество и тусовались на кухне при свечах. Рассказывали какие-то дурацкие истории.
Герман спросил: могу ли я приютить двух его друзей, тех, кого я мог слышать на том проклятом диске. Я сказал: «А хули? Будет веселее». Майк, который тоже жил с нами, начал потихоньку возражать. Он вообще был очень замкнутым и себе на уме, но в целом, он неплохой парень, если приглядеться. Он словно предчувствовал, что станет мишенью для издевательств Макса. А этот человек, вообще отдельная история.
Первое время, он напоминал мне собаку, которая всё понимает, но ничего не говорит. Он просто смотрит в глаза и слушает, словно коп на допросе. Изредка перешёптывается по-русски с Германом. Я просто думал, что он ничего не понимает по-английски, пока он внезапно не заговорил.
— Что думаешь о референдуме в Шотландии? — спросил он вдруг совершенно ни с чего. Я отметил, что у него был поддельный американский акцент. Больше чем педосы меня бесят только те, кто пытается под них косить.
— Нахуй кормить этих джоков! — ответил я, слегка прихуев.
— Я думал ты оттуда.
— Я на четверть ирландец, но не более того.
Периодически он заглядывал в окно, глядя на унылый зимний пейзаж, и повторял одно и то же:
— Лучше бы мы поехали в Штаты… лучше бы в Штаты.
Вообще в нём было много черт заядлого шизофреника.
С Дани мне было проще всех, несмотря на то, что тогда он вообще не говорил по-английски. Есть люди, с которыми просто легко. Мы оба много пили в те годы. Я понемногу учил его английскому, набираясь от него русских ругательств.
Глава 2
Я всё равно люблю Германа, хотя сейчас наши пути разошлись навсегда. Но это совсем не та любовь, о которой вы подумали. Без него бы не было этой группы. Без него бы не было меня. Один из самых талантливых гитаристов и просто чёртов засранец. Мы не могли друг без друга, как и находиться рядом. Достаточно было искры для пламени скандала. Мы были несовместимы, хотя держались рядом столько лет. Я очень часто злился на него, впрочем, как и он на меня. Мы понимали друг друга только тогда, когда дело касалось совместного творчества.
Он всегда казался мне гениальным, хотя его острый ум граничил с форменным безумием. Он сочинял невероятные гитарные партии, от которых кровь сворачивалась в жилах и даже ад грозил замёрзнуть. Его музыка удивительным образом трансформировалась в голове в причудливые визуальные картины. Что-то сродни психоделикам 60-ых, только более мрачное и пугающее. Он никогда никого не копировал, но умел довольно замысловато прятать в своей музыке аллюзии на произведения прошлого. Своей игрой он словно призывал демонов, что садились к нему на плечи. Они струились по залу ядовитым ароматом, околдовывая публику. Мы сами были под действием его чар.
По прилёту в Лондон я чувствовал себя выжатым и мёртвым. Я не люблю самолёты до сих пор. Герман встретил нас с Дани. Мы были сильно неадекватны, отравлены свободой и виски. Я снова пил, несмотря на язву. Надо отметить, что именно тогда в двадцать алкоголь нанёс мне свой первый удар, я был слишком глуп, чтобы обращать на это внимание. Меня не поспособствовала даже остановка сердца от спайса (как бы ни говорили «знатоки», но это действительно возможно) и многие дальнейшие приколы организма, но сейчас не об этом.
В тот день я был слишком замучен, чтобы радоваться или даже смотреть по сторонам. Мне казалось, что это просто сон. Тогда, свернувшись на своём матрасе на вписке, я часто видел сны о том, что всё вдруг наладилось, и я снова счастлив. Тогда я часто хотел умереть, чтобы больше не просыпаться. Мы молча погрузились в такси и поехали на вписку. Там я познакомился с Джеком Ди, нашим новым барабанщиком. У него были красные волосы и совсем неадекватная стрижка, больше всего он походил на злобного клоуна, причём совсем не нуждался в гриме и маске. Лицо у него было такое. Но это меня удивило не столько, как наличие у нас теперь ритм-гитариста. Герман лучше бы убил, чем позволил кому-то взять при нём гитару. Он был очень ревнив в этом плане. Мою игру он до сих пор считает отстойной. Наш ритм-гитарист Майк походил на какого-то эмо. Герман же сказал, что у него просто лицо такое, и вообще он нормальный парень, несмотря на свою мерзкую чёлку. Вскоре мы заставили его сменить причёску. В дальнейшем мне всегда казалось, что он начал постепенно превращаться в клон Германа, отращивать волосы и подводить глаза. Мне всегда казалось, что его взяли в группу только потому, что он был другом Джека, но поскольку он оставался с нами столь длительное время, я понял, что он действительно чего-то стоит. Этот парень всегда оставался для меня идеальным козлом отпущения, до тех пор, пока я не пересмотрел своё отношение к людям.
Ещё один пункт нашего пребывания в Лондоне — это английский язык. Я довольно сносно говорил на нём, но всё же хуже, чем Герман с его идеальным британским произношением. Меня же в лучшем случае принимали за идиота, в худшем за ирландца. У Дани же дела обстояли никак. Он знал только парочку ругательств, но это помогало ему отлично изъясняться с ребятами по группе во время наших первых репетиций. Мы не могли сыграться. У Дани и Джека была странная несовместимость. Они никак не могли играть в унисон. А это очень важно для барабанщика и басиста. Но когда они напились вискарём до полного изнеможения, эта проблема сошла на нет, как и языковой барьер.
Моей главной проблемой в Лондоне было то, что я не мог посещать знаменитые местные пабы, так как являлся по их меркам несовершеннолетним. Меня это весьма печалило.
Мы жили все впятером в маленькой трёхкомнатной (на самом деле это были две с половиной комнаты) квартире в северном Лондоне. Этот чертов дом помнил ещё королеву Викторию, комнаты напоминали шкафы или же вовсе гробы. Темно, ветхо и мрачно. Коммунальные службы, надо сказать, там просто отвратные. Дорогая электроэнергия, вечные проблемы с отоплением. Я долго привыкал к этому собачьему холоду внутри, пока не научил англичан клеить окна тряпками и скотчем. Обогреватель бы полностью разорил нас. В целом мы жили как нормальная рок-группа в полностью засратой и разгромленной хате, как самые настоящие панки. Мы с Дани привыкли быстро. Герман с его брезгливостью постоянно падал в обморок при виде пауков или плесени. По ночам мы выкидывали хлам в окно, чтобы хоть как-то от него избавиться. Я накупил баллончиков с краской и разрисовывал стены в нашей с Германом комнате. Он плавился крышей от моих художеств. Голые женщины в неестественных позах. Чтобы не вызывать ни у кого эротические позывы, я сделал их мёртвыми. Так и танцевали на наших стенах неживые девы в ожерельях из собственных кишок, а над ними пролетали самолёты Люфтваффе. На полу же зияла выполненная красной краской пентаграмма. Я любил заниматься самоэпатажем.
Мы начали выступать в маленьких клубах, снова получив статус никому не известной начинающей команды. Я возился с текстами, переводя их на английский. Ребята помогали мне доводить их до ума. Мне была важна оценка носителей языка. Первый год мы провели в каком-то пограничном состоянии между «совсем жопа» и «не очень». Мы были в тусовке, но не выходили за рамки лондонского андеграуда. С одной лишь разницей, что здесь нам платили за выступления. Не шибко много, но временами на жизнь хватало. Когда наступали совсем голодные времена, мы принимались играть на улицах. Я развлекался, переводя «избитые» хиты русского рока на английский. Особенно это веселило русских туристов. Герман зарабатывал частными уроками музыки. Он единственный из нас, кто мог устроиться на нормальную работу.
Папаша Джека пристроил меня и Дани в свой магазин, раскладывать товар по полкам и таскать всякую хрень. Это был большой риск с его стороны, потому что разрешений на работу у нас не было. Но мы там долго не продержались, так как спали на ходу из-за ночных выступлений. Время от времени мы воевали с посольством, в попытках получить гринкарты. Поначалу у нас была идея сойти за беженцев кровавого режима, но по слухам Европа предоставляла политическое убежище только гомосексуалистам, так что мы вскоре отказались от этой затеи.
Тем временем, у нашей группы появился менеджер. Его звали Сэм и у него были мозги. Мне всегда казалось, что он работает с нами из жалости. Он договаривался о выступлениях и добывал нам бухло. Приводил нас в адекват и пинками выгонял на сцену. Когда-то он сам пытался быть музыкантом, но его предрппсположенность к бизнесу оказалась сильнее.
Мы перестали быть похожими на тот самый «Opium Crow», мы были какой-то другой незнакомой мне группой, хотя носили прежнее название и процентов на шестьдесят имели тот же состав. Мы звучали более взросло и устаканено. Я скатился к мысли, что всё обречено, потому что в эпоху электронной музыки никому не нужна какая-то рок-группа, играющая в мутном смешении жанров от панка до глэма, с ориентиром на тёмную сцену. Но Герман всё ещё верил в себя. Он не сдавался и продолжал эксперименты.
Когда в нашем болоте из современной музыки появились «Wormdace», ко мне вернулась вера в рок-н-ролл. Они стремительно набирали популярность по всей Британии. Казалось, что истерия вокруг них была такая же, как вокруг «Sex Pistols» в своё время. Это была бомба. Побывав на их концерте, я морально кончил. Голос, музыка, энергетика, драйв. Они были просто идеальной группой. Я истерил от восторга, как пятнадцатилетняя девочка. Герману они не нравились. Он считал их слишком прилизанной бандой. Мне всегда казалось, что он просто завидует и сожалеет, что не он находится на их месте. А я влюбился в вокалиста чистой и платонической любовью. Его голос звучал просто великолепно. Обычно я недолюбливаю теноров, но этот парень просто поразил меня. Его внешность могла заставить течь всех сучек в зале. Высокий рыжеволосый шотландец. Я не англичанин, меня не трогали расовые стереотипы.
Я долго изводил Сэмми тем, чтобы он пробил нам разогрев у «Wormdace», это стало моей навязчивой идеей. Сэм не мог даже просто к ним подступиться, не то, чтобы поговорить.
Мы выезжали с концертом в Бирмингем. Во время туров я постоянно пью. Я не могу объяснить себе эту традицию. Язва пока не беспокоила, и я мог нормально пить. Я всё равно не собирался долго жить, так что мог себе позволить убиваться различными способами. Таблетки и кислота, но только после концерта. Я не могу выступать под чем-то кроме травы. Мне нужно иметь привязку к миру и чувствовать почву.
Я — белый шаман виски, я один из лоа. Я приглашаю вас в свой мир. Я летаю за своими демонами. Мы танцуем и совокупляемся в пламени.
Герман сходил с ума. Мне было жалко его порой за то, что он меня терпит. И я бы умер, если б его не было рядом. Возможно, это были мои ответные чувства паразита, но он для меня много значит до сих пор. Побыв без него около двух месяцев, я, правда, осознал всю важность этого человека в моей жизни. Без него я начинал умирать физически. Возможно, я был тем самым вампиром, который выбрал себе жертву на всю жизнь и теперь не хочет отпускать. Я не умел любить, я умел испытывать чувства, но не мог никак их выражать. От того творил много глупостей. Что я ещё мог сделать, если меня никогда не любили?
Я страдал в запертой клетке моих эмоций, хотя снаружи казался очень экспрессивным. У меня был новый переходный возраст. Я делал много странных и совсем идиотских вещей: я мог сидеть спокойно в комнате, курить, потом вдруг выбросить стул в окно и пойти спать. Или, к примеру, поджечь урну, наполнить ванну желе, нарядиться в бабское платье из секонд-хенда. Это приводило ребят в бешенство порой, а иногда они смеялись, и я не понимал, что же тут смешного. Возможно, я просто привлекал к себе внимание. Мне пришлось отчасти присмиреть, когда мне сказали, что поймав на правонарушении, меня могут депортировать в Россию. Так что пришлось завязать с магазинными кражами и безбилетным проездом на метро. Жаба душит. Два фунта — это же больше ста рублей!
* * *
Порой я совершенно не мог выносить одиночество, в остальное время я пребывал только внутри моей головы. Я шатался по району и знакомился со всеми сомнительными людьми, которые могли бы мне помочь. Я ошивался возле барыг, хотя очень редко что-то покупал. Мне нравилось смотреть на наркоманов. Даже будучи одной ногой в могиле, они пытались затащить меня в свой мир. Это что-то вроде подсознательного страха умирать одному. Мне нравились их пустые глаза. Целая улица ходячих мертвецов, что сидят, прислонившись к стенам, или просто лежат в лужах. Грязь, кровь, дерьмо. Но они были где-то там, за гранью этого смертельного кайфа. Когда рай внутри тебя, уже всё равно, что рядом ад. Их уже не тяготило бренное бытие, мораль и здравый смысл. Я почему-то понимал их тогда, хотя и пальцем не прикасался к героину, но не хотел быть таким. Я хотел сидеть на белом диване с серебристой ложечкой, чистейшим порошком и чёрными свечами. Мне нравилось следовать ритуалам.
Прямо тут наркоманы торговали собой. Особым успехом пользовались подростки. Один раз с ними равнялся по цене целой дозе. Остальным же оставалось работать полдня, а то и больше. Я в здравом уме не понимал, у кого может стоять на эти синюшные скелеты. Из клиентуры там я наблюдал только арабов и чёрных, совсем изредка попадались белые извращенцы.
Там я познакомился с Джесси. Она сидела на игле уже несколько лет и торговала собой на улицах. Она мне нравилась — всклокоченная блондинка с тёмными провалами глаз и выступающими скулами. По разумным причинам я не стал с ней спать. Я был наслышан о буйствах Венеры среди местных проституток. Она была единственным существом здесь, к которому я испытывал жалость. Джесси рассказывала, как красиво всё начиналось. Она любила дискотеки и экстази, красивую яркую жизнь в прекрасном мире, где много любви. Она была королевой ночи. Эта история казалась банальной: сначала трава, потом таблетки, амфетамин и вот уже героин принял её в свои объятья. Её предал парень, тот, что подсадил на иглу, он был обычным барыгой, который просто время от времени её трахал. А она думала, что у них чувства. Джесси никогда не хотела завязать, даже сейчас, когда ей оставалось недолго.
— Что ты находишь там? — спросил я.
— Это истинный кайф; лучше, чем оргазм, — ответила она.
— Прямо как смерть?
— Откуда ты знаешь?
— Я уже как-то раз умирал.
Я не очень понимал, как люди способны перейти с травы на героин. Я уже около семи лет употреблял наркотики, меня пока что не тянуло во все тяжкие. Мне нормально было дружить с метамфетамином. Были попытки колоть его в вену, но помешал мой патологический страх игл. Плюс ко всему, я не мог позволить себе ходить с таким палевом, как следы от уколов. Так что мне оставалось курить, нюхать и разбавлять в своём вечернем чае. В придачу, я был алкоголиком. Но подсознательно знал, что это не может продолжаться вечно.
Когда я узнал о смерти Джесси, то вздохнул с облегчением и посвятил ей песню. Мне кажется, что такое люди, как я, способны получать вдохновение от смерти. Говорят, музыканты самый циничный народ.
* * *
Однажды я зашёл в комнату к Джеку одолжить у него магнитофон. Мне нравилось слушать старые кассеты, которые за копейки можно было купить на барахолке, но речь не об этом. Он открыл мне дверь, потирая заспанные глаза. Мы разговорились, стоя в дверях, тогда я увидел на полу закопченную ложку. Разразился скандал. Мы кричали друг на друга, и дело чуть не дошло до мордобоя. Я говорил, что это ставит под угрозу всю группу, что мне не нужен мёртвый барабанщик. Он был необычайно убедителен и изворотлив. Он был гораздо умнее моих друзей с улицы. Он сказал мне напоследок:
— Как ты можешь осуждать меня, если ни разу не пробовал?
Со всей моей любовью к героиновым темам, это было бы глупо. Я не мог говорить, что когда-нибудь обязательно попробую, только если у меня будет много денег, чтобы потом не торговать задницей в трущобах. Тогда я задумался о том, что этого может просто не быть, а живу я только раз, и раз уж я последователь философии декаданса, то я просто обязан вмазаться по самые щи.
Кто-то говорил, что если нюхать, то меньше привыкание. Я начал свой роман с героином издалека. Меня тут же вырубило прямо на полу в комнате Джека. Я не думал о последствиях, я уже вообще ни о чём не думал. Я как бы знал, что я сейчас там лежу где-то внизу, но в то же время пребывал вне своего тела. Оно было мне не нужно на волнах бешеного кайфа. Всё как в тот миг, когда я умер, только теперь всё растянулось надолго. Я снова ощущал себя частью бога, хотя на самом деле ничего не мог чувствовать. Я очнулся, и всё было прекрасным.
Мы пошли гулять. В туманном Альбионе настал солнечный день. Я комментировал все свои мысли и ощущения. Джек понимающе кивал. Мы стали каким-то магнитом для тёлок. Они смотрели на нас, но не как на двух психопатов, а с какой-то особой нежностью. Стемнело. Я утопал в огнях Сохо. Больше всего под кайфом люблю смотреть на огни. Я больной фанат неоновых вывесок. Реки энергии мира текли сквозь меня. Время и пространство потеряли смысл. Я находился сам внутри себя, но мне впервые было комфортно. Я нашёл гармонию с собой. Мне впервые не хотелось убить себя. Этот день оказался самым счастливым в моей дурацкой жизни, прямо как когда я встретил Германа. Самое странное, что за весь день я о нём ни разу не вспомнил. Мне казалось, что он не поймёт моего кайфа. Он вечно хмур и загружен. Он так стар, что разучился радоваться. Но когда-нибудь я покажу ему, что такое героин, и всё будет как раньше.
У меня не было отходняков и прочих побочек. Просто плавно отпустило. Тогда я решил, что лучше мне будет держаться от героина на расстоянии, заодно подальше Джека. Некоторые наркоманы говорили мне, что все их приходы были лишь попыткой вернуть тот самый первый раз, что ярче него уже точно не будет.
Я решил приостановить свой пыл, снова покуривая мет. Всё казалось не тем и не таким. Алкоголь стал для меня чем-то низменным и банальным. Что толку быть алкоголиком, если это легально и действует на людей отупляюще. Я любил ситуацию контроля над своим телом и разумом. От алкоголя я просто вырубался и падал под стол, предварительно натворив множество гадких вещей и наговорив глупостей. Это просто очередной способ возненавидеть себя на утро. Марихуана переставала удовлетворять мои потребности. Если курить её дни и ночи напролёт, то точно так же можно отупеть. Когда я валялся на кровати и слушал Кортни Лав, я понял, что это край, и пора завязывать. Тем более, что я признавал марихуану только в сочетании с алкоголем, потому что иначе приход казался мне неполноценным. Так или иначе, я тратил почти все свои деньги на наркотики.
Джек Ди
Я думаю, что это была наша попытка вернуть безумные героиновые восьмидесятые. Ты слушаешь рок-н-ролл, затем начинаешь сам его играть, одеваешься в чёрную кожу и рваную джинсу, но тебе всё ещё чего-то не хватает. И тут ты вспоминаешь, что все твои кумиры употребляли героин. Сначала ты гонишь эту мысль подальше, но потом плюёшь на всё и думаешь: «Похуй, живёшь только раз!». В этом-то и проблема, жизнь одна и никто не подарит тебе новую, взамен бездарно просраной.
Что же получается? Нас портит музыка или это мы портим её своими наркотиками. Все рокеры чёртовы наркоманы и алкоголики. А те, кто трезвеник типа Ди Снейдера, просто исключения, которые подтверждают правила. Но в нашем случае могу сказать, что, наверное, мы так и иначе употребляли бы наркотики, если бы даже никогда не были рок-музыкантами. Просто на нас на всех печать дьявола. Мы прокляты и надо с этим смириться.
Чувствовал ли я себя виноватым перед Максом на тот момент? Конечно же нет. Я был слишком циничен, как и всякий джанки. Мне нужен был друг по интересам и я его обрёл. Я не думал, что он зайдёт в своей зависимости куда дальше, чем я.
Глава 3
Какие-то неведомые силы сжалились над нами, и нашу группу стали приглашать на более крупные мероприятия. Наверное, божественный свет от «Wormdace» коснулся и нас. Рок-н-ролл снова стал кому-то нужен. Это была новая музыка, содержащая в себе явные отсылки к старому доброму року, но несущая веянье нового мира. Я подумал о том, как можно занырнуть в пучину этой новейшей волны. Всё походило на волшебный сон. Я вылез из своего внутреннего подвала и снова стал работать над материалом. До этого я ходил на репетиции и был там просто тенью, сливался со стенами и пел хуже, чем фонограмма.
Когда мы выступали на большом опен-эйре, я понял, ради чего стоит жить. Ты видишь это море людей и лес рук. При попытке разглядеть лица зрение расфокусируется. Это непередаваемое чувство, когда на тебя смотрит столько народу. Может быть, они и не рады тебя видеть, но вынуждены смотреть. Их глаза словно протыкали меня насквозь. Тогда я понимал, что хочу жить только ради таких моментов. Мне не нужно будет саморазрушение и смерть, если я буду чувствовать любовь публики. Я хочу доводить её до экстаза. Я верю, что могу это. Я хотел стать их наркотиком, несбыточной мечтой, проводником в маленький ад, любовным кошмаром. Я хотел быть богом. Я и так был бессмертен и полон сил.
За кулисами я увидел Шона Фокса из «Wormdace», мне всегда казалось, что его фамилия — это псевдоним, потому что настолько рыжему чуваку просто невозможно найти другую кличку. Мой оптимизм улетучился. Передо мной был тот, кто лучше меня. Он был настолько лучше, что я даже не мог ему завидовать. Я впервые был готов боготворить живого человека. Я хотел поговорить о его музыке. Потом мне показалось, что я не смогу выжать из себя ни слова. Я в момент забыл весь английский язык, да и вообще людскую речь. Я просто стоял и тупо улыбался. Я помахал ему рукой, он помахал в ответ. Я был счастлив. Герман назвал меня идиотом.
Через неделю случилось ещё более странное событие. Мне позвонил офигевший Сэм и поведал, что «Wormdace» хотят нас к себе на разогрев. Команда, что должна была выступать вместо нас, не понравилась Фоксу, а он был очень принципиален в выборе разогрева. Ему понравилась моя музыка, чёрт. Они сами нас нашли. Герман не разделял моего энтузиазма. Он говорил, что фаны Фокса закидают нас говном, что так бывает всегда, когда выступаешь перед звёздами. Мне было наплевать, мне хотелось с ними на одну сцену.
Я поднажал на репетиции. Мы постоянно ругались с Германом, потому что ему казалось, что я пытаюсь придать нашей музыке более модное и попсовое звучание, чтобы понравиться всем. Но меня, правда, не устраивало всё на свете. Я пытался взять управление в свои руки, пусть лидером группы официально считался Герман. Тут началось наше противостояние. Раньше я просто не мог командовать, здесь я понял, что всё зависит от меня. Я готов был спорить и драться за свои взгляды на музыку. Я был зол и неистов. Как мне показалось, наше выступление было лучшим в истории группы. Я был счастлив в своём вечном кайфе. Герман спросил меня в тот вечер, почему мой голос звучал так чарующе. Он никогда не слышал, чтобы я так пел. Это был голос из параллельного мира. Когда он посмотрел в мои глаза на концерте, то сразу всё понял. Он не ругался, он сказал:
— Знаешь, таким как ты это простительно.
В гримёрку завалились группис. Первые настоящие группис, которых мне довелось видеть. Я сделал вид, что мне не всё равно, и что они мне нравятся. Предварительно я снова занюхнул и уже слабо соображал. Мне снова казалось, что я вижу то, чего нет. Я посмотрел в глаза одной симпатичной шатенке. Ей в лучшем случае было восемнадцать. Мне вдруг показалось, что у неё есть мозги в отличие от всех тупых куриц, что тёрлись об нас. Что ещё можно ожидать от девушек, которые посвятили свою жизнь тусовкам и сексу с музыкантами? Я не позволил ей сделать мне минет. Моя рука коснулась её щеки.
— Ты ведь не такая, как они, — сказал я, с трудом узнавая свой голос. — Неужели тебе нравится сосать члены по гримёркам? Купи себе гитару. Займись делом. Тогда все известные парни сами будут бегать за тобой.
Она расплакалась и спросила:
— Неужели я так некрасива?
Я ответил, что она прекрасна, и что я могу трахать только тупых куриц, а она особенная. Она ушла в слезах, я провожал её до выхода, постоянно повторяя, что она не такая, как остальные. Даже тогда я снова осознавал, что несу бред. Наверное, уже тогда я предвидел, что мы встретимся снова несколько лет спустя. Парни смотрели на меня как на идиота. В тот вечер я так никого и не трахнул, мне было лень. Моё настроение оставалось романтическим независимо от обстоятельств.
Далее к нам завалился сам Шон, он был совершенно не в адеквате. Мне было не до бурных восторгов, я стал ужасно самодовольным, и в этот раз я не тёк, как сучка. Вблизи он казался мне обычным человеком, при этом совершенно нормальным парнем. Мне нравился его дурацкий акцент, от которого у лондонцев вставали волосы на жопе. Он пригласил нас на автер-пати. Я не мог отказаться. Мы загрузились в его лимузин, который просто ломился от бухла и наркоты. Впервые в жизни я попал на действительно крутую вечеринку. Всё то, что творилось со мной раньше в Москве, было просто детским утренником. Нас ожидали самые горячие тёлки Британии, реки шампанского и горы кокаина. Я впервые попробовал этот чудесный белый порошок. Он был для меня слишком дорогим, и совершенно не пользовался спросом на улице. В первый раз он не произвёл на меня сильного впечатления, потому что отпустило уже спустя полчаса. Благодаря коксу можно продолжать праздновать гораздо дольше. Нас хватило на двое суток. Герман пытался утащить меня домой ещё раньше, пока не ушёл в небытие, вырубившись на сиськах стриптизёрши. Ко мне подваливала какая-то звёздная тёлка. Я видел её лицо на афишах. В «реале» она не блистала красотой: мне показалось, что у неё дряблые сиськи, которые слишком сильно свешиваются из декольте. Она звала меня выпить, но я уже не стоял на ногах.
Я не знаю как, но мы с Германом проснулись в роскошной квартире Шона Фокса, развалившись на его огроменной кровати. Нет, это была не оргия, скорее всего мы просто упали куда попало.
Всё утро он говорил, какие мы клеевые, и что нам надо обязательно сгонять вместе в тур и записать совместную песню, потому что только русские могут посоревноваться с ним в алкоголизме. Я не воспринимал его слова всерьёз, считая их пьяным бредом. С утра этот чувак похмелялся водкой, когда даже я уже не мог смотреть на алкоголь: желудок ныл. Я снова подумал, что надо уходить в завязку. У меня впереди ещё столько классных вечеринок, а тут грёбаная язва. Это ужасно, но, что бы я не говорил ранее, я любил быть пьяным в дерьмо, в хлам, в задницу просто. Потому что только мой алкоголизм оправдывал мои поступки.
Эта вечеринка открыла мне дверь в царство элитарных наркоманов. Это был совсем другой мир — не то, что ребята с улицы, которые заканчивают свои дни в канавах. Эти люди умирают от передозировки в дорогих отелях или выносят свои мозги в шикарных особняках. Я лишь одним глазком увидел их реальность, а мне уже захотелось туда, и я понял, к чему стремиться.
В скором времени мы всё же заключили контракт с лейблом. Если в России в них нет смысла, и можно вечно болтаться как говно в проруби, то здесь это имело большое значение. За нас серьёзно взялись. Я не верил в этот успех, в частности из-за того, что вообще путал реальность и свои миры в голове. Герман периодически напоминал мне об этом, рассказывая, что у нас есть контракт, мы должны записать альбом и отправиться в тур. Нам выдали аванс, и я просто офигел от этой суммы. Я перевёл всё в вещества и возрадовался. Я по-прежнему старался держаться от них на расстоянии, чтобы не подсесть окончательно. Это были танцы на грани. Я боялся срыва.
Я ненавижу студийную работу. Она меня злит. Как только не расслабляйся, всё равно чувствую себя несколько взвинченным. Всё из-за того, что я хочу, чтобы всё прошло идеально, чтобы ничего не помешало мне петь. Но когда парни таскают в гримёрку девок и прочих зевак, мне хочется убивать. Я люблю девочек, я люблю веселье, но не во время творческого процесса. Наверное, я неправильный. Но вы же не таскаете шлюх к себе в офис?
Я полюбил редкие моменты одиночества. Они помогли мне собраться с мыслями. В студии я искал укромные уголки типа туалета или подсобки, закрывался и мог сидеть там часами, играл на гитаре, лазил в Сети. Потом выходил и спокойно записывал свои вокальные партии. Я мог создать себе уголок дома в любом, даже самом неожиданном месте. Я был там, где моя голова.
С Германом же всё было странно, мы не общались по несколько дней, при этом могли находиться рядом беспрерывно. Я любил молча смотреть на него, когда он не видел. Наверное, ему хотелось мне что-нибудь сказать, но он не находил слов. Мы оба погружались в свои закрытые грани. Это было очень мучительно, но я не знал, что мне делать. Иногда этот барьер вдруг таял, и мы могли говорить снова. Я понимал, что проблема во мне. Из взрывоопасного маньяка я превратился в замкнутого меланхолика. Вещества делают всех замкнутыми и отрешёнными. Я сделал над собой усилие и завязал, потому что иначе наши отношения полетели бы к чертям. Я понимал, что легко отделался. Моя зависимость ещё не стала полной и окончательной. Психологически это давалось трудно, но я постоянно пил и курил траву. Это делало меня общительным.
Шон Фокс (из интервью)
Знакомство с музыкой «Opium Crow» стало для меня, пожалуй, лучшим сюрпризом этого года. Я и не думал, что в наше время может появиться группа, которая будет ТАК играть. Эти люди однозначно безумны, но при этом весьма техничны. Я посчитал своим долгом предложить им помощь, так как я хочу быть человеком, открывшим миру «OC» и их безумный мир. Макс Тот, наверное, единственный человек в мире, способный меня перепить. Вот уж действительно родственная душа. У меня в планах записать с ним совместную песню.
Макс Тот.
Дани был очень странным парнем. Я не могу сказать, что мы были друзьями, потому что мы слишком разные. Но чем больше я за ним наблюдал, тем больше обожал его. Он был для меня как приложение к Герману, кто-то преданный ему безоговорочно, но при этом не выглядящий шестёркой. Он любил тупые шутки и обладал своеобразным чувством юмора. В его внешности всегда было какое-то странное сочетание отвратительности с умильностью. Он никогда не причёсывался. Вообще никогда. В его волосах могли спокойно жить птицы и вить себе гнёзда. Мы дразнили его Эдвардом-руки-пенисы, в честь персонажа пародийной порнухи. Дани обижался и считал, что это намёк на его игру. У меня не было претензий к нему как к музыканту. Это же басист, блин. В общем, он напоминал мне смесь детской игрушки и куклы-вуду.
Каждый раз, когда он выходил из дома, с ним что-то случалось. Его пыталась ограбить старушка с детским пистолетом, огромный негр предлагал ему купить отрубленную голову, его сбивал грузовик, но Дани без повреждений добирался домой. Я вообще не знаю, как он это делал? Однажды он напился и уснул на тротуаре, всё бы ничего, но это был сырой бетон. Теперь у него есть своя аллея славы, круче чем в Голливуде. Но вот эта история побила все рекорды. Мы отмечали окончание записи альбома в одном из клубов Сохо (любили мы этот район, полный пидаров, секс-шопов, проституток и самых отвязных клубов города). Все напились в дрова. Я каким-то чудом всё запомнил.
Там было много красивых девчонок, скопление всех видов телок. Мы сидели рядом с Дани. Он встал, сказав, что хочет блевать. Я пожелал ему удачи. Он прорывался сквозь танцпол, отвратительно пританцовывая, как вдруг его стошнило виски-колой на грудь одной из девушек. Как сейчас помню: розовая майка в бурых потёках с кусочками чипсов. Это было отвратительно, твою мать. Он на своём ломаном английском, который за полтора года уже сумел выучить, начал извиняться и пытаться вытереть с неё свою блевотину. Ну деваху стошнило прямо на него. Они оба заржали и покатились в зловонную лужу собственных исторжений.
Самое жуткое в этой истории, что в тот вечер они поехали к ней отмываться, потому что она жила неподалёку. Там у них случился приступ пьяной любви. Они стали встречаться, через месяц поженились. Герман стал свидетелем на их свадьбе. Я подарил им торт, украшенный искусственной блевотиной. Сьюзен (невеста), запустила им мне в лицо. В общем, я не представляю, как они будут рассказывать историю знакомства собственным детям. Я очень попросил его не размножаться, потому что мне казалось, что его ДНК не совместимо с человеческим.
Дани.
Вот что-что, такого знакомства со своей будущей женой я точно не предвидел. Моя жизнь начинала напоминать дешёвую комедию. И смешно, как ни странно, столько лет уже смешно. Я не думал, что какая-то девушка вообще способна всерьёз увлечься мной, особенно после такого случая. В те годы моя самооценка была ровна нулю. Я завидовал Максу и его способности клеить тёлок, не прикладывая никаких усилий. Наверное, прав был тот, кто сказал, что бабы любят тех, кому на них наплевать. А я не такой. Я очень вежливый и с уважением отношусь к девушкам. Таким как я дорога во френдзону.
Мы сидели полуголые на полу, глядя как наши обблёванные вещи крутятся в стиралке.
— Давай сделаем это, — сказала она.
— Если ты про секс, то я почти забыл как это делать, — ответил я немного краснея.
А ведь, и правда, большую часть времени мне просто было не до секса. Да и кандидатур достойных я не встречал.
Сьюзен не только напомнила мне, что такое секс, но так же заставила вспомнить и про чувства. Мне вообще было странно, что какая-то женщина может вдруг полюбить меня просто так, за то что я такой вот есть. А потом я переехал к ней, оставив наш Крейзи Хаус. Это вызвало небольшие нарекания со стороны ребят, но я действительно больше ни дня не мог провести без Съюзен.
Потом я решил, но будь что будет и заготовил пламенную речь.
— Знаешь, — сказал я ей. — У меня ничего нет, но когда-нибудь обязательно будет. И ты не думай, что я это делаю ради гражданства или чего-то ещё но, пожалуйста, выходи за меня замуж просто так.
Она согласилась, а у меня даже на кольцо денег не было. На свадьбу мы нашкребали денег всей группой и праздновали в пабе в компании местных алкашей. Короче, всё по правилам.
Макс Тот.
Всё дело в том, что глядя на Дани, мне становилось чертовски грустно. Мне вдруг тоже захотелось, чтобы какая-то женщина посвятила свою жизнь мне. Мне нужно было, чтобы меня любили и обо мне заботились. Я хочу, чтобы мне готовили ужин и ждали вечером домой. Но у меня даже не было дома — не то, что женщины. Я чётко осознавал, что я не нужен никому, кроме группис. У меня был скверный характер, который я просто не мог контролировать. Я не представлял, что во мне хорошего. Я даже не знал, хорошо ли я трахаюсь, потому что эти шлюхи начинали стонать после первой фрикции.
Я познакомился с Мэри, когда просто стоял и курил в неположенном месте. Она сама подошла. Я начал нести какую-то чушь, что я — поэт-декадант, медленно убиваю себя во имя искусства. Я был под метом и мог нести любой бред. Она была студенткой какого-то местного колледжа, поэтому быстро повелась на эту духовную дребедень. На самом деле, мой подход к поэзии был совершенно другим. Я считал, что она глубоко низменна и ничем не отличается от табуретки. То есть это вовсе никакой не особый дар. Кто-то делает стулья, а я могу делать стихи. Только я делаю это лучше. Искусство с моей точки зрения представлялось чем-то совершенно несопоставимым с моралью, оно жило где-то в своём измерении и мало вообще состыковывалось с жизнью людей. Ты можешь писать про то, как насиловать детей, не имея при этом в виду каких-то конкретных детей и изнасилование. В твоей голове это может быть просто метафорой, не относящейся к чему-то реальному.
Она пригласила меня к себе домой и угостила дешёвым бренди. Я мог пить всякую бурду, включая портвейн, так что меня это не пугало. Мэри сказала, что я смутно напоминаю ей кого-то, но она не могла вспомнить кого именно. Я сказал, что я музыкант, но она имела в виду кого-то вообще другого. Это была отличная мишень — тёлка, не знающая, кто я. Она не была такой уж красавицей, но могла бы сгодиться на роль моей постоянной девушки. Она дала мне в первый же день знакомства. Я стрельнул у неё номер и даже позвонил вечером, чего она совсем не ожидала.
Мэри всё хотела побывать у меня в гостях. Я долго отказывался, потому что не хотел показывать хорошей девушке нашу дыру и весь этот бедлам. Она настояла, я согласился. С первого же дня Герман начал виться вокруг неё, словно змей. Я сразу заподозрил неладное, но кто же знал, что всё будет настолько мерзко. Он валялся на матрасе в комнате, пока мы сидели на полу и курили. Я взглядом намекал, что лучше бы ему уйти. Герман постоянно лез к Мэри с расспросами.
— Что у тебя на футболке? — спросил он, сверля её глазами.
— «Siouxsie and the Banshees», — ответила она.
— Супер, это моя любимая группа, — ответил Герман.
Он врал нагло и подло, потому что никогда не любил их.
— Ты любишь «Cure»? — спросил он.
— Да.
— Давай поменяемся футболками? — предложил он. — Просто так, на память.
— Давай, — ответила Мэри.
Она сняла прямо здесь свою футболку, под которой не было ничего. Герман победоносно уставился на её сиськи. Я не думал, что это такой уж кайф — получать в подарок потную майку Германа, в которой он ходит с сотворения мира. Я не подал вида, что разозлился, просто сказал Мэри, что ей пора, и проводил её домой. Она говорила, что Герман ей совсем не нравится. Просто ей хотелось поставить его в ступор. Идиотизм какой-то. Я чувствовал себя оплеванным.
Мы продолжали встречаться, хотя между нами больше не было доверия. Пока Мэри не было рядом, Герман постоянно повторял, что она дешёвка и жуткая дура. Он говорил это про всех женщин, так что я уже привык. Я пришёл домой из магазина и услышал её крики и плачь из-за двери моей комнаты. Мы вообще в этот день не договаривались о встрече. К тому же, почему она не позвонила мне? И что там, твою мать, происходит? Она выбежала оттуда в слезах, отталкивая меня. Я спросил:
— Что случилось?
Она ответила:
— Отвали.
И выбежала прочь.
Герман сидел на подоконнике с видом короля. Его улыбка сияла во все тридцать два зуба, которые мне хотелось выбить.
— Что ты сделал? — спросил я, срываясь на крик.
— Она ожидала, что я её трахну! — рассмеялся Герман. — Ну ты представляешь? Я жестоко обломал крошку. У неё началась истерика. Она просто конченая шлюха.
Я пытался позвонить Мэри, чтобы узнать, как всё было на самом деле, но она меня послала, так что я до сих пор не знаю, что же было на самом деле.
— Так что считай, что я сделал для тебя дружескую услугу, проверил твою бабу на блядство.
Мы не разговаривали несколько дней. Я даже спал в другой комнате на полу возле пакетов с мусором, только бы не видеть его лицо. В конце концов, он извинился, и мне пришлось его простить, потому что я не мог поступить иначе в данной ситуации.
Вывод из всей истории: ты не должен казаться не собой, чтобы кому-то понравиться. Лучше, наверное, блевануть в харю или выставить себя полным идиотом, чем казаться заумным и напыщенным придурком.
Глава 4
Мы отправились в свой первый тут по Европе вместе с «Wormdace». Страшно подумать, сколько событий стёрла моя память в этой белой пурге и море из виски. Нашей первой остановкой был Амстердам. Тогда я понял, что если и есть рай для меня, то он выглядит именно так. Проститутки, наркоманы, педики, грязь и говно. Я пытался наслаждаться красотой города, но он расплывался перед глазами. Мне хотелось ещё раз побывать в Амстердаме трезвым, но я боюсь, что миссия невыполнима. Слава богу, что туристы, едущие туда, и так морально готовы к разного рода неадекватным личностям. Мы не были чем-то из ряда вон выходящим во всей этой концепции греха.
Города сливались в один огромный мегаполис. После жизни в Москве я привык к тому, что населённый пункт может быть рваным как мозаика и содержать в себе черты старины, навороченного модерна и убогой разрухи. Так же и с Европой. Она просто большущий город. Я вспоминал о событиях только по фото и видео, сделанным Дани. Он был маньяком-папарацци. Ни один аспект нашей жизни не остался без внимания. Он любил фотографировать всё, что мы пили или ели, гостиничные номера до и после, а также наши тупые проделки.
Когда мне надоедало пить или употреблять, я развлекал себя сам. Я любил красить спящих людей, обмазывать их зубной пастой, связывать скотчем. Больше всего страдал Майк. Он просто казался мне удобной мишенью для издевательств, потому что не мог устроить скандал. Он мужественно всё сносил. Спасибо ему большое. Наш турменеджер пару раз закрывал меня в номере, чтобы я не делал ничего плохого, но я перелезал через окно и вершил свои черные дела. Страдали все: группа, техники и рядовые постояльцы отелей. Герман и Дани время от времени присоединялись ко мне, но чаще я делал всё один, вооружившись маркером, как самым жутким оружием тупых приколов. Я был очень восприимчивым к чужим эмоциям. Я чувствовал, как вокруг меня кипит воздух. Это было сильнее наркотиков.
Иногда Шон приглашал меня в свой автобус. Он был куда комфортабельнее нашего. Мы могли говорить часами. Он расспрашивал меня обо всём. Меня удивляло такое внимание со стороны звезды. Я искал какой-то подвох, но так и не находил. Я всё равно старался быть с ним осторожным. У нас обнаружились общие интересы, мы любили одну и ту же музыку и даже книги. Я обычно редко говорили с англичанами о книгах, потому что мне казалось, что на Западе люди мало читают (дурацкий стереотип). Весь последний год я читал исключительно по-английски, чтобы развивать свой словарный запас. Мне хотелось начать на нём думать, но пока не получалось, кроме моментов, когда я был мертвецки пьян.
— Почему ты начал петь? — спросил меня Шон, поджигая косяк.
Пряный дым струился по салону. Стаканы позвякивали в такт колёсам. Группа отсыпалась после бурной ночи. Только мы сидели и болтали, утопая в мягком диване. Два похмельных героя бескрайних дорог.
— Я ничего другого не умел. Вернее, не хотел уметь, — ответил я. — Во мне скопилось слишком много эмоций, и я могу выражать их только так.
— Я тебя понимаю, — Шон поднёс к губам бокал чистого виски, он почти не пьянел. — Когда мне было семнадцать, я отсидел полгода в колонии за серию магазинных краж. Я понял, что пора что-то менять. Я не хотел гнить на тяжёлой и бесполезной работе, я не стремился вернуться в школу. Мне казалось, что я умру, если не вырвусь из этого порочного круга грязных улиц Эдинбурга. Тогда я просто сбежал в Лондон и сколотил свою группу. Мне кажется, так именно Господь избрал меня для великой миссии.
Я чуть не поперхнулся коктейлем. Он говорил это на полном серьёзе. Шон поймал мой вопросительный взгляд и сказал:
— Знаешь, несмотря на свой образ жизни, я очень религиозен. Я верю, что попаду в Ад, и давно с этим смирился. Но это будет не зря.
Мы стали очень близки с Шоном за этот тур. Я души в нем не чаял, и постоянно говорил с Германом о нём, тот кривился и посылал меня подальше. На самом деле, мы оба им восхищались, только обожание Германа граничило с ненавистью, потому что он просто хотел стать им. Это жуткая всепожирающая форма любви.
Я демонстративно стал проводить больше времени с «Wormdace». Они нравились мне как люди. Я узнал у них много полезных вещей относительно музыки. Так получалось, что какое-то время со своей группой мы виделись лишь на концертах. Потом я снова вернулся, боясь совсем отдалиться от них и утратить ниточку понимания между нами. Они же действительно были мне как семья. Самая настоящая семья со своим уродом в виде меня.
Я снова болтыхался где-то между непролазной депрессией и приступами счастья. Я не знал, чего я хочу на самом деле, постоянно метался в крайности. Раньше я не понимал, зачем рок-звёзды громят гостиничные номера, но когда я сделал это впервые, то сразу понял, какой же это небывалый кайф. Я был весел, зол и трезв, когда крушил всё подряд огнетушителем на глазах у перепуганной девушки. Она лепетала мне что-то, кажется, на немецком, но я не понимал ни слова. Она сбежала от меня в панике. Я пришёл в себя и страшно испугался. Я пошёл на ресепшн, признался во всём и заплатил за весь этот беспредел. Второй раз был более безумным. Мы с Шоном взяли огнетушитель и лак для волос. Я поджигал диванные подушки, обои, стулья, а он пытался потушить всё это. Мы радовались, как дети, нами завладели силы первородного хаоса. Мы — просто боги рок-н-ролла и разрушения. Ещё где-то мы пытались сварить глинтвейн в ванной. У нас был ящик вина и гора лимонов. Всё это мы вывернули прямо в корыто, под которым полыхал костёр из стульев. Попробовать этот напиток богов нам так и не удалось. Пришёл Джек и бухнулся прямо в ванну. До кучи он просто нассал туда.
Тур подходил к концу. Мы два месяца колесили по городам и странам. Просыпаться непонятно где и с кем вошло в привычку. Я с трудом приводил себя в чувства перед каждым выступлением. Но я всё равно выходил, потому что обязан был отыграть концерт. Это даже не было моей обязанностью перед публикой. Я не буду сейчас лукавить. Я был обязан сам себе. Я бы перестал себя уважать в случае, если бы не смог выйти. Это единственное дело, которому не мешала моя непролазная лень. Я был очень ответственным, даже если валился с ног с похмелья.
Я перестал заботиться о своём внешнем виде, как раньше, когда я мог начать краситься за три часа до концерта. Я просто оставался собой. С растрепанными волосами, позавчерашним макияжем, в растянутой футболке, которая велика мне размера на три, в рваных обтягивающих джинсах и кедах. У меня постоянно расцарапанные руки и разбитые коленки, потому что я любил падать. Я нравился людям. Я нравился себе и был готов дрочить перед зеркалом. Герман говорил, что я в те периоды выглядел так, словно меня только что жёстко оттрахали в подворотне. Это заводило моих фанов. Таким я и остался на фотоссессиях того времени. Я был переменчив и знал, что завтра, к примеру, могу превратиться в готического принца или брутального мэна, всё зависело от того, как сложится моё настроение.
Когда я понял, что всё закончилось, и это последний город, мне стало грустно. Я не знал, куда мне деваться потом, как бороться с этой меланхолией. Оставалось только ходить по улицам и смотреть на людей. Был канун католического рождества. Я снова думал о том, что у меня никого нет, что даже те, кого я люблю, не смогут заполнить моей пустоты. А мне хотелось чего-то настоящего, а не моего вечного баловства. Всех этих чёртовых людей кто-то любит, а на меня можно только дрочить. Потом почти случайно мы столкнулись с Шоном в баре. У него было похожее состояние послетуровой депрессии. Он меня утешал и поил яблочным сидром. Стало немного легче и проще смотреть на вещи. Он предложил развеяться и слетать в Таиланд завтра же. Я толком не понимал, зачем он зовёт меня. Я подумал, почему бы и нет. Просто мне совершенно не хотелось возвращаться в Лондон. Меня пугала перспектива того, что мы решили разъехаться с ребятами и жить отдельно. Я не представлял себе, как это.
И мы отправились в Таиланд поглазеть на трансвеститов. Сняли домик рядом с пляжем.
Мы отбросили в сторону алкоголь и наркотики, что стало странным для этого царства порочных удовольствий, но мы были сыты по горло кокаиновым послевкусием тура. Наверное, даже были счастливы в своей маленькой утопии. По вечерам мы шатались по клубам, радуясь возможности быть неузнанными. Мы часто играли в одну игру, пытаясь угадать, кто же сейчас перед нами — мужчина или женщина, странно, но это всегда оказывались мужчины. Они были красивы, как ядовитые рыбы. Сверху — блестки и перья, но стоит зайти чуть дальше — встретишь только болезнь и разложение. Должно быть, они все были больны своей диковинной экзотической Венерой, оттого и казались ещё более привлекательными. Живое семя зла. Мы держались от них в стороне, посещая лишь легальные бордели с настоящими женщинами, у которых были справки об их непричастности к любовной заразе. Но с ними я всё равно не почувствовал ничего особенного, зарёкшись на всю жизнь снимать проституток. Я ни на что не променяю ощущение подлинной страсти, которое не сможет дать мне ни одна из жриц порочного культа.
В этом мирке полусонного блажества я начал скучать по Герману, его угрюмому взгляду и вечному недовольству. Он не давал мне расслабиться, не давал забыться. Рядом с ним у меня было вдохновение. Здесь же стоял вечный штиль. Озеро моей души было так же тихо, как и море за окном. Чтобы творить, я должен пребывать в стрессе. Мы пытались написать песню с Шоном. Всё выходило картонным и неживым. Я уже было расстроился, что не смогу больше вообще ничего написать. Но я верил, что это пройдёт, стоит только с головой нырнуть в горную реку моей жизни.
Мы вернулись домой. Сразу же из аэропорта я двинулся в нашу дыру, хотя Шон очень хотел побыть со мной. Я не мог, у меня от него начался передоз. Дома я застал странную картину: Джек закрашивал роспись на стенах, а мусор давно вынесли. Здесь стало как-то просторно и пусто. Тогда я понял одну важную вещь — мы все повзрослели. Мы больше не кучка безбашенных панков, мы — взрослые самостоятельные люди, у которых есть деньги и собственная жизнь. Пора было выметаться.
Я снял небольшую квартиру-студию в Южном Лондоне. Принёс туда одну единственную сумку своего барахла. У меня никогда не было много вещей. Сел на пол и задумался о том, что же теперь делать дальше. Я никогда не жил один, я не привык распоряжаться собственными средствами. Это пугало. Мне было двадцать два, уже почти двадцать три, но я так и не научился жить. Мне было страшно спать одному в своей большой кровати. Я не хотел никого видеть. Я целыми днями лежал и смотрел в потолок, заказывал еду через Интернет, большая часть оставалась тухнуть на столе.
Когда Герман загремел в реанимацию с алкогольным отравлениям, я впервые очухался. У меня появилось чувство вины. Я совсем забыл о нём, я не думал о том, что у него тоже проблемы, что он страдает. Я был весь погружён в себя. Во мне снова проснулось желание всем помочь и спасти. Он не хотел никого видеть, пока лежал в больнице. Я долгое время мучился неведением касательно его самочувствия. Когда он вернулся, я начал проводить с ним больше времени.
— Я вдруг подумал, что достиг всего, и выпил залпом бутылку «Белой лошади» после того как начался в баре всем подряд, затем добавил транквлизаторов. Я слышал, от этого умирают, но, кажется, я бессмертный, — сказал Герман, разводя руками. Он был в несколько приподнятом и циничном настроении.
— А знаешь, что самое странное? — добавил он. — Это то, что я так и не разлюбил этот сорт дерьмового виски.
Но эти приступы самоиронии и веселья часто сменялись гранями пустого отчаянья. Тогда я носился с ним, постоянно выслушивая бессвязный поток нытья. Отвалил нехилую сумму денег, чтобы он сумел расплатиться с долгами. Мне было не жалко. Я просто понял, что мог потерять его, и мне стало страшно. Он сказал, что я стал таким же, как во время нашего первого знакомства.
Джек начал пропускать репетиции из-за проблем с наркотиками. Он просто отрубался и не помнил, какой сейчас день, месяц и год. Он врал мне, врал изощрённо и подло. Я всегда выводил его на чистую воду, потому что сам был наркоманом. Я отправил его в феерический запой и поил водкой всю неделю, чтобы яд окончательно покинул его тело. Это был единственный известный мне верный способ снятия ломки. Он постоянно блевал, дристал и требовал дозу; он верил, что один маленький укол поможет ему бросить. Тогда я насмотрелся много всего нелицеприятного, радуясь, что пока ломка обходила меня стороной. Потом мне казалось, что я делал всё из чистого эгоизма, чтобы доказать себе, что я не такое говно, как Джек, что я ещё не так опустился. Я снова был святым, белым и пушистым.
Герман Кроу.
Пока Макс откисал в Таиланде я работал над новыми аранжировками песен. Мы все работали. А Макс говорил, что его работа — это быть собой, это думать и жить, потому что без этого он не выдаст ни одного осознанного текста. Я ему в этом плане завидовал. Его голос всегда с ним.
Наши взгляды на музыку начали сильно расходится: мне хотелось гнуть свою линию, а он же больше ударился в сторону востребованного мейнстрима, как мне казалось. И это был первый момент осознания, когда я с ужасом понял, что он не моя родственна душа, а совершенно отдельная цельная личность. Отсюда и росли корни наших разногласий. Все эти споры о природе нашей музыки просто выбивали меня из колеи. По возвращению мы крупно повздорили. Нам обоим вообще противопоказано ссориться. Мы овны по гороскопу и будем идти до последнего. Мы весьма талантливы на оскорбления, мы знаем, где у каждого из нас болит, чтобы вовремя туда ударить. Наверное, это одна из тех причин, почему мы так долго оставались вместе: никто из нас не хотел видеть другого в качестве своего врага. Страх — самый прочный клей для взаимоотношений. Мне было бы страшно, если бы такой человек, как Макс Тот стал вдруг моим злейшим врагом, ему бы хватило сил уничтожить меня и стереть в порошок. И не потому что он сильный, просто знает меня лучше других.
Тогда поздним вечером я нагрузился до беспамятства в баре в Сохо. Не помню, как вернулся домой, но у меня ещё хватило сил нашарить в шкафу бутылку «Белой лошади». Я всадил её всю… Врагу бы не пожелал такого счастья. Как проснулся в реанимации, я тоже уже не помню. Говорят, от такого умирают, но в молодости у меня было просто конское здоровье. Было…
Глава 5
Макс Тот
Я давал интервью, сидя в гримёрке перед большим сольным концертом. На столе стояла бутылка «Джека», на серебряном блюдце — ровные дорожки кокаина. Я знал, что всё это дешёвая показуха, но решил держать свой имидж и проявить немного изящного позёрства. Я всё ещё не чувствовал себя рок-звездой, да по сути и не являлся таковым; я сидел на антидепрессантах и страдал мигренями. После концерта я собирался ехать домой и спать. Я надел круглые очки, чтобы журналистка не увидела, что я не упорот. Меня очень утомляло всё вокруг. Я не любил интервью, потому что там меня обычно спрашивали вовсе не о том, что мне хотелось рассказать миру. А в целом, это очень бессмысленное занятие, потому что всё, что я хотел сказать, я излагал в своих песнях. Но люди были готовы урвать даже подобные словесные подачки, несмотря на их бренность.
— Будешь? — спросил у журналистки, указывая на тарелку с коксом.
Она покачала головой. Мне показалось, что она меня боится. Я никогда не думал, что могу выглядеть как псих или просто животное.
— Вы проделали трудный путь к славе. Что вы чувствуете сейчас? — спросила она, ёрзая в кресле.
Я рассмеялся, подумав о том, что она вся течёт от страсти и отвращения ко мне.
— Я не думаю, что он завершён. Мы покорили Европу. На очереди весь мир.
— Вы — первая рок-группа из России, имеющая такой успех. Как вам это удалось?
— Я бы не сказал, что первая. Наверное, были и другие, но я их не помню. Я бы соврал, если бы сказал, что это была случайность. Нам пришлось приложить большие усилия: пот, кровь, слёзы. Всё воздается. Не бывает напрасной траты энергии. Остаётся только верить в себя или застрелиться.
«Боже, что за бред я несу», — думал я тогда.
— В вашей музыке встречаются мистические мотивы. Это какие-то элементы русского фольклора?
Я рассмеялся. Мне вдруг показалось, что слишком много нездорового смеха для этого интервью.
— Нет. Это всё из моей головы. К тому же в новом альбоме будет больше социальных тем, психологических изворотов сознания и межличностных проблем. В целом, мистика — это просто метафора. И упоминание в моём творчестве бога, тоже ничто иное, как метафора. Кстати, а вы не задумывались, что бог сам по себе тоже является лишь метафорой?
Она ничего не ответила, переходя к следующему вопросу.
— Откуда вы черпаете вдохновение?
— Из жизни. Я могу проснуться под столом с диким желанием творить. Я вижу на улице проститутку и пытаюсь прочитать её жизнь по глазам. Я смотрю на мёртвого голубя на асфальте, и мне хочется летать. Я просто выдумываю какую-то историю из головы или собственных снов. Всё, что угодно может послужить идеей для новой песни.
Потом она спрашивала меня про личную жизнь, я сказал, что одинок и верю в любовь. Мне просто посоветовали именно так отвечать на данный вопрос. Я не хотел раскрывать все карты. На тот момент у меня была подружка-француженка, которую я подцепил на одной из вечеринок. Но я не думал, что у нас было что-то очень серьёзное.
Последовал вопрос о моих творческих планах. Я отвечал, что понятия не имею, меня, может быть, не станет завтра, так что я не могу себе позволить загадывать. К концу мне показалось, что я не умею давать интервью и говорить красивыми пафосными фразами, которые потом можно разбирать на афоризмы. В отличие от Германа, который на вопрос: «Как вы познакомились с другими членами группы?» ответил: «В баре я встретил бомжа, это оказался Макс Тот, так всё и завертелось. С Дани мы познакомились в метро. Мне показалось, что чувак с таким тупым выражением лица просто обязан быть басистом. Джека и Майка я встретил в гей-клубе. Наверное, вы спросите: почему я был там? Но это уже другая история».
* * *
Мы решили, наконец-то, снять нормальный клип. У нас уже было несколько видео, но на роль полноценного клипа они не канали. Всё потому, что я не очень представлял себе видеоряд на свои песни, хотя мне нравилось клиповое искусство. Я не любил стандартные ролики, где показывается выступление группы в различной атмосфере, это было скучно, как кадры с репетиции. Мы решили показать нашу жизнь, полную шизофрении и безумных игр сознания, выраженную через мою систему метафор. Это было то, что я обычно видел за шторами век. Теар абсурда, ютящийся в моей голове. Местом действия стала обычная квартира, покрытая наркоманской живописью, что-то в духе того, что было в нашем логове когда-то. Я отчасти выступил в роли декоратора съемочной площадки. Стены украшали мои собственные рисунки. Я вообще отвратительно рисую, но лет через тридцать это можно будет продать на аукционе за большие деньги.
Герман отказался что-либо делать, поэтому в клипе можно было увидеть его валяющимся в углу с гитарой возле могильной плиты. На его плече сидел настоящий ручной ворон и пытался выклевать ему глаза. Герман был так удолбан, что не замечал ничего вокруг. Я ходил и кривлялся на фоне стен, пинал бутылки босыми ногами. Моя кровь была настоящей. Дани играл роль большого уродливого кролика с оленьими рогами, который сношался с моей ногой. Майк висел в петле. У него напрочь отсутствовали актёрские способности, так что он подобрал себе лучшую роль. Джек играл на унитазной барабанной установке, подключённой к капельнице с напитком имени себя. В финале я подарил уродливой девочке букет маков, и она стала прекрасной принцессой.
Было очень странно проснуться утром с бодуна, с трудом привести себя в порядок, чтобы на съёмках тебя снова загримировали так, будто ты пил и ширялся уже месяц кряду. Видеоряд оказался в чёрно-красных тонах. Свет постоянно мелькал. Комната наполнялась дымом, словно от гигантского косяка. Камера дёргалась так, будто у нашего оператора вместо рук были вибраторы. Всё это могло вызвать у любого зрителя припадки эпилепсии. Эдакая дань моде типичным клипам 90-х. Наш продюсер рвал волосы на жопе, ему казалось, что это будет провалом, но он ошибался. Клип довольно долго держался на верхних строчках чартов. Сейчас я не могу на него спокойно смотреть, но он отражал всю упадочность нашего образа жизни.
Несколько отрывочных мыслей, записанных мною в тот период. Я вёл открытый блог в интернете. Писал скорее для себя, закрывая все комментарии.
«Наркотики
Просто весёлое самоубийство в рассрочку. Может ли это пугать того, кто мёртв изначально? Даже самый ужасающий бэд-трип будет в сто раз лучше нашей реальности. Даже смерть кажется мне притягательной и лёгкой. В наш век все только и занимаются тем, что сублимируют, эскапируют и дрочат. Я просто неожиданно нашёл свой выход.
Я читал статью про то, что на Эвересте не убирают трупы погибших альпинистов. Это меня слегка напугало. Люди сознательно лезут в горы для того, чтобы стать кусками мороженного мяса. Альпинизм тоже убивает людей. А их там сотни, тысячи. Но, тем не менее, это считается полезным, интересным занятием, которое развивает дух, учит преодолевать опасности. Чем это лучше наркотиков? И то и другое точно так же убивает.
Неужели у нас не должно быть право выбора? Почему тот, кто умер на войне, считается героем, а смерть от передоза не кажется таковой? Мёртвый наркоман тоже пал в битве… с самим собой, только, в отличие от солдата, он победил.
Советские дети не слышали о наркотиках, поэтому мечтали стать космонавтами. Со временем они научились открывать космос внутри.
Деньги
Счастье, как известно, не в деньгах. За них нельзя купить самое главное, но зато они заметно облегчают душевное состояние. Одно дело, когда тебе плохо, потому что бросила девушка, ты идёшь в магазин, покупаешь дешёвый портвейн. Ужираешься им в хлам. Наутро просыпаешься в блевотине, мучаешься последствиями алкогольного отравления, жуткой головой болью. И тут приходит осознание, что всё это не стоит того.
Совсем же другое, когда тебя бросила девушка, ты покупаешь «Хенесси» и просыпаешься утром в постели с какой-то красоткой и понимаешь, что та тёлка не стоила твоих печалей.
Бывали времена, когда я жил совсем без денег. Это вполне реально, но не очень приятно.
В мире неправильно всё. Нам это никогда не исправить. Просто нужно больше денег, чтобы вырваться из системы. Учись, работай, сдохни. Я сделал свой выбор, я сумел этого избежать».
У меня ещё была заметка про любовь, но я её удалил. Наверное, это символично и соотносится с данным периодом моей жизни. Мне тяжело что-то вспомнить. Всё было таким сумбурным, у меня в голове множество ярких воспоминаний, но они — как отражение в разбитом зеркале. Мои попытки гонзо-журналистики шли прахом. У меня никогда не было под рукой пишущего устройства, чтобы рассказать о том, что я видел и чувствовал в данный момент, когда мимо меня в туннеле метро проплывал осьминог или мёртвые дети стучали мне в окна. Всё-всё напоминало большой арт-хаус.
* * *
Новый альбом было решено записывать в Штатах. Лейбл прессовал нас за то, что наш первый официальный диск не стал платиновым (записанный в Москве альбом не числился в официальной дискографии группы). Он был всего лишь золотым в Британии. От нас ожидали большего. Я как-то особо не парился из-за продаж дисков. Я был слишком пофигистичен, когда дело касалось таких формальностей. Это заботило Германа, который регулярно ругался из-за того, что нам выплачивали не все деньги, по его мнению. Пару раз ему удавалось добиться своего.
Я ужаснулся, увидев Нью-Йорк. Он был как утрированная Москва. Ещё более жёсткий мультикультурный коктейль. Здесь было столько людей, что моя социопатия грозила мне новым приступом. Тем не менее, мне очень понравились прогулки на машине по ночному городу. Я любил смотреть издалека на колоритных нью-йоркских бомжей с тележками, негров, трущихся на углу и метамфетаминовых проституток. Я люблю изучать низшие слои общества в разных городах и странах. Я сам был таким.
А днём эти пробки, вечный гул. Я ненавижу места, облюбованные туристами, так что не пошёл вместе со всеми глазеть на статую свободы. Говорят, что мегаполисы вызывают депрессию. Так вот, здесь моя голова была готова взорваться. Зато мне очень понравилась местная студия с новой современной аппаратурой. Не порадовало пиво, оно было похоже на мочу крепостью в полтора градуса. Так что пришлось довольствоваться старым добрым «Джеком». Знакомые мне американцы оказались слабы в алкогольных марафонах, это я понял сразу. Зато у них хорошо обстояли дела с наркотиками. К нам приставили даже некое подобие диллера.
Надо отметить, что с нами была моя девушка Инэс. Я особо не возражал, потому что будет кому тащить меня до дома. Наши отношения являлись таковыми, что мне становилось всё равно: она или местные шлюхи.
Она стала для меня вечным раздражителем, но я не хотел от неё избавляться. Она вносила в мою жизнь остроту.
Потом я попал на самую адскую вечеринку в своей жизни. Помню, как переступил порог этого огромного особняка. Дальше были лишь разрозненные картины, которые моя память хранила в картотеке безумных событий. Голые женщины, покрытые блестками, статуи в форме хрустальных дилдо, целый фонтан пунша. Я не видел такого даже в кино. Ярче, чем самый правдивый сон. Повсюду стелился чарующий сладковато-пряный аромат. Я думал, что это благовония, но нет, это оказался опиум. Красивая азиатка предложила мне длинную тонкую трубку. Я сделал одну затяжку и провалился в её глаза. Это не метафора. Я смотрел в них и понимал, как пролетаю сквозь эти два туннеля одновременно всеми своими семью телами. Я взорвался, я умер, перестал существовать. Я плыл в огромном океане души. И я понял, что все вокруг — плоды моего воображения. Существую только я. Если моя клиническая смерть ранее дала мне соприкоснуться с Богом, то теперь я сам стал Творцом. Я видел всё, что хотел видеть, я создавал миры, я рушил их. И всё это время совершенно не чувствовал своего тела. Его и не было в тот миг.
Я очнулся в круглой комнате. Красно-чёрые тона под стать миру моих видений. Приглушённый свет лился из огромных абажуров в форме маковых цветов. Подо мной — мягкий ворс ковра и шёлковые подушки. Оставалось только созерцать причудливую игру золотых ручейков света на чёрном потолке. Откуда-то доносилась музыка, но было слышно одни басы — я чувствовал их самым мозгом. Я был совершенно голый и мог ощущать всей кожей прикосновение ткани и шерсти. Меня ласкали чьи-то руки. Непонятно — мужские или женские. Мне было совершенно наплевать на то, что происходит со мной. Но я чувствовал на себе чей-то взгляд. В кресле полулежал Герман. Он был одет и даже не снимал шляпу. Тень падала ему на лицо, делая его похожим на злое чёрное божество. Он курил трубку и сверлил меня глазами. Сквозь дым я видел изумрудное мерцание его глаз. Это лицо ничего не выражало, но я чувствовал, как он зол на меня. За гранью наркотического дурмана во мне шевелилось чувство вины. Чьи-то руки и губы пытались отвлечь меня от всего.
Это была безумная оргия. Я словно сношался с огромным многоруким пауком, склеенным из человеческой плоти. У него не было глаз, лиц, только, руки, рты и множество отверстий. Было мерзко, но я ничего не мог поделать. Возбуждение и опиум делали своё дело. Я проваливался куда-то вглубь себя. Когда я очнулся, дым развеялся. Рядом сидел Герман и смотрел мне в глаза.
— Что такое? — спросил я.
— Ты идиот, — ответил он, словно только что это заметил.
Вы думаете, я остановился?
Тогда я с трудом нашёл свою одежду. Мы с Германом загрузились в машину. В тот миг я ощутил всю прелесть богемной жизни, блюя из окна лимузина. В отеле, как ни в чём не бывало, спала Инэс. Я пришёл, разбудил её диким грохотом. Раскидал ботинки по комнате. Перевернул всё верх дном. Потом попытался лечь спать. У меня была бессонница и «вертолёты». Мир качался на волнах тошноты. Инэс ещё сказала мне:
— От тебя воняет. Иди в ванную.
Ещё бы от меня не воняло после такого!
В тот момент я понял, что меня раздражает её акцент. Он был такой мерзкий, как кваканье лягушки. И кровь у меня в ушах уже начала булькать. Я всё же попытался лечь в ванную, но вода оказалась слишком горячей. Я совсем не догадался отрегулировать её. Я вылез и стал перерывать всё в поисках кокаина. Мне вдруг показалось, что только так мне станет лучше. Я разбавил его в «Хенесси» и выпил. Стало резко не до сна. Моё чувство вины перед собой улетучилось. Дико захотелось тусить; плевать, что шесть утра. Я стал искать чистую одежду. Пришлось напялить шмотки Инэс. Я ничего не нашёл лучше женских джинсов, дурацкой майки с вырезом и розовой шубы. Я подумал о том, что надо завести себя тёлку с нормальным гардеробом. Я пошёл скитаться по городу. Прохожие в ужасе шарахались от меня. Я видел своё лицо в отражении витрин. Растрепанные обесцвеченные волосы, растекшаяся подводка, трёхдневная щетина. Я почему-то казался себе таким божественным, что мне хотелось себя немедленно трахнуть. Хотя, скорее всего, я смотрелся просто отвратительным клоуном трансвеститом. Какой-то старый извращенец предложил мне перпихнуться за полтинник, я не смог ничего ответить, просто блеванул ему под ноги. Всё происходящее со мной напоминало мне какой-то артхаус. Я словно со стороны наблюдал себя в дурацких шмотках, бредущего по Нью-Йорку. Я содрогался от ненависти и восхищения в смехе и слезах.
Я успел пройти пару кварталов, прежде чем меня скрутили копы. Я не помню, чтобы я сопротивлялся, но мне пару раз довольно больно приложили по голове дубинкой. Меня кинули в камеру к какими-то бомжам. Мне повезло, что они были тихие, а то в таком виде меня запросто могли бы прикончить какие-нибудь отморозки. Тут я и провёл три самых жутких часа в своей жизни. Кокаин обострил мою паранойю. Я сидел и на полном серьёзе ждал, когда меня расстреляют. Всё. Что оставалось — это мучиться своими ужасные видениями. Под конец, когда я уже собирался разбить себе голову об бетонный пол, появился Германи внёс за меня залог. Сказать, что он был зол на меня, это просто ничего не сказать. Я думал, что меня убьёт этот взгляд.
Моя проблема была в отсутствии тормозов. Если нормальный человек мог прийти на вечеринку, выпить там пару коктейлей и спокойно уйти домой, то я не останавливался, пока не выпью всё содержимое бара. Если кто-то, поняв с утра, что сильно перепил с вечера, останавливается, чтобы прийти в себя, то я же напивался ещё сильнее, чтобы заглушить это чувство вины и отвращения. Порой это выливалось в целые недели беспробудного пьянства. С наркотиками дела у всех обстоят примерно одинаково.
Глава 6
Нагрянул Шон. У него закончился тур по Америке, он решил присоединиться ко мне. Мы вместе зависали в студии. Он давал довольно дельные советы, чем раздражал Германа, но тот боялся открыто демонстрировать свою неприязнь. Он просто вставал и уходил каждый раз, делая вид, что у него какие-то неотложные дела. Я оказался зажатым в тупике между тремя людьми — Шоном, Германом и Инэс, которая тоже любила торчать с нами. Она прибегала каждый вечер с полным пакетом наркоты. Улыбалась и щебетала со своим французским акцентом. Инэс нашла подработку моделью в Нью-Йорке, чем очень гордилась. Ей казалось, что теперь она тоже часть богемы и может закидываться наркотой без меры. Знала бы она, чем это обернётся для неё через пару лет. Она умрёт от передоза в дешёвом мотеле. Незавидная судьба. А пока она танцевала с белым змеем, не зная страха. Наркотики сблизили нас всех. Мне вдруг начало казаться, что у меня самые чудесные друзья, девушка, группа. Я испытывал новый подъём. Я записывался только накурившись опиума, мне казалось, что так мой голос звучит особенно. От моей депрессии не осталось и следа.
Однажды, проснувшись утром, я понял, что меня знобит. Лихорадило, трясло, тошнило. Решив, что это просто похмелье, я отправился в студию. Меня скручивало. Я просто не мог петь, как и вообще стоять на ногах. Такого раньше не было. Это продолжалось полтора дня. Я валялся в кровати, обливаясь потом. Думал, что у меня грипп. Даже лекарства пил, но не помогало. Я действительно не понимал, что происходит. Вдруг у меня СПИД, и я умираю? Меня всё раздражало: солнце, звуки, цвета. Потом Джек сказал мне, что это ломка. Я подсел. Твою мать, я подсел! Мне казалось, что я всё смогу, что я держу всё под контролём, что у нас с героином свободные отношения, но это оказалось слишком длительным романом. Я держался так уже пару лет, успевая вовремя отойти в сторону. Надо было что-то делать, я не мог слазить во время записи альбома. Это отняло бы много времени и сил.
Я позвонил местному барыге, купил себе херову тучу героина. Я решил вмазываться внутривенно для большего эффекта. Птытался сасадить себе героин в вену на ноге, но нихена не получалось, от этого я сильно нервничал. Я уже когда-то эксперементировал с иглами и глазными каплями в Москве. Вогнал себе в ногу пару кубов и отключился возле сортира.
Шон сказал мне, что ни в коем случае не стоит делать так, ибо можно заработать гангрену. Он помогал мне колоться. У меня самого это плохо получалось. Мои вены залегали слишком глубоко, но он со своим богатым наркотическим опытом мог найти туннель везде. Это был ритуал: развести порошок водой, подогреть на свечке, профильтровать через ватный диск, набрать в шприц, выпустить воздух. Перетянуть руку шёлковым шарфом, нащупать вену, взять «контроль», вколоть и откинуться.
Вместе со мной Шон вернулся к героину. Я чувствую себя виноватым перед ним, но тогда мы снова были счастливы. Я кололся утром, чтобы быть бодрым и идти в студию, потом вечером, чтобы спокойно заснуть. Это была совершенно нормальная «система», которая помогала мне держаться в форме.
Мы все торчали, так или иначе, на чём-то своём. Но, тем не менее, понимали друг друга. У нас была некая коммунистическая нарко-утопия. Коммунизм возможен только в закрытом коллективе торчков, когда наркотики общие, и чтобы получить их, надо работать вместе. Каждый из нас был занят своим делом, и никто не оставался обиженным. От каждого по способностям — каждому по потребностям. Хотя, вообще-то, по политическим убеждениям я — анархист.
Альбом был готов. Хотя я до последнего стремился что-нибудь в нём изменить. Мне просто не хотелось прекращать этот чудесный миг созидания. Это была лучшая сессия звукозаписи за всё время. Я даже полюбил Нью-Йорк. Дома я всё больше и больше западал в свой мир. Мы с Инэс как-то плавно разошлись, просто забив друг на друга.
За всей этой кутерьмой я и не заметил, как мы стали известны. Мне уже наскучило читать в Сети этот набор однотипных статей и отзывов на форумах. Они не скажут мне ничего нового. Я поражался стремлению моих тогда ещё коллег по московской сцене ругаться со всеми в Сети, отстаивая своё доброе имя. Поверьте, настоящей звезде нет до всего этого дела. Моё общение с поклонниками было односторонним и ограничивалось постами в «Твиттер». Я не отвечал на письма и даже не читал их. Я не знал, что сказать всем этим людям. Наверное, они хотели поделиться со мной своей болью или сказать, что понимают меня. Но это разные вещи. Мне не хотелось выделять кого-то одного из целой массы. Группис были не в счет. Им не был важен мой внутренний мир. Они считали меня милым. Мы просто тусовались и трахались. Это идеальная форма общения.
Я подходил к зеркалу и смотрел на своё лицо. Это была какая-то застывшая маска, идеальная, без эмоций. Мои глаза оставались стеклянными. Но всё словно держалось на старом клейстере. Стоит только моргнуть, и кожа треснет как старая штукатурка или провиснет морщинам. Именно за это я и любил лица наркоманов — за хрупкость и тленность этой болезненной красоты. На этой стадии все они ещё прекрасней, а потом начинают заживо тлеть. И я любил себя таким — эти впалые щёки, провалы глаз и фарфоровую кожу. Мы подчёркивали своё состояние гримом, потом с удивлением смотрели на наш стилизованный мейк в модных журналах. Героин был им к лицу.
Перед отправкой в турне я решил «отколоться», как бы странно это ни казалось, но я бы не хотел, чтобы ломка застала меня в самых неожиданных местах. Вдруг я окажусь там без героина? Я отключил телефон, забил дверь гвоздями, то же самое сделал с окнами. Запасся всем необходимым на неделю: водкой, водой, лимонами, йогуртами, феназипамом, прихватил даже пакет марихуаны на всякий случай. Сделал последний укол и завалился в койку.
Самым жутким было ожидание ломки. Это как зверь, что постепенно подступает к тебе. Она парализует твои конечности, сковывает твоё сознание. Когда организм весь подчинён этому дерьму, становится очень трудно от него отказаться. Постоянно стучит в висках, болит голова, как огромный разогретый котёл. Я лежал на кровати, скорчившись как мёртвый эмбрион. Самое ужасное — это то, что начинают подкатывать галлюцинации и образы внутри сознания, когда я начинаю путать реальность и сны, потому что спать не могу от этой жуткой боли и тоски. Даже водка и феназипам помогают слабо. Зря я принял их вместе.
Образы… снова образы… В течение нескольких дней один большой ад вокруг. И я в центре этого водоворота.
Бордель из «Торговки Детьми», только в рисовке Суэхиро Маруо: они трахают маленькую девочку, душа её собственными кишками. Маленькая шлюха молчит: наверное, хочет ещё. А рак горла лечится отсечением головы с последующим актом в шейный проход.
Мне явился мёртвый человеческий эмбрион, который рассказывал о том, что долг каждого — убивать своих родителей.
Ты трахал карлика и вслух размышлял о высоком. Я носил в сумке пистолет и Библию, блуждая по лабиринтам Лондона. И весь мир растворялся, обращаясь химерой в гнойных ранах. Мы все, наверное, успели побывать ею. Мои любимые многокомнатные катакомбы. И не понятно — это слишком глубоко под землёй, чтобы стать невыносимым, или просто всё завязло так высоко в облаках, что дышать становится нечем. И все в итоге вышли из одной химеры.
Периодически я снова в реальности. Мне кажется, я с кем-то говорил и плакал, я рассказывал, как мне плохо. Я звал маму. Я совсем не думал о своей настоящей матери, она была мне безразлична. Я скорее о каком-то земном воплощении бога, который каждый вкладывает в слово «мать». От этого я ещё больше разрыдался.
Мои предки стояли в комнате и смотрели на меня.
— До чего ты докатился? — спросил отец.
Он был настолько в гневе, что уже не мог кричать. Мама плакала. Стало до ужаса обидно, что их единственный сын — чёртов наркоман, который умирает от ломки.
— Идите вы в жопу! — закричал я.
Сознание прояснилось, я смог понять, что никого здесь нет, а всё это просто игры моего разума. Мне совершенно не жалко было умереть сейчас. Они там в своей хрущёвке, а я в лондонской квартире. Я плюнул на всё и уснул.
Всё играет разными цветами, оттеняемыми сплошной чернотой тени. Старая Европа, каналы, мосты, бездонное небо, лазурная вода рек. Разведённая акварель. Отсветы воды на старинных фасадах. Всё настолько сюрреалистично, что кажется нормальным. Со мной те, кто резкими контрастными контурам отсвечиваются на фоне света. Тени тянут меня за собой. На миг я останавливаюсь на мосту. На меня смотрит Сторож из будки. Чёрный силуэт на фоне яркого света. Тени боятся его. А я достаю из кармана шприц, уже наполненный чем-то цвета этого мира, похожим на воду канала. Игла болезненно врезается в вену. «Сторож смотрит! Не надо!» — кричат они. Но я знаю, что стоит сделать. Я пускаю по венам этот странный и чарующий мир, разрушая всё вокруг, обращая пространство в сплошную акварельную радугу без теней и полутонов.
Потом следовали провалы и неясные видения. Поезд снова нёс меня куда-то, где я вроде бы был раньше в прошлых снах. Чёрно-красное видение. Розы и грязный пол. Пятна крови на стёклах. Родной мир.
Когда я проснулся, мне стало значительно легче. На руке лишь сиял свежий укол. Я не знаю, что со мной было, но это не походило на обычный героиновый приход. Я просто пустил в вену воду своего мира. Я смог ощутить то, что я так долго создавал в внутри себя. Теперь в тяжёлое время я просто уходил в свой город.
* * *
Мы почтили своим присутствием Европу и Америку. Я чувствовал себя лучше, в том числе и в психологическом плане. Мы поехали туда, где я ещё ни разу не был. Ирландия находилась всего лишь на соседнем острове, а я так раньше и не удосужился туда сгонять. Я просто сходил с ума от количества рыжих. В Англии их тоже хватает, но вот там — это просто какое-то огненное море рыжих голов. У них такие милые веснушки. Снова были в Голландии (я опять плохо помню). В Германии Дани постоянно пытался кинуть зигу, я держал его изо всех сил. Много смешного, тупого и нелепого произошло с нами за эту поездку. Я не смогу припомнить всего. Хочется рассказать только про что-то значимое.
На наш с Германом день рожденья мы приехали с концертом в Новый Орлеан. Мне исполнилось двадцать четыре, ему, соответственно, двадцать семь. Он уже устал от дурацких шуток про дробовик или передоз. Воронёнок был сильно не в духе, сказал, что не хочет отмечать эту дату в шумном кругу. Он хотел отправиться гулять один, но я настоял на своём обществе. Мы посидели в баре на Бурбон-стрит, вспоминая Москву, нашу первую встречу в баре, стилизованном под Н.О. Кто знал, что подделки порой выглядят достовернее оригинала? Здесь было почти пусто: запах дерева, виски, специй. Гирлянды цвета Марди-Гра. Мне было хорошо и легко, я чувствовал себя так, словно я дома, в городе чёрной магии вуду.
Ночь стояла прохладная по местным меркам — где-то плюс семнадцать. Я любил края, где всегда тепло. Я ходил в футболке, в то время как Герман был всегда упакован в кожаный плащ и шляпу. Не жарко ли ему? Он вообще становился не в меру адским. Длиннющие волосы, ниже задницы. Всегда распущенные, но при этом идеально причёсанные. Цвет воронова крыла. Я знал, что они крашенные, но я никогда не видел у него отросших корней, хотя сам мог не красить волосы месяцами. Он достал на барахолке огромную шляпу. Что-то подобное было у вампира в старом аниме. Его кожаный плащ был тяжёлым, как рыцарская броня. Наверное, это был его доспех от мира, в котором он прятал своё тонкое и хрупкое тело. Сейчас Герман был весь в пирсинге. Иногда он вдевал цепочку от носа к уху, что-то наподобие того, как делают индийские женщины. Он начинал плавно покрываться татуировками. Его пальцы были в таинственных символах, и даже на веках красовался тоненький узор. Я всё ещё оставался чистым холстом, а проще говоря, девственником в плане бодимодификаций. У меня не долгле вемя было кольцо в носу и в брови, но очень скоро это мне надоело.
Мы добрались до знаменитого кладбища Лафайет, когда совсем стемнело, только огни города маячили вдалеке. С нами была бутылка шартреза. Всё по канонам нашего тёмного мира. Здесь вместо надгробных плит стояли мраморные саркофаги, так как из-за водянистой почвы часто размывало могилы. Кое-где в чёрной земле белели кости. Я хотел подобрать одну и сделать себе талисман. Герман настрого запретил это, потому что за нами мог увязаться злой дух. Порой он был до ужаса суеверен.
Впереди показался склеп. В свете луны на его обшарпанных стенах можно было различить косые буквы «Х». Я припоминал, что это как-то связано с Бароном Субботой и желаниями. Я поставил пять неровных крестиков углём и сразу же забыл, что именно я попросил. Я не верил в желания. Герман долго думал, прежде чем нацарапать эти символы на стене склепа.
— Что ты загадал? — спросил я.
— Не скажу, а то не сбудется, — ответил он.
Мы пили ликёр, прислонившись к одному из саркофагов. Над нами висела огромная красная луна. Воздух пах испарениями с болот. Над головами носились летучие мыши. Сверчки стрекотали в траве.
— Чёрт, это последний год моей молодости, — сказал Герман, делая большой глоток шартреза. — Я должен использовать его на все сто.
Тур продолжался. Мы нюхали кокс, стараясь избегать героина. Я не хотел снова в тот ад ломки, хотя очень скучал по ощущениям беззаветного кайфа. Особенно мне хотелось слышать свой голос под опиумом, чтобы через меня пели опиумные маки. Порой мне казалось, что всё первращено в рутину, что я не рок-музыкант, а просто какой-то шут, обязанный развлекать всех, когда мне самому не весело, петь всё те же приевшиеся песни. Это была такая задница. Но потом, стоило мне выпить и нюхнуть, всё проходило. Я снова оживал. Я снова был собой.
Однажды в интервью у меня спросили: общительный ли я? Я растерялся, потому что не знал, с какой стороны оценивать: как пьяного или как трезвого? Это вообще были какие-то два отдельных человека. Трезвый «я» никогда не жил. Он был тихий и подавленный, очень зависимый от мнения других, человек с кучей нелепых комплексов. Мне действительно нужно пить и употреблять, чтобы хоть как-то существовать в обществе. Может быть, у меня страх сцены, а я не знаю об этом? Я полюбил драться. В том состоянии, в котором я был, я мог только получать по роже. Я сцепился с собственным охранником, он рассёк мне бровь. Будучи в пьяном бреду, я подрался с Дани, который был крупнее меня вдвое. Я укусил его за любимую руку, он зафигачил в меня пластиковым стулом. Как реслинг, только всё настоящее. Мы не держим друг на друга зла, это — проявление братской любви. Были также повреждения, которые я получал сам. Мы стояли в очереди в какой-то жральне. Я послал Майка за мороженым. Он купил ванильное. Я сильно распсиховался. Послал всех в жопу и вышел… сквозь стеклянную стену. Град из тысячи осколков осыпал меня. На теле потом обнаружилось лишь несколько тонких царапин на лице и руках. Мне повезло, что я был в очках, кожаной куртке и плотных джинсах. На одном из концертов я растянулся прямо на сцене, запутавшись в шнуре, разбил себе колено и стукнулся головой, но всё же продолжил петь. Я постоянно ранился.
Когда тур закончился, я завалился спать где-то суток на двое. Постоянно снился проклятый автобус, который трясся, как чёртова лодка при шторме.
Герман Кроу.
Макс постоянно гнобил Майка. Он не считал его за человека, Майк был для него каким-то досадным раздражающим фактором. Хотя, на мой взгляд, у него не было каких-то особых характерных черт, которые могут раздражать, да и большую часть времени он молчал. Наверное, он раздражал Макса, потому что был никаким. По его мнению, быть пустым местом — это преступление хуже, чем просто быть мудаком.
«Знаешь, — сказал мне однажды Макс. — В любом коллективе должна быть паршивая овца, на которой все должны срывать свою злость. Это неотъемлемая часть существования любого социума. Если ты не будешь кого-то гнобить, то очень быстро сам станешь паршивой овцой». Я промолчал, потому что я ясно понимал, что у самого Макса есть все шансы стать подобным изгоем, так что он из кожи вон лезет, чтобы опустись хоть кого-то.
А что касается нас всех, то временами мне казалось, что мы просто ненавидим друг друга, но по возможности стараемся это скрывать. Постоянно объединяемся против кого-то и мутим свои грязные игры. Сегодня Макс с Джеком, объединённые любовью к героину дружат против всех, завтра мы с Майком дружно ненавидим Макса, и всё идёт по кругу. Никогда не угадаешь, кого модно ненавидеть на этой неделе. Мы не мы без нашей ненависти.
Глава 7
Проспавшись после тура, позвонил Шону и предложил встретиться. Он согласился, но голос его был каким-то грустным и уставшим. Мне хотелось помочь ему развеяться. Я думал, что это вполне в моих силах. Мы шатались по городу неузнанные, скрытые стеной дождя и тумана. На дворе стояло лето, хотя в Лондоне не очень заметно. Хотелось говорить. Я рассказывал про всё, что произошло со мной за это время интересного и не очень. Мне просто не терпелось кому-то поведать о своих впечатлениях. Шон только слушал и кивал. Я всматривался в его черты. В них что-то изменилось. Я называл это героиновой маской, как та, которую я видел в зеркале в те времена, пока сидел. Шон прятал свой взгляд за стёклами очков даже в такую погоду. Мы зашли в паб и взяли по пинте пива. Он всегда брал светлое, а я тёмное. Он посмотрел на часы, что висели на стене. Стрелки на них давно остановились. Шон что-то невнятно сказал про время, которому некуда идти. Он вдруг снял очки и заглянул мне в глаза. На меня смотрел мутный янтарь его глаз в ореоле рыжих ресниц. Я никогда не забуду этот взгляд.
— Музыка во мне умерла, — сказал он вдруг.
Мне показалось, что всё вокруг затихло, и другие звуки просто перестали существовать. Мы все драматизировали время от времени, но эти слова походили на правду. В голосе Шона звучало какое-то глубинное разочарование.
— Это творческий кризис, бывает и проходит, просто нужно время. Тебе следует отдохнуть. Поехали куда-нибудь?
Я вдруг вспомнил, как здорово было нам в Таиланде тогда. Тишина, отрешённость, картонный рай словно с плаката.
Он ничего не ответил, только уставился в свою кружку. И мы больше не возвращались к этой теме. Когда закончилось пиво, и не было желания брать ещё, мы вышли на улицу. Вокруг нас висела какая-то экзистенциальная романтика. Дождь заливал глаза. Грязь хлюпала под ногами. Мы промокли до нитки. Если закончится этот дождь, то я сойду с ума без этого шёпота воды в ушах. Я буду изгнан из королевства дождя.
Мы пришли в квартиру Шона. Неуместная роскошь, когда хочется попасть в обшарпанную кухню и пить водку, куря едкие сигареты, вдыхая запах подгорелой картошки. Я немного ностальгировал по привычной мне разрухе, потому что в ней удобно лелеять свою депрессию. Сейчас она успела приобрести в моей голове нотки ностальгической романтики. Но я знал, что если хоть на миг вернуться туда, то всё будет уже не тем. Дорога в прошлое завязалась узлом бесконечности.
Шон предложил мне ширнуться. Я хотел отказаться, но решил поймать его волну. Только так можно понять наркомана, только пройдя с ним за руку в его безумный мир. Туда, где вены сплетаются лозой, чёрные птицы смотрят с деревьев, на которых растут твои глаза, и смерть — на конце иглы. Потом, вернувшись в себя после прихода, я начал рассказывать эту странную историю про русского злого колдуна, который прятал свою смерть в игле, что если её сломать, он умрёт навсегда, пусть и зовётся бессмертным. Я ещё что-то говорил, много и разного, я описывал свой мир в красках и говорил о том, что нам нужно в него сбежать. Я знал вход, мы должны искать его на станции недалеко от моего родного города. Там, в одном из заброшенных домов, из крыши которого растёт дерево, обязательно должна быть сгоревшая дверь. Или это были просто мои иллюзии, и вход открывается в любом уголке мира, стоит только захотеть. Когда диковинный мир поймёт, что ты готов, он сам придёт к тебе.
Раньше я не говорил об этом ни одному живому человеку, выражая свою магию только через песни. Я пел в ожидании того, кто придёт и подскажет мне ответ. Я сочинял все эти песни для того, чтобы найти выход из собственных кошмаров. Я верил, что с каждым шагом становлюсь ближе к своей цели. Я не знал, понимает ли меня Шон, но в этот момент я чувствовал в нём то, что называют «родственной душой».
— Понимаешь, просто мне начало казаться, что все мы в этом мире просто в гостях, — сказал я, раскинувшись на кровати. — А когда мы умрём, мы вернёмся домой. А вся наша жизнь просто поиск надежного выхода.
Шон кивнул.
— Я, кажется, тебя понимаю. В детстве я часто сидел на пыльном полу, глядя в жёлтую стену. В моей голове уже не оставалось мыслей, кроме: «Хочу домой». Я повторял это вслух и часто слышал от матери: «Ты и так дома. Чего тебе надо?». Я всё ясно осознавал, кроме того, что я не дома, — сказал он.
Утром Шон сказал, что мне лучше уйти, потому что ему нужно побыть одному. Мне показалось, что он прогоняет меня навсегда.
Дома мне было тоскливо наедине с собой. К вечеру я подумал, что всё плохо, и наелся антидепрессантов. С замиранием сердца я звонил Шону. Мне его не хватало сейчас. Мне казалось, что не следует оставлять его одного надолго. От него веяло какой-то чёрной меланхолией. Закрывая глаза, я видел его в окружении чёрных бабочек. С их крыльев сыпался пепел.
Никто не брал трубку. Я звонил бесчисленное число раз, натыкаясь на эти отвратительные длинные гудки, от которых начинало шуметь в ушах. Я плюнул на всё и поехал к нему сквозь ночь и дождь.
Шон жил в викторианском доме, он ненавидел новостройки, не стремился за город в собственный особняк. Ему хотелось быть в центре событий Лондона. Мне всегда нравился этот район. Только в доме не было лифта; я, задыхаясь, взбежал по лестнице. На ступеньках, обхватив колени, сидела женщина. Я опешил и остановился. Я даже не понял, красива она или нет, для меня сейчас она была стастистом и манекеном в этом немом кино. Она смотрела куда-то сквозь меня, словно была под кайфом. Её лицо не выражало ничего. Её заметно трясло. Краем глаза я увидел, что дверь квартиры Шона открыта настежь. Моё сердце бешено забилось, и в висках застучало.
Раньше я никогда не видел его жену, но сейчас догадался, что это именно она.
— Джули? — спросил я.
Она смерила меня пустым взглядом и кивнула.
— Макс. Это вы?
— Что случилось? — спросил я, хотя и так догадывался обо всём; от ужаса начинало пошатывать.
— Он мёртв, — её голос звучал глухо.
Я вбежал в квартиру. Шон лежал в комнате на спине головой ко входу, раскинув руки, как Иисус на кресте. Игла всё ещё торчала у него в вене. Рыжие волосы стелились по чёрному ковру, словно мёртвые змеи. Его губы были синими, как и провалы глаз. Он казался бледнее, чем при жизни. Я навсегда запомнил эту картину, пытаясь нарисовать её раз за разом. Я тяжело вздохнул, чувствуя запах смерти, понимая, что всё это время я не дышал, находясь в ступоре. Ледяной ужас растёкся по моим венам. Закололо в груди.
В этой картине было нечто ужасное, но, в то же время, чарующее. Я впервые действительно любовался смертью. Он был красив. Муки смерти не исказили лицо Шона. Словно он не умер, а просто ушёл, оставив миру лишь свою бренную оболочку. Где-то там, по ту сторону Грани, он обрёл свой Дом. Но почему-то я не мог порадоваться за него, я испытывал смесь злости и сожаления. «Он не взял меня с собой!», — эта мысль металась у меня в голове, словно раненая птица. У меня не осталось сил, чтобы находиться здесь дальше. Я увидел достаточно. Меня сводило с ума тиканье часов. «Времени некуда идти», — вспомнил я его слова.
Я вышел. Джули схватила меня за руку.
— Мне страшно, — прошептала она. — Я так долго пыталась его разбудить.
— Вызовите полицию, — сказал я.
Голова сразу рождала множество комбинаций дальнейших действий. Мне нужно бежать отсюда. Я сам имел отношение к наркотикам. Если даже на меня и не повесят убийство, то всё равно у меня могут быть неприятности, вплоть до депортации или тюрьмы. Я не знал, что из этого хуже. Мне не хотелось связываться с законом.
— Не говорите копам, что я здесь был. Вы сами нашли тело. Здесь никого больше не было, — сказал я, пятясь назад.
Джули кивнула, ища в сумочке телефон.
— Мне страшно, — повторила она.
— Мэм, езжайте к подружке, к родителям, но не оставайтесь в этой проклятой квартире. Мне пора уходить, — шептал я, чувствуя холодный пот на висках. — Мне нельзя в полицию.
Я вышел под дождь и побежал. Я нёсся вперёд, не разбирая дороги. Несколько часов просто выпали у меня из памяти. Очнулся я на автобусной остановке возле дома Германа, когда уже рассветало. Сам не знаю, зачем я зашёл к нему.
Он открыл мне дверь не сразу. Я думал, что он спит, хотя сквозь дверь доносилась тихая музыка. Наконец он всё же вышел ко мне. Герман был одет, несмотря на ранний час. Очевидно, он ещё не ложился.
— Чего тебе? — спросил он сквозь цепочку.
— У меня пиздец, — сказал я, вламываясь в квартиру.
Я прошёл в гостиную, взял бутылку коньяка и жадно присосался к ней. Герман стоял в дверях, скрестив руки на груди.
— Шон умер, — сказал я, ловя его вопросительный взгляд.
— Да? — спросил он удивлённо.
Я кивнул. Герман молча сел рядом в кресло и, налив себе коньяка, выпил залпом. Он опустил глаза вниз и скривил губы.
— А ведь ему было столько же, сколько мне, — выдохнул Герман. — Не думай, что меня порадует его смерть. Он был хорошим парнем, вот и всё, что я могу сказать. Он действительно был очень талантлив.
Герман перекрестился как католик, прошептав что-то на латыни, и выпил ещё. Я, похоже, долго не общался с ним, чтобы упустить момент его внезапной религиозности.
Я просто пил, забывая зачем и почему. Мне хотелось отрешиться. Вечером нам доставили опиум, и мы просто умерли. Пришла вся группа, ещё какие-то люди. Квартира была полна ими, и все пили и курили. Просто обычная вечеринка с привкусом горечи и смерти. Я не осознавал реальность. Я был не здесь. Наутро я валялся на полу ванной и рыдал. До меня только дошло, что его больше нет. Мне так хотелось, чтобы меня утешили, но только чтобы это был он. Несколько часов этого замкнутого круга шизофрении. Я видел Шона перед собой, я говорил с ним. Он убеждал меня, что всё хорошо, и это просто страшный сон. Я прижимался к нему, чувствуя холод. Потом ведения рассыпались. Я не представлял себе жизнь без него. Я не мог дышать, это так словно в горле поперёк застрял нож, но я почему-то всё ещё жив.
Герман взломал дверь в ванную и вытащил меня оттуда. Он обнимал меня, мы просто сидели и молчали. Становилось легче. Чем больше я проматывал в памяти последний день Шона, все его слова и поступки, тем больше я склонялся к версии о самоубийстве. Так называемый «золотой укол» — намеренная передозировка. Причины до конца так и остались мне не ясными.
Сначала мне позвонила Джули. Она назвала дату и место похорон. Сказала, что хотела бы со мной поговорить наедине. Она ничего не сказала полиции обо мне. Это было очень благородно с её стороны. Потом звонил Джеймс, гитарист «Wormdace», спрашивал, не спою ли я с ними на поминках Шона. Странно, что он вообще решил связаться со мной, потому что мне всегда казалось, что он меня недолюбливает. Я согласился, потому что если откажусь, то они позовут кого-то другого, а это будет убого. Мы долго спорили, выбирая песню. Почему мы выбрали «Dirty Flowers», никто не знает. Обычно песни «Wormdace» были более жизнерадостными, но скорее как смех сквозь слёзы, жесткий сарказм, плевок в лицо обществу. Раньше они пели о девочках, выпивке, вечеринках и наркотиках, сменив настроение к последнему альбому. А эта песня была о потере, а том, что всё светлое втоптано в грязь и наш рай покрыт дерьмом.
Анализируя тексы Шона, мне всё больше кажется, что он покончил с собой. Я начал винить себя и своё дурное влияние. Я просто втянул его в свой мир, который был губителен для тех, кто был склонен к восприятию. Я так много ему не сказал. Под конец я понял, что я и именно я вновь открыл ему дорогу к героину.
Я не хотел идти на похороны, но всё же пришлось, потому что я должен быть там. Раньше я всегда избегал подобных мероприятий. Это был второй раз в моей жизни, кроме свадьбы Дани, когда мне пришлось надеть строгий костюм. Я долго выбирал, в чём пойти, ведь в нашем суровом мире шоу-бизнеса похороны — это что-то сродни светского приёма, а я уже вляпался в эту среду прочно и надёжно. Я вырядился во что-то в стиле американских рабовладельцев периода до гражданской войны. Чёрный костюм-тройка, галстук боло. Я даже волосы в хвост собрал, но не ради солидности, просто на случай, если буду блевать. Герман был при полном параде, у него что ни день, то похороны. Чёрный бархат, кружева, цилиндр, камзол. Словно он искал повод всё это надеть. Мы оба не могли отрицать, что для нас похороны были одним из важных событий, чем-то сродни дню рождения или свадьбе. В конце концов, для Шона это последняя вечеринка, и всё должно быть по высшему разряду.
Похороны проходили на Хайгейтском кладбище. В его новой восточной части. На нём уже почти не хоронили, за исключением VIP-ов. За деньги можно путешествовать в ад с комфортом. Я пришёл пораньше и бродил среди викторианских надгробий. «Живут же люди», — думал я, вспоминая убогие могилки своих деда с бабкой на кладбище, полном покосившихся крестов и ржавых оград. Мне куда больше нравился западный подход к смерти. Я хотел бы быть похороненным на Лафайет или Сен-Дени. Лондон не получит мои бренные кости. Я пытался придумать идею для новой песни, но она всё не шла. Я был подавлен.
Мы сидели в церемониальном зале, выслушивая пафосные речи. «Ушёл так рано…», «наше всё», «свет рок-н-ролла…». Каких только пустых фраз не звучало в этих стенах. Сегодня, проезжая мимо дома Шона, я видел целую толпу подростков, которые приносили цветы и свечи к тротуару. Они плакали и пели, держа зонты над пламенем, старясь защитить огонь от дождя. Стену покрывали свежие надписи, но никто не собирался их стирать. Скорбь этих детей была искренней. А всё, что я видел здесь — лишь лицемерие и пафос. Стервятники.
Я был спокоен, когда прощался с Шоном у гроба. Он лежал там, такой красивый, застывший словно статуя. Рядом стояла Джули в строгом чёрном платье с традиционной вдовьей вуалью. Траур был ей к лицу. Я только сейчас заметил, как она красива со своими волосами цвета мёда и пухлыми губами. Немного полновата, но это её ни чуть не портило. Шон умел выбирать женщин. Даже здесь наши вкусы совпадали.
Поминки походили на обычную закрытую вечернику с чёрным дресскодом. Я вышел на сцену, ощущая за своей спиной молчаливое присутствие Шона. Мы не репетировали. Было не до этого. Я знал слова. Всё было просто, они играли, а я пел. Я пропитывался насквозь ощущениями песни. На какой-то миг я действительно был Шоном, ведь столько людей сейчас хотели видеть здесь его вместо меня. Когда музыка стихла, в зале повисла сверлящая тишина. Вот и всё, наш последний долг был отдан.
Я подошёл к Джеймсу и высказал мысль, которая терзала меня всё выступление.
— Я надеюсь, что «Wormdace» не будет существовать без Шона Фокса? — спросил я. Вместо невинного вопроса у меня получился завуалированный приказ.
— Ты прав, чувак, — сказал он мне. — Кого бы мы ни взяли новым вокалистом, публика бы всё равно его не приняла. Да и мы сами вряд ли сможем слушать его песни в чужом исполнении. Он был душой группы.
После поминок ко мне подошла Джули. Она сказала, что хочет поговорить. Я согласился, хотя заметно нервничал. Я не знал, что мог бы ей сказать. Меня всё ещё терзало чувство вины. Было больно смотреть ей в глаза. Мы поехали к ней. Кажется, я тогда уже догадывался, чем всё может закончиться. Вокруг было темно. Дневной свет резал нам глаза. Только свечи подрагивали на старинном комоде. Она достала бренди. Мы выпили.
— Расскажи мне про его последний день, — попросила Джули.
Я рассказал, ничего не утаивая, понимая, как это важно для неё. Было больно снова проходить через эти воспоминания, но это всё, что у меня осталось теперь.
— Знаешь, как мы познакомились? — спросила она.
Я покачал головой.
— Это было ещё в старших классах школы в Эдинбурге. Он был самым отъявленным хулиганом. Всегда мечтал стать рок-звездой. Курил марихуану и ходил в майке «Skid Row». В душе был романтиком и даже философом. Он просто подошёл ко мне однажды на улице и сказал, что я лучше всех. А я была обычной, не королевой класса, просто девочкой с последней парты, а он был звездой школы. Я спросила: «Почему?», он сказал, что умеет видеть настоящее в людях.
Я слушал её внимательно, затаив дыхание.
— Я всегда верила, что он добьётся своего, что он станет великим рок-музыкантом, даже когда в это никто не верил.
Мы выпили молча.
— Он был безумен, — продолжала она. — Знаешь, за что он получил своё прозвище «Фокс»? Он со своими приятелями решили как-то раз поджечь школьный подвал в десятом классе. Их поймали и исключили. «Ты чёртов Гай Фокс!», — сказал тогда наш директор. Шону понравилось это сравнение.
Джули говорила и слёзы, текли по её лицу. Я понимал, что ничем уже не могу ей помочь. Я совершенно не умею утешать. Мне казалось, что нужно дать ей выплакаться. Другого выхода нет. Здесь даже время бессильно, в этом колесе людских утрат, а потом нас всех заберут отсюда, чтобы прервать наши мучения и даровать нам новые. Всё непостижимо отвратительно, надо просто уметь искать утешение в том, что окружает нас.
Она смахнула слезу, затем налила себе ещё бокал. Я понял, что Джули уже пьяна, но просить её не напиваться сейчас бесполезно. Она вдруг вцепилась в меня, сжимая в объятьях. Было какое-то помутнение. Я хотел отстраниться, но не было сил. Будь я трезвее, я бы ещё мог остановить Джули. Я впервые проклял свои чёртовы инстинкты. Но когда она оседлала меня, я уже ни о чём не мог думать. Единственный в моей жизни секс, за который мне было стыдно. Мы же похоронили Шона только сегодня. Только позавчера он был с нами. Как это мерзко — трахать вдову своего лучшего друга.
Это было помутнение и попытка найти утешение друг в друге, нечто неотвратимое как смерть. Наутро я не хотел смотреть ей в глаза, быстро собрался и ушёл. Я много думал, что если бы мы встретились при других обстоятельствах, то вполне бы могли быть вместе, но не здесь, не сейчас и не в этой жизни.
* * *
Я не хотел больше никогда видеться с Джули, но судьба распорядилась иначе. Спустя неделю после похорон, я приехал на кладбище. Мне просто необходимо было уединение и покой. Прямо как в годы юности, когда я уходил на погост подальше от мира живых, чтобы писать стихи и слушать шум ветра в кронах вековых дубов. Меня успокаивала эта непривычная мёртвая красота. Я частенько собирал с могил еду и сигареты, так как денег у меня не было. Я спал рядом с могилами на подстилке из траурных венков. Только там я чувствовал себя в безопасности. Так и сегодня и забрёл на Хайгейт, прихватив с собой бутылку виски.
Могила Шона превратилась в большой цветочный холм — всюду ленточки, свечи и записки. В этом был элемент какого-то языческого культа. После смерти многие становятся богами. Наверное, Шон стал лоа. Это было так, потому что я в него верил. Здесь всюду сновали подростки. Я радовался, что никто не узнаёт меня. Некоторые даже охотно стреляют у меня сигареты. Накрапывал мелкий и противный дождь, я сидел прямо на мокрых камнях, закрывая лицо капюшоном. Чёртов дождь, он преследовал меня с самого возвращения в Лондон. Этот дождь украл у меня Шона.
— Не ожидала встретить тебя здесь, — услышал я над собой смутно знакомый голос.
Я поднял глаза и увидел Джули. Она стояла под зонтом в своей уже привычной траурной вуали. Сама смерть.
— По-моему всё, как раз, закономерно, — ответил я, поднимаясь с камней.
— А я вот пришла и не знаю, зачем, — ответила она. — Здесь слишком шумно и неуютно.
Джули оглядела гнездящихся неподалёку «паломников».
— Хочешь, прогоню всех? — сказал я зачем-то.
— Не надо, Шон принадлежал и им тоже. Кто я такая, чтобы его делить? Не думаю, что они любят его меньше, чем я.
Я кивнул, понимая точность её слов. В Джули подошла ближе и укрыла меня зонтом от дождя. Я натянуто улыбнулся, осознавая, что уже долгое время никто не проявлял по отношению ко мне даже тени заботы.
— Ты не боишься заболеть? — спросила она.
— Мне уже без разницы.
— Зря ты так.
Мы где-то с минуту простояли молча, глядя друг на друга. Я готов был поклясться, что она тоже сейчас стремится забыть события той ночи. И я тоже… Только каждый раз по спине пробегают мурашки.
— Я планировала зайти в церковь. Ты составишь мне компанию? — спросила Джули.
Я оглянулся, указывая на часовню.
— Нет, я католичка, не хожу в англиканскую церковь.
Мы поехали в костёл. Я хотел остаться снаружи, но Джули настояла, чтобы я посидел с ней. Мне слишком больно верить в бога. Мне странно осознавать, что есть кто-то, кто допускает всё зло, что творится в мире. Я затаил на него какую-то детскую обиду. Мне проще думать, что бога нет, чтобы не винить никого в несправедливости. А наличие в христианской концепции первородного греха совершенно отвратило меня от религии. У Джули был свой подход к этой теме, и я не собирался вести с ней теологические дискуссии. В церкви было пусто. Мы сидели на лавке, Джули молилась, я блуждал по лабиринтам своего сознания. Смотрел на её сосредоточенное лицо, на котором сияли блики от витражей. И всё, о чем я думал в этот момент, нельзя было озвучивать в церкви. Мои желания не поддавались здравому смыслу и нормам морали.
Водитель мчал нас неведомо куда. Я ничего не спрашивал у Джули, не было слов. Я нал, что сегодня хочу быть с ней, я был ей нужен.
Дома она скинула туфли и упала на диван в гостиной, не снимая мокрого плаща.
— Я так устала. Я не привыкла быть одна. Это страшный и невыносимый груз. Я живу теперь для себя и чувствую, что не нужна себе. Последние десять лет моей жизни были отданы Шону безвозвратно.
Я она говорила долго, я только слушал и кивал. Я ненавидел себя за все свои мысли и поступки. Мое безумное желание поселилось в душе гнусным червём. Моя страсть была запретной. Мне казалось, что это нечто большее. Я был влюблён и ненавидел себя за это. И надо было сделать над собой усилие и уйти. Я не мог быть с вдовой своего друга. Впервые в жизни я боялся осуждения общества. Я боялся себя и своего маленького предательства. Шон был мёртв, я не мог посягать на то, что принадлежало ему. Джули ещё не сняла траур, а я тут как тут.
Сегодня я снова проиграл в этой битве с собой и собственными псевдоморальными ценностями. Лучше всего нам бы было никогда не встречаться. Глядя на Джули, я замечал в ней ту же внутреннюю борьбу, что велась в моей душе. Разговаривая со мной, он нервно кусала губы и смотрела в пол.
Наутро она спросила:
— Ты поедешь со мной в Эдинбург сегодня?
Мне очень хотелось отказаться, но я согласился, так как очень хотел выбраться из Лондона. Я всегда был лёгок на подъём. Дорога была моей стихией. Утешало лишь то, что там меня никто не знает и можно держаться подальше от всей этой глазастой общественности. Я решил дать отсрочку предстоящему мучительному расставанию. Лучше уж будет расстаться с Джули на самом пике чувств, оставив приятные воспоминания. Что уже поделать, если мы уже вступили в этот грех.
Я ненавидел себя и парил на крыльях любви. Временами мы забывались, и холодные скалы слышали наш веселый смех. Мы пили вино, сидя на пляже, не боясь ледяного ветра в лицо. Словно ничего не случилось, словно трагедия не бросила наши жизни в грязь. Именно заглянув в лицо смерти, мы начали понимать, что живы.
Герман позвонил где-то на пятый день моего отсутствия.
— Где ты, мать твою? — спросил он.
— Жив. У меня всё хорошо, даже слишком, — ответил я.
— Куда ты пропал? Я переживаю вообще-то.
— Я не могу сказать, где я, — я вовремя спохватился и решил цепляться за свою тайну до конца. — Скоро я вернусь и всё объясню.
— Ты снова начал колоться? — послышался недовольный скрип на другом конце трубки.
— Нет, я совершенно чист и трезв. Я вернусь через несколько дней, и мы всё обсудим. До свиданья.
Я впадал в забытье. Словно всё так и должно быть. Словно у меня есть женщина, которая любит меня, словно я вдруг, наконец, счастлив. Я вдруг понял, что стоило мне влюбиться, как быстро растаял мой эгоизм. Чувства делали меня очень заботливым и мягким. Мне сразу было ясно, что Джули меня не любит, для неё я был просто отдушиной. Ей просто было нужно чьё-то тепло рядом. Пару раз она называла меня его именем, и между нами повисало неловкое молчание.
— Извини, — сказала она. — Не знаю, как вас можно было спутать, вы ведь совсем не похожи. А иногда вдруг кажется, что похожи. Но у вас очень много общих черт характера.
— Мне до него ещё далеко, — хмыкнул я.
У нас схожее мировоззрение. Однако, в Шоне было значительно больше доброты. Он умел оставаться общительным, в то время как я прозябал в своём внутреннем мирке. Меня душила эта жизненная драма. Я любил женщину. Она неравнодушна ко мне, но мы не можем быть вместе по вине обстоятельств и моих личных загонов. Я был слишком слаб, чтобы бороться за свою любовь. Я проклинал себя за это, но понимал, что поступлю правильно, если смогу всё прервать.
— Нам надо расстаться, пока не стало хуже, — сказал я на десятый день.
Мы сидели за столом и пили кофе. За окном проплывало бескрайнее серое небо. Сухие ветви стучали в стекло. Блёклое солнце разрывало облака, чтобы снова скрыться в этой серой небесной пустыне. Молчание висело в воздухе.
— Что-то не так? — спросила Джули, стараясь сохранить спокойствие.
— Это всё неправильно. Мы оба просто ловим призрак Шона. Люди не поймут этого, когда узнают. Я не могу оставаться с тобой. Все скажут, что я стервятник. Месяца не прошло после смерти моего друга, а я уже встречаюсь с его вдовой, — я с трудом подбирал слова.
— Но мне была необходима чья-то поддержка. К тому же мы познакомились только после его смерти.
Я закурил, меня трясло. Вена пульсировала в виске. Я решил стрелять в упор:
— Ты всё равно никогда не полюбишь меня так же сильно, как его.
Джули заплакала, закрывая лицо руками. Я не выдержал и обнял её.
— Прошу тебя, не плачь. Мы не виноваты ни в чём. Это всё обстоятельства. Но мы сделаем только хуже друг дугу, если останемся вместе, — я сам был готов разрыдаться.
Мне казалось, что я делаю всё правильно. Впоследствии я много раз обвинял себя в слабости. Даже тогда, направляясь на поезде в Лондон, я с трудом боролся с желанием выскочить на первом же полустанке и примчаться обратно. Я чертил какие-то знаки на запотевшем стекле, попивая виски из бутылки, завёрнутой в бумажный пакет. Десять дней в Эдинбурге прошли для меня словно в бреду. И я снова осознавал, что счастья нет. И отныне для меня нет ничего.
Глава 8
Я решил пожить у Германа, чтобы бороться с накатившей депрессией. Не сказал бы, что он меня утешал. Он прекрасно знал склад моего характера и то, что лаской мне не поможешь. Иногда он в прямом смысле выбивал из меня дурь. Это действительно так, если постоянно кого-то жалеть, он становится слизнем. Я начал много пить, учитывая, что я и раньше пил немало, то теперь я потреблял в день где-то около двух бутылок виски, а то и больше. Когда я пью, я не могу есть, и это очень плохо сказывалось на моём здоровье. В скором времени у меня снова открылась язва, и я загремел в больницу. Это послужило почвой для самых различных слухов, мне даже доводилось читать о том, что это была попытка самоубийства.
Мы решили, что лучше всего сейчас будет взять недолгий творческий отпуск, приостановить концертную деятельность, чтобы дать время мне и Герману написать материал для нового альбома. На самом деле, мы не собирались ничего не делать, поскольку наших загашников хватало на пару десятков песен.
Я лежал на диване перед ноутбуком, постоянно смотрел фильмы или читал, я не хотел оставлять в голове место для размышлений. Марихуана хорошо мне в этом помогала. Существование моё стало подобно овощу. У меня всё было, мне ничего не хотелось. Мне вдруг начало казаться, что я всегда именно к этому и стремился, просто лежать, курить траву и читать. Я внезапно начал писать. Сначала просто описательные отрывки картин, что проплывали перед моим внутренним взором, потом короткие истории и заметки, что-то, что даже нельзя было называть миниатюрами. Я тогда и не думал, что когда-то захочу написать книгу. Вот эту самую. Я писал на русском, потому что мой литературный английский оставался корявым, штампованным и не мог передать всех тонкостей.
Там были бредовые заметки, описывающие какой-то кромешный ужас, что творился у меня в голове тогда.
«Хочется утонуть в море, посреди закристаллизованных скелетов Второй Мировой. Вода здесь такая солёная, что выжигает глаза рыбам. Длинные водоросли обвились вокруг руки. Я хотел посмотреть, но это были волосы мертвеца, отросшие на полтора метра. Якорные цепи сковывают ноги. Я иду на дно к змеям, что уже заждались меня. Сухие лица скелетов улыбаются из глубины. Очень скоро я стану одним из них.
* * *
Я любил эту женщину. Мы лежали рядом на влажных простынях, впитывая тепло друг друга. Она молчала, пока я перебирал её внутренности. В этом не было ничего порочного и постыдного, просто больше, чем секс.
* * *
Можно ли найти любовь на помойке? Только кому понравишься ты с распоротыми венами и мечтательными глазами, уставленными в небо. Сладкая гнильца и едкий сок отходов струится по твоей коже, черви уже прогрызают себе дыры к твоему нутру. В волосах путаются личинки. Тёплые капли дождя стекают по ресницам и двумя тонкими дорожками чертят себе путь по щекам, смывая корку запёкшейся крови. Вода стекает в рот, переполняя забитый гноем пищевод. Моя принцесса, я так безрадостно тебя проебал. Хотя кому ты была интересна, когда сновала средь толп бесполезных людей, пригретая жарким солнцем. Когда-то ты впитывала жизнь, но потом смерть приняла тебя, раскрывая свои свинцовые объятья. Так станцуй же со мной этот вальс без головы, теряя чувства и распрыскивая свернувшуюся кровь. Я весь смердящий от жизни адепт вечного покоя. Бессмертный и неумерший.
* * *
Встречая такие книжки, тебе просто хотелось кричать. Ты так привык к тому, когда мальчики сосут друг у друга, откусывая члены, потом лобзаются окровавленными губами, наплевав на боль. Или когда маленькую девочку, больную раком гортани, насилует в шейный проход, предварительно отрубив голову. Именно поэтому сцена, где гетеросексуальная пара занимается любовью по обоюдному согласию, способна вызвать у тебя самый откровенный приступ рвоты. «Больше никогда», — шепчешь ты, закрывая книгу. Теперь придётся часами просматривать картины с изображением эро-гуро, чтобы хоть как-то успокоиться. А перед глазами всё те же нежные губы и сладостные поцелуи, от которых язык западает глубоко в горло, грозя вызвать удушье».
Все были заняты своими делами. Герман разрабатывал дизайн эксклюзивных загробных гитар, сотрудничая с одной известной фирмой. Дани снимался в фильме ужасов, очевидно в роли самого себя. Джек мутил свой одиночный сайд-проект. Майк сочинял музыку к кино и рекламе. А я просто писал заметки, пока мне не пришло в голову издать книгу стихов. Надо бы отметить, что в моём понимании стихи и песенные тексты — это очень разные вещи. Я написал довольно много стихотворений на русском, которые никогда не станут песнями из-за своей немузыкальной структуры. Мне повезло познакомиться в Лондоне с Сашей, он был сыном русских эмигрантов, при этом был специалистом по британской литературе, так что в совершенстве владел двумя языками. Вот он и помог мне с переводом стихотворений на английский с сохранением всех нюансов моего авторского стиля. Я даже устроил пару чтений в качестве поэта перед аудиторией из хипстеров и напыщенных стариков. Я чувствовал себя несколько не в своей тарелке, как панк на приёме у королевы. Куда больше мне нравилось быть музыкантом.
Встретились мы все только на презентации альбома молодой певицы Софи Н. и её группы имени себя. Я вообще её раньше никогда не слышал и не видел, просто так пошёл за компанию со всеми. Герман хорошо о ней отзывался. Эта сучка просто поразила меня своим голосом. Она была как Дженис Джоплин, только без этого жуткого надрыва. К тому же Софи была весьма недурна собой. Длинные чёрные волосы, ярко-алые губы, большие сиськи, торчащие из красной кожаной жилетки. Она не выглядела, как все эти малолетние девочки, играющие музыку, которую можно назвать роком только из-за наличия в ней гитар. Это была настоящая роковая сучка. Я даже не ожидал увидеть такое в наши дни.
После выступления она подвалила к нам, виляя задницей. Мы с ребятами сидели в вип-зоне. Они пили шампанское, а я довольствовался крепким кофе и марихуаной (я называл это голландской диетой), просто потому что мне нельзя было принимать алкоголь сейчас.
— Привет! — сказала она мне, снимая очки.
Я кивнул.
— Ты узнал меня? — спросила она.
— Нет, — ответил я, но она не слышала и продолжала щебетать.
— Я тебе очень благодарна за всё. Ты помог мне найти себя.
Её голос звучал с нотками истерической радости.
— Понятия не имею, о чём ты, — ответил я.
— Тогда, года четыре назад, именно ты сказал мне, что я должна заниматься музыкой.
Было странно, но я действительно её вспомнил. Она сильно изменилась внешне за эти годы: сменила цвет волос, отрастила сиськи.
— Как тебе моё выступление? — спросила она.
— Мне нравится твой голос, но эта музыка совершенно меня не цепляет, — я решил быть честным.
— Спасибо. Я знала, что тебе понравится, — Софи повисла у меня на шее.
Мы много болтали не о чём целый час. Я периодически подвисал от травы. Дани постоянно пошло шутил, ставя Софи в ступор. Она краснела почти как приличная девочка, но все мы знали, кем на самом деле она являлась. Мне вдруг подумалось: что, если бы она была моей? Наверное, она смогла бы понять меня лучше, чем все девушки. Мы свалили от всех гулять вдоль Темзы. Я нес какой-то бред, читая ей чужие стихи: «A night, a street, a lamp, a drugstore…» и так далее. Несмотря на то, что один современный русский поэт просил не злоупотреблять травой перед встречей с прекрасной дамой.
Софи посмотрела на меня и сказала:
— Пошли уже потрахаемся.
Я кивнул, мы поймали такси и поехали ко мне. Когда я пьяный, я всегда знаю, что делать, а накуренному же мне вовсе ничего не хочется, кроме как болтать. Я всё же трахнул её, хотя в моем состоянии я просто хотел свернуться на дне её вагины и спать. Софи так кричала, что я боялся, что соседи вызовут полицию. Ненавижу громких женщин. Потом она заставила меня сделать это второй раз, после чего я сразу рухнул спать. Мне показалось, что я старею.
Мы провстречались какое-то время. Этот роман не оставил никакого откликак в моей душе, только помог ещё больше разочароваться в себе. Я кретин и совершенно не умею любить или даже делать вид, что люблю.
Софи Н.
Было так мило читать, как Макс вычеркнул из памяти почти четыре месяца наших отношений, хотя, при его злоупотреблении наркотиками немудрено. Я, конечно, бросила его, но это было далеко не сразу. Тогда я была ещё маленькой девочкой, увлечённой своим кумиром. Мы познакомились в клубе на презентации моего альбома. Я подошла и честно спросила:
— Ну как тебе моя музыка?
На что он ответил:
— Ты красивая.
Я не знала обидеться ли мне или порадоваться неожиданному комплименту. Макс нравился мне, как нравится всякий, о ком имеешь только смутное представление. Красивый, загадочный, старше меня. Мы ходили на совершенно шаблонно-стереотипные свидания, исключая конечно толпу папарацци у входа в рестораны. К тому времени, и его и моя персона уже были в центре внимания прессы. Максу нравилось играть на публику порой даже слишком.
Я не выдержала и предложила жить вместе… сама… первая. Он согласился, как соглашался тогда на все мои предложения. Мы сняли дом в одном из престижных районов Лондона, до центра было далековато, зато спокойно. Мы быстро превратили это жилище в груду хлама. В то время Макс не пил, но употреблял совершенно любую наркоту, начиная от аптеки заканчивая метамфетамином. Это делало его совершенно непредсказуемым. Я не знала, что меня ждёт по приходу домой: ванна с макаронами или следы свежего взрыва. В дни свободные от наркотиков, он закрывался на чердаке и играл на гитаре.
А вот кислоту ему лучше было не давать. Мой друг Питти уговаривал его заглотить марку, Макс долго отказывался, говоря, что боится оставаться наедине со своим сознанием. Пит уверил его, что кислота превосходного качества и не вызывает бедтрипов. Восемь часов Макс метался по комнате и орал про космос, поглощающий его, иногда он затихал и принимался тихо бредить в углу. Что-то постоянно говорил про собственную смерть, пытался вспомнить, как будет на иврите «огурец». Я не понимаю, к чему это? Но для него это стало навязчивой идеей.
— Как же мультяшки? — спросила я, разглядывая прозрачные стены, мне было хорошо и меня пёрло.
— Я ничего не вижу, кроме ада в своей голове, — отвечал он.
В один момент он заявил, что мы все видим его мысли насквозь и теперь его тайны открыты для мира. Если кому-то дано читать тебя, как книгу, то ты становишься просто использованным гандоном.
— Мне не нравится, что вы видите мои мысли. Наверное, мне лучше умереть. Это невыносимо, — сказал он, пытаясь выпрыгнуть в окно второго этажа.
— Как же самопознание? — спросила я потом.
— Я познал себя и я ужасен, заявил он.
Когда его отпустило, он на всю жизнь зарёкся принимать психоделики. Мне кажется, это было его единственное табу. Всё остальное оставалось для него привычным и дозволенным. Мы были как Сид и Нэнси, несмотря на то, что Макса воротило от надуманной истории любви этой парочки. Мы всюду таскались вместе и всегда были под кайфом.
— Это полное дно, — сказала я, лёжа на ступенях закусочной.
Была промозглая осенняя ночь. Моя меховая накидка утопала в грязи.
— Мы с тобою застряли на днище, будем спорить, чья любовь чище? — рассмеялся он, передавая мне косяк.
Наверное, это было одним из самых романтических воспоминаний той поры. Я, он и реки ядов, блуждающие в венах. Наркоманы любят друг друга, только пока у них есть наркотики, потому что больше ничего общего у них и нет.
В компании своих друзей он постоянно надо мной стебался. Я была словно мебель, просто модный аксессуар. Его шутки порой были слишком жестоки. Он водил меня на репетиции, чтобы «показать как работают профессионалы». Мне было интересно общаться с Германом, как с гитаристом, но был через чур высокомерен, презирая весь женский род. Он говорил, что лучший способ повысить навыки игры на гитаре — это пришить себе член. Всё «Вороны» начали казаться мне просто шайкой зазнавшихся мудаков. «О боже, — думала я. — Это же совсем не те люди, которыми я когда-то восхищалась». Постепенно менялось всё: мои взгляды на их музыку, моё отношение к Максу. Но мы всё ещё были вместе.
Мы сняли своё хоум-видео. Там и полноценной эротики-то не было. Макс просто снюхивал кокс с моих сисек. Мы целовались, и наши губы покрывала ядовитая пыль порошка. Просто милое домашнее видео, которое мы же сами и слили в интернет с понтом: «У нас есть нормальный секс». В те времена Макса интересовало всё, что угодно, кроме, непосредственно, секса. Он был слишком увлечён наркотиками и музыкой. Я была для него просто изящным дополнением к собственной персоне. Дежурный секс пару раз в неделю и не более того. Я знала, что совершенно его не интересую. Но моей карьере этот роман шёл на руку. Светиться вместе на фотках и в телике — что может быть лучше?
Я поняла, что беременна, когда проснулась однажды утром. Всё было не так… Я сказала об этом Максу, когда сделала тест. Он молча затянулся сигаретой и сказал:
— Когда-нибудь ты выйдешь замуж и будешь рожать живых детей. Избавься от этой… ошибки. Оно ни что иное, как отвратительное продолжение нас самих.
Макс ещё много говорил на этот счёт. Все его слова казались мне такими убедительными. Но я понимала, что на самом деле, он боялся детей, боялся ответственности, боялся стать взрослым… просто он не любил меня.
Он забирал меня с цветами из абортария. Его лицо сияло перекошенной кокаиновой улыбкой. Видели ли вы когда-нибудь глаза кокаиниста? Эта просто пустая чёрная бездна. Макс светился от цинизма. Это могло добить любую, но я воспринимала всё спокойно и ровно. Именно сейчас я полностью осознаю всю ужасность его слов и поступков. Мы были вместе недолго. Боюсь, он даже не скоро понял, что я ушла. Он был слишком занят собой. Неделю спустя Макс позвонил мне и спросил:
— Где ты, чёрт возьми?
— Я свалила, придурок.
— Ах, да, ладно, извини, — ответил он и положил трубку.
Спустя несколько лет мы встретились с ним в Нью-Йорке. Мы болтали как старые друзья. С ним была Кэт. Он был с ней другим. Взрослым, заботливым. Я видела, как он смотрит на неё, как на женщину, которую действительно любит. Мне стало не по себе от этой встречи. Я думала, что он по жизни мудак, а он просто не проявлял ко мне любви или хотя бы уважения.
Макс Тот.
Мне очень скоро стало скучно, и я решил взяться за съёмки клипа на песню «Splatter lullaby» («Splatter» тут в значении литературного жанра — сплаттерпанк). Это была дикая колыбельная в стиле детской песенки, повествующая о жутких и аморальных вещах с особым цинизмом. Мы с Германом сами придумали сценарий и даже нарисовали раскадровку. Такие вещи мы не могли доверять посторонним. Нам уже давно хотелось снять клип в Новом Орлеане со всей его мистической атмосферой, Французским кварталом, барами и кладбищем. Герман сыграл роль самого Барона Самеди, который водил меня среди тёмного мира, духов и призраков, всё это чудесным образом переплеталось с обыденной жизнью города. По нашей задумке демоны среди нас и в нас самих, они и есть мы. Дани, Джек и Майк сыграли там разноплановую нечисть. Мы никогда не были стопроцентными мистиками, скорее символистами. Вполне возможно, что нас могли понимать неправильно, причисляя к лику очередных сказочников.
Этот клип до сих пор остаётся моим самым любимым за всю историю группы. Адовость Германа превзошла все границы. Он сделал себе сплит языка (продольный разрез, превращающий его в змеиное жало). Он научился шевелить двумя половинками по отдельности.
Я шатался по городу и встретил там чёрнокожую женщину, увешанную талисманами вуду. Она гадала на куриных костях. Обычно маги и колдуны не вызывали у меня доверия, но сейчас я плавал в какой-то неопределённости, поэтому очень хотелось, чтобы кто-то пролил свет на мою жизнь. Я попросил её предсказать мне судьбу, но она покачала головой и сказала: «У таких, как ты, не бывает судьбы». Я сам не знал, как трактовать её ответ, и вскоре забыл про это.
* * *
Мы отправились в мировое турне. Целый безумный год я не был дома и, честно говоря, вообще забыл, это чувство. Мог ли я называть домом свою лондонскую квартиру? Я всё так же воспринимал её как большой гостиничный номер. Я научился чувствовать себя уютно в самолёте, в автобусе, поезде. Мне понравилось каждый день просыпаться в новом городе и, глядя в окно, видеть новый пейзаж. У меня в голове до сих пор не укладывалось, что столько людей в мире хотят видеть меня. Временами в душе я ощущал себя всё тем же бродягой. Я всё так же неприкаянно колешу по свету; не беда, что с большим комфортом и на большие расстояния.
Мне понравился концерт в Санкт-Петербурге. Только подумать, я побывал в стольких местах, но впервые оказался в культурной столице. Это очень красивый и многогранный город. Он похож на картонную декорацию Европы, за которой мы видим его подлинную душу, заглянув в первую же грязную подворотню. Я бы мог там жить, если бы не климат. В целом, это такая северная Одесса.
Приезд в Москву впервые за пять лет стал для меня самым трудным испытанием. Я много думал о том, как буду смотреть в лицо городу, который бросил. Я стал здесь чужим. Даже проезжая мимо знакомых мест, я узнавал их не сразу. Всё изменилось, хотя дело было скорее в моём восприятии. Я не хотел видеться ни с кем из старых знакомых. Я просто знал, что нам нечего будет сказать друг другу. Мы стали другими. Герман постоянно стебался, что ему хочется увидеть всех тех, кто когда-то играл в «Opium Crow», и рассказать им о том, сколько они потеряли. Мне не хотелось вообще ничего.
Дани привез с собой Сьюзен, чтобы показать ей дикую Россию. Он постоянно говорил несчастной англичанке про медведей и матрёшек, и что русские даже метал играют на балалайках (что отчасти являлось правдой).
Вообще, в тот момент мне показалось, что любить Россию можно, но делать это лучше с безопасного расстояния.
Элис
Моя встреча с Максом была внезапной. Я не следила за новостями группы и их гастрольным графиком. Честно говоря, я и думать о них забыла. Тусовочная память она как каталог с множеством лиц и имён. Ты помнишь их всех, но если долго не видишь, то дела переходят в архив. Мы лет шесть не виделись. А для меня это большой срок, особенно, когда в жизни всё меняется с удивительной быстротой.
Мой художественный магазин в центре только открылся. Я вся была позлащена делами. Мне было забавно превращаться из вчерашней девочки-хиппи в бизнес-вумен. Андеграунд андеграундом, а искусство требует денег.
В тот день я уже закрывала кассу и готовилась ехать домой, как вдруг повеяло холодом. Макс стоял в дверях и молча смотрел на меня. Я сразу его узнала, пусть он и изменился внешне. Его черты стали острее. В глазах читалась заметная усталость. Вот к чему я была не готова в такой момент, так это к призракам прошлого.
— Привет! — выдал он, заметно нервничая.
Трезвым он совершенно не умел разговаривать с людьми. И даже спустя годы так и не смог избавиться от этой привычки. Сразу было ясно, что находиться в ясном уме для него несвойственно и страшно.
— Какими судьбами? — спросила я.
— У меня завтра концерт, — ответил он.
— Ну да. Не попрёшься же ты из Лондона ради меня в эту дыру.
— Давно бы попёрся, если бы ты позвала.
Он продолжал нести какую-то пургу, не замечая моего тона.
— Странно, что ты не забыл русский язык за это время.
— Нестранно, что я не забыл тебя. А язык… ну я на нём ругаюсь, так что помню всё отлично.
— Как Герман? — спросила вдруг я.
— Нормально. Потащился к своей мамаше на Рублёвку.
Мы ещё немного помялись, не зная, что сказать друг другу.
— Поехали со мной, куда-нибудь поужинаем? — предложил он вдруг. — Где у вас тут приличные люди жрут? В чебуречной «СССР» или во «Втором дыхании»?
— Я не могу. Мне домой надо. Меня муж ждёт, — сказала я.
Я думала его отпугнёт это, но он сказал:
— Мужа ты видишь каждый день, а меня не видела шесть лет.
Он схватил меня за руку и потащил к выходу.
— Ладно-ладно, — пойду, но ненадолго. — И только ради того, чтобы тебя увидели со мной, а не какой-то страшной шлюхой.
— Спасибо, что заботишься о моей репутации. Меня не так давно девушка бросила, вот я весь такой свободный и завидный жених.
Мы сели в машину. Макс попросил водителя покатать его по центру. Вечерело. Зажигались огни.
— Что скажешь обо мне теперь? — спросила я вдруг.
— Я рад, что ты не разжирела.
Я рассмеялась. Да, я по-прежнему неплохо выглядела, хоть мне было уже двадцать девять. Я вообще не понимала, что он во мне нашёл. Я выглядела совершенно не так, как все его тёлки. Никогда не красилась и грудь у меня едва доходила до второго размера.
— Что скажешь теперь обо мне? — спросил он, повторяя мою идиотскую фразу.
— Не пытайся произвести на впечатление своими звёздными понтами, тачкой, шампанским. Я уже давно не бедствую.
— Дело не в этом. Я правда скучал по тебе и Москве. Это как две составляющие того времени. Этот город подарил мне меня. Когда-нибудь в моей биографии напишут: «Макс Тот не жил в Лондоне, он там умер, а в Москве он воскресал каждое утро. Спасибо водке «Столичная» и палёному «Джеку»».
Он отпил шампанское прямо из гола. Пена окатила его с ног до головы. Он оставался в своём репертуаре.
— Как там твоя популярность процветает? — спросила я.
— Знаешь, я чувствую себя порой мёртвым. Ну у меня вдруг образовалось столько друзей словно я уже умер. Какие-то люди из Москвы говорят, что были моими друзьями, делятся совместными фотками столетней давности. Это же теперь раритет. Какие-то девки хвастаются, что встречались со мной, а даже не помню их в лицо, хотя знаю, что почти ни с кем не заводил отношений. Смешно всё это. В Лондоне потише. Порой складывается шикарное впечатление, что я нафиг никому не нужен кроме интернета.
Мы зашли в ресторан, который в этот будний вечер был почти пуст. Макс поспешил скрыться в самом дальнем углу зала, где бы нас никто не смог увидеть.
— Ты, как всегда, будешь пить виски? — спросила я.
— Нет, в последнее время я полюбил водку.
— Тоска по родине?
— Скорее по себе прежнему. Родина не вызывает у меня каких-то особых чувств. Я не слишком привязан к месту. Скажу только одно: ты можешь бежать, куда угодно, но твоя Россия найдёт тебя везде. И ты всегда будешь носить её с собой, подобно печати. Люди, которые не знают, откуда я, всё время спрашивают: «Что у тебя с лицом? У тебя что-то случилось». Я знаю, что моя проблема в том, что я ещё не научился улыбаться всем и вся. И эта печать подозрительности и грусти она будет с нами всегда. Все выходцы из бывших союзных республик узнают друг друга по ней.
Мы много говорили на какие-то отвлечённые темы, стараясь не касаться прошлого. Мы пережили его слишком давно, оно окончательно распалось в наших душах. Мы оба жили только настоящим и будущим. А я всё думала: что мне скажет муж, если я приду домой поздно и от меня будет пахнуть водкой?
— Знаешь, а все думают, что у меня много денег, — Макс опустошил новую рюмку водки. — Это совсем не так. Это большая цифра, только когда ты получаешь чек из банка. А потом налоги, жильё, остаётся только на побухать в итоге.
Я не стала спрашивать, сколько он тратит на наркотики, но складывалось впечатление, что не мало. Мне было интересно, спасает ли сценический грим его от этих ужасных синяков под глазами.
Он нёс какую-то пургу, продолжая пристально смотреть на меня. Я прекрасно знала, что значит этот взгляд. Мне осталось ждать неприятной минуты, когда он предложит поехать с ним. Всё потому что я не знала, что на это ответить.
— А я ведь любил тебя когда-то, — сказал Макс внезапно.
— А сейчас?
Повисло молчание, мы не отрываясь смотрели друг другу в глаза. «Кажется, раньше его глаза были голубыми, теперь они какие-то тёмные», — почему-то подумала я тогда.
— Я не знаю, — выдохнул он. — Наверное, не разлюбил, а просто отложил свои чувства до лучших времён.
— Ты идиот, — сказала я.
— Я знаю. Просто в этой вселенной до отвратительного одиноко жить.
Мы молча выпили, чувствуя как время звенит битым стеклом. Странное ощущение, не правда ли?
— Ты поедешь со мной? — вопрос Макса звучал скорее как утверждение.
— Смысла нет. Ответила я. Столько времени прошло. Незачем ворошить труп былых отношений.
Он поцеловал меня напоследок, не спросив разрешения, и молча вышел. А я так и осталась стоять в пустеющем зале. В этом что-то было. Что-то символичное, но я не понимала что.
Макс Тот
Мы катались по свету. У меня не было времени грустить, я был постоянно чем-то занят, подготовкой к выступлениям и разработкой новых идей. В этот раз мы решили мутить полутеатрализованные представления. Мы снова употребляли кокаин в сумасшедших дозах, чтобы хоть как-то держаться на ногах после ночных вечеринок.
Было дело, когда наш самолёт чуть не рухнул в море. Мы попали в зону турбулентности, гроза и сильная облачность. Герман оставался каменно спокоен. Я схватил его за руку и постоянно говорил и говорил о том, как сильно я люблю его.
— Знаешь, если мы сейчас умрём, я бы хотел, чтобы мы с тобой горели на одном кругу ада, — шептал я сквозь гул двигателя. — Ведь у меня нет никого, кроме тебя.
— Ты испугался смерти? — спросил он с усмешкой.
— Нет, я испугался разлуки, — ответил я.
Я успокоился, когда мы сошли с трапа в аэропорту. Солнце издевательски светило в лицо. Мне было не судьба умереть вот так. Такие, как я, убивают только сами себя. Это я понял потом, когда закончился тур.
Глава 9
Прошёл год. Мне стукнуло заветное число «27», и я подумывал о смерти всё чаще, просто так издалека. Я наблюдал за мёртвыми птицами и людьми. Они попадались всё чаще. Я был среди какого-то мёртвого царства кладбищ и смертей. Я вспоминал о том, что сам имею право выбрать время ухода. Я не знал, зачем и почему, у меня не осталось вдохновения и чувств. Я не писал, потому что не видел смысла. Мне совершенно не хотелось об этом с кем-то говорить. Это не значило, что я постоянно был угрюм или носил весёлую маску. Я был искренне весел, когда это требовалось. Я снова вернулся к героину из осознания того, что я свободный человек и имею на это полное право. Казалось, до моего знакомства с «хмурым другом» я словно и не жил. Я видел многое в своей жизни, но так и не видел настоящего счастья, о котором говорили люди. Для кого-то счастье в любви, для кого-то в деньгах, в друзьях, в закате над рекой, в самореализации, моё же оставалось в героине, когда музыка отошла от меня. Нет, наша группа всё ещё существовала, я всё ещё числился в ней, мы даже готовились к записи нового альбома. Я пел, но понимал, что уже ничего не напишу.
Моя личная жизнь тоже катилась под откос. Во мне было что-то такое, от чего разбегались все нормальные девушки: «Да ты же придурок и наркоман», — говорили они. Только шлюхи всегда были со мной. У меня были деньги, я охотно делился наркотиками. Я вообще не жадный, если только это не дело принципа. Я трахался с какими-то тупыми овцами, которые восхищались мной. Но что они могли дать мне взамен кроме себя? У меня был Герман, он всегда одинок, поэтому понимает меня.
— Так почему мы не можем быть вместе? — спросил он у меня, когда мы сидели на балконе и пили кофе.
— Мы и так вместе, — ответил я.
— Я про навсегда, — он нахмурил брови. — Я имел в виду, любить друг друга.
— Мы и так любим, — я улыбнулся.
— Почему всё не как у людей?
— А ты бы хотел эту розовую романтическую чушь: цветы, ужин при свечах, кофе в постель?
— Не утрируй так. Я просто хочу постоянства, — он постепенно выходил из себя.
— Мне нужны тёлки. Это же инстинкт. Я же не гей.
— Ты и так трахаешь группис. Что тебе ещё нужно?
— Хочу нормальную женщину. И вообще, я адски запутался.
— Пора бы тебе, наконец, определиться.
Я действительно его любил, но не так, как ему хотелось. Или просто стремился быть как все и иметь семью. Где-то в глубине души я не мог позволить себе быть с Германом, хотя европейские законы и общество это вполне себе одобряли. И это бы подняло нашу популярность у девочек. Но было одно «НО»: я — натурал. Меня выворачивало от мысли секса с мужчиной.
Я не мог много времени проводить с ним сейчас, меня просто выводила из себя его мрачность. С каждым годом всё хуже и хуже. Если я был циничным и даже весёлым психопатом, который не прочь пошутить про кишки и расчленёнку, то он же молча коллекционировал купленные через интрнет банки с человеческими органами и уродливыми эмбрионами. Мне казалось, что последнии были его нерождёнными детьми. Он словно создавал склеп из собственной квартиры. Я чувствовал себя здесь, как в кунсткамере. А ещё в придачу его ручной ворон Карл постоянно пытался меня клюнуть и впадал в панику, стоило мне только войти в комнату.
Мне как-то привычно было жить в обычной квартире с самым простым дизайном, без особых заморочек. Я знал, что всё это надоело бы мне очень скоро и ремонт пришлось бы делать раз в месяц. Я мог бы поступать как Джек Ди, замусорив одну квартиру до невозможности, с чистой совестью продавать её и перебираться в другую. Мне было проще жить в окружении вещей, которые не бросаются в глаза. Кто-то назвал бы это ложной скромностью. Я довольно просто одевался в обычной жизни, в отличие от Германа: несмотря на то, что моя одежда была не из дешёвых, это оставались все те же футболки, джинсы и кеды. Выглядел я всё так же изящно-потрёпанно. Мы с Германом стали полными противоположностями в своих привычках. Я читал контркультурных авторов и постмодернистов, Герман же предпочитал классику восемнадцатого-девятнадцатого века, в основном всяких немцев и французов. Я слушал старый рок и джаз, а он любил прогрессив, неоклассику и какой-то дичайший андеграунд. Он был ходячей галереей, живым холстом, а у меня была меленькая татуировка с вороном на лопатке, как у тупой изды. Я пил виски, а он абсент. Я любил героин, а он опиум. Я любил женщин, а он мужчин. Я не знаю, что могло нас связывать? У нас не осталось общих привычек, но мы ещё держались вместе. Наверное, это и есть настоящая любовь, не омрачённая постелью.
* * *
Мы всё же решили приступить к записи альбома. Я настоял на Америке, потому что мне больше нравились их студии, а также хотелось куда-то вырваться от этой вечной осени Великобритании, мать её. В этот раз это был Лос-Анджелес. Совершенно мерзкий и продажный город, который это не скрывает, поэтому выглядит честнее Москвы. Однако, он чем-то мне полюбился. Дани с видом знатока заявил, что это просто американский Геленджик. Мы шатались по знаменитому Сансет-Стрип, чтобы поглазеть на прославленных шлюх, которых там не оказалось. О времена, о нравы! Вообще-то теперь город падших ангелов производил какое-то тихое и семейное впечатление, ни то, что почти сорок лет назад. Кто если не мы наведёт здесь шухеру?
У меня вообще пошла череда разных невероятных экспериментов с наркотиками. Я пробовал всё и сразу, что бы мне ни предложили. Я снова стал тянуться к новому, прямо как в годы своей юности. Всё это находило приют в моих венах. На моих руках не было живого места.
Надо отметить, что мы даже умудрялись записывать альбом и даже укладывались в сроки. Герман на меня злился, я не понимал, за что, ведь я всё же пел.
Мне порой мешали мои галлюцинации. Чёрные бабочки. Я постоянно размахивал руками и спрашивал у всех: «Вы их видите?». Все крутили пальцем у виска. Я говорил всем о реальности галлюцинаций, о том, что существует множество измерений и я просто вижу сквозь них. Именно поэтому здесь сейчас эти бабочки, которые щекочут меня лапками. На самом деле я просто жутко чесался от побочек. Хуже всего были только саблезубые олени. Они приходили, когда я пытался спать. Я не мог закрыть глаза: мне казалось, что тогда они начнут откусывать мне конечности.
Я удивлялся: как я ещё жив? Больше всего, поражались остальные. Я превратился в ходячий скелет с тёмными провалами глаз. В моём состоянии лучше было бы вообще не смотреть в зеркало. На мне поставили крест. Окружающие больше не воспринимали меня как живого человека. Я превращался в противного самому себе живого разложенца. Моя маска треснула. Я жил последним огнём своей героиновой страсти. Я летел на синее пламя смерти, словно мотылёк. Я знал, что скоро конец и все это знали. Мне впору было бы уже стать себе противным, но я видел себя героем рок-н-ролла, который скоро отправится в могилу. Никто больше не хотел мне помочь. В минуты просветления я проклинал всех и всё. Я говорил, что продюсеры специально подсадили меня на наркотики, чтобы проще управлять мной, чтобы продать мою смерть дороже. Когда я умру, все будут любить меня, как никогда не любили при жизни. Смерть — лучший пиар.
Однажды утром я вмазался чёрным мексиканским героином…
…Тут моё сердце сделало паузу, такую же значительную, как эти многоточия. Я попытался вздохнуть, но воздух не шёл в мои лёгкие. Несколько секунд паники и борьбы, потом отчаянье и смирение. Мне сразу стало наплевать на то, что я умираю. Я ничего не сделал хорошего за всю жизнь, но было уже всё равно. Снова сладкий миг блаженства и капелька сожаления, только совсем немного, что я не дописал альбом и больше ничего. Так я второй раз умер, попадая в уже знакомое мне состояние. Всё бы пошло по пути в бесконечность, если бы меня вдруг не затянуло обратно. Я очнулся в воде на полу в ванной. Вокруг меня плавали цветы из разбитой вазы. Очевидно, падая, я ещё и сорвал раковину. Надо мной склонился Герман.
— Я просто хотел попрощаться, — сказал он.
Я ничего не сказал, снова проваливаясь в пустоту. Когда очнулся снова, вокруг меня была стерильная пустота больничной палаты. Они спасли меня уколом адреналина в сердце, когда я так верил в халатность медицины. Я был жив и мне это не нравилось. Хотелось домой и напиться.
Сэмми Грин
Это было самое отвратительно время за всю историю группы. Кто когда-нибудь жил или работал с конченым героиновым наркоманом, тот поймёт. Все мы видели, что Макс доживает свои последние дни, но ничего не могли поделать. Душеспасительные беседы не помогали. Он просто смотрел на меня своими выцветшими глазами и говорил: «Окей, чувак, но сперва принеси мне вмазаться» И я приносил, потому что это давало нам возможность продвинуться в студийной работе, протянуть ещё один день. Я был лютой сволочью, но признаюсь, что в тот момент больше переживал за контракт, нежели за жизнь самого Тота. На нём я уже давно поставил крест. Я думаю, что все уже тоже отчаялись ему помочь. Мы предприняли последнюю попытку, позвонили в Россию его матери, может быть, ей бы удалось направить его на пусть избавления, но она просто отказалась разговаривать с ним, потому что знала, что так и будет. Мы бы могли засунуть его в клинику, но не могли по причине контракта. Вам даже странно представить какие деньги стояли тогда на кону. Я всё ждал, что в один прекрасный момент проснусь от звонка, и чей-то взволнованный голос сообщит мне о смерти Макса. Да, это случилось, но…
Дани:
Макс говорил об одном случае своей передозировки, но остальные были столь сильными и его довольно быстро приводили в чувства. За последний год я успел насмотреться на две попытки самоубийства и, как минимум, три отъезда за грань бытия. Он слишком зачастил со своими прогулками по достопримечательностям Ада. Герман как-то раз сказал ему: «Ты настолько отвратительный уёбок, что даже там тебя никто не хочет видеть».
В первый раз он наелся кодеина, залез в ванную и вскрыл себе вены. Никогда не видел, чтобы кто-то делал это наискосок. Череда косых молний на синюшной коже. Макс не оставил прощальной записки и даже потом толком не смог объяснить причину своего поступка. Скорее всего, это был наркотический психоз. Его спасло только то, что девка вернулась в его номер за своими трусами и обнаружила это. Ему наложили множество швов. Он выглядел как Франкенштейн. На запястьях остались эти отвратительные шрамы.
Нам удалось отмазать его от попадания в дурку и как-то замять эту историю в прессе. Максу приходилось каждую неделю беседовать с личным психологом. Я не знаю, сильно ли это помогло справиться с его кризисом. Как я понимал, он до сих пор пребывал в депрессии после смерти Шона, держал в себе чувство вины, которое потом накрывало его вновь и вновь на протяжении трёх лет.
Макс был одержим смертью. В свободное время он водил меня на кладбище, наблюдать за похоронами. Он говорил, что энергия скорби предаёт ему сил.
Второй раз он выпил десять таблеток какого-то снотворного и запил это водкой. В то утро нам нужно было рано вставать, так что его подозрительный сон быстро вызвал у нас тревогу. Рядом валялась пустая бутылка и упаковка таблеток, так что всё было очевидно. Его, конечно же, откачали. Он сказал, что просто не мог уснуть и по незнанию принял слишком много таблеток. Врачи сделали вид, что поверили ему, но мы-то знали правду.
Я не узнавал Макса, он всегда казался мне сильным, даже сильнее своей наркозависимости. Он словно бы умел держать её в узде. Эдакий умеренный торчок по типу Берроуза. Потом же собственные демоны почти раздавили его. Он сам дал им дал им власть над собой. Его желание смерти становилось столько велико. Он как-то раз сказал мне, что допишет этот альбом и уйдёт навсегда. Он говорил, что ему не место в мире людей. Это чуждо ему. Он сделал всё, что хотел.
Но я знал, как он одинок. У нас у всех были семьи или постоянные подруги. У него не было никого, даже родителей способных его поддержать. Ему хотелось приходить куда-то и чувствовать себя в безопасности, но он возвращался только в царство своих кошмаров.
Герман Кроу.
Я видел его тлен и печать смерти. Я знал, как отвратительно любоваться этим. Полуживой, просто тень от тени. В среде наркоманов очень модно мериться глубиной дна и низостью падания. Вот вы все смотрели на Макса и думали, что нам ещё до него далеко. Это был очень эгоистичный способ утешения. Я был заворожен его близостью к краю обрыва. В то же время я понимал, что он счастлив: ещё немного и он сбудется его мечта о вечной жизни за пределом. Я сам и не мог мечтать о таком. Он смог отвергнуть царство мечты, забыть все мирские удовольствия, выбрав приятную смерть тела. Я давно с этим смирился и не мог мешать человеку в его выборе. Угасая он творил. Этот альбом был лучшим за всю историю группы. Он стремился его закончить.
Когда-то я сам стремился умереть. И я понял, что нельзя насильно заставлять кого-то жить. Эта жизнь станет страшнее ада. Что есть жизнь? Ничего! Концлагерь для души. Гнусный материальный мир для создания убогих материальных ценностей. Самоубийство — выбор нигилиста. Наркозависимость — весёлое самоубийство в рассрочку.
Я был рядом, когда его сердце остановилось. В этот миг мне стало страшно. Страшно, что я останусь здесь один. Я вдруг почувствовал себя совершенно пустым, стало холодно и темно, словно я стал вдруг единственным человеком во вселенной. Я просто стоял и смотрел на его тело, распростёртое на полу ванной. Так странно: цветы в волосах, на губах улыбка, игла в вене и мерцающий свет лампы. Я невольно вспомнил слова из нашей старой песни:
«Счастливым летним днём Ты обернешься льдом С гирляндой в волосах И радостью в глазах».«Он всё знал», — подумал я тогда. В голове промелькнула хлипкая мысль: как жаль, что я не могу это сфотографировать, но ничего, я потом запомню, чтобы нарисовать всё в мельчайших деталях.
Я коснулся его губ, мечтая почувствовать вкус смерти, сковавшей его тело. Они были горькие, словно слёзы. Я целовал саму погибель, мечтая прикоснуться к грани неизвестности. Это был, наверное, наш лучший поцелуй.
Потом вбежал Дани, вызвал врачей. И именно тогда я осознал, какой я идиот. КАКИЕ МЫ ВСЕ ИДИОТЫ! Во мне мешалось моё подлинное знание мира и глупое мирское и смертное.
Они не хотели его спасать. Дани ругался. Он достал из кармана нож и просто приставил к горлу этого придурка в белом халате. А я просто сидел на полу и смотрел. Два укола адреналина в сердце. Медсестра вскользь заметила, что Макс очень красив, жаль, что наркоман. Как бы мне хотелось ей вмазать, смешать её лицо с грязным полом. Его увезли в реанимацию, а я остался наедине со своим кошмаром.
Я не узнал того, кто вернулся вместо него…
Макс Тот
В скором времени я уговорил Германа забрать меня отсюда. По мне так уж лучше была смерть, чем больница. Я чувствовал себя отлично для полутрупа.
Песни для альбома обрели вдруг новый смысл, даже те, которые мы написали несколько лет назад. Я был жив. Но зачем? Все носились со мной, следили за каждым моим шагом. Из студии убрали даже бухло. Я с детства не чувствовал себя таким ограниченным в правах. Вся группа, наш менеджер и прочее окружении ни отходило от меня ни на шаг. Они следили, чтобы я снова не взялся за наркотики.
В конечном счёте, я сумел их построить, сказав, что худшее, что они могут сделать, это выгнать меня из группы, но как они запишут альбом без меня, ведь половина вокальных партий ещё не готова? Давление снизилось, но я понял, что вопрос о моем увольнении уже висит в воздухе. Уже не моя проблема, кого они найдут на роль нового вокалиста. Я уже не мог думать об «Опиюшной вороне», как о своём детище. Меня беспокоила лишь моя задница.
Я не употреблял героин с того раза больше никогда. Это стало последней точкой в наших с ним отношениях. При одной мысли об уколе меня мутило.
Мы записали альбом и поняли, что хотим отдохнуть друг от друга. Воздух между всеми нами искрился так, что грозил взорваться. Тогда я взял и дёрнул в Вегас по приглашению одной списанной рок-звезды. Там намечалась масштабная вечеринка среди заплывших жиром идолов восьмидесятых. Город не произвёл на меня впечатление. Я просто ходил по казино, ставил на «13» чёрное в надежде испытать свою удачу, но всё равно проигрывал. Мне патологически не везло в азартные игры, так что очень скоро я забил на это. На вечеринке я скучал, так как скука стала моим вечным спутником в этом путешествии в могилу. Я пил, хотя мне было нельзя: хотелось снова почувствовать себя прежним.
Потом я увидел классную задницу смуглой брюнетки. Мне вдруг подумалось, что если на лицо она окажется ничего, то точно пойду познакомлюсь. К ней подвалил какой-то стриженный мужик в костюме. Я решил, что если она пойдёт с ним, то она просто шлюха. Но эта девочка ловко его отшила. Я даже был готов ей аплодировать. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы побороть волнение и подойти к ней.
— Привет! Отстойная вечеринка, не правда ли? — сказал я.
Она кивнула со скучающим видом, оглядывая возникшего перед ней бомжа.
— Может быть, пойдём куда-нибудь нажрёмся? — моя прямота меня поражала.
Ципа ненадолго задумалась, созерцая танцпол.
— А пойдём, — сказала она, махнув на всё рукой.
Мы вышли и сели в мой арендованный лимузин. Кто же катается по Лас-Вегасу без лимузина? Я попросил водителя отвезти нас в хороший и нешумный бар поблизости. Мы просто пили и разговаривали. Я ничего не сказал ей о себе, вернее — о своей деятельности. Мы говорили о книгах и музыке. У нас не было общих пристрастий, но я понял, что вкус у неё, тем не менее, есть. И всё это время мы даже не удосужились узнать имена друг друга. Это был обычный милый пьяный трёп. Мы поехали кататься, прихватив бутылку коллекционного шампанского. Всё было очаровательно, безумно и как-то урывочно. Между нами вообще не было каких-либо намёков на секс, мы просто дурачились. Мне кажется, она просто нашла отличного собутыльника в моём лице.
С утра мы проснулись в моём номере. Мы валялись на диванчике в прихожей друг на друге. На столе стояла открытая бутылка текилы, кажется, мы выключились в разгар пьянки. Солнце светило сквозь здоровенное окно во всю стену. Я поскорее поспешил задёрнуть шторы.
— Голова болит, — сказала она. — У тебя есть аспирин?
— Нет, но я знаю хорошее русское средство — это похмелиться!
— Pokhmelitsa? — переспросила она.
Я просто реально не знал, как это переводится на английский. За все годы я не встречал тут аналогового слова. Наверное, это что-то типа национальной русской забавы. Пива в холодильнике не обнаружилось, так что в ход пошла текила. Ну и, как обычно, мы переусердствовали и просто напились снова.
— Чувствую, я надолго здесь застряну, — сказала она, растекаясь по дивану.
— Да оставайся навсегда, — сказал я в порыве чувств. — Да и вообще, будь моей женой?!
Она сказала, что согласна. Тогда мы вспомнили, что это Вегас, и тут не возникает проблем со свадьбой. Мы только сгоняли в ювелирный магазин за кольцами и поехали в церковь (или как это, вообще, называется?). Это был наш первый поцелуй, всё как в старые добрые целомудренные времена. И только потом я додумался спросить её имя — это была Катарина Фернандес, как выяснилась, известная актриса и модель. Вот так-то. Между прочим, моя действующая жена по сей день. Обо мне она тоже раньше не слышала, что означает, что не такие уж мы известные. В первую брачную ночь мы поняли, что действительно созданы друг для друга. Она была настоящей богиней секса. Странно, но я действительно влюбился, как никогда в жизни. Вот так иногда бывает, что самому не верится.
Кэт оказалась натуральной стервой, и это было скорее плюсом, чем минусом её характера. Женщина, способная поиметь всех, а они будет только рады. У красивых женщин редко бывает лёгкая судьба. Я говорю о настоящих женщинах, а не о шлюхах, что раньше окружали меня. Я столкнулся с ней впервые и был поражён.
Она родилась в американской глубинке в одном из однотипных маленьких городков, где все знают друг друга в лицо. Её отец был мексиканцем, а мать наполовину афроамериканкой. Я всегда замечал, что люди, в венах которых течёт кровь разных народов, оказываются особенно красивыми.
У Кэт было множество целей и стремлений, ей вовсе не хотелось сгнить заживо в городе своего детства. Она знала, что ждало её в этой дыре: замужество за одноклассником, пятеро детей, работа в местном супермаркете и год от года растущая задница. Так заканчивали все. Она видела этих людей, которые так упорно делали вид, что счастливы, но на самом деле были готовы пустить себе пулю в люб. Но не могли даже умереть, потому что их держали обязанности, дети и кредиты. Кэт не питала иллюзий стать звездой, ей просто хотелось другой жизни. Тогда она сбежала из дома и отправилась в Лос-Анджелес, чтобы стать стриптизершей. Она не была так наивна, чтобы соваться в Голливуд. В стрип-баре её заметил один из продюсеров и предложил сняться в порно. Она согласилась, потому что к тому времени уже потеряла всякий стыд. Кэт относилась к порно как к работе, не примешивая лишние эмоции. Ей было наплевать, что скажут о ней другие. Она не считала, что пошла туда от тяжёлой жизни. Это было для неё очередной авантюрой и поиском себя. Я не видел смысла осуждать её за это. Это так же бессмысленно, как и ревновать женщину ко всем, кто был до тебя. Я сам не был святым и не был ханжой. В конце концов, Кэт ушла из порно, получив контракт модели. Сейчас она начала свою карьеру в большом кино.
Она понимала меня, как никто другой. Она никогда не кричала на меня, умея воздействовать иначе. За внешней мягкостью скрывалась стальная жёсткость её слов и поступков. Мы всё ещё были двумя свободными и независимыми людьми, не стремясь целиком и полностью принадлежать друг другу. Наш брак оказался равноправным партнерством, а не иссушающей зависимостью. Отношения, не упирающиеся в быт. Я долго избегал брака и длительных отношений вообще, потому что у меня перед глазами стоял пример моих родителей, сломавших свои жизни друг о друга. Я никогда не видел, чтобы они были счастливы. Между ними стоял я, тот, кого они ненавидели, но вынуждены были любить, потому что так надо. Мы с Кэт были свободны от всего этого.
Я до сих пор не знаю, что она нашла в таком идиоте, как я. Я не понимаю, чем заслужил такой подарок судьбы. Может быть, что-то хорошее во мне есть.
Я бросил наркотики и почти полностью отказался от алкоголя. Всё произошло само собой, без какого-либо давления со стороны Кэт. Я просто понял, что хочу жить, хотя бы просто ради неё. Я не хотел расстраивать свою любимую женщину собственным полумёртвым состоянием. Я всегда успею сдохнуть, а пока что настало время жить. И я жил, понимая, что всё, что происходило со мной раньше, было просто кошмаром и адом. Я был счастлив по-настоящему, и это оказалось сильнее героина в тысячи раз. Уйти с пути саморазрушения на самом деле легко, когда ты обретаешь смысл.
Катарина Фернандес
Мне кажется, что брак стал для меня самой большой авантюрой. Просто так похмельным утром взять и выйти замуж за первого встречного — отличное начало дня. Поначалу мы присматривались друг к другу, испытывая странную смесь страха и интереса. Кто же на самом деле этот человек, с которым я теперь делю стол и кровать? А потом ты забиваешь на всё и бросаешься в эту пучину эмоций. Просто весело проводишь время, забывая, что это и есть те самые узы брака, которых ты так боялась. Макс был очень странен в своих привычках, стремясь разграничить своё личное пространство. Мы с ним даже спали в разных комнатах, потому что он мучился от жары и мог спать только один. Он говорил, что он индивидуалист до мозга костей и для поддержания нормальных отношений, надо уметь чётко проводить свои границы. И семейные пары вовсе не обязаны срать и спать вместе.
Любила ли я его? Я не знаю. Любил ли он меня? Мы упорно казалось, что наш брак просто попытка игры в нормальных людей. «Смотрите мы нормальная пара! Мы ходим вместе на светские тусовки и обедаем в лучших ресторанах».
А в целом мы были несчастными людьми, которых общество по-прежнему не желало принимать, несмотря на всю свою либеральность. Он бывший наркоман, я бывшая порноактриса. Мы просто две опустившиеся знаменитости, которым ничего не остаётся кроме как держаться друг за друга. Ходили слухи, что он женился на мне только для того, чтобы снять с себя клеймо гомосексуалиста. Не сказала бы, что это действительно так.
Макс не стеснялся быть со мной. Его совершенно не волновала моя репутация. Людям моей профессии трудно найти себе пару вне индустрии.
Я знала, что должна оставаться с ним, потому что без меня он бы сторчался и умер. Ему нужно было жить для кого-то, потому что он не видел иного выхода.
Джек Ди.
Тот стал тухдым, эта бабища его испортила. Не пить, быть вегетарианцем и заниматься спортом не очень в его духе. После его удивительного прозрения я понял, что вообще не знал этого человека. Он начал толкать на трезвую голову совершенно дурацкие телеги.
Помнится, как-то раз Кэт завалилась к нам на студию и сказала:
— Напоите кто-нить Макса, а то он стал каким-то скучным.
Но теперь-то его просто так не напоишь. Нужен весомый повод. Затем заколотить все двери и окна, чтобы он не полез за героином по-синьке. У бывших торчей так всегда.
Герман Кроу
«Лучше бы ты и правда умер!», — бросил я сгоряча. Не было теперь неуютно рядом с ним. Он притворялся счастливым и рассказывал всем об этом. Он много жрал, потому что оргнизм после отказа от наркотиков требовал слишком много. Вообще становился жирным. Не брился и не красил волосы. Выглядел отвратительно. Как можно было за полгода превратить себя в такое. А до этого у него всегда спрашивали паспорт в алкомаркете, не веря, что ему есть восемнадцать. Теперрь ему можно дать все сорок. Потом ему в голову ударила другая шиза — спорт и ЗОЖ. Мы все время от времени тусили в качалке, но фанатами штанг и турников не являлись. У Макса это была новая альтернатива героину.
Часть 3
Глава 1
Герман сидел на репетиционной базе и курил траву. Ему надо было как-то унять боль в колене, когда перестали действовать анальгетики. Марихуана оставалась самым верным и надёжным лекарством. Он всегда приходил раньше, чтобы повозиться со звуком, потому что уже не было сил торчать дома одному, там посреди всякого хлама и воспоминаний. Иногда становилось невыносимо слушать треск пластинок и шум дождя, пусть даже они стали самыми любимыми звуками жизни. «Старость не в годах, — подумал он. — Она в голове. Она приходит тогда, когда ты болен и никому не нужен». Когда тебе одиноко и холодно внутри, мысль о том, что тобой восхищаются тысячи, а может быть, и миллионы людей, ничуть не греет.
Пришёл Дани и сел рядом на диван. На нём была какая-то яркая майка с кислотными разводами, хотя обычно он всегда ходил в чёрном. Герман зажмурился, его глаза не переносили даже простой насыщенности цвета. Эти яркие пятна стали чем-то враждебным для его мира, тем, чего не должно было быть. Все намёки на радость казались Герману невыносимыми на фоне его культа страдания.
— Как ты? — спросил басист.
— Разве ты не видишь, что всё отлично? — саркастически ответил Герман.
— Так что с тобой?
— Моё проклятое колено продолжает ныть.
* * *
Герман вдруг припомнил тот день пару месяцев назад, когда Макс потащил его кататься за город. Закатное солнце, бескрайние поля, полупустое шоссе. В глазах его играла дьявольщина с примесью опиатов и транквилизатора. И всё прекрасно. Только Герман вдруг некстати припомнил шутку Дани, что Макс водит как Винс Нэйл и за руль с ним садится себе дороже. Они ехали по бескрайним полям, солнце следило за ними своим единственным глазом. Шоссе заливал золотой свет. В колонках играло «Knocking on heavens door» в исполнении Боба Дилана. Германа немного коробило от этой песни. Он вообще в последнее время предпочитал что-то потяжелее. Макс подпевал вполголоса.
Ветер развивал его выгоревшие соломенные волосы. Он спрятал глаза под тёмными очками. Становилось трудно понять, о чём он думает на данный момент. Что за дурацкая тяга к открытым машинам? Герман не видел здесь ничего кроме желания покрасоваться. Тем не менее, они были счастливы, словно вновь вернулись на семь лет назад, когда между ними ещё царило полное взаимопонимание.
— Скорость — одна из немногих вещей, которые способы сделать меня счастливым, за исключением музыки и наркотиков, — сказал Макс, обращаясь скорее к себе самому, сильнее нажимая на педаль газа.
Засвистело в ушах от ветра.
— Бля, это же собака! — закричал он вдруг, стараясь со всех сил вывернуть руль.
Герману показалось, что в тот момент кто-то тряхнул земную твердь. Оскаленный зверь планеты стремился стряхнуть их себя словно парочку вшей. Герман знал, что скоро последует столкновение и постарался на время покинуть своё тело. Секунды размотались словно кишки. Удар о столб был чем-то привычным и ожидаемым. Треснуло лобовое стекло, рассыпаясь градом осколков. Хорошо хоть подушка безопасности сработала.
— Ебать мой мозг! — Макс выскочил из машины, оглядывая повреждения.
С досады он ударил ногой по колесу.
— Что сидишь? Вылезай отсюда, — обратился он к Герману, который досадно потирал ушибленный лоб. Удар пришёлся ближе к пассажирскому сиденью.
— Я не могу, кажется, я ногу сломал.
Герман открыл дверь и сделал попытку встать. Но раскалённый асфальт стал вдруг мучительно близок.
Макс не обратил на него внимания, созерцая труп огромной собаки, размазанный по дороге. Последние лучи солнца отлично гармонировали с лужей свежей крови. Красная колея тянулась на пару метров вперёд. Колесо продавило пса где-то посередине, но тот был ещё жив, несмотря на торчащее месиво внутренностей. Его лапы всё ещё скребли по асфальту, а изо рта текла красная пена. Макс присел возле него на корточки с выражением ужаса на лице.
— Я убийца, — прошептал он, хватаясь за голову.
— Что делать? — спросил Макс, поворачиваясь в сторону сидящего на земле Германа. — Я, правда, не хотел никого убивать. У него ошейник. Значит, у него был хозяин. Пиздец просто, — из под тёмных очков заструились слёзы.
Герман кипел от боли и злости. У него сломана нога, а Макс думает о какой-то собаке.
— Идиот, я сейчас сдохну! Вызови, блять, скорую.
Макс озадачено уставился на дисплей смартфона.
— Сеть не ловит… Не думал, что такое ещё встречается в наше время. Я сбегаю за помощью, — сказал он, удаляясь в сгущающиеся сумерки.
Герман остался один наедине с умирающей собакой и наступающей ночью. Никогда ещё в жизни он не чувствовал себя таких одиноким. Страх нарастал с каждой минутой ожидания. Этот час растянулся на вечность. Только подумать, какой-то час назад ты был счастлив, а теперь сидишь на земле с раздробленной коленной чашечкой, мучаясь от боли и страха. А ещё есть очень чёткая уверенность в том, что тебя предали. Лучше было бы умереть. Тогда не было бы ничего этого. Герман прекрасно знал, что Максу на него наплевать.
Он вернулся через час вместе со скорой и дорожной полицией. Они так и не заметили, что он был под наркотой, поэтому всё удалось списать на несчастный случай. А Герман до сих пор мучился со своим новым металлическим коленом, после парочки операций.
* * *
Пришли Джек и Майк. Оба были немного с бодуна, что, впрочем, не мешало им играть. Мастерство не пропьёшь. Джек хвастался, что дрожащие руки делают его игру на барабанах неподражаемой. Герман очень сомневался в этом, но, как ни странно, Джек Ди справлялся со своей ролью. Недаром родители назвали его в честь виски.
Макс нагрянул последним. Он был более живым, чем в прошлый раз. Он загорел и перестал выглядеть мертвецом. Казалось, он был единственным человеком, пребывающим в хорошем настроении. Но Герман знал, что Макс переменчив, как тайфун. Веселье означало, что он мог сорваться в любой момент, особенно сейчас.
— Ты где пропадал всё это время? — спросил Дани. — Ты вроде только сегодня вернулся в Лондон.
Вместо ответа Макс показал средний палец, на котором поблёскивало простое золотое кольцо. Это было странно, потому что кольца он вообще не носил.
— И что, — спросил Герман?
— Я женился! — ответил он радостно.
— А почему на среднем? — выпалил Герман, пока до него толком не дошёл смысл всего сказанного. — Когда, блять? На ком?!
Макс присел на диван и, улыбаясь, продолжил.
— В Лас-Вегасе. На Кэт. Она очень клёвая.
Герман знал, что не стоит относиться серьёзно к спонтанным бракам в городе греха, у него даже камень от души отлёг. Это просто очередная шлюха, очень скоро они разбегутся, когда узнают друг друга поближе. Ему не хотелось отдавать Макса какой-либо бабе навсегда. Более привычным было видеть его женатым на музыке.
— А почему ты нас не позвал?! — встрял Дани.
Макс развёл руками.
— Мы вообще никого не звали. У этого чёрного действа не должно быть свидетелей.
Сейчас Герману захотелось его пристукнуть, чтобы он больше не болтал о своей бабе. Для искусства имеют ценность только одинокие люди, потому что у них больше сил и времени на то, чтобы заниматься творчеством. Всё остальное существование ведёт к конформизму. В сущности, семья — губительна для личности. Чтобы оставаться свободным от мирских условностей, женщин надо менять как можно чаще. Это стимул жить и способ не стареть. Герман поклялся, что есть Макс решит завести детей, то тот собственноручно его придушит.
Но, тем не менее, он принял его приглашение заглянуть к ним домой после репетиции. Не терпелось посмотреть на ту, которая могла выбрать этого идиота. Выяснилось, что Макс совсем не может петь. Майк сказал, что это, скорее всего, проблема акклиматизации. После +35 в Л.А. лондонские +13 переносятся плохо. Герман всё равно нашёл, к чему придраться. Его поразило, что Макс был с ним неожиданно мягок и даже не пытался спорить. Просто охотно со всем соглашался. Может быть, если с тобой перестали ссориться, то ты уже ничего не значишь?
По мнению Германа, он вообще сильно изменился. И даже неожиданно для всех завязал с наркотиками. Не пил, только без конца курил сигареты.
— Да, я бросил, — сказал Макс, когда они стояли на балконе, подставляя лица дождю. — Я был бы рад, если бы все последовали моему примеру.
— Я не могу. Я должен заглушать боль, — Герман кинул окурок на улицу.
— Что с тобой, чувак? — спросил Макс, кладя руку ему на плечо.
— Если так, то это просто боль в колене. Если копать глубже, то у меня подозрение на опухоль мозга. Такая мерзкая опухоль, и она будет расти и расти, пока не прикончит меня совсем, — Герман полез за новой сигаретой, его руки заметно дрожали. Он прикрыл глаза, словно морщась от боли. — Может быть, два, может быть, три года. Но это не долго.
Макс уставился вниз, на мостовую, где протекала стремительная река трассы. Затем взял Германа за руку. Она казалась такой бледной по сравнению с собственной смуглой от южного солнца ладонью.
— Я верю, что ты справишься, — сказал он, глядя в глаза. — Может быть, у тебя нет никакой опухоли ещё.
— Если её нет, её придётся создать.
— Ого! Тот страшный чувак из телика! — воскликнула Кэт, когда Герман пересёк порог дома. Он был при полном параде в своей жуткой шляпе и плаще.
— Ого! Та тёлка из порнухи! — ответил Герман.
Макс самодовольно оскалился. Его ничуть не расстроил тот факт, что Кэт трахалась на камеру.
— Я не стыжусь этого, — сказала она. — Глупо стесняться своего прошлого. Эта была просто работа, даже не секс. Узнай дрочеры, как снимается порно на самом деле, у них бы больше никогда не встало.
Правда, теперь Кэт осваивала для себя большой кинематограф, оставив порно-бизнес в прошлом. Она не считала это зазорным или даже постыдным, это было не стереть, как и тату на ягодицах. Если Герман и надеялся внести смятение, то он явно проиграл.
Он возненавидел её сразу же, в частности, за то, что она была умна, в отличие от всех пассий Макса. А умные женщины крайне опасны. Она претендовала не только на место в постели, но и в сердце Макса. Этого Герман никак не смог простить. И не было сил выразить обиду сразу, просто разорвать и уйти. Осталось только мило улыбаться и прятать всё глубоко внутрь. Он не мог ссориться с Максом, хотя бы из-за группы.
Макс притаскивал Кэт на репетиции, в перерывах он трахал её в туалете, словно какую-то фанатку. Она кричала на всю студию. Ей нравилось быть шлюхой, но только с ним одним. Она избрала путь верности, собираясь идти по нему до конца. В ней уцелела какая-то часть морали.
Потом Кэт уехала на съёмки в Голливуд. Прежний накал куда-то улетучился, и всё устаканилось. Репетиции и репетиции, попытки поднять свой уровень выше головы. Редкие концерты в пределах Европы, размеренное существование зрелой рок-группы. «Opium Crow» двинулись в Америку для съёмок нового видео и зависли там надолго. К теплу и солнцу Калифорнии быстро привыкаешь.
Кэт пусть и была мексиканкой по происхождению, но являлась гражданкой США, что очень сильно помогло Максу с получением гражданства. Они купили неплохой особняк в тихой долине в получасе езды от Лос-Анджелеса. Скучный элитный райончик, подходящий для того, чтобы производить на свет личинок и жиреть. Максу нравилось, что Кэт полностью разделяла его позицию на счет детей и принимала противозачаточные. Им обоим казалось, что производить в этот мир нового человека — это лишний раз обрекать кого-то на страдания, особенно после всего того, что они пережили по вине собственных родителей. Они оба провели очень бурную молодость, не чураясь наркотиков, никому неизвестно, как это могло сказаться на будущих детях. У Макса и Кэт просто не было времени и сил, чтобы любить ещё кого-то третьего самой искренней любовью.
— Ты жирный, — говорил Герман каждый раз вместо приветствия. — Американское гражданство влияет на твой аппетит.
Следующим шагом для «Opium Crow» стало расставание со старым лейблом и создание своего собственного. Так, став полностью независимыми, они могли позволить себе всё, что угодно. Было решено переиздать все прежние альбомы, в том числе нулевой «Дорожки битого стекла», который был наполовину русскоязычным. Никто не ожидал, что он вдруг будет пользоваться такой популярностью в мире, чего уж там говорить про Россию и страны СНГ. Альбом оказался принят и понят, несмотря на языковой барьер и не самое лучшее качество записи.
— Ты понимаешь, если даже мы продадим говно, его всё равно купят! — воскликнул как-то раз Дани, радостно подсчитав в мозгу прибыль.
Герман вздохнул:
— Профессионал просто не может позволить себе продавать говно. Я бы перестал себя уважать.
— Мы только что толкнули говно в виде нашего дебютника, — хмыкнул Макс.
— Это не говно, это воспоминания, это история.
Макс оставался в стороне от работы над новым материалом. Ему было нечего предложить. Всё это время он писал лишь стихи, оставляя их гнить неизданными. Ему больше было нечего сказать в своих песнях. Это злило Германа, он понимал, что лишается одной из главных движущих сил группы. Их музыка лишалась идеи.
— После завязки ты никуда не годишься, — сказал он.
— Это было ещё до того, как я завязал, — ответил Макс.
— Это всё из-за женщин, — проскрипел Герман.
Макс тяжело вздохнул, он понимал, что Герман ненавидит Кэт, но в последнее время это становилось просто невыносимым.
— У меня были и другие женщины, которые не отнимали у меня желание творить, — ответил он, стараясь не впадать в гнев, он становился всё менее конфликтным.
— У тебя были тысячи женщин от дьявола, пришла одна от бога, спасла тебя, забирая дар, как плату. Это — высокая цена за счастье.
— Можешь сделать меня несчастным, чтобы вернуть вновь вдохновение, но оно уже не будет служить во благо тебе. Я всё ещё могу петь. Мой голос никуда не делся.
Герман схватился за голову.
— Ты стал другим.
Они опять ссорились и не общались несколько дней, пока необходимость не вынуждала их снова выйти на связь. Это была уже не дружба, просто привычка. Болезненная и тягучая. Когда они разговаривали даже о самых нейтральных вещах, воздух вокруг искрился. Каждый их них понимал, что это начало шага в пропасть.
— Найди уже себе бабу, — сказал как-то раз Макс. — Просто так, чтобы отвлечься. Тебе не обязательно её любить.
Герман пропустил его совет мимо ушей, но где-то через месяц появился на вечеринке с новой подругой. Это оказалась чернокожая девушка с миленьким личиком и весом около ста двадцати килограмм. Леопардовое платье плотно облегало её внушительные формы, делая похожей на людоедку из дикого племени. Её отвратительные дреды свисали, как хвосты павианов. Толстуха удивлённо озиралась по сторонам, впервые попав на такое мероприятие. Когда один из журналистов не очень вежливо намекнул в интервью на габариты девушки, Герман заявил:
— Вы слишком много твердите про духовную красоту, при этом спите с топ-моделями. Обществу пора научиться видеть прекрасное в нестандартном. Вы всё живёте по канонам, хотя считаете себя прогрессивными и свободными людьми.
Макс знал, что это чистый воды блеф. Герман ненавидел жирных, и всё, что весило больше пятидесяти килограмм, считал уродливым. Он и Макса записал в жиртресты, когда тот отошёл от субтильного телосложения. Но, так или иначе, Герман заставил общество встрепенуться и говорить об этом продолжительное время. Макс понимал, что всё построено на лжи и разговоры про душевную красоту — это просто фальшь. Что у нас есть, кроме внешности? Ведь она просто отражение внутреннего. Это было взаимосвязано. Что красивого в душе у обиженных жизнью дурнушек? Там нет красоты, там только немая злость. Как можно судить про внутренний мир — ты не узнаешь, пока не разрежешь нутро. Только потом убедишься, что там все одинаковые.
Герман вскоре бросил свои сто двадцать килограмм шоколада и начал встречаться с довольно странного вида татуированной дамой. Она была даже симпатичной, если не считать того, что у неё отсутствовал левый глаз. Она всегда носила на его месте покрытую стразами повязку. Все подшучивали над тем, что они трахаются в пустую глазницу. Макс сторонился её из-за своей боязни физических недостатков. Сама мысль о её глазе наводила на него ужас. Должно быть, следующей пассией Германа станет старуха или карлик. Этот эпатаж не знал границ. Все понимали, что он делает это не потому, что ему плевать на их недостатки, а потому, что именно это уродство так и тянуло Германа. Ему самому нравилось чувствовать себя уродливым, забыв про то, что под слоями грима он всё ещё красив, несмотря на возраст.
«Opium Crow» всё ещё существовали, сидя в могиле своих противоречий и разногласий.
Глава 2
Герман хотел записать четвертый альбом, Макс настаивал на том, что эта идея провальна. У них не было достойного материала, который мог бы сравниться с предыдущим. Ему не хотелось выпускать проходные песни под именем «Opium Crow», ему не хотелось даже петь это. Было жутко осознавать, что они сдулись, подобно воздушному шарику. Герман предлагал вылезти за счёт шоу, но ни одно сценическое представление не сгладило бы откровенно слабые песни, что были как големы, склеенные из разрозненных частей старых, и не несли в себе ничего, кроме самоплагиата. Публика требовала новых дисков, на этом же настаивал и менеджер группы. Всё катилось в бескрайний бред.
В это время Макс пропадал неизвестно где, совершенно не вмешиваясь в процесс записи. Ему снова стало всё безразлично. Прошли те времена весёлых героиновых тусовок в студии. Он даже не пил, поддерживая образ примерного семьянина. Так он становился всё больше противен Герману, как человек, предавший свои прежние идеалы ради бабы. И дело было вовсе не в трезвости, а в прогибании под другого человека. Макс устал объяснять, что это был его собственный выбор, потому что он просто устал от постоянного саморазрушения. Всё дело лишь в том, что теперь его жизнь обрела смысл.
Макс записал свои вокальные партии. Это вышло не сразу, обычно у него всё получалось с первых дублей. Сейчас же пришлось повозиться подольше. Тяжело было петь вымученные тексты Германа и свои старые полунепригодные стихи. А эта музыка просто выводила его из себя. Самое страшное, что он не знал, как сделать лучше. Это и есть верхняя точка отчаянья.
Кэт старалась не сталкиваться с Германом. Ей была совершенно неясна его негативная реакция на её присутствие. Макс старался огородить их от встреч друг с другом, как только мог.
— Ты любишь её? — спросил Герман как-то раз.
— Нет, просто это мой шанс на нормальную жизнь. Мы все нуждаемся в любви и заботе. Все проблемы моих прошлых отношений заключались в том, что я уделял им мало внимания. Я был больше занят собой, много требовал по отношению к себе, ничего толком не отдавая взамен. Я был ужасным эгоистом. Нам всем пора взрослеть, и мне и тебе. Надо учиться быть счастливым.
Однажды она заехала, чтобы забрать его из студии поздно вечером. Они договорили съездить куда-нибудь поужинать. Кэт застала их в разгар очередной ссоры. Совсем не надо было знать русский, чтобы понять суть вещей. Герман повернулся к ней и уже по-английски добавил:
— Я бы лучше трахнул бурито, чем эту бабу!
Макс поступил так, как сделал бы всякий мужчина, когда у него на глазах оскорбляют его жену — он со всех сил двинул Герману в челюсть. Тот лишь усмехнулся, сплёвывая кровь. В его глазах читалась победа. Он впервые смог задеть Макса по-настоящему. Герман ликовал, скалясь окровавленным ртом. Сейчас он был тем самым уродливым монстром, коим всегда стремился казаться. Макс не хотел его бить, он никогда бы раньше не позволил себе такого. Сейчас он разорвал последнюю нить, связывавшую их когда-то.
— Я ухожу! Делайте без меня, что хотите! — сказал он, эта ссора помогла расставить все точки.
Дани звонил ему несколько раз, пытаясь заставить помириться с Германом. Макс был непреклонен, он всё для себя решил уже давно.
— Чувак, я чувствую себя маленьким мальчиком, переживающим развод родителей, — сказал Дани.
— Прости. Мне действительно очень жаль, — ответил Макс, вешая трубку.
Так и закончился его десятилетний роман с «Opium Crow», но не закончилась история.
Всё развитие событий было предрешено. Макс знал, что скоро поползут слухи о том, что он променял группу на бабу. Попытка сделать из Кэт очередную Йоко Оно. Но так никто из них никогда и не поймёт, что для музыканта музыка и женщины не стоят на ступенях одной лестницы, они находятся в разных параллелях и никогда не пересекаются. Макс знал, что никогда не променяет музыку ни на что другое. Уход из группы дал ему время для раздумий и ключ к поиску новых идей.
* * *
Герман вернулся в Лондон, где всё казалось привычным и знакомым. Мрачная тёмная Англия распростерла над ним свои чёрные крылья, прогоняя все печали. Место, где любой бы сошёл с ума, успело стать для него родным и знакомым. Все музыканты снова расползлись по своим углам, переваривая свалившиеся события. Это не могло не стать ударом. Герман старался убедить себя, что уход Макса не страшнее операции на аппендикс. Тем не менее, ему пока что было больно возвращаться к работе над музыкой. Всё должно зажить. Зато его сердце смогло впервые забиться свободно. Всё было кончено раз и навсегда. Он больше не был связан с Максом этими жестокими болезненными отношениями, что изводили его десять лет кряду.
Он стал завсегдатаем гей-квартала в Сохо, но без всякого желания кого-либо снимать, ему просто хотелось снова влиться в эту отвратительную «темную» культуру. От скуки он совершил свой камин-аут, чем сильно удивил общественность. Оказывается, столько лет можно быть гомосексуалистом, и всем будет совершенно наплевать на тебя, теперь же из Германа пытались наскоро слепить гей-икону вместо заржавевших секс-символов.
На этой почве он закрутил роман с одним из лондонских андеграундных музыкантов. Обыкновенные отношения, лишённые бешеной страсти и безумия. Они совершенно не смотрелись вместе. И не имели ничего общего, кроме угрюмого вида. Они встречались пару раз в неделю, чтобы посетить унылую выставку современного искусства, пообедать в модном ресторане и потрахаться дома, не забывая про презервативы, чтобы потом уснуть каждый в своей постели. Это было скучно, обыденно и очень по-взрослому. В конце концов, ему был просто нужен кто-то. Многолетняя борьба с собственной гомосексуальностью была проиграна. Потребовалось много времени, чтобы понять, что ему совсем не нравятся женщины. Они были просто частью имиджа рок-музыканта.
* * *
Макс искал отдушину в лошадях, оружии и собаках. Ещё в детстве у него была мечта жить в деревне, чтобы иметь возможность каждый вечер ездить верхом. Только общение с лошадьми сдерживало его от желания напиться, кони просто не переносят пьяных. Макс завёл себе щенка хаски по кличке Кейк, удивительно умное и весёлое животное, обещающее вырасти в ручного волка. Ещё одного лохматого и беспородного пса Кэт подобрала возле дома, он был славный и немного жутковатый, словно собачья версия Дани. Что удивительно, никакое другое имя к нему так и не прижилось. Также дома время от времени появлялись три приблудные кошки, они гуляли сами по себе, так что у них не было даже имён.
В моменты, когда Макса переполняла агрессия или злоба, он просто доставал пистолет и стрелял по бутылкам на заднем дворе. Это оказывалось самым простым способом разрядить обстановку.
Кэт снова снималась в каком-то фильме, благо вполне пристойном, Макс сидел дома, наслаждаясь блаженной скукой и прикладной кулинарией. Язвительная мексиканка шутила, что именно она в этом браке является мужиком. Макса это как-то особо не трогало. Не без содействия жены ему предложили роль в кино. В каком-то фильме про восьмидесятые он сыграл эпизодического персонажа наркомана-глэмрокера. Особенно забавным было нюхать бутофорский кокс с задницы стриптизёрши.
В целом жизнь была настолько размеренной, что даже не утомляла. Всё было лёгким и приятным. Пока Кэт не заставила Макса играть для неё на гитаре каждый вечер. Она хотела, чтобы он снова вернулся в музыку. Макс в глубине души понимал, что ей хочется быть замужем за рок-музыкантом, а не за безработным бездельником, живущем на доходы с прошлых альбомов, как реднек на пособие по безработице. Ей нравилось быть с ним на виду. Она заставляла его ходить в спортзал и следить за собой. Макс даже был ей за это благодарен, хотя кто-то другой послал бы её лесом со словами: «Ты должна любить меня таким, какой я есть». Но, увы, нас любят только за то, какими мы себя сделали.
Временами он скучал по Герману. Ведь здесь в Голливуде у него не было близких друзей. Макс не ходил на вечеринки, вынужденный поддерживать свою трезвость. Весь круг его общения сводился к парочке звёздных соседей, с которыми можно было обсудить налоги и цены на недвижимость.
Вскоре Макс сдался и начал искать музыкантов для своего нового проекта. Ему хотелось пустить в жизнь свои старые наработки, которые по тем или иным причинам не годились для «Opium Crow».
* * *
Герман занялся поисками нового вокалиста. Он не мог придумать ничего лучше, чем устроить прослушивание, так как поиск среди знакомых ничего не дал. Он не видел никого на месте Макса. Однако, следовало бы рискнуть. Чтобы не прослушивать тонну шлака, он поручил первичный отбор своему менеджеру, тот отобрал для него двадцать человек, действительно умеющих петь. Во время прослушивания Дани постоянно крутился рядом и мешал сосредоточиться. Он почти на коленях умолял взять парня с голосом как у Эндрю Элдрича. Герману же не нравилось, что он косоглазый.
— Твою мать, ну ты же не любовника себе выбираешь! — возмущался басист.
Периодически возникала мысль сменить формат и перейти на женский вокал, так как найти девушку-вокалистку гораздо проще.
Герман уже был готов сдаться, но в студию вошёл парень лет двадцати. Платиновый блондин с тёмными глазами и аккуратным макияжем. Узкие виниловые брюки облегали его рельефные бёдра. Он выглядел так, будто уже являлся состоявшейся звездой. Дани видел, как загорелись глаза Германа, и стал засыпать невинную жертву каверзными вопросами, периодически скатываясь в откровенное глумление.
— Я задам тебе вопрос, ты имеешь право ответить только «да» или «нет».
Парень кивнул.
— Твоя мама знает, что ты гей? — Дани сам засмеялся своей шутке.
Тот не знал, что ответить, лишь слегка покраснел. Герман взмахом руки дал знак ему прекратить.
— Спой лучше.
И он запел. У этого парня оказался своеобразный голос, высокий с хрипотцой. Весьма андрогинный и резкий. Все понимали, что это потрясающе, но, тем не менее, вовсе не формат «Opium Crow», особенно после максовского глубокого баритона с широким диапазоном. Несмотря на протесты Дани, Герман всё же принял его в группу.
— Я же знаю, зачем ты берёшь его на самом деле, — сказал басист. — Это вовсе не из-за голоса.
Герман пропустил его слова мимо ушей. Он пригласил новоприобретенного вокалиста выпить с ним в баре. Парень сказал, что его зовут Эйден. Герману нравилось это имя. Юноша был чертовски хорош, пусть даже и косил под Макса в его ранние годы. Когда хмель слегка ударил в голову, Герман предложил ему поехать к себе и покурить опиум. Тот с радостью согласился. Они начали целоваться ещё в лифте. Эйден удивился, когда раздвоенный язык Германа проник к нему в рот. Он был как две нежные и скользкие змеи, способные довести до экстаза одним только прикосновением. Герман прижался к Эйдену, ощущая эрекцию через облегающие штаны, его рука сжала упругие ягодицы парня.
Проснувшись наутро, в постели рядом с юным прекрасным телом, Герман впервые за долгое время почувствовал себя живым. Он тут же разорвал скучные и неинтересные отношения с предыдущим любовником, отпуская на волю свои застарелые чувства. В конечном итоге, ему тоже хотелось урвать свой кусок любви. Ему было плевать, что Эйден спит с ним только из-за того, что Герман звезда и взял его в свою группу. Ведь никто не может любить его на полном серьёзе, он — старый рассыпающийся труп.
Дани всё знал и понимал. Оттого делался не в меру язвительным.
— Ты взял его в группу только потому, что он дал тебе в первый же день знакомства, — повторял он.
Тем временем Эйден спокойно сидел рядом, ни слова не понимая по-русски.
— Ты ведёшь себя так, словно ревнуешь, — оскалился Герман.
— Я ревную нашу музыку к тому, кто приходит на всё готовое. Мы ни один год строили наш замок, чтобы позволить кому-то прийти и всё разрушить.
Глава 3
Статья в одном из популярных журналов, посвящённых рок-музыке.
«Человек, скрывающийся под псевдонимом Макс Тот — личность неоднозначная и, безусловно, яркая. Пусть даже порой он порождает больше вопросов, чем ответов. Он обладает весьма чёрным чувством юмора. Бывший вокалист «Opium Crow» согласился побеседовать со мной в своём загородном особняке. Он оказался мил, вежлив и порой откровенен. Мы сидели на веранде, цедя безалкогольный мохито. Бурная молодость в прошлом. Он изменился: не пьёт, завязал с наркотиками. Курит одну за одной красный «Мальборо» и улыбается немного грустно.
— С чем связан твой уход из «Opium Crow»?
— Я бы назвал это скоплением личных и творческих мотивов. Это был конфликт, который зрел уже давно, не один год, потом всё просто взорвалось.
— Жалеешь о том, что пришлось оставить коллектив, принёсший тебе славу?
— Глядя на шоу уродов, коим стал «Opium Crow» теперь, я ни о чём не жалею.
Он усмехается, кровожадно туша сигарету в пепельнице.
— Поддерживаешь ли ты отношения с кем-нибудь из участников группы?
— Мы иногда созваниваемся с Дани. Мне кажется, что за это время он стал мне ближе, чем за все те десять лет. Я его обожаю. Неординарный и талантливый человек, несмотря на то, что типичный басист.
— Тебя можно назвать сильной личностью. Каких-то пару лет назад ты ширялся, как Сид Вишез, и пил, как Джим Моррисон. Что смогло так положительно на тебя повлиять?
— Просто в один прекрасный момент ты понимаешь, что если что-то не изменишь, то умрёшь. Я уже пару раз умирал, мне надоело. Наркотики — это кайф, это бесконечный кайф. Но жизнь не может состоять только из одного удовольствия, это отупляет. Надо научиться видеть приятное во многих других вещах: творчестве, сексе, познании нового. У меня был трудный период в жизни. Я был задавлен своим внутренним миром, я ужасно уставал от туров, репетиций, записей. У меня просто не было тормозов.
— Я слышал, что ты не забросил музыку, и у тебя зреет собственный сольный проект.
— Да. Я думаю о своём сольном проекте и сейчас занят пассивной работой над ним. Перед тем, как что-то делать, надо выносить идею, она должна вызреть в голове и душе, прежде чем взорваться.
— Ты раньше много говорил о неприятии со стороны твоей семьи. Удалось ли тебе наладить с ними отношения?
— Скажу честно, я пытался, но они не поняли моего рвения. Для них я в первую очередь наркоман и асоциальный элемент, а уже потом музыкант. Это странная реакция со стороны семьи, где никогда не было выдающихся людей. Среди моих предков даже не было талантливых плотников или сталеваров. Все они были до отвратительного средними. Им бы хотелось видеть своего сына таким, нежели кривляющимся в телике. Мне не нравятся такие люди. Спасибо, конечно, что родили меня, но дальше я как-то сам.
— Говорят, что, в отличие от многих знаменитостей, выпускающих автобиографии, свою книгу ты действительно написал сам.
— Я написал её на русском, мне лишь помогли с художественным переводом.
— Преследовал ли ты цель наставить кого-то на путь истинный историями из своего бурного прошлого?
— Нет, я не думаю, что это может кому-то помочь. Все предпочитают учиться на собственных ошибках. Я просто рассказал о своих взлётах и падениях: о наркотиках, о том, как тяжело терять друзей. Я пытался рассказать правду, вопреки тому, что говорила обо мне пресса. Если почитать статьи о моих похождениях, то складывается порой неверное впечатление. Я просто раскрыл мотивацию всех моих странных и спонтанных поступков».
Как ни странно, Макс действительно остался доволен этим интервью, где не переврали его слов и не пытались придать его образу прошлой скандальности. Хотя, наверное, кто-то мог бы сказать, что вместо того, чтобы умереть, он утихомирился и сдулся. Сейчас он опасался, что публика может слишком прохладно встретить его альбом, или попросту не понять его. Это по-прежнему его голос и его музыка.
Глава 4
Дом был всё так же холоден и пуст, но, тем не менее, казался родным и знакомым. Здесь среди пыли и остатков мебели было приятно проводить время одному. Максу совершенно не хотелось нарушать этот мёртвый покой уборкой… Когда внутри тебя рай, становится наплевать на ад снаружи. В этом месте было так приятно умирать, словно ты снова забираешься в утробу матери, чтобы никогда не выходить из неё во враждебный мир.
По комнате ходили вороны, перерывая клювами хлам на полу. Макс пытался прогнать этих огромных птиц, но они лишь кричали и шипели в ответ. Тогда он доставал ружьё и расстреливал их в упор. Их кровь прорастала на полу алыми маками. У воронов не принято хоронить своих мёртвых собратьев.
Макс съездил в ближайший городок, купив пару литров бурбона и немного еды. Пища вообще не радовала его уже несколько дней. Останавливало только то, что надо было что-то есть, чтобы не падать в обморок. Он выпил бутылку виски за ночь. Приходилось постоянно отгонять птиц, чтобы они не выклевали глаза. Макс взял в привычку даже спать с ружьём. Ему снилось, что его ищут. Однажды утром он проснулся на полу с приставленным к виску дулом. Это была просто неудачная попытка застрелиться во сне. Так повторялось уже несколько раз. Что-то живущее в этом доме пыталось заставить его убить себя. Смерть владельца была чем-то вполне естественным для этого особняка. Макс оставался жив только потому, что был мёртв наполовину.
Дом всё пытался понять, к какому же миру принадлежит его загадочный паразит. Он спокойно существует среди этих ужасов и смерти, воспринимает как должное свои видения и сны. Может быть, он от рождения не человек? Нет, он просто проводник, он видит тонкие материи, всё знает, но никак не способен повлиять на увиденное. Это как проклятье провидца. Всё, что он может — это лишь рассказать о видениях, он глушит свой третий глаз, только не знает, что это никак ему не поможет. Всё остаётся тщетным.
По коридорам ходили тени. Это были люди другой эпохи. Все они уже давно умерли и нашли свой приют на кладбище за домом. Макс здоровался постоянно с тенью одного человека, которого он прозвал Полковник. Тот каждый раз впадал в ступор от того, что его видит живой. Его жена боялась Макса как огня. У них был отвратительный ребёнок, лишённый глаз. Он мог только ползать по полу и скалить беззубый рот. Как все братья и сёстры малыша-урода, он умер от пневмонии в возрасте одного года.
Макс с удовольствием наблюдал за молчаливыми тенями ребят из шестидесятых. Они были так обдолбаны, что не понимали, что мертвы. Что ещё раз подтверждало теорию Макса о мёртвых наркоманах. Мёртвая девушка с длинными волосами постоянно пыталась развести костёр в углу спальни, но у неё ничего не получалось. Макс даже был в неё немного влюблён и очень сожалел, что не может коснуться. Она ничего не говорила, только смотрела на него своими большими круглыми глазами.
Последние самоубийцы редко показывались на глаза, они всё больше жались к стенам в подвале. Дом очень быстро свел их в могилу своими видениями. Макс понимал, что ему самому недолго осталось. В углу подрагивало ружьё, и собственный мир стал вдруг ближе, чем всегда. Он бы мог с лёгкостью уйти отсюда и вернуться в свою прежнюю жизнь, но ему больше не было места среди людей.
* * *
Герман без конца курил опиум, разглядывая свой портрет в гостиной. Художник явно ему польстил. Герман был склонен считать себя уродливым. Его вообще тошнило от любых проявлений любви к себе. Когда все вокруг любят тебя, а перед домом без конца торчат толпы паломников, то лучший комплемент — это искреннее отвращение. Ненависть честна и не имеет под собой корысти. Если Эйден ещё раз назовёт его красивым, Герман точно взорвётся и изрежет своё лицо бритвой. Ему тридцать три и с годами он не становится лучше.
Жизнь катилась непонятно куда. Сочинение музыки давалось всё труднее и труднее. Каменные пальцы слушались с трудом. Герман понимал, что тело тут не при чём, просто на куски разваливается его душа. Репетиции становятся скучной рутиной. Надо просто выдержать и не на ого не накричать. Держать себя в руках становилось всё труднее и труднее. Находиться среди людей становилось невыносимым.
* * *
Макс коснулся пальцами струн гитары, чувствуя как мир начал приобретать новые краски. Что-то напомнило, что он ещё жив. И в той музыке была жизнь. Смерть отступает там, где поют струны. Музыка бессмертна. Всё как тогда, в ту душную ночь, когда он играл для Германа свою первую песню. С тех пор прошло почти одиннадцать лет. Многое изменилось. Старый мир лёг прахом. И вот-вот на руинах начнут распускаться цветы.
Он отложил гитару и потянулся к блокноту. Он всегда писал зелёной ручкой. Первая песня с альбом должна быть началом. Эта была баллада о городе с красным небом. История о безысходности и вере в чудеса. Макс вспоминал себя подростком, который часами бродил один по грязному снегу. И как ветер завывал в его душе.
По телу пробежал холод воспоминаний. Ужасная зима. Ужасного две тысячи седьмого. Ему было пятнадцать и он только что ушёл из дома, брошенный всеми. Он ходил по городу и звонил в квартиры друзей, заставал там счастливые семьи, пьющие чай у телевизора. И везде ему было отказано в ночлеге. Лишь один знакомый дал ключи от своей дачи.
В доме было холодно. Вьюга завывала реквиемом. Убогий летний домик, где не было даже камина или печки. Макс нашёл какие-то банки с угурцами, но еда не лезла в горло. Он просто растянулся на ледяном полу, глядя в потолок. Его не спасали горы старых одеял. Он засыпал, ожидая смерть, но утро пришло и солнце заглянула в холодный дом. Стало легче. Долгое время Максу казалось, что в его жизни не было более страшных ночей.
Потом были чужие флэты много чужих флэтов, притонов, вписок и прочего дерьма. Мир был населён врагами. Счастьем было просто остаться на ночь у какой-нить девки, чтобы спать в её тёплой постели, предварительно потрахавшись. Ему не особо везло с бабами, так что найти постоянную девушку было проблемой. А люди вокруг были разные, добрые, злые или просто серые.
Один тип подарил ему гитару. Это и было началом становления Макса Тота. И само имя закрепилось за ним. Его звали «тот» это как тот и этот, но точно не тот. По странному стечению обстоятельств по-немецки это значило «мертвец». Иногда его ещё именовали «Дохлым».
«Дохлый сдох», написал он в своей прощальной записке, когда навсегда покидал свой город.
«Дохлый сдох, Он похоронен в своей безымянной могиле. Дохлый сдох. Он умер вчера на столе в больнице для бедных Под радостный возглас врачей. Палач приготовил для тела мешок, Как он завещал. Чтобы в следующей жизни родиться собакой И жаться к любимым рукам. Чтобы верить в иллюзию, что кто-то способен любить и жалеть…»Руки потянулись за сигаретой. Первая песня была закончена. Макс давно смирился с тем, что может творить только, когда несчастен. В этот раз судьба преподнесла ему столько горя, что дальше некуда. Боль стала его частью, он засыпал с ней и просыпался. Она стала верной любовницей. Героин перестал дарить радость. Макс понял, что уже неделю совершенно чист и трезв. Боль дарует очищение. Она как наркотик, попробовав однажды, уже не расстанешься с ней никогда.
Макс сел в машину и поехал в Н.О. на почту. В этой глуши били проблемы с телефонной связью. Дрожащие руки набирали знакомый номер.
— Ты слышишь меня? — Макс словно кричал через всю Атлантику.
На том конце трубки тяжёлый вздох и молчание.
— Я люблю тебя. Не так, как бы ты хотел. Я люблю тебя. Мне больше некому во всём мире сказать эти слова. Я знаю, ты ненавидишь меня, но я люблю тебя, — продолжал Макс.
Он давно не слышал голос Германа, что и даже думать забыл, какой он чарующий. Слабый почти бесполый голос. Серебро.
— Я не знаю, что тебе сказать на это. Но я рад, что ты позвонил, правда… Ты сильнее меня. Ты можешь сражаться со своей ненужной гордостью.
— Мне нужно увидеть тебя, пока мы оба не стали прахом.
— Мы всегда были прахом.
— Пожалуйста, приезжай. Я не усну, пока тебя не будет рядом. Я не смогу сдохнуть один. Я буду только гнить. Прости меня.
— Это ты меня прости.
— Ты приедешь?
— Конечно, диктуй адрес.
Макс рванул обратно. Он не мог находиться так долго вне своего убежища. Нужно было писать втору песню. Истрию о своём воскрешении. Эта история о чёрных птицах, что рвали его на куски, а затем собрали заново. Это как практика посвящения в шаманы. Когда человек остаётся один в тёмной пещере или пустыне без еды и воды, ожидая, когда к нему придёт озарение.
Ворон не только проводник мира мёртвых, но и символ мудрости. Герман стал его вороном. Его духовным учителем. Максу показалось, что эта песня получилась слишком чувственной и почти сексуальной. Она об их связи, что тянется одиннадцать лет, об их платонической безумной любви. Она могла бы показаться слишком гейской, но Максу было уже нечего скрывать.
Третья песня должна быть о женщинах. Про всех, от шлюх до богинь. Сколько их было? Ну, может быть, около тысячи, может больше. И так немного тех, кто оставил след в душе. Кажется, это были Элис, Джули и Кэт. И всех их нет рядом. Одна бросила его. От второй он сам ушёл. Третья умерла. Был ли кто-то ещё? Кажется, Лукреция. Самый тупой и ебанутый роман в его жизни. И все тёлки жуткие стервы. Кроме Джули. Её жалко.
Максу нравился текст этой песни, впервые он писал о женщинах что-то не пошлое. В этой песне тоже было много трагизма. А блюзовые аккорды добавляли безысходности и краха.
Он отложил гитару. На сегодня всё. Главное, не умереть во сне.
Его сны были живительным раем. В них была Кэт и её нежные объятья. Он ощущал их почти физически. Ещё чуть-чуть и можно почувствовать на шее её тёплое дыхание.
— Не покидай меня, — шептал он, чувствуя, как медленно рушится иллюзия. Хотелось просто взять и выстрелить себе в висок. Но нельзя. Альбом ещё не закончен.
«Вся моя жизнь реквием по ней, — писал Макс в своём бумажном дневнике. — Кэт ушла, оставив меня наедине со своим адом. Я больше никогда не смогу быть прежним. Наверное, где-то там наверху решили подарить мне ненадолго кусочек счастья. Я был не очень хорошим человеком и его у меня забрали. Но я не буду проклинать Небо, я скажу «спасибо» за то, что было со мной. Ведь я был счастливей всех на свете. Я теперь я болен и разбит. Мне тридцать лет, я не прожил и половины жизни, и я уже видел столько, что с меня хватит. У других в этом возрасте всё только начинается. А у меня уже морщины вокруг глаз и седина пробивается. Но я нравлюсь себе таким. Я больше не мальчишка. Я наконец-то стал взрослым.
Я иногда подумываю пойти на войну. Умереть достойно. Но я так и не нашёл стороны, которая была бы мне по душе. Я ни с кем. Стоит только задуматься, мне противна сама идея войны. Она противоречит моей природе. Я не был бы способен убить человека. Я даже животных обижать не могу. Они чище нас. Мне противно есть мясо. Хотя, когда-то я любил его.
Или думаю бросить всё и уехать на Тибет, постигать практику умирания. Я много читал об этой технике, что даёт тебе шанс уходить в лучшие миры. Можно даже до божества мелкого дослужиться. Но я чувствую себя слишком грязным для такого шанса. Слишком уж я засрал себе карму. Вот сижу здесь и пытаюсь искупить свои грехи в песнях. Исповедаюсь перед всем миром и уйду в небытие».
Макс почти ничего не ел, погружаясь в тяжёлые тягучие сны. Депрессия его убивала.
* * *
Герман вдруг понял, что Макс чувствует его приближающуюся смерть и постепенно угасает сам. Потому что они просто не могут жить порознь на этой земле. Они были связаны, а это страшнее всех самых страшных чувств. Словно они заключили контракт с самой музыкой, которая всё никак не хотела их отпускать. Теперь же срок договора истёк, и настало время платить по счетам.
Герман выпил ещё виски. У него случился провал в памяти. Последнее, что он помнил, это то, как выходил из бара и ловил такси. Теперь же он с больной головой сидел в салоне самолёта, готовящегося взлететь. И вроде бы ещё не поздно встать и выбежать оттуда, но не осталось сил действовать. Да и рейс оказался не самым удачным — с пересадкой в Нью-Йорке. Герман готов был целовать землю, когда с больной головой сошёл с трапа в Новом Орлеане. Вокруг царила жуткая влажная жара. Герман не знал, с чего ему так плохо, было ли это похмельем или же новыми шалостями организма.
Он арендовал машину и отправился по указанному Максом маршруту. Он мчался сквозь душный смрад Луизианы, через болота Миссисипи и рой мошкары, прилипающий к лобовому стеклу. Он въехал в небольшой городок, стоящий вдоль трассы. Герман просто не смог проигнорировать алкомаркет. Здесь, вдалеке от опиума, надо было хоть чем-то себя развлекать. Он захватил две бутылки бурбона и один непонятного вида сандвич. Очень уж хотелось есть. Герман надкусил его пару раз и выкинул из окна. Нищий старик подобрал остатки сандвича, брезгливо уставившись на проходимца.
— Эй, где здесь Дом Самоубийц? — спросил Герман.
— Что тебе надо? — крикнул на него старик. — Вали в свою Англию! Понял?
Герман сделал над собой усилие, имитируя русский акцент.
— Прямо и нахуй! — сказал бомж, указывая на не заасфальтированную дорогу, отходящую от основной трасы.
В окрестностях пахло болотами и сыростью. Герман уже решил, что заблудился, пока дорога не выехала в серое поле, где, словно из-под земли, выросло дерево с прогнившей сердцевиной. Его оплетала пуэрия, создавая иллюзию зелёной жизни в мёртвом теле. Что, если мы все ещё живы только благодаря паразитам сознания? Дерево скалилось своим огромным ртом. Герман остановился, вышел из машины и опустил руку в дупло. Там оказался только ворох бумаг. Дерево долгое время служило кому-то почтовым ящиком. Среди полуистлевших писем на дне покоилась серебряная пуля на цепочке. Герман, сам не зная зачем, нацепил её на шею. Он взял одно из писем.
«Любимый, не терзай себя. Жизнь продолжается. Я всегда буду с тобой. Живи, пожалуйста.». Его пробил холодный пот. Письмо не было подписано, но он знал от кого это и кому. Он взял конверт с собой, чтобы передать Максу. В дупле было ещё одно письмо, написанное уже другим дёрганным мужским почерком.
«Мелкий, что ты надумал, чёрт побери?! Если ты сдохнешь я найду тебя, воскрешу и буду убивать снова и снова. Не шути так. Я Там был и всё видел. Тут тысяча градусов по Кельвину. Мне больших трудов стоило сюда пробраться».
«И Фокс тут», — подумал Герман, кладя письмо в карман.
Он сел в машину и проехал оставшиеся сто метров до дома. Вокруг было солнечно, только вот особняк был в тени и казался таким холодными и мрачным, словно его взяли с другого фото и как-то неумело приклеили сюда. На притолке красовалась свежая надпись «Копай мою дыру в Ад», наверняка это было сделано рукой Макса.
Ржавые ворота были распахнуты настежь, двор сплошь усеян сухими листьями. В небе с невероятной скоростью проплывали тяжёлые серые облака. Они казались комками грязной ваты, которыми добрый таксидермист набивает чучела. С этой жарой Герман уже и забыл, что на дворе конец октября. Он поднялся по ветхим ступеням. На двери не было звонка. Зато имелся колокольчик. Герман долго звонил, пока в ушах не начало гудеть. Он осторожно толкнул дверь, она подалась. Он шагнул вперёд в душную темноту дома. Кто-то спускался с лестницы. Герман слышал звуки неуверенных тяжёлых шагов. Макс спустился вниз, держа наготове ружьё. Его шатало, он с трудом держался на ногах. Растрёпанные волосы, прилипшие к щекам, небритое лицо и задурманенный взгляд. Он был одет в одни лишь рваные джинсы, сплошь покрытые пылью с бурыми пятнами, так похожими на кровь. Тело ещё хранило следы хорошей формы, хотя по бокам уже начали проступать рёбра.
Герман стоял, не смея шелохнуться на прицеле у психопата. Он просто не мог отвести от него глаз. Красота и безумие со смертью в руках. Как же приятно ощущать себя почти мёртвым. Тогда даже смерть не страшна.
— Сначала я убью тебя, — сказал Макс. — Потом вынесу свои гениальные мозги.
Герман понимал, что умолять бесполезно. Он выпрямился в полный рост, готовясь умереть гордо.
— Целься в сердце. Я ничего не почувствую. Оно разбито, — Герман откинул голову назад и раскинул руки, готовясь принять дозу свинца.
Коллекционное ружьё — оружие эстетов. Раздался выстрел, Герман закрыл глаза в ожидании смерти. Пуля лишь врезалась в стену, вызвав фонтан пыли, и, отрикошетив, упала на пол с глухим звуком.
— Мне кажется, попасть с такого расстояния было бы проще, чем промахнуться, — губы Германа исказились в презрительной усмешке.
Они около минуты стояли, глядя друг на друга, пока Макс просто не сполз по стенке. Герман подкрался к нему, забирая ружьё из ослабших рук, чтобы оно больше не вызывало соблазна умирать. Лёгкое суицидальное помутнение миновало его больную голову. Герман присел рядом с Максом и коснулся рукой его волос. Тот издал странный звук: что-то похожее на довольное рычание.
— Это не я, это дом, — сказал он, приоткрывая глаза. — Я же никого не могу убить, я слишком добрый.
* * *
— Вставай, я отведу тебя в ванную!
Макс открыл глаза, чувствую знакомый голос. Ласковые руки перебирали его спутанные волосы.
— Тебе станет лучше.
Макс поднялся на ноги, опираясь о руку Германа.
— Пойдём. Приведешь себя в порядок, а потом мы съездим в город позавтракать. Ты так же любишь пасту и пиццу, как раньше?
Макс слегка кивнул, делая неловкую попытку улыбнуться. Он никогда не слышал такого ласкового голоса у Германа. Раньше всё было иначе.
Макс был слишком убит, чтобы подняться по лестнице сам. Пришлось буквально тащить его. В воде он немного пришёл в себя и попросил закурить. Он затягивался, роняя пепел в пену. Герман разглядывал пятна от плесени на потрескавшейся плитке. Они оба не знали, что сказать друг другу, лишь журчание воды разряжало обстановку.
— Зачем тебе эта развалюха? — спросил Герман. — Специально героиновый дом прикупил, чтобы бегать по нему с ружьём, как опустившиеся рок-звёзды?
— Нет, я оборудовал студию в этом подвале. Это показалось мне единственным местом, где я могу спрятаться от жизни, — он утопил окурок в ванной.
— Зачем ты позвал меня сюда? — наконец-то решил спросить Герман.
— Потому что я люблю тебя, — ответил Макс, пожимая плечами. Для него это было так же естественно, как и сказать, что небо синее, а трава зелёная.
— Ты же знаешь, что это не так. Когда ты целился в меня, я загадал, что если ты попадёшь в сердце, то это будет доказательством твоей любви.
Макс издал сдавленный смешок.
— Основной причиной было то, что без тебя я не найду выход из этого мира. В тебе есть что-то, чего нет во мне. И именно в этом ключ.
— Ты позвал меня через полмира только для того, чтобы поделиться своей бредовой теорией? — вскипел Герман.
— А у тебя был выбор? Ты бы и так умер сам через какое-то время. Выходит, что позвал просто так. Только вот изначально я думал, что выход возможен только вместе с гибелью физического тела. Однако позже я просто понял, что где-то в мире есть портал, который мне нужен. Я думаю, что нашей целью были бы его поиски. Я, кажется, когда-то знал, где находится цель, только вот потом забыл. Но я обязательно вспомню это.
Все его слова были похожи на бред, но Герману так хотелось верить в это прекрасное безумие. Если где-то ещё и осталась магия, то она точно в словах сумасшедшего.
Макс нашёл в себе силы расчесаться и побриться.
* * *
Осенний Н.О. пах мёдом и отбросами. Грустные негры сидели прямо на тротуарах. Редкие туристы сновали по улицам. В баре напротив церкви было тих и безлюдно.
— Я же говорил, что не стоит жрать ничего в том месте, где собираешься пить, — сказал Герман, мрачно уставившись в тарелку салата.
— Мне всё равно, что жрать.
Макс оглянулся по сторонам.
— Путь в одиннадцать лет от бара в центре Москвы до этой дыры. Стоило ли, я не знаю. Я не могу отделаться от ощущения этой бессмысленности. Всё, что ты делаешь в жизни, только для того, чтобы потом это потерять.
— В жизни не бывает без потерь. Всё было не зря.
Макс тяжело вздохнул.
— Я не знаю, чего я хочу дальше. Мне хочется умереть, как и остаться навечно с тобой. Я начал писать альбом, мне страшно представить, что будет, когда я его закончу. Потому что это должно стать финальной точкой.
— Я уверен, дальше ты что-нибудь придумаешь. Или мы придумаем.
— В жизни бывают моменты, когда непонятно, куда двигаться дальше.
Герман вспомнил про письма и полез рукой в карман.
— У меня для тебя кое-что есть.
Глаза Макса забегали по тексту.
— Ну не сейчас же передавать мне такое, — на его лице отразилась самая скорбная из всех мине, что доводилось видеть Герману.
Макс заказал ещё виски с колой.
— Я хотел бы уйти, туда, где все те, кого я любил.
— Ты не понимаешь главного. Даже не того факта, что счастье может быть в чём-то кроме смерти, а скорее того, что никто не способен стать причиной твоего счастья, не важно живой или мёртвый. Я хотел бы быть тем, кто сделает тебя счастливым, но всё в твоих руках. Я просто хочу быть рядом.
Домой они ехали в молчании. За окном раскинулась живописная помойка Луизианы. Пахло болотами. И цвели дикие розы во дворах заброшенных домов. Столько лет прошло со времён наводнения, а Новый Орлеан до сих пор выглядит больным и покинутым.
Максу казалось, что тот город напоминает ему свой собственный. В его памяти жива пожухлая трава и ржавые кресты погостов. В его городе тоже пахло болотом и смертью. И по весне паводок размывал белые кости старых могил.
Макс смотрел в окно, теряя ощущение реальности. Сны захватили его сознание. Мир за окном стал декорацией, которую в любое время можно порвать и сбежать наизнанку мироздания.
Дома он закрылся в своём подвале и принялся писать песню о городах. Он нал, что даже сквозь толщу бетона Герман слышит его музыку. И лишь призраку шелестят за дверью. Макс старался не думать о том, что ему страшно здесь наедине с мёртвыми, что неотрывно следят за каждым его шагом. Чтобы быть шаманом, надо привыкнуть к нижнему миру.
— Ты никогда так много не работал, — сказал Герман, когда Макс поднялся на божий свет.
— Потому что ты мне не мешал.
— Я не вправе, это же твоя история. Я здесь, чтобы помочь с записью.
Макс остановился, снова обращая взгляд во тьму подвала.
— Странные мы люди. Живём, тянемся к свету, а умираем во тьме. Чем больше я думаю, чем тяже прихожу к выводу, что человек существо не доброе и никогда им не было. И бесполезно бежать в церковь и спасать душу, потому что все и так обречены на повторение своего личного ада. Бесполезно умирать, потому что невозможно покинуть цепь перерождений и смертей. Мы все обречены.
— На твоей месте, я бы попытался.
* * *
Ночь выдалась душная почти тропическая. Словно воздух состоял из паров рома. Чудесная ночь и почти хочется жить. Макс встал с кровати и потянулся за двенадцатиструнной гитару. Его всё ещё трясло от любви.
— Ты большая сволочь чем я, — сказал Герман, наблюдая за его очертаниями во тьме.
— Когда у меня вдохновение, я не могу ничего с собой поделать.
Герман засыпал, слушая знакомый голос и ласковые молоди трагического блюз-фолка. Почему, он не мог сыграть что-то повеселее.
— Я думал, мы умрём этой ночью, — сказал Макс на утро.
— Не думаю, что всё настолько хорошо, чтобы расстаться с жизнью.
Герман встал, натянув на себя джинсы.
— Собирайся, — сказал он. — Мне нужно в город. Я хочу купить новую гитару для записи. Надо сгонять на блошинку, мне кажется, сегодня удачный день.
— Ты решил начать играть по моим правилам? — спросил Макс. — И не будешь ебать мне мозги по поводу того, как что должно звучать?
— А что мне ещё остаётся.
Макс завалился на заднее сиденье машины вместе со своей двенадцатиструнной гитарой. Герман вполуха слушал его песни. Тихий экспромт, мистические истории о его идеальном мире. Там, где реки виски впадают в моря водки. И святая тьма дарит бессмертие. И ангелы умирают от передозировки. Там был мёртвый лес и дыра в голове. Элементы его идиллии, что так стремятся стать реальностью. Он давно сошёл с ума. Его слова всё более безумны и плачь гитары становится невыносимым.
— Макс, хватит, мне хочется сдохнуть от твоей песни.
Но тот не слышал его, погружаясь в тёмную медитацию. Та становилось похоже на смесь рэгги напевов, псалмов и русских народных заговоров. Поездка с поехавшим Тотом, оборачивается в путешествие по кромке Ада.
Он попросил остановить машину возле бомжа.
— Он такой грустный, — сказал Макс, созерцая грязного старика. — Давай убьём его и подарим ему свободу.
Герман ничего не ответил.
— Я хочу вылечить весь мир, — сказал Макс, откидываясь на сиденье. Ты сбил опоссума, давай его похороним. Он попытался открыть дверь, но слабеющие руки не слушались. — Здесь всем не хватает добра, а я забыл дома ружьё.
Они вышли из машины недалеко от рынка. Его было не трудно найти по запаху травы. Небо наливалось свинцовой грустью. Макс присел на тротуар, кладя голову на колени.
— Мне дурно, — сказал он, закатывая глаза. — Моё тело рассыпается.
— Ничего, — мы всё переживём, сказал Герман, касаясь его волос.
— Ты сам умираешь, — усмехнулся Макс. — Ты сам знаешь это. Ты не сможешь быть вместе со мной.
— Я, правда, что-нибудь придумаю, — сказал Герман.
Они бесцельно бродили между рядами. Пока Герман не остановился возле коробки с разным хламом. Рядом на витрине лежал белый Фендер.
— Можно? — спросил он у продавца-хиппи, осторожно касаясь струн. — Кажется, это то, что нужно.
— А он в пыль не рассыплется от ветхости? — спросил Макс.
— Ну и что, может быть, на нём сам Хендрикс играл.
— Если ты хочешь в это верить.
Дома Макс снова ушёл в подвал. Ему не нужен был свет, чтобы играть на гитаре и записывать тексты с аккордами. Руки действовали по памяти. Он даже подумал о том, что неплохо было бы ослепнуть для лучшей концентрации.
Но эти идеи казались ему слишком бредовыми. Он взял гитару и вышел на крыльцо. Здесь было больше воздуха и можно было проводить закат.
Максу вдруг подумалось, что все они ни капли не повзрослели за эти годы: деньги, семьи, дома, машины были лишь мишурой, которую они вешали на себя, чтобы выглядеть взрослыми. Просто потому, что так обязывали возраст и положение. А годы тут не причём. Они все прожили ни одну жизнь, но так и не стали старше. И бесценный опыт не приносит ничего, кроме разочарования. И он бы не удивился, проснувшись сейчас в Москве, поняв, что не было этих одиннадцати лет безумия. Во сне ему казалось, что он просыпается в одной кровати с Германом в квартире под серым небом. Воронёнок пинает его в бок и говорит, что пора репетировать. Какая-то баба приносит ему бутылку тёмного пива. В России всё пиво, как моча. В соседней комнате играет дурацкий кавер на «Doors» в исполнении «Аквариума». «Мы никогда не станем старше», — блеет Гребенщиков.
А из вечернего тумана поднимался чёрный силуэт, он шёл сквозь густую траву и импровизированное кладбище. Макс не знал, кто перед ним — живой или мёртвец.
Макс услышал знакомые шаги, знакомый голос, но всё так же не могу понять, кто находится перед ним. Слишком большой был разрыв в пространстве и ощущениях во время их последней встречи.
— Дани? — спросил Макс, ловя отблески в знакомых светло-карий глазах. — Откуда ты?
— Я всё же нашёл тебя.
— Зачем? Это царство не для живых. Герман тут, лишь потому что он доходяга.
— Я знал, что нужен здесь. Иногда в некоторые вещи лучше влезть без спроса во избежание беды.
— Проходи, — сказал Макс.
И на его мрачные владения опустилась долгожданная тишина. Он был рад видеть Дани, но оставался слишком слаб на эмоции. Спустя минут десять появился Герман и молча сел рядом.
— Мне кажется, я написал всё, что мог, — сказал Макс. — Нам нужно отправиться в подвал втроём и закончить дело. Попрощаться с белым светом и послать альбом по почте. Это будет прощальным приветом. И больше мне ничего не станет нужно. Иногда нужно вовремя уйти.
* * *
Они приступили к записи этой же ночью. Макса не очень волновало, что на альбоме не будет живых барабанов. Честно признаться, он их никогда не любил. Зато было множество самых различных инструментов, купленных в местных антикварных лавках. Ветхое старьё, от которого веяло прахом. Именно так и должен звучать этот альбом.
Макса удивляло то, что Герман во всём с ним согласен. Ему нравились идеи песен и звучание. Он даже не критиковал оборудование домашней студии, пусть оно и не соответствовало современным стандартом и тоже являлось ветхим барахлом, именно на таком и должен писаться этот альбом.
Всё нужно сделать максимально быстро и качественно. И аудиодорожки песен сходились в одну. Извилистые линия кардиограмм на мониторе студийного компьютера несли в себе совокупность различных звуков: биение сердца, звон струн, плач флейты. И даже тамбурин звучал здесь траурно помпезно. Это не хотелось называть металлом или роком, просто музыкой, которая идёт от сердца, но только в каждом аккорде расцветала боль.
Герман писал клавишные партии, радуясь возможности поиграть на любимом инструменте. Они были для него чем-то вроде продолжением души, чем-то интимнее чем гитара. Гитарные партии расцветали всеми красками тёмной психоделики, в лучших традициях группы. Хоть где-то надо держать марку.
Альбом был закончен. Копии были отправлены на лейбл и друзьям. Максу эта музыка действительно нравилась. Что-то такое ему хотелось творить всегда. Настало время подходить к завершению.
* * *
— Мне категорически не нравится, что он здесь, — сказал Макс Герману, когда Дани не было рядом. — Он, конечно, оказался полезен в плане альбома, но может помешать нашему уходу, или увязаться за нами.
— Как ты собираешься это осуществить? — спросил Герман.
— Сам ещё не знаю, но мне кажется, что время скоро придёт.
Всю ночь они провели вдвоем в подвале, посреди пламени свечей и загадочных рисунков. Макс складывал в центр круга убитых крыс. Он знал, что это никак не связано с ритуалами, просто хотелось немного развлечься. Их кровь стекала по бетонным морщинам пола, образуя таинственные знаки. Герман скептически относился к подобным жертвоприношениям.
Все уже привыкли к воронам, пока не появился тот, чьи глаза горели бездной. Он был крупнее всех остальных птиц, сильнее и злее. Просто свечи в подвале вдруг вспыхнули в один миг синим пламенем, окатив помещение градом искр. Он появился в центре пентаграммы, важно озираясь по сторонам. Макс и Герман не боялись, потому что больше не могли испытывать страх. Их образ жизни убивает в людях всё живое. Эта птица была чем-то таким же естественным, как торчащий из стены гвоздь.
Ворон говорил что-то про отсрочку, о том, что в обмен на душу может вернуть вдохновение. Слова слышались за мерным клёкотом его голоса, словно они сами играли в мозгу неведомой зловещей песней. Он говорил о том, что можно продлить волну успеха. Увидеть славу, которая не снилась даже богам. Герман колебался несколько секунд, но ответил отказом. Никто, наверное, никто из сил Ада так и не поймёт, что этот дар являет собой скорее проклятие, чем благодать. Это то, чем уже никто из живых никогда не прельстится, чтобы окончательно не потерять себя. Макс выстрелил в него, но промахнулся. Птица смеялась клокочущим смехом. Герман протянул ему ту самую пулю, что нашёл в дупле мёртвого дерева. Макс выстрелил второй раз, пронзая вороний глаз зарядом серебра. Это стало днём, когда убили смерть. Кровь хлынула на каменный пол. Её было неожиданно много. Она залила всё пространство, просачиваясь в щели в полу. Лужа красной жидкости разлилась по всему подвалу. Везде стоял отвратительный запах смерти.
Макс с Германом даже не переглянулись, воспринимая всё случившееся, как совершенно нормальное явление. Словно каждый раз сам Дьявол заходит на огонёк. Только он всё равно потерпел бы поражение, потому что у них от рождения не было души.
— Помнишь, как мы с тобой познакомились? — сказал вдруг Макс, когда они сидели на крыльце, провожая закат.
Это был первый раз за несколько дней, когда они рискнули выйти за пределы дома. Они успели, как призраки, прирасти к этому проклятому месту.
— Мы были такими детьми тогда, — кивнул Герман.
— Нет, мне кажется, мы были гораздо мудрее, чем теперь. Тогда у нас всё было впереди, а теперь про нас можно сказать, что у нас всё было… Мы видели цели, мы шли вперёд. Мы умели мечтать и видеть мир не таким. В той жизни было волшебство, здесь же осталась только тьма и её чёрные крылья. Мы вернулись в небытие.
Герман ничего не ответил, ему самому было горько осознавать нынешнюю действительность, но ничего, скоро всё кончится.
Дани не мешал ничему, он просто грустно смотрел на Макса и Германа, что скользили по дому подобно двум теням. Он был рад, что они оба рядом с ним, но ему совершенно не хотелось отпускать их. Обстановка в доме становилась всё более невыносимой. Он бы с удовольствием сейчас нюхнул кокса, но только где достать его в этой глуши? Ему было больно смотреть на своих друзей, но, в то же время, хотелось вынести как можно больше из общения с ними.
— Там мы сможем быть собой, — говорил Макс перед сном. Было похоже, что он просто бредил. — Там у всех вино вместо крови, там красное небо и белый пепел, а женщины красивы как мёртвые статуи. Там можно брать кайф из воздуха или речной воды. Это страна безумцев и творцов. Там к нам снова вернётся вдохновение.
Дани засыпал под его мерное бормотание, надеясь, что этот мир придёт к нему во сне. Ему казалось, что он может видеть и ощущать эту диковинную страну, что способна раствориться в его крови. Именно сейчас он был готов умереть от счастья, ступая в полубреду по залитым тёплым светом улицам, вдыхая запах маков. А под ногами в горах пепла и праха хрустели битые бутылки и обломки костей. Именно в этом мире он ощущал себя своим. Дани казалось, что они никогда не ещё не были так близки с Германом и Максом, что он по-настоящему любит их.
Когда он проснулся, комната была пуста. Кровавый закатный свет пробивался в окно. Гнетущая тишина висела в воздухе. На улице скрипнула калитка. Прямо босиком Дани выбежал во двор. Макс с Германом стояли возле машины. Они взяли с собой только ружьё и гитару.
— Постойте! Куда вы?! — закричал Дани, размахивая руками.
— Туда, откуда нет возврата, — ответил Макс.
— Я хочу с вами! Я подумал, тут действительно нечего делать, — воскликнул Дани, с трудом веря в свои слова.
— Извини, — ответил Герман. — Но твоё место здесь, среди людей.
— Пообещай мне, что станешь великим, — Макс положил ему руку на плечо.
Она втроём обнялись, затем Макс и Германом, не оборачиваясь, зашагали к машине, оставив Дани стоять столбом посреди двора.
— Постойте! Куда же вы?! — закричал Дани, захлёбываясь бессильной яростью.
— Кстати, с Хеллоуином тебя, — бросил Герман, заводя мотор. — Съезди в Н.О., оторвись как следует.
Машина тронулась, постепенно исчезая в лучах заката. Впервые в жизни Дани хотелось разрыдаться, но слёзы не шли. Он просто сел на землю и с размаху ударил по ней кулаком.
— Вот и всё, — сказал он сам себе.
Глава 5
Макс догадывался, что с Кэт что-то не так. Это было витало в воздухе. Последи цветного и ярого мира она напоминала чёрно-белую тень. Внешне всё оставалось прежним. Их отношения так и оставались прекрасной идиллией посреди калифорнийского рая. Макс проклинал свой дар, видеть больше чем нужно. Он знал, что дело пахнет бедой, не мог понять её причину. Он продолжал копаться в отношениях, понимая, что заблуждается и ждёт подвоха совсем не там.
— Макс, я знаю, что тебя это не обрадует, но я беременна, — сказала Кэт, сжимая в руках тест.
Макс посмотрел на неё будто впервые увидел. Достал сигарету из пачки и закурил. Его руки заметно дрожали.
— Знаешь, лет пять назад. У нас с моей бывшей возникла подобная проблема. Я был слишком циничным и хладнокровно послал её на аборт. Я смотрю на тебя и понимаю, что не смогу сделать то же самое с тобой. Мы все должны быть в ответе за свои поступки. Мы взрослые люди.
Кэт расплакалась.
— Я не знаю, что делать, это меня пугает, — сказала она.
— Меня тоже. Но я уверен, что мы справимся.
— Я тоже думала о том, чтобы избавиться от этого. Но я не могу. Это же часть тебя.
— Мне нужно выпить.
— Сейчас пять утра.
— У меня где-то завалялась бутылка рома.
Макс был пьян в стельку уже через полчаса.
— Заебись, у нас будет сын, — говорил он, заплетающимся языком.
— А если будет дочь? — спросила Кэт.
— Ничего. Блин, никогда не хотел детей, но мне скоро тридцать и пора что-то менять. Чёрт, я буду лучшим отцом на свете, и никогда уже точно не буду бухать.
Его нежность к Кэт возрастала с каждым днём.
Гром грянул спустя неделю. Кэт позвонила и сказала, что попала в больницу. У неё случился выкидыш. Макс не знал, стало ли ему легче от этого факта, но на душе всё равно было паршивенько.
— Ненавижу больницы, — сказал он, навещая её в очередной раз. — Уже прошло три дня, почему тебя до сих пор не выписывают?
— Не знаю, обследования какие-то и анализы. Они считают, что этот выкидыш был не просто так. А я хочу домой, я хочу к тебе, — она почти плакала.
Спустя обследование выявило рак в пятой стадии. Макс с отсутствующим видом слушал речь врача. Он говорил, что отчаиваться рано, шанс пусть и мизерный, но всё же есть.
— Выкарабкаюсь, — заявила Кэт. — Странно, что мне приходится успокаивать тебя, а не наоборот. Пройду химеотерапию, подумаешь, останусь лысой и похудею. Но потом волосы снова отрастут.
Но Кэт становилось всё хуже, болезнь пожирала её изнутри. Про таких горят: «Сгорает как свеча». Макс завидовал её силе и оптимизму. Кто-то же должен сохранять рассудок. Она находила в себе силы сбегать по ночам из больницы и просила Макса катать её по городу. Она улыбалась, глядя на огни Голливуда, словно стремясь впитать в себя их свет.
— Скоро выход моего фильма. Я так долго об этом мечтала, а теперь даже не смогу пойти на премьеру. Зато умру знаменитой, — заметила она с усмешкой.
— Не говори так. У тебя будет ещё много премьер, много ролей. И мы всегда будем вместе. Хочешь, даже детей заведём.
— Никогда их не хотела. А теперь, кажется, хочу, — сказала Кэт и впервые за всё время болезни заплакала. — Я умру. Я это знаю. Мне больно внутри. Мне страшно засыпать.
Она сделала глубокий вдох, стремясь вернуть самообладание. У Макса разрывалось сердце, глядя на неё.
— Дай сигарету, — робко попросила Кэт.
— Ты же не куришь? — спросил Макс.
— Никогда не поздно начать. Теперь уже всё равно.
Пришлось вернуться в больницу. Снова к этим уколам и капельницам. Кэт кусала губы от боли, морфий действовал плохо. Гниль разливалась в её крови. Болезнь не оставляла ей шансов. Каждый вечер она просила у судьбы разрешение пожить ещё один день.
Из дневника Макса:
«Чёрт, даже поговорить не с кем. Но тяжело держать всё в себе.
Сегодня она спросила меня:
— Когда я умру, женишься ли ты снова?
— Нет, — ответил я.
Я не смогу привыкнуть к существованию к моей жизни другой женщины. Я вообще не планирую жить дальше. Кэт — единственная нить, что держит меня на этом свете. Я встретил её, когда был одной ногой в могиле. Только её любовь дала мне сил жить дальше».
* * *
У нас теперь табу — мы не говорим о смерти. Делаем вид, что у нас есть будущее. Я читаю ей всякую хрень. Смотрим фильмы, едим сладости, смеёмся, стараясь забыть, что мы в больнице. За стенами идёт жизнь. Душное лето Лос-Анджелеса. Кондиционер работает вполсилы. А мне не разрешают отвести Кэт на море. Мы так любили ходить на пляж раньше. Больница действует удручающе. Здесь царит смерть. Ничто не внушает надежду. Я сам столько раз умирал в этих белых стенах. Чувствую себя отвратительно. Почти не сплю. Сторожу её сны. Если бы я мог, я бы забрал её боль себе, я бы умер вместо неё. Мне кажется, я люблю её только сильнее.
— Знаешь, лучше умереть, когда ты счастлив, — сказала она сегодня, — чем, когда ты молишь о смерти. Я люблю тебя, я счастлива, что ты рядом. Я отработала свою программу. Хлебнула столько горя, что страшно вспоминать. Под конец встретила тебя. Прости, что я умираю.
Тут я уже не выдержал и расплакался. Не помню, когда в последний раз плакал, но тут прорвало. Кэт пришлось меня успокаивать.
Ей становилось всё хуже. Она всё больше спала. Просыпалась, крича от боли. Было невыносимо смотреть на это. Ей кололи морфий и она снова засыпала. Я не отходил от неё ни на шаг. Кэт похудела, изменившись до неузнаваемости, постепенно превратившись в скелет.
Я начал думать, что всё похоже на страшный сон. Скоро я проснусь, а она обнимет меня и скажет, что всё хорошо. И всё будет как раньше. Но жестокая реальность давила на меня со всех сторон. Врач сказал, что болезнь прогрессирует с невероятной быстротой. Я не мог даже разговаривать с Кэт, она начала бредить на испанском.
Кэт умерла ночью, когда я уснул, обессилив в конец. Ушла тихо и спокойно без мучений, даже не разбудив меня. Её рука сжимала мою. Её лицо выражала покой, а на губах сияла лёгкая улыбка. Моя бедная девочка почти не мучилась. Ей было всего двадцать шесть.
Я вдохнул с облегчением, понимая, что теперь всё кончено. В моём сердце не осталось страданий. Там теперь зияла только пустота. Мой разум стал мыслить на автомате. Организовывал похороны, зазывал цветы, обзванивал всех, принимал соболезнования. Три дня прошли как в тумане. Мне приходилось напрягать память, чтобы вспомнить Кэт здоровой и живой. Перед глазами был тот измученный скелет, который я видел всё время в больнице.
Я кололся уже три дня, чтобы заглушить боль в душе. Теперь я мог снова вернуться саморазрушению.
На похороны приехал Дани. Мы не виделись около года, и я был очень рад, снова встретить старого друга. Герман передал мне засушенную ветку вереска. Что значил этот подарок, оказалось для меня тайной. Было страшно осознавать, но я скучал без него. Накатывала собачья тоска. Я хотел с ним помириться, но не решался растоптать свою гордость. Мне было тяжело простить его.
На похоронах я чувствовал себя ужасно, меня пару раз стошнило кровью. Я рассмеялся, тому факту, что становлюсь ближе к смерти. Люди пытались говорить со мной, но я не видел смысла ни в чём. Я растворялся в прострации, повинуясь водке и героину. Мои верные друзья снова были со мной.
Я получил урну с прахом и отправился домой. Мне с трудом верилось, что Кэт теперь находится в этом сосуде. Я открыл его, вдыхая запах серого пепла. Среди него была одна целая косточка. Я решил оставить её себе как талисман, чтобы любимая хранила меня после своей смерти. Я растворил в воде пару ложек праха и выпил, давясь горечью. Мне хотелось, чтобы Кэт осталась во мне.
Я не мог находиться в таком большом доме один, особенно в своей огромной пустой кровати. В ней больше никогда не будет другой женщины. Никого больше. Я должен продать этот чертов дом, всё здесь пропитано моим прежним счастьем. Я сидел в кресле часами, ожидая, что Кэт вот-вот войдёт в эту дверь, потом понимал, что всё бесполезно. Бился в истерике, пускал по вене и засыпал, погружаясь в полный красок мир прошлого. Когда-то у меня была любимая женщина и лучший друг, теперь у меня есть только моя боль. Прости Кэт, я не могу сдержать своё обещание и жить дальше.
Дани нагрянул внезапно и застал Макса в героиновой отключке. На столе оставалось ещё пара грамм порошка и использованный шприц.
— Очнись, нам нужно поговорить, — сказал Дани.
Макс смог лишь приоткрыть один глаз, лениво наблюдая за знакомым силуэтом на фоне окна.
— Я не думаю, что нам есть о чём говорить, — ответил он. — Это конец.
Дани не выдержал и схватил Макса за ворот футболки, приподнимая от дивана. Макс взглянул на него уже двумя глазами, но, тем не менее, его взгляд не стал более осмысленным.
— Я прошу тебя сейчас не смывать свою жизнь в унитаз! — прошипел Дани.
Макс вдруг подумал, что впервые видит проявление его злости. От голоса Дани по спине пробегали мурашки. Сознание снова уплывало куда-то, но парочка увесистых пощёчин быстро вернули Макса в сознание. Боли не было, только свистело в ушах.
Макс осалился, чувствуя как струйка крови из носа стекает по губам. Лицо быстро немело.
— Ты сам торчишь, — сказал Макс.
— Я чист уже много лет, — Дани покачал головой.
Они говорили больше часа. Макс впервые почувствовал возможность выговориться.
— Почему все, кого я люблю, умирают? — спросил он вдруг.
— Это потому что ты не хочешь, чтобы кто-то ещё тебя оставил. Твоему сознанию проще простить смерть, чем предательство.
— Хочешь сказать, что я всех убиваю?
— Нет, ты притягиваешь тех, кто должен умереть.
Дани уговорил Макса лечь в клинику. Он нехотя согласился, зная, что это ненадолго. Клиника показалась Максу отвратительной, несмотря на то, что содержание там было на высшем уровне. Голливудская лечебница для звёздных наркоманов. Пионерский лагерь для завязавших звёзд. Макс чувствовал себя, как в доме престарелых, спускаясь каждый раз в столовую в халате и тапочках. Ему не хотелось ни с кем разговаривать, несмотря на то, что со многими людьми они раньше косвенно были знакомы.
— Прекрасный день, я трезв уже месяц! — сказал сосед по столику, поднимая вверх бокал с соком.
Макс узнал в нём барабанщика одной местной группы. Они когда-то выступали на одной сцене. Сейчас его лицо светилось от напускного счастья. Макс знал, что он врёт. Здесь все врут. Эта клиника вовсе не занимается лечением наркомании, здесь просто пересаживают с героина на метадон. Это не устраняло первопричину. Макс знал, что, так или иначе, вернётся к героину. Вся эта «новая жизнь» без алкоголя и наркотиков казалась просто смертной скукой. Всё это время он был таким же лицемерным идиотом, как и все пациенты этой чёртовой клиники. Несколько лет назад Макс встретился за сценой с одним известным музыкантом, который уже двадцать лет находился в завязке.
— Каково это — быть всегда трезвым? — спросил Макс.
— ***во, — ответил тот, снимая очки. — Я адски хочу бухать, но у меня отвалились почки и сдохла печень. Не доводи до такого, чувак.
Каждый день пребывания здесь Макс мечтал о том, чтобы выйти на свободу и начать употреблять. Метадон был дёрьмом и не приносил особой радости.
Дани звонил иногда, спрашивал как дела и прочую чушь.
— Знаешь, позвонил бы ты Герману. Попросил бы у него прощения. Он что-то стал совсем плох в последнее время. Он, конечно, пошлёт тебя, но думаю, после смилоствится. Он просто не может сам сделать первый шаг к примирению. Но я уверен, что вам обоим это нужно.
— Только Германа мне сейчас не хватало, — ответил Макс. — Есть вещи, которые невозможно простить.
— Просто он превратил нашу группу в дерьмо. Идёт на поводу у своего хуя.
— Успокойся. Пусть трахает, кого хочет.
— Но я не вижу в Эйдене ни тени твоего таланта.
— Мне наплевать.
Макс положил трубу и окунулся вновь в больничную рутину наркологической клиники.
Он отчаянно симулировал нормальность, чтобы как можно скорее выйти на свободу. У него были большие планы на счёт своего дальнейшего будущего.
В день выхода из клинике в Лос-Анджелесе стояла непривычно мрачная погода. В сером небе парили чёрные птицы и пожухлые пальмы раскачивались на ветру. Мусорные пакеты пакеты летали вдоль обочины как перекати-поле. Океан бурлил серыми волнами.
«Пора сваливать отсюда», — подумал Мас проезжая в отрытой машине по побережью.
Пыль застилала глаза.
Первым делом он пристроил собак соседям и занялся продажей дома. У него больше не было сил жить в обители прежнего счастья. Макс подумывал о том, чтобы вернуться в Лондон, но остановился на полудикой Луизиане. Он быстро отказался от идеи с шумным Новым Орлеаном, когда наткнулся на колониальный особняк среди болот, к тому же его цена оказалась подозрительно низкой, здесь в США это намекает на то, что в доме кого-то убили. Американцы весьма суеверны. К тому же в доме имелся большой подвал из которого можно оборудовать студию. Пять лет назад в этом доме случилось групповое самоубийство трёх человек, причина оставалась неизвестна. Именно поэтому никто не хотел покупать дом, где на стенах всё ещё виднелись пятна крови. Это повлияло на решение Макса приобрести этот особняк. В дальнейшем он думал заняться коллекционированием проклятых вещей. Этот дом стал бы музеем смерти, дырой в ад.
Макс приобрёл коллекционное ружьё времён гражданской войны. Он тешил себя мыслью, что это для красоты, а не ради самоубийства. Хотя вынести себе мозги из такого ружья совсем не грех. Он не Курт Кобейн, чтобы стреляться из дешёвого обреза в гараже. Макс был эстетом.
Всё, что нужно для продуктивного затворничества. Работы по обустройству логова шли на удивление быстро.
Всё это время Макс жил в центре Нового Орлеана, выходя их дома лишь с наступлением темноты. Ему хотелось как можно меньше сталкиваться с людьми. Правда, периодически чёрные парни с белёсыми глазами пытались продать ему героин. Макс отмахивался, зная, что ещё не время. Он знал, что на нём и раз и навсегда осталась печать наркомана, помогающая «своим» быстро опознавать его. Всё городское дно вилось вокруг него. Он искал смерти на этих зловонных улицах, но она лишь трусливо наблюдала издалека.
Когда приготовления были закончены, Макс вернулся в своей новый дом, призванный стать его убежищем и склепом. Наконец-то он мог творить ту музыку, которую всегда хотел. И никто ни стоял над душой, ни Герман, ни продюсеры. Максу было всё равно станет ли этот альбом продаваемым или нет, но уж точно будет лучше во всей его карьере. Это просто возможность развернуться и расправить крылья в своём последнем полёте. А о том, что будет дальше, Макс старался даже не думать. Когда работа будет закончена, ему будет уже нечего делать в этом мире. В этом альбоме он собрался рассказать свою историю, всю от начала и до конца.
* * *
Проснувшись утром в одной постели с Эйденом, Герман с ужасом осознал, что это просто секс и ничего больше. Он никогда не видел ничего плохого в «просто сексе», но здесь же всё оставалось плоско и скучно. У них действительно не было ничего общего, кроме музыки и постели. Эйден был слишком податлив и мягок. Он делал всё, что хотел Герман. Эйден встал с кровати и принялся ходить по комнате. Похоже, его до сих пор не отпустило после вчерашнего.
— Я — принцесса уродливого города, — сказал он, оглядываясь по сторонам.
Герман схватился за голову. Она болела уже несколько дней кряду. Сейчас опухоль начинала тревожить всё сильнее. Смерть уже плясала на струнах его гитары. Скоро это всё должно будет кончиться. Удалось купить немного морфия для облегчения своих страданий. Герман не доверял официальной медицине. Один укол помог боли отступить. Прописанные анальгетики уже не помогали ему. Эйден прилёг рядом и принялся ласкать Германа своими невесомыми прикосновениями. Ему было всё равно, он почти не спал, видя сны наяву.
Невыносимо хотелось видеть Макса, но гордость была дороже. Герман даже не стал останавливать Дани, когда тот изъявил желание уйти. Он просто промолчал, хотя сердце разрывалось от боли. Дани был его правой рукой, домашним демоном-псом, чем-то жутким, но безумно добрым. Герман не знал, что делать, когда все любимые люди оставили его. Группа продолжала жить в новом составе, однако эта жизнь всё больше напоминала кому. Герман торопился успеть всё до того, как смерть окончательно приберёт его в свои лапы. Всю свою жизнь он словно репетировал уход.
Теперь всё, что осталось, это боль с тонкой прослойкой кайфа. Бесполезно что-то менять, бесполезно лечиться. Герман решил, что умрёт один, и никто уже не будет держать его за руку. Ему также оставалось непонятным, с чем связан уход Дани. Это было последней каплей предательств на голову Германа. Ему не хотелось никому верить. Он всё ещё пытался спасти полуразложившийся труп своей группы, пусть хоть что-то будет жить после его смерти. Только все прошлые победы кажутся ничтожными перед пустой жизнью без любви.
Он согласился дать интервью, понимая, что другого шанса сказать всё у него уже просто не будет. Нужно было пролить свет на уход Макса и многие другие вопросы. Он принимал журналистов в своей квартире, давая им полностью насладиться всем ужасом своей коллекции.
— С чем связана столь резкая перемена состава группы?
— Негатив накапливается раз за разом. Со временем уже трудно бывает понять, кто здесь прав, а кто виноват, просто становится невозможно работать. Все мы люди, у всех у нас сложный характер. Мы просто перегорели, — ответил Герман.
Ему казалось, что парнишка-журналист не воспринимает его всерьёз и пытается откровенно загнобить.
— Многие отрицательно относятся к тому, чем стала группа после ухода Макса и Дани. Что вы могли бы сказать на этот счёт?
— Глупо было бы убеждать всех, что группа осталась прежней, изменив одну треть состава. Но шоу должно продолжаться. Я просто буду делать свою музыку дальше, не важно, кто останется со мной, пусть даже только я один. На дороге в бездну выбирать не приходится.
— Ходили слухи про ваши проблемы со здоровьем.
— Да, это действительно так, я правда болен. Мне хочется спокойно записать этот альбом, чтобы после удалиться на покой в какой-нибудь райский уголок.
Герман специально не сказал «умирать», чтобы лишний раз не расстраивать своих поклонников. Это было не очень рок-н-ролльно — умирать от болезни. Но не было смысла скрывать правду.
— Каким будет ваш новый альбом?
— Одно лишь я могу сказать точно — другим. У нас уже не получится делать то же самое, что мы делали раньше. Любители нашего прежнего стиля скажут, что мы испортились, в то время как мы просто перестали нравиться им.
Герман не любил, когда его спрашивали о прошлом. Ему казалось, что со стороны рок-н-ролла он выглядит предателем, потому что является выходцем из очень обеспеченной семьи. В этом мире по-прежнему любят сирых и убогих, наподобие Макса. После выхода его жалостливой книги о себе любимом Герман разочаровался в нём ещё больше. Он пользуется искренним сочувствием своих фанатов, потому что в нём они узнают себя — непринятые обществом бунтари, надеющиеся на то, что смогут добиться успеха. Это идеальный образ в глазах публики. Нет ничего лучше, чем прилюдно страдать, разбивая вдрызг собственную красоту, строя несчастные глаза. Герман же из последних сил старался сохранить свою гордость.
Ему нравилось говорить на отвлечённые темы, особенно о том, что касалось его любимой музыки и книг. Он рассказал, что слушает только ту музыку, которую уже нельзя сравнить со своей по причине времени и редкой одарённости исполнителя. Герман уже несколько лет не смотрел художественных фильмов, полностью отрицая кинематограф как вид искусства. Но ему всё ещё нравились мультфильмы. Интервью отнимало много сил, даже больше чем выступления. Герман чувствовал, как энергия вытекает из него по капле, словно сквозь дыру в голове. В конце концов, он снова перестал общаться прессой, понимая, что сказать ему больше нечего.
Приезжала Лукреция. Они редко виделись за последние годы. Она настаивала на срочном лечении. Говорила, что нашла клинику где-то в Швейцарии. Герман понимал, что ему уже ничего не поможет, и просил сестру раз и навсегда отстать от него со своей заботой. Белые больничные палаты убьют его раньше, чем сама болезнь. Но пока он оставался жив и трудоспособен, если не считать жутких головных болей, которые вполне лечатся морфием. Герман осознавал, что стал конченым наркоманом, но ничего не мог с собой поделать, понимая, что это единственный выход. Наркотики помогали ему хоть как-то существовать.
Эпилог
Дани.
Я не знаю точно, что в тот злосчастный день, но это заставило меня убедиться в том, что в мире есть вещи, которые просто не поддаются нашему понимаю. Мы живём в чёткой уверенности, что бывает так и никак иначе, а потом весь привычный мир рушится в один момент. Мы подключили к поискам полицию и даже ФБР, но это ровным счетом ничего не дало. В наше время со всеми этими чёртовыми устройствами слежения такое очень трудно представить. Никто не видел эту чёртову машину. Никто.
Я смотрел на лица поклонников и не видел там ничего, кроме недоумения. Там не было печали или скорби, просто жуткая растерянность. Они не знали, горевать ли о судьбе своих кумиров, либо же радоваться за них. Все затаили дыхание и ждали развязки, которая так и не настала.
Альбомы начали раскупаться бешеными тиражами. Многим просто удобно считать всех пропавших без вести трупами. А у нас всегда был культ покойников, чтобы тебя полюбили надо быть мёртвым, потому что покойников проще любить.
Мне было жаль, что так случилось, я не сумел остановить их или как-то повлиять на этот странный выбор. Таково было их решение, и я не мог заставить их передумать. В дальнейшем мне самому хотелось засунуть голову в песок и скрыться отовсюду, но я держался за те тонкие ниточки, что ещё связывали меня с реальностью.
Всё же мне хочется верить, что они живы. Это был просто побег от навалившихся проблем. Пока не найдены тела, я буду верить. Я злился, что они оставили меня одного, мы ведь всегда были одной командой. Но потом я понял, что у меня ещё столько неоконченных дел здесь. У меня есть любимая женщина и новая группа. Я наконец-то смог играть собственные песни. Разве не ради этого я жил? Всё случившиеся со мной тогда сильно повлияло на тематику моих песен. Они послужили мощным толчком для вдохновения, так что даже в ужасном можно найти свои плюсы.
Я понял, что главное в рок-н-ролле — умение не ёбнуться в этом кошмаре. Главный рок-герой — это не тот, кто жил ярко и умер молодым, а тот, кто сумел дожить до наших дней, сохранив рассудок. Я живой, и это кажется странным при моём-то образе жизни. С наркотиками можно дружить, но не стоит влюбляться; если это случается с тобой, то ты — покойник.
Совсем недавно, на день рожденья, я нашёл у себя на столе странную открытку: туда были вклеены засушенные маковые цветы и вороньи перья. Она пахла горечью полыни. На обороте красовалась надпись на русском, выведенная зелёными чернилами: «С днём рожденья, друг». Я спрашивал всех, но никто из них не мог прислать мне такую открытку, потому что попросту не знает русского. Мне хочется верить, что это была весточка из другого мира. Потому что вера облегчает жизнь.
Надо лишь помнить, что все мы просто гости этого мира, и когда-нибудь отыщем свой дом, просто время ещё не пришло.
Джек Ди.
Мало кто дожил до развязки. Я всё понял, когда пришла посылка с альбома. Сто лет не получал «бумажную почту», я просто стоял и вертел диск в руках. Пока не догадался его послушать. «Сколько боли прошло, — думал я. — Но сколько ещё предстоит». Месяц спустя Майк покончил с собой, он вскрыл себе вены, снимая всё на видео. В интернете недолго гуляли кадры его самоубийства. Это нынче модно, если так сказать. Парни и девушки со всего мира транслируют свою смерть. И это ужасно, чёрт возьми.
Я был рад, что рядом остаётся Дани и мы что-то вроде группы, что мы всегда сможем творить. Ведь мы вышли из великой команды, подарившей мире столько ебанутых песен и даже загробный альбом. Я всё же склоняюсь к тому, что они мертвы. Знали бы вы как легко спрятать труп в Миссисипи.
Но Макс Тот и Герман Кроу действительно не могли бы существовать отдельно. Между ними была самая сильная привязанность, что вообще бывают между людьми. И это даже не любовная связь, что-то сродни тому, что бывает с близнецами. Все когда мечтали иметь такого брата, с которым можно было бы читать мысли друг друга.
Сэмми Грин.
Жаль, что так получилось. Очень жаль. Я против легенд о рок-звёздах, которые должны умирать молодыми. Макс не раз говорил мне, что поэты умирают молодыми, не важно физически или творчески, но умирают, так как мудрая зрелость не даёт полёта для души. Это дурацкая рациональность, с который не мог мириться его вечный юношеский максимализм. Он стремился умереть сколько я его знаю. Но это желание смерти оставалось пассивным, ему просто хотелось довести себя до летального исхода.
С Германом же было иначе. Он был болен или врал, что болен. По крайней мере, он никогда не показывал справки. Он знал, что его время на исходе. Именно та неизбежность смерти и сблизила их снова, дала сил творить. И, на мой взгляд, этот альбом лучшее, что случалось с современной рок-музыкой.
Эпилог 2
Шаман затягивается крепкой местной травой. Его сознание наполняет зелень. За окном рокочет море. Оно сливается с небом, постепенно переходя в белый песок. На деревьях поют тропические птицы. Шаман знает, что время пришло. Он накручивает на палец длинные слегка подёрнутые сединой дреды. С ними он похож на белого льва. Он отпивает прямо из бутылки обжигающего чёрного рома из собственного подвала. В этих краях полно сахарного тростника.
Он берёт с полки книгу с пустыми страницами. В них нет ничего кроме пары рисунков. На них чёрные птицы сплетаются в неведомых узорах. Яркие изумрудные глаза демонов смотрят с пергаментных страниц. Шаман берёт перо и выводит первые строчки истории, которая была давно, а может быть, её никогда не было на этом слое реальности:
«К двенадцати ночи он проснулся, всё ещё ощущая себя вороном в собственном гнезде. Его тело сплетение костей вяло шевелилось, вспоминая движения и их смысл…»

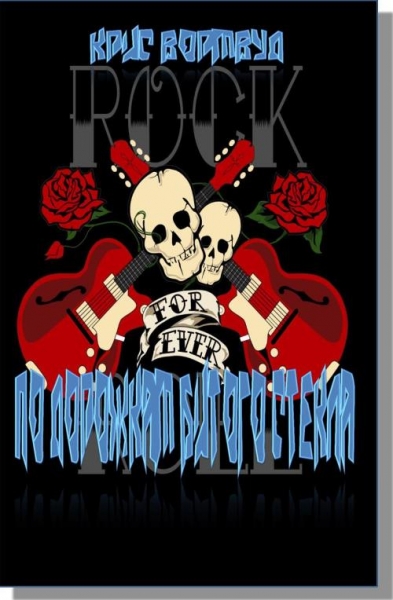

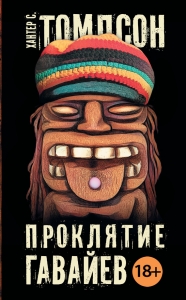

Комментарии к книге «По дорожкам битого стекла», Крис Вормвуд
Всего 0 комментариев