Пьер Гийота Могила для 50 000 солдат
Юберу, любимому брату моей покойной матушки, родившемуся в 1920 г. в Челадзи, Верхняя Силезия и скончавшемуся в 1943 г. в лагере уничтожения Ораниенбург — Заксенхаузен,
Песнь первая
В то время война захлестнула Экбатан. Множество беглых рабов переметнулось к победителям, но когда те попытались заговорить с ними о подавлении сопротивления оккупантам, рабы отказались выдать своих прежних хозяев, впадая в ещё большее холопство. Экбатан оставался самой большой сто лицей на Востоке: он раскинулся на пятнадцать километров вдоль берега. Каждый день пляжи у приморского бульвар; покрывались трупами юных бойцов сопротивления, высадившихся ночью и расстрелянных морской стражей. Победа досталась без особых хлопот: победители овладели городом, отринувшим своих богов. Экбатан предался Септентриону, откуда захватчики, упакованные в каски, сапоги и броню, принесли снег на подошвах и лед на ресницах. Сто лет продолжалось похолодание; ученые Экбатана втайне разработали оружие способное вызвать потепление, но оно было перехвачено завоевателями. Был построен самолет, на него погрузили оружие и ученых и отправили в Септентрион. Захватчики преследовали всех, кого столица выплескивала из своих недр: авантюристов скоморохов, солдат. Несколько семей в центре города не пожелали подчиниться порядку, основанному на доносах и пытках их отроки по ночам сбегали внутрь страны или отплывали и: подземных бухт на юге, стремясь соединиться на архипелаг! Букстехуде, еще не завоеванном, но день и ночь накрытом тенями вражеских бомбардировщиков.
Молодой офицер армии Экбатана, прежде терпевший при теснения со стороны Генерального штаба за то, что хотел ускорить военную реформу, в день капитуляции сбежал на архипелаг Букстехуде под предлогом дипломатической миссии в этой союзной стране. Экбатан вскоре осудил мятеж своего полномочного посла, изо всех сил старавшегося убедить правительство архипелага в необходимости и величии своей борьбы Правительство выделило ему сначала комнатушку в приморской гостинице, где он повесил на стену портреты своей жены и детей, оставленных в Экбатане, затем крошечную студию на национальном радио, откуда он посылал воззвания к родине призывая сограждан к сопротивлению, к обновлению, к политической прозрачности; и, наконец, заваленную зарядными ящиками заброшенную казарму с разбитыми стенами. Вскоревесь Септентрион, весь Запад и часть Востока были объяты пламенем. Завоевателю не хватало огня, чтобы осветить потемки своей души, не хватало крови, чтобы разбавить ею свои слезы.
Он вошел в покорный Экбатан на заре дня капитуляции, сел в галерее триумфальной арки и посмотрел на спящий город; его подошвы скребли цементный пол; крыса пробежала по балюстраде — он прижал ее голову сапогом и раздавил; кровь просохла на ветру; стражник встал перед ним на колени и вытер сапог, потом завернул крысу в платок. Завоеватель похлопал по колену поднявшегося стражника:
— Вели отнести крысу на кухню, мы скормим ее этим псам после подписания мира.
Старцы, священники, патриоты выбрали вожака, чтобы тот предстоял за них перед захватчиком. Этот вожак однажды одержал великую победу, отведав солдатского супа. Экбатан еще недавно трепетал от наслаждения после своего триумфа. Его поэты, его музыканты сдохли под бичами в лесах Септентриона. Глубокие глаза его женщин окаменели.
Экбатан был уязвлен речью старого вождя о традициях и национальной гордости: накануне он вновь приобрел универсальное сознание. Это время отмечено появлением новой добродетели по имени здравый смысл — ослабленной формы первобытного обряда. Поэты воспевали орудия труда: лопаты, вилы, животных и людей; за заслуги перед отечеством короновали быков, ленточки с цветами национального флага повязывали на самый тяжелый колосок; старый вождь лично желал награждать детей, спасших из огня или воды братишку или бабушку: малыша вталкивали в приемную, тот прижимал к груди бумажный флажок, о котором нужно было не забыть сказать старику, что он день и ночь хранится под рубахой; наконец старец выходил, лобызал, нагнувшись, ребенка в лоб, затем, по его знаку, адъютант открывал картонную коробку и вынимал жезл из ячменного сахара, раскрашенный в национальные цвета:
— Прими этот символ моей власти, пусть он растет вместе с твоим мужеством!
Вот так и сына раба, освобожденного священником (после совратившим его в качестве платы за благодеяние), однажды привели к вождю; мальчик громко объявил, что от старика воняет мочой, вождь был туг на ухо, потрепал малыша по щеке и всучил ему жезл, который тот тотчас вставил промеж ног:
— Мой быстро вырастет, Ваше Превосходительство, а ваш потеряет в размере и в силе.
Заметив, что мальчик не прочь с ним поболтать, вождь приказал подарить ему два агатовых шарика, которые тот тут же пристроил по бокам жезла, зажатого между ляжками.
Вождь, жмурясь от яркого света, отвернулся и, опираясь на руку адъютанта, исчез в толпе вдов. Ночью, навалившись на мальчика, священник душил его, бил кулаками по вискам; мальчик кусался, плевал ему в глаза, тот, сидя на краешке кровати, грозился снова обратить его в рабство, мальчик сказал ему, что голоден, священник сгреб его в охапку и потащил на кухню; юноша пересек садик и постучал в стеклянную дверь:
— Откройте, откройте, за мной гонятся.
Мальчик потянулся к замку, священник потащил его к себе; выстрел, юноша рухнул на освещенное стекло, в комнату врывается патруль, кровь вокруг головы юноши блестит в лунном свете, священник наливает выпивку, солдат видит кольцо в губе ребенка:
— Этот тоже из них? Выпейте с нами, священник. Эй ты, налей.
И тут же хватает мальчика за талию, привлекает к себе, колет голое тело кончиком кинжала, щиплет и крутит его соски большим и указательным пальцами, ребенок вырывается, падает на порог, его волосы пропитались кровью; священник гладит солдатские медали, спрашивает о значении символов, его рука дрожит на холоде металла, затылки и щеки солдат пахнут морозом и ветром.
Мальчик поднят, стоит за священником, грудь исцарапана, в руке кувшин холодного вина, на висках — кровавые колтуны.
— Священник, продай мальчишку.
— Он свободен, уже не продается.
— Он прислуживает тебе на твоих ночных мессах.
— Я еще не расковал его кольцо. Но могу вам показать акт об освобождении.
— Отдай мальчишку, священник, или я крикну, что ты прячешь партизан, и ты загнешься от холода в Септентрионе.
Священник встает, вытянув руки, отступает, мальчик ставит кувшин на пол, священник прижимает его к стене.
— Отдай мальчишку, я его хочу.
— Только через мой труп.
— За этим дело не станет.
— Убейте меня.
— Вам, попам — расстригам, героизм не к лицу. Ну же, опусти руки, освободи своего любовника и найди схоластическое обоснование своей трусости, как все вы делаете с тех пор, как ваш бог умер.
Священник опустил руки, склонился к ребенку.
— Аисса, ты свободен, выбирай.
Ребенок дрожит, вцепившись в бедра священника, касаясь босой ногой ледяного кувшина, округлившиеся глаза блестят, офицер берет его за плечо, притягивает к себе, пальцем раздвигает его губы, разжимает кольцо на деснах, сдавливает горло и поднимает мальчика, как рыбу за жабры:
— Что ты умеешь делать, малыш? Ребенок задыхается.
— Аисса играет на скрипке, как и все из его племени. Солдат пинает тело юноши — тот еще дышит.
— Возьми свою скрипку. Я тебя покупаю. Священник, даю тебе гарантию безопасности.
Священник с ребенком поднимаются в комнату, на корточках перед комодом они собирают вещи Аиссы, священник втискивает их в чемоданчик, они спускаются, офицер берет ребенка за руку:
— Ты взял свою скрипку? Если мы вернемся в Септентрион, ты мне понадобишься, чтобы прогнать мою меланхолию.
Священник склоняется к мальчику, но солдат поднимает оружие.
Партизан хрипит; три танка остановились перед садиком, солдаты в касках играют на губных гармошках в свете луны, офицер забирается на башню, мальчик, внизу, опирается на гусеницы, офицер сверху протягивает ему руку, мальчик цепляется за нее, взбирается на башню, офицер прижимает его ногой, танки трогаются с места, едут по приморскому бульвару, офицер смотрит на отражение звезд в бурлящей воде:
— Куда ты спрятал свою скрипку?
Он сдавливает кожу чемодана, мальчик открывает его, скрипка на мгновение блеснула в свете луны, офицер трогает ее, гладит, щиплет струны; сука, лежа на боку, кормит Щенков, танк надвигается, давит ее, кровь брызжет на фары; на лестнице Аисса падает на ступени, розовая пена брызжет с уголков его губ; поднимающийся по лестнице солдат наступает на руку потерявшего сознание ребенка, и она раскрывается на доске, увлажненной снегом.
На рассвете офицер, обнаженный, встает, откидывает простыни, пронизанные розовыми бликами; ребенок спит у двери, закутанный в попону цвета хаки, голова на чемодане; офицер идет к окну, выплевывает жевательную резинку, гладит нагревшуюся черепицу, закуривает сигарету; проходят две женщины под синими зонтами; офицер свистит, одна из женщин поднимает голову, видит обнаженного молодого мужчину, сидящего на подоконнике, дымное облачко над головой, блики от стены сеткой на животе и бедрах, офицер улыбается, достает новую сигарету, проводит большим пальцем по верхней губе; женщины поднимаются в садик, разбитый на террасе, усаживаются на стулья, мокрые от росы, одна из них бьет в ладоши, появляется девочка, босые ноги под короткой, шитой золотом туникой, верх туники мокрый, женщина трогает:
— Кто избил тебя до крови? Ладно, молчи, принеси кофе и тосты.
Девочка убегает, на груди — свежая кровь.
— Поваренок ее избил, потому что она ему отказала.
Я поощряю связи между слугами.
Она вновь поднимает глаза на обнаженного молодого мужчину, его ягодицы касаются свежей черепицы, он улыбается, видя полуоткрытую грудь той, что помладше, блестящие капли росы на перламутровой коже, жесткой, как шкура зверя, легкий пушок над верхней губой, он нашаривает ногой сандалии из ослиной кожи, склоняет голову, подсиненный лучами солнца дымок сигареты запутался в ресницах, ест глаза; она видит поднимающийся от линии бедра член, отворачивается, соскребает ногтем следы птичьего помета со стола, зонтик, раскрывшись, скатывается по ее ноге, которую она обнажила до колена большим пальцем, она поднимает глаза к молодому офицеру:
— Нынче заря занялась раньше и ближе к кварталу завоевателей. Ты по-прежнему любишь лейтенанта Иериссоса?
Говорят, его подозревают в организации взрыва поезда из Уранополиса.
Но вождь его защищает: еще до войны вождь увидел его среди нарядных детишек на званом ужине в честь лауреатов; он затащил его в парк, усадил на каменную скамью у фонтана, целовал его ноги, его губы поднялись до коленки мальчика, покрасневшего под кружевом воротничка:
— Ты сирота? Твой отец погиб в битве, которой командовал я, твоя мать — на военном заводе. Ты станешь солдатом, я так хочу. Я дам тебе раба — оруженосца. Пойдем в мой замок. У тебя будет оружие под подушкой.
Мальчик с пожитками сел в джип; машина въехала на брусчатку внутреннего двора, солдаты старой гвардии вождя, сидящие на корточках под бойницами, поднялись, мальчик высунул ногу из джипа, это движение приоткрыло под короткой штаниной пушок на лобке, вождь уже на ногах, он видит, ему сдавило горло; рядом с ним мальчуган с окольцованной губой гнет о мостовую ясеневый дротик:
— Вот твой оруженосец Аравик, он будет служить тебе днем и ночью, спать у твоей двери; вот кнут, чтоб его хлестать, вот ключ от темницы.
Мальчик смотрит на Иериссоса, его ресницы касаются шрама, пересекающего лоб по линии бровей, он протягивает дротик Иериссосу, его босые ноги испачканы лошадиным пометом и кровью.
Вождь обнял Иериссоса за плечи, мальчик взвалил на спину его багаж и зашагал по мокрой мостовой — с начала войны льет круглый год. Вождь ведет Иериссоса в центральную галерею замка; на полу у окон расставлены небольшие пушки:
— Это чтобы защитить Королеву Ночи. Ее былые любовники каждую ночь осаждают замок.
Молодая женщина ведет Иериссоса в приготовленную для него комнату; она склоняется над комодом, куда Иериссос бросил верхнюю одежду; Иериссос видит ее груди, его ладони сжимаются и разжимаются, женщина поднимает глаза, улыбается:
— Ты можешь их погладить, если хочешь.
Я — рабыня. Иериссос присел на колени, шорты из серой фланели рвутся, женщина просовывает руку в прореху между его ног, мальчик тянет руку к груди, позолоченной заходящим солнцем, трогает ее, его пальцы сжимают сосок, капелька молока выдавливается ему на пальцы, он ее слизывает, женщина, откинув голову, отталкивает его руку. Иериссос целует эту руку, целует грудь, солнце на его губах, ресницы щекочут соски, женщина склоняет голову к его виску, целует его волосы, ухо, Иериссос ощущает кольцо, скользящее по складкам ушной раковины, он резко выпрямляет голову, хватает губы рабыни, впивается в кольцо, его язычок обшаривает клокочущее нёбо, скользит по зубам, разбитым плетью или кулаком; его кулак опускается между грудями под платье, рука Бактрианы роняет одежду в комод, возвращается на плечо Иериссоса, тянет за ворот рубахи, скользящим кольцом обвивает шею; вот облако укрыло солнце, они поглощены друг другом; дверь в прихожую распахнута, на пороге возникает Аравик, в башмаках из ослиной кожи на деревянной подошве, он держит на вытянутых руках поленья и кору; Иериссос, лежа на постели, согнув ноги в коленях, смотрит на розовеющее облако, Бактриана на корточках укладывает белье, она поднимается, подходит к Аравику, сгружает поленья на мрамор пола; на коре — кровь от пальцев Аравика, который все так же стоит на пороге, вытирая пальцы о бока; Иериссос вскрикнул, Бактриана, поднявшись, подбежала к постели и зажала его рот рукой:
— Жар в твоих глазах, облака проплывают, смешиваясь с дымами, золотые отточенные диски срезают ирисы… Колени Иериссоса прижаты к животу, Аравик удирает, начальник стражи хватает его на лестнице, прижимает его голову к бронзовому шару, а руки к перилам; во рту стражника оскомина от тутового сока, его дыхание на лице Аравика — росистая свежесть, смешанная с грязью; после он освобождает руку и голову Аравика, указывает пальцем на расстегнутую ширинку, выдвигает ногу в расшнурованном башмаке, Аравик присаживается на корточки:
— Я видел на кухне женщину, похожую на тебя, я взял ее на циновке в мясном цехе.
Аравик, зашнуровав башмак, поднимается, его пальцы трогают пуговицы на ширинке, ногти впиваются в подрубленный край материи, обшитый галуном.
— В самом деле, она на тебя похожа.
Пальцы Аравика дрожат на горячих бедрах стража.
— Падая, я ранил ее ножом. Застегивай.
Пальцы Аравика хватают пуговицы, испачканные спермой.
— Пошли со мной.
Стражник ведет Аравика в подвал, где расположена кухня, посреди восточного фасада — окно, завешенное алой узорчатой тканью.
— Вождь ночевал у Королевы Ночи.
Во внутреннем дворе остановился грузовик с дымящимся навозом, стражник запрыгнул на подножку; за рулем — девушка со слюдяным козырьком на лбу, стражник хватает ее голову, целует ее в губы, его пальцы тонут в пыльных волосах рабыни, опускаются под платье, на спину; Аравик прижался животом к колесу машины; по четырем сторонам кузова на бортах, скрестив руки на лопатах, сидят четыре парня, уставившись в небо, на поросший мхом и травой портал: ловушку, где бьются малиновые бабочки под взглядами сонных стражей, застывших на корточках под своими бойницами; стражник на сиденье подминает девушку, мотор гремит, дрожит, подгоняя оргазм, стражник слезает с рабыни, ее руку свело в перчатке, голова подпрыгивает на пружинах сиденья, стражник выходит из машины; рабыня какое-то время остается неподвижной, ее платье завернуто до пупа, парни, опершись на борта, заглядывают через стекло в кабину, девушка вновь берет руль, трогается с места, грузовик пересекает двор, два стражника вспрыгивают на подножку, сопровождают рабыню до огорода, грузовик останавливается у подожженной свалки: стражники велят парням спускаться, те прыгают со своими лопатами:
— Навоз сгружайте здесь. Сначала погасите огонь.
— Воды нет.
Рабыня вместе с парнями идет на свалку, парни сбивают огонь, плашмя шлепая лопатами, затаптывают угли своими кедами, стражники, сидя на подножке, пьют спиртное из горлышка, члены под ширинками набухли, взгляды сонно блуждают по талии, груди, животу рабыни, и только одинокий звук падающего яблока порой нарушает их семенные сны; парни топчут костер, искры, разлетаясь, прожигают их легкие шорты; парни сжимают пальцы на черенках лопат, один вдруг присел на корточки: колечко, сверкнув, прокатилось по лопате, парень схватил его, стражник заметил, он приближается, бьет парня прикладом, тот валится на липкие угли, стражник ставит ногу ему на живот, бьет, еще, по горлу, нагибается, берет кольцо, прячет в нагрудный карман, потом поднимает винтовку, поглаживая спусковой крючок, направляет оружие на работников:
— Вы ничего не видели, даже под пыткой…
Подходит другой стражник, разжимает ладонь первого, шарит по его карманам:
— Это кольцо Королевы Ночи, я видел его вчера у нее на пальце, когда они с вождем пробовали яблоки под луной.
Оба стражника вернулись на подножку. Начальник стражи подтолкнул Аравика к кухне; в цехах женщины и мальчишки готовят мясо, рыбу, фрукты, сласти; стражник идет, одна из женщин в мясном цехе в испуге выронила нож; стражник останавливается у дверей цеха, Аравик бросается вперед, утыкается лицом в живот женщины, она гладит его по голове, Аравик обнимает ее, его руки смыкаются на спине женщины, лампа, забрызганная кровью и ошметками мяса, качается, отбрасывая тени на ноги и бедра мальчика, его спину, сотрясаемую рыданиями, стражник подходит, отдирает мальчика, толкает вглубь цеха, хватает женщину за шею, гнет, она встает на колени, Аравика душит кровавый смех, его ноги скользят в луже, расцарапанная задница торчит из штанов, двумя руками он держится за живот; стражник вынимает член и проводит им по губам женщины, выкатываются яйца, цепляясь за пуговицы ширинки, ударом колена стражник опрокидывает женщину на циновку, в которую ногтями вцепился Аравик, становится на колени, подбирая окровавленную униформу и ложится на женщину; после совокупления он встает, запихивает член в ширинку, женщина поворачивается к разделочному столу, руками, влажными от пота и спермы, пальцами, на которые накрутились черные волоски, давит, рвет мясо, стражник одной рукой поднимает Аравика, тащит его к выходу, женщина отложила нож, гладит мальчика по окровавленным волосам, стражник берет со стола тесак, хватает девушку, склонившуюся над плитой, ее лицо и открытая грудь увлажнились от пара и розовой крови:
— Раздевайся.
Девушка расстегивается до пояса, стаскивает, бросает под ноги, наступает на платье, смятое от бесчисленных объятий стражников; обнаженная девушка прислонилась к ограде плиты, стражник расстегивает пояс, продевает его в петли тесака и застегивает на талии девушки; тесак сверкает между бедрами, над ним выделяется прядка волос, стражник поправляет тесак, погружает ладонь между ног девушки, вынимает влажную ладонь, вытирает об ее грудь и лицо, Аравик вцепился в живот женщины, мясо, которое она режет, давит, кромсает, отражается в его глазах красными бликами, брызжущие ошметки липнут на губах мальчика; стражник покачивает тесак между ног девушки.
— Я хочу, чтобы ты весь день работала голой, чтобы тесак болтался у тебя между ног.
Стражник берет Аравика за плечо; на лестнице сидит молодой стражник.
— Если девка снимет тесак, побей ее. Молодой стражник вскакивает, отдает честь, член под холстиной напряжен, в уголках губ розовая пена, руки на прикладе автомата дрожат, уши в песке; начальник склонился над затылком солдата, вдыхает запахи соли и водорослей:
— Ты видел, Королева Ночи купалась?
— Нет, она не хочет появляться обнаженной перед вождем. Говорят, он взял маленького Иериссоса для ее услады, в утешение за этот отказ. Он теперь в ее спальне, парнишка бьется на койке, пришпиленный, как мотылек.
Вечером Иериссос разбитый, с воспаленным членом, бродит по саду, деревья в испареньях навоза, в копоти горящей свалки, скрипят под тяжестью плодов. Шаги, он обернулся — женщина, высокая, светящаяся — он видит издалека ее грустные глаза — подходит к нему; он хочет спрятаться в цветнике, но надушенная рука тотчас хватает его за плечо, он застывает пред женским чревом, его губы прижимаются к пульсирующему животу; они направляются в оранжерею, укладываются на подстилку из теплой соломы, обнимаются, упиваются своими слезами, смешивают свою слюну; ночь навалилась на стекла парника, соленое дыхание, прилетевшее с моря, окутало сад, два стражника проснулись, первый тянется на деревянной ноге, его спина трется о дверь, холодный пот стекает по лбу, как плевок; шрам, сочащийся кровью каждую ночь, когда он пробуждается от бреда, пересекает его белобрысую голову, толстые красные губы разомкнуты, десны кровоточат, он плетется по плитам, пересекает двор, толкает дверь столовой, опускается на скамью, испачканную кровью, усыпанную клочками ваты; на стене, беленной известью, висит большой портрет вождя, юный страж слышит кухонный шум, крик, смех, плач рабынь, он роняет голову на руки, деревянная нога толкает ножку стола, кровь, стекая по волосам, обжигает кожу на лбу, другие стражники входят, садятся, встают, идут на кухню, тискают рабынь, задирают платья или расстегивают шорты, шарят по бедрам, по заду, крутят рабыням руки, шпарят их кипятком, бьют, швыряют в них черпаки и скалки, в столовой светловолосый страж спрятал голову в руках, рабыня приносит из кухни, минуя стражников, миску мяса с капустой, ее рука на мгновенье задерживается на столешнице, стражник берет ее, целует, его глаза поднимаются к лицу рабыни:
— Моя нога болит весь вечер. Я хочу умереть.
Она раскрывает ворот платья, кровавая рана пронизывает плечо, рабыня запахивает платье и смотрит на солдата.
— Кто тебя ранил?
Он встает.
— Не знаю, он налетел сзади, задрал мне платье на спину, его член тыкался у меня между ног, я вырывалась, он вынул нож и вонзил мне в плечо. Санитарка не хочет меня лечить, потому что я отказала ей прошлой ночью.
Стражник трогает плечо рабыни, прижимает свои губы к ране и отсасывает кровь, затем ведет рабыню в коридор, достает платок, открывает кран, смочив платок, накладывает его на рану, рабыня обнимает стражника, рыдает у него на груди:
— Купи меня. Купи, или меня разорвут на части, вчера они меня схватили и зашили в циновку, прорезали дырку, и все по очереди… я задыхалась, пот разъедал глаза, циновка вокруг дыры почернела и прилипла к животу; я не вижу их, а различаю по членам. Освободи меня, я верну тебя к жизни.
Стражник ласкает ее волосы, виски, гладит страдальчески сморщенный лоб, трепещущую шею, своим животом касается ее постоянно влажного живота, рукой — ее постоянно раскрытой вагины, его деревянная нога давит на ногу рабыни, а та молчит, дрожа и прижимаясь к стражнику.
В оранжерее под стеклами, сверкающими, как зеркала, Королева Ночи стоит на коленях, вцепившись руками в колени Иериссоса:
— Убей меня, убей всех рабов в замке, освободи меня и их, маленький раб без кольца, с голыми губами. Он взял меня в Опере, где я тогда пела, его солдаты пили и бесчинствовали на окровавленном снегу, освещенном огнями Оперы, они швыряли куски мяса в высокие окна, он взял меня за руку; солдаты делили танцовщиц и мальчиков из обслуги; весь город в огне, солдаты выбросили труп короля в окно, принца, в пижаме, растерзали в его постели, раздавили решетками красного дерева, куски тела раскидали по углам детской. Два года я не давалась ему, днем сидела взаперти, ночью убегала, босиком по блестящим камням, он кидался на меня, обнимал, мои глаза сверкали, он отпускал меня, врывался в казарму, ударом каблука будил спящую рабыню, тащил ее в свою спальню, наваливался на нее, потом душил, открывал окно ледяному ветру и высовывал руки в мятущийся мрак: «Видишь эти руки, ты мертва, задушена».
Ветер окутывает труп рабыни на разоренной постели; я иду в сад, мои губы блестят под луной, я рада, что тело и душа отпущены на волю. Он зовет стражников, приказывает выбросить труп на свалку и засыпает; я ощущаю себя богиней, ради меня человек истязает и убивает жертву, как если бы он хотел убить бога; как богине, эта жертва мне приятна, она освобождает для меня наперсницу моего одиночества. Убей меня, убей руками, ногами или зубами. Ночью он поднимается и рыскает под моей дверью, рабыни разбегаются, тогда он выбегает во двор, пряжка расстегнутого пояса блестит на боку, выбившуюся рубаху раздувает ветер, он спускается в кухню, путается в занавеске, сгорбившись, на ощупь, бредет во тьме, шарит по циновкам, где спят нагие или накрытые передниками поварята. Его рука хватает ступню, голень, поднимается к бедру, сжимает член, мальчик просыпается, вскакивает, пятится к краю, но вождь дергает за член, удерживая мальчика на подстилке:
— Выходи, выходи, я тебя вижу.
Он отпускает член мальчика, сжимает и разжимает мокрую от пота ладонь, мальчик встает, идет по циновке, лунный луч пронзает занавеску, освещает живот мальчика, мутит тенью вмятину пупка; мальчик откидывает занавеску, заходит в кухню, вождь обнимает его за плечи, толкает к отдушине, мальчик прислонился к стене, по хребту к ягодицам стекает селитра, глаза полуприкрыты веками, голова склонена на плечо, вождь поднимает ее, ласкает напряженные мышцы шеи, его глаза устремляются на живот, на курчавый лобок, на бедра, на лоснящиеся колени; он берет мальчика за руку, выволакивает из подвала на двор, ветер овевает заспанного ребенка, его голова болтается на шее, широко раскрытые глаза залиты луной; в спальне вождя сон снова настиг его, он весь обмяк, бронзовая кожа стала бархатной; всю ночь до рассвета вождь, рыдая, причитая, бросает, крутит, раскрывает, поддерживает, рвет это сонное тело, и лишь один слабый вздох, в момент оргазма, исторгает оно в полумрак и разор простыней.
Иериссос отталкивает Королеву Ночи, она хватает его руки, сжимает их на своем горле, он прерывистым движением, как большой кузнечик, отскакивает от нее, песчаная струя царапает стекло, ее тень пересекает открытую грудь Королевы Ночи. Иериссос поднял глаза вверх, она вновь хватает его руки и сжимает ими свою шею, пока не умирает, Иериссос вырывается, безжизненное тело, холодным потом омывая покров, падает к его ногам; Иериссос бежит к выходу, открывает дверь, на пороге большая неподвижная черная птица, подняв голову, смотрит на Иериссоса; мальчик делает шаг, птица кидается на его голую ногу, Иериссос бежит, птица вцепилась в его колено, бьет по нему клювом, разрывает плоть, расширяет рану когтями, Иериссос выбегает в сад, кровь течет по ноге, пропитывает носок. Иериссос подбегает к порталу, будит светловолосого стражника, спящего у каменной тумбы, солдат выпрямляется на деревянной ноге, заряжает автомат, птица, услышав клацанье затвора, поднимает голову, стражник бьет ее прикладом, птица сжимается, когти еще глубже вонзаются в мясо, до кости, Иериссос стонет, солдат снова и снова бьет птицу, ее голова разбита, веки залеплены кровью, от очередного удара она отцепляется от колена Иериссоса, падает на плиты, стражник топчет ее сапогами, мальчик вытирает рану ладонью, стражник, присев, отрывает клюв и лапы птицы, раздирает ей грудь, ногтями вскрывает зоб, на его ладонь, сверкая в кровавом месиве, перьях и обломках клюва, выкатывается кольцо, стражник, при свете луны, крутит его на пальце:
— Кольцо Королевы ночи.
Стражник берет Иериссоса за руку, ведет на кухню, поднимает занавеску алькова, будит рабыню, Иериссос в бельевой будит Бактриану; светловолосый стражник подгоняет джип, они с Иериссосом поднимают тело Королевы Ночи; стражник вышибает маленькую дверь в дальнем углу сада, джип мчится, с рассветом останавливается на песке; на заднем сиденье рабыня и Бактриана вытирают лицо Королевы Ночи; Иериссос вбегает в бурун, макает платок в розовую пену, Бактриана кладет его на лицо Королевы Ночи; светловолосый стражник спит, уронив голову на руль, банда маленьких оборванцев спит за грядой водорослей, с вершины мыса доносятся выстрелы: солдаты былой армии Экбатана продолжают войну два года спустя после ее окончания, правда, на сей раз, против правительства, под знаменами которого они сражались — поражение не отстранило его от управления страной: солдаты думали уничтожить внутреннего врага, истребляя врага внешнего, большинство из них было рабами, сыновьями рабов — власти и не подумали отменить рабство.
Солдаты жили на скалистом мысе Лектр, ни армия, ни правительство, ни обыватели не пытались их оттуда выкурить: иногда они спускались в город, в полном обмундировании, увешанные оружием, маршировали по улицам, полицейские прятались, граждане рукоплескали, женщины трепетали, дети, с криками или молчком, бежали следом. Иериссос, две рабыни и светловолосый стражник поднимаются на Лектр, дети и солдаты бросают цветы на капот джипа.
Вождь частенько навещает Иериссоса на Лектре, Иериссос носит на пальце кольцо Королевы Ночи. Юношей Иериссос спускается в Экбатан, вождь производит его в лейтенанты. Вернувшись в замок, Иериссос находит всех рабов вождя мертвыми: лежащие, сидящие на корточках, прислонившиеся к тумбам скелеты, кнут обернут вокруг шеи, нож торчит из челюсти. Иериссос идет в сад, толкает дверь оранжереи, встает на колени, целует утоптанную землю в том месте, где упала Королева Ночи; стекла залеплены песком, с каждым дыханием моря дверь, колеблемая ветром, качается на петлях; вождь ждет во внутреннем дворе, пиная ногой скелеты. Иериссос сидит на каменной скамье под пыльными пальмами и крутит на пальце кольцо Королевы Ночи, у надкушенного яблока привкус крови, он проводит пальцем по пушку, пробивающемуся над верхней губой; он напевает баркаролу, которой выучилась Бактриана у Королевы Ночи, когда та спрятала ее у себя в комнате от преследовавших ее стражников. Вождь подходит, раздвигает ветки, гнилые яблоки лопаются под его сапогами. На пустынном Лектре дети играют в войну, однажды Лектр открылся для беглых рабов и соблазненных сирот, а потом закрылся за ними, Экбатан присмирел.
Обитатели Лектра устраивали совместные трапезы, летом — у обрыва, зимой — в старой разрушенной церкви или под остовом корабля, все садились за стол, даже младенцы. Иностранные корреспонденты взбирались на мыс снимать дикарей; светловолосый стражник жил с рабыней в деревянном доме; всю ночь он корчился и стонал на постели, днем заводил джип, подгонял его к обрыву и смотрел на море, рассеянно лаская детей, приходивших потрогать его деревянную ногу; если ветер доносил до него шум города, на его губах выступала пена, он не знал, куда деться от своих рук: словно руки, как бичи, хлестали его.
Однажды он направил свой джип на скалы под обрывом и умер, голова раздроблена колесом, оторванная рука зажата рулем. Он мог заниматься любовью лишь стоя, у дверей или заборов.
Вождь подсаживается к Иериссосу:
— Лишь одна маленькая рабыня осталась мне верна. Экбатан забыл меня. Еще немного, и вы меня позовете; в Септентрионе вынимают оружие изо льда, женщины и дети закаливают пули, орошают раскаленную сталь пушек. Здесь женщины волочат шлейфы платьев по подножкам лимузинов и покупают малолетних рабынь для своих развратных сынков. Нынче рынок раскинулся на берегу лимана, множество азиатов закуплено торговцами Септентриона и перепродано в приграничные города Экбатана; рабы закованы в цепи и брошены на пол в бараках и ангарах, построенных в конце войны, торговцы покупают их за бесценок целыми семьями; одна семья для муниципального туалета; жена сидит у кассы, муж с сыновьями чистят выгребные ямы, дочери надраивают плитки; вторая семья для официального скульптора; третья — для школы; учителя накачивают рабов вином, чтобы внушить детям отвращение к пьянству; еще одна семья — в колледж, где директор, следуя последним септентрионским педагогическим изысканиям, дает своим ученикам уроки полового воспитания; всю семью выводят на эстраду и заставляют отца спариваться со своей женой, потом с дочерью, дочь с братом; потом, чтобы показать все безобразие противоестественных отношений, отца с сыновьями, сыновей друг с другом и с их матерью, затем ее с дочерями и дочерей между собой, учитель дотрагивается до совокупляющихся тел, напряженных и потных, своей линейкой, объясняет позиции, предупреждает о возможных ошибках, собирает на конец линейки капли спермы и проносит ее по рядам.
По возвращении в растревоженный, переполненный рабами Экбатан, откуда целые семьи уже готовились дать деру, на главной улице города вождь был встречен рукоплесканиями, его машина медленно прорезает толпу, он сжимает ладонь Иериссоса, в сумеречном свете капот переливается голубым и красным, газеты в руках маленьких рабов пестрят смутными угрозами; наплыв азиатских рабов предвещает продвижение септентрионских армий. Экбатан, связанный союзными договорами со странами, на которые собирался напасть повелитель Септентриона, исподволь готовился к войне, которая, при всей своей неотвратимости, казалась выдуманной, переносилась на неопределенное время; мир сделал реальность вымыслом, Экбатан, чье могущество зиждилось на труде тысяч рабов, убаюканный их заботой, изнеженный излитыми на них похотью и жестокостью, успокоенный и одураченный их лестью, их коварной верностью, Экбатан скользит глазами по этим газетам, проходит и растворяется в осеннем тумане, и вдруг, в толпе невинных рабов, его колени сводит страх.
На рассвете, в то время, как Государство склоняется перед вождем, Иериссос, проходя под портиком Дворца правительства, поднимает глаза на еще освещенное окно второго этажа; появляется вождь, видит Иериссоса, улыбается, Иериссос целует ему пальцы. После освобождения вождь упрятал низложенное правительство в столовой госпиталя, приписанного к министерству, к ним для услуг приставлена рабыня; Иериссос входит, рабыня протягивает ему чашку обжигающего кофе, Иериссос берет чашку двумя пальцами, пар поднимается к его лицу, он трясет ладонью, берет чашку другой рукой, подносит ее к губам; сквозь пар он видит лицо юной рабыни, верх ее блузки в пятнах от кофе и варенья, кольцо, блестящее на верхней губе; Бактриана подходит сзади, гладит его плечи; в темном проеме двери молодые солдаты в распахнутых пижамах, с забинтованными головами, встают с коек, опираясь на стены, плетутся в вестибюль, зовут Бактриану, сдирают окровавленные бинты, издавая короткие слабые вопли, на губах пена, щеки покрыты ночной коростой: слезы, слюни, сопли; Бактриана возвращается в коридор и уводит солдат одного за другим в их постели; Иериссос, попивая кофе, смотрит на юную рабыню, протирающую чашки, ее черные опущенные долу глаза поднимаются, когда обод чашки скрывает глаза Иериссоса; Иериссос возвращает чашку, рабыня берет ее, встряхнув полотенце; ее пальцы стирают следы, оставленные пальцами Иериссоса; над столом — большая фотография вождя; Иериссос смотрит на юную рабыню, она кладет не протертую чашку в карман передника, Иериссос, повернувшись к вождю, выслушивает угрозы, сожаления, страхи, решимость наступать и склонность к переговорам; юная рабыня заканчивает накрывать на стол, Иериссос, вернувшись на то место, где пил кофе, склоняется к рабыне, ее пальцы дрожат на белоснежной скатерти, где сплетения нитей сверкают, точно кристаллы льда:
— Как тебя зовут?
— Мантинея.
— Как долго ты в рабстве?
— С самого рожденья, моя мать пела в Опере, когда ваши солдаты взяли город.
— Мои родители погибли на войне, которую мы вели против вас, мы с тобой брат и сестра.
Он берет руку рабыни, целует ее, поднимаясь до рукава блузки.
— Не трогайте меня, завтра меня продадут вдове вашего прежнего принца, у нее четыре сотни рабынь в ее домах и угодьях, восемь сотен на заводах и в рудниках, они мрут по десятку в день, и их тут же заменяют новыми. Говорят, что она людоедка. Она покупает меня, чтобы сожрать.
Рассеянный отблеск зари смешивается с газовым светом лампы на потолке. Лица бледны, глаза закрыты, кровь струится в венах рук, Бактриана в коридоре отбивается от раненого, она оттаскивает его от стены, он держит ее за плечи, перебинтованными пальцами пытается сорвать с нее блузку, тянется губами к губам Бактрианы; другие раненые, лежащие и сидящие в кровавой полутьме палаты, вопят, хрустят суставами, сдирают повязки, смеются, распахивают пижамы, вынимают члены, впиваясь глазами в раненого, держащего Бактриану; Иериссос отнимает руку от руки Мантинеи, выбегает в коридор, вырывает Бактриану, бьет солдата по лицу, рот раненого разорван, на кулаке Иериссоса кровь, раненый плачет:
— Господин лейтенант, вы ударили раненого.
— Не можешь сдержать себя — все вы как несмышленые щенки. Иди спать.
Солдат, понурившись, пижама спущена до середины ягодиц, возвращается в палату, закрывая разбитые губы ладонью; Иериссос стирает кровь платком, облокачивается на подоконник; серенькая заря проявляет башни, купола и флаги дворца, по террасе проходят жрецы, их сандалии из ослиной кожи мокнут в ледяной воде луж, листами их книг играет ветер; внизу, на винтовой лестнице, неподвижно застыли их маленькие рабы с орарями в руках, ожидая конца мессы, ткань рубашек и шортов трепещет на ветру; на перекрестках разворачиваются взводы, наброшенные плащ — палатки трещат на свежем ветру, как горящий бензин; группы рабов, беглых, ищущих защиты, жмутся к воротам дворца; солдаты отсекают, стреляют, топчут, оглушают, рабы рассеиваются, бегут, прижимаясь к домам, залпы сбрасывают их на тротуар или кидают на стену; муниципальные поливальные машины опрыскивают улицы; блестят обмытые трупы с разделенными струей воды проборами; окрашенная кровью вода стекает по мостовой, взбивая пену вдоль тротуаров, дворники наваливают трупы в пасти грузовиков вместе с остывшим пеплом и экскрементами.
Священники спускаются, опираясь на плечи маленьких рабов, отирая орарями холодный пот со лбов. Агония закончена; их свободные руки скользят по перилам лестницы; голуби планируют на балюстрады, скаты, оттаявшие крыши, сливающие дождь, росу, птичий помет; сонные вороны ищут свои щели, натыкаясь на пасти драконов, груди граций, антенны и стяги; рубашки и шорты маленьких рабов под дождем прилипли к торсам и бедрам; Иериссос возвращается в зал столовой, Мантинея дрожит, Иериссос трогает ее плечо, Мантинея склоняет голову, ее щеки и ресницы соприкасаются с ладонью Иериссоса, который поднимает пальцы к губам Мантинеи; взгляд вождя и порыв ветра из двери застают их врасплох, Мантинея снова берет со скатерти свое полотенце, прижимаясь животом, стянутым блузкой, к столу, Иериссос кладет руку ей на грудь; он догоняет вождя у двери, министры сторонятся, некоторые оглядывают его с ног до головы.
В машине, рядом с вождем, дремлющим в надвинутой на лоб черной шляпе — Иериссос, поднятый воротник закрывает мочки ушей; маленький раб в набедренной повязке из мешковины присел на корточки у кровавого ручейка; его руки шарят в сливе водостока, он вынимает их, перепачканные кровью до локтевого сустава, поднимает над головой, смотрит на Иериссоса блеклыми зрачками, налитыми кровью; Иериссос сжимает подлокотник, мальчик бежит за автомобилем, обхватив руками лысый череп; рука вождя трогает бедро Иериссоса:
— И все-таки я разбил этого врага.
Иериссос поворачивает голову, протирает заднее стекло; мальчик бежит, пританцовывая, кровь стекает ему на грудь, заполняя впадину пупка; шофер видит его в зеркале заднего вида; вождь снова засыпает, Иериссос замечает начертанный на блестящем затылке шофера крест, полуприкрытый шарфом; машина замедляет ход, мальчик обгоняет ее, его окровавленная рука скользит по стеклу, шофер со стуком открывает свою дверцу, мальчик прыгает на тротуар, шофер жмет на газ, он видит кровавый крест на стекле рядом с Иериссосом, направляет машину на ребенка, тот, подвернув ногу, падает, правое переднее колесо давит его голову, волочит по шоссе; проснувшийся вождь двумя руками вцепился в спинку переднего сиденья, капля слюны стекла на его подбородок; Иериссос открывает свою дверцу, выбегает, опускается на колени перед ребенком, освобождает его голову, вывихнутые кости плеча перекрещены где-то в горле; машина отъезжает, шофер дрожит, уткнув голову в рукава пальто, размотавшийся шарф висит на руле, Иериссос поднимает тело на руки и убегает. Вечером:
— Хозяин, лейтенанта Иериссоса видели в руинах Лектра. Арестовать его?
— Нет, после каждого из своих побегов он возвращался еще послушнее, еще нежнее, его щеки и плечи хранили аромат ветров. Пусть он побегает, покроет потом свой лоб, мороз сделает твердыми его губы, пальцы, его член, а потом весна смягчит его кожу.
Враги вновь вошли в Экбатан. Иериссос спустился с Лектра в предместье рабов, однажды вечером остановился перед одной из лачуг и услышал обращение того офицера, что сбежал на Букстехуде, голос призывал к сопротивлению даже тех, кого Лектр лишь недавно пропустил за свою ограду:
— Эта битва, что ведется против врага, способного поработить ваших хозяев, для своего победного завершения требует вашего участия, тогда вы избавите своих детей от еще более тяжкого ига, а я обещаю вам, что заставлю ваших хозяев, после того, как вы их освободите, даровать вам волю.
Иериссос входит, видит рабов, собравшихся за столом у транзистора. Солнце освещает вершину Лектра, острия ограды, угли сожженных столбов, вражеские всадники скачут по берегу, копыта лошадей топчут тела юных бойцов сопротивления, расстрелянных ночью, присыпают их песком; всадники поднимаются на дюну, галопом пересекают улочки предместья, топчут детей, играющих на песке в бабки; каска одного из всадников падает на окровавленный песок, всадник спрыгивает с седла, лошадь мчится дальше, всадник с каской в руке бежит за эскадроном, исчезающим за воротами Экбатана в облаке кровавой пыли и взметенных отбросов; рабы выходят из хижин, подбирают детей, ласкают их раздавленные руки и ноги; один из них держит ребенка за челюсть, выбитую ударом копыта, ребенок кричит, пальцы ног вывернуты; Иериссос в разорванной в клочья униформе бежит за ребенком, у которого оторвано ухо и выбиты зубы, тот взбирается на скалу Лектра, Иериссос хватает его за плечи и отводит в свою хижину; с полотенцем на шее, он выходит в садик, мыло щиплет ему глаза; два танка ползут по берегу, взбираются на дюну, гусеницы срывают дерн и корни, башня поворачивается, пулемет прошивает буруны, потом вершину Лектра, где на ограде белеет разорванный парашют: партизан прячется в руинах, руками сбивая пепел с обгоревших столбов; Иериссос возвращается в хижину; два раба, посланные вождем, стучатся в дверь; мать прячет в углу раненых детей, Иериссос открывает дверь:
— Хозяин хочет знать, здоров ли ты.
— Скажите хозяину, что я один, что бремя власти переполнило меня страхом, что дворец населен убийцами.
Раб вцепился рукой в член Иериссоса, тот отпрянул, отдирая ладонь раба от ширинки форменных штанов.
Рабы ушли. Они направились в Экбатан; тот, что касался Иериссоса, поднес ладонь к губам вождя.
Иериссос с полудня до ночи готовил выступление тайной армии рабов; одному из них вплавь удалось достичь Букстехуде, он вернулся сквозь пулеметный огонь и упал, истекая кровью, на циновку Иериссоса; в его сжатом кулаке нашли смятый листок, покрытый указаниями и обещаниями оружия.
Рабы понемногу организовывались в отряды: танки поджигались, склады взрывались, свободные бойцы вначале испытывали некоторое отвращение к своим новым товарищам по борьбе, во время привала жаловались на вонь, на неуклюжесть и разболтанность этих рабов, привезенных бог весть откуда.
Однажды вечером Иериссос вошел в спальню вождя, тот сидел в кресле перед освещенным столом, заваленным бумагами, над ним склонился лакей; Иериссос подошел, вождь повернулся в пол — оборота, прогнал лакея ударом кулака по заду, встал, Иериссос подошел ближе, вождь положил ему руку на бедро:
— Я знаю, ты командуешь армией подростков и рабов. Проведи меня как — нибудь ночью в твой лагерь, я хочу смотреть, как они спят: оружие между колен, в горле трепет, пупок открыт, губы и щеки лоснятся от жира и вина, грудь волнуется, член вздыблен голосами и образами мечтательной дремы. Ты здесь и капитан на Букстехуде — вот две артерии моего сумеречного сердца. Я прикрываю вас с двух сторон, а когда война во всем мире будет закончена, Септентрион повержен и разорен, вы оба приговорите меня к смерти. Ты оставлял меня не раз, чтоб спасти какого — нибудь раба от мучений. Теперь я предаюсь тебе. Ты живешь за меня в свете и суете, из которых я не могу зачерпнуть и горсти. Ты едва позволяешь мне испить с твоих щек, с твоих ладоней пот твоих деяний. Я был рожден даровать волю, а не составлять, день за днем, списки заложников. Они навязывают мне септентрионских лакеев, они выворачивают мои носки, их шпионы смеются за дверью, когда я сажусь на унитаз. Ты воняешь рабом. Они тебе подчиняются? Сегодня утром я видел одного на крыше дворца, он менял чугунный водосток, кровь стекала с его пальцев на искореженный металл; выпрямившись, он долго смотрел, как дым, выходящий из трубы, на которую он опирался, тает в свете дня; он перехватил мой взгляд, опустил глаза; ветер раздувал его рубаху; он поднял глаза, они были омыты росой и кровью, я едва сдержался, чтоб не столкнуть его в пропасть, как камень. Ты останешься на ночь? Он накрыл ладонями уши Иериссоса:
— Мои ноги ослабли, мне трудно выпрямить их под умывальником.
Лакей готовит столик у изголовья: флаконы, пакетики, вата, шприцы. Иериссос садится на диван, вождь обнимает его за бедра:
— Только я могу совладать с врагом, но мое правительство ночью или в час моей сиесты подписывает временные договоры, которые я обязан выполнять. Никто из внешних и внутренних врагов не проникал в эту комнату, где я сражаюсь в одиночку. Я приклеиваю мои послания на брюхо пса, подаренного мне крестьянами, у которых я благословлял стада и инвентарь, однажды я выпущу его на волю, мои приказы будут обнародованы — я тоже буду взрывать мосты и поезда. Вот этот пес, крестьяне хотели подарить мне суку, но я предпочел кобеля Што. По ночам я толкаю его, он запрыгивает ко мне на кровать, я треплю его лохматую морду руками, его глаза блестят, я тискаю его брюхо, хранящее мой секрет, его язык лижет мои ладони, мои губы. Словно сам Экбатан, взыскующий свободы, смотрит мне в глаза и трепещет под моей рукой.
Он подсаживается к Иериссосу, привлекает его к себе на колени; по улице проходит патруль с шумом гальки, влекомой прибоем. Иериссос гладит старца по щеке, на его пальцы накручиваются седые локоны, сквозь них видно, как кровь приливает к губам, его ногти замирают на распечатанных ресницах, под которыми сияет пара голубых ирисов. Рука вождя проникает меж бедер Иериссоса, расслабленного теплом, ароматами, блеском флаконов; рука вождя, погружаясь до запястья, мнет юное сонное тело, пальцы расстегивают пуговицы, стягивают трусы, скользят по локонам; вторая рука сжимает конверт, скручивает его и прячет в паху Иериссоса. На рассвете старец храпит в постели, раскидав волосы по подушке, лакей, склонившись над ним, шарит руками по его шее; Иериссос, вскочив, опрокидывает лакея, вождь, всхрапнув, переворачивается на бок. Иериссос наступает на горло лежащего под кроватью лакея, выходит из комнаты, сбегает по лестнице, под порталом дождь сечет его по лицу и рукам; он проходит по Экбатану, опрокидывает вражеские плакаты и пустые помойные баки, где спариваются кошки, спускается к лиману; под крышами барж речной спасательной службы огромные коты щетинят шерсть, намокшую от спермы и дождя, трут спины о просмоленный брезент и босые ноги моряков; он поднимается к центральному вражескому кварталу, останавливается у стены, поддерживающей террасу дворца вдовы принца Экбатана, слышит крики рабов и пыхтенье печей, доносящееся снизу, через отдушину кухни; перед ним заросли террасы, площадки, печные трубы, коньки, башенки; окна, оконца, форточки — раскрытые, запотевшие, затянутые, забитые штанами, рубашками, майками, платками, носками, вывешенными для просушки, скрывают тяжелый сон и смутное беспокойство вражеских солдат и офицеров.
Две женщины медленно поднимаются по улице, где рыбья кровь и желчь стекают между плитами; голубой зонт нацелен на струи ливня; они проходят рядом:
— Ты? Пошли во дворец, позавтракаем вместе. Ты?
— Да, ваше высочество.
Две женщины, скрытые вуалями, поднимаются впереди Иериссоса по маленькой лестнице; пальцы на перилах порхают по лепесткам, одна поворачивается — роза вплетена в локон у виска, принцесса держит за руку молодую женщину, сжимает фаланги, гнет ногти, стягивает кожу, щиплет вены, Иериссос касается бедра молодой женщины, идущей перед ним; наверху два раба, опершись на сырые столбы, запахивают рубахи, ручейки дождя стекают по мышцам шеи: «Теперь лежать!», ткнув в грудь наконечником сложенного зонта; рабы всполошились, две женщины выходят на веранду высотой в пятнадцать метров, бронзовые откосы, витражи в половину высоты; две ели в каменных кадках вытянулись до купола, выше колокольни; в сплетениях ветвей Иериссос замечает сломанные игрушки, обрывки штанишек и рубашек, автоматные магазины, ожерелья из зубов; множество рабов, мужчин и женщин, снует по террасе с полными руками цветов, фруктов, холодного мяса.
— Сегодня я пригласила на завтрак высших офицеров оккупационной армии. Хочу показать им богатства Экбатана. Вождь отказался от участия в празднестве, он предпочитает свое рагу и минеральную воду. Ты останешься здесь на целый день, Иериссос? Как мне надоели вонючие рабы! Эти ели принц привез мне из лесов Септентриона вместе с птицами и белками, изловленными сетями. Тогда ты только — только родился. Войну затеяли крысы. Горсть грязи, смерть. Принц бросился в мои объятья, под его бровями бились ночные бабочки, на его лбу я разглаживала метку от смотровой щели. Все рабы погибли на войне, наступившая потом зима прикончила раненых и безумных, вернувшихся по домам, двери дворцов и поместий были распахнуты.
Я танцевала ночи напролет, а днями, нежась под мехами моей постели, по телефону истязала моих любовников. Принц накалывал на булавки своих бабочек. Мы славно ладили с Республикой. Садись. Я скоро вернусь.
Она выходит. Молодая, нарядно одетая женщина сидит на софе, прислонив голову к вазе с гниющей водой:
— Мантинея, я знал ее, тебя это удручает? У нее была тысяча любовников с четырех сторон света, она мазалась ваксой для негра, открывала груди…
— Ночью ее бриллианты крошат мои зубы. Все рабы ревнуют меня, они оживают, когда я прохожу мимо, их кости и мышцы мигом встают на места, кровь наполняет их жилы. Они вбивают гвозди между планок паркета. Свободные меня презирают, рабы ненавидят. В каждой комнате звонок может позвать меня к ее изголовью, звонок на каждом дереве, на ограде каждого фонтана. Тогда рабы высовывают головы, плюют мне вслед против ветра, плевки возвращаются им на лица; они гребут землю, скребутся в паху, кидают к моим ногам бумажные короны. Склонившись над ней, я стараюсь сдерживать грусть, но она видит, как дрожат мои веки, приподнимается на локте, берет меня за подбородок, булавка от ее парика воткнута в подушку, ее рука касается моих ресниц; я закрываю глаза, я хотела бы любить ее, я трусь щекой о ее ладонь, она улыбается, ее рука скользит к моему горлу, я мягко ее отстраняю.
— Любила б я тебя, будь ты свободна?
— А мертвой вы любили бы меня?
Я примостилась рядом с ней на ее постели, мои глаза считают золотые звезды балдахина, ее рука расстегивает ворот моей блузки, накрывает под тугим шелком мою правую грудь, расстегивает пуговицы до талии, скользит по пуговицам вдоль выреза наверх; из складок портьер летят пылинки; рабыня на цыпочках пересекает комнату, поднимает покрывало с подножья постели, нитки на плече ее платья рвутся, принцесса, увидев обнажившуюся плоть, приподнимается:
— Приведи ее, Мантинея!
Рабыня стоит неподвижно, скомкав покрывало, я встаю, беру ее за талию и веду к изголовью, толкаю, наклонив ее голову к лицу принцессы, руки рабыни обмякли, шея под моими пальцами напряжена, покрывало соскальзывает на пол, принцесса вцепилась рабыне в горло, притягивает ее:
— Поверни ее, выкрути ей руку.
Я выворачиваю руку рабыни, принцесса впивается зубами в прореху платья, прокусывает плоть, рабыня сидит на краешке кровати, платье вбито между бедер, руки прижаты к пупку, шея стиснута руками принцессы, уставилась на меня, плечо и ткань платья на груди и на спине смочены слюной; зубы смыкаются, рабыня поджимает плечо к щеке, ее растрепанные волосы на простыне, сведенный судорогой живот ввалился; с десен принцессы брызжет кровь, руки рабыни, слабея, поднимаются к груди, принцесса запрокидывает торс рабыни себе на грудь, не прекращая грызть плечо, сжав зубы на мышце и дергая ее, как струну, рабыня закусила губы, запрокинула голову, открывая омытую потом и кровью шею; она кричит, выбрасывает руки вперед, снова складывает их на животе; открытые колени блестят от пота, стекающего по ногам до ступней, платье, прилипшее к телу, топорщится в сухих местах; я глажу лоб принцессы, брови, забрызганные кровью, веки, принцесса разжимает зубы, отпускает шею рабыни, откидывается на подушку, розовый пот смочил ткань у щек и волос; рабыня по-прежнему сидит на краешке постели, я беру ее за голову, поднимаю, запускаю руки под мокрое, липкое платье, она закрывает рукой рану, встает, я толкаю ее к двери, она прислонилась к стене; ее плечо над вазой, полной зеленой воды и сгнивших цветов; я возвращаюсь к постели, сгребаю белье, складываю, отношу рабыне, кровь из раны струится на горлышко вазы, стекает, касается воды и алой вуали; я вкладываю белье в здоровую руку, открываю дверь, вывожу рабыню в коридор; когда я закрываю дверь, она кидается на меня, впивается мне в руку, держит ее своими сломанными зубами, я прикрываю рот, слезы стекают на ладонь, катятся по моим ноздрям, рабыня разжимает зубы, сплевывает мою кровь и убегает, волоча по ковру развернувшееся белье.
Когда я вновь возвращаюсь к принцессе, она чует, видит кровь на моей ладони, она тянет ее к себе, подносит раной к губам, всасывает кровь, обшаривая рану языком, я укладываюсь рядом, она продолжает лизать рану, запекшаяся кровь осыпается с ее ресниц, ее глаза закрыты, голова откинута на подушку, моя кровь стекает на ее грудь, смешиваясь с кровью рабыни; она любит кровь рабов, мужчин и женщин, кровь и сперму; потеря крови и спермы выводит нас, рабов, на какое-то время из рабского состояния, они насыщают, возвращают к жизни свободное тело, непостижимое для нас. Вы, вольные люди, любите пить кровь и впитывать сперму рабов; небесным огнем они прожигают вас до глубин души: свобода через подчинение силам небесным, выстуженным вашим одиночеством — этим рабам, возлежащим с вами, нечувствительным к силам земным; в их чрево вы вливаете свое отравленное семя, играя, вы убиваете нас, нас, которые уже мертвы.
Принцесса возвращается, садится рядом с Иериссосом; кругом снуют рабы, некоторые, в испачканных вином и воском шортах, прислонившись к стене, открывают бутылки, зажав их между колен; женщины с вцепившимися в подол детьми накрывают на стол; молодой раб с полными руками бутылок с вином и медом толкает ногой дверь веранды, выходящей во двор погреба, колено под закатанной штаниной кровоточит, дождь замывает кровь; принцесса, рука которой покоится на бедре Иериссоса, а волосы соприкасаются с его волосами, вздрагивает, увидев окровавленное колено, упирается пальцами в пол, раб приближается, она хватает его за ногу, он теряет равновесие, бутылки бьются о плиты, осколки ранят босые ноги детей; раб стоит, руки по швам, опустив голову, принцесса, вцепившись ему в колено, тянет ногу к себе, раб подходит поближе, принцесса впивается в рану, кусает до кости, лижет ногу, поднимает ступню к губам, слизывает кровь с большого пальца, раб, стоя на одной ноге, держится за подлокотник дивана, руки принцессы обнимают его ступню.
Иериссос молчит, склонившись к Мантинее, перебирая пряди ее волос. Рабы, собирая осколки стекла, режут себе руки и ноги, винная лужица подтекает под диван, принцесса подбирает ноги, рабыня кидает на плиты большую тряпку; чайки, обосновавшиеся на колокольне собора, бьют крыльями по стеклам; принцесса отпускает омытую ногу раба с раной, смягченной слюной, тот отступает к столу; принцесса поворачивает к Иериссосу окровавленное лицо с приоткрытым ртом, розовая слюна скопилась на деснах:
— Видишь ли, кровь, даже самая подлая, разгоняет мою меланхолию. Когда не льется их кровь, когда, во дворце ли, в саду ли, они работают, не раня себя, меланхолия снова сжимает меня, она дробит мои кости, я встаю с ложа, преследую рабов, мешаю им, чтоб они поранились; я даю острый нож мальчику, иголку или ножницы девочке, сидящей у меня на коленях. А вот кровь животных повергает меня в ужас. Поутру я встаю, бужу Мантинею, мы выходим в Экбатан; на улице я склоняю увядшее за ночь тело к кровавому ручейку; я собираю в ладони кровь рабов или партизан, застреленных ночью, и пью; Мантинея, отвернувшись, дрожит на тротуаре, струя из-под колес грузовика окатывает мое платье, холодит мой лоб и там, внизу, смягчает лихорадку, которая его распирает. Вернувшись во дворец, я ложусь, и выпитая кровь запечатывает мне уста до вечера.
В полдень, оставив спящую принцессу в ее спальне, Иериссос и Мантинея поднялись на крышу дворца; высшие чины выходят из своих авто, толпятся на маленькой лестнице, ведущей на террасу, их шоферы, развалившись на переднем сиденье, зажигают сигареты, достают из карманов бутылки и фрукты, снимают шляпы, включают радио, свистят вслед девицам, свободным или рабыням, привставая на сиденьях и опускаясь, когда они проходят.
Иериссос, вскинув руки, лицо в паутине, падает на Мантинею, погребенную в корзине со старыми шалями, растянувшись на ней, он разрывает покрывающие ее шали, ловит ее губы, прижимается бедрами к ее животу; их слюна увлажняет лоскуты, пряди шерсти застревают в зубах; Иериссос прижимает губы и десны с двумя выбитыми зубами — в детстве он упал на камень, убегая от вождя — к горлу Мантинеи; зубами он расстегивает ворот платья, прикусывает грудь до соска, на который он сплевывает; Иериссос встряхивает пыльной шевелюрой, потом, отступив на корточках, задирает ее платье, двумя руками накрывает ее живот, спускается к влагалищу, лижет его, его губы трепещут под прядью волос, колени Мантинеи сжимают плечи Иериссоса, ее руки обвивают его тело, его руки, в складках которых сверкают блестки пота.
Посреди пира один генерал по неловкости переворачивает соусник на голову маленького раба, который сидит у его ног, вцепившись в подол материнского платья; она, зажав соусник в кулаке, сидя на корточках, стирает соус с черепа ребенка подолом платья, ребенок задыхается, лежа на спине, ресницы сожжены, глаза залиты соусом, губы плотно сжаты, поднятые колени сведены судорогой, ладони прижаты к бедрам; рабыня, не говоря ни слова, щеки залиты слезами, поднимает ребенка на руки, швыряет соусник на стол и выбегает в вестибюль; принцесса, вся обмякнув, с пылающим лицом, смотрит на елки:
— Этот ребенок умрет; его отец — сын проститутки, принц взял его совсем маленьким из борделя, где тот жил, целый день голый, кости и кровь насыщены желчью, суставы разбиты от выкручивания и пинков; во дворце, несмотря на свои болячки, он очаровал всех девушек, всех женщин, его каморка в погребе до рассвета оглашалась их криками и смехом, это хороший производитель.
Раб, посланный из кухни, склонился и прошептал что-то на ухо принцессе.
— Ладно, принеси его пожитки и закинь на елку.
Раб выходит, потом возвращается, в его руках костюмчик маленького раба и его игрушки: кораблик из коры и волчок; принцесса трогает вещи:
— Они пахнут молоком. Горе мне, пьющей кровь.
И раб забрасывает все на елку.
Мантинея, стоя за принцессой, смотрит на Иериссоса; его пальцы дрожат на полу обглоданной голове перепелки, его зубы дробят глазные впадины, череп; принцесса замечает его улыбку, адресованную Мантинее, она продолжает разговор с генералом, сидящим напротив, но вечером, когда Иериссос ушел в Лектр, она набросилась на Мантинею, лупила ее кулаками, пинала ногами, потом, увидев ее раненой, избитой, потерявшей сознание, она пила кровь изо всех ран, покрывая тело руками, слезами, волосами.
На рассвете, одна, она идет пить кровь вдоль тротуаров; она рыщет по бойням — чтобы увидеть кровь забойщиков, поранившихся своими ножами, она пересекает мощеный двор; ее платье на пояснице надувается свежим ветром, подол скользит по крови, цепляя отрубленные головы овец, коров, свиней, коз, головы катятся, из них выскакивают крысы, перемазанные кровью; ноги принцессы слабеют, она подбирает платье и становится на рельс; молодые рабочие, опершись на вагонетку, режут кукурузные лепешки, прижимая их к груди, принцесса наблюдает, как нож рассекает хлеб и останавливается на большом пальце; она входит в главный корпус; от криков животных дрожат стекла; принцесса пробирается между вагонетками, подсобники снуют по кровавым лужам, стирая кровь с волос, у одного на щеке отметина от козьего копыта; вода стекает на плиты из загонов, унося клочки шерсти и навоз; два подсобника дерутся между покачивающимися, звенящими крюками, принцесса поднимает завесу загона, где подсобники под предводительством мастера — забойщика — голого по пояс, в переднике, спадающем на бедра — удерживают животных и перерезают им глотки, волосы разметаны в свете неоновых ламп, рога животного упираются в пупок. Лоб принцессы, поддерживающей завесу, покрыт капельками розоватого пота; мышцы подсобников напряжены; ноги парней близ лошадиных копыт; подсобник добивает неудачно забитую лошадь, вывалившийся лошадиный язык обвился вокруг запястья подсобника, лошадь упирает копыто передней ноги в бедро юноши, копыто задирает шорты до паха, приоткрывая прядь волос и гениталии; подсобник склонился к лошади, одной рукой проворачивает нож в ее горле, другой — вцепился в дымящиеся ноздри. После он вынимает нож, лошадь, взбрыкнув, толкает руку с зажатым в ней ножом, лезвие скользит по лобку, оставляя зарубку под волосами, кровь сочится на черную прядь; подсобник, не выпуская ножа, большим пальцем трет пораненное место; принцесса бросается к нему, расталкивая подсобников с мастером, садится на корточки, ухватившись за ногу парня, ее пальцы пробираются к бедру, губы устремляются в проем шортов, язык обшаривает окровавленные волосы у основания члена, грудь упирается в копыто, вывернутые, обкусанные губы блестят; подсобник, не смея шелохнуться, держит нож над головой принцессы, взгляд блуждает, губы трепещут, ноздри дрожат, пот застилает глаза, склеивает ресницы, мышцы ноги и бедра напряжены; принцесса сосет кровь, волоски щекочут ей ноздри, правый глаз накрыт штаниной, левый впился в подернутый мутью глаз умирающей лошади. Забойщик и его подмастерья сгрудились вокруг них у стены загона; парнишка, которого принцесса держит за колено и зад, положил свой нож на голову принцессы, гладит ее волосы на висках и на плечах, пропускает их между пальцами, накручивает на ладонь, его ногти скребут открытые виски; ноги принцессы под платьем раздвинуты, губы влагалища сочатся смазкой, она сильнее жмет его зад и колено, она прикусывает основание члена, надавливая на ранку, из которой уже не течет кровь, член подсобника твердеет, поднимается к ноздрям принцессы, но, втянув язык в рот, переполненный кровью, она поднимается, скользнув ладонями по его бедрам, вытирает губы его ладонью, окидывает взглядом подсобников и выбегает из загона; парнишка сжимает нож, склоняется к лошади, копыта которой скребут по плитам, ударом кулака поднимает ей голову, вонзает нож рядом с первой раной, лошадь поводит головой, ее спина дрожит под босыми ногами подсобника, ему в глаза брызжет струя крови, стекая на щеки, на грудь, на живот, на колени, затекая под шорты. Два подсобника, присев, держат ноги лошади, забойщик берет в углу загона свинцовую болванку, высоко ее поднимает; парнишка отскакивает в сторону, болванка падает на череп лошади; ее ноги, сжатые руками подсобников, дергаются, она хрипит, глаза закатываются, пар из ноздрей летит в разорванное горло, рот приоткрывается, кровь, смешанная со слюной, течет между зубов и из ноздрей.
Принцесса в перепачканном платье бежит вдоль стены, из поросших мхом щелей выпархивают трясогузки, задевая крыльями ее волосы и щеки; часовые, навалившись грудью на гранитные бордюры, царапают камень своими ножами. Один из часовых дремлет, уронив голову в каске на гранит, его рот, наполненный сонной истомой, сдувает кварцевую крошку; принцесса спотыкается о клубок водорослей, из него вываливается детская ручка, источенная червями; подол платья, зацепившись за клубок, распутывает его, раскрывая нагое тело ребенка с отметинами от гусениц танка. Крыса, выбравшись из-под останков, вцепилась зубами в край платья; другая крутится в консервной банке, вспрыгивает на живот мертвого ребенка и пробирается к горлу, оставляя на бледной груди ржавые следы.
Старуха — кольцо в губе заросло кожей — присев на корточки у стены, бросает щепки в костерок, разведенный между ногами:
— Пейте, ешьте, малыши, вгрызайтесь в сладкую плоть, пусть его кости и жилы станут клеткой для вас.
Она охотится на крыс: зверьки сбегаются на приманку, прогрызают тело, проникают в раны, мордами поднимая кожу, шевелятся во рту, под мышками, между ягодицами и в животе; увидев, что все крысы достаточно углубились, старуха встает, нагибается над трупом, накрывает отверстия кусками просмоленного брезента; крысы возвращаются к проходам, пытаясь вырваться, но старуха, сжимая им головы пальцами, швыряет их, еще живых и пищащих, в костер. Чтобы изловить тех, что засели внутри, старуха шарит по телу, они перекатываются под ее пальцами, она гонит их к суставам, к полостям в животе и горле, там она их давит, прорывая кулаками стылую, забрызганную кровью кожу.
Одна из крыс вгрызается в челюсти и щеки, от ее движений поднимаются веки и шевелятся уши; старуха двумя руками сдавливает виски; десны, разорванный язык, нёбо — одна кровавая дыра, прикрытая зубами, крыса поворачивает в эту эмалированную кровавую ванну, старуха затыкает рот куском брезента; крыса, увязшая в горле, тянет брезент, вцепившись в него зубами, потом снова поворачивается, проталкивается через горло и выходит в легкие; старуха встает, подбирает в грязи палку, обвитую колючей проволокой, ударяет ею по груди мертвого ребенка; крыса протискивается под легкими, разорванная плоть скрежещет; крыса оказывается в наполненном дождевой водой животе. Старуха бьет по животу, колючая проволока разрывает живот и накалывает крысиную морду, старуха снова бьет, крыса верещит, сучит ногами в крови, прячется под кости таза, палка их дробит, старуха через дыру достает крысу и бросает ее в костер; потом, присев на корточки, она пожирает зажаренных крыс и засыпает до полудня, прислонившись к стене; когда она просыпается, крысы снова покрывают труп, старуха давит и оглушает их; кровь, зажженная вечерним солнцем, золотым дождем омывает ее запястья. Когда труп весь изодран и больше не может служить приманкой, она тянет его на костер и жарит на медленном огне; пожирает и его, отрывая руки и ноги, покрывая зубы теплым пеплом; она растягивается на костях и спит, подставив раскрытый рот ночному дождю, до зари; проснувшись, идет вдоль стены к свалке и, когда видит лежащий сверху или заваленный отбросами трупик с раскрытым ртом, сердце в ее груди учащенно бьется, ее руки дрожат под дождем, когда она подходит к телу, которое треплют за волосы, за пушок под мышками и на лобке крупные крысы; тогда она берет мертвого ребенка на руки, или, если он слишком тяжел, волочит его за ноги к стене; маленький раб пришел на свалку с ведром экскрементов, ручка ведра врезалась в ладонь, босые нога увязают в грязном снегу.
Старуха видит ребенка, достает из-за пазухи перьевую ручку из фальшивой слоновой кости, крутит ее на солнце, ребенок подходит; его босые ноги забрызганы мочой; его хозяин — старик, свободный, но бедный, имеющий лишь одного раба, вставая с постели, помочился ему на ноги; старуха хватает его за плечо; принцесса бежит вдоль стены; ребенок дотрагивается до ладони старухи, та подносит перо к его глазам:
— Посмотри внутрь, там виден остров Энаменас, который отобрали у твоих предков экбатанцы.
Мальчик широко раскрыл глаза, вцепившись в ладонь старухи, а та подносит ручку к его лицу, направляет к губам и вонзает в рот ребенка, мальчик кричит, плюется, сжав ручку зубами, царапает ногтями запястье старухи, ручка раздирает ему нёбо, кровавая пена стекает на его подбородок, на грудь; принцесса повернулась, бежит назад; старуха вталкивает ребенка в каморку, где хранится инвентарь мусорщиков; мальчик, пятясь, вступает в ведро с экскрементами, измазав в них ногу и штанишки; старуха опрокидывает ребенка на инструменты и закрывает дверь.
Принцесса, роняя с губ розоватую пену, обегает вокруг каморки, наваливается плечом на дверь, трется об нее; старуха извлекает ручку изо рта ребенка и втыкает ему в грудь, ручка сгибается, мальчик хрипит, из его рта доносятся звуки перекатывающейся гальки, пальцы вцепились в зубья вил; старуха хватает вилы и протыкает руку ребенка; его ноги прижаты к животу. Принцесса, плечо разодрано о набитые в доски гвозди, рычит, стонет, кусает дверную щеколду; до полудня, возбужденная запахом крови, разлитым по примятой траве, она извивается у двери и кровь подсобника под лучами солнца засыхает на ее губах и щеках. Старуха, усевшись верхом на ребенка, пьет его кровь, заглатывает куски мякоти; ребенок свободной рукой гладит ее волосы, но та, присосавшись ртом ко рту мальчика, лижет его губы и щеки и вынимает зубами куски, оторванные пером; ребенок, запрокинув голову, блюет черной кровью, которую старуха тут же выпивает. Наверху, на влажном розовом ветру, звучит труба; мальчик отпускает запястье старухи, пробитой рукой упирается в ее рот, она кусает руку и лижет рану; после, толкнув дверь, прижимая коленом тело ребенка, она высовывает голову из каморки, вытаскивает тело, волочит его по грязи вдоль свалки; принцесса наскакивает, хватает голову, подпрыгивающую на коробках и обломках утвари, ее широко раскрытые губы трепещут над красными губами ребенка.
Старуха оборачивается, хватает кусок железа и швыряет его в спину принцессы, склонившейся над ребенком, лицо к лицу, рот в рот; руки, впиваясь в шею, подбородок, щеки, царапают бледную кожу, смягченную дождем; старуха втягивает тело на железную кровать с гнутыми решетками, наваливает на живот ребенка матрас; мальчик задыхается, принцесса глотает отрыгнутую кровь; два здоровенных раба ищут ее на бойне, где подсобники мечут ножи им в ноги, под стеной, где часовые швыряют в них комья земли и мочатся на них сверху; они находят ее впившейся в рот умирающего ребенка, в сбившиеся волосы впились пружины матраса; старуха бьет палкой по отбросам, выслеживая крыс; рабы подходят, гладят живот ребенка, член, волосы на лобке, где свернулись мелкие слизни, бедра, колени со спущенными окровавленными шортами.
— Ваше высочество, кровь сворачивается, мальчик умирает.
Она открывает глаза, отлепляет свои губы от губ мальчика, ее ладонь, сжимавшая горло, чтобы, ослабляя хватку, направлять порции крови в рот, разжимается, раскрывается, опадает; на щеках и на лбу принцессы — следы губ и зубов ребенка; принцесса протягивает руки рабам, те приподнимают ее; пальцы, вцепившиеся в их плечи, оставляют на них кровавые следы; старуха, сидевшая на ящике, подходит к кровати, вытягивает тело из-под матраса и бросает на отбросы; крысы тотчас набрасываются на него, шевелят голову, ладони, член; одна из них, втискиваясь в рот, кусает десны, ребенок хрипит, крыса подпрыгивает и выскакивает изо рта, зацепившись когтями за ноздри; когда старуха зажарила и съела всех крыс, она втащила тело, волоча запрокинутую набок голову по углям, на костер; подбородок и щеки мальчика в огне, колени прижимаются к животу, он хрипит сквозь зубы, из его рта вытекает струя крови, запекаясь на огне, голова скатывается на тлеющие синим пламенем угли; старуха переворачивает тело, подгребает жар обломком лопаты и набрасывает сверху; зажарив низ живота, она тянет труп за ступни, разводит ноги и сдувая пепел с бедер, вгрызается в пах.
Принцесса лежит в своей постели, солнечные лучи, просачиваясь через закрытые ставни, жалят ее в лоб, она шевелит губами; Мантинея сидит у ее изголовья, изнемогая от запаха смерти и крови, разлитого по простыням; она держит ее за руку до пробужденья.
Голый септентрионский офицер гладит черепицу, прижимает теплую ладонь к бедру, встает, пересекает комнату, пинает голову Аиссы, спящего у двери, мальчик просыпается, потягиваясь:
— Садись на окно.
Мальчик вскакивает, одеяло соскальзывает с плеч, офицер подталкивает его к окну, тот усаживается; сдергивая с мальчика шорты и рубашку, обвивающую его нагие бедра, ласкает его затылок, не спуская глаз с принцессы, которая сидит с окровавленным ртом в саду, опустив руку на стул, где еще недавно сидела Мантинея.
Когда девушка возвращается, стоящий член офицера упирается в поясницу мальчика; Мантинея садится, принцесса убирает руку, склоняется к ее лицу, Мантинея кончиком пальца отталкивает этот рот, дымящийся кровью.
В порт входит военный корабль, его орудийные башни надвигаются на печные трубы и стяги Экбатана; маленькие рабы купаются в лимане под мысом Лектр, вражеские часовые, плечи которых, натруженные тяжелой экипировкой и винтовочными ремнями, залиты солнцем, стреляют в эти маленькие белые тела со следами ногтей и зубов, примостив ствол на камень или дерево; пули, дымясь, рикошетят от блестящей на солнце воды, прошивают тела, брызжет кровь, волосы погружаются, раскручиваясь под водой, обвиваясь вокруг ног, шей и рук, смешиваются с кудрями на лобках, кровь наплывает, скрывает лица умирающих, сжатые кулаками члены; часовые смеются, бьют прикладами по камню или дереву.
Женщины, вцепившись в волосы, бегут вдоль лимана, кричат, натыкаются на пни, падают в ил, поднимаются, входят по пояс в воду, задыхаются, у одной из них в руке черпак, вымазанный овсянкой. Они погружаются с головой, вытаскивают тела детей на сушу и взваливают их на плечи. На берегу они укладывают их на сухую бугристую землю, покрытую опавшими листьями. Часовые стреляют снова, пули взбивают пыль под листвой, разрывают колени мертвых детей и ладони, гладящие их.
От звука выстрелов рука принцессы вздрогнула на царапине, которую Мантинея сделала на своей щеке, поднимаясь с постели. Принцесса прижимается ртом, лижет ранку кончиком языка, Мантинея, положив ладони на грудь, склонила голову на плечо, кровь с губ принцессы, кровь, смешанная со слюной, течет по ее щеке, и принцесса сама слизывает ее вниз до шеи.
Молодой офицер дрожит, прижав Аиссу к животу, мальчик обмяк в солдатском поту, рука офицера, пробравшаяся в шорты, играет с членом Аиссы. Груди Мантинеи напряглись на безжалостном солнце, кровь горит во рту принцессы, по ноздрям Мантинеи катятся слезы, принцесса собирает их и пьет. За стеклами веранды толпа дрожащих рабов, их глаза и уголки губ в коросте, пялится на принцессу в кровавой тени. Их дети спят у их ног, от их дыханья на окнах появляется мутная влага, их губы прилипли к стеклу.
Мантинея с двумя здоровенными рабам ищет принцессу; на берегу лимана, охраняемого отделением, молодой офицер, сидя на подножке бронетранспортера, слушает игру Аиссы; мальчик стоит, прислонившись к крылу; мелкие крысы снуют по гусеницам, волоча хвосты по грязи.
Солдаты видят рабов и за ними Мантинею. Бросаются, хватают их за запястья, подводят к офицеру:
— Кого вы ищете?
— Принцессу.
Рассвет холодит кровь в жилах и края шрамов.
— Подойди, ты.
Он проводит рукой по бедрам Мантинеи, солдаты ставят рабов к бронетранспортеру, руки на капот. Мантинея сидит на коленях у офицера, Аисса положил скрипку на крыло.
— Играй.
Офицер смотрит в белки глаз Мантинеи, его щеки отливают серебром:
— Согрей меня. Вас, женщин, ненавижу. Я промерз. Кровь в моих венах черна, люби меня, пронзай меня, открой меня, пусть кровь моя исходит вместе с семенем. И ночью я плачу, и днем, но слезы мои не мешаются с кровью.
Положив голову на грудь Мантинеи, он кусает верх ее платья, ветер взметает пыль и песок под днищем бронетранспортера и швыряет их на голые ноги Аиссы. Офицер поднял голову:
— Отнесите ее в кабину.
Солдаты берут Мантинею за голову и ноги, поднимают, бросают ее на сиденье, голова упирается в руль; офицер поднимается на подножку, один из солдат опустил свою холодную руку на голый живот Мантинеи — задравшееся платье зацепилось о рукоятку переключения передач; офицер бьет солдата по лицу, ложится на Мантинею, раздвигает ее ноги, сведенные холодом, ловит губами рот Мантинеи, его слюна блестит на ее ушах, на волосах, прилипших к вискам. Когда он поднимается, блестящая на солнце сперма стекает на живот Мантинеи, черная пыль присыпает ее глаза и лоб. Сжав кулаки, офицер запрокидывает голову, слезы вновь наполняют его глаза, стекая по лицу к волосам; солдаты, вынув ножи, вонзают их в ноги рабов, кровь брызжет, струится по росе; рабы с перерезанными сухожилиями падают на песок.
Аисса играет на скрипке, смычок дрожит на струнах, колени его подгибаются; рабы стонут, их лица бледны, черепа под волосами раскрашивает кровь. Офицер, достав пистолет, бьет их рукояткой в висок. Мантинея в кабине встает, одергивает платье. Выстрелы в Экбатане: сто пленных, челюсти и колени раздроблены, сердца в огне, падают в грязь центральной тюрьмы.
— Убейте, убейте их всех, пусть кровь их смоет прилив.
Он еще не застегнулся, член свисает из ширинки, крик, сотрясая его, выжимает последние капли спермы, они брызжут на ноги Аиссы. Офицер берет Мантинею за руку, ведет девушку к воде, усаживает ее в пену прибоя, сам садится на корточки, набирает в ладони воду, обмывает лоб и губы Мантинеи, потом показывает на член, девушка соединяет ладони, набирает в них воду, офицер полощет свой липкий член.
Напротив, на берегу Лектра, горит дом, вокруг бегают солдаты, огонь перекидывается на деревья, ползет по траве, полыхает, пожирает снег по бокам лимана; птицы, застигнутые пламенем, вспархивают, и, бездыханные, с одеревеневшими грудками, валятся в снег, лапками кверху; офицер прислонился бедром к щеке Мантинеи; в морозном воздухе поет скрипка; кровь рабов стекает в трещины застывшей земли.
Вечером, по дороге в Уранополис, Иериссос напоролся на отряд вражеского офицера; засада грохочет во тьме, раненые отползают в ельник и прячутся за стволами; Иериссос преследует офицера в высокой заиндевелой траве, тот проваливается в замерзшее болотце, Иериссос вонзает свой кинжал ему в грудь, лезвие пробивает лед, офицер стонет, кровь хлещет из его рта; Иериссос уловил исходящий от раненого тела запах Мантинеи; лед подается, оплывает под головой офицера; Иериссос встает, целится в грудь, стреляет, тело на льдине дергается и погружается в черную воду, забрызгав кровью прозрачный лед; на бронетранспортере рабы и солдаты — нож к ножу, тело к телу. Конский волос из подушек обвивается вокруг их ног, раненые грызут окровавленную еловую кору; солдат и раб, по пояс в башне, вцепились друг другу в горло, раб бьет солдата коленом в живот, солдат плюет ему в лицо, слюна течет по кольцу, раб ее пьет; солдат освобождается, воткнув кинжал рабу в живот, потом оглушает раба прикладом винтовки, проводит рукой по его застывшему горлу, проворачивает кинжал в животе раба, вынимает его, вытирает лезвие о волосы поверженного врага; солдат спрыгивает с брони, Иериссос его видит, стреляет в него, но его ступня скользит по снегу, Иериссос падает навзничь; выскакивают два вражеских солдата, прятавшиеся за бронетранспортером; Иериссос встает, опершись на руку, выпускает очередь в солдат, те падают головами в следы гусениц, предсмертные вздохи плавят снег под их ртами.
Аисса бежит к болоту, его скрипка падает на лед, скользит в лунном луче; вокруг смычка трепещут стрекозы, вспорхнувшие из тени тростника; Аисса бредет по болоту, его ноздри раздуты от запаха крови и льда, он подбирает скрипку, которую ветер бережно катит по льду; сквозь хрусткий панцирь он видит труп офицера, затянутый под лед, губы прилипли к льдине, блестки вместо глаз.
Пленные, взятые Иериссосом, сбежали перед рассветом, уведя с собой Аиссу; поскольку сражение наполнило их желанием, они направились в бордель, толкая Аиссу перед собой; не имея денег, они продали мальчика в обмен на проститутку каждому на все ночи, оставшиеся до отправки на септентрионский фронт.
Служитель борделя втолкнул Аиссу в каморку, отделенную завесой из волнистого железа:
— Ты будешь любить мужчин и женщин, которые поднимут завесу и сядут к тебе на кровать; ты будешь играть им на скрипке, пока они будут тебя раздевать.
На септентрионском фронте враг втиснут в сукно и железо, вены и губы трещат от мороза, моча и сперма застывают, едва излившись, рваная жесть ранит руки и спины, холодная сталь стволов липнет и сдирает кожу, ноги повешенных стучат по лицам солдат, население гниет на соломе, вгрызаясь в сталь и дерево рам, забрызганных экскрементами. Поверженный, помороженный враг околевает в теплых утробах своих жертв; холод и провода ломают ветки, рука полководца дрожит, дрожат и его губы; весной у разрушенной стены осажденного города он гладит щеки и глаза усталых детей, призванных на фронт, гладит волосы, вьющиеся из-под касок или фуражек с синим слюдяным козырьком.
В освобожденном Экбатане капитан, примчавшийся с Букстехуде, провозгласил республику, но за морем народы, подчиненные Экбатану, освободив его, возомнили, что обретут независимость; Иериссос в столице вырывал рабов его былой армии из рук новых владельцев; он тайно встретился с вождем, преданным суду, приговоренным к смерти, после помилованным, на острове, где тот был заточен; Экбатан смеялся, совокуплялся с варварами; в кабаках танцевали голые парни, мокрые от пота и вина, намотав на живот вражеские знамена, политые кровью патриотов; девки шастали между столами, груди и лобки покрыты свастиками — символом разбитого полководца — и фотографиями истощенных голодных детей; на сцене мальчик из Септентриона, спасенный от голодной смерти, сквозь дым и пар изображал пантомиму бомбардировки его квартала; офицер, которому он принадлежал, продавал его за плошку икры.
Капитан и Иериссос построили укрепленные поселения для разоруженных рабов, отпущенных на волю Экбатаном; у ворот поставлены вооруженные часовые; подростки, дети прежних хозяев этих рабов, приходили кричать у ворот, вызывающе бросать камни в каски часовых; капитан выкупил более двух сотен рабов и поселил их в этих деревнях.
Экбатан, оскверненный, раздираемый чистками, ослабленный, низведенный в ранг подчиненных народов, смотрел на своих патриотов, возвращающихся из септентрионских лагерей с печатью смерти на челе, с бесценным революционным инвентарем; родилось искусство, исключившее, для пущей безопасности, присутствие человека. Мыло, которым в ванной, заполненной вломившимся сквозь стекла солнечным светом, терли себя девушки, воняло и было дряблым, как мертвечина.
Бог, после трехвековой агонии, умер. Тщетно его жрецы, опрощая ритуал поклонения, забеливали стены храмов. Бог скрывал глубины человечьего сердца, человек познал в сердце своем зверя, с глаз его спала печать, звериный дух теснит его дыханье, Бог умер теперь, когда человек более всего одинок.
Ночью Иериссос с капитаном идут под дождем по спящему Экбатану; песчаная пена лимана бьет в борта сверкающих огнями кораблей; там расхристанные матросы играют в карты, смеются и ласкают груди девок с лоснящимися от спермы и вина губами.
Вдоль причала освещенные магазины ломятся от фруктов, металла, зерна; Иериссос с капитаном поднимаются по лесенке, обжитой крысами, в магазинчик на задворках; за запотевшими стеклами, покрытыми плевками и экскрементами — узкий коридор, разделенный пополам откидной стойкой и заставленный ящиками на салазках; в ящиках и на полу, покрытом опилками и обрывками упаковки — маленькие девочки в лохмотьях, по три в ящике, сидя на корточках ищут вшей, облизывают губы и ладони, растрепанные волосы в резком неоновом свете; на решетках — таблички: стоимость, страна происхождения. Иериссос слышит сквозь стекло, как они шевелят губами, сглатывают слюну, сжимают и разжимают мышцы.
Экбатан правит, подавив восстания колоний. Капитан отстранен от управления государством. Боевая армия становится полицейской. Государство — в руках участников сопротивления, видевших в освобождении Экбатана лишь изгнание и уничтожение внешнего врага; те, кто рассчитывал на освобождение от врага внутреннего, разочарованные, разоруженные, подозрительные даже для близких, нашли прибежище на ниве спорта и образования. Понемногу наименее правоверные из них согласились вернуться в государственные структуры; вскоре им пришлось принять и колониальные репрессии, и новых союзников.
Но их пребывание в государстве вызывает чрезмерный рост общественного сознания; рабы освобождены или предназначены только для войны и развлечений. Новые законы защищают их право на труд, на отдых, на обучение их детей; для них одних строятся города; им незачем больше бунтовать; многие бывшие хозяева, разоренные падением патриархального режима, сотрудничавшего с оккупантами, и появлением в Экбатане слишком дорогого промышленного оборудования и слишком смелых методов инвестирования, завидуют им.
Иериссос идет по разоренному Лектру, Мантинея сидит на деревянной скамье, он касается ладонью разрушенных палисадов и хижин; внутри разбитых лачуг он пинает, давит ногами сломанные целлулоидные игрушки; на штукатурке надпись: «Рабия — моя любовница»; горло Иериссоса сжимается: Мантинея в развевающемся на плечах шарфике смотрит на море и на отраженную в нем пастушью звезду. Иериссос подходит, он гладит ее волосы, под его ногтями — засохшая кровь засады под Уранополисом:
— С радостной дрожью вступаю я в безверие. Пусть сдавит мой лоб перекрестье носилок, пусть плечи мои покроет блевотина. О сомнение, единое вечное.
Потом, проспав до зари меж рук и влажных грудей Мантинеи, он встает, спускается в кузницу, садится, подставив огню обнаженные плечи и ноги, и велит вставить кольцо себе в нижнюю губу; после операции кузнец выталкивает его во дворик над лиманом:
— Постой на ветру, пусть серебро остынет.
Его губы распухли; кузнец ставит на кроличью клетку ящик для инструмента, наполненный потемневшими кольцами:
— Эти я вынул из губ освобожденных рабов, мужчин, женщин, детей; после на их грудь стекала кровь, их руки дрожали. Посмотри на это колечко, я вынул его у мальчика, он укусил меня в руку, он потерял сознание, я дал ему стакан вина, я утешал его, я водил его за руку по дворику, кровь забрызгала его рубаху и шорты до бедер; один из моих кроликов, весь белый, выскочил из клетки и из валялся в крови. Иногда я вынимаю за день до двадцати колец; моя ладонь, грудь, когда я ложусь спать, покрыты пеной, кровью и слезами.
Вечером в Экбатане газеты вырывают друг у друга из рук: Энаменас ночью восстал в десяти стратегических пунктах, колонисты вырезаны, их дети забиты ударами топоров или сброшены в колодцы. Правительство издало указ об отправке войск на остров.
Пароход отходит из Экбатана, солдаты на причале кричат, блюют на канаты. Вечером, в открытом море, Иериссос и Мантинея, снова взятые на службу принцессой, разносят солдатам чаны с супом; пьяные солдаты, грудь и воротник пропитаны блевотиной, сбивают Иериссоса с ног и окунают его голову в чан с горячим супом, пока он не умирает. Город поднялся из болот, с востока ограниченный морем, с запада — лиманом реки Себау. Старый квартал, населенный беднотой, увяз в болоте близ реки, там хижины из бамбука и рифленого железа день и ночь дрожат на сваях. Новый жилой квартал построен на насыпном холме и скрыт от хижин завесой из лип, миндальных деревьев и эвкалиптов, где застревают воздушные змеи детей офицеров и государственных служащих. Солдаты оккупационной армии и сил поддержания порядка, а также подразделения из внутренней части острова, выводимые время от времени на отдых, живут под этими деревьями напротив особняков и дворцов в бараках из бетона и крашенного зеленой краской алюминия.
Ночью они наклоняются над крышами старого квартала, они кричат, поют, они блюют в лунном свете и в шелесте листвы, и запах гнили опускается на молчаливые лачуги. Там живут семьи, поредевшие от мобилизации и предательства, теснимые голодом, вожделением, страхом. По ночам стаи оборванных детей, волосы прилипли к черепу от чьей-то крови, бродят по грязным улицам, падают в отбросы, копошатся в перепачканной траве, проваливаясь по колено в наслоения человеческих и звериных экскрементов. В свете приоткрытых дверей женщины с прилипшими к напомаженным ртам волосами зазывают, подтягивая чулки под платьем. Крики несутся от дровяных куч, с углов улиц, из кустов, из заброшенных уборных. Мужчины курят у домов, усевшись в кружок на грязную землю. Ночь раздирает выстрел, приглушенный стон в бараке. Дети, отталкивая матерей, занятых застегиванием подвязок, набрасываются на суп, коты скребут когтями железо крыш.
Вдали по ночным тропам бродят голодные звери, разрывая в клочья раненых аистов и заблудившихся детей.
Крики людские и звериные поднимаются от земли, но люди безразлично смотрят в искалеченную ночь.
Грузные звери бегут, спрятав когти, к вершинам холмов, перепрыгивают овраги, сжав в зубах бьющуюся добычу. Источники рождаются во мраке.
По утрам юные нищие, валяющиеся на земле, как отбросы, спят — затвердевшие члены стиснуты между животами и сырыми камнями. Проснувшиеся спозаранку дети топчут нищих с хриплыми криками. Трава покрыта инеем, нищие катаются по ней под взглядами часовых третьей стражи. Женщины, пригвожденные к своим циновкам, надеются на возвращение, на освобождение. Разбуженные нищие трясут свои лохмотья и плетутся на благоуханные лужайки, где солнце курит фимиам.
В деревне неверная жена оплакивает любовника и своих потерянных детей. Любовник бежит в заросли, истекая кровью. Вокруг грузовика молодые солдаты с бритыми затылками бьют себя в грудь кулаками. В кабине один из них просыпается, его полузакрытые глаза видят человека, склонившегося к земле, как куст; солдат кричит. Все вскидывают винтовки и стреляют. Человек подпрыгивает, скрестив руки, и падает на локти, на колени, поднимается и пытается бежать. Солдаты подбегают, хватают его, сбивают с ног. Один двумя руками упирается в его затылок, двое других прижали коленями к земле его спину и ноги. Человек умолк, его кожа и мышцы размягчились. Четвертый солдат достает из гимнастерки кинжал и быстро перерезает ему горло, кровь брызжет на грязь и на ноги солдат. Тот, что держал голову, отдергивает руку:
— Ты порезал меня. Блядская армия. Блядская армия.
И он кидается на убийцу, вцепляется ему в горло испачканными в крови пальцами; поднявшиеся солдаты пинают окровавленную, наполовину отрезанную голову ботинками, задубевшими от холода. Под ослепительным сияньем неба трава наполнилась движением.
Так просыпается нижний город. С другой стороны завесы из деревьев, на насыпном холме в тонких чашках дрожат какао и чай; накинуть что — нибудь на плечи, спровадить заспанного любовника; тоска, ожидание прислуги, побудка часовых, принятие командования, одевание детей.
Напротив солдаты с голым торсом, полотенце вокруг шеи, окунают головы в резервуар. Унтер — офицер, погоны перекошены, колет их плечи и локти стеком. Пленные выходят из казематов, часовые с заряженными винтовками подталкивают их к отхожему месту. У резервуара солдаты со щеками, покрытыми окровавленной пеной, смотрятся в треугольные обломки зеркала.
Песнь вторая
Нижний квартал населен семьями неполными, крикливыми, грязными, кишит детьми: многие из них не узнают своих настоящих родителей и живут в нескольких семьях сразу; властям нет дела до гражданского состояния детей. Больше нет взрослых мужчин, только старики, больные и безумные, выжившие после допросов. Парни исчезли, и девушки исчезают, их разорванные платья висят в плюще и чертополохе. Играя, дети часто находят в глубине одиноких луж обезображенные трупы со сгнившими под касками головами.
Поля и небо светлы. По вечерам отбившиеся дикие лошади скачут по разбитым дорогам, трутся крупами об изгороди. Молодежь выходит, смеясь, из приморских деревень, дети в светлой фланели бегают, прыгают через кусты, устраивают на ручьях запруды из камней, плачут, уткнувшись в грубое полотно платьев служанок. Запрещено играть близ нижнего города, где грязные, исполненные неведомых пороков дети протягивают татуированные руки, предлагая полузадушенных птиц. Если двое детей в оттепель или в летнюю жару осмелятся полюбить друг друга и спрячутся, чтобы играть и трогать друг друга, то, застигнув их за этим занятием, их избивают, иногда до смерти — солдаты, если он или она из нижнего города, или главарь банды, если он или она с побережья или из верхнего города.
Главаря банды зовут Кмент. Его родная мать в тюрьме. Его братья и сестры — от трех ее любовников. Их приемный отец умер в страшных мучениях в бараке. Его жена убила единственного ребенка от него. Беременная, она давила живот о стены, нагревала его у газовой плиты; но ребенок с проткнутым вилкой при неудачном аборте горлом кричит, и отец берет его, липкого, холодного и прячет под своим одеялом. Мать точит ножи, глядя на ребенка, смеется, надевает ему на голову кастрюли, кладет его спать на кучу дерьма, и утром псы ходят за ним и лезут к нему в штанишки. Ночью она пачкает его одежду, а утром наказывает за это; или сует ему в карманы мелочь, а потом стыдит за воровство. Она сажает его голого на стул, животом к спинке, бросает старшим детям клубок шерсти, и те связывают его колени, грудь, член и шею, а потом выбивают ему зубы. Кмент прекращает эти игры, он сбивает с ног мать, склонившуюся над очагом, крутит ей руки, греет воду в котле и опускает туда голову матери, моет волосы, в которых засохла коростой сперма отца и множества любовников; потом он усаживает ее перед зеркалом, повешенном на перегородке; его руки ищут среди грязного белья: чулок, бюстгальтеров, полотенец и перчаток флакон духов; он открывает его и выливает на волосы; он кусает ароматные волосы, и его слезы льются, не замочив их; его руки накрывают обнаженные груди матери, она оборачивается и целует его в грудь, в края подмышек, показывающиеся из-под лохмотьев. Однажды вечером, когда Кмент со своей бандой шлялся по деревне, ребенок вернулся домой в испачканной одежде. Мать схватила его за волосы, раздела, и, окунув с головой в таз с холодной водой, долго держала. Когда ее гнев утих, она вытащила его… Ребенок не двигался, не держал головку, губы его побелели. Материнское сердце бьется, она положила ребенка на постель, посыпала его безжизненное тело морской солью и начала растирать грубым полотном так сильно, что ободрала кожу на шее и вокруг пупка. Другие дети с пеной на губах сидели на корточках в темноте, у подножия родительской кровати, с которой свешивались до земляного пола пятнистые простыни… Оживший ребенок улыбнулся матери, протянул к ней руки, но та, взбешенная тем, что он снова шевелится и любит ее, вцепилась зубами в его запястье и стала колотить его кулаками по вискам; ребенок забился, закричал. Наконец, она оставила его, стонущего, избитого, и вышла в благоухающую ночь, вытирая рукой пот со лба; ребенок метался по постели; старшая из девочек — ее растущие груди уже распирали платье — приблизилась к постели.
— Возьми меня на ручки, мне больно, так больно! Отнеси меня на луну…
Она брала его на руки и качала, гладила его почерневшие, разбитые виски, вышла наружу и села под луной, лучи которой успокоили изувеченное тельце.
Мать очнулась на куче соломы; любовник тянул ее за ногу; оправив платье, она отшвыривает ногой солому, бегом пересекает туманную площадь, встает, упершись лбом в косяк двери: ребенок умер, выблевав волокна ткани, в которую его укутали. Пришедший ночью с моря ураган завалил грязью ворота. Мать до зари, присев над кроваткой мертвого ребенка, отгоняет крыс, вцепившихся в одеяльце. Утром Кмент, пьяный, с разбитым ртом, ломает дверь коленом, валится на циновку, поджав под себя грязные ноги и засыпает; под ним что-то стонет: это меньшой из его выживших братьев. Мать встает, зажигает свечу: Кмент, лицом к земле, сучит ногами, его большое тело давит грудь ребенка: тот пытается высвободиться, двигает руками и ногами, кожа его лица понемногу становиться фиолетовой, губы шевелятся, как у рыбки, вытащенной из воды, язык во рту дрожит. Мать приподнимает тело Кмента, катит его по земле к двери; ребенок задыхается, крысы теребят его за волосы; присев на корточки, мать больше не двигается. В глубине дома крысы возятся под одеяльцем колыбельки. Проснувшись, Кмент увидел, что они бегают по голому тельцу, лежащему в колыбельке, обгрызая его брови и губы.
После того, как мать посадили в тюрьму, дети зажили одни, воруя, торгуя своим телом в смешанных борделях нижнего города. В их бараке воняет, как в лисьей норе. Лишь иногда они приходят в него ночевать; крысы устроили себе гнездо в колыбели мертвого ребенка, под прогрызенным одеялом. Ночью колыбель раскачивается, и крысы пищат, как дети.
Кмент проводит свои сходки у стены разрушенного дома, в котором издыхает на собственном дерьме старик. Он скребет изъязвленную проказой кожу на груди. По ночам он кричит, и его моча струится, дымясь, в лунном свете; дети бросают в него камни и горящие бумажки. Стоит какому — нибудь дому опустеть или хозяину околеть от болезни или после пыток, Кмент и его банда захватывают его; они выбрасывают полумертвое тело в окно и грабят дом; если находят вино — пьянствуют, пока не вылакают все до капли. Они вытряхивают одежду из шкафов, напяливают на себя и уходят в ночь под вопли женщин, опрокидывая полки, натыкаясь на стены и саманные изгороди, на ходу расстегиваясь и вытаскивая члены. Мертвое тело топчут до утра. Налетчики вспарывают мешки с пшеницей, которые раздают военные каждую неделю самым бедным, катаются по зерну и пожирают его. Они грызутся между собой, их зубы скрежещут, дробя зерна. Самые находчивые берут горшки с маслом и разбивают их о спины тех, кто спит, наполовину зарывшись в зерно. Крысы мечутся по перегородкам, а потом, когда все засыпают, спускаются, копошатся в лужицах масла, сидят, растрепанные, на островках из колосьев, взбираются на тела, трутся масляными брюшками с налипшим зерном о кожу грабителей, о шею, о руки, о виски, пожирают зерна на их полуоткрытых, подрагивающих от дыхания губах и даже во ртах. Иногда спящий, которому что — то приснится, поводит рукой или шевелит губами; застигнутая врасплох крыса кусает губу или руку; спящий кричит, стонет, но не просыпается. Крысы мечутся, скачут по телам, по щекам, подбородкам, по складкам на руках и ногах. Снаружи шакалы волокут труп в кусты. Первый ветерок — провозвестник зари — толкает на ветках, сырых от росы и помета, заспанных птиц, надувает развешанное белье и брезент на ощетинившихся пулеметами автомобилях, остужает пот на спинах проституток, будит детей и сидящих на корточках часовых, убаюкивает палачей.
Повстанцы удерживают горы и леса, питаясь дикими плодами и обезьянами, поджаренными напалмовыми бомбами. В начале войны солдаты оккупационной армии охотились на обезьян, повстанцы подстерегали солдат, набрасывались на них, смеясь, и убивали; обезображенные гниющие тела потом находили на деревьях. Тогда командование запретило охоту.
Штаб оккупационной армии расположен на берегу моря в нескольких постройках, окруженных колючей проволокой. Часовые с оружием, полностью экипированные, охраняют ванны высших офицеров. А те треплют за уши денщиков, кушают свой суп и смотрят заезженные фильмы из Метрополии. Они опустошают страну и:
— Когда наконец прибудет наша мебель?
Каждый день, каждую ночь молодые, едва расставшиеся с детством парни Экбатана умирают, искалеченные, оскопленные, зарезанные, распятые, четвертованные, чтобы, принеся себя в жертву, сохранить для своих начальников, военных и гражданских, богатство, достоинство, честь. Иностранные корреспонденты фотографируют их облепленные мухами тела. Коммандос сжигают ближайшую от места засады деревню.
Кмент знаком и с повстанцами, и с командованием: офицерами и унтер — офицерами оккупационной армии. В тайной комнате на окраине двух городов, раздетый ими, блестя голым животом в газовом свете, он видит кипящий чай и капли спермы на членах сгрудившихся вокруг него военных, ощущает их дыхание на своих плечах. Он ворует их секреты. Ласки, которые они ему расточают, делают их болтливыми; поутру они спохватываются, грозят Кменту, но по вечерам они ждут его у колючки, умоляют его. Потрогав его, они забывают угрозы и подозрения. Их денщики знают обо всем, они придумывают им прозвища, некоторые даже шлют забытым женам анонимные письма, повествующие в деталях о тайных делишках их мужей. Некоторые жены из мести отдаются авторам этих писем. В день войсковой операции все эти интенданты, маркитанты, каптенармусы, писари толпятся у входа в штаб: ребята уходят, они будут бросать камушки в маленьких дикарей.
Эти воины всегда одеты с иголочки, питаются отдельно, воруют патроны и взрывчатку, чтобы потом продать в городе подросткам — реакционерам, припудривают прыщи на членах и на щеках, тискают друг друга под пологами и никогда не воюют. Они испытывают отвращение к побоищам, но кормятся войной. Иногда десантники, вернувшись после вылазки, хватают их и кидают одетыми в бассейн. Они заставляют солдат, потерявших патрон или кожаный тренчик с ремня, платить штраф; потом они прячут деньги в сундучок и раздевают в своей казарме самых молодых и красивых проституток из нижнего города. Писари и адъютанты манипулируют своими начальниками; они посвящены в подробности их частной жизни. Они мучают этих утомленных людей, льстят их готовности принести себя в жертву Государству, которое о них забыло. Начальство любит этих ловких сутенеров.
У штаба расположена взлетная полоса. Солдаты обустроили ее в начале войны. Жены и любовницы командиров прогуливаются перед ангаром с игральными картами и стаканами в руках, дети под кронами тамарисков поливают друг друга оранжадом с водой. Солдатам не возбраняется покупать напитки: стакан оранжада за полумесячное жалованье. Иногда слуга, приставленный к одной из этих дам, берет солдата за погон и ведет на виллу: переставить мебель, повесить шторы, убрать дерьмо и блевотину холеных собак и кошек… В глубине затемненной комнаты, за закрытыми ставнями, мальчик или девочка в легких шортах, колени исполосованы солнечными лучами, раздвинет ноги, улыбаясь солдату, согнувшемуся на плитах или усевшемуся на скамье. Молодая служанка касается солдата, ее груди выпирают из корсажа, солдат развязывает тесемки передника на ее бедрах, его рука накрывает влажный живот внизу, где топорщится жесткая прядка, теребит волоски. После, расслабленный, очумелый, он возвращается к своей опасной, рабской работе. Кмент видит потные спины и бритые затылки этих солдат, когда идет навестить свою мать в тюрьме; братья и сестры, умытые и причесанные, следуют за ним, оставив на время удручающе грубую солдатню в тайных комнатах.
Вечером солдаты, отработав на стройке, возвращаются в лагерь, набившись под раскаленный брезент грузовика, обалдевшие от усталости и солнца, перепачканные землей, отхаркивая ржавчину. Машины на полной скорости мчатся по улицам нижнего города, давя собак, задевая стариков и женщин, покрывая их пылью и грязью. Солдат качает, кидает друг на друга; возбужденные грубыми касаниями и видом женщин, они кричат, плюют, встают у бортов, вскидывают кулаки, расстегиваются, срывают развешанные между домами высохшие гирлянды, оставшиеся после прошедшего праздника и наматывают их вокруг бедер. Когда на плевки, лужи крови и трупы раздавленных собак осядет пыль, люди выходят из домов, оттаскивают дымящиеся останки в кусты или ямы. Забытые трупы гниют на площадях, занесенные песком. Голодные коты, собаки, дети вынюхивают падаль, откапывают ее и пожирают в укромных местах.
Дети прячутся, чтобы мучить животных. Они ловят птиц, привязывают их на спину кошкам, заживо поджаривают на пламени свечей, перегрызают горло. Кошки, умирающие не так скоро, убегают от детей, не дают им себя гладить. Пойманные кошки развлекают детей дня три, после подыхают, раскинув лапы на углях. Зверьков обдирают живьем, сажают на кол, режут на кусочки, которые дети трут о гениталии и после съедают, зажаренные или сырые. Иногда, в горячке истязаний, дети ранят себя; многие, занеся в рану инфекцию, умирают.
Так живут люди и звери. В страхе, в покорности. Повстанцы не участвуют в этих бесчинствах. Они находят себе оправдание в сопротивлении, не взирая на неотвратимую гибель и ненависть противника: лишь так можно жить и умереть, не склонив головы. Очень скоро они начинают ненавидеть тех, чьи права защищают. Топор бьет малодушных, калечит детей, чтоб другим было неповадно. Повстанцев подпитывает рабство, в котором они удерживают своих братьев. Их счастье — быть битыми, но на коне.
Дворец губернатора стоит на холме. Правительство метрополии назначило губернатора управлять Энаменасом, чтобы смягчить реакционный порыв офицеров и непримиримость повстанцев. Народ его любит: по утрам его приемная полна женщин и детей; сменившиеся из караула солдаты шумно умываются. В начале войны повстанцы не хотели его убивать, потом они поняли, что бойня — в их интересах; в самом деле, те из деятелей метрополии, кто осуждал бесполезность и дикость войны, нуждались в резне, чтоб показать свой гнев и изменить общественное мнение. Повстанцы жаждали иметь врага жестокого и неуклюжего — они решили убить губернатора. Но тот, мечтательно и прямо сидя на сиденье своего джипа, положив голую руку на лобовое стекло, опущенное ветром, колесил по разоренному острову, гладил покрытые коростой затылки детей, едва сдерживаясь, чтобы не поцеловать их облепленные мошками глаза, их гниющие уши, целым и невредимым пересекал леса и ущелья. В ущелье он приказывает притормозить, его взгляд приковали скалы и уступы, испещренные синими щелями, оттуда вылетают пепельно — серые голуби. Солдаты эскорта стреляют в них, как стреляли они журавлей на берегах озер — за это взводные и послали их в карантин; раненые голуби переворачиваются в воздухе и падают замертво на раскаленную гальку по берегу потока, мешающего в мутных струях стебли бамбука и обрывки лиан. Крики солдат и выстрелы отдаются эхом по всему ущелью, звуки высвечивают мрак… Губернатор не осмеливается осуждать их:
— Тихо, парни, тихо; разбудите зверей — они нас порвут.
Солдаты утихли, раздвинули колени, сжали ими горячие стволы винтовок; уснули, свесив головы. Грузовики месят грязь между скал, по которым струятся ручьи, грязь брызжет из-под колес на ягодицы солдат, привалившихся к бортам. Солдаты просыпаются, дрожа, вода хлещет по брезенту. Дальше дорога идет под палящим солнцем, сталь, жесть, зеркала блестят и обжигают пальцы. Солдаты поглаживают медальоны и цепочки с крестильными крестиками на распахнутой груди, подносят их к губам, прохлада золота и серебра заставляет вздрогнуть. Пот стекает на ресницы… Эмилиана, молодая жена губернатора, купается в море с Сержем, своим пасынком; сочащиеся водой складки купальника блестят, когда она выходит на берег; летним полднем она слоняется по коридорам, верандам, оранжереям, пальмовые листья касаются ее приоткрытых грудей… Солдаты во сне вспоминают объятья и ласки, вытягивают губы и ладони, сжимают между колен стволы винтовок. Вечером в борделе они разносят комнаты и истязают на волосяных матрасах полумертвых проституток — рот полон спермы, горло сдавлено спазмом; пьяные, с горящими животами и чреслами, они возвращаются в лагерь. Ночью, во тьме, они блюют вдоль палисада у берега быстрой реки на белые цветы кактусов, раскрытые в ночь; заросли наполнены звуками рвоты и стуком прикладов, волочащихся по гальке. Но дальше, в зоне военных действий стихают шумы и рвота, пояса расслабляются, бедра не вздрагивают от беглых прикосновений, щекота свежей листвы, ленивой жгучей ласки высоких трав, скользящих по ткани военной формы.
У губернатора двое детей от первой жены: Серж и Фабиана; их родная мать умерла после долгой болезни, вцепившись рукой в расшитое покрывало. Фабиана играет с куклой под тамариском. Серж встает с кровати, на лице — шрам от клюва баклана, заправляет член в шорты, моет руки, приглаживает волосы, растрепавшиеся о подушку. Он спускается с чердака, бежит по парку к скале, поднимает ветви. Фабиана сидит на земле, раздвинув ноги, платье задрано на бедра, кукла опрокинута на колено; она сжимает пальцами свои маленькие груди.
Серж заливисто смеется:
— У тебя тоже пятно на шортах.
Губернатор, зарывшись с головой в простыни, старается сдержать дрожь, охватившую все его тело; он вскакивает, идет, плетеные сандалии скользят по мрамору крыльца; дети сдерживают дыхание:
— Выходите, мама умерла.
Они выскакивают из-под ветвей тамариска, прижимаются к ногам губернатора. Ночью Серж залезает в постель к Фабиане, всем телом наваливается на сестру, кровь приливает к шраму на его лице:
— Люби меня, мамуля, люби меня. Луна пялится на мой живот, в твоей груди вскипает молоко.
Губернатор снова женится; Фабиана невзлюбила молодую мачеху. Она дрожит, увидев как Эмилиана склоняет голову на губернаторово плечо. В брачную ночь Фабиана и Серж провожают молодых до порога спальни.
— А теперь оставьте нас и идите спать.
Молодая женщина целует их в лоб. Дверь захлопывается; перед ней, расставив ноги, встает часовой. Дети долго стоят, прижавшись друг к другу, мальчик резко вскидывает голову, чтобы сдержать слезы, девочка обнимает его и плачет под сочувственным взглядом солдата. Приходят женщины, дети послушно следуют за ними в спальни, в ванны. Мало — помалу Серж соглашается целовать молодую женщину; потом он начинает искать ее общества, Фабиана упрекает его за это, но Серж:
— Отстань, соплячка.
Небо за окном потемнело, листья и ветви колышет холодный бриз, птицы камнем кидаются вниз, кричат в кронах деревьев, гоняются друг за другом между колонн, натыкаясь на пилястры из песчаника. Эмилиана и Серж сидят на постели мальчика.
— Я думаю о тебе, когда пишу и рисую, когда запускаю руку в шорты. Я хочу тебя, я хочу тебя.
Но увидев, что она сидит неподвижно, остановившись взглядом на приоткрытых ставнях, лишь руки слегка подрагивают:
— Прости, мы все расскажем отцу.
И он ласкает эти руки, не зная, что он — причина их волненья. Теперь он сможет смотреть ей прямо в глаза, любить ее не так сокровенно, даже не помышляя повалить ее на кровать. Близость блаженства смиряет, обезоруживает его. Дождь бьет по стеклам, дырявит землю, гонит купальщиков с моря.
— О Серж, я тоже тебя хочу. По вечерам, когда твоя рука вздымает пену в ванне, я, сидя в салоне, вся дрожу, я вижу, как вода стекает по твоему животу, обнимает бедра, как целлулоидная уточка плавает вокруг твоего члена.
Он тащится за ней в коридор, потом в галерею, он ощущает на своих ногах прохладу дождя, льющего рядом с ними. Эмилиана идет вперед, не оборачиваясь. В игровой у веранды солдаты режутся в пинг — понг: стук шариков, окрики игроков, блеск их коленей и кулаков, пронзающих дождь, проникают к Сержу очищенными — особенно вопли, с их первобытным эхом — дождь смягчает их, и они кажутся криками детей. Сержу кажется, что он обречен жить без женской любви. Эмилиана прижимается бедрами и набухшими грудями к мокрому песчанику пилястры; Серж гладит себя по груди, ощущая зуд в сосках — словно от мороза; платье Эмилианы натянулось на бедрах и обвисло между грудей; один из солдат остановил игру, удерживая шарик между ладонью и ракеткой, он смотрит на Эмилиану, ткань шортов внизу живота набухает и трепещет:
— Она похожа на мою невесту в Экбатане. Ее братья берегут для меня ее девственность. Другой игрок бьет кулаком по столу:
— Меня волнуют только бляди. Вдали от их объятий кровь моя холодна.
Рукой удерживая в горле крик, с непокрытой головой, Серж ринулся под струи ливня.
Кмент умолк перед матерью; он смотрит на нее сквозь прутья решетки, затаив дыхание, другие дети опустили головы; та, что держала умирающего ребенка и качала его под луной, склонилась к деревянной двери камеры; растрепанные волосы спадают на блестящий выпуклый лоб. Она кусает ворот своего платья накрашенными губами. В первое свидание сторож прогнал их, он бил по решетке прикладом винтовки; мать вопила, вцепившись в прутья, винтовка крошила ей пальцы:
— Ублюдки. Ублюдки.
Солдаты прогнали детей. Посреди двора, который стража из-за жары пересекает бегом, дети слышат крики матери и стражников, избивающих ее в камере, свист ремней и грохот прикладов. Они дрожат, солдаты держат их за плечи, зубы Кмента стучат за покрытыми пеной губами. Мало — помалу мать согласилась видеться с ними; но однажды она притянула к себе голову Кмента, которую он просунул меж прутьев ограды, и стала гладить ее, сперва лишь слегка касаясь, потом запустила в волосы пальцы, потом прижала голову к себе и стала ласкать ее быстрыми движениями от щек к затылку. Кмент напуган, вырывается, стражник хватает винтовку. Мать ослабила объятья, Кмент отпрянул от нее. Она плачет, обхватив голову руками; в коридоре тюрьмы появилась группа солдат; они оскорбляют узников, закатывают по локоть рукава, хватают друг друга за яйца, толкают детей; у каждого на плече полотенце, в кармане шортов — кусок мыла; один из них походя проводит рукой по бедрам старшей сестры Кмента, та отпрянула к брату, солдат рывком прижимает ее к своей груди, его пальцы скользят по ее бедру, впиваясь в него. Кмент оттаскивает девочку за плечи, бьет солдата в живот, солдат отпускает добычу, девочка вырывается, бежит к часовому; солдат хватает Кмента за горло, раздирает ему рубаху, бьет кулаком в пах, опрокидывает на пол, пинает ногами; другие солдаты расступились; солдат рычит, изрыгая пену, склонившись над Кментом, Кмент слизывает пену с губ; подбегает часовой, упирает ствол винтовки в висок солдата, тот, почувствовав холод металла, стихает, разжимает зубы и кулаки, отпускает окровавленное ухо Кмента, поднимается, пихает ногой голову оглушенного парня, утирает пену с подбородка, поднимает своими ручищами полотенце, упавшее на живот Кмента.
Часовой поднимает Кмента, тащит его в полицейский участок, бросает на скамью, будит солдата, отдыхающего после смены; солдат поднимается с противоположной скамьи, идет во двор, наполняет ведро водой. Кмент шевелит губами, на его глазах, ранах, ссадинах, копошатся мухи; с противоположной скамьи соскакивает щенок — он спал там, примостившись в ногах у солдата. Он ковыляет к дверям, но яростное солнце заставляет его отступить, он утыкается в свисающую на землю руку Кмента и лижет ее. Вернувшийся солдат в забрызганной до плеча гимнастерке промывает раны. У него светлые волосы, белая майка под гимнастеркой, кожа за ушами припухла, вокруг талии вместо ремня повязана веревочка, на гимнастерке — следы крови, из наружного кармана торчит вилка. Движение его неловки, щенок с трудом уворачивается от брызг. Из душа выходят солдаты, один из них поднимает со стола ведерко с кофе, наклоняет и пьет; его горло дрожит, кофе стекает по шейным артериям; увидев низкорослого блондина, склонившегося над Кментом:
— Эх, лодочник, когда они тебе отрежут яйца, ты будешь их любить поменьше; бабы, прежде чем улечься с тобой, будут с отвращением теребить твой сдувшийся гульфик.
Они уходят. Кмент вдыхает запах мыла и пота, запах солдат, запах насилия и ненависти. Крестьяне, нищие, женщины, дети боятся этого запаха; он царит над ними повсюду, днем и ночью, он наполняет дома, улицы, мешается с ароматом ночи, деревьев, воды, сдавливает горла женщин спазмом и усмиряет их.
Энаменас, сто лет назад ставший колонией Экбатана, жаждет свободы. Половина его зданий, домов, храмов превращена в тюрьмы. Каждый житель под подозрением. Губернатор приговорен повстанцами к смерти и не находит поддержки у военных. Он молится, беседует с капелланами: тех мало волнуют солдаты, они окормляют офицеров, служат с ними мессы в офицерской столовой, когда бутылки открыты, а слуги заперты в кухне; они отчаянно трусят в ущельях и кидают конфеты солдатам эскорта. Они выписывают газеты для офицеров, иллюстрированные издания и комиксы для солдат, но те предпочитают привезенные из Экбатана журналы с голыми красотками и «Сто двадцать позиций»; капелланы пьют виски с содовой через соломку, они слушают у дверей кухонь и казарм разговоры солдат о женщинах и хлюпанье слюны на их губах. Никто из них не был в горах, в боях. Они завершают на Энаменасе свою активную карьеру: сочувствующие пенсионеры, заботливые монашки ожидают их в метрополии.
После пяти лет войны огромные лесные угодья Энаменаса на три четверти выжжены, пашни заброшены, семьи осиротели. В портах докеры разгружают одно лишь оружие; на складах вместо мешков с зерном — тюки с обмундированием. В полдень, когда солнце жарит сильнее всего, когда крепче запахи земли и людей, грифы и сарычи слетаются к оврагу, дети с криками сбегаются туда же, птицы уже разрывают трупы, волочат их к норам, протыкают клювами скулы и груди; дети кричат, присев на корточки у края оврага, стервятники верещат, разбрызгивая кровь; один стервятник, оставив добычу, поднимается, волоча тяжелое брюхо, по склону, бьет клювом ребенка в руку, в колено. Ночью шакалы сгоняют забрызганных кровью и ошметками плоти птиц. Экскаваторы выгребают среди трупов тела новорожденных с разбитыми головками: это дети, родившиеся после изнасилования. Других новорожденных отбирают у матерей собаководы: они скармливают их живьем в вольерах.
В начале зимы командование направило двадцать солдат на снежный перевал Тифрит. Они расчищали дорогу от снега. Перевал пересекает центральный горный массив острова на высоте в две тысячи метров. Солдаты жили в палатках, согреваясь жаровнями. Солдаты скалывали лед лопатами, мотыгами, бульдозером. Командовали один унтер — офицер и три капрала.
В первый год войны взвод был поголовно истреблен повстанцами. Солдаты, застигнутые за работой, были расстреляны или зарезаны, изуродованы ударами мотыг и лопат; с раскрытыми ртами они остались лежать на снегу, палатки и оборудование были разграблены или сожжены. Вертолет, доставивший почту, садился на пепелище; трупы были полу обглоданы лисами. Назавтра новый взвод был отправлен на перевал, поставлены новые палатки и зажжены жаровни. Зона военных действий поднялась в горы вблизи района, где нес службу этот отдельный взвод. Солдаты — морские пехотинцы, артиллеристы, пещерный спецназ, холодная сталь кинжала стучит по бедру — прыгают из вертолета; лопасти вздымают слежавшийся снег, голые камни саднят ладони, пилотки защитного цвета стягивают мокрые волосы. Солдаты, построившись, уходят, вертолеты поднимаются над стоптанным снегом и тонут в розовом тумане; солдаты идут по сумрачному склону; они запускают пальцы между пуговиц ширинки и освобождают члены, прилипшие к трусам после ночной поллюции. Под сожженными кедрами они останавливаются, достают фляги, пьют водку; смешанный с пеплом снег тает на лицах и шеях; слетевшееся воронье пьет талую воду из оставленных в снегу следов; шаги солдат созвучны биению сердца; морозный воздух раздирает легкие, засохшие сопли щекочут потрескавшиеся губы; вороны взлетают на молчаливые склоны, усеянные гильзами и обгоревшими ветками. Осколок зеркала, хранящийся на груди, порезал правый сосок Дусана; он снимает пилотку, трет рассыпавшиеся светлые волосы пальцами, смоченными водкой: клопы падают за ворот, ползут по лопаткам; он ежится под гимнастеркой.
— Эй, Дусан, этой ночью ты говорил…
— Что?… Я спрашиваю: что?
— Ты чмокал Бога в щечку и пахал его поле своим стоящим членом.
— Дома снег и лед хранят мое поле невинным… Ночью мой отец, пьяный, срывает простыни, под которыми мы прячемся, прижавшись друг к другу ранами на ногах, на щеках, он набрасывается на наши беззащитные, дрожащие от холода тела, он сжимает своими лапами мое горло, раздирает простыню на моем животе, плюет в лохмотья, его зубы грызут мои ногти, он слюнявит мое лицо, шею, рычит, закидывая назад рыжие волосы, горящие в свете лампочки, покрытой жиром от дымящегося супа; я бережно отдираю коросту, прилепившую мою щеку к щеке моей сестренки Смэг; я встаю, натягиваю мокрые от слюны трусы, лунный луч согревает мое колено, на цыпочках иду к этажерке, тяну руку к верхней полке, касаясь подмышкой банки с солью, беру флакон с эликсиром, облизываю горлышко; отец, навалившись на Смэг, гладит ладонью, красной от вина из борделя, ее оголившееся бедро; Смэг, прижав руки к телу, тихонько ползет к изголовью кровати; красная слюна течет изо рта отца на ее грудь; я подношу флакон к губам отца, его слюна стекает на мою ладонь; я держу руки поднятыми вверх, моя сестра сложила свои на животе; глаза отца проясняются; я прижимаю горлышко флакона к его губам, опрокидываю флакон, эликсир стекает в рот отца, внезапно его спина опрокидывается на мою свободную руку; когда отец засыпает, я снимаю паутину, запутавшуюся в его рыжей шевелюре; Смэг дрожит на постели.
— Смотри… поглядим, был ли он сегодня с женщиной…
Я расстегиваю ему ширинку, моя ладонь лезет в его разорванные трусы, подрагивая в тепле, достает член, поднимает его; на крайней плоти, пропитанной спермой, я трогаю пальцем отметку от губной помады:
— Он выбирает ее, уводит в подвал борделя, его голые ноги скребут земляной пол, к его потным волосам прилипла угольная пыль…
Смэг, сидя на километровом столбе национальной дороги, плачет, ее голая грудь вздрагивает в тумане, ее красные губы светятся в мареве золотой меткой, туман струится по моим голым плечам; Смэг втиснула голову между моих бедер; заря обнажила и завертела башни танков…
— Эй, Дусан, если тебя укокошат, ты отдашь мне свой вентилятор?
— Однажды ночью я, быть может, держал ее в объятьях в портовом борделе Экбатана перед отплытием; на губах проститутки — привкус эликсира, я прижал ее к умывальнику; ее волосы присыпаны известкой после встречи со штукатуром; она расстегнула меня и взяла в руку мой член и яйца; сперма брызнула на ветки самшита, вставленные у подножья кровати в обрезок свинцовой трубы, забитый кольцами и прядями; я укрыл ее, неподвижную и молчаливую; после, стоя на полусогнутых ногах, сделал несколько взмахов руками — так орел, придавив, задушив добычу, салютует смерти взмахами крыльев…
Солдаты спускаются к озеру Гульмин, восставшие залегли на покрытых льдом скалах; розовое облако проплывает над озером, вороны склевывают пепел сгоревших кедров; солдаты окружают подступы к озеру; дороги от перевала расходятся лучами к морю; солдаты вцепились зубами в смертные медальоны; солнце ласкает их спины; тени и ветер объяли их лица, груди, члены и колени; ружья нацелены в очерченный мрак; по свистку они начинают сжимать кольцо вокруг озера; повстанцы, обойденные с флангов, прыгают со скал; Дусан оборачивается в последний раз, солнце бьет его в лицо и пах, он оглядывает долину, утонувшую в розовой дымке, поля, дома, деревья, утренних птиц: жаворонков, снегирей, чаек; снова обернувшись, он видит на озере повстанца; тот готовится к броску, уставившись на него ясным взглядом из-под окровавленной повязки. Напуганные вороны, крича, кружатся над обнявшейся парой; запах пороха и крови, исходящий от ласкаемых клинками вен, греет морозный воздух. Дусан рванулся вперед, перепрыгивая через сплетенные тела, кинжал наизготовку; рвутся гранаты, ледяная крошка сечет по глазам Дусана, ослепляя его на мгновенье, повстанец бросается на него и опрокидывает на лед, сдавив кулаками горло Дусана, плюет ему в глаза; крики, стоны повисли в колючем воздухе; обагрившийся лед трещит под тяжестью тел, кровь омывает черную воду, кинжалы чиркают по льду; солдат и повстанец обнялись у камня; усевшись на ветку обугленного кедра, ворон глядит на них; кровь течет между ног солдата, прижатого повстанцем к скале; солдат рвет лицо повстанца зазубренной крышкой от консервной банки; повстанец вдавливает свою грудь в грудь солдата, бьет коленом в пах, душит врага. Дусан, задыхаясь, хрипит; повстанец отбирает его оружие; раненый в горло солдат берет Дусана за руку, поворачивает к себе его голову, его губы трепещут, кровью наполнен рот, золотая кровь клокочет в разорванной глотке, он безоружен и наг: повстанец наскоро раздел его, его уже застывшие члены прикрыты лохмотьями, развевающимися на ветру; Дусан сжимает его руку. Вокруг перемешались тела врагов, лежащие или согнувшиеся на льду, стонут, плюют, кричат. Через час после рассвета солнце пронзило туман, вороны расправили глянцевые крылья. Повстанцы отступили, унося с собой своих убитых; агонизирующие солдаты лежат одни, прижавшись щеками, лбами ко льду; их предсмертные хрипы подсинивают лед, по коленям пробегает внезапная дрожь, ладони разжимаются, тени воронов и облаков проплывают по телам, раздетым грубыми пальцами повстанцев; пуговицы, зубы, обрывки резиновых лент усыпали розовый лед; Дусан приподнялся на разбитом локте, он ползет к берегу озера и умирает, зарывшись с головой в рассветный туман, прошитый гомоном птиц, криком детей, пропахший дымным солнечным ладаном; умирающие солдаты видят, как он возносится надо льдом, ноги волочатся по камням, патронташ свисает на бедра, ремень стягивает голый живот, пряжка давит на пупок, розовый тающий снег стекает по бокам, лицо запрокинуто к небу; глаза солдат заволокло тьмой, их пальцы пытаются оторвать стеклянную пленку, затянувшую зрачки, в их горлах — чуть слышный птичий клекот; на горных плато Акукера рушатся скалы; женщина, сводня из Управления заморскими территориями Экбатана, взбирается на скалы, ее черная туфля, испачканная блевотиной, пинает, переворачивает головы мертвецов, солдаты, за которыми она пришла с вещевым мешком, тянут руки, стонут, отползают назад, но она, оскалив пасть с налипшими на зубы конфетти и паутинками бабьего лета, хватает их ладони, присев, поднимает ступни, ноги, втискивает их в мешок, потом поднимает застывшее тело; солдат, обхвативший руками ее шею и грудь, скользит в полость; голова солдата падает ему на колено; женщина волочит мешок по льду; еще живые солдаты ползут к берегу, хватаются за скалы и горелые стволы, но женщина отдирает их руки от скал и стволов; последний живой солдат чувствует, как твердеют его живот и колени, Дусан и его товарищи лежат на льду на том месте и в той позе, где они потеряли сознание, когда их застиг удар кинжала или кулака. Розовый свет омывает нагие тела, их раны отражает свежий лед.
Внизу военные требуют репрессий, губернатор поднимает руки, подписывает смертные приговоры, умывает руки в алькове, бьет себя по лбу кулаком, офицеры уходят, целуя указ. На совещаниях ему нравится удивлять этих сторонников сильной руки рассуждениями о правах человека. Но едва заслышав в коридоре шум сапог, он прячется в клетушке с метлами и швабрами. С начала войны он не уезжал с острова. В дни национальных и религиозных праздников военные заполняют бордели и храмы Энаменаса; губернатор прячется в своем дворце. Эмилиана скармливает часовым пирожные; пьяные, измазав щеки, грудь, ресницы кремом, они скатывают ковры, блюют и топчутся по блевотине. Губернатор, сидя на ковре, — Серж и Фабиана обхватили его за шею — листает гербарий, Эмилиана на краешке кушетки пишет письмо подругам по сиротскому детству; ее колени блестят под листом бумаги; Серж смотрит на них, его рот за плечом губернатора наполнился слюной; часовой привалился к двери. Фабиана за головой отца видит блестящие глаза брата, пену на его губах; она прижимается ртом к затылку губернатора, целует вену на его шее, губернатор отстраняет ее рукой; Серж, уставившись на складки на животе Эмилианы, гладит поблекшие цветы и стебли гербария: гениталии мятежников, засушенные стебли и цветы. Эмилиана не поднимает глаз. Серж падает в обморок, кровь отливает от щек, запястий, коленей, голова катится под ноги губернатора. Вечером Эмилиана, так же опустив глаза, кормит Сержа с ложечки:
— Я буду падать в обморок, пока ты меня не полюбишь.
Он лижет руки, подносящие плоды: вишни и миндаль; ее фаланги отталкивают его зубы. На террасе губернатор вытянулся в шезлонге, Фабиана уселась ему на колени, рукой упершись в пах отца, другой рукой она гладит его щеки и уши:
— Почему ты не хочешь любить меня, как любил маму?
У Сержа есть Эмилиана…
Серж кусает запястье Эмилианы, его рука, высвободившись из-под одеяла, ложится на ее бедро, поднимается к животу; его зубы прокусывают мякоть вишни:
— Если бы я надкусил твои глаза, у них был бы горький вкус, как у косточек. Ложись ко мне. Я голый, тебе не придется меня раздевать. Ну же, ложись.
Он тянет платье внизу живота. Эмилиана садится на край кровати, ласкает через простыню колени юноши, Серж скрещивает их, его член скатывается на бедро; Серж берет руку Эмилианы и ведет ее по простыне к члену; горло Эмилианы трепещет, в ее глазах ночь.
— Ты могла бы на один день стать проституткой? Я прихожу к тебе с завязанными глазами, ты обнимаешь меня, щекочешь, ты впиваешь губами мой смех, не узнавая меня. Ты трешь и моешь мой член над раковиной, брызгаешь духи на волосы. Ты одеваешь меня, застегиваешь ремень. На тротуаре я срываю повязку, докеры хватают тебя за талию, за плечи, ты куришь их сигареты, они срыгивают вино тебе в уши. На заре, вернувшись во дворец и улегшись под бочок к губернатору, ты переводишь дух. За завтраком я вдыхаю аромат твоих плеч и за дымящимся чаем бросаю тебе в уши грязные слова из борделя, лязгаю зубами — и твоя щель раскрывается и блестит под смятым прозрачным шелком…
Фабиана смочила слюной щеку губернатора: за колючей проволокой пустились в пляс, дети ползают по соломе, сперма и смазка совокупляющихся расхристанных танцоров изливается на их спины и бритые черепа, смешиваясь с холодной землей, которую их пальцы наковыряли под ногами веселящихся пар.
Серж и Фабиана гуляют босиком по дворцу и по парку; нога их загрубели. В комнатах они обходятся без одежды, зимой — без отопления, натянув на голое тело свитер. У них нет карманных денег, они сами чинят свои игрушки. Их волосы коротко острижены. Серж в своей комнате держит ужей, он позволяет им обвиваться вокруг ног, сворачиваться кольцами под животом, ящерицы грызут его тетрадки, скарабеи ползают в складках его постели. Серж, перед тем, как улечься, закрывается в туалете, высовывает сквозь занавеску голову и колено, зазывает, как проститутка, слюнявит губы, шарит в расстегнутой ширинке; потом, одним скачком, оказывается в комнате, расхаживает, засунув руки в карманы, начесав челку на лоб, выпятив живот, поводя плечами, оглядывая занавеску снизу доверху; по всему его телу прокатывается волна, он склоняет, раскрыв губы, голову на плечо. И всю ночь в потной испарине, голый, он сражается с подушкой, зажав ее между ног, навалившись грудью, кусая зубами. Он засыпает с первыми криками петуха, свернувшись калачиком в подножье кровати, укрыв опустошенный член в тени живота. Утренняя свежесть переворачивает его на спину, раздвигает ноги, сушит сперму на бедрах и разжатых ладонях. Зимой, в самые морозные ночи, окно остается распахнутым, ветер вздувает простыни и поднимает пряди волос на лбу Сержа. Часовой проводит рукой по стене. Серж проснулся до света; голый, он подходит к окну, высовывается, свистит, часовой видит обнаженный торс юноши:
— В нем отражаются звезды, такой он гладкий и прозрачный.
— У тебя вши в волосах. Когда, Нано, ты сведешь меня к твоим девкам?
— Я рассказывал им о тебе. Я описал им твои глаза, твое звонкое тело, твой трепетный живот. Твое фото они повесили на стену в своем салоне.
— Нано, правда, что они рожают детей на грязном кафельном полу?
— Так они ж на нем и живут.
— Нано, когда ты грязен…
— Блядь слижет грязь откуда захочешь. Она засунет в рот хоть локоть, хоть колено.
— Этой ночью твоя жена там, в Экбатане, встает к детям и укрывает их сброшенным в страшном сне одеялом. Она укладывает их к себе под мышки…
— Здесь все дети грязные, сопливые, задницы засранные, в чирьях… Наклонись.
Серж, дрожа, склоняет голову к солдату, тот перебрасывает винтовку на другое плечо, поднимает руку, тянет ее к лицу юноши, гладит его щеки, лоб, просовывает ладонь под пижаму, между ягодиц, прижимает его голову к груди и целует в уголок губ. Щеки и края губ солдата задубели от мороза, под легкой каской струится его свежая, намыленная и ополоснутая шевелюра; Серж приоткрыл губы, его язык касается губ солдата, волоски в его ноздрях склеились от крепкого переслащенного кофе. Глаза солдата блестят, на верхнюю губу скатилась слеза, Серж ее выпил…
Солдаты, лишенные общения со своими детьми и братьями, часто ласкают детей на обочинах дорог и в домах, которые они грабят. Когда они находят в этих домах постельное белье, они оборачиваются им, гладят его, зарываются в него лицом и гениталиями. Во дворце часовые не упускают случая прикоснутся к фарфоровым сервизам, столовому серебру, окунуться в дрему простыней, пальто и платьев Эмилианы. В первый день третьего года войны солдаты с поста Такинту, вернувшись за полночь с патрулирования в притонах восставшего Энаменаса, ворвались, полуголые, дрожа под лохмотьями сырых гимнастерок, во двор поста и попадали вповалку на брезент палаток, раскатанных часовыми для чистки под дождем и снегом. Разбуженные дрожью в тот же миг, они ринулись, с закрытыми ртами, с закрытыми глазами, на ощупь, ко входу в здание поста, крича и плача в прилипших к спине гимнастерках, потирая плечи и колени. Лейтенант, забаррикадировавшийся в своей комнате, прислушивается у двери и заряжает свой автоматический пистолет. Туземные ополченцы разносят двери кухни и, стоя на корточках, вонзают гнилые зубы в обрубки сырого мяса, отрывая куски и пряча их под рубахой; одни, обложив мясом всю грудь, пьют из горлышка бутылей масло, моют в уксусе ладони, другие, нажравшись, напившись уксуса, утихнув, валятся на ошметки жил и сала, под развешанные окорока; когда к их глоткам подступает рвота, а члены твердеют, они оживают, их ноги скользят по полу, животы вываливаются из рубах, губы раскрываются, пот блестит на линиях ладоней, на ободках членов, поднятых над расстегнутыми пряжками ремней; кастрюли, черпаки, окорока летят с перевернутых полок; лунный луч освещает ушную раковину молодого туземца, голова его втиснута меж бедер товарища, тот, прижав свою голову к баку для мытья посуды, жует пучок салата, пальцем свободной руки раскачивая голубоватую жемчужину: капельку спермы или сплюнутый кусочек чеснока… молодой туземец высвобождает голову и скользит вверх по телу товарища, их члены встречаются, молодой обнимает товарища за плечи, подтягивается, его грудь скользит по голой, политой маслом груди пожирателя салата, он целует горло, политое салатным соком, целует жилы и скрученные мускулы под кожей, покрытой морщинами от пережевывания пищи, целует то учащенно — в момент оргазма, то медленно — губы распахнуты, в раздвинутые бедра уткнулся обмякший член… Часовые собрались на вышке, примыкающей к галерее, прижались друг к другу, чтобы хором стонать, кричать, стонать; один из них, сжав ручки бидонов с кофе, бежит по галерее; горячий, обильно подслащенный кофе брызжет на оштукатуренный пальмовый плетень; пролитый кофе течет под дверь комнаты лейтенанта, струйка ползет под кровать, топя тараканов, забившихся в щели; наткнувшись на сгрудившихся товарищей с винтовками за плечами, часовой разливает напиток им на ноги; подняв руки с бидонами, он орошает волосы и каски; все, извиваясь от горячего кофе, стекающего между лопаток к ногам, обнимаются; часовой сбрасывает бидоны с вышки, они дребезжат по камням, покрытым отбросами; часовой, присев, раздвигает ступни товарища и протискивается между сплетенных ног. Селение Такинту и лагерь военных освещаются пучком прожектора; под стенами бойни на красном снегу копошатся крысы; удар локтя часового из дрожащего скопища людей, понемногу избавляющегося от одежды и оружия, направляет прожектор в небо; Такинту в шелесте эвкалиптов погружается в довоенный мрак; голые дети — дерьмо прилипло к циновке, ночные сопли сохнут на пальцах сидящих на корточках матерей — стонут во сне, женщины встают, тянут руки к свежей струе, расходящейся от облепленной снегом форточки; сонные подростки тянут из-под задниц тюрбаны и оборачивают их вокруг вздувшихся от мороза височных вен; женщины снимают лепешки с углей очага и, звеня ожерельями по камням пола, сдувая муку, открывают мешки, висящие в изголовье циновок подростков, мокрые от снега, пахнущие задетым, гнутым, сломанным ночью можжевельником. Вскочив с циновки, согнув под крышей голову, они обнимают матерей, запах теплой муки, рассыпанной на их груди, обволакивает их шеи и покрытые пушком щеки; разбуженные дети ползут по циновкам и сворачиваются у очага; слабый отблеск горящих углей освещает их пупки, груди, покрытые коростой глаза…
— Твои братья, выкапывая из-под отбросов корешки, видели, как твоего отца бросили на бруствер, кровь текла по известке, французы били его по голому телу прикладами; твои братья, прижавшись к стене, слизывали кровь; француи, свесившись с бруствера, топча твоего отца, плевали на бритые головы твоих братьев, плевки смешивались с кровью на их губах… Смотри… видишь, они не могут уснуть, лучи прожектора освещают их рождение, шарят по их испражнениям, по их ранкам и прыщам, освещают твой ночной уход и твое возвращение, мою руку, подгребающую угли в жаровне, месящую тесто для лепешек, греющих твой бок в засаде…
— Этой ночью прожектор направлен в небо, о звезды, судьи народов, светочи свободы, о мать!.. услышь шаги их напуганных стад; плакаты утопии шелестят на межзвездном ветру; там собираются на отдых израненные народы, минуя цветочные ковры и источники вод, где пламень зари тревожит их сон; тем временем, земля готовит новый инвентарь, на каждой террасе разного цвета и высоты ждет запряженный плуг, и мои ладони увлажняются на покрытых росой рукоятках…
Свежевыпавший снег покрыл тела, сгрудившиеся во дворе; дверцы уборных стучат, и ветер, задувающий под сваи, разносит замерзшие экскременты, швыряет их на тела солдат, заносит на бока, катает по губам. Солдат, примостивший голову на выступ скалы за палаткой, обняв руками бедра товарища, кричит, и вся группа часовых кричит, стонет, плачет в лица друг другу, спины и бока прижаты к направленному в небо горячему прожектору…
— Смерть голозадым! О мой кобель, обними меня крепче. Я отдам тебе мою жену. Брось моих детей в огонь, в навоз, раздави их ножками супружеской кровати, отягченной вашими сплетенными телами. Она ласкает, целует твои возбужденные мышцы. Разорви своими зубами, гнилыми от черного мяса и прокисшего вина, разорви своим задубевшим членом развешанные в сортире простыни, пропахшие тальком и отрыжкой новорожденных. Разнеси мою мебель. Ты, голый, в шерсти по колено, разносишь по спальне запахи снега и овечьего жира. Задуши, оглуши в их постели моих отца и мать. Перережь над его тетрадками горло сидящего за столом брата. Отметины зубов туземных блядей видны внизу твоего живота под волосами. Вскрой своим ножом, отрезатель ушей, натертый паркет и освободи источник, певший для меня в детстве в основании дома. Прянь в его воды, твою челюсть покроют стружки, земля и сухой цемент, зацелуй до смерти мою жену и, вставая, размозжи ее голову в ручье, запруженном спермой. И легкий, закинув ружье на плечо, обмотав вокруг боков накомарник, распахни дверь и, дойдя до лужайки, бросься в объятия наших рук, нагруженных агонизирующей добычей. О отрезатель ушей, вонзись вслед за нами в гущу ветвей, согретых нашими экскрементами. Запах крови женатых мужчин объял стогны града. Предпочтем ему вонь клопов, раздувшихся от нашей крови.
— О отрезатель пальцев, дарю тебе мою жену.
— Алчущий насилия, утоли свою жажду струей воды из заржавленного крана и вернись на ложе, раздирая кружева покрова загнутыми ногтями ног. Сядь на корточки у края кровати, я подую на твои холодные пятки, я вытру их своими потными волосами. О моя жена, я выпью твои склянки с духами, рассыпанные по складкам простыней. Я расчешу мои патлы детским гребнем. Я накручу твои бигуди на локоны в моем паху. Твое обручальное кольцо, брошенное в огонь, расплавится вместе с целлулоидными игрушками; мои товарищи в солдатской форме, примостившиеся у края кровати, оденут на тебя оковы ветра; их пальцы соберут вишни, рассыпанные по твоему лону, вишни дрожат на их ушах, на их губах; ночник освещает грязь на их стянутых шерстяными шарфами шеях, гной, налипший на пряди их волос. Их объемлет сон, они уронили головы на стоптанные кружева, лишь самый юный, самый тихий из них уснул на постели; к его щеке прилипла целлофановая обертка от банки с вареньем. Тогда луна пришпорит мой круп, я буду ебать тебя до зари, омывая все укромные местечки твоего тела, заброшенные, иссушенные за время моего отсутствия.
— О Кровавый Следопыт, я дарю тебе мою жену. Рядом с ней желание горит, как незакатное солнце…
Дверь кухни подается, три ворвавшихся туземца прокатились по плиткам, покрытым льдом; их сомкнутые рты переполнены мясом — его сырые волокна при поцелуе скользят по зубам; их руки ласкают оголенные крестцы: «…закончился праздник вольных мужчин: они блюют медовыми пирожными и лимонадом на двери свинарника; дети — горло забито конфетти, расцвеченные флаги намотаны на потную грудь под рубахой — вырывают, согнувшись, сухую траву на поле, примыкающем к бойне; женщины вытаскивают корыта для стирки белья на песок. О братья, они перережут глотки туземцам на столах для голосования; дети будут играть на песке в футбол отрубленными головами, женщина воткнет в обезглавленную шею туземца черпак, тарелку, столовый прибор; журавли улетают за границу; солнце облучает радиоантенны; после тьма сокроет горную вершину, исчезнет сожранная крысами блевотина; посреди ночи на куче навоза родится цветок; мы все сядем вокруг него на корточки, Мулу назовет его как свою мать, Мансур — как невесту, Сайд — как сына; склонившись над цветком, они гладят его; свиньи трутся о наши бока. Чтоб победить страх и сделать гибкими мышцы, скованные покорностью, мы, раздетые, будем любить друг друга, изогнувшись, загребая грязь руками и ногами; мы сплетемся в клубок до зари, сгибая суставы, сдирая кожу, прижавшись друг к другу жилами и ранами, смешавшись волосами. Утром одинокий человек, подстегиваемый дротиками партизан, поднимется на деревянную паперть церкви и опустит ногу в кипящую, заправленную ароматными травами воду; судорога сведет все его мышцы от лодыжки до черепа; на его еще сухой коже вздуются волдыри; но вот страшный жар разрывает его спину, верхняя часть туловища ломается и падает, голова раскалывается о край котла; подошедшие женщины помешивают куски плоти, они достают их пальмовыми шестами и бросают детям; те разбегаются, но женщины заставляют их через силу пожирать вареную человечину; солнце в зените бьет в неподвижную воду, где плавают куски плоти, женщины, дети, палачи спят, повалившись в траву, под сваями деревянной паперти; кровь сочится меж их зубов; птицы слетают на воду в котле, хватают куски, относят их в заросли, под ветви; вечером, проснувшись, женщины, дети, партизаны, легкораненые туземцы, заложники с выбитыми зубами бродят под персиками и абрикосами, жуя их цветы, пачкая в пыльце оружие и кнуты…»
Снег покрыл сплетенные тела; рты, забитые снегом, умолкли. Подростки перепрыгивают через заросли дрока, сталкиваются лбами, смеются, борются на насте; лучи перевернутого прожектора освещают заснеженные вершины. Лейтенант на заре толкнул дверь своей комнаты; он движется по галерее, сжимая в руке кусок мыла; часовые, сгрудившись в кучу, спят на вышке; лейтенант, присев на корточки, мажет мылом губы часовых, чертит кресты на их груди; после, когда часовые просыпаются, сплевывая мыло, он спускается во двор, мажет губы солдат и рисует кресты у них на груди; потом, присев, мажет открытые, испачканные спермой рты туземцев, чертит кресты на масляных торсах; днем он приносит и ставит на брезент деревянный настил, на который два солдата водружают ванну с теплой водой; он приказывает построившимся солдатам раздеться и, бросив грязные гимнастерки в бак для белья, который держат два туземца, сесть один за другим в ванну так, чтобы вода покрыла их плечи: «…пусть та вода, что смыла грязь с тела первого из вас, о мои молочные братья, расслабит ваши мышцы. Пусть выделения вашей ярости скопятся на краю ванны. И я рукой, не касавшейся срама, сотру ярость с губ моих, я задушу крик, что толкает мне в глотку взбешенная кровь. О вы, помесь плоти и духа! О плоть, ласкающая дух! Звери мои, руки мои. Запах членов источают ваши волосы, ваши руки, ваши голоса; совокуплением благоухают засады; словно невиданная прежде в этих местах птица, обосновался этот запах, расточаемый вами, обосновался в лесах и полях, словно невиданная в этих краях птица — она гнездится в купах дерев и щелях земли, отмеченных вашим дыханием, порхает из следов, оставленных вашими ногами, из развалин, оставленных вашими руками. Она предшествует вам в засадах, она запускает когти вам в пах, когда вы садитесь на корточки, вам в губы, когда вы оскорбляете женщин. В деревнях дети, оставшиеся сиротами от рук ваших, льнут к вашим бедрам и шарят по вашим карманам, набитым хлебом войны и пакетиками с кофе; девушки, в которых вы впрыскиваете свой яд, не бегут, когда вы подходите к ним и солнце освещает черный пот на ваших спинах. О мои молочные братья! Я сосал молоко ваших матерей. Потом, лежа в садах с юными девами, я сосал их губы и груди. В то лето, когда умерла моя родная мать, мои губы иссохли и отныне только мои пальцы мяли мой член, чтоб усмирить его. Склонись, мой торс над грудью девы или часового, все едино. Испусти, мой рот, любовный вопль. Брызните, мои слезы, омочите чрево, к которому я прижимаюсь щекой. О бедра, о колени, сомкнитесь! Твои щеки, твои губы улыбаются, когда нас обволакивает аромат моего опорожненного члена. Ты прячешь глаза у меня под мышкой. Ты высвобождаешь свой живот из-под моего. Лежа подо мной головой к моим ногам, ты ласкаешь мои сморщенные, твердые яйца, мой изготовленный к бою клинок, ты вливаешь свое свежее дыхание в его острие. В голубоватом сиянии капелька спермы дрожит и скатывается по твоим губам, ты раскрываешь последним жемчужинам свои глубокие глаза, твои ресницы захлопываются за ними; ты спишь, положив голову на мою выгнутую спину. Вытянувшись рядом с тобой, опершись на локоть, я ласкаю твою закрытую вагину, где потрудился мой дикий член. Я нюхаю ее. Я ее целую. Я созерцаю ее до глубокой ночи. Моя ладонь ласкает, облегает, обводит контуры твоей груди, твоего живота. Я склоняю свой взор на твою грудь и слежу за ее дыханием. Мой член сохнет на твоих губах, между твоих ресниц. О мои молочные братья! Вы, чьи жесты незамедлительно воплощают мечты, выберите по жребию того, кто, прикрыв двери моей комнаты от вас, занятых чисткой оружия и уборкой казарм, шагнет к моей постели, на мгновение ослепленный сумраком, и по моему приказу возляжет со мной. Потом, когда, пресыщенный ложем, с урчащим от голода чревом, он поднимется и начнет одеваться, я спущусь в деревню, где дети будут улыбаться расточаемому мной запаху совокупления, а коты и собаки — тереться о мои щиколотки…»
Подростки, усевшись на пальмовые настилы в глубине пещеры, едят лепешки; снег покрыл камни у входа; оружие брошено в кучу к их голым ногам; их сандалии сушатся на песке; два ворона, привязанные в глубине пещеры, совокупляются; подростки смеются, запрокинув головы; дозорный, сидящий на ветке кедра у входа в пещеру, греет пальцы на своем курчавом лобке; по светлому небу блестками чиркнула эскадрилья самолетов; дозорный свистит; подростки хватают оружие, обувают мокрые сандалии и кидаются на камень, где совокупляются два ворона. Но эскадрилья растворилась в небе над морем, ее синие веки хлопают по заснеженной равнине. Подростки выходят из тени, развязывают сандалии, ложатся голова к голове у костра из сухой травы, который часовой развел на скальном выступе: «…Француи жгут пальмовые рощи, напалм разливается по реке; вода смывает камни разбомбленных домов; в колыбели, уносимой течением, кричит ребенок; запруда из пальмовых веток останавливает колыбель; один солдат, штаны расстегнуты, член торчит, кидается в воду, вскакивает на запруду, разбиваемую пепельным потоком, хватает колыбель, прижимает ребенка к груди; вернувшись на берег, он встает на колени на покрытый пеплом песок и, покраснев, целует ножки ребенка. О мои братья, набившие оскомину ягодами можжевельника, в ночь праздника Независимости мы лежали вдоль вскрытой канализационной трубы, мы пили воду, просачивавшуюся между бетонных плит… Рядом с нашими губами две девочки застирывали окровавленные тряпки — драные рубахи и тюрбаны своих замученных, убитых отцов и братьев… Здесь же голый подросток с перевязанной головой поедает дождевых червей, его мать и сестры поддерживают его, закрыв распущенными платьями его торс, увязший в грязи. Трупы предателей — туземцев, подвешенных за горло на ржавых крюках бойни, покачиваются в лунном свете. Старуха вытирает лицо красной травой, покрывающей сточную канаву бойни. Ребенок, присев на корточки под одним из повешенных, слизывает с его ноги свежую кровь…»
Джохара, маленькая вольноотпущенница из Экбатана, чинит солдатские гимнастерки, пришивает пуговицы; ее кожа нежна, глаза прищурены, губы белы; офицер, ее прежний хозяин, купил для нее прачечную, устроенную в проеме наружной стены Дворца; там она и живет со своей матерью; солдаты любят ее: по вечерам запах свежевыстиранного белья наполняет улицу и поднимается к окнам казарм; солдаты ворочаются на своих подстилках, порывисто и истомлено; они любят бывать в лавочке, они погружают руки в корзины с чистым бельем, после нюхают свои пальцы. Джохара ходит от корзины к корзине, ее юбка порхает по коленям сидящих в тени солдат; она заваривает чай для своей матери, расправляет воротник, пришивает пуговицу к гимнастерке, ее ладонь касается подбородка или шеи солдата, наперсток упирается в распахнутую грудь и скользит по потной коже; солдат весь во власти ее невесомых рук, он видит сквозь свежий клубящийся сумрак губы Джохары, иголку, зажатую между ними, он слышит, как потрескивает нитка, как трепещут бедра девушки, присевшей перед ним на корточки. Самые отчаянные из них не осмеливаются дотронуться до нее: солдаты боятся девственниц. В Экбатане ее хозяин — офицер часто приподнимал завесу алькова, где спала она, его рабыня. Он склонялся над ней, разбуженной; часто дыша, распахивал ворот ее блузы, касаясь ногтями сосков; другая рука, задирая блузу на живот, расстегивала пуговицы черной пижамы; Джохара, с блестками слезинок в глазах, обнимала маленькими ладонями шею офицера. Он снимал их своими руками, целовал их, сжимая запястья, его золотая цепочка скользила меж ее грудей, в его дыхании ощущался запах вина, в уголках его губ блестела розоватая слюна, она вытирала ее своими пальцами.
Ребенком, в Малом Колледже Уранополиса, Серж частенько голодал; его товарищи по ночам таскали из кухни хлеб. Однажды вечером, когда он бегал по мощеному внутреннему дворику, мальчишка — иностранец поставил ему подножку, Серж упал лицом на камень. Он бредил всю ночь. Священники, любившие его, хотели, чтобы он назвал имя обидчика. Серж закрыл рот на замок, они отступились. Он один в темной комнате. Ночью, в бреду, лежа на подушке с открытым ртом, он хватает зубами шарик нафталина; он плюется, кричит. Дождь барабанит по стеклам; белки мечутся по залитым луной веткам, которые колышет ветер. Маленький беглый раб в расстегнутой рубахе и шортах уселся на сырой столбик перед статуей Девы. Под его веками копошатся черви, дождь омывает его разбитые в кровь коленки. Серж перекатывается на левый край кровати, открывает окно, луна освещает его зрачки, дождь намочил одеяло:
— Ложись рядом со мной, погладь сторожевого пса между глаз, дай ему полизать свой член. Ну же, забирайся, Маленькие Ручки.
Дождь заглушает его крик, маленький раб бросается к лестнице, открывает дверь лазарета. Серж, прижавшись к спинке кровати, держит в руке полотенце, маленький раб подходит, Серж снимает с него лохмотья, вешает их на батарею, он обтирает мокрое нагое тело; голова его кружится, он быстро снимает свою пижаму и протягивает ее рабу; часто дыша, он кидается на измятую постель, зарывается головой в подушку.
Маленький раб натягивает пижаму, стоит босиком на покрытом разорванным линолеумом полу:
— В шкафу есть мешок с крупой. Развяжи веревку и ешь. Маленький раб запускает в мешок ладони, потом всю голову, зерна липнут к его волосам. Он забирается в постель.
— Прижмись ко мне крепче, Маленькие Ручки, положи свои прохладные ладони на мой лоб.
— Сегодня я ел зерно на всех окрестных фермах. Утром священник потянул одеяло: Серж, успокоенный, спал, на его разбитом лбу покоились маленькие ручки бродяжки; а тот, с раздутым твердым животом, с раскрытым ртом, холодными ногами, лежал на подушке мертвый, меж открытых ягодиц виднелась кучка кала с вкраплениями зерен. Маленького раба похоронили в пижаме; после этого дня Серж долго расхаживал по ночам по комнате и по натертым коридорам в его лохмотьях. Под ставнем в плюще поет трясогузка. Лунный луч скользит по рекам, озерам, вершинам на рельефной карте Энаменаса, висящей на стене. Поскольку его отец — посол, священники отдают ему честь и называют его Монсеньор. Юный чужеземец хотел отомстить за оскорбление, нанесенное его стране дипломатами Экбатана. В первые дни весны, вернувшись с тропических морей, его мать целует еще отливающий синевой, болезненный лоб Сержа:
— Мой милый пахнет елкой и молоком.
— Но, мама, мы не пьем молока, ферма расположена с другой стороны двора и… мы не пьем молока.
— Я привезла тебе кокосовых орехов, папа снял фильм о летучих рыбах.
Она расчесывает мальчика, держа его за подбородок. Перед дверью Первосвященника она опускается перед ним на корточки, слюнявит указательный палец и проводит им по губам мальчика, потом трет ладонью по его исцарапанной коленке:
— Мой бедный малыш, как ты умудряешься все время ходить грязным?
Она подтягивает за пояс синие вельветовые штанишки и отряхивает с них грязь.
— Мама, почему вы меня не бросили?
Повстанцы живут в пещерах. По ночам они спускаются в деревни, хлопают двери, тявкают собаки. Посреди деревни, на насыпной площадке, возвышает свои стены из бамбука и глины пехотный блок-пост. Часовой ходит по галерее, вздрагивая от выкриков, вслушиваясь в скрип петель, лай собак, шелест фруктовых садов; борясь со сном, он гладит приклад винтовки; ремень давит на плечо. Лицо и гимнастерка солдата хранят еще запахи мест, пройденных за время ночного рейда; колючки, комки грязи, смешанной с останками москитов и пыльцой болотных цветов, налипли на гимнастерку, забились между сапогами и тканью брюк. Осенью солдаты лакомятся диким виноградом, губы и щеки часовых становятся фиолетовыми, карманы оттопырены от плодов инжира и виноградных кистей, сок раздавленных плодов просачивается через ткань и течет по груди и бедрам, рисуя вокруг ремня кольцо из сахара и грязи, тающее от пота объятий. Солдаты, впервые заступающие на пост, удивляются, не увидев иного света, кроме лунного. По ночам Энаменас закрывает дороги и двери. Часовые бдят над пустыней: не видно блуждающих огней меж дерев, исчезающих, появляющихся спустя какое — то время дальше или ближе, слабых сдержанных огоньков, как свет из-под вертушки подрывника, что — то среднее между выстрелом и лучом карманного фонарика. Лишь несколько клочков предутреннего тумана, несколько дымков, поднимающихся от сожженных деревень, да ломоть луны. На равнине, на склонах холмов, среди куч мусора, плачут шакалы: они разрывают забытые могильники, вытаскивают трупы людей и зверей; к утру полуистлевшие трупы — месиво из плоти и грязи — валяются вдоль дорог, у стен домов; птицы, забравшись внутрь, разгребают эти груды, и они дрожат, покрытые росой. Если ночью шакалы молчат — значит, повстанцы близко. И солдаты не могут уснуть; в полусне некоторые прикрывают рукой гениталии. Они скапливаются на галерее, окружают приободрившегося часового, похлопывают его по плечу, переругиваясь вполголоса. В глубине галереи слышны позывные, частая дробь морзянки; в свете ламп передатчика, среди цветных проводков, видна жирная ладонь радиста, крутящая затертые ручки. На столе, в луже черного кофе, плавают москиты, кусок черного хлеба, изъеденный червями, облепили мухи; пыльца с крыл ночных бабочек сыпется на голые плечи радиста, на его мышцы, двигающиеся под кожей в такт отбиваемой морзянке. На стене — фотографии голых женщин: руки, ноги, колени черны от прикосновений солдатских членов. На постели радиста спит, подрагивая лапками, черный с рыжими пятнами щенок. По земляному полу ползают тараканы, щекоча босые ноги радиста. Он положил микрофон и карандаш, наушники сползли на шею; он привстает и снова садится, поджав под себя ноги; пришло сообщение, он поворачивается на табурете, шорты, натянувшись, трещат по швам на его бедрах:
— Ребята, работенка на завтра… Бебе, твой транзистор прибыл на КПП, почтарь привезет его послезавтра, но он хочет оставить себе упаковку.
Приходит заря, птицы, взлетая с деревьев, криками разгоняют мрак. Одинокий часовой, прислонившись к сочащейся светом стене, облегченно переводит дух.
Молодые повстанцы, сытые, спокойные, с размягченными членами, взбираются на вершины, на горные плато; они спешат из тумана в туман, из тени в тень. Они осматривают пещеры и переваливают через хребты, чтобы присмотреть место для новых вылазок. Они могут пройти шестьдесят километров в день. Они прячутся в заброшенных домах, в высохших колодцах, на деревьях, в стадах домашнего скота. Солдаты выкуривают их из пещер, потом нацеливают свои винтовки в глубину провала, неподвижно склонив голову на плечо; засыпанные пеплом щеки рассекает улыбка. Потом, к середине дня, они вдруг начинают свистеть, кричать, задыхаясь, сбивать ударами прикладов кактусы; они срезают кинжалами агавы и швыряют в пещеры камни. Над ними грохочет обвал, огромные глыбы отделяются от скалы и скатываются в пропасть. Облака кружатся вокруг вершин. Птицы и цикады смолкли.
— Обед.
Они присаживаются на скошенную траву. Двоих часовых все же оставили у входа в лаз. Солдаты достают рыбные консервы и сухари. Радист увеличил громкость приемника в джипе и подсел к солдатам. Вскоре и Крейзи Хорс присел, поджав под себя ноги. Солнце подсушивает его открытую светлую шевелюру и винные пятна на его груди. Крейзи Хорс отдирает консервный нож, приклеившийся к карману гимнастерки, открывает банку, натыкает выструганной из щепки вилкой студенистую рыбку, кладет на сухарь; радист берет его и заглатывает целиком. Крейзи Хорс прикладывается губами к ржавым краям банки, запрокидывает голову и пьет масло; масло течет по его подбородку, по шее, приклеивает майку к груди; синий ветер развевает пряди волос у него на лбу и над ушами. Командир взвода, низкорослый, рябой, похожий на разорителя птичьих гнезд, срывает стебель бамбука и бьет им по затылку Крейзи Хорса; тот, поперхнувшись, выплевывает масло себе на колени. Командир подобным же образом изводит других солдат: щекочет их тростинкой под мышками, за поясом, за ушами, меж бедер, по босым ступням. Крейзи Хорс с набитым брюхом лежит, раскинув ноги, на камушках и мучительно думает о бабах, его член горяч от солнца, в коленях — истома от выпитого пива; сперма брызнула, растеклась по ляжкам и ниже, колени дрожат; радист кладет ладонь ему на бедро, там, где сперма приклеила к коже пятнистую ткань, колено Крейзи Хорса вздрогнуло и затихло; солдаты ржут, Крейзи Хорс перевалился на живот, но к его мокрому заду прилипла земля, командир колет его своей бамбуковой пикой. Крейзи Хорс залился краской, уткнувшись лицом в гальку. На кончиках его волос блестят мельчайшие капельки пота; радист поглаживает его по плечу. От сырых крыш, нагретых солнцем, поднимается пар. Солдаты, воткнув кинжалы в землю, вытирают масляные губы, дремлют, прислонившись головами к горячим шинам командирского автомобиля; железные ленты на открытых ящиках с динамитом блестят на солнце. Командир, завалившись на руль, спит, в его пальцах подрагивает бамбуковый стебель. Две синие с золотом птицы пикируют на раскаленный капот, самец, преследуя самку, прижимает ее к ветровому стеклу, покрывает ее. Ослепленные часовые всматриваются в язычок пламени лампы, оставленной во мраке пещеры; над ними летают большие бело — фиолетовые бабочки. Пыльца с крыльев сыпется на пересохшие губы часовых.
…Крейзи Хорс — ребенок, он бежит босиком по гранитным валунам; от росы и моросящего дождя овчина, накинутая на его плечи, намокла. Он бежит вприпрыжку, его стадо, ломая еловые ветки, топчет хвою, поддевает рогами стволы и пни; в долине поток заливает луга, уносит гнезда зимородков. Ройон, его брат, споткнулся о колючую проволоку, его волосы усыпаны лепестками фиалок, руки и ноги содраны в кровь иглами шиповника. Их отец копает мокрую после дождя землю на электрифицированной ферме, расположенной выше, на южном склоне Парнаса. Ройон наскакивает на Крейзи Хорса, опрокидывает его в высокую траву. Они схватились, сбивая руками и ногами стебли наперстянки; они борются в испарениях ядовитой травы. Ройон своими сапогами вдавил в землю босые ноги брата, свирель в заднем кармане шортов Крейзи Хорса трещит и ломается. Крейзи Хорс кричит, перекатывается на бок, сдавливает пальцами шею Ройона. Оба мальчика, обнявшись, скатываются по склону до большого камня. Крейзи Хорс царапает ногтями щеки и уши брата. После Ройон целует в губы Крейзи Хорса, пускающего слюни, плачущего и смеющегося одновременно. Ройон прижимается коленом к паху Крейзи Хорса. Вечером Ройон, встав из-за стола с лоснящимися от супа губами, идет в кладовку; Крейзи Хорс, нагнувшись у шкафа, подставляет брату спину, тот, забравшись на нее, тянет руку к стоящей на антресоли коробке с пулями, его горло прижато к острому краю антресоли; его ноги скользят по плечам Крейзи Хорса. Шкаф наклоняется, падает на мальчиков, антресоль разрезает горло Ройона; опорожненные полки не дают шкафу упасть; лицо Крейзи Хорса распорото ножами и серпами, его колени придавлены шкафом, он стонет, его голову в шкафу, словно рой ос, облепили гвозди; их братья поднимают шкаф, вынимают из-под него тело Ройона, разбрасывая руками рассыпанную муку; Крейзи Хорс ползет по полу, братья оттесняют мать к двери; мука осыпается на перерезанное горло и липкие от супа губы Ройона, его рот наполнен кровью; мать кричит, Крейзи Хорс подползает к ней, хватает ее за ноги, кусает их, омывает их слезами. Отец уходит с фермы, он бежит по залитым лунным светом скалам, покрытым блестящим льдом, спотыкается о корни деревьев, подбородком пропахивая глину. В деревне школьники в пелеринках бегут со всех ног. Врач усадил своего сына на кухне, он поднимается в комнату умирающего Района. Мать лежит ничком на его теле, она целует его губы, меж зубов мальчика стекает красная слюна, мать ее пьет, мальчик хрипит, его голова скатывается по подушке, мать целует его обсыпанные мукой волосы, вцепившись в его тело, закрыв его целиком; отец пытается поднять ее за плечи, она держится за волосы Ройона, братья поднимают ее, усаживают в алькове, врач склоняется над Ройоном, мальчик, выпустив изо рта струю крови, умирает. На кухне бабушка Крейзи Хорса, губы плотно сжаты, кутает его в пелеринку одного из братьев, заваривает ему чай; лицо, руки, колени, живот Крейзи Хорса покрыты черной запекшейся кровью, слезы на его глазах и щеках высохли, он весь дрожит, зубы стучат о край чашки. Наверху мать, издав протяжный крик, падает на пол алькова; отец и братья стонут, стоя на коленях у кровати; Крейзи Хорс вздрагивает, роняет чашку, прячет лицо в пелерину; сын доктора опустил голову на упертые в колени руки, бабушка поднимает его, двигает стул к печке, мальчик садится вновь, его развязанный шарф свешивается между ног; отблески углей ложатся на его синие бархатные штанишки. Наверху крики прекратились. Спускается врач, его бледное лицо увлажнилось от пота, он обнимает Крейзи Хорса за плечи, мальчик высвобождает руки из-под пелерины, он хватает руку доктора и целует ее разбитыми губами. Врач, сидя за столом, пишет. Спускается отец, встает за спиной доктора. Крейзи Хорс пятится к угольному ящику, врач с сыном уходят, отец освещает фонарем дорогу. Склонившись к дверце автомобиля, он рыдает; доктор жмет ему руку; по дороге ветки дрока чиркают по кузову машины:
— Всем им я помогал появиться на свет. Когда твоя мать сопровождала меня, все несли ей охапки цветов, на обратном пути их лепестки лезли нам в рот.
Голова Ройона перекатывается на руке отца, бабушка смывает кровь с его губ и горла.
В оккупированном Экбатане мать развешивает белье, застиранное угольной пылью вместо мыла. Братья Крейзи Хорса, смешавшись с рабами, работают на угольных шахтах и золотых рудниках. Кости и мышцы их рук и груди, сотрясаемые отбойными молотками, разрывают кожу. Отец напивается и расстегивает ширинку в притонах у лимана. В полдень Крейзи Хорс, голова раскалывается от выпитого накануне вина, встает со своей циновки, мать стирает белье на пороге подвала; канализационные трубы, проходящие под зданием, этой зимой лопнули прямо в их жилище — подвале, вырытом в каменном угле; Крейзи Хорс, привстав на цыпочки, смотрит через форточку: по тротуару идут женщины, он видит их ноги, складки кожи на их ступнях; блестящий тюбик губной помады, звякнув, упал на тротуар. Крейзи Хорс тянет руку, хватает тюбик, женская рука накрывает его ладонь: проститутка, присев, опустив голову, гладит вспотевшую руку Крейзи Хорса, смеется, напевает песенку, Крейзи Хоре трогает ее колено, проститутка, сидя на корточках, задирает свое парчовое платье до живота, берет руку Крейзи Хорса и кладет ее на смятое нижнее белье между своих ляжек. Крейзи Хорс поворачивает голову ко входу в подвал, где мать колотит белье, в горле у него чуть слышно урчит; мать поднимает на него глаза, замахивается вальком, проститутка поднимается и уходит; Крейзи Хорс подносит к носу, к губам свою влажную пахучую ладонь. Весь день он трется животом о стены, о ноги и бедра своей матери. Вечером он сидит, раздвинув ноги, на пороге, член распирает бледно — голубую ткань шортов, лицо и колени мокры от пота. Он сжимает и разжимает бедра, зажав член в руке. Враг на заднем сиденье черного лимузина хлопает шофера по плечу, машина замедляет ход, враг отдернул занавеску, он подзывает к себе Крейзи Хорса, мальчик встает, подходит к машине, мужчина достает из-за пояса заводную игрушку: пастушка, играющего на дудочке; враг берет за руку Крейзи Хорса, прижавшего игрушку к голой груди, ведет его в развалины и в зарослях высокой крапивы ласкает его бедра, его зад, стаскивая пропитанные угольной пылью шорты, Крейзи Хорс плюет в глаза врагу, убегает; его братья идут по улице, он присоединяется к ним, берет за руку самого сильного; игрушка скользит по его груди.
Дерьмо течет из разорванной трубы, братья затыкают трещину дерюгой; ночью струйка нечистот касается щеки спящего Крейзи Хорса; утром мальчик протирает испачканный пистолет, он кладет его на порог, прикладывает к стволу ухо: он слушает пастушью свирель. Банда Крейзи Хорса мчится по улице, мальчишки держатся за руки, они сопровождают Главаря, сидящего на стареньком велосипеде, они воруют фрукты, расчески и тюбики с клеем с витрин магазинов; в развалинах они курят, расчесывают волосы, покрывают их лаком, вытирают залепленные клеем волосы о бедра или дырявые карманы. На верхних этажах дома двери, выходящие на площадку, открыты, и мальчики наблюдают за бешеными случками неверных жен с любовниками на скомканных простынях; они пускают слюни, облизывают губы, хором вздыхают; они нападают на Новарину, ученика Малого колледжа Экбатана: тот несет рис и сахар одной старухе, мальчишки отнимают у него пакеты, выворачивают карманы и сбегают с деньгами Антраиды; в полдень на лестничной площадке они вновь подстерегли его; старуха — она еще красила губы — прижала его к двери, потом опрокинула на кровать, полную кошек, целовала его в губы на сбитой перине; он выносит два ведра с экскрементами, одной ногой он уже стоит в уборной, открытой на лестничную площадку, ветер, дующий из дыры, развевает шорты на его бедрах и волосы на его лбу; мальчишки хватают его за руки, Крейзи Хорc подбирает использованную бумагу, втирает ее в губы Новарины, в его черные волосы. Мальчик вырывается, Крейзи Хорс затыкает ему рот бумагой; Крейзи Хорс поднимает крышки с ведер, мальчишки окунают голову Новарины в первое ведро и держат ее в дерьме; Крейзи Хорс погружает ноги Новарины во второе ведро, тот задыхается, его волосы покрыты дерьмом, мальчишки давят на его затылок, Крейзи Хорс бьет по заду и по спине метлой из веток дрока, засовывает ее под шорты мальчика; мальчишки смеются, сгрудившись перед забрызганным нечистотами телом. Спина мальчика выгибается, затылок трепещет, его сдавленный стон поднимает нечистоты со дна ведра; все его тело в дерьме; Крейзи Хорс мажет метлой его голые ноги. Когда мальчишки отпускают его, тело оседает меж двух ведер; Крейзи Хорс пинает его ногой, из его напряженного члена, стекая на бедра, брызжет сперма, на губах пузырится пена; струя спермы проникла сквозь синюю ткань шортов и стекает на колено; его друзья, увидев это, расступаются, убегают; Крейзи Хорс еще раз бьет по затылку Новарины: снова сперма брызжет на его бедра, слезы ручьем текут за ворот рубахи. Он бросает метлу в дыру уборной, он поднимает плечи Новарины, голова выходит из ведра, бледные губы открыты, дерьмо течет по глазам, по ушам, вытекает изо рта; Крейзи Хорс поднимает голову за волосы, свободной рукой вытирает веки Новарины, касается пальцами его зрачков; с бьющимся сердцем он берет тело за талию, поднимает его, бережно укладывает на пол уборной, потом поднимает метлу, прислоняет ее к грязной стене рядом с окошком; опарыши сохнут на солнце; Крейзи Хорс вносит ведра в уборную, запирается на засов; он садится на корточки, достает член, мнет его рукой, сперма брызжет на его ноги и на ступеньку уборной. Солнечный свет омывает тело мальчика, лежащее поперек дыры, животом под ягодицами Крейзи Хорса. Крейзи Хорс встает, застегивает шорты, склоняется над грязным телом Новарины, он дует в его глаза, в его губы, он расстегивает ремень, шорты и рубашку мальчика, он растирает своей ладонью его грудь, живот: на сердце, на горле, повсюду он счищает нечистоты, отлепляет одежду. Он прижимается губами к вымазанным дерьмом губам мальчика, он дует ему в рот, касаясь своим языком его языка. Потом, опершись на плиты, скользя ладонями по кучам бумаги и дерьма, он кусает его голову; но мальчик мертв, а в небе Экбатана тени бомбардировщиков летят под их сверкающими кабинами. По звуку сирены женщины, дети бросились вон из квартир: детская рука схватилась за ручку двери уборной. Крейзи Хорс зажал уши ладонями, привалился к стене; дом дрожит под градом ударов и рушится; вечером в развалинах, раздувая ноздри от запаха древесной трухи, молодой солдат находит обнявшиеся тела Крейзи Хорса и Новарины.
Крейзи Хорс, оглушенный, сжал зубами раздробленную челюсть Новарины, его колено дрожит. Вокруг, на ступенях разрушенной лестницы, лежат тела женщин и детей, застигнутых взрывом во время бегства. Солдат берет Крейзи Хорса на руки, несет в армейскую палатку. Через дыры в брезенте очнувшийся Крейзи Хорс видит, как на звездном склоне догорают ракеты; бомбардировщики и истребители вспыхивают, взрываются, падают в Экбатанский лиман, их объятые пламенем кабины врезаются в набережные, сжигая бегущих детей, отрывая голые ноги рабов, привязанных к столбам, сметая в стороны бараки Невольничьего рынка. Мать укладывается на циновку, прижимая Крейзи Хорса к груди; солдаты окунают закопченные лица в лужи, подставляют рты под струи воды, вытекающие из разорванных труб, вода стекает на их гимнастерки; братьям оторвало головы рухнувшим водостоком здания, их рубахи задраны до плеч, гусеницы танка давят тела; мать дрожит. Крейзи Хорс спит, уткнувшись открытым ртом в ее тяжелые мокрые волосы. Над лиманом — свист зажигательных бомб; обожженные бездомные дети прижимаются к разрушенным кирпичным стенам, стеная всякий раз, когда ночной ветерок касается их губ или рук.
Крейзи Хорс меняет простыни после каждой случки. Мать стирает белье в муниципальной прачечной. Вечером Крейзи Хорс, пьяный, бьет ее вальком. Днем, пуская слюни, сдерживая сперму, он трет выложенный плиткой пол борделя, в его руках — чистая тряпка и губка; проститутка играет на пианоле, положив ее на голое тело Крейзи Хорса, пыль с лампы сыпется в ноздри мальчика; проститутка берет в руку его член и мажет губной помадой. Ночью мать, раздевая Крейзи Хорса, моет его накрашенный член: мальчик, голый, опустив ноги в таз с водой, ест булочку, крошки падают на растрепанную голову матери, сидящей на корточках перед тазом. В борделе гости и проститутки накачивают его вином; одна из проституток залезает на стол и начинает покачивать бедрами, выставив зад, она сгребает одной рукой свое платье и нижнее белье, другой рукой колотит по ним; Крейзи Хорс взахлеб смеется, он соскакивает с колен клиента, бежит за стойку: из выдвижного ящика он вынимает опасную бритву, которой хозяйка борделя сбривает завитки под мышками и в паху своих девочек, жесткую щетину на щеках бродяг и ночных докеров, а иногда — пушок на прыщавом подбородке школяра, припозднившегося, с розой за ушком, в постели проститутки: после тот хватает из-под стойки свой портфель и, остужая горящие щеки утренним холодком, мчится в отстроенный заново лицей. Крейзи Хорс сжимает рукоять бритвы в руке, он снимает шорты и бросает их на стол, потом бьет по ним бритвой; его член, скрытый лишь белыми шерстяными трусами, тут же встает, проститутка слезает со стола, садится перед ним на корточки и целует член через шерстяную ткань; Крейзи Хорс снова бьет бритвой по шортам, на его светлых глазах блестят слезы: сперма брызжет, пробивает трусы, стекает по шву: проститутка широко открытым ртом заглатывает член, языком слизывая сперму с ткани; ее руки сжимают бедра Крейзи Хорса; клиенты, сидя или стоя, прислонившись к стойке или стене, смеются, свистят, девочки хлопают в ладоши, склонив голову на грудь или положив ее на плечо клиента и покусывая его за ушко. Ветер задувает под порог зеленую пыль, швыряет в окна назойливые блики и тени, пыль поднимается по ногам Крейзи Хорса, оседает на сперму, разлившуюся по его бедрам; проститутка целует пупок мальчика, тот, закусив губы, сдерживает ресницами слезы; проститутка щекочет его подмышками: он заходится смехом, размахивая бритвой, соскабливая пот с горла, с напряженной шеи:
— Моя мать ночью крадется к моей постели, пряча бритву за голой спиной: она хочет обрить все мое тело, чтобы я оставался ребенком. Часто я отталкиваю ее руку от моего члена и ее рожу от моих шортов, брошенных на землю. Она извивается за дверью уборной, когда из моей жопы течет дерьмо, она облизывает губы языком. Она поедает волоски, срезанные с меня спящего, она вылезает в окно, задирает платье, омывая лунным светом сонную вагину, она бежит по дороге в Лектр, и зеленые псы скачут вокруг нее: она дает им грызть мертвую кожу и складки своей вагины. Когда она возвращается, я подстерегаю ее у окна, я бью ее вальком до утра, и сперма течет по моим ногам…
Проститутка напялила на голову шорты Крейзи Хорса и тихо хрюкает, мальчик ласкает ее груди своей шевелюрой; хозяйка, выйдя из прачечной, вся влажная от пара, хватает Крейзи Хорса за уши, стаскивает шорты с головы проститутки, выволакивает мальчика из комнаты; прислонившись к сырой стене прачечной, Крейзи Хорс застегивает шорты, приглаживает волосы, мнет рукой теплые простыни, кусает подрубленный край материи и инициалы хозяйки на ней; на лестничной площадке он смотрится в зеркальную дверцу шкафа, выпячивая зад. В темной комнате слышен шум крыльев жаворонка и коршуна.
Накануне отплытия Крейзи Хорс и два других солдата сбежали из Отдела Транзита; они бегут по пустынным набережным вдоль Океана, рассекая сандалиями тени мачт и орудийных башен крейсеров; на каменистом берегу бухты их останавливают двое; они садятся в лодку, Крейзи Хорс смотрит на подводные огни и веревку, придавленную камнем — покачивание лодки то натягивает, то ослабляет ее; у этих двоих накрашены глаза и губы; Крейзи Хорс взбирается по веревочной лестнице на борт одномачтовой голубой яхты, под ним один из накрашенных трется волосами об его ягодицы; Крейзи Хорс, в горле — ком, прыгает на палубу, поворачивает голову — лунный свет слепит глаза и стекает по горлу на грудь; ванты, такелаж, мачты дрожат; молодой человек, одетый во все белое, подходит к солдатам; двое накрашенных ложатся на канаты, скрученные на носу судна, черный пес развалился на свернутом парусе; посреди палубы расставлены походные кровати, шезлонги, расстелены одеяла: молодой человек в белом укладывает на них солдат, потом, опустившись на четвереньки, ползает под кроватями, под шезлонгами, приподнимает головой, спиной их зады, проминающие брезент, воркует, укладывается под ними на спину и, приподнявшись на локтях, трется животом и затвердевшим членом о ткань; солдаты достают сигареты, курят, свесив свободные руки на палубу. Молодой человек выползает из-под кровати, встает у их ног, его быстрая, легкая рука ласкает под тканью брюк их вставшие члены; у основания мачты девушка поднимает трап: Крейзи Хоре видит ее ладонь, ее пальцы с накрашенными ногтями перебирают стальные ступеньки трапа; вот она оперлась о мачту, ее тело, внизу совершенно голое, сверху втиснуто в серую школьную блузу с красным воротником; молодой человек прижал ладонью член Крейзи Хорса:
— Тот, кто полюбит меня этой ночью, получит в два раза больше денег; двое других солдат могут любить девушку по сходной цене. Я выбрал парня. Ты. Ты. Встань. Молодой человек обнял Крейзи Хорса за шею, его пальцы пробежали по волосам юноши под берет; он подводит юношу к борту:
— Я люблю ебать мальчиков стоя. Я знаю, они ебали тебя, приперев к двери уборной, оргазм прерывался, когда жильцы шли по площадке. Это твоя мать научила тебя любви. Посмотри, вон два солдата — шеи худые и длинные, а у тебя…
И он сжал пальцами горло задыхающегося Крейзи Хорса:
— Живот вялый, а у тебя — твердый, как камень.
И он погладил живот Крейзи Хорса через ткань гимнастерки:
— …член короткий и тонкий, но твой.
Он засунул руку под пояс, приподнял член, прижал к нему яйца:
— Он свисает меж ног до колена, пожирая сам себя…
Молодой человек уводит Крейзи Хорса в свою каюту, прижимает его к переборке; на столе светятся фрукты; молодой человек расстегивает ремень Крейзи Хорса, берет со своей постели кожаную маску волка, надевает ее, трет ею грудь и руки Крейзи Хорса, он стягивает его штаны с бедер и месит ладонями стиснутые тканью ягодицы. Потом одним рывком спускает штаны до колен и просовывает руки под трусы; Крейзи Хорс стоит с поднятыми руками, прислонившись спиной к переборке, покрытой лаком, натертой воском и липнущей к мокрой от пота рубахе; он тяжело дышит, маска волка съезжает, закрывая его рот.
Маска волка брошена на пол, молодой человек заваливает Крейзи Хорса на кровать, слюнявя и кусая его шею; Крейзи Хорс, разгоряченный вином, выпитым в карантине, отдается рукам, ногтям, губам молодого человека, который липкими и неутомимыми, как мухи, ладонями, сгребает на полуобнаженное тело юноши кружева и вышивки покрывала. Их сперма брызжет, разлетается, блестит в лунном луче, отсвечивает, разливается по животу Крейзи Хорса. Молодой человек ползает, крутится, стонет на обнаженном теле юноши, он раздвигает его бедра своим коленом, зажимает в своем кулаке его член вместе со своим; потная ступня Крейзи Хорса, стянутая сандалией, касается разрезанных фруктов, пот с его пятки смешивается с соком, стекающим с раненых плодов. Горячий язык молодого человека обшаривает лицо, глаза Крейзи Хорса; яхту качнуло, Крейзи Хорс высвобождает ладонь, зажатую кулаком молодого человека, закрывает ею свой рот, но молодой человек кусает эту ладонь, плюет в нее, сжимает, слюна течет меж пальцев юноши, молодой человек разжимает ладонь, трет ею свою голую грудь, потом свой член.
Иллюминатор смотрит в ночь, ночные птицы пролетают по лунному лику: Крейзи Хорс, рот переполнен блевотиной, отлепляет спину от складок покрывала: меж его ягодиц течет пот; на палубе солдаты, улегшиеся с девушкой, берут ее по очереди, не меняя подстилки: их сперма блестит на ее приоткрытой вагине. Молодой человек распластал ладонь на животе Крейзи Хорса; слегка приподнявшись на локте, он размазывает сперму по груди юноши до горла, склеивая, приглаживая пушок на теле и завитки под мышками; потом он переворачивает юношу на живот, подбирает маску волка, надевает ее, становится на колени, зажав меж бедер ягодицы юноши. Крейзи Хорс, зарывшись головой в кружева, блюет, захлебываясь; молодой человек ласкает его трепещущие плечи, член молодого человека уперся в зад юноши; блевотина затекает под шею, под грудь Крейзи Хорса.
На заре в его ладонь сыплются монеты; звезды погашены; Крейзи Хорс, вымытый, надушенный, перешагивает через тела спящих товарищей: ветер остужает сперму на их ладонях; спустившись к каюте, он толкает дверь.
— Уходи. Уходи. Ветер обжигает меня. — Молодой человек закрывает лицо простыней, деньги сыплются на пол, Крейзи Хоре присел на корточки, молодой человек выпростал руку из-под простыни: монетка ударилась о лоб юноши, тот заливисто смеется, за его ухом, на прядке светлой шевелюры, блестит капля спермы. В кухне: Крейзи Хоре садится за стол, перед ним большая чашка с дымящимся молоком; девушка обняла его за плечи, молоко обжигает его губы, под носом налипла пенка. Ее халат расстегнут; Крейзи Хорс кладет ей на грудь нагревшуюся от чашки руку, девушка вздрагивает, в ее верхней губе — кольцо:
— Он обменял меня на мальчика, от которого желал избавиться — тот однажды ночью прокусил ему до крови залупу. Используя меня как приманку, он завлекает солдат из карантина на борт яхты; пока он развлекается с тобой, солдаты раздирают меня на куски. Он терпеть не может предаваться противоестественной страсти в одиночку, тайком. Иногда ему становится стыдно, он приказывает сниматься с якоря и уходит в открытое море. На третью ночь он звонком вызывает меня: я встаю перед ним на колени, он прислоняется к кровати, расставив ноги, запустив пальцы в мои волосы; я мну и дрочу его член. Утром он приказывает матросу возвращаться в Экбатан, он трется об него. Двое накрашенных всюду следуют за ним, они стоят, расставив ноги, у занавески, пока он не откинет ее, в полдень они засыпают, обнявшись, на канатах, их напудренные члены торчат из джинсов, но он их не касается, до вечера он всматривается в берег, прислонившись сжатыми ягодицами к подрагивающим вантам. Как только военный транспорт бросит якорь напротив яхты, двое накрашенных прыгают в лодку; на берегу черкесы трут о камни свои грязные лохмотья: какой-нибудь грязный черкес бежит к карантину; начальник поста выбирает из сидящих на ступеньках барака солдат тех, кто, покинув дом, уже успел пропить или проиграть все деньги. Мой хозяин любит только солдат; перед тем, как заняться с ними любовью, он не направляет их в душ: он обожает слизывать с их тел кровь раздавленных клопов, а с их губ — следы съеденного супа. Он берет их перед отправкой на Энаменас — они выходят из казармы крепкими, с выскобленными щеками, с ладонями, покрытыми волдырями, с упругими, накачанными, пружинистыми мышцами.
Ладонь Крейзи Хорса протискивается под ее халат, накрывает грудь, другой рукой юноша поднимает чашку, пьет теплое молоко; поставив чашку на стол, он обвивает талию девушки, целует ее живот, приклеившийся к блузке солдатской спермой, его ладони мнут ягодицы под вырезом халата; девушка гладит мокрые волосы Крейзи Хорса; в тот миг, когда сперма брызнула на бедро юноши, капелька молока блеснула на ее груди.
Крейзи Хорс пользуется благосклонностью командира взвода: тот пропивает с ним все свое жалованье. Пьяные, они дерутся, вцепившись друг в друга зубами. Командир усаживается на циновку, на которой Крейзи Хорс с голым торсом, подложив под затылок скатанный ремень, читает комиксы, он накрывает ладонью через одеяло член Крейзи Хорса. Рядом, на соседних циновках, солдаты вычесывают вшей. Крейзи Хорс смотрит бесцветными глазами поверх комикса; из его груди вырывается стон; командир крепче сжимает кончик члена, впиваясь в ткань, потом, отодвинув комикс, он охватывает пальцами горло Крейзи Хорса, соскребая ногтями пот, сдавливая жилы. Тогда Крейзи Хорс вздыхает, стонет, плачет, зарываясь с головой под одеяло. Начальник убирает ладонь, он гладит плечи, вздрагивающие под грубым одеялом.
Один из солдат, лежа с полузакрытыми глазами, поднимает ногу, дотрагивается своей мокрой от пота ступней до цветной фотографии обнаженной девицы: меж ее грудей и ляжек пропущена веревка, она поднимается вверх по спине и закручивается в узел на шее.
В выходной день на Энаменасе Крейзи Хорс прикрепляет зеркало к бамбуковому остову своей противомоскитной сетки, он макает помазок и бритву в тяжелую каску, наполненную теплой водой, он приглаживает волосы, моет уши, он скребет бритвой горло и щеки, прижимая порезы ладонью. Солдат рядом с ним кипятит в каске белье, перемешивая его бамбуковой палкой. Крейзи Хор надушил волосы и горло, он натягивает приталенную гимнастерку, расправляет ее на спине, застегивает ремень, взбивает пальцами волосы, натягивает берет, закидывает за плечо свой автомат. Солдат толчет в каске дымящееся белье:
— Ты красив, как грузовик, Крейзи Хорс.
На улице Крейзи Хорс, блестя глазами, скаля зубы, передергивает затвор своего автомата. Одна вдова видела его на параде: он напомнил ей мужа и сына, погибших на великой войне в Экбатане, она позвала Крейзи Хорса в полицейский участок.
Весь день она пичкает его пирожными и фруктами, он плетется за ней в прачечную, они садятся на бетонный бордюр; другие прачки смеются, склонившись к воде: они трепещут под взглядом бесцветных глаз солдата, волны мыльной воды, перекатываясь через бордюр, мочат их ягодицы. Стук вальков заставил его побледнеть, в углах его губ блестит слюна, ствол автомата покрылся хлопьями пены; женщина ополоснула руки, Крейзи Хорс поднимает корзину, он несет ее перед собой; у нее дома он усаживается на табурет, его щеки блестят, рот приоткрыт; но когда она снова начинает бить вальком белье, он вдруг встает, бросается на нее, вырывает из ее рук валек, швыряет его к потолку, он плюет ей в глаза, окунает ее с головой в мыльную пену; она отбивается, ее пальцы щиплют бедра Крейзи. Он слабеет, его колени, кисти его рук дрожат; она поднимает голову из пены, она толкает солдата в свою спальню, заваливает его на кровать, она ласкает его бледное, холодное лицо, его дрожащие губы, его бедра, набухший и влажный — от пролившейся в гневе спермы — гульфик, она разжимает языком его сжатые зубы:
— Мой маленький, мой засранец… мой сосун…
Крейзи Хорс, во время операции, подходит к радисту, когда тот передает сообщения, он трется об его согнувшуюся над аппаратом спину, гладит прилаженные к его ушам наушники, пальцы, скачущие на ключе; затем он снова ложится на свою подстилку, поднимает ногу к горячей, провисшей крыше палатки, свистит, пыль с брезента струей ссыпается по его ноге до паха. Радист вытягивается на своей циновке, достает книгу, читает, скрестив голые ноги. Крейзи Хорс на минуту задремывает, потом просыпается, во рту мерзкий вкус, он видит, что радист, сидя на подстилке, пришивает пуговицу к гимнастерке; Крейзи Хорс встает, подходит, ложится на койку радиста, касаясь бедром его голого зада; катушка с нитками катается меж ляжек радиста, Крейзи Хорс протягивает к ней руку:
— Крейзи Хорс, я не твоя жена.
Крейзи Хорс убирает руку; радист, пришив пуговицу, опрокидывается на подстилку, прикрывает голые ноги простыней; Крейзи Хорс, раздвинув губы, кусает ухо радиста, трогает языком следы от наушников на мочке; радист снова раскрывает книгу; Крейзи Хорс минуту читает, прислонившись щекой к щеке радиста; потом со стоном переворачивается на живот, протяжно ржет.
— Крейзи Хорс, у тебя на пупе помада. Твоя женщина не моет тебя после любви?
— И моет, и вытирает. Просто я храню ее отметины на теле. Смотри.
Он расстегивает рубаху, показывает след от помады на правом соске. Крейзи Хорс перекатывается на бок, расстегивает ширинку, достает из трусов член, проводит пальцем по красной отметине на крайней плоти, он приставляет член к бедру радиста, тот отстраняет руку и член Крейзи Хорса. Десантники дремлют на своих койках, мокрая от пота кожа преет в зелено — каштановым камуфляже; открытые клокочущие рты сдувают пыль с накидок, смятые пилотки положены под головы, руки зажаты между колен, на бедрах — ножи, подрагивающие в такт дыханию:
— Это я защищаю тебя от Пантер. Мы играли с Ройоном: я целовал его в губы после того, как он возвращался от соблазненной им девушки с фермы. Выпей с моих губ слюну моей женщины, и мы станем братьями.
Но радист лежит недвижно на мокрой от пота спине: он потерял сознание; между верхней губой и ноздрями блестит капля холодного пота…
В середине дня командир взвода будит солдат ударами бамбуковой палки. Двое повстанцев — молодой мужчина и его сын — вылезли из пещеры; десантники повалили их на землю, обыскали, разбили им челюсти ударами прикладов; мальчик прижался к отцу, тот защищает его руками. Мужчина отказывается назвать имена своих сообщников, один из солдат разгибает его руку, топчет ее сапогом на камне, второй солдат топчет другую руку; мальчика оттащили от отца, его бьют, бросают с размаху лицом на камень, потом привязывают колючей проволокой за горло к колесу командирской машины. Мужчина с перебитыми руками стонет. Командир проводит по ранам бамбуковой палкой:
— Говори, и мы оставим в живых тебя и твоего мальчишку. Говори.
Солдаты сгрудились вокруг тел; двое из них садятся на корточки, достают кинжалы, вонзают их в живот мужчины, вспарывают его; остальные солдаты отворачиваются, с трудом сдерживая рвоту. Лезвия кинжалов блестят в разрезах; из ран, как из пронзенного стебля агавы, сочится кровь и вода:
— Кончайте их, ничего они не скажут.
Два солдата собирают булыжники, запихивают их в разрезанный живот; сверху через край вываливаются окровавленные внутренности; солдаты топчут наполненный камнями живот; израненные ладони мужчины, покрытые яростно жужжащими мухами, падают в конвульсиях на щеки и глаза; сапоги солдат забрызганы кровью, на губах выступила пена, желваки играют на скулах, зубы плотно сжаты. Один из них пинает голову ногой, кованая подошва разрывает ухо. Мальчик, слыша хрипы умирающего отца, тихо стонет, на губах пузырится, блестит слюна; Крейзи Хорс подходит к нему, берет мальчика за волосы, вынимает кинжал, одним ударом срезает ему губы и края десен, лезвие скребет по зубам; мальчик стонет, падает, со связанными назад руками, лицом на камни, между его спиной и колесом машины дрожит натянутая проволока. Крейзи Хорс заносит кинжал, другой рукой поднимает голову мальчика, склоняет ее к плечу, опускает зажатый в кулаке кинжал, но радист одним прыжком спрыгивает с переднего сиденья, перехватывает руку Крейзи Хорса; блестят направленные на него глаза радиста: Крейзи Хорс опускает взгляд:
— …только уши, можно, радист?…
Солдат держит мальчика за волосы, тот дрожит, по разрезанным губам и подбородку текут сопли, по языку сочится кровь с десен. Солдат вытирает пальцами окровавленное лезвие, вкладывает кинжал в ножны; радист отворачивает голову, из его рта на крылья автомобиля изрыгается рвота; Крейзи Хорс гладит его по сотрясающимся плечам; подходит один из солдат, он разрезает проволоку, стягивающую запястья мальчика, бросает его головой на раскаленный капот, под спиной мальчика шипит и дымится кровь и блевотина, солдат упирается рукой в его грудь, ноги ребенка стучат о радиатор, забитый бабочками и обгоревшими птицами; солдат вынимает свой кинжал, вонзает его в горло мальчика, тщетно пытавшегося прикрыть его подбородком; брызжущая кровь пачкает волосы радиста, склонившегося над крылом машины; из его рта толчками изрыгается рвота. Радист выпрямляется, хватает солдата за горло; Крейзи Хорс неподвижно уставился светлыми глазами на клокочущую рану — солнце окрасило золотом свежую кровь. Он смеется, на ресницах его блестят жгучие слезы. Радист и Крейзи Хорс копают яму, опускают в нее оба тела, закидывают их землей, притоптывают холмик. Солдаты молча садятся в машину. Радист ковыряет сапогом землю вокруг кровавых пятен и присыпает их. Консервные банки с рваными краями, раскрытые, как раковины, блестят на красной земле. Радист забирается в кабину, надевает наушники. Крейзи Хорс курит; сапоги, руки и полы гимнастерок десантников лоснятся, кровь капает на днище, окрашивая пыль; радист вытирает тряпкой губы и подбородок, испачканные блевотиной:
— Зарезанный мальчик и ты, его отец, обратитесь в прах или станьте кормом для голодного одинокого зверя, тогда обрету я покой…
Молодая сестра милосердия приносит котелок с горячим чаем; десантники с грохотом подставляют помятые кружки. Радист окунул голову в бак с водой, сестра милосердия проносит мимо него котелок, ее платье касается поясницы радиста, его мокрая спина содрогается от пара; сестра ставит котелок на плиту, встает в проеме двери, радист поднимает голову, отжимает волосы, стягивает свитер, вытирает волосы рукавами; сестра снимает полотенце с веревки, натянутой над плитой, подходит к радисту, кладет теплое полотенце на его голое плечо; радист оборачивается, сестра опускает лицо молодой львицы под белым чепцом; радист отжимает свитер, натягивает его на спину, сестра приближается, прижимается ртом к свитеру на плече: ее губы касаются кровавого пятна на зеленой шерсти, язык облизывает его, ее глаза закрыты; радист наклонил голову к лицу молодой сестры милосердия; та, оторвав губы от плеча, с окровавленным ртом бежит в вестибюль; радист преследует ее, прижимает к окну, кусает чепец; головка сестры прижата, вмята в стекло, как ночная бабочка; радист целует ее в глаза, в губы, его ногти царапают стекло; сестра, распятая на животе солдата, вырывается; у ее груди — мокрый свитер, у ее глаз — дыхание солдата, за ее затылком и плечами — холод стекла, покрытого каплями дождя; щенок радиста спрыгивает с колен спящего Крейзи Хорса, бежит в вестибюль, лижет ноги радиста, встает на задние лапы, хватает зубами за ткань штанов в том месте, где ее натянул стоящий член; удар колена опрокидывает его на пол; радист отстранился, высвободившаяся сестра убегает, закрывается в алькове кухни; радист, подталкивая перед собой щенка, идет в столовую; он дрожит; десантники спят за столом, уткнувшись лбами в клеенку; радист берет свою кружку, стоящую рядом с головой Крейзи Хорса, собирает свой паек, прижимает горячую кружку к груди, пересекает кухню, проходит через гончарную мастерскую, где в свете неоновых ламп работают сестры — грудь и руки испачканы глиной, входит в темную часовню, преклоняет колени, поднимается к алтарю, освещенному лишь неоновым светом из мастерской, оставляет паек и кружку на покрове, присаживается на край алтаря, чертит крест на сухаре, наклоняется, ложится на бок, натянув локтем ткань покрова; он ест сухарь, рыбу, глотает чай, теплый, как сукровица, и кровь зарезанного мальчика, которой он причастился с губ сестры милосердия, смешивается с чаем.
Поутру в лагере Крейзи Хорс и командир взвода, бродя по офицерской столовой с животами, наполненными чаем, пивом и вином, смахивают со столов батареи пустых бутылок; пленный, разбуженный и приведенный солдатами, собирает осколки с плиток пола. Другие пленные копошатся в свинарнике, среди хрюкающих свиней. Молодой офицер с окровавленной повязкой на голове перепрыгивает через лужи мощенного плитами двора; он освещает карманным фонариком лицо часового, пинающего через завесу свинарника истерзанных пленных и черных свиней. Солдат закрыл глаза, на его губах замерла улыбка, луч фонарика бьет по покрытым коростой ресницам; на вороте рубахи — засохшая блевотина:
— Развлекаешься?.. Послушай их голоса — они сами хотят управлять своей страной…
Он бьет по завесе каблуком, свиньи смолкают, их дерьмо брызжет на руки пленных.
В центре деревни, под стенами форта, пьяные солдаты, вышедшие из казармы в пижамах, с пистолетами, бьющими по бедрам, занимают один из домов: разбуженные дети плачут, потом засыпают вновь, уткнувшись носами в бамбуковую стену; женщины уже задрали подолы платьев и легли на циновки, раздвинув ляжки; солдаты ударами коленей выталкивают к постелям полицейского пса, тот кусает голые ноги женщин; солдаты находят среди коров, стоящих в хлеву, старуху, тащат ее за плечи на кучу навоза; их босые ноги вязнут в грязной соломе; они втаскивают пса на старуху, потерявшую сознание в их руках. Прожектор со сторожевой вышки на мгновение освещает хлев: горячая собачья сперма струится по втиснутым в пижамы ногам солдат, их руки отрываются от раскаленной шкуры пса.
Кмент ворует день и ночь; его легкие пальцы скользят по одетой, сложенной, повешенной одежде, по швам и карманам; часто его руки трясутся от смеха, его сердце бьется в полутьме, его рука крадется над телом спящего, рассеченным лучами, процеженными сквозь шторы: спящий, бормоча, переворачивается на бок. Кмент едва сдерживает смех. Татуировка на животе спящего оживает от дыхания. За стеной стучат вилки, ложки, ножи, на ягодах смородины блестит сахар. На столике в изголовье кровати, под мышкой Кмента, в стакане шипит таблетка. Кмент, склонившись над спящим юношей, обшаривает одежду, повешенную на стул; дыхание больного обволакивает его горло; завязка пижамы, разошедшаяся на пупке, пропиталась потом. Искусанный насекомыми лоб спящего переполнен снами; рука Кмента вытягивает деньги, зажигалку, ручку, перочинный нож; спящий снова переворачивается на бок, его голова под животом Кмента…
Обнаженная девушка подплывает к нему, спящему на волнах, он просыпается, девушка целует его, он прикладывает ухо к ее рту, словно к раковине; за пальмами раб толкает легкую тележку, нагруженную сластями, сахар и сливки из переполненных корзин налипли на голую спину раба; девушка вытягивает за челюсть на песок дельфина; юноша пятится, бежит к тележке, залезает на нее, его ноги проваливаются в корзины, он катается в меду: рой диких пчел срывается с пальмы, обволакивает раба, пронзает его, перегрызает ему горло, бросает его на колени, опрокидывает, отрывает голову, топчет; юноша спрыгивает с тележки, рой возвращается на пальму, разрывает ее, обломки пальмы покрывают тело раба. Девушка, стоя на коленях, разделывает дельфина. Юноша — волосы слиплись от меда, ноги измазаны дельфиньим жиром — лежит на песке, вглядываясь в слепящее солнце: девушка отрезает кусок от плавника, протягивает на кончике ножа спящему юноше, она будит его ударом ножа в щеку; шакал волочит тело раба на пляж, он слизывает с трупа сахар и сливки; девушка впихивает плавник в рот юноши; тот смотрит на распластанного дельфина и на шакала, держащего в зубах голову раба; он изрыгает плавник себе на колени, но пчелиный рой заполняет его рот и горло…
Кмент вздрагивает от внезапного рывка и крика спящего, он пятится к шкафу, открывает его, прячется, присев на корточки за спортивной одеждой: молодая женщина присаживается на кровать, на губах — следы взбитых сливок, она ласкает живот и грудь юноши, тот — волосы от пота прилипли ко лбу — притягивает ее голову к своему рту; слюна женщины стекает, блестя меж губ — ее и юноши; Кмент, уткнувшись носом в теннисную юбку, сдерживает дыхание. Молодая женщина, на пальце — обручальное кольцо, скатывается на юношу, она пьет дыхание больного, трется животом о голый живот юноши, тот, раскинув руки по обе стороны кровати, раздвинул под одеялом ноги со слипшимися от пота пальцами:
— Мать моя, люби меня нежно: рана моя открылась. Мать моя, принеси мне сладкого.
Но она кусает со стоном синие губы юноши, слюна по его щекам стекает на подушку. На костре, разведенном за окном, под зеленой террасой, жгут военное обмундирование, дым затемняет стекло за шторой. Юноша согнул под одеялом колено; женщина поднимается, ее ладонь дрожит внизу его живота на каштановой пряди волос:
— Мать моя, не трогай. Отец, ощупав меня, найдет следы твоих пальцев. Он уже угадал запах твоих духов на моей груди и волосах.
Юноша засыпает вновь, Кмент убегает: вещи в шкафу вновь обретают неподвижность, футболки, примятые Кментом, расправляются, на юбке сохнут его слюни и сопли.
Кмент запихал наворованное под грязное белье материнской постели. Отец шарит под простынями, входит Кмент, бьет отца по лицу, плюет ему в глаза, опрокидывает на земляной пол, топчет ногами. Кмент с братьями сидят, прислонившись к стене, они кидают отцу куски сырого мяса, тот ползет по полу, тянет руку; Кмент палкой отталкивает куски; отец с пеной на губах корчится на полу, штаны сползают с его бедер. Мясо жарится на углях, Кмент с братьями, обжигая пальцы, рвут его на куски — губы и красные ошметки во мгле.
Сестры — платья на груди забрызганы кровью — причесываются перед осколками зеркал; младшая измазала помадой все лицо; отец ползет к ней, хватает ее за ногу, прикладывается слюнявым ртом к согнутому колену девочки: та, быстро обернувшись, бьет отца в лицо спрятанной в кулаке пилкой для ногтей, кровь брызжет ей на запястье. Кмент с зажатым в зубах куском мяса, заходится смехом, бьет себя кулаком по колену; братья отрывают здоровый кусок мяса, оба впиваются в него зубами, кусая друг другу губы; дверь хлопает, вздымая облако пыли; девушки, румяна под пыльными волосами, запускают руки меж грудей, под испачканные кровью лифы платьев, расправляя смятую ткань; рука накрывает грудь, вытаскивает ее из-под лифа, слюна стекает изо рта на кончики пальцев, ладонь стирает грязь с соска, с нежной розовой кожи, грязь катышками сыпется с груди; ладонь поддерживает грудь с отметинами засосов, ногтей, зубов, медалей, пряжек. Кмент встает, выплевывает кусок мяса, обнимает сестру, обхватив ладони девушки, накрывшие груди; Кмент, свесив волосы на плечи сестры, открыв рот, тянет губы к грудям, девушка, откинув голову назад, слизывает мед, блестящий в ухе Кмента:
— Мамочка, прогрызи мне ухо, проткни его, и тогда я услышу ток молока в твоей груди, вот приливает к ней молоко, разбуженное моим языком и моим членом, упирающимся в твое бедро.
Рот, наполненный кровью и жиром, касается груди девушки, язык буравит сосок, слюна течет по нёбу:
— Если какой-нибудь из твоих любовников будет похож на меня, сожми его покрепче в объятьях, оближи его повсюду, куда сможет проникнуть твой проворный язычок. Прижми его, дыши кровью его вен, пусть он корчится, бледнея, под твоими кулаками, под твоей челюстью, пусть свежие кровь и сперма изольются на его кожу и он сможет лишь улыбаться, потрясенный, смятенный, вывернутый наизнанку. Мамочка, сокруши мой член…
Девушка прячет груди под лиф; Кмент ласкает их ладонями, они набухают, смачивая грязную, искусанную, расстегнутую, разорванную ткань. Кмент погружает губы в шевелюру сестры, его ноздри вдыхают запах солдат: пот, ржавчина, смазка с их рук, сладкая фиолетовая слюна, сопли, сперма, дерьмо, испущенные при оргазме. Кмент кусает волосы, слизывает грязь; девушка перед зеркалом, заведя истомленные руки на плечи Кмента, закрывает глаза, позволяя своим грудям выкатится из платья и повиснуть над краем ткани; Кмент мнет, щиплет их, слюна клокочет у него во рту, изливаясь из уголков губ; его бедра раздвинуты, пот стекает меж них на солому стула; он вздрагивает, и холодный пот изливается изо всех пор его тела. Младшая из сестер вытирает пилку для ногтей полотенцем, висящим на зеркале; отец с искромсанными щеками и носом ползет к постели, вытягивает угол простыни, вытирает лицо; младшая из сестер задирает подол платья на живот, садится на корточки напротив братьев, дремлющих, привалившись к стене, с набитыми горящим мясом животами; она трогает их колени: братья просыпаются; их ресницы одно мгновение бьются о волосы, приклеившиеся ко лбам кровью и жиром; девочка ложится на земляной пол, братья поднимаются, становятся на колени, наклоняются к ее животу, целуют ее растерзанную вагину; потом они ложатся на спину и, опершись на локти, раздвигают ноги, девочка поднимается, расправляет платье, встает на колени, опершись на руки; зубами обнажив их животы, она целует их члены, окруженные лохмотьями. Поднявшись, они выходят на улицу, опустив глаза вниз, чтобы спрятать их от слепящего солнца. Солдаты и пришлые женщины ощупывают их, выбирая, на лестницах борделей.
По вечерам Кмент обходит бордели и тайные притоны, он собирает братьев, одевает их, отбирает деньги у сводней, выталкивает пьяных клиентов, ворует у них ремни, братья показывают ему своих вечерних любовников. Обычная сцена: один из братьев, пьяный, вцепился в простыни постели, клиент или клиентка перелезает через его тело, скорчившееся на влажном белье. Кмент щупает простыни; клиент или клиентка ополаскивает бедра и пах над лоханью, отирает губкой лицо; пальцы Кмента скользят по капелькам спермы на деревянной спинке кровати; ступни клиента или клиентки шлепают по мыльной воде, скопившейся в прорехах линолеума; брат завернулся в простыню, натянувшуюся на бедрах и на черепе: слюна и сперма приклеили ткань к животу, горлу, губам; внезапно хлынувшая блевотина распирает, окрашивает простыню вокруг его рта; плечи дрожат, блевотина растекается по горлу, по груди, затекает под мышки спеленатого ребенка. Клиент или клиентка швыряет губку в лохань, где волокна спермы растворяются во вспененной воде. Кмент задирает грязный край простыни: мальчик держит его над головой: солнце и свежий вечерний ветерок омывают прозрачную ткань; пальцы Кмента скользят по смешавшимся на наволочке волоскам брата и клиентов, по смоченным слюной складкам на месте соединения их губ и, ниже, по пятну от спермы, усеянному черным пушком.
Кмент распеленал ребенка; голый клиент или клиентка бьет его по бедру:
— Ты, чьи руки не испачканы блевотиной, одень меня.
Это включено в прейскурант. Сначала огладь своими ладонями мои бока, живот и пах.
Когда одевание закончено, клиент или клиентка протягивает ему пояс:
— Застегни в паху, потом подними и проверь пуговицы. Пурпурная птичка ходит, прихрамывая, по сливу за решеченного окна:
— Вставай. Мы одни. Ты что, ешь свою блевотину? Кмент обнимает под простыней смеющегося брата.
Входит мальчик из обслуги, в его руках — свежие простыни; он вешает их на деревянную спинку кровати; присев на корточки, он выжимает губку в лохань, поднимает лохань, выносит ее в коридор, наполняет ее красной от песка водой — песчаная буря накрыла Энаменас — приносит лохань, ставит ее на линолеум; его палец подбирает каплю спермы, прилипшую к краю, мальчик вытирает палец о джинсы на коленке, выпрямившись, он стучит по спинке кровати, Кмент вынимает руку брата из-под простыни, мальчик вынимает другую руку: появляется голова, горло, испачканное блевотиной, губы, искусанные до крови; Кмент склоняется к нему:
— Амур, тепло ли тебе?.. Ты насиживаешь свои яички? Сейчас придет сводня и вынет их из-под тебя. Быстренько вылезай из постели.
Мальчик задирает ногу, приподнимается на локтях, откидывает простыню, встает ногами в блевотину; Кмент поднимает его за талию, выносит в коридор, окунает головой в умывальник; мальчик — уборщик стаскивает с кровати простыни, сваливает их в кучу на линолеум, счищает пятна с матраса, разворачивает чистые простыни, застилает постель; братец говорит над водой, вцепившись в края умывальника:
— Кмент, пурпурник прилетает петь на сливе окна, когда тень клиента или клиентки нависнет над моим животом. Кмент, клиентки могут иметь от меня детей? Сводня говорит, они выбрасывают их в дерьмо. А я хотел бы оставить моего себе. Сегодня все клиенты и клиентки хотели ребенка, все плакали в подушку, умоляя шлюх. Сводня говорит — это из-за весны, она смягчает кожу члена, кожу сердца, Кмент, сегодня был один клиент с утра, он положил ружье на кровать, я, голый, лежал рядом, он меня не трогал, он выгреб из-под рубахи цветы и листья и плевал на них, ворошил их, его глаза и губы размалеваны, как у клоуна; он сгребает листья внизу моего живота: «Дитя, оживи эти засохшие листья и цветы». Я поднимаюсь, схватившись за спинку кровати, я напрягаюсь, раскачиваясь, клиент приложил ухо к моей задыхающейся груди, дыхание моего затвердевшего члена овевает его лицо: брызжет сперма, орошая сухие листья и цветы: «Благодарю тебя, Амур, я уношу эти растения, окропленные твоей росой». И вот он берет мой липкий член, от которого я отвожу дрожащую руку; охватив его губами, он слизывает капли пролившейся спермы; другой рукой я глажу лакированную спинку кровати. У него на губах кровь, головка моего члена стала красной.
Ночью Кмент верхом на коне, рядом с родным отцом; его братья и сестры сгрудились позади; голые ноги сжимают пылающие бока лошадей, колени Кмента и отца соприкасаются; они скачут к морю: в бурных водах мокнет пыльная ежевика. Мать, присев на корточки, раздувает огонь, моет ножи и половники в ручье, рассекающем пляж: попавшие на стремнину рыбки прыгают на камешки, которые уносит течение, блестят в прядях чертополоха. Из песка вырастает трехстворчатый шкаф, плечики, раскачиваемые вечерним бризом, бьются о зеркала. Утром на вышитых покрывалах, раскинутых на золотом песке, играют дети, щекочут спящих родителей. Кмент, голый, хватает ползущего гада, душит его в кулаке, идет к воде, повязав змею вокруг головы. Родной отец достает из нижнего ящика шкафа шпоры, у него на груди, на плечах, на запястьях — офицерские знаки различия. Он сажает Кмента на своего коня, они врываются в блеск и гниение города, отец давит копытами своего коня военных — любовников Кмента. Многие из них спаслись, они выкопали ров вокруг борделя, раскачиваясь, они втаптывают сперму в шевелящуюся землю; родной отец загоняет их в круг из кроватей и табуреток борделя, круг загорается:
— Мой родной отец, спаси простыни из огня!
Вилки, ложки, ножи звякают в костре; стаканы, вазы, ночные горшки лопаются под золой; губки, скребницы, взмыв, полетели в пучину пламени. На пляже мать приманивает чаек, гладит их, опрокидывает на спину на камни очага, она трогает их брюшка, вспарывает их, как чрева маленьких шлюшек. Родной отец полощет парус в море, он бьет его вальком, мнет, как кожу. Братья катаются нагишом по розовой лужице на дне лодки. На утесе, в рощице гранатовых деревьев, в ежевичнике, обезьяны пожирают скот, бегущий из охваченного пламенем города.
Кмент раздирает сердце ласточки, крылья бьют его по щекам. Мать хватает у него птицу, бросает ее в кипящий котел. Родной отец и братья, голые, дрожат в зеленом урагане: ураган гасит пламя очага, швыряет песок, выпивает слезы извечного одиночества на щеках родного отца, скорчившегося под парусом. Кмент прячется в зеркальный шкаф, чайка, отброшенная ветром, бьется в зеркало, марает его фиолетово — розовым пометом. Из кипящего сердца чайки выходит камень. Ураган разродился продолговатым влажным камнем, в нем отразились молнии и солнце, Кмент, братья, мать, родной отец, лежа, выгнувшись, на камне, катятся к океану. По дороге среди дюн проходит кортеж, дети несут гроб с умершим от болезни мальчиком; его не коснулось железо, он угас, он уснул; болезнь и гниение тихо клокотали по ночам в его теле; чисты слезы оплакивающих его, труп его бледен, горло не тронуто, дети проносят открытый гроб под листвой; дорожная пыль осыпается на чело, на уста мертвого ребенка; роса, скатывающаяся с трепещущих листьев, омывает его саван с груди до ног. Но змея на голове Кмента разворачивается, скользит по груди к паху, буравит песок, стремительно — блестящая, она раздвигает сухие листья и жалит в ногу одного из детей, несущих гроб; кровь прилила к щекам ребенка, прислонившегося к гробу; он встал на колени на песок, яд жжет его ступню, гроб опрокидывается, труп скользит на землю, острые камни режут лицо, гроб ребром падает на колено мертвого ребенка и ломает его. Похоронный кортеж рассыпался, дети убегают, змея свернулась под мышкой ужаленного мальчика, подходит родной отец, поднимает ногу, шпорой давит голову змеи. Родной отец исчезает в волнах, Кмент идет за ним; мать целуется с мужчиной из кортежа, ее блестящие руки сжимают его бедра, его колени раздвигаются, разжимаются, мать смеется взахлеб, кричит в ураганном ветре — солома скользит у них между ног. На утесе солдаты с расстегнутыми ширинками, сидя на скамьях из борделя, ждут Кмента, зовут его к себе. Сонная волна бьет по коленям Кмента.
На заре пурпурники влетают в окно, садятся на руки, ладони, спины спящих в лучах солнца людей, бьют крыльями, щекочут теплыми ароматными хохолками их щеки, уши, вздымаемые мерным дыханием утреннего сна волосы, живые, спокойные, высвобожденные из ночных кошмаров. Лучи солнца нагрели белье, занавески, дерево, железо в комнатах, зажгли золоченые шарики на покинутой кровати. Кмент открыл глаза; один из пурпурников клюет узелок на веревке, которой подпоясаны его шорты; Кмент проворно хватает птицу, сжимает в кулаке, раздирает ей грудь, пьет свежую кровь, клюв трепещет у его ноздрей; Кмент отбрасывает мертвую птицу и вновь засыпает.
Чуть позже резкое, полное сонной истомы движение Кмента вспугивает птиц, они перелетают на спинку кровати, взмахами крыльев сдувая с нее пыль; птичий помет, сперма зари, блестя, стекает по решетке. Амур, лежа на спине с раскинутыми ногами, ладонью прикрывает член; его ноздри, губы, жесткие фиалковые ресницы дрожат. Кмент встает, пинками раздвигает тела, открывает дверь и выходит, подставив солнцу грудь. Скрип двери разбудил нищего; он задергался, запричитал, он собирает на болотистой земле разбросанные ночным ветром и беспокойным сном грязные лохмотья.
Кмент идет по траве, солнце скачет и плюется сквозь деревья. Кмент оправляет одежду, стирает с губ и со рта сонную слюну; на его босых ногах блестит роса, испарина ночи.
Серж рядом с Эмилианой спускается к морю; двое часовых их сопровождают. Под ногами Сержа — песок, смешанный с шипами чертополоха и костями каракатиц, потом — пена прибоя.
Эмилиана достает из холщовой сумки, висящей на плече Сержа, газировку и шоколад и раскладывает их перед солдатами:
— Пейте, ешьте, пока мы купаемся.
Солдаты усаживаются, вбивают приклады винтовок в песок. Серж и Эмилиана бегут к морю, ныряют в ревущую воду, пересекают залив; коснувшись стоящей на якоре лодки плечами и бедрами, выплывают в открытое море. Солдаты на пляже смеются, едят шоколад, насыпают песок в пустые бутылки, расшнуровывают башмаки. Молодежь играет в карты у края скалы; иногда один из парней застывает у решетки; чистые шорты, спортивные машины, стены клуба, девушки, сидящие у края трассы, округлые груди, золото щек, рук, коленей, ушей; солдаты со сладкими губами, разбитыми ступнями, перевязывают раны, они ползут к решетке, вцепляются в нее, флаги клубов и команд полощутся на ветру, асфальт трасс и автострад, гранит и камень террас и перронов, железо и дерево балюстрад сияют под небом морским, отражение древних земель.
Серж и Эмилиана выходят из моря, бегут взапуски по оседающему под их ступнями песку, огибая валуны — опираясь на них — и лужи:
— Идите искупайтесь, мы посторожим ваше оружие.
По телу стекают струйки воды, волосы прилипли к вискам… О милая, милая, песок на коленях, она присаживается рядом с лежащими солдатами. Серж отвернулся, потом взял Эмилиану за плечи, он поднимает ее, кладет ладони ей на грудь, трогает завязки купальника:
— Офицеры увидят их.
Солдаты уходят, раздеваются за камнями, бегут к морю, их тела на шее и на ягодицах отмечены белыми пятнами от прививок; на затылках — гниющие язвы. Серж гладит приклад винтовки:
— Я мог бы убить тебя.
Она вздрагивает, садится на песок, кладет ладони и голову на его колено. Один из парней приник к решетке, из заднего кармана его белых шортов торчит бутылка лимонада, черный шерстяной свитер сползает, обнажая плечо; парень смотрит на Эмилиану, кусая фаланги вцепившихся в решетку пальцев, он выпячивает бедра, крутит головой, стонет. Девушка, прислонившись к стене клуба, бросает беглые взгляды на парня, на Эмилиану. Парень оборачивается, хватает девушку за руку, затаскивает в кабинку для переодевания, швыряет ее на раскиданные по полу шорты, ее ноги упираются в теплый цемент перегородки, он ложится на девушку, его светлые волосы лезут ей в рот, его суставы горят, любовная лихорадка клокочет в его чреве:
— Я дам тебе его попробовать, выпить, как модный коктейль. На, на. Но это ее, Эмилиану, я люблю. Любая девушка мечтает держать мой член в губах. Но это ее я люблю, я убью Сержа. Я раскрою ему череп.
Эмилиана закапывает ноги в песок, Серж ласкает ее груди под купальником, он кусает ее просолившиеся волосы; Эмилиана поднимается выше между ног Сержа, она опирается локтями на его колени, его затвердевший член упирается в ее спину; она дремотно поводит коленями.
…Эмилиана исполняет роль Девы Марии; но в последней сцене она — демон, губернатор ее все же узнал. По стеклянной крыше хлещет дождь. Он пришел в оранжерею, Эмилиана снимает адский костюм, по стеклам стекают струйки воды. Эмилиана подает ему руку. Монахиня стирает с ее щек жир и уголь. В глубине оранжереи, за пальмами, две девочки ласкают друг друга, снимая костюмы:
— Не сотрите свой грим. Монахиня говорит:
— Дикарки.
— Ее красота смягчит их сердца.
Осенью он передает приюту кинопленки из дворца. Эмилиана в сопровождении монахини приходит их принять; солдат с винтовкой на ремне спускается с Эмилианой забрать аппарат, приклад винтовки бьет Эмилиану в висок с такой силой, что та теряет сознание. Солдат берет ее на руки, кладет на скамью; пока монахиня разговаривает в вестибюле со старой рабыней, приютской кухаркой, солдат задирает платье Эмилианы, гладит ладонью ее живот. Губернатор, оставив офицера на перроне, обнаруживает солдата, склоненного над ней, он отстраняет его, он дует в лицо Эмилианы. Монахиня смачивает под краном платок; губернатор гладит холодные щеки девушки, он раздвигает пальцем ее сжатые губы; монахиня кладет платок на лоб Эмилианы. Губернатор уносит девушку в больницу, солдат в первой палате садится на кровать раненого товарища; сестра прикладывает влажный платок ко лбу. Губернатор укладывает Эмилиану на складную кровать, медсестра пробегает вдоль бледной солнечной полоски, вырывается из рук раненого в голову солдата; по ночам она спит с выздоравливающими. Эмилиана очнулась. Крик. Сестра бежит в уборную: солдат с выпростанным из пижамы перевязанным членом прислонился лбом к стене; повязка окровавлена; сестра гладит холодные плечи солдата; в железной раковине расплывается струйка кровавой спермы:
— Почему ты не подождал меня, Рико? Я сделала бы это осторожней…
Солдат обнимает сестру в халате на голое тело:
— Ты больше не приходила… Ты предпочла Ранко с его доблестной раной…
Вечером, в дортуаре приюта, девушки в ночных рубахах, распахнутых на набухающих грудях, сгрудились вокруг кровати Эмилианы:
— Он сгреб тебя руками?
— Он поцеловал тебя в рот?
— А правда, что в этот момент слюна целующихся смешивается?
— Он касался твоих бедер?
— А по его груди стекал пот?
На заре рабочие с землечерпалки откинули эвкалиптовый настил с канавы, куда они покидали найденное в иле Себау старинное оружие; они достают оружие своих свободных предков; мечи, кинжалы, копья, булавы, пистолеты, они протирают его своим тряпьем; лоскутами с платьев самоубийц, гимнастерок задушенных и утопленных солдат, белья удавленных проституток. Они переносят оружие в нижний город, проститутки прячут его под циновками. Весь день в подвале борделя рабочие с землечерпалки пьют, щелкают орешки, режут губы присланным сводней инжиром; над угольной кучей лопнула канализация; волокна спермы, обрывки губки, сгустки спермы и крови, скопившиеся в трубе, хлынули на брикеты. Ночью проститутки вынимают из-под циновок оружие, они целуют рабочих; те, дрожа от холода, сжимают в руках ржавые мечи, булавы с вкраплениями песка, тесаки с вкраплениями ракушек; их слепят прожекторы дворца, под снопами лучей они опускаются на землю у стены, шипы роз ранят их лица; они стонут, они поднимаются, они спускаются к реке. Огни приюта гаснут; лишь горящие ночники освещают каналы; в них отражаются красные кирпичные стены; между шлюзами под луной плавают лебеди; вода заливает отдушины погребов; лебеди поддевают клювами мелкую рыбешку и захваченных водоворотом крыс.
По шоссе проходят часовые; рабочие закалывают их и сбрасывают в канал; хлещущая из ран на спине кровь мешается с черной водой. Повстанцы взбираются по пожарной лестнице, разбегаются по дортуарам; они оглушают монахинь, сидящих в нишах альковов, набрасываются на воспитанниц, блюют на подушки, вспарывают горла; съеденные ржавчиной, зазубренные, покрытые песчинками лезвия делают прихотливые разрезы на шеях и животах сирот; они кричат, схваченные за горло, за волосы: их губы плюются, их ногти впиваются в запястья повстанцев; один из них закутывает надзирательницу в завесу алькова и оглушает ее ударом сорванного со стены распятия, затем, оторвав голову Христа, он засовывает ее во влагалище надзирательницы; терновый венец разрывает срамные губы; руки повстанца запутались в юбках монахини.
Эмилиана, прижатая к кровати расслабившимся вожаком рабочих, хватает его за уши и втискивает его голову между решеток, она подбирает упавший на пол меч, поднимает его, опускает на спину повстанца, тянет, толкает острие к его затылку; острие раздвигает, взрезает волосы, пронзает череп; рот повстанца открывается, поток крови хлынул на решетки, между которыми была зажата его голова; его руки сжимают груди Эмилианы, пальцы крутят соски; Эмилиана глубже вдавливает клинок; ночники, забрызганные кровью и спермой, мерно раскачиваются — полуголые повстанцы, стоя среди раненых и мертвых тел, выкручивают лампы испачканными руками. На заре взвод десантников окружил спящих среди мертвецов повстанцев; с площадки пожарной лестницы солдаты побросали трупы рабочих в покрытый туманом канал:
— Черпайте теперь сами себя.
Но — заперев взятых в плен повстанцев в уборных — десантники попользовались ранеными или обезумевшими сиротами; агонизирующих девушек прикончили их объятья…
Волны вывернули валун на уступе пляжа; разбиваясь об его подвижную стену, они вспенили кромку берега. Это замутненное песком море — единственная чистая поверхность, доступная здесь взору; небо подернуто дымами пожарищ, испещрено зловещими точками стервятников и вертолетов. В море юные картингисты и теннисисты смывают свой благородный пот; бандиты, повстанцы, беспризорные дети — кровь и грязь. По морю корабли доставляют зерно, оружие и солдат; зерно — чтобы смирять и утешать, оружие и солдат — чтоб убивать, запугивать, подавлять.
Солдаты ютятся в трюмах, задыхаясь в своей блевотине, их чрева пылают от ярости, жажды и страха; они катаются по грязному настилу среди пустых бутылок, ударяясь головой о переборки и выступы; иные спят, натянув на лицо береты — губы белы, подбородки в блевотине, по берету ползают мухи; судорожные движения бедер сминают ткань на ширинке и пачкают колени. На палубе офицеры и туристы вкушают тихие радости путешествия и общения с экипажем; дети в светлых костюмчиках играют в салочки среди люков, замирают перед офицерами, мечтая о сражениях, очумело вдыхая запахи, источаемые их сверкающими затылками; над релингами раскрываются тенты, птицы парят над кильватерной струей.
По ночам на верхней палубе между реями натягивают экран — и вот уже кони топчут выбитых из седла всадников; дети и поднявшиеся тайком солдаты сидят на люках и смотрят, поджав ноги; водяные брызги орошают экран с легким шумом дождя; дети, мальчики и девочки прижимаются друг к другу, их волосы сплетаются от качки и ветра. Солдаты, взволнованные бархатистыми запахами, исходящими от детей, запрокидывают головы к небу, подставляя лица уколам звездного свода, прикосновениям зловещих лунных струй… Дети отодвигаются, уступая им место, удивляются, видя их без оружия, прикасаются к их нашивкам. Корпус корабля скрипит переборками. Офицеры прогоняют солдат; они спускаются в трюмы, скользя по блевотине, перешагивают через спящих; усталость бросает их на ящики и мешки; утром они встают, разбитые, с помятыми лицами, с животами, продавленными телами товарищей, с придавленными ящиками ладонями; матросы тянут мокрые канаты по их шеям, плечам, бедрам, их босые ноги расталкивают головы едва проснувшихся солдат.
Заря холодит грузные тела, морская роса покрыла дерево и металл; блевотина и отбросы дымятся на солнце. Влажная солнечная дымка оседает на губах спящих, на их раскрытых ладонях и ресницах. Пароход выходит на рейд Энаменаса. Солдаты в трюмах сгрудились у выхода, сгибаясь под тяжестью оружия и вещмешков. Больных поддерживают товарищи, весельчаки, похабники, жеватели чуингама; матросы оттесняют солдат. Удар. Матросы открывают люки, свет бьет в лица солдат; солдаты прыгают на торговый пирс — штаб позаботился о секретности доставки. Старики, сидя на ящиках, курят едкий крупно нарубленный табак, солдаты, едва покинув корабль, задирают их, старики открывают глаза; запахи корицы и перца усыпляют; птицы садятся на причальные стены, пробегают кошки с зажатыми в зубах кусками мяса; женщины в лохмотьях выходят из пакгаузов в объятьях моряков и пьяных докеров; в тени у ворот сгрудились беспризорные дети, от их куч исходят черные ручейки и полчища мух. Наверху, вдоль приморского бульвара, неподвижные, молчаливые часовые, направив винтовки в море, провожают взглядом идущих к вокзалу солдат, стирают с лиц ладонями капельки, испарину ночных кошмаров — и, охваченные желанием при виде оборванных, кричащих женщин, прислоняются животом и бедрами к каменной стене; солдаты в шеренгу по шесть маршируют к поезду, крыши которого блестят сквозь дым паровоза; унтер — офицеры бьют тех, кто пытается выбежать из строя, чтобы купить лимонад и булочки. Офицеры оборачиваются. Джипы с подрагивающими антеннами мчат на всей скорости по приморскому бульвару вдоль покрытых надписями и скорбными знаками стен. В столице на площадях, на перекрестках, под деревьями установленные на автомобилях пулеметы держат улицы под прицелом; в автомобилях сидят и стоят сонные, обожженные солнцем солдаты, их губы и веки воспалены, ладони сложены между колен, пот намочил гимнастерки под мышками и под ремнем; по утрам солдат, разбуженных первыми солнечными лучами, пугает прикосновение к прижатому к ноге оружию. Город выплывает из мрака, в рассеянном свете зеленеет листва, в меловом небе порхают птицы; в темные комнаты, в смятые постели сквозь сито штор из распахнутых окон врываются солнечные лучи, лаская обнаженные пары, сплетенные близ умывальников.
Поезда направляются в горы, в пустынные местности юга страны. В горах на пути поезда встречаются военные лагеря и отдельные посты — на них полуголые, заросшие солдаты с обгоревшей кожей, испещренной белыми пятнами, прижавшись к заграждению, вскидывают руки, кричат что-то непонятное, сжимая в кулаке фотографии голых женщин.
На каждом посту — вышка; наверху ходит по кругу часовой, горло стянуто ремешком пробкового шлема. Солдаты в вагонах не спят; в окне проносятся разоренные селения, из каменных россыпей вокруг спаленных лесов встают на высоких стеблях желтые цветы; завидев первых верблюдов, солдаты вскакивают с полок, заливисто смеются, хлопая друг друга по спинам. Прибыв на место, по свежеуложенной разноцветной плитке они проходят вокзал, они месят красную глину дороги, оглядывая детей, собак, вглядываясь в полумрак лавочек с незнакомыми плодами; смотрят на тех, кого им следует усмирять; солдаты удивлены, что остались еще живые дети и полные истомы молодые аборигены — в их лохмотьях угадываются члены и груди. В лагере, на третьи сутки пути, ветераны ставят палатки для новобранцев.
Собрались у проволочного заграждения:
— У кого остались рыбные консервы?
— Как погода в Экбатане?
— Просись в первый взвод, к лазутчикам, там нужны люди.
— Капитан Камерон? Псих. Если палатку обоссыт собака, он заставляет нас расстегивать ширинки и ищет виновного себе на ночь. Он остался один; его жена ебется с дивизионным оружейником. По вечерам, когда его прижмет, он присаживается на наши раскладушки.
— Женщины? Ты видел деревенскую рвань? Их здесь нечем даже вымыть.
— Вчера подстрелили десяток фелей, да по мишеням популяли.
— …в деревнях можно порезвиться.
— Бебе, расскажи, что ты сотворил в Закнуне. Ни одна баба, даже дохлая, не устоит перед Бебе. Бебе — гроза трупов.
— Надолго перемирие?
— Бебе не колышут переговоры, он трахает всех баб в округе.
— Это Папа, радист, он ищет свои антенны. Образованный. Оборванцы его побаиваются. Они кормят сахаром его щенка.
— Красавчик, сотрясатель сук, он и ослиц не пропускает.
— Дуду — художник, сирота, отличный парень, душа компании; он рисует кровью.
На острове три города и тысяча деревень. В пустынях юга обитают кочевники, безучастные к мятежу. В других местах приезжие колонисты понемногу бросают свои небезопасные земли; они сжигают дома, урожай на полях, теплицы, мешки с пшеницей и кукурузой на глазах у согнанных кнутами слуг, батраков и нераспроданных рабов.
Работорговцы и поставщики из борделей поджидают за эвкалиптами; как только хозяева, сжав губы, отчалят на своих черных лимузинах с вооруженными солдатами на подножках, они бросаются на рабов, окружают и связывают их. Солдаты, вернувшись, обшаривают руины, отбирают в домах крестьян украденные у хозяев и спрятанные вещи и скотину, бьют кувшины с маслом и зерном, стреляют, задирают платья женщин, нижние юбки скользят по их каскам; засунув головы под юбки, они вынимают из потаенных мест спрятанные драгоценности; бегают за детьми и отбирают у них найденные в развалинах вещи; по деревне мечутся с воем объятые пламенем собаки, останавливаются, кружатся и рушатся с опаленной шерстью на песок; кошки, домашние птицы сгорают с клоунскими ужимками, солдаты смеются до колик, крысы выскакивают из-под досок и камней, шипя от жара, прыгают в лужи, птицы в огненном смерче пылающих перьев взлетают на кровлю: их глаза сверкают сквозь дым. Солдаты с закатанными рукавами бегают, сталкиваются, кричат, сбивают с ног ударами прикладов детей, пытающихся вынуть из огня обломки; поставщики живого товара с помощью нескольких солдат, которым они пообещали бесплатное посещение борделя, хватают этих детей, связывают их по талии веревками; связанные дети суют горящие головешки между ног солдат, толкают поставщиков в огонь. В кузовах грузовиков рабы и дети с опаленными волосами сдувают пепел с губ; их обугленные путы рассыпаются; поставщик и два солдата прижимают к их ртам платки с хлороформом.
Ночью костер прогорел; на заре клубы дыма и пепла, взметенные свежим ветром, поднимаются к светлеющему небу. Блестящие от росы джипы катят по зеркальному асфальту, солдаты устроились в них сидя или лежа; их лица сечет ветер, роса с листьев деревьев, под которыми все утро ехали машины, стекает по их плечам и бритым вискам; ветер раздувает гимнастерки, холодит кожу, оседает инеем на уголках губ, бьет по глазам; из долин поднимается туман, пастухи выходят из тени на свет; женщины со щетками и бельем в руках с песнями спускаются к реке; те из них, кого этой ночью изнасиловали солдаты, не осмеливаются смотреть в воду; дети, разрезая до крови голые спины и плечи, взбираются на деревья. Лучи солнца, острые, как иглы шприцев, протыкают виски и спины солдат, наполняя их ненавистью и желанием. Солдаты вздрагивают, незаметно для себя засыпают. Одинокая птица вспархивает из листвы; несмотря на шум мотора и ветра, солдаты слышат ее крик и явственный шорох листьев, шофер поднимает голову к зыбкому древесному своду, по которому пробегают солнечные блики. Джипы мчатся среди эвкалиптов вдоль берега, речная прохлада будит солдат. По прибрежным деревьям скачут обезьяны, наклоняя ветки, вмешивая свою возню в шум потока; над водой жужжат москиты. Обезьяны раскачиваются над джипами, задирая хвосты, показывая красные зады; они дерут друг друга за уши, за шерсть, шарят в заросшем шерстью паху, дерутся, ломают ветки, обрывают кору, швыряют ее через плечи, урчат, дрожат, изображают войну; одна из них вдруг завалилась в дупло, прижав руку к сердцу, как расстрелянный. На верхних ветках другие обезьяны заливаются смехом; они кидают куски коры и листья в солдат; те делают вид, что сердятся, грозят кулаками, прицеливаются; обезьяны забираются выше, жалобно вздыхают, лишь глаза их блестят сквозь листву; молодой солдат, лежащий в джипе у ног товарищей, расстегнулся и машет поднявшимся членом в луче света; обезьяны понемногу раздвигают листья и следят за движениями члена.
На входе в долину Тилисси джипы убыстряют бег, похолодало, улыбки растаяли, руки сжимают оружие, шум моторов спугнул голубей и горлиц из их скальных гнезд. Выстрел.
Солдаты падают, сраженные, их тела, извиваясь в страшных корчах, висят по бортам, головы бьются о колеса. Другие солдаты выпрыгивают на дорогу, приседают за джипами и стреляют не целясь; пули свистят, пробивая крыши и капоты, разбивая радиостанцию; лампы и стекло вонзаются в землю, как капли ливня; голуби и горлинки, напуганные выстрелами, летают в беспорядке, падают на простертые тела, накрывая сложенными крыльями бледные лица, вытаращенные глаза, еще дрожащие губы и прозрачные, как перламутр, ноздри, в которых уже копошатся маленькие смертные мушки. Стекла бьются, осколки сыплются на каски; раненые, хрипя, ползут вверх по склону, скорчившись, валятся в кактусы, волоча за собой винтовки, как сломанные крылья. Повстанцы, прячущиеся за кактусами, забрасывают гранатами один из джипов, солдаты, скрестив руки, падают сквозь дым на асфальт, ломая позвоночники, стонут; каски катятся, тела падают в обломки кактусов, пальцы цепляются за пряди ковыля, скребут землю, смыкаются на кактусах. Повстанцы набрасываются на еще живых, разоружают их, обыскивают, сволакивают на асфальт, топчут ногами, перерезают им горла, кастрируют, даже не расстегнув штанов, и убегают с оружием…
Один из выживших ползет к реке, у него черная зияющая рана между ног, брюки порваны; он соскальзывает в реку, его тело мечется в воде, которая останавливает судороги. Из глубины воды, к медным камням, солнечным лучам и кровавым пятнам, скользит уж.
Амиклея обмывает трупы, сваленные в ее бараке. Мыльная вода забрызгала оба разбитых окна. На заре Амиклея обшаривает кучи отбросов и тростник на берегу реки; она выгребает из-под соломы, снарядных ящиков и покореженных остовов машин маленькие тела; утопленные, со вспоротыми животами, перерезанными горлами повстанцы между грязными лианами и гниющими стволами, где их обкусывают рыбы и крысы. Она нагружает телами свою тележку, поднимает ее к бараку, затем сбрасывает их на козлы, стоящие под окном барака; она снимает с трупов лохмотья, стирает и чинит; она обмывает с мылом нагие тела, осыпает их едва раскрывшимися цветами, чтобы их сок пропитал мертвых. Смытая водой кровь с недавно убитых стекает на земляной пол под козлами: Амиклея поднимает член, намыливает яйца; мыльная пена разъедает ей глаза, коленная чашечка скользит под ее ладонью, пальцы другой ладони запутались в пряди волос в паху, кусок мыла скользит по настилу под ягодицы трупа.
Амиклея сбривает пушок со щек юных повстанцев. В полдень она засыпает, упершись головой в настил — волосы раскиданы по бедру молодой проститутки; та была слишком жестоко лишена невинности, а утром выброшена в выгребную яму вместе с отбросами. С наступлением ночи Амиклея укладывает причесанные, одетые, с зашитыми ранами трупы на тележку, катит ее к реке, на берегу роет могилу; мухи и птицы облепили трупы, соскальзывающие со склоненной, стоящей на оглоблях тележки, раны раскрываются, лохмотья краснеют; дно свежевырытой могилы заплывает илом; Амиклея срывает сухой тростник и бросает вниз, на ил; потом она поднимает, одно за другим, тела и опускает в могилу; голова трупа скатывается по ее руке, Амиклея укладывает тело на устланное сухим тростником дно, стирает с бледного лба птичий помет, целует под закрытыми веками окаменевшие глаза. Пурпурники склевывают насекомых в разрытой земле.
Потом Амиклея моет повозку в реке; рыбки скользят по оглоблям, играют в осях и спицах колес. Амиклея привязывает тележку к щеколде двери барака. Ночью, лежа среди нагих трупов, кровь которых капля за каплей стекает с настила, она засыпает. Кмент, опершись на торчащую оглоблю, смотрит на груди Амиклеи; он глубоко дышит в лунном свете, его волосы окроплены розовой кровью. Кмент стучит пальцем в стекло, потом свистит. Амиклея открывает глаза:
— Я хочу молока.
Он входит, обнимает Амиклею, его рот переполнен вином и пивом, он выблевывает их через плечо на спину Амиклеи, она укладывает его на настил, берет жбан, наливает молоко в кружку, Кмент приподнимается на локте, подносит губы к краю кружки, пьет; сгусток крови всплывает из глубины и прилипает к губе; Кмент плюется, швыряет кружку в стену, плюется. Хватает себя за горло:
— Кровь, кровь, везде кровь. Твои волосы растут из крови, ты превращаешь кровь в молоко. Ты пьешь кровь убитых.
Молоко стекает по стене на раскладушку. Сгусток крови висит на подбородке Кмента и раскачивается, когда парень кричит. Амиклея обходит козлы; между ягодиц одного из повстанцев, повешенного, торчит кусок кала; в нем роется пурпурник. Амиклея проводит рукой по бритой голове, по следу от веревки на твердой шее. Кмент перекатывается по земляному полу, ползет, хватает Амиклею за ноги, его грудь в луже крови, его зубы вцепились в ножки козел.
— Дай мне твоего молока. Дай.
— У меня нет его больше. Оно пропало, когда они убили моего ребенка там, в Септентрионе.
— Я твой сын. Дай, я поглажу твою грудь, твой живот, молоко появится, чтобы напоить меня.
Всю ночь он плюется, притиснув Амиклею к стене, он швыряет ее на трупы, кусает ее, щиплет за низ живота и грудь; он давит ее, лижет ей шею и горло, упирает кулак ей в живот. Она со сгустком крови, налипшим на губе, чувствуя голой спиной холодный член одного из убитых, позволяет парню терзать себя; задерживая дыхание, глотает его плевки. Лишь утром он уснул на ней; в озаренный барак впорхнули птицы, осколки окон заблестели, свежий ветер охладил ее плечи и слезы на ее глазах. На соске сверкнула капелька молока. Тогда, разбудив парня ударом колена, она забылась сном; Кмент в полусне открывает губы, его язык слизывает каплю молока с отвердевшего соска; после он засыпает, и, стоит ему застонать или повернуться во сне, тычется языком в сосок.
Амиклея спит в постелях агонизирующих и помогает им умереть. Она также прячет разыскиваемых повстанцев, те сдерживают дыхание под кучей наваленных на них трупов; солдаты уважают Амиклею, по приказу губернатора они привозят ей муку и сахар. Бывают вечера, когда сахар блестит на губах всех детей нижнего города, их желудки набиты мукой; ее едят сырой, засунув голову в мешок. Вот Амиклея одна в своем бараке, освободив и помыв настил, ждет Джафара. Повстанец, командующий речным округом, сутенер тридцати женщин, Джафар в день доставки муки и сахара навещает Амиклею. Он уносит мешки в горы, где расположились лагерем его летучие отряды. В бараке он взвешивает, выбирая, мешки, пистолет и кинжал бьют по его бедрам. Амиклея удерживает его за руку, за талию, он отталкивает ее; в руке у него ружье, он оборачивается, козырек затемняет его глаза, волосы прядями торчат из-под надвинутой на лоб фуражки; гимнастерка в талии плотно стянута и складками лежит на бедрах и ягодицах; Джафар хватает испачканной в муке рукой ворот блузы Амиклеи, трясет ее, свободную ладонь запускает в мешок, мука сыпется между его пальцами. Под смятой гимнастеркой с вывернутыми карманами он носит свитер, а под ним прячет овечью шкуру, украденную у оккупантов; от этого его руки, плечи, грудь кажутся толще, шерсть колет ему шею…
Амиклея проводит рукой ему по спине, он вздрагивает, поворачивает голову, упирается губами, покрытыми сахаром и мукой, в щеку, в волосы Амиклеи, прижимает женщину к своей груди, жесткой от гранат и патронов, рассованных по карманам, кусает ее губы, зубы, его львиная голова крутится, сокрушая плечи Амиклеи, его лапы рвут мокрый от пота клубок из плоти, волос и ткани — ее тело. Солнечные лучи исполосовали спину и ноги Джафара; он кричит, изрыгая пену на лицо Амиклеи, ее плечи, ворот ее блузы; она не в силах разжать его губы, поднять глаза, шевельнуть щекой, откинуть голову; клочья пены блестят на ней, Джафар слизывает их, тяжело дыша сверху. Так хищник покрывает слюной свою добычу. Джафар сжимает ее бедра своими крепкими от долгих переходов ногами, он опрокидывает ее на раскладушку, залитую молоком, ткань трещит под их телами, пружины натянулись, стойки из дерева и алюминия прогнулись, планка в изголовье кровати выскочила под тяжестью их яростных голов; Амиклея, задыхаясь, вцепилась в обсыпанные мукой патлы Джафара, ногти рвут камуфляжную ткань фуражки; приподнявшись, она отталкивает голову Джафара; тот одной рукой расстегивает ширинку, другой, втянув живот, рвет платье Амиклеи от бедра до бедра, своими сладкими плевками он слепит ее глаза; он крутит головой, освобождаясь от вцепившихся в нее пальцев, как лошадь от удил. В разбитое стекло стучат обрывки картона. Ночной ветер поднимает пыль вокруг барака; прожекторы освещают окна борделей, сплетенные тела людей в сумраке уборных, на грязном полу, ведра, тазы, умывальники, зеркала, стальные вешалки для полотенец, загаженные перегородки, складки приоткрытых занавесок с дрожащими на них прозрачными каплями спермы:
— Кто видит, как по его жилам бешено мчится кровь, познает свой разум; жестокость, поднимаясь, наполняет его грудь…
— …кротость.
— Меня разбирает смех, когда мы покидаем сожженную нами деревню, люди и скот свалены в кровавые кучи под луной. У меня встает на запах пепла и горелой крови. Часто я возвращаюсь на место резни, я касаюсь еще трепещущей вены или мышцы голого ребенка, скорчившегося вблизи кучи трупов. Иногда он открывает глаз, и я бью по этому глазу прикладом винтовки. Я приманиваю шакалов, жадно дышащих за дымящимися развалинами, поднимаю ребенка и бросаю его в дым; слышно, как там сталкиваются клыки, из-под дымной пелены брызжет кровь, летят кровавые ошметки; я ставлю внутрь ногу — шакал кусает мой башмак, раздирает шнурки; мои товарищи, сидя на корточках в винограднике, пожирают гроздья; сок, смешанный со слюной, стекает по их горлам на ширинки с набухшими от резни членами, не опадающими из-за воя шакалов и моего прерывистого дыхания; шакалы стаскивают тела, распростертые на крышах и скатах хижин; тела падают на зверей, которые тянут их за ноги.
Я сажусь на кучу трупов, мой зад промок от крови, под моим членом клокочет чье — то горло, под моими ляжками дышат две груди, я запрокидываю голову, и мои глаза теряются в усыпанном звездами небе; вздохи подо мной слабеют, я дрочу на звезды, моя грудь вздымается, когти шакалов скребут по каменной плитке. В долине фары джипов и бронетранспортеров слепят спаривающихся на камышах и розовой гальке зимородков, обезьян, совокупляющихся на обломках теплоцентрали или играющих на остановленных трансмиссиях и редукторах. При шуме моторов из гор трупов раздаются стоны и вздохи, но подо мной все тихо, и я кладу руки на затылок, раздвигаю ноги, мой член ползет по животу и оттопыривает ремень. Фары пронзают дым, я встаю, толкаю товарищей, засевших в винограднике, давящихся ягодами, и мы до рассвета мчимся к морю, чтобы смыть жестокость наших тел и душ.
В резне, в огне, в насмешках и забавах на допросах мы клонимся, мы дрожим, мы рассыпаемся, как камни. А ты любишь меня, ты хочешь слепить из моего железного члена детскую ручонку, из моей громовой челюсти — ларец для своих слез; я — сокрушающий камень, ты — зыбучая земля; огонь, пожирающий все вокруг, не коснулся меня, пот выступил на наших лбах — и вот мы странствуем в небе ночном, то мирном, то крутящемся бурно к восходящему Солнцу, к оку тишины, где собрана вся ярость земных сражений.
Джафар ведет Амиклею в бордель, толкает ее к стене общей комнаты. Мальчики — слуги — в их волосах застряла конская щетина — окружили ее и принялись ласкать грязными пальцами; ее живот, руки, лицо, стали липкими от их прикосновений; их пальцы дрожат оттого, что весь день они дрочили и лакали вино.
— Теперь, приготовленная, умащенная, освященная нашими руками, теперь, сестра Амиклея, ты можешь без сожалений отдаться тем, кому велит Джафар.
И Джафар отдал ее своим товарищам. На заре он вытащил ее из их рук, из их ног, он вытер волосы Амиклеи ладонью, он прислонился спиной к стене, расстегнулся и выпятил свой расстегнутый гульфик. Он выгнулся под зарешеченным окном. Спящие бляди, клиенты, сутенеры, сводни вздрагивают, когда первый солнечный луч касается их сопливых ноздрей, их залитых вином грудей, их животов со склеенными спермой прядками, их губ, на которых свежий ветерок колышет волоски с лобков. Амиклея просунула руку между ляжек Джафара, насвистывающего с соломинкой от коктейля в зубах, она берет член, прижимает его к своим губам, трясет его; член, зажатый в руке, нагревается, растет, Амиклея обнимает его полуоткрытыми губами, на ее зубах блестит слюна, ее верхняя губа накрывает головку члена, кипящего, как край отравленного кубка, ее глаза блестят, затуманенные, блестят.
…Вот уже месяц женщины идут по разоренной равнине; весна только начинается; солдаты, все молодые, бьют их, стегают кнутами; однажды вечером Амиклею, спавшую на земле, пленницы унесли в развалившийся барак; вдоль его стен зацвела глициния; здесь, на пепелище, родился ребенок; ветер вздувает пепел, словно идущий человек. Солдаты пьют, горланят песни, кидают черные камни и куски толи в женщин. Один солдат вытаптывает глицинию сапогами, прикладом, он отталкивает женщин, отбирает ребенка, мокрого, холодного, уходит, бежит к солдатам, сидящим вокруг костра, он подбрасывает ребенка в воздух, ловит его, обливает вином, осыпает землей, держит вниз головой, зажав его ножки в своих затянутых в перчатки ладонях. Амиклея стоит, не двигаясь, женщины пытаются удержать дверь развалившейся хижины. Одна из них, которую насилуют солдаты, кричит, ее голова бьется об их отяжелевшие от снега и отвердевшие от мороза сапоги, при ходьбе по насту они стирают большие пальцы ног; черный паук на нарукавных повязках солдат полинял от пота ударов, объятий, от дождя, от пролитого супа. Женщины подурнели, усталость и нужда разрушают их; может быть, свежее личико, немного блеска в глазах, нежное прикосновение пальчика смогли бы взволновать молодых солдат, но они не замечают ничего, они ненавидят эти безразличные тела, они бьют их по привычке и приканчивают от скуки. Солдат бросил ребенка на живот Амиклеи, ничком лежащей на рельсах. Когда стемнело, тот же солдат схватил еще живого ребенка, поднял его за ручку и выбежал; в другой руке у него бутылка спирта; прикрепив ребенка к мотку колючей проволоки, солдат выстрелил; проволока спружинила; солдат снова прикрепил ребенка к проволоке и потащил ее к газовой камере. С расстрелянного вражеского бомбардировщика, рухнувшего на вершины сосен у озера, слетают орлы; в это замерзшее озеро пятнадцатилетние солдаты сгоняют пленных — они бьют их рамами и сиденьями велосипедов. Пленные — многие из них раздеты — прыгают на лед, автоматные очереди сбрасывают их на окровавленные сосульки; один из солдат хватает девушку, сбежавшую и спрятавшуюся в сарае велосипедистов, он берет ее за талию и так, танцуя, подводит к берегу, опускает ее в ледяную воду по шею, опускает на мгновение ее в воду с головой, потом подгребает две заостренные сосульки и сжимает ими горло девушки, пока та не умирает.
У газовой камеры солдат откалывает ребенка от мотка колючки и швыряет его в кучу живых и мертвых, сидящих, лежащих, стоящих вперемешку с их экскрементами, изошедшими в момент страха и гнева. Железная дверь заперта, солдаты толкают ее локтями, плечами, коленями; дверь дрожит; солдаты затаили дыхание; легкий железный утренний шум дортуара для девочек. Один солдат открывает дверь; сгнившие детские трупы хлынули, как дохлые рыбешки, к ногам солдата, он раздвигает их ногой; голые черепа, впалые щеки, вывихнутые плечи с отметинами кнута, эти ноги, такие тонкие, что их можно перебить одним ударом, глаза, на радужной оболочке которых кулак оставил кровавый потек, эти пробитые лбы, которые их мамы, когда — то такие молодые и красивые, целовали по вечерам, чтобы прогнать страшные сны, эти иссушенные губы, по утрам пылавшие на их лицах, розовые, теплые после сна, в предвкушении лакомства; солдат отряхивает сапоги; от башни к башне перелетают орлы. На спящую на сырых рельсах Амиклею медленно надвигается поезд, давя сгнившие трупы, колыбельки, коляски, детские кепочки, набросанные на пути и присыпанные мелким сверкающим снегом; пятнадцатилетние солдаты лезут в вагоны, набитые живыми и мертвыми детьми, срывают цепочки, медальоны, щипцами вырывают золотые зубы изо ртов живых, хлещущая розовая кровь агонии орошает вырванное золото и ищущие его щипцы.
Весной по реке плывут стволы деревьев, вода заливает камни, поля, леса, руины, унося увядшие цветы, кору, обломки игрушек, тряпки, куски кровли. От воды исходит свежесть, Амиклея с женщинами моют детей во вскрывшемся ото льда озере; пятнадцатилетние солдаты, прощенные, в майках защитного цвета удят рыбу, ловят на берегу лягушек. Амиклея и женщины укладывают детей на соломенные постели в бараке велосипедистов; они стирают и полощут куртки и рубашки пятнадцатилетних солдат; выцветшие нарукавные повязки горят в очаге. Пятнадцатилетние солдаты в испачканных тиной майках с хриплым смехом отрывают лягушачьи лапки и бросают их в кипящую воду. Светлой ночью они тихо поднимаются с подстилок, стряхивают солому с мятых маек, напяливают на себя сырые куртки и выходят; они бегут гуртом, стуча пятками по усыпанным сосновыми иглами камням; в лесу они трогают вражеский бомбардировщик, плюют на двойные кресты, нарисованные на крыльях и фюзеляже, они достают из карманов курток портрет Повелителя Войны, своего застрелившегося вождя, фотографию, сорванную со стены барака велосипедистов; они прикрепляют фото к стволу сосны, приветствуют его, вскидывая руки, они кричат, они топчут землю босыми ногами, они хватают самого юного, раздевают его, связывают ему ноги велосипедной цепью, подвешивают вниз головой на нижний сук дерева, они толкают его, стегают поясами, спрятанными под майками, они дрочат на его сотрясающуюся спину, на его растрепанные волосы, еще хранящие след от каски; потом, развязав его, они ведут его к реке, текущей в чаще леса, сметающей стволы на пути к морю; они бросают мальчика вниз головой в бурную воду и бегут, молча, задыхаясь, по их лицам хлещут молодые листочки, отблески луны и бомбардировщиков.
Амиклея проснулась, дети, младенцы спят в расстрелянной заре, прижавшись к ее бокам.
— О мать моя, принцесса Экбатана, столь благосклонная к крови твоих рабов, голова твоя — тяжкий мак. Отныне не жить мне вне диких миров.
Море серое, дети и подростки, одетые в просторную морскую форму, играют на палубе, спят, прижавшись к канатам; их руки и плечи дрожат во сне, они тявкают, словно охотничьи собаки, которым снится, как они гонят добычу и хватают ее зубами; на их щеках белеют отметины от ударов хлыстом, ранки в уголках глаз жжет солнце; они дрожат, когда их окатывают соленые брызги. Матросы перешагивают их тела. Они разместили их в своих каютах, перешили для них свои старые костюмы. На стоянках они выходят с детьми в порт и возвращаются с целыми охапками игрушек, сладостей, ботинок, передников и соломенных шляп.
Дети на палубе ходят за ними по пятам, но боятся прикосновений. Амиклея у борта курит тонкую сигарету, предложенную ей молодым капитаном. Он не осмеливается потрогать шрамы на руках и на лице Амиклеи; он влюбился в нее за глубокий шрам на груди у горла, словно след от топора; ночью он склоняется над ней, спящей, и целует шрам, скрытый простынею. Взлетает чайка, сидевшая на внешнем ободе иллюминатора; Амиклея вздрагивает, молодой командир убегает. Утром, в городе ста расписных куполов, он проводит рукой по заколоченным воротам имперской тюрьмы; Амиклея отбросила волосы назад, так, что стали заметны вырванные пряди.
— Моя мать, революционерка была заключена в эту тюрьму и обезглавлена в тот вечер, когда я родился, один, в тюрьме, я кричал на ее складной кровати.
Амиклея откинула голову, открыв напряженную грудь, молодой капитан припал к ней светлой кудрявой головой и накрыл губами шрам…
Губы Амиклеи сдавливают удлинившийся член Джафара, его спина стирает известь со стены. Все вокруг, клиенты и шлюхи, просыпаются, одеваются; опустив глаза, клиенты ныряют в утренний сумрак, спотыкаются о ящики, вытирают грязные руки о шины грузовиков, стоящих у подъезда; за дверями в подсобные помещения крысы шевелят кучи отрубленных свиных и бараньих голов, лижут свежую кровь, выгрызают глаза, уши, пробираются меж зубов; морские птицы, попавшие в ловушку после ухода грузчиков и мясников, бьются в стекла, кричат, их помет брызжет на лужи крови, взмахи их крыльев колышут крюки и прозрачные нейлоновые занавески, о которые вытирают свои окровавленные ножи подсобники. Заспанные дети за стойкой борделя стреляют друг в друга из пневматических пистолетов, украденных на бойне; они приставляют их ко лбам клиентов, валяющихся на полу. Джафар хватает ребенка, вырывает у него из руки пистолет, приставляет к виску Амиклеи и убивает ее; вздрогнув, оторвав губы от обмякшего члена Джафара, она падает навзничь, головой на плитки пола, ногами задев табурет. Джафар, отряхивая член, перешагивает через голову Амиклеи. Дети, прижавшись к бокам сводни, облизывают свои пистолеты. Джафар, спрятав член в ширинку и застегнувшись, идет к стойке, берет бутылку из рук мойщика посуды — в посудном баке в мыльной воде плавают волокна спермы — он пьет из горлышка, кидает пустую бутылку в полуголого мойщика и выходит на улицу, его войлочные сандалии шлепают по влажному асфальту.
Тем же вечером он в Лутракионе, с другой стороны реки; его помощники выставили посреди деревни доску объявлений; сам Джафар с крыши мэрии смотрит за населением, угрожая то ружьем, то пистолетом, то кинжалом; пистолет с бойни он хранит за рубашкой, иногда он достает его и целует ствол и рукоятку.
С другой стороны моря, на лыжном курорте, секретные эмиссары, официально не признанные правительством Экбатана, и представители стран, сочувствующих мятежу на Энаменасе, выпрыгивают из вертолета, придерживая шляпы; весь день они проспорили за столом переговоров, а к вечеру пришли — таки к согласию. Экбатан не признает и считает преступниками и рабами выродков, которые для своего освобождения убивают тех, кого призваны освобождать, или сохраняют им жизнь, чтобы затем повелевать ими.
Военные, разбитые в предыдущей колониальной войне, теперь, бесславно победив Энаменас на поле брани, возомнили, что одержали победу и в сердцах людей. Вскоре они стали скрывать свою неспособность честно править, разглагольствуя о необходимости жертв и капитуляции государства. В коридорах роскошных отелей генералы из штабов и разведки поздравляли друг друга, создавали союзы, снюхивались, выходили на солнышко, чтоб блестели ордена, ломая по дороге листья декоративных растений — рефлекс разрушителя — и, не в силах одолеть повстанцев, истязали подчиненных. У большинства, этих людей отечные, вздутые лица грабителей и сутенеров. Они осыпаны почестями и привилегиями, и это справедливо, ибо они принесли в жертву собственный разум.
Сержант Банделло в вечер своего прибытия на Энаменас перепрыгивает стену казармы, в заброшенной будке снимает форму: он спрятал на себе гражданские вещи, рубашку и джинсы, он сунул форму под будку; он убегает; в кармане его джинсов — пистолет с коротким стволом, который он спер у своего младшего брата перед отплытием из Экбатана. Банделло входит в бордель; Серж, спрятавшись в садике при борделе, ждет Одри, сына начальника полиции. Банделло старается не испачкать рубашку и джинсы. Шлюха, раздев его, сразу узнала трусы военного пошива; помяв пальцами, она расстегивает их; взяв парня за член, тянет его на кровать; трусы сползают ему на щиколотки:
— У тебя кожа жителя метрополии. Здесь у мужиков даже хуй загорелый.
Лежа под ним, она гладит и крутит сморщенные яйца парня, он, выгнувшись, скользит животом по ее грудям:
— Они звенят, как бубенцы.
Банделло, любовник работорговца, одет только в короткую школьную курточку, на шее — кистень, в кулаке — кинжал, член бьет по ляжкам, он перешагивает постельки и колыбельки, в которых спят дети Экбатана, он оглушает ударом кистеня в висок ребенка, которого разбудило прикосновение его члена, он бьет кинжалом отца, разбуженного шумом кистеня, он крадет ребенка, а работорговец кидает того в грузовик, едущий к границе; перед таможней, рядом с мясной лавкой пограничной деревни, стоит барак для незадекларированных, контрабандных рабов: там ребенок оценен и продан; он жует жвачку, и сводня проверяет его зубы, тискает его член, щиплет его за яйца и грудь.
Шлюха обнимает Банделло, закрывает ему уши. Одри присел перед заборчиком сада; лунный свет омывает его волосы, затекает ему за уши и за пряжку его пояса; голый мальчик бродит по соломе посреди площади перед борделем, собака, следующая за ним, лижет ему ноги; мальчик сделал нору в соломе и улегся в ней с собакой на руках, собака дрожит от холода; она слизывает свои экскременты с живота лежащего под ней мальчика; девочка, голая, волосы украшены лентами, поднимает каркас шезлонга; она поранила себе запястье; она хнычет, вылизывая рану языком, соломенная пыль взметается у ее ног. Банделло отнимает руки шлюхи от своих ушей, он вздрагивает от плача девочки, от звука шагов по соломе, он встает, подходит к окну, смотрит. Шлюха, согнув колени, вытирает губы, проводит рукой по джинсам, лежащим на линолеуме, трогает пистолет в кармане; плечи Банделло вздрагивают в лунном свете, струйка спермы блестит на бедре. Банделло возвращается, вновь растягивается рядом со шлюхой, она целует его живот и освеженную ветром грудь, ее губы скользят по отпечаткам простыни, по следам ласк. Банделло перекатывается к краю кровати, ногой подцепляет джинсы так, что они сползают на живот; пистолет, выпав из кармана, падает на член Банделло, на мокрую прядь волос; Банделло видит на рукоятке следы пальцев шлюхи; он берет пистолет одной рукой, другой натягивает джинсы до бедер; он проводит по губам шлюхи мокрым пистолетом. Она кусает его, и ее зубы лязгают о металл.
Банделло расплачивается со сводней, выходит на площадь, его босые ноги в войлочных сандалиях на губчатой подошве вздымают соломенную пыль, омываемую луной, на цыпочках он приближается к спящим детям, будит их, трогая за руку или за грудь, дети просыпаются, Банделло отдирает от кармана джинсов приклеившуюся конфетку, крутит ее в пальцах, ребенок берет ее и сгрызает, Банделло толкает ребенка к пакгаузу; увидев поблескивающее под лестницей море, мальчик вздрагивает, цепляется за железные перила, его голова прижата к списку приговоренных к смерти, висящему на стене; Банделло отдирает пальцы ребенка от перил, поднимает его на руки, прижимает к груди, собачье дерьмо на животе мальчика пачкает рубашку Банделло; мальчик вырывается, кусает руку Банделло, зажавшую его рот, Банделло засовывает ему в рот кулак, ребенок задыхается, его дерьмо полилось на рукава Банделло; морские птицы покачиваются на последней ступени лестницы, спариваются в бомбоубежищах; Банделло разгоняет их ногами; теплый помет брызжет на петли его войлочных сандалий. Банделло перепрыгивает стену пакгауза: в глубине мясного ангара в освещенной клетушке спит на раскладной кровати молодой человек; Банделло продает ребенка; когда Банделло уходит с набитыми деньгами карманами джинсов, парень усыпляет ребенка хлороформом; он запирает его в мясной ларь, предназначенный к погрузке, рисует на ларе красный крест. Вокруг бегают крысы, они просовывают морды и когти между досками ящика. Всю ночь они грызут дерево, расщепляют его, трутся между дверью и перегородкой клетушки, где газовый рожок освещает мертвенно-голубоватым светом голую грудь и щеки молодого сторожа с кольцом в верхней губе.
Банделло возвращается к стене. Одри и Серж подбирают потерявших сознание детей, уносят их, укладывают в прихожей резиденции архиепископа; они возвращаются в квартал борделей, поднимают мужчин, мальчиков, девочек, пьяных женщин, они укладывают их на скамьи или на солому, подальше от улицы, от колес автомобилей, они смачивают носовые платки в фонтане и омывают облеванные лица.
Банделло, закончив дельце, перепрыгивает стену и рыщет на площади, Одри и Серж сцепляются с ним из-за детей, Банделло достает пистолет, пуля расщепляет эвкалипт, вокруг разливается аромат, Одри и Серж залегли за стволом, обнявшись; рана на груди Одри — след от разрыва гранаты во время покушения на его отца, полицейского, когда Одри было тринадцать лет — прижата к уху Сержа. Банделло тащит ребенка, оглушенного звуком выстрела. К борделю приближается патруль; десантники в шеренгу по три, с оружием наизготовку и сержант с прикрепленным к поясу карманным фонариком, освещающим складки его гимнастерки на бедрах, расшвыривают ногами камушки и коробки.
Банделло, Одри и Серж бросаются к заброшенной уборной рабочих с землечерпалки, они закрываются в кабинках; грудь вздымается во мраке, ноги вязнут в куче человечьего и звериного дерьма, лезущего из дыры; парашютисты плюют в стекла борделей, сержант освещает фонариком ряд окон, брызги мыла и спермы, тени и блики голых людей внутри.
Когда Серж вернулся, Фабиана поднялась со своей постели и склонилась над ним, уснувшим в одежде; тот проснулся, почувствовав дыхание сестры на своих ресницах:
— У тебя черви за ушами, твоя грудь воняет соломой и пылью, а твои ноги — эвкалиптом и дерьмом…
— Стекла борделя выпачканы грязью и напоены ароматами всех желаний, разочарований, веселий.
— Эмилиана, спящая сейчас рядом с нашим отцом, хочет тебя; зловонный запах твоего сонного тела возбудит и смирит ее, ее рука перевернет тебя, присыплет тебе попку, поменяет пеленки…
Фабиана гладит живот Сержа, расстегивает эластичный пояс на его шортах, Серж вздрагивает, вскакивает, бьет Фабиану по лицу:
— Одри не любит тебя. Ни разу, когда я произносил твое имя: Фабиана — член его не шелохнулся, губы не дрогнули. Одри любит блядей, и в борделе он бы тебя не выбрал.
— Я люблю Одри — твоя рука, касавшаяся его этой ночью, вольна творить добро и зло. Для него я оставила на щеках отца неведомые никому слезы, которые прежде слизывала языком, сидя у него на коленях и разгрызая, забавы ради, косточки вишни у него на губах.
Волосы Одри, черные, как смоль, всегда влажные — его мать и сестра любят причесывать их по нескольку раз на дню — зачесаны назад. После нескольких сказанных им слов его губы еще долго подрагивают. Одри пришел во дворец, Фабиана вся словно пылает рядом с ним, но вдруг исчезает, смиряя свои глаза мраком запертого чулана, сдерживая слезы, одевая Одри, обнимая, раздевая его, избивая, защищая, исцеляя после операции на гениталиях, храня от дождя, от неловкого шага при сходе с яхты; в полдень, когда Одри и Серж, обнявшись, бродят по парку, оставляя на молодых побегах зарубки, плевки и следы от пуль, Эмилиана, сидящая на веранде, любовно подшивая рубашки и шорты Сержа, встает и, опустив свои сияющие глаза, подходит к стулу, на котором лежит куртка Одри; она проводит пальцами по вороту, скользит ладонью по подкладке, пахнущей чернилами и табаком; она ищет запах женщины — и вздрагивает, когда два друга в расстегнутых рубашках появляются на крыльце. Одри надевает куртку, на миг его плечо обнажается, и Фабиана замечает на нем белые точки — прививки, сделанные в детстве; она выбегает в парк и кричит, рыданьями заглушая крик, слезы орошают верх ее платья; расстегнув его, обнажив груди, она взбирается на магнолию и, усевшись на ветке — цветы на коленях, ресницы, груди, щеки обсыпаны пыльцой — склоняется над гнездом пурпурника и гладит птенцов, пока их мать охотится.
На ферме Игидера часовые разносят солдатам кофе. Начальник полиции ест вишни; дети Игидера в пижамах шарят пальцами в компотнице, плетеные стулья колют им ягодицы, одна девочка забыла гребень в растрепанных волосах, мальчик, сидящий на коленях у начальника полиции, тянет ладонь — тот сплевывает в нее косточки. Отец отозвал Одри в сторонку: они ходят по крыльцу; дети прижимают вишни к гениталиям и груди; слуги поднимают детей с высоких стульев и ведут в ванную; на заднем дворе пастухи ударами кнутов загоняют скотину, забрызганными молоком пальцами разглаживают рыжие волосы. Начальник полиции садится в свой джип, протягивает шоферу горсть вишен:
— Гони, Босфор. К исходу утра нужно быть в Тилисси. Фели наступают в горах. Всем зарядить оружие.
Солдаты рассаживаются по скамейкам, хрустят суставами в локтях и коленках, швы на штанах трещат; они снимают, сминают, трут камуфляжные кепи, сверху напяливают горячие каски, шнуры стучат по открытым шеям; они засыпают, прислонившись щекой к пыльному брезенту. В тени кузова жужжит скарабей, натыкаясь на головы. Молодой солдат просыпается, давит скарабея на вибрирующем железе.
— Блядь, пусть только сунутся эти фели. Я хочу драться, блядь, как ебаться, блядь.
— Гай Зодиак, щенок, заткнись, ты еще не нюхал ничего, кроме паровозного дыма… Накличешь беду.
Но сердце молодого солдата бешено бьется, он кладет руку на грудь, к медальону.
Повстанцы окружают их, разоружают; начальнику полиции у ног безоружных солдат вспороли живот, потом перерезали горло; кости и мышцы шеи скрипят под лезвием. Повстанец, перерезавший горло, поднимается, весь в крови, бежит к протоке, заходит в воду прямо в одежде, моет голову и руки; вокруг тел, в кровавых лужах, кишат муравьи, насекомые, черви; у сжатых губ живых и мертвых жужжат мухи; дрожащие солдаты прижаты к сырой стене, ноги в грязи, повстанцы пинают их ногами. Один из них показывает пальцем на солдата:
— Ты убил моего брата, этой зимой, в Якурене. С тех пор каждую ночь я мечтал провернуть кинжал в твоем горле. Все вы так презираете нас, что даже не считаете за людей. Вы, рабы, дети рабов. Он играл в бабки рядом с домом. Ты высунулся из машины, одним ударом палки раздробил ему спину, и ваша колонна с грохотом промчалась мимо. А вечером, в лагере, в столовой, когда ваш сержант готовился показывать вам кино, ты показывал палку товарищам, ты легонько бил по затылкам и спинам самым молодым и трусливым из вас; а ребенок, мой брат, будущий убийца твоих братьев, умер на руках у нашей матери, а ты у заграждения вышки дрочил, прислушиваясь к поцелуям и выстрелам на экране, и в опьянении своем взывал к своему немому богу, чье небытие и молчание ожесточает людские сердца.
Повстанец подходит к солдату, стволом винтовки поднимает ему подбородок. Он бьет его по щекам, ломает ему челюсть, солдат плачет, цепляется за товарищей, держится за челюсть; стоя на коленях в грязи, он ловит колени повстанца, хватает его за руки; отпихнув его, повстанец отходит и, быстро повернувшись, стреляет; солдат падает к ногам своих товарищей с разорванным пулей животом, скрюченные пальцы вцепились в пояс, из уголков губ хлынула кровь. Послышалась дробь морзянки; зарезанный радист нащупал ключ, передал короткую просьбу о помощи и упал головой в клочья конского волоса, вылезшего из разрубленного сиденья. Все повстанцы разбежались, кроме того, кто, с головой в мутной воде, мылся в протоке; вот он вынырнул и сделал над водой несколько взмахов брассом. Десантники из Игидера появились по обе стороны протоки, повстанец заметил их, его голова развернулась над водой, руки взметнули сноп брызг.
— Выходи, ты попался, ты один.
На поля, на края утесов садятся вертолеты, самолеты — истребители расстреливают беглецов, заросли дрока окрашиваются кровью; запыленные десантники выпрыгивают из вертушек с оружием в руках, бегут в зарослях дрока по высокой гладкой траве к протоке; повстанец хочет выплыть к реке. Освобожденные, вновь получившие оружие солдаты несут тела двух своих товарищей в машину, офицеры окружили тело начальника полиции, они выкрикивают приказы по радио, командуют солдатам, топчущимся у берега:
— Берите его живым!
— Господин капитан, это он зарезал господина Одри. Он всю протоку окрасил кровью. Ошалевшие рыбы кусали его за ноги. Посмотрите, господин капитан. Чтоб ему нахлебаться этой водицей!
Тело начальника полиции положено в джип; офицер, совсем молодой, в круглых очках в железной оправе, расправляет над ним брезентовый тент. У грузовика, скрежеща зубами, бьется в истерике Гай Зодиак, два товарища держат его за руки. Сержант хлещет его по белым щекам:
— Освежите его.
Солдаты толкают Гая к стене, нагибают ему шею и подставляют его голову под струю глинистой воды. Повстанец плывет к противоположному берегу, солдаты уже ждут его там, в руках винтовки, в зубах сигареты; повстанец выбивается из сил, солдаты швыряют камни ему в висок, он вцепляется рукой в прибрежный камень, один из солдат наступает ему на ладонь:
— Теперь тебя зажарят, Американец.
Повстанец стонет, солдат поднимает сапог, повстанец скользит в реку, хрипит, блюет, десантники топчут его в тростниках; его вытягивают на камень, ноги в песке, волосы кровью приклеены ко лбу; солдаты растопыривают его пальцы:
— Он весь в крови, Американец!
— Мы тебя прикончим аккуратно.
Они привязывают повстанца к машине, его ладонь, вывихнутая, с отпечатком сапога и ссадинами от камней, дрожит на колесе. Подходят офицеры:
— Если заговоришь, будешь жить. Нет — отдадим тебя нашим зверям.
Повстанец молчит. Офицеры отдают его солдатам; те раздвигают ноги повстанца, достают кинжалы, раздевают пленного, один из солдат, негр, берет в руку его член, тянет его, водит лезвием кинжала у основания, раздвигая волоски, потом, быстро взглянув в глаза повстанца, рассмеявшись, одним движением отрезает член; пленный кричит, солдат, присев, погружает в песок кинжал и руку, испачканную кровью и ошметками плоти; другие солдаты неторопливо перепасовывают друг другу ногами отрезанный член… По рукам, животу, лицу повстанца струится блестящий черный пот, живот судорожно втягивается и поднимается, солдат отбросил кинжал в сторону:
— Бумаги, быстро, газет, быстро!
Его распирает смех, он размахивает руками, солдаты рвут газеты, лежащие на дне фургона и в ящиках для взрывчатки, они бросают их между ног пленного. Негр достает зажигалку, сжимает ее в ладони, испачканной кровью с налипшим на нее песком, чиркает кремнем, подносит огонь к газете; пламя лижет задубевшую, закопченную рану, повстанец бьется головой о колесо, с его побелевших губ стекает красная слюна. Негр перед полыхающим костром пританцовывает, щелкая зажигалкой.
— Воды, воды, парни. Эй, Гай Зодиак, ребята, дайте ему похавать фелев ятаган! Жри войну, Гай Зодиак, жри войну!
Один из солдат набирает воды в тяжелую каску. Он возвращается к телу, льет воду на костер; залитое пламя опадает, шипящий пар на одно мгновение скрывает жертву; солдаты, прикрыв глаза ладонями, отходят. Молодой офицер в разбитых очках хватает окровавленную руку солдата-негра, зажигалка падает на камни:
— Хватит, Барклай. Складывай инструменты. Офицер оборачивается и блюет на кактус.
Два солдата берут тело пленного за ноги и за руки и закидывают в грузовик сопровождения:
— Заприте его в карцер вечером. И ни в коем случае не показывайте врачу.
Колонна трогается с места: Гай Зодиак спит, уперев потную голову в колено соседа. Барклай вытирает кинжал о брезент. Десантники из Игидера рассеялись по местности, вертолеты, легкие самолеты кружат над деревнями, пикируют, едва не сбивая крыши, на испуганных женщин, побросавших белье и щетки на вздымаемый винтами песок, и детей, прижавшихся к стенам сожженной, отстроенной и вновь сожженной школы; в стороне тяжелые вертолеты Сикорского вздымают пыль, песок и гальку вдоль русла рек, ломая ветки кустов, гоня перед собой сверкающие рои ос и птиц — они разбиваются о стекло и сталь кабины, забрызгивая защитную окраску зеленой, синей, черной кровью; их зловещие тени проносятся над лесами и болотами, сдувая пепел с пожарищ, песок с краев звериных нор, разбивая иссушенные солнцем скелеты и кучи гнили.
Крики и бред Гая Зодиака заполнили этаж. Когда солдаты переносили тело начальника полиции в его кабинет, Гай Зодиак бросился в первую оказавшуюся открытой комнату дворца, рухнул на кровать и, не сняв каску, зарылся головой в подушки; солдаты его поднимают, он вцепился зубами, покрытыми соленой пеной, в кружева простыней, руками — в спинку кровати. В заставленном пальмами стеклянном холле офицеры и солдаты курят, сидя на лестнице, стоя у кадок с пальмами и лаврами, лежа на красных и синих плюшевых диванах; беременная рабыня, склонившись, стирает с кафеля тряпкой следы крови начальника полиции; один из солдат сопровождения присаживается рядом, волоча приклад винтовки по мокрому кафелю; он смеется, гладит плечо рабыни, ее согнутую спину, ее бедра, потом груди, стянутые блузой, он кусает ее ухо, его слюна стекает в ушную раковину рабыни, он берет ее за руку, отнимает у нее тряпку, с силой разгибает пальцы; рабыня стонет, солдат прикладывает губы к ее уху, удерживая ее пальцы; рабыня склонила голову на плечо, слюна солдата стекает по напряженной шее; рабыня открывает глаза, прежде закрытые из-за того, что вокруг стояли солдаты: — Да.
Солдат отбрасывает тряпку сапогом, он затаскивает рабыню в заставленную ведрами и швабрами каморку в глубине холла, напротив кабинета; он опрокидывает ее во мрак, на тряпки и щетки, поднятая пыль оседает на их слипшихся губах; солдат кашляет, слюна и сопли солдата брызжут на нёбо рабыни, ее рот горит, солдат плюется, отстраняется, слюна и сопли волокнами дрожат меж его зубами и зубами рабыни; солдат кусает зубы рабыни, ее десны кровоточат; солдат расстегивает ширинку, распускает узел на блузе рабыни, завязанный в паху, чтобы освобождать ноги для работы, он ложится на рабыню, он впрыскивает ей свой яд — сперму, застоявшуюся во время резни. Рабыня, сотрясаемая его движениями, впивается ногтями в плечи солдата, щиплет гимнастерку, солдат, пришедший в ярость от этого проявления невольной нежности, хватает жестяную лопату, опускает ее на плечо рабыни, его член буравит голое чрево рабыни, вздымая внутренности и зародыш ребенка; сперма хлынула, заливая прядь волос в паху солдата; рабыня стонет, она ловит зубами волокна слюны и соплей и перекусывает их, ее волосы смешались со щетиной швабры; солдат вынимает член, встает на корточки, его размягченный член лежит на пуговицах ширинки, он берет лопату, бьет по животу рабыни, по своему члену, измазанному в грязи, сперма с тыльной стороны лопаты брызжет на лицо солдата, его веки, его брови, на мочки ушей, на складки гнева на его лбу, на смоченные слезами щеки:
— Она смеется надо мной, моя мышка из Экбатана. Она изменяет мне с заводскими корешами. Беременная. От них или от меня? Ребенок родится — отпуск будет. Если девочка — еще одну кралю будут после ебать. А тебе кто засадил? Я добавил туда и моих красок.
Гай Зодиак орошает подушку, солдаты сидят на постели, смотрят на стены, безделушки, портреты. На рабочем столе к стопке книг прислонена фотография Сержа и Одри, обнявшихся на палубе парома, пересекающего залив Энаменаса. Сумрак ночи наполнил комнату; от теплой ткани одеял и доносящихся из глубины дворца женских голосов и всхлипов члены солдат напряглись в форменных брюках; Гай Зодиак успокоился, его плечи обмякли и опустились на подушку, он уснул. Солдаты сверлят мрак усталыми глазами; шум шагов, шорох белья, звон флаконов наполняют их грустью, их горла сводит спазм, они опираются руками на винтовки.
Одри, на коленях в комнате покойного, подбородок на саване, поднял глаза на пронзенное горло отца. Служанки, мать, сестра промокают армейским бельем розовую кровь, еще сочащуюся из раны. Подобранный Одри в саду борделя маленький раб — после игр и несложных поручений начальник полиции сам любил купать его, при этом щекоча так, что еще долго после бани, ночью, на подушке, в глубине алькова малыш продолжал смеяться — вцепился в дерево смертного ложа ручонками, слезы стекают на открытый ворот его рубашки, офицер берет его за плечи, потом за шею, уводит из комнаты; Одри встает, бросается на офицера, освобождает маленького раба, берет его за руку, встает перед ним на колени, их головы соприкасаются на смятом саване; снаружи, у ворот дворца, собралась толпа; Одри слышит топот, женский вой, шмыганье детских носов, шорох лохмотьев. Он встает, протягивает руку к ране, отталкивает женские руки, накрывшие ее бельем, гладит запекшиеся струпья, смачивает палец в свежей крови, потом выбегает из комнаты: на площадке появляется Серж, за ухом — роза; шлюха, ребенка которой он накануне вырвал из рук Банделло, приколола ему цветок к виску, когда он спал после полудня, привалившись головой к заброшенной уборной; Одри хватает его за плечи и целует его подмышку сквозь легкую рубаху; потом он быстро спускается по лестнице, пересекает холл, вынимает винтовку из пирамиды, заряжает ее, расталкивает часовых, сидящих перед воротами дворца, стреляет в толпу, пока не кончаются патроны; ствол винтовки жжет ему руки, он прикладывает его к голому животу и держит; часовые удерживают его, толпа кричит, рассыпается; два ребенка и одна женщина копошатся на горячем асфальте. Часовые разоружают Одри:
— Ты все правильно сделал. Мы с тобой. Одри дрожит, офицер держит его за руку; женщины на площадке лестницы окружили мальчика; Одри лежит в своей комнате, на кровати, с которой недавно ушел Гай Зодиак, оставив вмятину от своего тяжелого, горячего, мокрого тела; у изголовья Бьетрикс, его сестра, его мать и Серж, прислонившийся к стенному шкафу; Одри стонет; с тех пор как он лег, он ни разу не перевернулся, его рубашка намокла под мышками, пот оставил длинный блестящий след на спине, от затылка до пояса.
Солдаты, офицеры, репортеры уходят ночью, размякший асфальт проминается под их шагами, трупы собраны, улицы пусты, песчинки, принесенные толпой, перекатываются по черной мостовой. Джипы, заполненные солдатами в касках, медленно едут вдоль тротуаров, стволы винтовок подняты вверх.
Гай Зодиак, оправившийся от лихорадки, винтовка на ремне, смывает водой пятна крови, собирает гильзы; он льет воду из каски на песок, струя воды блестит в лунном свете; он одевает каску на голову, плюет, заправляет прядь волос со лба под каску и возвращается в холл; двое часовых охраняют ворота; пупки торчат из-под пряжек ремня.
В нижнем городе собираются группы бедняков, подстрекаемые юным повстанцем, спустившимся с гор на шум выстрелов. Двое мертвых детей лежат в своих бараках, пули разорвали головы и животы; рядом с ними пьяные мужчины и отлучившиеся на время из борделя женщины. Командование приказало оставить все двери открытыми до утра. Взводы рассредоточиваются по нижнему городу, солдаты кидают камни в открытые двери. Женщины закрыли двери бараков, в которых остались лежать мертвые дети. Солдаты выламывают старые доски, поддевают замки кинжалами, кричат, стреляют в воздух; выломав двери, они готовятся, сжав в руках винтовки, убивать, насиловать, но видят лишь маленькие тела, лежащие во тьме на циновках и тряпках; солдаты останавливаются, опускают винтовки, некоторые преклоняют колени, крестят голову и грудь, пятятся к двери, смешиваются со спешащими на подмогу товарищами.
Ночь тепла; в верхнем городе фары, прожекторы, лампы покрыты сгоревшими насекомыми; тяжелые птицы перелетают с дерева на дерево; с берега реки доносятся крики и любовные призывы. Кмент сидит на затворе шлюза канала близ приюта, за городской чертой; он погрузил голые разбитые в кровь ноги в едкую теплую пену, плывущую с освещенного кожевенного завода; пена поднимается к его коленям, бедрам; он вынимает из-за пазухи кусок хлеба, вгрызается в него, потом встает, проходит, балансируя, по краю затвора, спрыгивает на землю, входит в заросли высокой травы, которая пачкает его щеки, соскальзывает к стене нижнего города, перешагивает заграждения из дерева и стали, забытые рогатки; он идет посреди пустынной улицы, вдоль открытых дверей и сточных канав, в темном течении которых он пытается выловить кусок мяса, рыбы, гнилой фрукт или заплесневелый хлеб; он слышит женский плач, короткие жаркие стоны удовольствия, приглушенный смех, удары, вздохи, просьбы, приказы, свистки, указания, которые дают пьяные клиенты проституткам; он улыбается и дрожит. Пена стекает по его ногам.
На вершине холма, за проволочным заграждением лагеря, десантники охотятся на кошек в кучах металлолома:
— Выходите, покажитесь, американские юристы.
— Целься в белого юриста под колесом.
— Вон еще один свернулся на покрышке. Барклай, береги татуировку на руке, он выпустил когти.
Они смеются взахлеб, они бьют котов прикладами, прикалывают к покрышкам кинжалами, сдирают с них шкуру, режут на куски, жарят на походной печке и едят в палатках после отбоя. Потом ложатся с набитыми животами и жирными губами. Над объедками кружатся мухи, жужжат над пыльными одеялами, над блестящими от жира губами.
Барклай вынул ладонь из-под одеяла, она вся в пятнах крови: последний кусок он съел полусырым; мухи кусают покрытую татуировкой руку. Снаружи часовые ходят по песку; клацают затворы, по периметру вышек гремят лестницы, ночь трепещет. Заспанные солдаты выходят из полицейского участка, под мышками накидки, карманы набиты журналами, сахаром, транзисторами; ночная свежесть сводит живот, холодит тяжелые веки, потные подмышки и бедра. У подножия деревянной вышки пьяный Джимми Боргезе качается, блюет, согнувшись, на железные ступени:
— Худо тебе, Джимми?
Спускается другой солдат, винтовка и накидка на плече, он спрыгивает на песок; Джимми Боргезе, — подбородок и грудь покрыты блевотиной, сверкающей в лунном свете, — вцепившись в поручень, поворачивается на каблуке: «Блядская армия, блядская армия», плюется, схлебывает блевотину, стонет:
— Мамочка. Все из-за этих блядских американцев. Десантники жрут юристов. Они развешали лапы и когти на колышки палаток, объедки выплевывали в помойные ведра… ты видел? Короче, обожрались, малыш. Наверху воняет спермой: Эбер Лобато пошел в первую смену, чтобы почитать «Сто двадцать позиций». Не садись на скамейку, он спускал на нее. Слышал, Джимми, альберты взбунтовались. Блядь, сбросить бы на них атомную бомбу!
— Да, чтоб не было больше ни американцев, ни альбертов, ни Джимми Боргезе.
— Правда, Джимми, я видел «Каравеллу», которая летела в пустыню с атомной бомбой.
Джимми Боргезе залезает на вышку, винтовка бьет его по груди, пуговицы гимнастерки цепляются за перила. Он вешает накидку на край ограждения, прислоняет винтовку к стальному листу, двигает прожектор; луч обшаривает колючую проволоку, рвы, болота, бараки в нижнем городе, кроны деревьев, кучи отбросов, сточные канавы вровень с землей, птичий помет и кучи дерьма на сыром песке, выводки спящих или ослепленных прожектором шакалов. Одинокий солдат утонул в теплом тумане, где даже первый крик петуха на заре едва слышен; проглоченный влажной тьмой, он наводит прожектор вверх, на горы, далекие, невесомые, холодные, слияние камня и мрака; Джимми Боргезе блуждает по ним взглядом, дышит их сумрачной высотой; его глаза закрываются, мошки, ударяясь о его лоб, скатываются по щекам; из баков грузовиков капает бензин, назойливо квакает одинокая древесная лягушка, Джимми гладит ее у воды, а Джеки, его брат, накрасив губы и ресницы, продает свое тело владельцам спортивных машин в Экбатане; вернувшись в деревню, парни с фермы связывают ему руки и ноги, бросают его в грязь, перерезают ему горло серпами и скребками, голова Джеки плавает в грязной воде болота, где мешаются его кровь и румяна.
— Эй, Джимми! Все в порядке? Ты не спишь ли, детка?
Сержант направляет фонарь на вышку; Джимми Боргезе, ослепленный, прикрывает глаза ладонью; он сидит на скамье, и сперма Эбера Лобато промочила его штаны на заду; он встает, дрожа, склоняется над ограждением, сержант ровняет песок башмаком:
— Там у десантников буча, они пришили Гекату, капитанову сучку, и съели ее. Капитан вот уже два часа лупцует их, лежащих на койках, своим ремнем. Собаку они съели не всю: только ляжки да потроха. Барклай привязал шнурками себе на голову ее уши и танцевал, голый, весь в кровище, тут входит капитан, как врежет Барклаю ремнем, тот головой врезался в печку. Капитан весь вспотел, лупит налево и направо, десантники, голые, прячутся под койками, закрываются вещмешками. Гай Зодиак зарылся в спальный мешок, выставил руку, пряжка ремня пробила ему ладонь, капитан набросился на Гая, разорвал ему рану.
Вся палатка забрызгана кровью. Горящие свечи падают на накидки. Капитан, весь в дыму и в пыли, хлещет по белым жопам, ползающим между горящими койками. Я выпустил зеков, они залили палатку водой, тент рухнул. Блядь, все, кроме Гая Зодиака, успели выбраться, попрятались в машинах, капитан бьет ремнем по огню, по золе, хлещет сам себя, хлещет зеков по рукам, прикованным к дужкам ведер, топчет пламя ногами, достает обугленные кости Гекаты, прижимает их к груди, целует их, обжигая губы, зеки вытаскивают из-под горящей кровати Гая Зодиака, тот без сознания, весь обгоревший, из раны хлещет кровь. Я взял его на руки и отнес в больницу. Капитан лезет на подножку машины, бьет десантников, набившихся в кабину, дрожащих от поднимающегося ветра; врач приводит капитана в чувство; его спаленные глаза полны слез. Механики из гаража собрали голых десантников и обгоревший мех под их палаткой. Они смазали их руки, губы, бедра кремом и маргарином, перевязали их ожоги, механики из гаража сварили для них на печке кофе; Барклай развязал шнурки, которыми привязывал уши Гекаты себе на голову, выпил три кварты кофе, зубами открыл большую бутылку пива, смочил свой член с розовыми губами пеной, поднимающейся из бутылки, одним глотком осушил бутылку, суча ногами по гальке; десантники бросились на свободные койки тех парней, что выехали на задание, и уснули, лежа на боку, прижав колени к подбородкам, выставив жопы — и холодный утренний ветер задувал им в дырки.
Утром, как и каждым утром, взводы патрулируют кварталы нижнего города; солдаты с красными руками поют, их глаза обшаривают фасады из самана и рифленого железа и раскрытые двери, стараются разглядеть сквозь стекла руку, плечо, обнаженную грудь; голый ребенок, присев на корточки в разоренном саду, пьет воду из смятой картонной коробки; в складках гимнастерок скопилась пыль; винтовки, стволом вниз, бьют по бедрам; от солдата пахнет пылью, потом и пивом, его хриплый голос становится звонким в резне; крестьяне, ремесленники, торговцы нижнего города нападают, вырезают солдат, проститутки их продают, но все их жалеют. Убивают не врага, но лишь его рабов.
Джохара поднимает корзину, доверху наполненную свежим бельем, прижимает ее к бедру. Кмент, завернувшись в грязные простыни, ест медовики, украденные на кухне борделя, потом встает, кладет пирожные на гладильную доску, берется рукой за корзину, смотрит Джохаре прямо в глаза:
— Позволь мне отнести эту корзину, Отдохни.
— У тебя липкие руки.
Джохара нежно отталкивает его, упирая корзину в голый живот парня. Кмент гладит ладонью пальцы девушки, пальцы ускользают, отступают, вцепляются в ручки корзины; Кмент улыбается, смотрит на трепещущую жилку на предплечье Джохары, его губы тянутся к ней, Джохара отступает в тень; кончики ее пальцев, ее губы, ее глаза светятся влажным блеском; даже складки ее платья на бедрах сверкают, как после ласки или крепкого объятья; лицо юноши мгновенно смягчилось, затрепетало, тень от век легла на щеки, взмахи ресниц словно покрыли лицо черной летучей вуалью; ладони юноши обняли бедра Джохары, поднялись к ее грудям; после Кмент нежно поднимает корзину из рук девушки и ставит ее на гладильную доску; Джохара прислонилась к стене, глубоко дышит, немного подняв голову, ее раскрытые ладони на мгновение легли вдоль бедер; и вновь яростные руки Кмента скользят по платью, лица их сблизились, горячее дыхание юноши обволакивает щеки и лоб Джохары, жжет ее глаза и губы; Кмент подталкивает Джохару в угол лавочки, где два гамака, прикрепленные к стенам, после дневных хлопот и порывистых движений прачек оказались сплетены друг с другом; он прижимает ее к гамаку, сетка сплетается и расплетается, скользит по платью Джохары, обвивается вокруг ее бедер, они стоят лицом к лицу, она уже не может опустить голову, их груди соприкасаются, ткань раскалена, рукав юноши обжигает плечо девушки; вокруг них, в них, над ними все сияет; вся кожа трепещет; Джохара боится и жаждет эту грудь, этот живот, эти губы, терзающие ее, этот взгляд, стирающий память, эту руку, разрушающую порядок, это колено, останавливающее время, она готова умереть, но она улыбается, ее зубы блеснули на краткий миг, и губы юноши, быстрые и свежие, сомкнулись на них; Джохара обняла его за бедра, слюна струится меж их губ, как млечный сок растений. Кмент привлекает Джохару к себе; освобожденные гамаки разошлись. Один взгляд юноши — и Джохара оторвалась от него и улеглась в первый гамак; Кмент ложится в тот, что расположен ближе к стене, в тени; перед его глазами солнечные лучи и молчаливая череда проходящих через двор прачек оживляют бамбуковую перегородку; юноша поворачивает голову к Джохаре и одним быстрым, но плавным движением бедер приближает свой гамак к гамаку Джохары; девушка лежит неподвижно; бедро юноши несколько раз коснулось ее бедра, с каждым разом плотнее, потом соприкасаются их плечи; с блуждающей по губам улыбкой юноша все раскачивает гамак в тени, насыщенной солнечной дымкой. Потом она поворачивает голову, видит через сетку гамака обнаженный торс юноши, пот, струящийся по впадинам ключиц, по груди, по испещренным тенями складкам живота, расстегнутую пряжку ремня, украденного у капитана артиллерии после любовного свидания, блестящую на бедре — острие застежки направлено на нее. Почти усыпленная, она отдается этому покачиванию, привыкает к прикосновению его бедер. Она задыхается, покрывается потом, ее набухшие груди понемногу выкатываются из платья, ее волосы, почерневшие от пота, рассыпаются по сетке; она не шевелится, боясь, что пот потечет по телу, ее глаза полуприкрыты словно бы восковыми ресницами, расставленные пальцы держатся за сетку; из-под опущенных ресниц она видит блестящий на доске утюг, беленую известью стену и воду в кружке, присыпанную красной пылью, принесенной ветром; мерные прикосновения бедра Кмента натерли ей кожу на боку; вот ладонь Кмента касается ее полуоткрытых грудей, скользит на верхнюю пуговицу платья; Джохара вздыхает, и этот вздох освежает пот, скопившийся над верхней губой; ладонь Джохары накрывает руку Кмента, ласкает кисть, тяжелую от пота, проникает между фалангами пальцев, отстраняет пальцы, тянущие пуговицу; на губах молодых людей появляется улыбка — улыбка воды, улыбка камня; созерцание и действие заключают союз, и от этого союза рождается улыбка. Их лица сближаются, юноша удерживает гамак Джохары, заносит руку над напрягшимися веревками, обнимает плечи девушки, потом быстро перекатывается в ее гамак; он обнимает ее; гамак под их тяжестью смыкается на их телах; сперма блестит, сверкает на сетке раскачивающегося гамака, прерывисто брызжет из-под их соединенных, стертых трением бедер.
Напротив, вверху, окна казармы заполнены задиристыми, пропыленными солдатами с голыми торсами, мокрыми волосами и полотенцами вокруг шеи.
Эбер Лобато разжимает ладони, пропитавшиеся ржавчиной и кровью; весь день в порту он разгружал вагоны с металлоломом; по его груди струится красный пот; золотисто-красная пыль блестит на его волосах и ресницах, на пушке, растущем на животе и над верхней губой, рыжая слюна стекает меж зубов на подбородок.
Эбер Лобато входит в душ, сдирает с себя трусы, вешает на трубу; голые солдаты боксируют под струями воды, пальцы их ног цепляются за сломанные рейки; все мочатся себе на ноги; они поднимают члены, сравнивают, у кого больше; Эбер Лобато берет свой член в кулак:
— Поглядите на мой. Когда мне было пятнадцать лет, экбатанские шлюхи провозгласили его королем.
Лежа в палатке, спина стянута мокрой майкой с пятнами ржавчины на складках, ладони скрещены под затылком, Эбер Лобато облизывает губы; его иссиня — черные волосы блестят на свернутой овчине, подложенной под голову вместо подушки; Эбер Лобато поворачивает голову, кусает шерсть, сплевывает ее, проводит губами по плевку; его бедра — кожа на костях стерта — хрустят, горячий член встает и скатывается по ляжке, натягивает легкую влажную ткань, Эбер Лобато переворачивается на живот, трется членом о пропыленное одеяло, ресницы смешиваются с прядями меха, ноздри раздуваются от запаха овчины.
В порту мимо них проходил мальчишка с бутылками холодной газировки, вынутыми из колодца; они схватили его за плечи, отобрали бутылки; встав на колени, мальчик целует их покрытые ржавой пылью сапоги. Эбер Лобато пинает мальчика сапогом в грудь, тот падает на кучу железа и кирпичей; солдаты пьют холодную газировку, разбивают пустые бутылки о стену; мальчик с проколотыми колючей проволокой ягодицами встает, бросается на солдат, те отталкивают его, бьют испачканными ржавчиной и смазкой руками по щекам, по плечам, по лохмотьям, завязанным на бедрах и болтающимся на груди и на животе; они напяливают ему на голову, до глаз, тяжелую каску Эбера Лобато и стучат по ней клещами для резки проволоки. Мальчик плачет навзрыд под белым солнцем. По берегу моря, скрипя, дрожа, рассекая наполненный солнцем воздух, мчатся джипы; они дробят пласты мела, прошивают янтарный воздух, давят кактусы; горячая жесть под задами солдат забрызгана млечным соком растений. Белые следы от ударов на теле мальчика багровеют, он сдирает с головы каску, бросает ее под ноги Эбера Лобато и убегает, сотрясаясь от рыданий.
По пятам за солдатами, покидающими опустевший порт, где на рельсах блестит заходящее солнце, следует свора собак, грызущихся за кусок гниющего мяса, который солдаты вытащили из-под кучи железа и теперь тянут за собой по пыли. Мясо шмякается об асфальт, собачьи клыки лязгают в синей тиши, мухи набрасываются на собак — те хватают их пастью и выплевывают — и на кусок мяса, который, переворачиваясь, давит их. Мальчик с висками, разбитыми застежками каски, бежит за деревьями в свежей зеленой тени старых колодцев. Лежащие в дорожной пыли осколки стекла режут десны разъяренных собак.
Солдаты, лежа на циновках, листают комиксы; на пальцах, влажных после душа, остаются отпечатки типографской краски. Голубое солнце пробивает брезент палатки; мухи жужжат на вырезе майки Эбера Лобато, перевернувшегося на спину, они заползают в пах, ползают по пряди волос; член Эбера Лобато твердеет, набухающая головка пульсирует под растянувшейся крайней плотью, он с силой сдвигает ляжки, попавшиеся в плен мухи жужжат и кусают член. Перед палаткой усталые солдаты — плоть отягощена, но дух бодр — сидят, опираясь на растяжки — брезент натянулся под их спинами и задами — дышат вечерней прохладой; шум равнины удаляется в море: моторы, машины, молоты, пилы, серпы, дети, рабы; красный песок стекает по склонам утесов и карьеров на зеленые пальмы, на раскаленный металл шлюзовых затворов, в еще напоенной солнцем тени ссыпается с гамаков и шевелюр.
Кардинал идет по саду, его ноги, обутые в кожу и мех, затекли от ожидания и неподвижности. Он мечтает об одинокой трапезе, которая скоро будет накрыта для него в свежем, приятно пахнущем зале, о белых руках молодой монашки на скатерти, о ее округлых, как яблоки, грудях. В зарослях самшита порхают птицы, по розовым кустам ползают скарабеи. Он встречался с капелланами, те уверили его в религиозной чистоте войск. С начала войны дух его спит, он не видит войны вокруг; он удивляется выстрелам и взрывам, множеству искалеченных детей и вдов, удивляется прерывистому дыханию коленопреклоненных солдат, принимающих из его рук причастие. Сюда, за деревья ограды, не доходят запахи крови и дыма; раб — садовник каждый вечер собирает гниющие трупы животных. Ночью в бассейнах плавают крысы, но кардинал спит за узорчатой занавеской, скрестив руки на груди; на столик у изголовья, под лампу, у ножки которой чернеет маленькая фотография мальчика в матроске, ладони сложены между раздвинутых ног в коротких синих штанишках, сестра поставила флаконы, стакан, графин с холодной водой; по ночам кардинал часто внезапно просыпается, встает на колени, глядя на лик фатоватого святого с окровавленным лбом, складывает ладони и молится; потом осторожно ложится на спину и снова засыпает под шум моря. Морские волны и ветер с гор убаюкивают узников и рабов. Перед окном кардинала дрожит на ветру большой ирис.
Сестра, лежа в алькове, гонит дурные мысли, распускает волосы, расстегивает ворот платья, кладет ладони на грудь, молится, остановив взгляд на теплой беленой известью стене. Порыв ветра доносит в альков запахи травы и мужчины; сестра молится, сжимая грудь. Снаружи журчащие источники разносят запах крови и млечного сока растений, привкус спермы; стволы эвкалиптов хрустят, как суставы рук, блестят, как колени; колеблемые ветром кроны раскидываются, точно черные, блестящие от пота волосы на подушке. В свежем сумраке на земле и на сухом песке судорожно совокупляются светлячки.
Кардинал боится холода, он любит конфеты, у него нет больше желаний, его не волнуют больше ни женщины, ни даже долговязые подростки, ныряющие в бассейн; давным — давно, в колледже Экбатана, в его комнате они раскрывали ему свои мятущиеся души, голые ноги на красном бархате кресла. Перед дверью, после исповеди, он гладит их омытые слезами щеки, его рука опускается на покрытый мягким пушком затылок, трогает позвонки на спине, нежно и беззащитно прокатывающиеся под его пальцами. На прогулках, в летних лагерях, ученики позволяют «мамочке» выкручивать себе руки и дергать за волосы. Летом он коротает дни, рассеянно наблюдая за играми обнаженных школьников в зеленоватой отфильтрованной воде бассейна. Мальчики уважают его за то, что он был армейским капелланом. Они воображают, что его прихрамывание — сбежавший от разведенной матери приятель, курильщик и зазывала в борделе, ударил его за то, что он выдал его Отцу Настоятелю — последствие фронтового ранения. Над Экбатаном сияет лето; он старается согласовать с родителями пребывание самых красивых мальчиков в лагере:
— Вашему мальчику нужно жить в коллективе. Воздух закалит его.
— У вашего мальчика слабые ноги, езда на велосипеде их разовьет. Одежда легкая, самая легкая.
Вечером желания гонят его с постели; ящик его письменного стола переполнен конфискованными газетами, иллюстрированными журналами, фотографиями обнаженных женщин, скомканными бумажками, на которых он яростно выводит по сто раз за ночь имена и инициалы любимых мальчиков. Он встает, подходит к окну, высовывается из него, гладит глицинию, дрожащую от птиц и ночного ветра. Он погружается с головой в это ароматное озеро, смиряющее и пробуждающее желания.
Он вслушивается в шорох листьев у бассейна, в плеск воды, зеленеющей на цементе и мраморе.
Он выходит, с расстегнутым воротником сутаны идет по коридору, к дортуару. Внезапно на углу он встречает мальчика босиком, пуговицы пижамы расстегнуты:
— Куда ты, Жан-Батист?
— Подышать воздухом. В дортуаре воняет какой-то отравой.
— Ты же знаешь, что не имеешь права выходить. Ты должен спать в руках Божьих.
— Да, но я не сделаю ничего дурного, и потом я хотел бы полюбоваться ночью. Они спускаются по лестнице.
— Но ты босиком?
— У Океана всегда ходят босиком, даже по чертополоху. И Кэйт тоже. Она вместе с нами дерется с мальчишками, которые сталкивают маленьких рабов в крапиву.
У подножья лестницы вечнозеленая пальма гладит мальчика по бедру, он берет священника за руку. Они проходят галерею; лежащие на земле осколки стекла — лабораторных сосудов, брошенных студентами — сверкают в лунном свете:
— Ты не боишься порезаться?
— Вы слижете мне кровь… мои подошвы дубленые, как у чертей. А вы почему не спите, отец мой?
— В моем возрасте уже почти не спят.
— Почему?
— Бог велит бодрствовать.
Мальчик протягивает руку, его ладонь скользит по ограде теннисного корта, на асфальте блестят лужи, наполненные гниющими листьями, пролетающие птицы задевают сетку. В долине гудят, трещат заводы и вокзалы, испуская пучки лучей то в небо, то на верхушки деревьев. Мальчик подносит к губам руку, испачканную ржавчиной, вдоль ограды розы дрожат, как после дождя.
— Искупайся, Жан — Батист, ночь тепла и светла.
— Это запрещено.
— Купайся, я тебе разрешаю.
— Настоятель еще не спит, его окно освещено, вдруг он услышит шум воды?.. Вы останетесь у бассейна, чтобы объяснить?
— Купайся голым, мы же оба — мужчины. Ну же!
Мальчик шлепает по цементу, прячется за вышкой для ныряния, снимает рубаху; его руки и ноги дрожат, ветерок шевелит пушок внизу его живота; мальчик развязывает штаны, они скользят по бедрам на ступни, он переступает через них, быстро бежит к воде и ныряет; священнику на миг открывается белое тело, питаемое просом, шпинатом и черносливом — напрягшиеся мышцы еще не обрели рельеф, короткий член болтается между ляжек; он заметил также быстрый проницательный взгляд, который мальчик бросил на него перед погружением в воду; обхватив голову руками, священник качает ею из стороны в сторону; мальчик выныривает, трясет головой над вспененной водой, глубоко дышит, ныряет снова; вот он уже вцепился в стену, живот словно разрезан пополам черной водой, и вслушивается в шорох листьев, сплетенных со столбами ограды, в одинокие крики проституток на освещенной улице напротив дрожащей завесы листвы; священник, облокотившись на стальную балюстраду, улыбается запыхавшемуся ребенку, маленькому совращенному зверенышу, освобожденному надзирателем из любви; дыхание ребенка участилось, запретное удовольствие распирает его, горло трется о цемент. Земля вокруг бассейна черна и прохладна, замусорена конфетными обертками, шнурками и застежками от сандалий, трава полегла.
Мальчик переводит дыхание в лунном свете, волосы прилипли ко лбу, по подбородку течет вода, на горле блестит слюна.
— Еще разок, отец мой?
— Да, только смотри не простудись.
Мальчик ныряет, священник видит его расправившееся под водой тело, крутящееся, изгибающееся, от рук и ног брызжет пена; мальчик переворачивается на спину, ложится на воду, раскинув руки и ноги, трусы надулись пузырем, внутри колышется член. Священник, расстегнув сутану до пояса, вцепился руками в ограду:
— Выходи из воды и одевайся.
Ребенок, напуганный этим криком, почти рыданием, неподвижно замер в воде:
— Уже, отец мой?
— Выходи из воды. Я вижу, как вокруг твоей шеи расплывается кровавое пятно… Впрочем, останься еще ненадолго.
Но ребенок уже вылез из бассейна, стоит босиком на сырой земле, рукой прикрывая срам из страха перед гневом священника, и не может больше нырнуть. Он бежит по цементному полу, размахивая руками, бьет себя в грудь ладонями, прячется за вышкой, вытирает мокрое тело смятой пижамой, одевается. Потом, дрожа, подходит к священнику, ткань пижамы прилипла к коленям и животу.
Они молча идут по галерее, рука священника сжимает мокрую, трепещущую руку мальчика. Перед дверью дортуара он склоняется к мальчику, проводит ладонью по его пахнущей водой щеке:
— Поцелуй меня; у вас, детей, все так чисто и естественно. Мальчик быстро, встав на цыпочки, целует щеку священника, открывает дверь и убегает в зловонную тьму. Кардинал засыпает на своей постели.
Иллитан, вождь повстанцев, до утра остановился в Энаменасе. Он своими руками задушил двух предателей, их детей выгнал из домов, а жен забрал себе. Трупы волочили в пыли по улице. Детей повстанцы прогнали, они, плача, проходят по кварталам нижнего города к освещенным кустам в садике борделя. Иллитан спит с двумя женщинами.
Серж крутится на постели; несчастный Одри лежит, дрожа, на своей постели, мать гладит его по голове, Бьетрикс — по животу. Одри, весь окутанный сетью слез и рыданий, стеная, понемногу переводит дыхание, словно бьющееся в грязи животное, загнанное и плененное. Теперь он волен убивать, насиловать, отдаваться мужчинам. Серж, склонившись над открытым окном, голый, простыня сползает на пол, трется щекой о ставень.
Напротив солдаты, отправляясь в засаду, складывают палатки. В теплой, напоенной запахом гнили ночи клацают застежки ремней. Под палатками одеяла, циновки, колышки — все в пятнах ржавчины; крыса, забрызганная дерьмом, бежит вдоль стен госпиталя, прыгает по невысоким цементным ступеням, протискивается в незапертую дверь: внутри, тяжело дыша, спят Гай Зодиак и Барклай; крыса подбегает к койкам, дергает зубами шнурки ботинок и края одеял, свисающих на пыльный пол, пьет из лужиц кофе и кровь, грызет остатки печенья, нюхает кровавые плевки и капли гноя; ладонь раненой руки Гая Зодиака свесилась с кровати, крыса вцепляется в повязку, тянет, бинт разматывается, Гай Зодиак, внезапно разбуженный, блюет на натянувшийся брезент раскладушки.
— Караул! Убийцы! Барклай, на помощь!
Крыса вцепилась в рану, Гай Зодиак кричит, трясет руку, крыса еще глубже вонзает свои острые зубы; Гай Зодиак бьет крысу здоровой рукой — зубы впиваются дальше, смыкаются на рваной ране. Барклай, голый, беспомощный, дрожащий, по ногам стекает моча, прыгает к подножию кровати; Гай Зодиак поворачивает ладонь, крыса, ударившись о бамбуковые планки москитной сетки, пищит. Молча подкрадывается Барклай, его раскрытый нож сверкает сквозь грязную сетку; Барклай присаживается на корточки, его ступни погружаются в теплые экскременты, он тянется сквозь сетку и удерживает руку Гая; крыса, оглушенная, не движется, Барклай бьет ее ножом по горлу, разжимает пальцами ее челюсти, вынимает зубы из раны и отрубает крысе голову; Гай Зодиак хрипит, на его лбу и обнаженной груди выступает черный пот, крыса падает сквозь рваную, окровавленную противомоскитную сетку; луна освещает сетку и руку, из которой струится свежая кровь; Барклай давит крысу ногой на цементном полу, он берет Гая на руки, выходит в ночь и несет раненого в центральный госпиталь, искромсанная рука Гая Зодиака бьется о голое бедро Барклая, Барклай гладит обгоревшие волосы Гая; меж пальцев его ног прыгают родившиеся три дня назад лягушата, покорные, суетящиеся, никому не нужные — рабы.
В центральном госпитале два солдата, сжимая в руках зеленые носилки, спят за белым столом, уткнувшись лбами в полированное дерево. Барклай укладывает Гая Зодиака на складную кровать.
Черное лицо Гая Зодиака запрокинуто, его бедра и живот окоченели, но он еще хрипит. На кафельном полу, среди осколков ампул, окровавленных обрывков бинтов и клочков ваты, пропитанных дерьмом, стонет полуголый повстанец; его штаны испятнаны прохладным илом, рот открыт, лицо опухло, под ногтями кровь. Два санитара проснулись.
Появляется военный врач, вокруг его шеи обмотан портновский метр; мучимый бессонницей, он до утра собирает шкафы с ящиками для медикаментов. Санитары подают ему бинты и флаконы, между делом пиная повстанца, чтобы тот молчал.
Гай Зодиак умирает, кожа его почернела, мышцы напряглись, сжатые губы набухли и прижались к зубам. На заре, поскольку для него не нашлось места в штабном вертолете, раз в неделю отлетающем в Экбатан, где врачи могли бы его спасти, он умер. Тогда санитары и часовые по возвращении из полицейского участка — они любят госпитальный кофе — набросились на повстанца, расцарапали ему лицо обломками ампул и гнутыми иглами для шприцев. Повстанец стонет, его колени дергаются, солдаты пляшут на его животе; Барклай, сидя на постели умершего, закрыл ему ладонью глаза:
— Не смотри на месть, Гай Зодиак, не смотри на их танец. Уходи под землю под их топот и смертную ярость.
Но не возвращайся, будь глух к их крикам.
Часовые оставили повстанца, они моют руки, причесываются; солнце заливает бараки, зажигает железо и медь. Санитары обмывают тело Гая Зодиака, промывают его рану, следы крысиных зубов на разорванной плоти, соскабливают гарь с ожогов; затем они одевают его в новую гимнастерку, относят его тело в кабинет командного пункта, покрывают его легким чистым флагом, капитан отдает ему честь, прикладывая ладонь к обгоревшему виску. Весь день писари, интенданты, маркитанты снуют перед телом, один из них поднимает знамя на лице:
— Скорее мертв, чем жив…
В центральном госпитале хрипит повстанец с отбитыми почками, вырванным глазом, разорванными губами; солнце жжет раны на его лице и животе.
Часовой, посланный капитаном, заходит и приканчивает его одной пулей из пистолета, одолженного у солдата — добровольца. Чуть погодя, часовые выносят труп и бросают его за бараки, на кучу навоза. Навозными вилами они накидывают на него солому и сено. Зубья вил скользят по шее повстанца, протыкают губы и брови; вынимая вилы, солдаты расширяют раны. Потом они вытирают вилы о солому. С другой стороны колючей проволоки голая девочка наблюдает за солдатами; она обгладывает кость; под эвкалиптами дерутся двое мальчишек, их руки и ноги царапают землю, отбрасывают сухое собачье и верблюжье дерьмо; один из них между ног другого, расставленных над его лицом, видит кость во рту девочки, он встает, бежит к девочке, хватает ее за плечи, вырывает кость у нее из рук, бьет ее по животу, девочка падает в пыль, двое мальчишек дерутся из-за обслюнявленной, покрытой пылью кости. Побежденный падает на неподвижное тело девочки, его ладонь проникает в рот ребенка, разрывает ее губы, потом опускается, мальчик встает и, держась за живот и плача, бежит к кустам, расцвеченным лохмотьями женщин и детей. Другой мальчик, усевшись на живот неподвижно лежащей девочки, гложет кость и рычит.
Часовой рядом с Сержем ходит тяжелыми шагами, прижав руки к бедрам. Кричат птицы, их крылья трепещут в дырах на стене. Серж думает о сердце Одри. Одри, счастливый, говорил:
— У меня пурпурники в груди.
Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь красную листву, нагревают подошвы сандалий Сержа, покачивающиеся в легком воздухе цветы осушают ночную влагу на его коленях и бедрах; на платформе, что возвышается над портом, Банделло, в гражданской одежде, склонился над играющими маленькими рабами, он достает из кармана своих джинсов агаты; маленькие рабы смеются, позволяют Банделло щекотать их между ног; он увлекает их за собой, заводит в заброшенный склад и закрывает там до вечера; дети стучат в стены своими кулачками, садятся к двери, там, где из-под нее проникает солнечный лучик; они бросают свои шарики, свои агаты на цемент, пропитанный бензином и навозом, и те блестят, пересекая солнечный луч; ночью Банделло, бесшумно приоткрыв дверь, хватает спящих рабов, затыкает им рты и ведет на мясной склад, где молодой сторож запирает их в ящик.
Энаменас встречает нового демократического лидера Экбатана. Восторженная толпа осаждает двери дворца и стадиона; корабли, крейсера, пароходы до вечера украшены флагами. Толпа следует за машинами кортежа; на проспекте Демократии Энаменаса, еще дрожащем от прохода толпы, голый мальчик с разорванным ухом роется в помойном бачке; он вытаскивает гнилые фрукты и отвратительные медовые пирожные, выброшенные толпой; его голова и плечи погружаются в чрево помойки; настороженные кошки, прижав животы к жести, царапают ему голову, мальчик ест прямо в бачке, разгрызая зубами отбросы, раздвигая руками праздничную блевотину; кошки вырывают куски у него изо рта.
Чуть позже, мальчик сидит во дворике, на который выходят ставни кухонь; служанки толкают и бьют его скалками; мальчик смотрит на рыбу, выброшенную одной из служанок на залитый цементом двор; кошка, изготовившаяся к прыжку на краю сливного желоба, мышцы напряжены, смотрит на рыбу и на мальчика. Мальчик кидается к рыбе, но быстрая кошка прыгает и хватает ее; она вскарабкивается на конек крыши и пожирает ее блестящую полоску. В полутьме кухни смеются служанки; рыбий хребет скользит по черепице и падает на цемент, мальчик хватает его пальцами, оборачивается к стене, присаживается на корточки; он сосет, грызет хребет, давится, бежит к колодцу, пьет; окна кухонь гаснут, служанки, с лентами в волосах, пересекают двор, закрывают на ключ клети и кладовые, где хранятся фрукты, мясо и зерно и уходят на праздник на стадион; они идут под шум громкоговорителей, и их груди покачиваются под надушенными блузами. Мальчик остался один; все еще тяжело дыша, он подходит к закрытым дверям, вдыхает запах наваленных, прислоненных к дверям фруктов и окороков, слизывает лужицы сока и крови, текущие из-под двери, следы, оставленные испачканными руками разносчиков на задвижках.
Серж после колледжа и купания в море бежит во дворец полиции; двери открыты, солдаты с накидками в руках толкутся на лестнице. Серж входит в комнату Одри, юноша встает с кровати, он позволяет матери и Бьетрикс одеть и причесать его:
— Он уезжает в тюрьму Элё в горах. Со вчерашнего дня ничего не говорит. Не хочет видеть никого из родни.
Всю ночь его лихорадило.
Бьетрикс, выйдя из комнаты, спустившись по лестнице в холл, проводит рукой по ружьям в пирамиде; для нее то, что служило для расстрела, еще дрожит, еще не остыло.
— Серж, ты не из тех, кто носит оружие. Мой зайчик, я хочу поехать с тобой в Элё, я жила бы в хибарке рядом с Центром и вечерами ласкала бы, целовала бы твои руки, еще дрожащие от отбойного молотка и всех этих рабских инструментов. Серж, и ты тоже убей и поехали с нами в Элё. Убей, во время агонии твоей матери они кричали под окнами, чтобы смягчить твоего отца и сделать его участником их бунта.
— Он убивал детей…
— Бьетрикс!
И вдруг Одри издает протяжный крик умирающего зверя.
Иллитан, вождь повстанцев, после соития, спит, лежа на взятых им женщинах, лицом к земле, запустив ладони в их тяжелые, влажные волосы, раскинув колени между их запыленных бедер и ног.
У входа в дом, опершись на открытую дверь, стоит на посту молодой повстанец с автоматом в руках; его глаза блестят под длинными ресницами.
На другом конце улицы группа настороженных детей наблюдает за часовым. При малейшем его движении они убегают.
Женщины, возвращающиеся с поля или реки с кувшинами и вязанками хвороста на головах, не решаются пройти перед домом, но молодой солдат заметил их и направил на них автомат; женщины разбегаются, потом собираются снова и бегут вдоль стены; под угрозой оружия они проходят вереницей перед повстанцем: тот гладит их руками и прикладом автомата по плечам и грудям, грубо запускает руку под платья, задирая их, разрывая ткань, хватает за плечи, за руки, за горло; ствол автомата обшаривает спины и животы, ремень обвивает шеи; солдат привлекает одну из женщин к себе, прижимает ее к двери, прогоняет других женщин; женщина роняет свой кувшин, тот разбивается на куски; Иллитан ворочается на своих женщинах, молодой повстанец отпускает ее, женщина остается у двери; Иллитан успокоился, солдат возвращается, прижимает женщину к себе, дверь скрипит под их тяжестью, солдат кусает женщину в губы, в плечи, коленом раздвигает ей ноги, прижимает ее руки к деревянной двери, впивается губами ей в рот; вокруг вздымается пыль; в сверкающих ручьях кричат дети; солдат упирается и овладевает женщиной.
За его спиной занесен кинжал, холодное лезвие поднимается, быстро скользит по шее и впивается в горло солдата; тот отрывается от женщины, его лицо бледнеет, синие, почти фиолетовые губы, раскрываются, он падает навзничь. Иллитан подбирает оружие, проворачивает кинжал в ране; сухой скрип лезвия о кость, ослепительный полдень, шум насекомых под палой листвой. Иллитан вынимает кинжал из кровоточащей туши; голые женщины в глубине двора встают, пятятся к стене, их накрашенные ресницы блестят из-под пальцев.
Иллитан вонзает кинжал в землю, дважды свистит, из дома напротив выходит молодой солдат:
— Убери этого предателя, унеси его в свой дом.
Он пинает ногой мертвую голову, поворачивается к женщине, берет ее за плечо и ведет на свое ложе, наваливается на нее, разрывает на ней платье, впивается в ее рот, делает знак рукой; две другие женщины подходят и ложатся по бокам, они говорят ему льстивые слова, ласкают его бедра, спину, грудь, член. Иллитан, навалившись на женщину, катается, крутится, стеная, по ней, стоящий член путается в лохмотьях платья; голова женщины катается в пыли; мухи, блестящие в лучах солнца, ползают между пальцев мужчины, между потных грудей женщины, садятся на черные от пота и краски брови. Два тела блестят в пыли, Иллитан скользит по женщине, его пальцы скребут землю, поднятая пыль оседает на плечи мужчины. Солдат оборачивается на мгновение, его сердце учащенно бьется, он прижимается животом к стене, ткань гимнастерки мнется, пачкается об известку; в дальнем конце деревни поет петух.
Ночью Иллитан выходит из дома, застегивает пуговицы, пряжки военной формы, зашнуровывает ботинки на усталых ногах, ткань липнет к его животу, к мокрым ляжкам. Ночь прохладна; солдаты выходят из домов и присоединяются к своему командиру; труп молодого повстанца брошен возле уборной, запрокинутая голова на грязной земле, горло и грудь покрыты кровавым месивом; он раздет до пояса; дверь уборной привязана веревкой; иногда оттуда на волосы казненного вытекает ручеек. За деревянной перегородкой звякают мелкие камешки, течение уносит их в водопад. Иллитан и его люди бегут среди кактусов, винтовки касаются горячего песка; птички с теплыми хохолками выпархивают из кустов, пролетают у солдат между ног.
Командир растолкал Крейзи Хорса, спящего на циновке. Солдаты поднимаются, застегивают ремни, берут винтовки из пирамиды и выходят из палаток. Все смотрят на лунное небо. Они идут вдоль пересыхающего русла, спотыкаясь о порожки, из-под которых выскакивают рыбы и гадюки; у воды копошатся букашки, открытые ракушки освещены луной. В одном месте из-за обвала русло реки наполнилось бурлящей водой. Колонна поворачивает направо, уходя от песчаного берега в заросли кактусов; здесь расположились приползшие с реки жабы — быки, солдаты наступают на них, ноги скользят, трепещут, солдаты подпрыгивают, некоторые оступаются, падают, винтовки цепляются за кактусы.
Крейзи Хорс идет за командиром, засунув ладонь между ног. Небо над ними — как скала, по которой ползают светящиеся звери. Внезапный шум; командир, сделав знак ладонью, ложится плашмя; солдаты один за другим бросаются на покрытую колючками землю, накрывая винтовки; на вершине холма, между светящимися верхушками кактусов, видны тени. Солдаты ползут по земле, сочащиеся обломки кактусов освежают их лица, иглы впиваются в подбородки. Тени на холме колышутся между кактусами. Тропа, по которой ползут солдаты, ведет на вершину холма. Повстанцы бегут, прыгают, легкие в своих сандалиях. Солдаты приближаются к вершине; в конце тропы они видят скачущие силуэты повстанцев; они стреляют, каждый — над плечом идущего впереди; один из них встает во весь рост, отскакивает в сторону с ручным пулеметом, устанавливает его между кактусами; другой солдат кидается в кактусы, открывает подсумок и заряжает пулемет; повстанцы — двое уже прошиты очередями пулеметов — бегут, прячутся в кактусах; пули разрывают кактусы; Крейзи Хорс, раненый в плечо, падает навзничь, потом встает, подбирает винтовку, снова падает на песок. Иллитан, прячась за трупом, обстреливает тропу, два солдата падают, воют, трутся животами о горячий песок; командир, Крейзи Хорс и два раненых солдата отступают к реке, скользят по дюне, снова поднимаются на холм и нападают на повстанцев с тылу; Иллитан один на холме, его рука, еще покрытая кровью молодого повстанца, дрожит на раскаленном стволе; три солдата окружают его и стреляют ему по ногам; Иллитан падает вперед, скрестив руки; трупы повстанцев вокруг него еще дрожат на разорванных пулями кактусах. Солдаты разоружают его; Крейзи Хорс берет себе кинжал:
— Командир, он весь в крови.
— Оставь его себе.
— Я буду резать им хлеб!
Плечо его болит, он потирает его ладонью другой руки; лицо его покрыто колючками; пуля прошла под мышкой, командир вынимает из кармана Крейзи Хорса платок и перевязывает им рану, потом спускается к двум солдатам, скорчившимся на тропе, кладет ладонь им на грудь, сердце не бьется; командир смахивает со лбов слипшиеся от крови волосы, расстегивает разлохматившиеся ремни, складывает пробитые пулями ладони на груди; наверху Крейзи Хорс и два других солдата бьют лежащего на земле Иллитана; они поднимают ему голову, подсовывают под нее кусок кактуса, потом три раза бьют его лицом о колючки:
— Не убивайте его.
Солдаты отходят, Крейзи Хорс наклоняется над трупом повстанца, другой солдат вынимает нож:
— Постой, этот мой, это я его завалил.
Губы убитого еще дрожат; Крейзи Хорс снова наклоняется, достает кинжал Иллитана, берет убитого за ухо и обрезает его у основания, отрезав и второе ухо, он кладет их в карман штанов, ткань вскоре темнеет, кровь, еще теплая, просачивается через ткань и течет по бедру Крейзи Хорса:
— Будто женская рука тебя ласкает.
Два других солдата отрезают у убитых уши, потом один из них хватает Иллитана за ноги и волочит к тропе, голова подпрыгивает на камнях. Когда солдаты увидели своих товарищей убитыми и искалеченными, они сорвали с Иллитана одежду и били его кусками кактуса, они расстегивали ширинки и мочились на его бритое лицо, на его израненную грудь.
Выместив злость на Иллитане, Крейзи Хорс бледнеет и падает без сознания к ногам товарищей. Продолжая тащить Иллитана за ноги, они подносят Крейзи Хорса к воде, омывают ему лицо. С первыми проблесками зари все — живые, мертвые, раненые — оказались у стен лагеря. Крейзи Хорс соскальзывает по стене на землю и погружается в забытье; под его ногами бегает мышь. Над головами солдат перелетают с дерева на дерево, порой издавая протяжные крики, крупные птицы; потом они исчезают в пепельно — сером небе. Часовой поднимает шлагбаум, солдаты входят в лагерь, только Крейзи Хорс остался спать на земле. Часовой поднимает его, относит в караулку и укладывает на стол. Часовые встают с циновок. Тот, чей пост находится у госпиталя, берет Крейзи Хорса на руки, начальник караула накрывает раненого дырявым одеялом. Часовой на вышке ожил, он складывает накидку, перешагивает защитный стальной лист и встает на черепицу; часовые выходят из караулки, в желудках тяжесть, в горлах першит, ноги разбиты, на губах — отвратительный привкус вина и кофе. Крепчающий бриз раскачивает эвкалипты; прибитый за горло к стволу старик, полусгнивший, полу — обглоданный, покрылся обильной росой.
Эхо, дым, взметенные ветром искры сражения достигли селения Бали, опочили на гранитных межевых столбах и пальмовых навесах, коснувшись лиц спящих на террасах, среди сушилок для гранат и инжира, детей. Мальчики спят голые на циновках, прижав колени к животу, временами оставляя ягодицы, измаранные фиолетовым дерьмом; перепачканные рты заполнены можжевеловой кашей, девочки прижимаются к матерям, их лбы и волосы повязаны пряно пахнущими платками. Табор между деревней с каменными домами и рекой, берега которой изъедены солью приливов, не спит; молодые мужчины играют музыку в шатрах разведенных женщин; дети с бритыми головами — лишь на темени оставлена прядь волос, посыпанная эбеновой пудрой — спят голые на песке, прислонившись щеками к пальмовым кольям; тех, кого мучают кошмары, мать поднимает за плечи и пальцами запихивает им в рот кипарисовый мед, привезенный из пустыни — его собрали и дали ей кочевники в последний день весны за ее тело, которое она отдала им в час рассвета в норе с раскрашенными стенами, устланной скошенной в долине травой; дети, едва мед касается их губ, начинают хныкать и кусать материнскую грудь. Два отряда повстанцев, сформированные из бывших мясников Тамрита, посланы в карательную экспедицию против деревни Бали, не подчиняющейся требованиям о вербовке повстанцев и уплате налогов; два сборщика были сброшены в реку в ночь накануне ежегодного отъезда в пустыню; они крадутся вдоль реки; когда луна взошла над сторожевой башней, амбаром и рыночной площадью Бали, слепя глаза дозорным и укрывая окрестности мглой, повстанцы бросились в поток; мокрые, задыхаясь, во ртах тошнотворный привкус железистой воды, одежда липнет к телам, члены сморщились, они цепляются за прибрежный тростник, бросаются вперед, выставив ножи; песок, в котором они вязнут, вздымаясь вверх от их ног, липнет к их голеням, коленям, бедрам, ягодицам; перед палаточной деревней они расходятся; каждый врывается в выбранный шатер; в одно мгновение женщины, дети, животные — все, что кричит — вырезано; затем повстанцы окружают шатер молодых мужчин — стариков, сидевших на корточках и моловших вздор у костра на берегу, они пинками столкнули в реку и утопили. Повстанцы сбивают шатер, кидают на него камни, избивают, оглушают мужчин и разведенных жен кольями, тела корчатся под осевшей тканью; из дыры высовывается женская ступня; колья ломают ноги мужчин, дробят их головы и члены; камни разрывают их животы и груди; вокруг залитых кровью шатров кружат собаки, повстанцы хватают их за хвосты, за уши и перерезают им горла; один из них раздирает ножом и ногтями голову молодого пса и привязывает ее к своей голове, связав на висках два окровавленных ремешка, пропущенных через открытую собачью пасть. Они топчут ногами то место шатра, откуда доносятся стоны женщин; из-под ткани пробиваются ароматы; повстанец с собачьей головой топчет ногами скрипку, прижатую к шее молодого мужчины; потом, присев на корточки, раздирает ткань и хватает зубами с разрытой земли, пропитанной запахом ладана, кусок масла с налипшим на него песком, он пожирает его, урча и сплевывая песок; когда он поднимается, все его лицо, горло, верх груди и плечи блестят от масла, он кладет ладонь на залитый холодным потом лоб и падает на кучу тряпок, камней и кольев; легкий ароматный ветер, прилетевший из садов на другом берегу Тлеца, овевает реку, тростник, гальку, олеандры; молодой повстанец приподнимается на локтях, вдыхает запах, на его губах и голой груди смешались масло и кровь, текущая изо ртов задушенных молодых людей, лежащих голова к голове; он встает, завязывает ремешок, удерживающий собачью голову, на своем окровавленном виске. Все бросаются прочь, они вытирают свои ножи о траву, лезвия скользят по фиолетовым цветам, в которых жужжат пчелы. В укреплении Тлец солдаты выводят пленных из свинарника, они привязывают их голыми к лестнице, прислоненной к стене уборной; новобранцев загнали в уборную и заставили их макать палки в дерьмо, а потом мазать этими палками по спинам и ягодицам пленных; радист крутит рукоятки настройки, ветер раскачивает переносные лампы, повешенные на веревку для сушки белья, качает тени членов и волос в паху пленных один из новобранцев всадил палку между ягодиц молодого пленного с перевязанной головой и разодрал ему жопу до крови; приставив палку другим концом к подножке уборной, вытирая ладони о бедра, он идет к лестнице, ведущей в казарму; там, между ног пьяных, блюющих солдат стоят ящики с пивом; он берет бутылку, зажимает горлышко зубами, пытается открыть пробку, но один зуб крошится; вскрикнув, новобранец выплевывает осколки; солдат — негр, развалившийся напротив, берет бутылку, кусает мокрую от слюны пробку, отрывает пробку и сплевывает ее в пах новобранцу, выпивает четверть бутылки и, отвернувшись, чтобы поблевать, кидает ее в живот молодого солдата, пена течет между ног, ткань вокруг набухшего члена чернеет; солдат, выпив, хватается за член двумя руками, давит его, прижимает к цементу лестницы; мухи пьют текущие из его глаз слезы; повстанец с перевязанной головой стонет; узлы веревок, которыми он привязан к лестнице, ослабли, он оседает и палка вонзается глубже; солдаты в изодранных гражданских пижамах спускаются по галерее, чтобы выпить; их растрепанные волосы шевелятся от вшей; палка, глубже войдя в тело, поднимает член и яйца; над укреплением пролетает стая серых журавлей; солдаты плюют в небо; солдат, оставшийся один в казарме, голый, сжимая член двумя руками, целует цветной снимок голой актрисы, он отрывает от фотографии губы, на которых остались следы типографской краски, со стоном, задыхаясь, переворачивается на живот на своем тюфяке, встает на колени, опираясь одной рукой, другой, сжимая член, начинает дрочить, склонив голову и глядя на член, краснеющий в тени живота.
Повстанцы в легких сандалиях, отгибая пальмовые ветви, скрывающие сады, выходят на окраинные улицы Бали, запах бобов и потаенный, но вырвавшийся наружу аромат опиума раздувают их ноздри, смягчают сердца и укрепляют руки. Они рассыпаются по спящему Бали; дозорные, ослепленные луной, всматриваются в реку; в тростнике синеватый дым костров, у которых грелись старики, тает в кровавом мраке. Повстанцы забираются на сторожевую башню и на амбар, вонзают ножи в спины дозорных, те оседают, скользя головой по саманным стенам из торфа и пальмовых ветвей; повстанцы одним движением ножа перерезают им горла, поднимают их и сбрасывают на окружную дорогу, тела разбиваются о белые камни, кровь и мозги стекают к реке, где к ним сползаются жабы. Повстанцы рассеиваются по деревне; проснувшиеся крестьяне хватают пальмовые колья, косы, деревянные сохи; повстанцы набрасываются на них, отнимают их деревянные орудия, сгоняют крестьян на центральную площадь; молодой повстанец с собачьей головой, единственный из отряда имеющий огнестрельное оружие, угрожает крестьянам пистолетом; иногда он приподнимает свою маску, и открывается его лицо, залитое кровью и мозгами; повстанцы вышибают двери, набрасываются во тьме на женщин, прижавшихся к саманным стенам, расстегивают ширинки и насилуют их, тут же убивая; иногда двое повстанцев одновременно вонзают свои ножи в живот ребенка, лезвия со звоном сталкиваются в пронзенных внутренностях. Молодой повстанец отдает свое оружие командиру отряда, тот с пеной у рта осыпает крестьян бранью; молодой повстанец, с собачьей мордой на голове отправляется грабить, своей маской он роется во вспоротых животах женщин, в перерезанных глотках детей; повстанцы бегают, пригнувшись, по улицам и домам; на террасе кричит голый ребенок, четверо повстанцев взбираются по углам дома, спрыгивают на террасу, хватают ребенка, четыре раза они подбрасывают его в воздух и расходятся; ребенок падает на саманный пол, его разбитые колени, спина, затылок синеют в лунном свете; один из повстанцев берет на сушилке топорик для подрубания веток инжира, он размахивает им, другие повстанцы расходятся, топорик перерубает горло, кромсает грудь, живот и колени; отрубленный член прилип к топорику, повстанец трет им у себя под коленом, член прилипает к ноге, повстанец трясет ею, осыпает ребенка бранью, в гневе пинает его голову, она отрывается от шеи, повстанец перерубает топориком мышцы, жилы и нервы шеи, хватает голову за волосы, вонзает свой нож в разрыв; повстанцы спрыгивают с крыши и присоединяются к другим, собравшимся на центральной площади; все дрожат, пряди волос приклеены к горлу кровью, руки сжимают обрывки ткани, разбитые игрушки, деревянные ложки; командир приказал крестьянам бежать вглубь деревни, вместе с повстанцами он заворачивает их в переулок и загоняет на деревенскую бойню; два зарешеченных окна и заколоченная дверь выходят на пропасть; командир приказывает высадить дверь двум молодым повстанцам, на шеях которых висят украденные коралловые ожерелья; он прислонился спиной к перегородке; моча испуганного старика струится по сточному желобу, покрытому запекшейся кровью, который делит помещение пополам и спускается под небольшим наклоном к высаженной двери; командир указывает на молодого крестьянина, к головной повязке которого прилипли несколько колючих цветков, двое повстанцев хватают его за волосы и толкают к командиру, руки которого рыжи от крови; командир бьет крестьянина кулаком по горлу, тут же хватает его за член, водит по нему рукояткой пистолета, потом, уперев рукоятку в член, он поворачивает ствол к горлу крестьянина, нажимает на спусковой крючок, пуля дробит челюсть, выбитые зубы сыплются на руку командира, двое повстанцев уводят крестьянина за плечи, командир бьет крестьянина ногой по почкам, повстанцы сбрасывают его в овраг, тело переворачивается в темноте, на приоткрытые на миг живот и бедра лохмотья крутятся вокруг тела — бросает бледный блик дождливая заря. Все крестьяне с разбитыми деревянными колотушками затылками и членами сброшены в пропасть, остался только отупевший от страха старик, сидящий в луже своей мочи — его поднимают силой и вгоняют ему в глотку качающийся на раме крюк; молодой повстанец с собачьей головой приносит из лавки ящики с лимонадом и мешки с мукой; пока все, развалившись на центральной площади, пьют и едят муку, засунув головы в мешки, несколько раненых женщин и детей выходят и пробираются вдоль стен домов, оставляя на самане глубокие кровавые следы; двое повстанцев, украсившие себя серьгами и ожерельями, вскакивают, бросаются на женщин, подминают под себя их разбитые, израненные тела; когда ветер освежает их потные лица, они встают — перед ними лежат окровавленные тела, лоскуты платьев прилипли к их гимнастеркам; детей, пытавшихся убежать, прикрывая двумя руками свои раны, прибили синими стальными гвоздями к стене кузницы, лицом на восход. Несколько грифов, охотившихся там, где ветер овевает скалы и плиты оникса, перелетели через овраг, и, вцепившись когтями в саман, стали рвать на части пригвожденные тела; перелетев террасу, они планируют вдоль улиц, бьют крыльями по спинам сидящих на корточках повстанцев, чьи лица перепачканы мукой и лимонадом; один из грифов парит над спящим на опорожненном мешке повстанцем с собачьей головой, он кружит, спускается, повстанец зевает, гриф взмывает вверх, струя помета попадает в открытый рот молодого повстанца. Шум крыльев стервятников разбудил офицера в укреплении Тлец, он спускается на пустынный плац; солдаты заперли пленных в свинарнике, тот, что был посажен на кол, извивается на навозной куче, сплевывая синюю слюну на руки товарищей, держащих его за плечи. В Бали стихли стоны, лежащие на земле повстанцы поднимаются. Заря купается в реке, грифы вылетают из тростников и со скал, некоторые несут в клювах куски мяса, перетянутые кожаным ремешком или кружевной тканью. На разоренных шатрах сверкает роса, грифы разрывают смятую ткань, обнажая втоптанные в песок тела с пробитыми кольями животами. Офицер пинает ногой разбитые бутылки, он входит в помещение поста, взбирается по лестнице на вышку; заспанный часовой дрожит, лицо покрылось росой, в уголках губ — следы от сладкого кофе; офицер, прижавшись к груди солдата, быстро целует его в этот кофейный след, их ресницы сплетаются, офицер кладет руку на член солдата, тот свою — на его бедро: «Ветер пахнет кровью, господин лейтенант». Офицер подталкивает, бережно укладывает солдата на защитный лист, прижимает его чресла к стали, бедрами и рукой трется о затылок, запрокинутый в луче прожектора; на лишенном теней лице солдата проявляются порезы от бритвы, засохшие слюна и сопли, укусы москитов, остатки их экскрементов и семени, волоски, которые солдат, запустив руку в штаны, оторвал от пряди над своим набухшим членом и приклеил, покатав в ладонях, к потным щекам; офицер целует ранки, сдувает волоски к ноздрям солдата, его язык протыкает панцирь из засохших соплей у входа в ноздри и копошится в них; член солдата упирается в его бедро, его член — в бедро солдата; оставленный пулемет крутится на ветру:
— В час ночи, в третью смену, грифы заполнили долину, их запах смешивался с дыханием моря. Господин лейтенант, мы — гниющие трупы, я испугался, моя кожа гниет, на один миг они зависли надо мной вдоль луча прожектора, я вылил флакон одеколона на лицо. Они улетели.
— Когда демобилизуешься, не ешь много мучного и сладкого.
— Моя жена говорит: «Залей меня всю спермой, тогда наш ребенок будет красивым».
— Разрешаю тебе приталить твою гимнастерку…
— Не трогайте ее, господин лейтенант, в ее складках — засохшая грязь.
— …любовь моя, своим языком, на котором за целый день скопилась слюна от повторения втайне имени твоего, я умягчу затвердевшую слизь в твоих ноздрях…
— Господин лейтенант, не просовывайте дальше вашу ладонь… я не привык, что меня трогают… моя мать и сестры ругались, а я сидел без трусов, сжимая в ладонях клочки грязной бумаги… моя жена в полдень запирается со мной в туалете бара, после того, как я поел и выпил с товарищами, сидя на тротуаре… она расстегивает мне штаны и, пока я сру, сдувает с моих волос известковую пыль, целует мои губы, шерсть на груди, вдыхая запах дерьма, садится на корточки и целует мой пах, мой вставший член, упирающийся в унитаз; я оборачиваю ее поднятую ко мне голову своей задубевшей от штукатурки рубахой; дерьмо падает в воду, и она брызжет на мою жопу, на нос и губы моей жены, когда она приподнимает мой член и целует его снизу, проводя языком по яйцам… когда я отрываю бумагу, она отнимает ее у меня, наклоняет мой затылок, подбирает полы рубахи и подтирает меня… утром, когда я просыпаюсь, она слизывает языком слезы, текущие по щекам из моих глаз, пену в уголках губ, она не позволяет мне самому одеться, она сжимает в кулаке, подносит к губам мой член перед тем, как я застегну ширинку… говорит, что отдалась бы на крыше моим товарищам, тогда бы они не прогнали ее, и она могла бы смотреть на меня весь день, видеть мои потные мускулы, подстеречь мгновение, когда после резкого движения моя рубаха выбьется из-под ремня и мои бока обнажатся, слышать, как я тяжело дышу, кряхтя под тяжестью мешка, задыхаюсь на лестнице, кричу на подсобника, отвечаю на приказы бригадира, наблюдать, как я расставляю ноги, спускаясь на четвереньках к водосточному желобу, смотреть на складки ткани у меня под мышками, когда я, стоя на лесах, тяну на себя веревку лебедки…
—.. 0 твой член, моя любовь, пулемет моих ночей, повстанцем я рыщу во тьме моей груди, открытой для его прикосновений, я кричу от отчаяния, не находя его, я бросаюсь в луч прожектора, я слышу, как он поворачивается, я вижу тебя, ты направляешь его на меня, обнажаешь его, заряжаешь, я открываю рот, пули блестят на моем языке, скатываются к зубам, я бросаюсь на пальмовое ложе, лицом к земле, пули прошивают мои бока, холодный пот выступил на твоем челе и на твоих плечах, твои влажные пальцы дрожат, посыпая порохом твой расслабленный живот…
— …Господин лейтенант, вы кусаете мне плечо в том месте, где кусала она, а прежде моя мать и мои сестры…
— Смотри… Бали опустошен… не вскрикнет ни петух, ни ребенок… стоячая вода в зарослях тростника потемнела, отяжелела от крови… Грифы улетают, повстанцы бегут, в спины им целится солнце… Повернись, повернись, и, пока твои глаза тщетно будут пытаться воссоздать картину резни, подсвеченную зарей, позволь нежному кинжалу прободать твои чресла, а яду — осушить твои слезы.
Утром Крейзи Хорс сползает с носилок: голова, вены, губы, глаза, нос, волосы объяты пламенем от солнечных лучей, просочившихся из открытой под потолком форточки; сжимая рукой исполосованную шею, он встает на ноги, вытирает одеялом окровавленную подмышку, пинает три раза свою винтовку, стоящую в пирамиде, идет, опираясь на стены, по пустому госпиталю — его ладони и локти оставляют охровый кровавый след на оштукатуренных стенах; выйдя наружу, проводит рукой по розам — и розы окрашиваются кровью; он пролезает под колючей проволокой, бледнея, выбегает на овсяное поле, колени его немеют, он падает на край колодца, заросшего овсом.
До полудня Крейзи Хорс спит под фиолетовым небом, по его горячей спине прыгает саранча, в полуоткрытом рту копошатся черви.
Вечером, под гранатом, он разрывает зубами плоды, в его щиколотки вцепились клыки невидимых псов; среди скал Тифрита он остановился посрать, не раздеваясь, не приседая: дерьмо стекает по его ногам, засыхает на складках носков и на шнурках башмаков.
Ветки с развешанным на них тряпьем скрывают деревню, где Крейзи Хорс блевал и украл будильник, мыло, украшения. При свете луны он смотрит, опершись на ствол, как в его ране шевелятся черви; тряпки шлепают его по затылку. В мясной лавке портреты Бежи и других вождей восстания — днем их снимают — прикреплены к заляпанным кровью стенам: Крейзи Хорс, согнувшись над прилавком, тянет руку; мясник отрубает ее под мышкой, Крейзи Хорс дрожит, его зубы скрипят на окровавленной доске.
Полночный бриз освежил рану; Крейзи Хорс, засунув отрубленную руку под рубаху, взбирается на скалу, кровь из руки течет по животу, обволакивает член; Крейзи Хорс ложится на кафельный пол, его голова упирается в подножие схемы ориентирования; стая шакалов, идущая за ним от деревни по кровавому следу, окружила гору; Крейзи Хорс застегивает пуговицы рубахи на отрубленной руке; холодная ладонь покрывает его живот.
Голова Крейзи Хорса скатилась на плечо; под камнями, под плиткой перетекает молоко, оно брызжет из сломанных стеблей, проступает в фиолетовом небе; губы Крейзи Хорса приоткрылись, они целуют кристаллы, звезды, холодные глаза шакалов, рука вылезает из-под рубахи, штаны разрываются на щиколотке, дыра расширяется до колена, язык шакала лижет, согревает коленную чашечку. На схеме ориентирования опочила луна. Кровь резни, насилия, пепел пожарищ питают землю. Губернатор мечтает, чтобы его убили. Военные, разочаровавшиеся в нем, переходят к повстанцам, регулярная армия бездействует, повстанцы из двух противоборствующих групп режут друг друга высоко в горах.
Солдаты, спалив деревни, гонят перед собой до городских ворот женщин и детей. Там они продают их или сдают внаем сутенерам, обитающим под городской стеной в хижинах из дерева и кровельного железа. Командиры не препятствуют этой коммерции. Сутенеров каждую ночь вырезают повстанцы. Дети и подростки на несколько недель заперты в хижинах; мужчины и женщины из города приходят к хижинам и совокупляются перед детьми, развращая их. Плененные женщины поставляются в городские бордели, где их вынуждают заниматься проституцией.
Со временем и сами сутенеры отваживаются сопровождать солдат в операциях; сутенеры или купленные и совращенные ими юноши ждут в деревне за рулем автомобиля или старенького пропыленного грузовика. Дым и рушащиеся в пламени дома гонят прочь женщин и детей; старики падают под горячими камнями, раскаленным железом и пылающими головешками, кожа на их головах, шипя, прилипает к обломкам. Женщины и дети с криком разбегаются, сжимая под мышками почерневшие тюки, волосяные матрасы, обугленные циновки. Сутенеры или их помощники выезжают на своих машинах из пожарища и останавливаются на перекрестках; женщин и детей запирают в кузове грузовика, и тот сразу трогается с места; дальше по дороге солдаты с почерневшими лицами и коленями, с окровавленными руками толкают перед собой перепуганных женщин и детей; они останавливают грузовики и, угрожая оружием, продают свою добычу. Перед тем, как продать, они опрокидывают женщин на обочине и насилуют их, сгребая башмаками землю и траву. Дети кричат, стонут, вцепившись в шины, младенцы ползают под грузовиками, ударяясь головами о горячие грязные рамы. Солдаты, дрожа, встают, топчутся на обочине; женщины стонут, изгибаясь на спине, согнув колени, сутенер и его помощники хватают их за ноги и волочат по грязной траве.
Они тащат женщин к грузовику, те кричат, скользя щеками по покрытой грязью, кровью и спермой траве, ресницы вывернуты, на животах и бедрах блестят следы от солдатских членов, отметины от ногтей и зубов.
Солдаты в свободное время ходят в бордель с оружием. В форме, вооруженные, они набрасываются на голых женщин, лежащих на кожаных диванчиках; сперва они трутся о стены, за спинами женщин, которые бросают на них взгляды, потом трутся о дрожащих женщин, изогнувшись, выставив вставшие под штанами члены, камуфляжные каски надвинуты до бровей. Выпятив животы, внизу живота — пламя, они кружат вокруг женщин, слегка касаясь их, потом каждый выбирает свою и начинает кружить вокруг нее, спотыкаясь о диванчик, касаясь бедром грудей, потом он хватает ее за подбородок, упираясь пальцами в нижнюю губу и в зубы, тянет на себя; женщина бьется и трепещет, как рыба, схваченная за жабры. Солдат отпускает подбородок, обнимает талию женщины, прижимает ее к себе; влажная, теплая, трепещущая вагина касается его бедра, он поднимает к этому теплу колено. Другие солдаты уже овладели женщинами; некоторые поднялись в комнаты, но большинство повалились на пленниц на скамейках или даже на прохладном кафельном полу, среди раздавленных мух и прядей волос, приклеенных спермой или потом; щеки и блестящие виски женщин дрожат под черными шевелюрами солдат, их руки, их ладони извиваются на кафеле, как дождевые черви, перерезанные солнечными лучами, пробивающимися сквозь закрытые ставни.
Солдат обнимает женщину, ее груди перекатываются по его грубой рубахе, она скользит руками по спине солдата, по полоскам пота, пробивающимся сквозь рубаху, от затылка к ремню, она ласкает влажную ткань, мнет ее, солдат вздрагивает от прикосновений, он трясет головой, отрывает свои губы от губ женщины, тянется к виску, открывает рот, его зубы впиваются в почерневшие от пота волосы, его язык слизывает застарелую пудру, стружку, песок, ароматические зернышки, тонкие корочки молока и детской слюны; его ноздри плющатся о висок женщины; сквозь ставни он видит улицу, пыль, поднятую собачьими лапами, черными ногами детей, колесами джипов, беспокойными солдатскими сапогами, видит колючую проволоку, на которой висят сгнившие, высохшие птицы, облепленные муравьями, пучки травы, лоскуты ткани и кожи.
Песнь третья
Его глаза наполнились слезами, он берет груди женщины, подносит их к губам и сосет их, слезы стекают по его щекам и носу, его руки скользят по ее бедрам, проникают между ног, гладят теплую, потную, растрепанную прядь волос на лобке, млеют от горячего, влажного дыхания раскрытой вагины, играют с прядкой, под которой трепещет плоть. Солдат грезит; высоко в горах меж серых камней бьет источник ледяной воды, от глотка которой все лицо охватывает пламя; после, с остывшим лицом, он стоит на лужайке или в лесу и смотрит блестящими глазами на бегущую в предзакатных сумерках белку.
Голова солдата катается меж тяжелых тенистых грудей, теплые травы пахнут молоком, женщина запрокидывает голову, руки солдата поднимаются по ее животу, пальцы, проникая между ребер, пробегают по бокам, женщина стонет, лаская дыханием висок и мочку уха солдата. Солдат продолжает сосать грудь, слегка прикусывая сосок, пуская слюну, женщина приподнимает руками свои груди, слюна и слезы солдата текут по ее ладоням. На улице несущийся галопом конь останавливается, встает на дыбы, ржет, сбрасывает седока — юношу в лохмотьях, тот падает, скрестив руки, грудью на песок. Дети выходят из подвалов и бегут к раненому. Конь, подпруга скользит по груди, скачет через предместье, перепрыгивает ворота, потом, замедлив бег, топчет рыхлый песок под эвкалиптами, он видит реку, чует запах воды, трясет гривой. Под деревьями рыщут, опустив морды, собаки, они трутся о стволы, скребут когтями кору, хватают мелких птиц, выпархивающих из ветвей. Конь подходит к реке, дует на черную неподвижную воду; под его дыханием вода движется, светлеет. Женщина — теперь ее швырнули на кафельный пол — стонет, ее дыхание выдувает блестящую пыль из щелей, ее потная щека прилипла к плитке, солдат сотрясает ее бедра. Ткань расстегнутых штанов возле его члена смята, черна от пота и спермы. Его башмаки скребут по полу, давят пальцы ног женщины. Липкие ладони солдата ласкают тело женщины, от висков к паху, он задыхается, отступает, краснеет. Лают собаки, они вырывают куски мяса из кучи отбросов, дымящихся у воды; старые бидоны, вытащенные из грязи, блестят, позвякивая под их зубами. Солдат пальцами, ногтями раскрывает влагалище. Голова женщины катается по плитке. Солдат, приподнявшись, скребет пах, кусает шею женщины. Дети набросились на раненого; его глаза закрыты, рот полон крови, губы блестят на песке, он тяжело дышит; один из детей присаживается рядом с ним на корточки, прижимает пальцем пульсирующую на шее вену, щиплет ее, раненый вскакивает. Полуголый солдат, мокрый после объятий шлюхи, видел, как за окном упал всадник; он отходит от окна, шарит под тюфяком, с которого женщина, лежащая на спине, раздвинув ноги, положив руку под голову, смотрит на него, улыбаясь; он подходит к ней с винтовкой в руке, водит стволом по животу женщины, блестящий холодный ствол скользит между ее бедер, женщина отодвигается, изгибается, тихо смеясь, медленно отстраняет ладонью ствол, ее пальцы оставляют на стали потные следы. Солдат подходит к окну, открывает его, поднимает штору, видит группу детей и раненого всадника, прицеливается, передергивает затвор, жмет на спусковой крючок, дети и всадник подпрыгивают, взметая песок, и падают навзничь без крика, двери со скрипом закрываются, солдат снимает палец с крючка, прекращая обстрел, поворачивается, прижимая дымящийся ствол к бедру; комната наполнилась тяжелым запахом пороха и соломы, женщина дрожит, прижавшись к стене, солдат подходит к постели, смотрит на грязный тюфяк, протертый коленями и руками мужчин, засовывает руку в дыру, вынимает соломинку, зажимает ее в губах, подходит к женщине, снова обнимает ее, целует, соломинка перекатывается между их губ. Конь переплывает реку, натыкаясь грудью на песчаные отмели, он скачет по протоке на песчаном берегу, под его копытами скользят ужи и гадюки, течение сносит их в реку, они извиваются среди камней. По утесу едет повозка с сеном; вдоль обрушившегося края утеса проезжает джип и несколько грузовиков; песок, камни, разорванные пучки чертополоха скользят по склону к остановившемуся коню. Два солдата выпрыгивают из джипа. На копне сена, лежащей на повозке, играют двое детей. Солдаты их не видят, они подходят к возчику, говорят с ним несколько минут, потом забивают его прикладами. Один из солдат достает из кармана гимнастерки коробку спичек, зажигает одну и кидает ее на сено, которое тут же вспыхивает; пламя пробивается сквозь толщу сена, поднимается вверх, окружает детей, пожирает повозку; мертвый возчик лежит под мулом. Солдаты запрыгивают в джип, колонна трогается с места и исчезает в долине. Конь смотрит на горящую повозку, мул кричит, поводя крупом. Конь, дрожа на вечернем ветру, опускает ноздри в теплый песок. Огонь пробегает по оглоблям, по крупу, мул бьет копытами, трясет головой, его хвост вспыхивает; крики мула привлекают внимание крестьян, прячущихся в кустах, они подходят к повозке, видят кучу пепла, в которой дымятся обгоревшие тела; мул дергается, оглобли и обугленный круп рушатся, мул, сгоревший на три четверти, падает с широко раскрытым ртом, его тело покрыто язвами, из них по опаленной шкуре стекают струйки жира; пламя вновь охватывает обугленную тушу. Крестьяне отворачиваются, один из них, покачиваясь, сбегает по склону и падает. Конь раздувает ноздрями песок; влажная дрожь пробегает по его телу; запах дыма отогнал его к реке; закрыв глаза, он медленно пьет воду большими глотками. За ним, у скалы, под порывами ветра клонится дерево; под копытами копошатся насекомые. Дым пожара растворяется в темноте, запах горелого мяса доносится до реки, конь снова бросается в реку, переплывает ее. На другом берегу две старухи и дети в лохмотьях разгребают отбросы, увязнув ступнями в разноцветной глине, ноги облеплены мухами и червями; они достают размокшие хлебные корки и куски сырого мяса, впиваются в них зубами; маленькая девочка грызет кусок синего мяса, прижав кость двумя руками к груди; вокруг рыщут собаки; мелкий кот, вцепившись в лохмотья девочки, взбирается к ней на грудь и, вонзив когти в ее губы, впивается зубами в кость; мальчик берет старые грабли, подцепляет кота, сбрасывает его на землю, бьет, выкалывает ему глаза, отрубает голову, кровь мешается с грязью; девочка с забрызганными кровью волосами продолжает глодать кость; рядом воют собаки; одна из них проскальзывает между ног старухи, под лохмотьями, и вырывает у нее из руки размокший кусок хлеба; из-под отбросов вылезает крыса, топчется по блевотине и снова с сухим коротким писком исчезает в жиже. Конь скачет под деревьями, трется о влажную кору, большие птицы пролетают в последних лучах солнца; с задетых их крыльями веток сыплется дневная пыль. В куче отбросов ковыряются дети, некоторые из них голые, только плечи прикрыты лохмотьями, мокрые тела испещрены укусами. Между их ягодицами копошатся слизни и черви. Двое дерутся в грязи, один сжимает другому горло покрытыми блевотиной руками, другой хватает осколок бутылки и бьет им соперника в спину и живот, кровь брызжет и стекает по грязи и блевотине на ноги ребенка, он разжимает руки, задушенный ребенок кричит, его щеки раздуваются, осколок стекла падает в лоснящуюся грязь, зубы душителя блестят между черных губ, его член упирается в бедро задушенного ребенка, конь катается по песку, встает, бежит рысью под эвкалиптами, трется грудью о кору, входит в город, блуждает по улице, на которой упал его всадник, ходит кругами по окровавленному песку; уж, свернувшийся на песке, скользит между копыт коня, ползет и исчезает под стеной; перед дверью борделя стоит джип; лунный свет падает на измятый капот, на трепещущий от ветра брезент; окна борделя закрыты. Лишь одна форточка внизу стены освещена. Конь подходит к джипу, проводит ноздрями по кузову, вдыхает мерзкую вонь сидений и грязных тряпок, погружается в кучу окровавленной ткани и теплого пепла. В прокуренном подвале пьяные солдаты набрасываются на женщин, опрокидывают их на угольные кучи. У входа в подвал сидит парень с сигаретой в узких губах, он собирает деньги с солдат. Угольная пыль поднимается к форточке и оседает на улице. Одна из женщин теряет сознание, парень подходит, хватает ее за ноги, сталкивает с бесчувственного тела навалившегося солдата, вытаскивает его член из влагалища женщины и тащит тело по угольным брикетам к двери, под лестницу; солдат, волоча член по углю, стонет, ползет к двери, из открытого рта на подбородок стекает мерзкая черная слюна; подняв руки, он вцепляется пальцами в голую ногу парня. В углу погреба двое солдат с раскрасневшимися лицами вставляют угольный брикет во влагалище женщины; один грубо ласкает все ее тело, другой вцепился ладонью в ее колено; они поджигают волосы на ее лобке. Женщина с искаженным от боли лицом кричит, по ее животу струится пот. Парень подходит к ним и спокойно говорит, продолжая улыбаться:
— За причинение ущерба платите двойную цену.
Присев на корточки, он дует на лобок, гасит пламя, проводит ладонью по обуглившимся волоскам, встает и снова занимает свое место у входа.
На заре джип с прицепом едет под эвкалиптами, останавливается у кучи отбросов, три солдата выпрыгивают из джипа, отцепляют прицеп. Под кучей, дрожащей, шевелящейся под ярким солнцем, лежат трупы детей, дравшихся вчера ночью: один задушен, тело другого исполосовано, в черных ранах копошатся блестящие мухи. Солдаты бледнеют, опускают глаза, нерешительно смотрят друг на друга, в горле — ком; потом они переворачивают прицеп, зловонная розовая, зеленая грязь разливается по двум омытым зарей телам. Солдаты плюются, отгоняют мух руками. В полдень джип с прицепом въезжает по песчаному берегу в воду. На другом берегу купаются дети. Солдаты залезают в прицеп, где стоят две бочки с дерьмом, подтаскивают их к воде.
— Постойте, там ребятишки купаются.
— Насрать им на это, грязным ублюдкам, сволочам, сволочам. Они даже жопу не подтирают. Давай, лей говно. От этих блядей всегда воняет.
Солдаты опрокидывают бочки. Дерьмо расплывается по белой воде, образуя темное пятно, оно спускается к детям, охватывает их, пачкает их плечи; задыхаясь, дети плывут к берегу, блюют в теплую воду. Они выходят из воды и, как крысы, разбегаются по песку. Солдаты цепями поднимают бочки в кузов прицепа. В лагере они спускают их в сортирные ямы, их сапоги увязают в черной грязи, кишащей червями; на миг очумев от слепящего солнца, они стоят с онемевшими спинами, вытирают руки о бедра, горячая ткань гимнастерок мнется с сухим шелестом; тяжелыми шагами они идут к палаткам, перед ними на столах в плевках пивной пене лежат куски черного мяса; солдаты усталыми руками берут мясо, едят, потирая ладони, потом залезают в палатки, валятся на свои тюфяки; лежат на спине, раскинув ноги, просунув лоснящиеся ладони под ремни, пряжки блестят, как наконечники копий в пламенеющей тени, испарениях и колебаниях тел. В подвале женщины во сне поводят руками, ногами; в солнечных лучах угольная пыль, смешанная со спермой, потом и высохшей слюной, стекает по холодной бесчувственной коже; парень стоит, упершись согнутой ногой в стену, курит, засунув ладонь под пояс.
В подлеске над палатками медленно и настойчиво летают насекомые, на обугленные листья осыпается, обрушивается пепел и песок.
Парень хлопает в ладоши, женщины просыпаются, встают, подходят к двери, следуя за парнем. Тот открывает дверь, женщины с криком бегут по доскам душевой, встают под струи воды. В углу на мокрых досках, скорчившись, спит высокий, белобрысый, совершенно голый моряк, бедра и плечи в разводах грязи, обмякший член покоится на ляжке; форменная одежда сложена под головой, сапоги, наполненные водой, прислонены к пояснице.
Женщины, привстав на цыпочки, подставляют лица, груди под струи теплой воды, вытекающие из пыльной трубы. Парень резким движением ладони перекрывает кран, женщины тянут руки и рты к трубе; парень задирает ногу, садится на кран верхом; зажав его между ног, он смотрит на женщин, поглаживая кран, открывает наполовину, закрывает, открывает снова, жмет на него двумя руками, открывает до конца, вода брызжет на губы женщин, на их плечи, они трясут волосами, угольные крошки скользят, падают, рассыпаются по полу; губы нескольких женщин искусаны до крови, у некоторых укусы на груди и в паху.
Вверху по улице расположилась ярмарка, там, среди каруселей и балаганов, прячутся повстанцы, чуть ниже — рыбный рынок. Между двух каруселей, у заброшенного сада стоит балаган, сколоченный из досок, кровельного железа и шкур, внутри — прилавок мясника, на дереве еще видны кровавые прожилки, к прилавку привязана голая девушка; только какая — то выцветшая тряпка повязана на ее бедрах; сверху над девушкой висит табличка:
— У нее две пизды.
Весь день мужчины — рыбаки, каменщики, механики — приходят, поднимают тряпку, трогают двойное влагалище, залезают в него пальцами, просовывают монетку между ног девушки, опускают кусок ткани и выходят на солнце с отвердевшими членами. Тряпка отсырела от желчи и цемента, почернела от жира и смазки, к ней прилипли рыбьи чешуйки. Девушка тихонько стонет, голова опускается за прилавок, под тряпкой звенят монеты, мужчина поднимает тряпку, просовывает руку, собирает монеты, сует в карман и снова садится на земляной пол в глубине балагана. За стеной из кровельного железа дрожит карусель, дерутся дети, мужчина слышит, как хрустят пальцы их ног; сквозь сон он видит пыльных, выцветших лошадок, за его спиной — тяжелое дыхание и скрип зубов дерущихся детей.
Кардинал вышел в сад; смятой во сне рукой он проводит по тяжелым от росы цветам; высвободив другую руку из рукава, он склоняется над кустом, срывает цветок, подносит к губам, выпивает капли росы. Одно из окон на фасаде открылось, в нем мелькнул белый чепец, кардинал улыбается, машет рукой, но, заметив, что в этой руке цветок, краснеет; окно, из которого доносится запах белья и эфира, быстро закрывается, кардинал идет к оранжерее, где растут апельсиновые деревья и живут кастраты; он открывает дверь, медленно проходит между теплыми ветками и останавливается перед другой дверью, из-за которой доносятся сдержанный смех, скрип постелей, шум воды в жестяных умывальниках, он толкает дверь, видит склонившихся над умывальниками голых до пояса детей с полотенцами на плечах; надзиратель дважды хлопает в ладоши, мальчики сидящие на кроватях, встают, вытянув руки по швам. Кардинал входит, в горле — ком, приближается к надзирателю, светловолосому молодому человеку, одетому в черное подает ему руку; мальчики стоят перед не заправленными кроватями, один из них опускается перед кардиналом на колени, целует его руку, другой бросается к его ногам, обнимает его колени, кардинал кладет усталую пухлую ладонь на затылок мальчика, поднимает его голову, молодой человек, стоящий сбоку от него, вздрагивает:
— Со мной они не так нежны, Монсеньор.
Но кардинал не слышит его. На простыне одной из кроватей — пятно крови; губы и ресницы мальчика, стоящего перед кроватью, дрожат, светловолосый молодой человек тихо отстраняет его, положив руку на его бедро. Он трогает пальцами пятно на простыне, кардинал подходит к нему; молодой человек трет друг о друга пальцы.
— Кровь свежая. Как тебе не стыдно?
Мальчики подходят, шелестит шерстяная ткань, но молодой человек останавливает их. Кардинал отворачивается:
— Оставьте этого ребенка в покое.
— У него дурные мысли, Монсеньор. Рыжеволосый мальчик бросается в ноги к кардиналу:
— Я видел, утром он ерзает в постели, он ворочается…
— Я боюсь.
Кардинал подходит к окну, видит под кухонной лестницей склонившихся над своими тележками огородников и молочников — ноги расставлены, носы блестят. Стеклянная дверь открывается, спускается монашка в чепце, она подставляет руки, мужчина достает помидоры и инжир, дает им скатиться по груди монашки, та, улыбнувшись, поворачивается, поднимается по лестнице, ее бедра покачиваются под стянувшим их платьем, освещенная солнцем дверь хлопает; мужчина улыбается, вытирает ладони о бедра, плюет, резко задирает голову, солнце блестит на его зубах; кроткий, безысходный взгляд монахини скрывается за стеклом; в солнечных бликах сверкают ее ресницы и переносица. Кардинал прикрывает глаза ладонью, возвращается к кровати:
— Оставьте этого ребенка, не судите его, этот мир объят сладострастием сверху донизу.
Он проходит, мальчик опускает глаза, кардинал задыхается от запахов крови, пота, мыла, ночной слюны. Он выходит, оправляет полы сутаны на боках, проходит по оранжерее, наполненной запахом теплой крови, открывает дверь, выходит на солнце; он слышит звуки фанфар в городе — товарищи провожают на кладбище молодого солдата, зарезанного три дня назад; кортеж поднимается к небу, и звуки фанфар становятся резче, они вылетают из древесных крон и разносятся по синеве; из гроба сочится кровь, руки несущих гроб твердеют, кровь покойника, разбрызгиваясь от толчков, капает на ноги солдат, лицо мертвеца открыто, все его тело стянуто бинтами, чтобы остановить кровь; это лицо, эти холодные, слабые члены, этот перламутр одним дуновением расколет и спалит солнце. Они поднимаются, беглые тени птиц и ветвей текут, как вода, над лицом мертвеца и рисуют на нем улыбку; ослепленные солдаты видят лампы, горящие в небе, синие реки бороздят небосклон, как вены, верхушки деревьев вспыхивают, горизонт рассыпается с барабанной дробью.
Кардинал, тронутый звуками фанфар, бредет мелкими шагами, нежно потягивается под своими одеждами.
На лестнице его ждет монахиня; маленькие кастраты выходят из оранжереи, идут, выстроившись по росту, к капелле в глубине сада; у одного из них к бедру прицепилась роза, он останавливается, оборачивается, снимает розу, его глаза на миг встречаются с глазами кардинала, это тот мальчик, на чьей простыне нашли пятна крови.
— Он трогал в прачечной нашу самую юную сестру, Монсеньор. С тех пор она не спит, все смотрит в окно. Кардинал улыбается мальчику, роза раскачивается на кусте:
— Идите одеваться, Монсеньор.
Тучный мужчина, питающийся зеленым горошком, рагу и пирожными с кремом, позволяет проводить себя в комнату, садится на стул перед окном; монахиня, склонившись к его ногам, снимает с него туфли:
— Сестра моя, отчего вы презираете этого ребенка, божье создание; рукой, которая касалась самой юной вашей сестры, он творит и крестное знамение — а что у нас на завтрак?
— …У нас для вас сюрприз, Монсеньор.
— О, скажите мне на ушко. Какое яркое солнце! Какой я большой, сестра моя.
— Не раздавите меня, Монсеньор.
— Когда я был маленьким, я очень любил росу; мой отец в бархатном костюме, испачканном на коленях конским навозом, выезжал на своем коне в сопровождении сонных лакеев; мать щекотала мне ноги, я смеялся, гладил ее волосы, трепал ее шиньон, она сердилась, легонько хлопала меня по щеке, но каждое утро она вставала передо мной на колени и подставляла свои волосы, свой затылок, свой шиньон, чтобы я трепал его своими нежными, назойливыми ручками и, прежде чем рассердиться, она склоняла голову, ее руки скользили по моим плечам, сжимали мои пальцы…
— Монсеньор растроган. Я не могу напоминать вам вашу мать; юные сестры меня ненавидят, я слышу, что они говорят обо мне на кухне, в дортуаре, в капелле. Я приучилась никого не любить.
— Сестра моя, возлюбите ближнего, как саму себя.
— Я люблю ближнего, как саму себя, я чиста сама и умываю ближнего. Сестра моя, знаете ли вы свое тело?
— Лет двадцать тому назад я стояла перед зеркалом, ворот моего платья расстегнулся, я сразу упала в обморок.
— Тот, кто не знает радостей телесных, не может любить себя, не может любить и ближнего.
— Дайте мне вашу правую ногу, Монсеньор… О, как она покраснела.
— А я ведь ходил недолго.
— Сдается мне, что наша самая юная сестра испытывает плотские искушения. Недавно, после приезда огородника, она вся дрожала, как роза после дождя.
— Я поговорю с ней.
Он вспоминает бедра, стянутые узкой грубой тканью, смех огородника… ее волнуют молодые мужчины, которые смотрят на нее, желают ее. Он встает, набрасывает на плечи мантию, его руки дрожат, он выходит, монахиня стряхивает с мантии седые волоски и перхоть, кардинал улыбается, но его горло сжимается, он бережно отстраняет женщину:
— Я пойду один.
Он ступает на солнце, идет, солнце поднимается по его ногам, бедрам, груди к голове; в верхнем городе стихли фанфары, в нижнем — дым, крики детей, лай собак. Кардинал поднимается к собору: ослепительно белый, он возвышается из кустов, усыпанных красными цветами, почерневшими от солнца. Опираясь на перила, кардинал поднимается по лестнице, идет вдоль нефа, скребя пальцами по камню, царапая ладонь блестящими осколками; он бормочет детские стишки, громко молится, толкает дверь ризницы; старик с блуждающим взглядом и мокрым носом заключает его в объятья:
— Монсеньор, один, один! Воистину, милость господня! Воистину, милость господня!
— Чем душить меня, наполнил бы лучше сосуды!
В проем двери видны охапки цветов, ветви, жужжащие насекомые, тени листьев на золоченом дереве органа, на золоте и перламутре риз, на белизне орарей.
— Монсеньор, в ризнице птица, залетела, видимо, этой ночью, утром она кружила в капелле вокруг статуй. Красивая птичка, без сомненья. Каково оперенье, таково и пенье. Зажаренная для вас, она спела бы еще, без прикрас. Воистину, милость господня!
— Помолчи, пожалуйста, дай мне прочесть молитвы.
Кардинал склоняется, тяжело дыша, на столик, накрытый льняным полотном. Капелла наполняется солдатами и колонистами в легкой одежде. Кардинал, облаченный в ризы, опустив плечи, тяжелыми шагами идет в главную ризницу. Там шумно облачаются дьяконы и протодьяконы. Все преклоняют колени. Говоря между собой, они жестикулируют, как женщины:
— О, сестра хорошо выгладила твой стихарь, лучше, чем мой, не знаю, за что она на меня обиделась, но это точно так. О, эта непорочная белизна на твоей загорелой шее! Как все прошло на большой плотине? Вы играли в догонялки? Дети были послушны? Кажется, вас охраняли красивые солдаты.
Процессия собирается перед входом в неф. Орган дрожит. Маленькие кастраты, стоящие справа от алтаря, затаили дыхание. Процессия движется к алтарю. Gloria in excelsis Deo. Маленький кастрат, что был с розой, поет, его глаза залиты слезами, кардинал склоняет голову и немного поворачивает ее над дароносицей; он видит ноги мальчика, его трепещущее горло, слюну, блестящую в уголках губ. Мальчик поет один в тишине, его одежда трепещет. Птица выпорхнула из исповедальни; она летит меж выбеленных стен, натыкаясь на розовые колонны и скульптуры, от биения ее крыльев склоняется пламя свечей на алтаре; мальчик стоит неподвижно, кардинал опускает голову… к запаху вина, исходящему от облаток, примешиваются запахи перьев, гнезда и крови. Взгляд кардинала опускается, между ног мальчика на ткани шортов проступает темное пятно, струйка крови стекает к колену. Птица кружит над мальчиком, касается его волос, привлеченная запахом крови, порхает у его бедер. Мальчик поет громче, кровь потекла сильнее. Вступает хор, мальчик с окровавленной ногой падает в обморок. Подбегает чернокожий юноша, берет мальчика на руки и уносит его в ризницу; он кладет его на скамью напротив двери, выходящей в сад, возвращается к выходу в неф, закрывает дверь, смотрит в замочную скважину, возвращается к мальчику, наклоняется над ним, кладет ладонь на его плечо, просовывает ее в потную подмышку, проводит по груди, наклоняется ниже, целует щеку мальчика, его губы, ладонь скользит по холодному животу к пропитанной кровью ткани. Юноша встает, смотрит на свою руку, идет к двери, спускается в сад, присев на корточки, зарывается влажной ладонью в песок; он возвращается в ризницу, подставляет руку под кран умывальника, открывает воду; мальчик оживает, его колени дрожат, запекшаяся кровь порошком ссыпается на скамью. В проеме двери проходит собака, белая на фоне сада.
Дети, искалеченные в резне, лежат в больницах; тех, у кого были отрезаны гениталии, посредники продают дьяконам, кардинал берет у губернатора деньги для выкупа и содержания детей. Вскоре посредники начали нанимать бандитов; днем и ночью те рыщут по улицам и дорогам, похищают детей, калечат их прямо на песке или в грязи. К концу войны, когда резня почти прекратилась, большинство кастратов к кардиналу поступало из рук бандитов. И это всех устраивало.
Вот так и за Кментом однажды ночью в долине Игидер, когда повстанцы и солдаты резали друг друга в лунном свете на берегу реки, погнались двое мужчин; он бежит по песку, его лохмотья цепляются за тростник. Внизу скребут друг о друга скрещенные клинки, его сердце бешено бьется, он ощущает спиной дыхание преследователей. С высоты, где в дымке прячется луна, на место сражения бесшумно слетают орлы. Кмент ныряет в заброшенный сарай, катится по сену, задевая голой ногой лежащую в пыли косу; Кмент хватает ее, мужчины прыгают на него, Кмент проводит косой над головой, двое вцепились в его бедра, поднятая с дощатого пола пыль сияет во мраке; коса скользит по спинам мужчин, раздирая их рубахи; один из мужчин хватает Кмента за член, прикрытый лохмотьями, тянет, Кмент кричит, нацелив косу, вонзает ее в горло мужчины, тот качается, его грузное тело, омытое холодным потом, разворачивается и рушится в сено. Другой мужчина двумя руками вцепился в ногу Кмента, Кмент скользит и падает, мужчина бьет его в лицо и в живот, хватает косу. Кмент приседает, прижав руки к животу, быстро ныряет под ноги мужчины, опрокидывает его. В долине солдаты и повстанцы бегут вдоль реки, над ними пролетает истребитель; солдаты отделяются от повстанцев, самолет пикирует, расстреливает повстанцев из пулемета; в кабине пилот и стрелок дрожат, кричат, смеются, запах пороха опьяняет их; слюни и сопли блестят над губой стрелка, на правой щеке белеет островок мыльной пены; из нагрудного кармана его гимнастерки наполовину вылезло зеркальце, оно давит на его сосок, он сгибает спину, поводит плечами, но зеркальце словно приклеилось кровью к соску сквозь ткань.
Кмент бьет мужчину косой в лицо, кровь, стекая, словно сетью обволакивает лицо. Кмент бросает косу, выбегает из сарая, бежит по дороге, прижав руки к животу. В кабине самолета звенят, свистят от пара горячие гильзы. На черных верхушках деревьев кричат напуганные выстрелами птицы; самолет пикирует, стреляет, снова поднимается в ночное небо, касаясь ветвей, взмывает к скале; расстрелянные солдаты и повстанцы падают на гальку вдоль реки. Кмент ползет по песку, самолет — огромный дрожащий камень — проносится над ним, Кмент, точно краб, зарывается в песок; самолет — камень, тающий в ночи — улетел, Кмент, крутя шеей, загребает песок щеками. Солдаты и повстанцы, скорчившись, лежат на гальке; они дрожат, с их обескровленных губ срываются стоны; в порогах плещутся рыбы, насекомые, облепившие тростник, ослабляют хватку и падают в теплую тьму с брюшками, покрытыми личинками, освобожденный тростник качается, распрямляясь; в ржавой заболоченной воде перекатываются пули, плавают мертвые жабы, в нее стекает розовая смертная слюна солдат. Самолет возвращается, пикирует, стреляет снова, пули с треском скачут по гальке, скашивают тростник. Руки стрелка почернели, он блюет на приклад пулемета, прижимается лбом и висками к дымящемуся металлу, дрожа, застегивает липкими пальцами ворот гимнастерки. Пилот поворачивается, его слюдяные очки, оправленные в кожу и медь, покрыты сухой коркой из раздавленных насекомых, из которой торчат, подрагивая, лапки, усы, крылья:
— Стреляй, стреляй! Целься лучше, черт тебя дери!
— Господин лейтенант, господин лейтенант, я болен, я подыхаю, моя невеста, я подыхаю, я всех их убил, они подстерегают меня со своими ножами, город закрыт, нож вонзается в мою спину, я бегу изо всех сил, но остаюсь на месте, стены города вздымаются, на них грустные рыла насекомых, свирепые морды зверей, из земли вырастает коготь, он впивается в мою ногу, господин лейтенант, вы уже имели мою невесту, теперь моя очередь, мой хуй встает, моя жажда, мои деревья, мои ноги сгорают, как свечи, мне больно, ох, как мне больно, господин лейтенант, слезьте с кровати, раздавите их.
Солдат хватает пилота за плечи, сжимает его шею, пилот выпускает штурвал, солдат блюет, плюется, душит пилота грязными руками. Самолет уклоняется вправо, к скале, солдат, навалившись на пулемет, стреляет в скалу, потом вдруг встает, раскинув руки к крыльям, самолет приближается к изрешеченной пулями скале. Безумный солдат, вытянув руки, стоит в кабине, его лицо и грудь испачканы слюной и рвотой. Раненый солдат, лежащий на гальке, открыв глаза, видит, как самолет входит в скалу, словно рыба в нору.
Кмент переворачивается на спину и засыпает. Маленькие кастраты, разбуженные шумом схватки, ворочаются на постелях. Черный юноша, лежа с открытыми глазами в алькове, вслушивается в свист пуль; завесы алькова дрожат, зарево пожара отражается в бронзовых кольцах. Птицы и летучие мыши задевают крыльями виноградную лозу, обвивающую открытое окно, стряхивают с листьев сине — белую пыль; из угла алькова выпорхнул снегирь; свалившись за картину, он бьет крыльями по холсту. Черный юноша смотрит в небо, ночь полнится вихрями, гривами, зубами, клыками.
После пленения Иллитана Энаменас затих. Объявлено перемирие, толпа осаждает ворота заводов, мастерских, ферм, двадцать дней люди заняты работой, нравы смягчились. Изгнанные, отверженные повстанцы собрались в пещере, где сто лет назад их предки провозгласили начало борьбы с завоевателями и умерли десять лет спустя, покрытые копотью костров, отринутые народом, разделенные. Тоннель, пробитый в скале, ведет в большую пещеру над морем; раненые с забинтованными головами и животами лежат на походных кроватях, украденных у оккупантов, за ними ухаживают молодые женщины в гимнастерках, другие обслуживают их, склоняясь над ними по вечерам и давая им трогать свои груди; выздоравливающие могут обнимать их на циновках, лежащих в глубине пещеры у тянущейся сквозь скалу канавки, в которую солдаты бросают обглоданные рыбьи кости и кору эвкалиптов. За время перемирия вожди восставших, предупрежденные о вялости переговоров, ведущихся в метрополии, разработали план захвата городов. Иногда они жестоко спорят, потом подходят к отверстиям, смотрят на расстелившуюся внизу громадную тушу моря, тающую в солнечных бликах, наблюдают в бинокль за чайками, скользящими вдоль утеса, нежно спускающими на песчаный берег, задевая крыльями пучки ковыля. Потом вожди возвращаются к расстеленным картам, опираются на них руками; их трое, вокруг запястий — следы от веревок, на горле самого молодого — длинный шрам, блестящий, когда он поворачивает голову:
— Нам нужно чаще показываться на людях хорошо одетыми и вооруженными, ограничить нашу деятельность текущими экзекуциями: проститутки, предатели, богачи и их дети, но главное — управлять, строить, обучать в труднодоступных районах острова, представляя себя посланниками, предвестниками революционного правительства на его пути к столице. Наши друзья в метрополии добьются освобождения Иллитана.
— Солдат, сдавший нам укрепление Тирмитин, вчера вечером, на привале роты, покончил с собой; две пули в рот; он был хорошим стрелком и радистом.
— Я помню, как он плакал, когда один из наших солдат подстрелил журавля.
— Солдаты его не любили, наши братья — тоже.
— Мы сражаемся не за таких людей.
— Предатели нам полезны.
— Мы переправим их за море. Их дальнейшая судьба нас не волнует.
Он говорит; бритое лицо, открытая шея, руки скрещены внизу живота; внезапно его голос срывается, как лист, насыщенный водой и жаром, его нога дрожит на скале:
— Ты, Бежа…
— Что с тобой?
— Выйдем.
В глубине пещеры стонет солдат, он срывает бинты, ворочается на постели, корчится, кровать опрокидывается, солдат скатывается на камни, взвизгивает, точно крыса; к нему подбегает молодая женщина; склонившись над ним, она поднимает его за плечи, но солдат с закрытыми глазами прижимает ее к себе, подминает под себя, обнимает, открывшиеся на его теле раны прилипают к ее гимнастерке, его бледные, почти остывшие губы впиваются в рот женщины, потом, похолодев, отрываются, хватка его рук и коленей ослабевает, голова скатывается по камню, струйка розовой слюны течет по губам. Женщина встает, опираясь на запястья, ее окровавленная смятая гимнастерка с треском отрывается от ран мертвеца.
Бежа стоит один на гранитной плите у входа в пещеру; повернув голову, он видит мертвого солдата и склонившуюся над ним женщину, он закрывает глаза, бросает дымящуюся между пальцами сигарету, вытирает губы ладонью:
— Умер Коба? Последний, может быть. Через сорок лет мы будем в Энаменасе.
Он кладет руку на плечо часового, оглядывает скалы, влажную равнину, медленно плывущие сквозь растрепанные кроны деревьев клочки тумана, летящих с моря птиц.
— Все вы у меня в сердце, я несу все на своих плечах. Он кладет руку на плечо часового:
— Ты видишь Энаменас на горизонте, водонапорные башни? Там начиналась революция; мы с Иллитаном убили сторожа, предателя; он сидит под лампой за своим столом, я бросаюсь на него, вырываю у него пистолет, Иллитан переворачивает стол, хватает сторожа за плечи, я держу его за пояс, Иллитан достает свой нож, вонзает ему в плечо, мои пальцы чувствуют, как сокращаются мышцы его живо та, кровь брызжет, течет по моим рукам, сторож кричит, его голова резко запрокидывается назад, задевая мой под бородок. Иллитан толкает его на стеклянную дверь, он валится на пол в осколках стекла, я подскакиваю к нему, поднимаю его за плечи и бросаю на Иллитана, тот бьет его ножом в колено, сторож спотыкается, подворачивая ногу. Мы растянули его на полу, Иллитан держит его, я беру керосиновую лампу, Иллитан открывает его рот двумя руками, я наклоняю лампу, пламя освещает красное трепещущее нёбо, омытое кровавой слюной, стекающей с зубов, я выливаю на него горящий керосин, сторож, издав протяжный крик, стонет, плачет, слезы текут по обгорелому лицу, из его рта валит красный дым, его губы под горячим дыханием сминаются, как обугленная бумага. Рассеявшийся дым обнажает покрытое пеплом нёбо, в глубине которого ворочается сморщенный язык; Иллитан встает, его руки дрожат, он берет лампу и разбивает ее о лицо сторожа:
— Он готов, бежим.
Я бросаю значок на грудь мертвеца. Иллитан тащит меня наружу:
— Теперь ты настоящий революционер.
И он обнимает меня в ночной прохладе, его окровавленные руки скользят по моей пояснице, поднимаются по спине до затылка. Это было мое крещение кровью.
Часовой не отрываясь смотрит Беже в глаза, а молодой вождь прыгает на валун, вырывает пучок мяты, мнет ее в своих влажных ладонях:
— Иллитан постоит за себя.
Туман, зримый образ тишины, поднимается к солнцу, Бежа спит на камне, положив руки под голову, раскинув ноги, тень пролетающей птицы на миг накрывает его лицо, Бежа видит над собой неподвижную голову, поджатые лапы, желтый клюв, влажные, вылезшие из орбит глаза, стекающие на черные перья, мертвое брюшко, отвердевшее горло, птица опускает развернутые, но жесткие крылья, ее контуры отпечатываются на небе, Бежа чувствует, как его член твердеет на солнце, голая пламенеющая женщина опускается на него, целует его губы, прижимается животом, коленями, вагиной, Бежа перекатывается на нее, ты мертвая? Он резко встает, кожа женщины отделяется от ее тела и прилипает к нему, потом она превращается в огненный порошок, на помощь, я горю, птица протыкает клювом шею Бежи, женщина с ободранной кожей плачет подле него, она обнимает его, пьет брызжущую из шеи кровь, всасывает ее губами из костей и мышц; перед тем, как умереть, Бежа кладет руку на ее вагину, разбухшую от ласк, в ладонь впивается кактус, он танцует с женщиной, ощущает своей грудью ее обнаженную грудь, живое сердце, бьющееся о пуговицу его гимнастерки. Между высоких влажных трав к площади на горе, уставленной палатками, мчится поезд, он подъезжает к перрону вокзала, вагоны покрыты грязью и червями, лица пассажиров за стеклами покрыты грязью и червями, к его губам прижата надушенная перчатка из черной кожи, его слезы текут на перчатку, солнце, пробив железный потолок, сверкает среди музыкантов, собака тычется мордой в золотые пуговицы на сапогах, в золотые шпоры. Бежа, Бежа, почему от тебя всегда так воняет, будто ты спишь с баранами? По красной плитке бежит таракан. Бежа, ты мог бы съесть таракана? Его ботинки у моих босых ног, моя рука на сырой соломе, обмотанной вокруг трубы, перед окошком раскачиваются листья, Бежа, ты мог бы съесть таракана? Их полно в унитазе, их привлекает запах, потом они поднимаются вверх, ты видишь их следы на стене? Ешь, по тополю скачет черная обезьяна, снаружи, в зеленых бликах, скребется мертвая кошка, я дам тебе денег, ешь, он звенит монетками в кармане, вот еще две, смотри, я кладу деньги на подоконник, это для тебя, если съешь, монеты блестят на пыльной известке, три штуки, зеркало для меня одного, я сажусь на корточки, Бежа, Бежа, мадам хочет тебя видеть, в ее спальне паук, бедняжка дрожит от страха, она зовет тебя, я кладу руку на кафель, таракан бежит к моей ступне, я ловлю его, поднимаюсь, таракан шевелится в моей руке, твердый, влажный, его лапки скребут по моей коже, я открываю рот, разжимаю ладонь, таракан в моих пальцах шевелится у моих губ, Тальбо отворачивается, зажав рот рукой, наклоняется над унитазом, я сжимаю таракана зубами, разгрызаю его пополам, горькая едкая жидкость разливается под моим языком, Тальбо внезапно блюет, опершись руками о стену, я глотаю две половинки таракана, сжав губы, я беру монетки, поднимаюсь на подоконник, спрыгиваю через окно в сад, убегаю, зажав монеты в кулаке, я лежу в пустом канале на сухом цементе, задвижка падает на мое горло, как нож гильотины, дымится кучка обезглавленных птиц, Тальбо блюет в кустах, Бежа, Бежа, большое белое перо падает мне на ляжку, под волосами ползают блохи, на равнине качаются, волнуются пальмы и проволочные заграждения, земля покрыта раздробленными корнями, летит большая птица, планирует на камни, Бежа дрыгает ногой, открывает глаза, видит солнце, блестящую паутину, вершины гор, он резко встает, бежит к часовому, кричит:
— Убей эту птицу, убей, мы зажарим ее вечером.
— Какую птицу, командир, какую птицу? Часовой смотрит на небо, на скалы:
— Какую птицу? Зажарим?
— Она улетела. Иди, скажи, чтобы тебя сменили. Солнце так печет.
Часовой отдает честь: небольшое стадо баранов выходит из пещеры, часовой, двумя руками сжав винтовку, расталкивает их прикладом, бараны, качая головами, взбираются на скалу; часовой бьет, ремень винтовки цепляется за рога баранов:
— Бей сильней, как тебя били!
— Почему бараны от нас разбегаются?
— Мы стали нечистыми.
Часовой загоняет баранов в пещеру; раненые, привязавшиеся к ягнятам, подходят погладить их, напуганные ягнята жмутся к животам маток; солдаты возвращаются на свои походные койки; бараны дрожат. Бежа склоняется над мертвым, встает на колени у его бедер, женщина сидит на корточках перед баранами, скрестив руки на окровавленной гимнастерке. Бежа взмахом ладони подзывает к себе двух вооруженных солдат:
— Возьмите Кобу и отнесите его на маленькое кладбище. Будьте осторожны, из-за тумана тропа скользкая.
Два солдата поднимают Кобу, кровь, запекшаяся в складках его гимнастерки, льется им на руки:
— У него была губная гармошка.
— Оставьте ее у него.
Днем Бежа не касается женщины; только по ночам он ползет к циновке, на которой она спит с горящим лицом, раскинув ноги; она ощущает на своем бедре патронташ и ножны кинжала, на своей обнаженной груди — горячее дыхание Бежи; ладони, липкие от грязи и ружейной смазки, мнут волосы на ее висках, большое, гибкое, тяжелое тело нависает, как звериная тень, над ее телом и покрывает ее; она видит через отверстие в скале звездное небо, где звезды перетекают с края на край, она слышит, как вдали, над морем, птицы и камни летят с утеса, а песчаный берег осыпается в промоины, в которых плещут одинокие рыбы. Бараны вздрагивают, когда его колено скребется о камень между бедер женщины, он стащил ее с циновки, их слюна, блестя, смешивается, одно мгновение она ощущает на лобке холод пуговицы, потом — тепло и ногти солдата на своем плече; бросив взгляд на вход в пещеру, она видит часового, шагающего взад — вперед под луной; ткань штанов между ног натянулась с глубокими складками.
В полночь из пещеры выходят парламентарии, они спускаются на равнину. Солдаты, взбунтовавшиеся против государства, ждут их в ущелье Тилисси. Во главе — молодой капитан с покрытыми шрамами лицом и шеей; все сидят на корточках в зарослях дрока у края дороги. Большинство из них — дети колонистов, родившиеся на Энаменасе; все молчат, они смотрят сквозь твердые колючие ветви дрока, как с горы, бесшумно прыгая по сырому песку, спускаются обутые в синие и черные сандалии повстанцы; они видят ножи, бьющие по их бедрам; они сжимают под мышками приклады винтовок, их руки дрожат на черных затворах, горла, покрытые паутиной, трепещут; мошки скользят по груди, бьются на губах, забираются в щели между кожей и ремешком на подбородке и на щеках, между лбом и каской, прилипают к потным корням волос и ушным раковинам, вьются перед глазами, над бровями; от песка, от дыхания солдат поднимаются облачка пара; солдаты лежат молча, на спинах — потные полосы; сквозь черные стебли, с которых сыпется пепел и личинки насекомых, видны пороги, на которых переливается белая блестящая вода, вспениваясь у берегов; москиты, мечущиеся над дорогой, между рекой и зарослями дрока, отбрасывают тени на песок и камни; в лунном свете сверкают верхушки кустов дрока.
Ствол винтовки блеснул в дроке: повстанец заметил его, остановился, подает знак: все валятся в заросли, пальцы на спусковых крючках. Солдаты стреляют из-за кустов, один из повстанцев кричит и падает под обгоревшие стволы, перестрелка усиливается; солдат снимает с пояса гранату, срывает чеку и, опершись локтем на песок, бросает ее над кустами, она взрывается среди повстанцев; большая черная птица пролетает над местом стычки, взмахи ее крыльев разгоняют дым от взрыва.
Вскоре противников разделяет лишь полоска расщепленных стеблей и пепла; они ползут навстречу друг другу, их пальцы зарываются в пепел, усеянный горячими гильзами; упираясь в пепел животами, они осыпают друг друга бранью, плюются, их крики отдаются эхом в утесах, но в моменты затишья и движения непрерывный ропот реки снова связывает их с миром; наконец остаются лишь двое солдат лицом к лицу; за ними в кровавых следах — трупы и умирающие, рты забиты пеплом, руки на животе, внутренности вываливаются на ноги, колени и губы дрожат; из нагрудного кармана мертвеца выпало разбитое зеркальце, в нем отражаются качающиеся кусты дрока, всполохи выстрелов и лунные блики. Два солдата с пустыми патронташами вцепились друг в друга обожженными пальцами, они резко поднимаются, сближаются и, обнявшись, падают в пепел, катаются по своим еще горячим винтовкам, кричат, вцепившись в горло, в бедра друг другу, плюются, царапаются, кусаются; повстанец срывает с солдата ремень и царапает пряжкой его лицо, солдат, набрав пригоршню пепла, швыряет ее в глаза повстанцу; тот, ослепленный, плюет, плюет кровью, кусается, пепел стекает по его щекам, рот открыт, его зубы блестят над солдатом, извивающимся на земле, под затылком — винтовка, на поясе — граната; за ними — стоны, крики, треск костей, клекот крови во ртах, шевеление внутренностей, в пепле, усеянном лунными бликами, сжимаются и разжимаются ладони; умирающий со вспоротым горлом с силой погружает кулак в рану, брызжет кровь, кулак касается кости разрезанного ножом горла; противники поднимаются, бьют друг друга прикладами, повстанец полураздет, лохмотья рубахи болтаются, хлопают его по телу, разъяренный солдат бьет по ним, стволы винтовок скрещиваются; мелкие птицы, напуганные перестрелкой, возвращаются, скачут по берегу, в порогах рыбы бьются о камни, птицы, щебеча, летают над ними, шум крыльев и плавников над равниной; за ущельем, там, где река расширяется, стая шакалов топчется в тростнике, млечный сок стеблей стекает на их шкуры, равнина усеяна брошенными машинами и орудиями, ржавыми косами, перевернутыми плугами, под которыми ползают ящерицы и змеи; шакалы бегут, ломая стебли, пугая спаривающихся зверей, задрав морды к луне, на зубах пена, языки дрожат, лапы и когти ласкает теплый песок; перед ними встают черные скалы, внизу — колыхание трав, туман от пыли и лесных испарений, еще ниже со снежным шелестом струится река.
Они уже в ущелье, на поле битвы, два солдата, столкнувшись, падают в облаке пепла. Шакалы пятятся к реке, облако рассеивается, шакалы приближаются к трупам, кружат вокруг, нюхают, кусают, роются под ними, урчат, сдувают пепел; шакал хватает солдата за руку, поднимает ее, вытягивает солдата из-под кучи трупов, но солдат еще жив, он хватает шакала за морду рукой, шакал кусает ее, отбегает в кусты, возвращается, на этот раз он вонзает свои клыки в горло, солдат испускает дух, его голова скатывается в пепел, шакал остервенело набрасывается на труп, разрывает горло, грудь, живот, вырывает куски мяса из-под ремня, раздирает бедра, пожирая все: мясо, кости, мышцы, нервы, кожу, ткань; он копается между ног, поднимая мордой член, язык лижет пупок, клыки раздирают его, когти пронзают соски, плечи, упираются в подмышки, вырывая волосы, его клыки хватают разбитое зеркало, окровавленные осколки втыкаются в его десны, в язык, хрустят под клыками, шакал стонет, поднимает лапу и скребет морду, потом снова набрасывается на труп, пытается стащить каску с головы, голова присоединена к телу лишь связкой костей, жил и мышц, в которых увяз ремешок, шакал рвет каску, голова скатывается в пепел, из плеча, блестя жилами, торчит связка, державшая ее, шакал набрасывается на труп, раздирает, вырывает, грызет, тряся головой, упершись когтями в плечи.
Кругом шакалы, завывая, пожирают тела, уткнувшись мордами между ног солдат, волочат трупы за руки, за волосы к кустам, потом, обожравшись, срут на них и, загребая задними лапами, забрасывают дерьмо землей. С набитыми брюхами они спускаются к реке, заходят в воду под пыльными пальмами и пьют большими глотками.
В горах, сжимая в руках винтовки, повстанцы вслушиваются в перестрелку, в крики рукопашной, в завывание шакалов…
Три вертолета, присланные из Энаменаса, кружат над ущельем, они опускаются, садятся на песок, солдаты выпрыгивают из кабин, гранаты и фляги, блестящие на их ремнях, сталкиваясь, звенят; солдаты трут глаза, зевают, потягиваются, поднятая гимнастерка обнажает живот, пупок, подъем бедра, складки кожи между ремнем и перекрученными лямками; винты, замедляя вращение, сдувают песок и траву, вода дрожит, тень винтов рассыпается по серому мраморному утесу на другом берегу реки, стирая уступы и обвалы; прожектор обшаривает скалы, проснувшиеся в гнездах птицы дрожат и растерянно кричат, вылетают и мечутся, словно под бомбежкой. Солдаты, склонившись над трупами, отделяют своих от чужих, заворачивают останки убитых в куски брезента, открывают им рты и вставляют между зубами металлические пластины с выбитыми на них именами, несут трупы в кабины. Некоторые отворачиваются и блюют на кусты дрока; волоча кровавые свертки, они бегут в вихре, поднятом винтами, загребая сапогами гальку и высохшее дерьмо, руки под закатанными рукавами покрыты татуировкой — черепа и голые женщины; отрыгивая пиво и паштет, они чешут, бормоча ругательства, между ягодиц и в паху:
— Эти блядские глисты, жрущие зад, эти вши, жрущие перед.
Порыв свежего ветра пробегает по их голым рукам, стекая, как молоко, по запястьям; в высокой траве бежит шакал, его серая голова скачет над колосьями, облепленными жуками. Солдаты достают из кабин лопаты, идут на место схватки, забрасывают землей окровавленные лоскуты, кровь брызжет из-под их подошв.
На медленно вращающихся, дрожащих над их головами винтах отражается лунный свет. Офицер подходит к реке, ковыряет тростью песок, птичка, оглушенная шумом винтов, порхает у его сапог, офицер наклоняется, подбирает птичку, расстегивает верх кителя, кладет трепыхающуюся птичку под рубаху.
…Волнующаяся трава, опрокинутые бороны, блеск неба, осколки стекла в таящей опасность листве, карабкающейся по берегу, вырывающейся на черную землю, увязающей, задыхающейся в тростниках, шелестящий бунт, розовые стяги рассвета и крови, шприцы под мышками, пронзительный крик, полуденная блевотина на жужжащих кустах ежевики…
Положив головы на дрожащие борта вертолетов, солдаты на корточках дремлют, вздрагивают, руки на коленях, по бедрам, по груди струится пот, волосы смяты каской…
Пальмы взлетают, плывут по ветру, приближается дождь, буря вырывает с корнем красную траву; два солдата, охраняющие гробницу, спят стоя, прислонившись к камню. Я обезоруживаю их, они открывают глаза, улыбаются, позволяют себя связать; камень блестит, по грязному склону горы катятся стволы деревьев, в глубине долины дикие кони топчут листья салата, волки шастают по сену, шуршат надкрылья и усики насекомых, я вглядываюсь в глаза солдат; во дворце из золоченого дерева женщины застилают постели, простыни надуваются, скользят, шлепая по позолоте, во дворе в бочках шевелятся свиньи, кругом порхают пташки, солнце дрожит в синеве, вопят пленные, лежащие в курином помете; ребенок, закованный в броню, затянутый в кожу, тычет в них палкой, они замолкают, тянут к нему руки, разжимают кулаки, из них выпрыгивают лягушки, их песня затихает в грязи; ступни пленных закованы в железные колодки, вбитые в землю; смеркается, ребенок в доспехах падает в пыль перед ними, тени вечерние, смертные тени, пепелище; они чувствуют на губах его поцелуи, река уносит обрывки красной коры и кричащих обезьян; на большом колесном пароходе — синяя облупившаяся краска, ржавое железо, лужи мазута — плывет торговец тканями и рабами; он сидит за пюпитром, один солдат отрезает ткань, другой отрубает рабу ладонь, руку или язык, третий заворачивает каждый отрубленный член в ткань и кидает кровавые ошметки рыбам, поднимающимся из желтой воды; торговец считает, взвешивает, записывает; свертки сложены в кучу на корме, у рулевого колеса, такелаж забрызган кровью; вдоль реки колышутся деревья, звери тяжело поднимаются из-под листвы и скользят к воде, черные и охровые глиняные горы рушатся в подсиненную солнцем воду; тишина, слышно лишь тяжелое шлепанье зверей по грязи, испещренной отпечатками копыт, когтей, хвостов, крыльев, клыков.
Голый ребенок стоит, смеясь, на постели, его ноги зажаты между бедер лежащих отца и матери, служанка спит, прижавшись щекой к ладони; отец ворочается, и ребенок писает ему прямо на лоб, мокрые простыни блестят в лучах солнца, под окном проходят две белые лошади, ветер шевелит их гривы.
Бежа кричит в глубине долины, вокруг него — кости его детей, ветер раздувает пепел, по скале ползет блестящий зеленый рогатый жук; Бежа плачет, вдали, за долиной, под белыми домами, как волны, стелятся травы, белая дорога покрыта мертвыми ящерицами, по ним ступают сандалии детей и туфли теннисистов; в бочках хрюкают свиньи; между островами льется синева, континенты сближаются, боги смешивают священную слюну, лягушка, измазанная золой, прыгает по костям. Бежа садится на бронзовый стул, кости бренчат по его шее, два раба, закутанные в ткань, толкают пленника к его ногам, он отворачивает голову от этого мерзавца, измаранного дерьмом, с ноздрей, пробитой петушиным клювом:
— Возьмите оружие и убейте двух солдат перед гробницей, потом вернитесь и убейте этого пленника, тела бросьте в воду после того, как по реке проплывет пароход.
Два раба в дымящейся на солнце одежде бегут по саду между высокими белыми цветами и плотоядными растениями; за цветочной клумбой хрюкают свиньи, опьяневшие от вина, сохнущего внутри бочек; вверху морской ветер развевает знамена, соль разъедает шесты и сваи. Два солдата убиты, горячие ружья дрожат в потных руках; пленник подскакивает, прижав руки к животу, его череп раскалывается на мраморе пола. Рабы, босые, с голыми руками, слизывают перед королем Бежой соль со своих губ; три трупа покачиваются в кильватерной струе парохода; к колесу привязан раб, с каждым оборотом он, задыхаясь, пуская слюни, погружается в воду; на корме, у рулевого колеса в гнилостной пыли дымится груда свертков. Гробница пуста, на песке копошатся трупные мушки; со стен свисает лишайник, тяжелый от личинок.
Король Бежа испугался наступления ночи, он поднял руки и сказал окружавшим его рабам, солдатам, женщинам:
— Трогайте, трогайте меня все, чтобы мне не умереть в одиночестве.
Он умер, рот ему забили свежими опилками, ноги его отрубили и отдали рабу, которого король оскопил за убийство своих детей по приказу торговца тканями.
Ребенок в доспехах, растолкав женщин, забирается на кровать, сперва он гладит рукой золоченую спинку кровати, потом натягивает одеяло на железный панцирь и засыпает. Под канистрами с бензином разгорается пламя, оно охватывает их, джипы медленно едут среди расщепленных кактусов, на стартере дрожит большая красная бабочка, антенна рации рассекает синий воздух. Я не могу пошевелить губами, слизать с них соль, потрогать грудь и зеркало — это запрещено. Добраться в Лептис Магна до захода солнца; приговоренный к смерти, вдали от матери, от родной деревни; тело разорвут на части и съедят, женщина занимается любовью с куском его мяса, потом пожирает его, не касаясь руками, вместе с мухами и глистами; даже после смерти тело остается желанным, пригодным в пищу, нужным. Отпусти мою руку. Когда я был жив, они рвали меня на части, отрезали куски от ляжки и уносили, каждое утро они открывают мое подземелье, подходят ко мне с ножами и клещами, я — покорный зверек, дрожащий на окровавленной соломе. Их дыхание на моей ободранной руке, они поют, подняв ножи… Нужно идти за проклятым знаменем по цементной платформе над каналом.
— Если откажешься, партизан будет преследовать тебя до самой смерти: повсюду — черная точка. Отныне только страх царит в этом мире: в горах мы сожгли сто деревень, разграбили урожай, съели даже зеленые плоды, рядом со мной корчится юный партизан, я смеюсь: я его ударил.
Меня считали убитым, но я вернулся; еще немного, и я стану царем. Я снова разожгу костры. Прикоснись к бархату знамени. Теперь — больше сострадания. Живите, вытягивайте руки, напрягайте мышцы. Увы, чтобы вызвать страх, нельзя надевать голубое.
Мы идем — и поля, дороги, улицы, дворы, спортивные площадки наполняются пленными, трупами, прокаженными; мужчины, женщины, дети выходят из деревянных домов, раздеваются, надевают свои старые лохмотья. Тень на теле, тень внутри; нож, газ, псы. Уничтожить. Пусть от убийств слезы хлынут из ваших глаз, вы, собаки, возлюбленные Божьи скоты; во время сиесты, присев на корточки у ваших кроватей, я трогаю кончиками пальцев ваши запястья, измазанные кровью и собачьей слюной; они еще дрожат от ударов, их охватывают ремешки, растянутые суками в течке. Верьте мне или убейте меня.
Ад рождается вокруг меня, вздымается, растет. Адская трава. За оградой страха — пустыня, где стерилизованные женщины и мужчины ложатся с открытыми ртами, чтобы умереть… отравленные воды испаряются с лона земли, из ее недр. Адские цветы. Армия разлеглась на глине, бутылки и ножи сверкают между ног солдат; кровь под дождем, собаки кусают детей за колени; партизаны тянут женщин тростями за шею. Тяжелая железная дверь открывается, из тьмы, как тяжелые воды, изливаются две сотни сплетенных между собой обнаженных трупов… толпа детей с обритыми головами, в лохмотьях, ноги перемазаны дерьмом, идет по песчаной дороге, старшие поддерживают младших; сбежав от женщин, ухаживающих за ними, они швыряют камешки в песок. За ними дорожный каток, управляемый молодым партизаном со слюдяным козырьком на голове, катится между пористыми лугами, по которым мечутся истощенные лани. Девочка, которую поддерживал рыжеволосый мальчик, падает на песок; мальчик наклоняется над ней, каток приближается, девочка неподвижно лежит на песке, заколотые волосы падают ей на лоб; мальчик поднимает глаза, видит бензин, капающий из-под желтого капота в слепящих солнечных лучах, он хватает девочку под мышки и тащит ее на обочину; партизан смеется, раздвинув ноги на железном отполированном сиденье, каток настигает девочку, гусеница подминает ногу, почерневшая голова бьется в руках мальчика, гусеница отбрасывает его на землю, давит его спину, кровь и мозг из раздробленной головы брызжут на разрытый песок. Вечером все остальные дети загнаны в камеру пыток и подвешены на крюки со скотобойни; маленькие тела корчатся в резком свете прожекторов — кровь забрызгала неоновые лампы — потом затихают; приходит молодой партизан с козырьком на голове, голый до пояса, с топором в руке; он кромсает колени и запястья казненных детей, его руки, его торс покрываются кровью и ошметками плоти; под ногами каждого повешенного лежит кучка окровавленных обрубков: жилы, мышцы, кости; тела сняты с крюков, разложены на полу; женщины — шлюхи и медицинские сестры, выгнанные с работы — садятся на обнаженные трупы и, тихо вереща, сдирают с них кожу. Они вырывают их зубы и глаза крюками и клещами, потом гениталии для коллекции коменданта. Ногтями, некоторые — зубами, они раздирают нежную влажную кожу. Молодой партизан с легкой усмешкой опускает и поднимает козырек над глазами…
На взлетной площадке солдат ждут грузовики; солдаты выпрыгивают, вытирают ладони о гимнастерки, подтягивают ремни, плюют на шоссе; вокруг затемненной площадки высятся белые стены штаба, под ними ходят заспанные часовые, шум винтов разбудил их, потом усыпил, потом снова резко разбудил, ветерок сдувает в пропахшей дерьмом полутьме пыль с прожекторов и будок; в будке часовой топчет сапогами настил, устланный журналами, комиксами, местными газетами, заляпанными спермой и блевотиной, засыпанными апельсиновыми корками и скорлупой орехов; он поглаживает влажные складки штанов между ног, на бедрах и ягодицах, его ладонь опускается до колена и по ляжке поднимается к ширинке, расстегивает ее и скользит к члену, твердеющему от прикосновения пыльной, грубой руки; сердце учащенно бьется. Шум шагов, бряцание оружия.
Он вынимает руку из ширинки, ждет, шаги удаляются, он снова погружает ладонь; ткань штанов трется о дерево, разрывается о гвоздь, он кладет автомат на бортик, потягивается, разминает ноги, садится на корточки, хватает киножурнал, кладет его на бордюр, разлепляет страницу, смотрит на фотографию шлюхи, прислонившейся к стене вестибюля публичного дома, раскрывает ширинку, из нее вылезает твердый, подрагивающий член; солдат касается его пальцами, ладонью, пригибает его к краю ткани, ласкает у основания; напрягшись, привстав на кончиках пальцев, прижавшись спиной к стенке, он сжимает член двумя руками и трет его; бриз раздувает страницы, шлюха, лицо которой пересекает складка, словно корчит рожи, солдат улыбается, волнующая, детская влажность разливается по бедрам, ползет вниз; перед будкой порхает большая синяя бабочка, солдат сильнее трет член, запах спермы разливается по его груди, пот струится по его горлу и под коленями, ест его глаза. Брызжет сперма, капли падают на дерево настила и на штаны, струя крепнет, изливаясь сгустками на доски; солдат переводит дыхание, сдавливает головку члена, в судорожных сокращениях из него изливаются новые капли, легкие, горячие, прозрачные; солдат снимает каплю с головки члена и, дрожа, затаптывает ее сапогом в пыль; ветерок освежает пот на его лбу, горле, руках; обмякший член лежит между ног на смятой ткани; синяя бабочка пролетает над горячей и влажной ладонью солдата, садится на бордюр, привлеченная запахом семени, его теплом и дрожанием кожи; солдат берет член, катает его по ладони и засовывает в ширинку, застегивается, трет раскрытые ладони, вздрагивая всем телом, одиночество обрушивается на него, шлюха на странице корчит рожи, он берет журнал, швыряет на настил, проводит рукой по стриженым волосам, хватает автомат, вешает на плечо, выходит из будки и идет вдоль стены здания. У его ног журчит родник, заключенный в железное кольцо, он присаживается на корточки, влажный член под тканью катается по ляжке, смачивая ее; солдат погружает руки в родник, автомат бьет по железу, солдат быстро встает; по склону поднимается группа солдат; в перерывах между криками петуха слышны отдаваемые приказы. Солдаты проходят перед будкой. Часовой, поставив ногу на железное кольцо, вдыхает запахи пороха и крови, исходящие от их бедер и стертых подмышек.
Прошел последний солдат… Море, снова море, ткацкий станок, песок засыпает брошенные шины, по пучкам чертополоха ползают тли, горизонт в изломах свинцовых волн, вспышки, туман, водная гладь. Теплое море: на лице часового — испарина, море налегает на берега вокруг острова.
Чайки, остудите море, укройте крыльями мои горящие виски, я вгрызаюсь в ваши грязные перья, пожираю вашу пресную плоть, вытянув руки, измазанные лоснящимся сырым жиром. Пробейте мне клювами мочку уха и ключицу. Смешные и мудрые, вы парите неподвижно над тростником, согнутым, увлажненным ветром, я ползу по глине, с каждым рывком оставляя за собой клочок одежды, усеянный мухами, я радостно хватаю ваши лапы зубами и перекусываю их.
На берегу огромная чайка лежит на спине у костра, лапы в песке.
Я шел дни и ночи, страх вязал мне колени; я зарываюсь в теплое оперение, оно смыкается за моей спиной; пока я сплю, из перьев, из-под крыльев выползают блохи и ползают по моей руке; на заре я просыпаюсь, мой член стоит, прилипнув к влажным перьям, я занимаюсь любовью с чайкой.
Огонь потух, чайка жалобно кричит на песке ночи. В западной реке отразилась заря.
В купе, лицом к лицу, дрожа у окна, забрызганного утренним дерьмом младенца, два враждующих брата примирились под ночной стук колес; по подлеску мечутся фазаны, в расселинах чибисы отяжелели от росы:
— Там я узнал женщин. Одно слово — и они, перелетев над морем, задушат тебя во сне, на синей стене детской проступят картины битвы.
— А я сражался. Ты почитал меня, как короля; я больше не был им, я нес караульную службу, у ног моих — железное кольцо. Один солдат меня любит, я не хочу его, его губы и ладони распухли от крови. Я любил лишь чайку, принявшую меня. На заре она сказала: «Я — твоя мать» и умерла. Три дня и три ночи, зарывшись с головой в песок, я крутился у ее разлагающегося тела. На третий день я увидел в центре земли реку слез; высокие худые лодочники пытались баграми и веслами повернуть ее к богу. Люби, люби меня. Посмотри на эти свертки из плоти и крови, попавшие в сеть, люби, люби меня.
Могучая рука хватает свертки, открывает окно купе и бросает их на стрелку. Моя нога зажата кольцом…
Башмак часового опущен в родник; почувствовав холод на ноге, он дергается, дрожит, озирается вокруг, идет в будку. В глубине двора солдаты складывают на землю куски брезента, заполненные плотью и кровью, потирают ладони, вытирают их о бедра; капитан выкрикивает приказы и уходит в здание; перед его комнатой ждет часовой:
— Господин капитан, второй взвод захватил в патруле феля. Сейчас он в ванной комнате.
Капитан проводит ладонью по лбу, мнет в руках фуражку, снова надевает ее на голову; в ванной стоят три солдата и заместитель командира взвода, фель сидит, прислонившись головой к ванне, руки и ноги связаны, рот в крови, лицо черное, в кровавых струпьях копошатся мухи, на открытой груди — следы от подошв башмаков. Капитан допрашивает феля, тот молчит, он швыряет фуражку на плитки пола, потягивается, снимает китель, расстегивает пуговицы рубашки, поглаживает ладонью грудь, теплый трепет на волосках; в окно влетает птица, мечется по наполненной паром комнате, натыкаясь на трубы и краны; капитан склоняется над окном; птица на несколько мгновений застывает на голове пленного, у нее теплые перья, когти легонько скребут опухшую кожу, ее сердце бьется рядом с пульсирующей жилой. Капитан зарылся с головой в свежие виноградные листья, заместитель командира взвода стоит сзади, офицер подает знак, сержант подходит, облокачивается на окно. Внизу, под листьями лозы, цветы сирени клонятся под тяжестью вцепившихся в них скарабеев, купающихся в лунном свете.
— Вы раздали крестьянам муку? Поведение ваших людей во время операции?..
— Нормальное, уважительное, господин капитан, некоторые сажали детей к себе на колени. Эбер Лобато не прикасался к девушкам.
— Можете идти, я хочу поговорить с ним наедине.
— Будьте осторожны, господин капитан: парень хоть и худой, но мускулистый. Они уходят. Птица снова вспорхнула, фель сидит, опустив голову, капитан выпрямился, его башмак скользит на куске мыла; капитан стоит перед пленником, руки на бедрах. Он вынимает пистолет из кобуры, кладет его на белую табуретку. Он смотрит на ванну, думает о женском теле: одна нога еще в мыльной воде, другая ступает на синий квадратный коврик; лицо и глаза скрыты под копной волос, спадающей на плечи и грудь, на спине и колене — грязноватые мыльные потеки, влагалище на один миг касается края ванны…
— Как тебя зовут?
Фель поднимает глаза:
— Как тебя зовут? Ты еще ребенок… Дай, я посмотрю на тебя.
Маленький фель клонит голову на плечо, рот и глаза закрыты, тень от длинных черных ресниц лежит на щеках. Капитан бросает пистолет к двери, садится на табурет, потом склоняется над мальчиком, перерезает веревки на его запястьях, бросает нож в ванну; мальчик открывает глаза, снова закрывает, проводит руками по бедрам, пытается встать, но падает на колени. Капитан садится на корточки, развязывает веревки на ногах феля, касаясь плечом грязных лохмотьев мальчика, потом встает, идет к окну:
— Я не сделаю тебе ничего плохого. Я отослал тех, кто схватил тебя. Войне конец.
— Я не устал от огня и крови.
— А я устал. Счастливец, ты не утратил желания убивать.
— Хотите меня разжалобить.
Мальчик сжимает пальцами край ванны:
— Я буду молчать. Я молчу. Сдерите с меня кожу, мои жилы не дрогнут.
— Когда мне было столько лет, сколько сейчас тебе, меня пытали: снег лежит на крыше барака; три года я носил на руке, рядом со шрамами от собачьих клыков, лагерный номер. Подвешенное к трубе, мое тело вращалось в наполненной паром душевой; снаружи снег валил на ряды колючей проволоки и сторожевые вышки; приближалась весна. Две тысячи детей жили и умирали в этом аду. Вечером я лег на операционный стол, послушный, как зверек в жару; мы все любили этот закат, усыпляющую маску, маленькую смерть вдали от снега, холода, грязи, собак; над столом светила лампа. Когда я проснулся, в нос мне ударил пьянящий запах увядших цветов, я задыхался от крови; из соседнего зала доносились голоса, звяканье металла, бряцание оружия, шум колесиков, катящихся по кафелю; железная рука вцепилась мне в плечо, подняла меня и сбросила на пол; я собираю свои лохмотья, женщина в белом, пахнущем мылом халате визжит у двери, ее руки в крови, глаза ее мертвы; под лампой раскачиваются дужки весов, в стальной чашке блестят два окровавленных шарика; я смотрю на них, рука бьет меня по лицу, кольцо на пальце царапает мне щеку, я иду к двери, ступаю босыми ногами на снег, ветер сковывает мое тело: «Они что-то вырезали у меня внутри».
В бараке дети — между ног свисают черные, испачканные дерьмом лохмотья — ощупывают меня:
— Что они тебе отрезали?
— Где Пётр?
— Он не хотел больше работать, они бросили его на землю, раздавили очки у него на глазах, топтали его глаза каблуками, Петр поднялся, пошел, вытянув руки, вдоль рва, где сжигали трупы, они столкнули Петра, он упал в огонь, ударившись головой о горящую палку, они, крича, повернулись к нам, мы попятились, они подбежали, схватили Эрику, Сержа, Энн Букстр, потащили их, смеясь, к костру, малыши смеялись и плакали у нас в ногах, мы писались на них сверху, они бросили в огонь двадцать детей…
— Пётр умер, Пётр умер…
Закрыв голову руками, я падаю на свой тюфяк, соломинка щекочет мне нос, я вдыхаю запах Петра; под моим виском лежит колечко светлых волос.
Я уже не могу встать, я замерзаю, мое тело сотрясают удары. Однажды утром меня поднимают, дрожащие руки отрывают мои ладони от висков, меня выносят во двор, там кричат, машут руками дети, их лица испещрены полосками света, тени, морщин, по лагерю разъезжают джипы; я говорю: «Я хочу ходить».
Меня кладут на небольшой помост, высокий офицер, наклонившись, кладет мою руку себе на плечо, с другой стороны меня поддерживает женщина, я поднимаюсь на ноги и иду; на высохшем дереве поет птица; подгоняемые солдатами в белых касках, из операционной выходят закованные в цепи стражники; дети вдруг замолкают. Раздается приказ, на стражников накидывают огромное покрывало. Женщины и девушки ходят по двору с младенцами на руках, с носилками на плечах, мы протягиваем руки солдатам, что — то записывающим на деревянных табличках, мы показываем им наши татуировки, номера, выжженные раскаленным железом, солдаты отворачиваются…
Капитан внезапно склоняется над ванной, он побелел, его руки дрожат на фаянсе, юный повстанец поддерживает его, быстро хватает нож, лежащий на дне ванны, капитан блюет, уперев голову в кран; повстанец поднимает нож и вонзает его в шею офицера; приглушенный крик, большое тело рушится, задевая подбородком край ванны. Повстанец забрызганной кровью рукой отбрасывает нож на синее полотенце, хватает пистолет и выпрыгивает в окно, падает в куст сирени; подняв голову, он видит птицу, кружащую над его головой среди сорванных листьев и сломанных веток. Юный повстанец встает: «…нет, я не устал от крови», завязывает лохмотья вокруг живота и коленей и бежит, перепрыгивая через проволочные заграждения и рвы, сжимая в руке пистолет: «Нет, я не устал от крови. О кровь, я люблю тебя, кровь, молоко духа, семя ненависти, сперма, брызжущая в битве».
Его окровавленный рот блестит в тумане, слюна по кровавой коросте стекает на грудь, мальчик вытирает ее рукояткой пистолета.
Серж смотрит на капли дождя, стекающие по его босым ногам: «Ребенком я был так прекрасен; под моими бедрами — большой горячий камень, под моими ступнями — чистая, отливающая медью вода; на шее, как кольцо — меланхолия. Я был прекрасен, лик мой чист. Слишком любим. Слишком красив. Потом началось — подчинение, ложь, безразличие, скупость, ревность, нежелание видеть других так же ясно, как себя, сомнение, сомнение… над моей головой свистит копье, брошенное из ельника. К моему камню приходят, чтобы молиться на меня; мужчина вынырнул из воды и поцеловал мне ногу. Я выхожу на берег, сажусь, обнаженная женщина прислоняется животом к моей спине. Но я отталкиваю мужчину и женщину, мою синюю рубаху раздувает ветер, женщина падает в обгоревшие ветви; все заслонки плотины в излучине реки сдерживают напор тяжелой золотистой воды, скарабеи раздвигают заслонки, ржавое железо звенит над водой, твои тяжелые бедра, затянутые в бархат, я сжимаю их руками, в их извивах — живое тепло, оно сжигает мой мозг, мои губы ищут щель, чтобы впиться в твое тело, в твое сердце».
…Он встает, поднимается вверх по площадке, входит во дворец, проходит по галерее: два солдата, голые по пояс, играют в настольный теннис в рассеянном свете бури. Серж поднимается в комнаты. На лестнице он обгоняет солдата, несущего на подносе чай, на его свитере цвета хаки блестит золотая медаль. Серж смотрит на него, солдат говорит:
— Я иду к губернатору. Стараемся ему угождать во всем! А ты что здесь делаешь? Я здесь уже месяц и все время вижу, как ты шляешься повсюду без дела…
Серж молчит, капля дождевой воды скатывается с его ресницы на щеку, он бежит по ступеням; поднявшись на площадку выше, он останавливается, засовывает палец под ремень, склоняется к солдату, насыщенный чайным ароматом пар обволакивает его лицо:
— У тебя есть любимая женщина? Солдат поднял голову:
— Да, она ждет меня в метрополии.
— Сколько ей лет?
— Восемнадцать, как и мне.
— Ты мог бы полюбить зрелую женщину?
— Они, конечно, опытнее в постели, но молодых нужно всему обучать, это ведь возбуждает, а? А потом они пробуют, щупают…
Серж вздрагивает. Убегает:
— Она не женщина, она не женщина, я спрошу его, спал ли он с ней, она не женщина, он взял ее из приюта…
Юноша идет по коридору, сердце его учащенно бьется, он подходит к спальне Эмилианы, дверь приоткрыта, он прислоняется к стене, капли дождя, как капли крови, сохнут на его ногах; тяжело дыша, он проводит ладонью по груди, сжимает клокочущее горло, кровь отливает от его коленей, от запястий, он поворачивает голову. Прижав ее к стене, он стоит, скрестив ноги, засунув руку в карманы, ресницы скребут по стене. Серж вынимает пахнущую апельсином руку из кармана, погружает ее под мышку, чешет мокрую от пота спину.
— Эмилиана, Эмилиана…
Порыв ветра открывает ставень в спальне, Серж слышит шорох штор; в саду спаривающиеся насекомые сталкиваются на лету, мерцают камни и цветы, небесная синева стекает по красной черепице, по золоту стен.
— Эмилиана, Эмилиана…
В глубине коридора появились двое часовых, за ними генерал. На другом конце — солдат с подносом; часовые проходят мимо Сержа, идущий следом генерал останавливается, гладит его по щеке, Серж поворачивает к нему голову, двое часовых на пороге кабинета губернатора разговаривают с солдатом.
— Я хочу попытаться убедить твоего отца подавить бунт.
— Папа так устал, оставьте его в покое.
— Ты тоже мечтаешь о мире, а вот твой друг Одри сейчас в Элё. Я первый обнял его после преступления, которое он совершил. Ты видел труп его отца, его разрезанное горло?
— Вам, чтобы жить, нужна кровь.
— Серж, твою мать похоронили красивой, белой, нарядной.
— Я знаю, по ночам я ходил в город; вместе с Одри мы видели смерть, кровь, грязь, червей; вместе с Одри мы подбирали брошенных детей, ваши солдаты нас не видели.
— И ты отводил их к кардиналу, старому развратнику…
— Кардинал их не трогает.
— Ты слишком чист. Серж снова отворачивается к стене, генерал гладит его по плечу:
— Не трогайте меня…
Генерал и три солдата входят в комнату губернатора. Из спальни доносится зов, как стон:
— Серж, это ты? Войди, я так несчастна…
Проскользнув в дверь, юноша медленно проходит через спальню; молодая женщина лежит в полутьме на кровати; на туалетном столике блестят серьги и флаконы; Эмилиана вздыхает под пологом, протягивает руку, Серж подходит к кровати, поднимает полог, садится на край ложа, кладет свою ладонь на ее ладонь.
— Я так несчастна, всю свою жизнь я была несчастна…
Юноша встает, пот течет по его бедрам и икрам, он закрывает дверь, возвращается, садится, лицо женщины едва различимо сквозь туман из пота и слез. Блестят лишь губы, нос, глаза, слюна и пот на дрожащих ноздрях, слезы в уголках глаз. Юноша, продолжая сжимать ладонь Эмилианы, склоняется над ней. полог трет его руку, воспламеняет ее.
— Не надо, Серж, не надо, это несправедливо, как я могу не любить тебя, твою молодость, твое тело, твою кожу, твою неуклюжесть… оставь меня, оставь, о, какой ты горячий!
— Не говори ничего, молчи, я решился, молчи, обними мою шею, мою грудь, не бойся меня, делай то, что я тебе скажу, обними, сожми меня руками, моя дорогая…
— Мой щеночек.
— Эмилиана…
— Да.
Он наклоняется над ней, над ее грудью, вздымающейся в полутьме, он тянется к ней, но Эмилиана нежно отстраняет его ладонь, их пальцы соприкасаются, переплетаются, поднимаются к пологу, Серж касается губами ее запястья, Эмилиана, вздрогнув, отнимает руку, Серж ловит ее и прижимает к своей груди, ладони Эмилианы скользят по его мокрой от пота рубашке, юноша падает на кровать, его колени, на миг поднявшись, распрямляются на простыне, затылок обнимает теплая подушка; рубашка больно трется о его соски, он расстегивает ее одной рукой, другой, сжимая руку Эмилианы, проводит кончиками пальцев по своей груди, скользя тыльной стороной ладони по перламутровым пуговицам; Эмилиана опускает их сплетенные руки на свою грудь, Серж освобождает свою руку, гладит запястье Эмилианы, потом ворот ее платья, накрывает ладонью ее грудь, стягивая пальцами ткань, грудь поднимается, бьется под его ладонью. Эмилиана откидывает голову на подушку, Серж смотрит, как поворачивается ее профиль, как свет обволакивает его, словно заря — маслянистое мерцающее море; рука юноши вжимает ее плечо в постель, ладонь обнажает грудь, Эмилиана вздыхает, юноша шевелит бедрами, его сандалии спадают на пол, он перекатывается на бок, охватив ногами бедра Эмилианы, она лежит неподвижно, Серж вынимает ладонь из-под рубахи и накрывает ею другую грудь Эмилианы, прижимается губами к ее плечу, кусает пропитанное потом полотно; по ее шее струится пот, жилы напряжены, Серж целует ее шею, слюна мешается с потом, рука женщины поднимается к пологу, опускается на щеку Сержа, на его глаза; снаружи, вдали, под сияющим солнцем, свинцовые воды и травы обнимают голый остров, матросские фуражки бьются у пирса, в синих лесах блистают рыбы:
— Эмилиана, посмотри на меня. Солнце растит камни, они падают на пол, свистят в небе, срезают верхушки деревьев, взрываются над водой. Серж, не оставляй меня одну в пустыне, под пальмами этого острова. Повелевай, войди в мою жизнь, ласкай меня, разорви мою грудь, дотронься до сердца, целуй его, ласкай его, я мертва. Твой язык на моих веках, на моих ресницах, я слизываю языком твои слезы, мои губы скользят по твоим щекам, по твоим губам, ощущают твои твердые зубы, под ними клокочет слюна, как пена ночного водопада. Тебя похищает повстанец, целый год ты живешь среди дикарей в военной форме, они пляшут перед тобой, блестят их ноги, затянутые в грязную ткань, они приближаются, ты ощущаешь на своей груди их дыхание, ты наслаждаешься прохладой их животов с прижатыми к ним ладонями. Ночью между тобой и самым красивым из них лежит винтовка, на его приоткрытых губах блестит ворованный сахар, ты прижимаешься к ним своими губами. На заре ты кричишь, плачешь, он, лежа на тебе, вцепился зубами в твой крик, в твое сердце. Это я; твоя грудь на рассвете, пролетающий ветер сушит молоко на твоих губах. Ты кормишь молоком повстанцев, они сосут, лежа у твоих ног, в волосах — еловые иголки, башмаки скребут по замерзшей земле; ветер, кружась вокруг солнца, стирает его, заковывает в лед.
Серж лежит на Эмилиане, сжимая локтями ее бока, его пылающая грудь вздымается над обнаженной грудью женщины, его ладони накрывают ее рот, она улыбается, опускает глаза, тянется к нему губами; живот юноши трепещет, простыня сползает на пол:
— Не спи, не спи…
Но она засыпает, дрожа, ее ресницы трепещут под ладонями юноши. Серж будит ее, лаская соски языком, поворачивает голову и скользит стрижеными волосами по ее плечу, потом поднимается над ней на колени, пальцами, слипшимися от пота, текущего между их телами, медленно расстегивает ее платье — и пламя объемлет его, он неистово ласкает ее груди, живот, потом его мятущиеся, вздрагивающие ладони опускаются и ласкают разом свежую трепещущую вагину Эмилианы и его член, омытый едким потом под легкой тканью шортов; он расстегивает ширинку, запускает ладонь под белую натянувшуюся ткань плавок, достает член и направляет его в пах Эмилианы, натянувшаяся ткань удерживает яйца; отвердевший член касается нежной светлой пряди на ее лобке. Юноша смеется и вздрагивает; его рубашка развевается над грудью Эмилианы; пола волочится по левой груди, сверкают перламутровые пуговицы, с шеи юноши капает пот; блестит золотой медальон Сержа, Эмилиана, приоткрыв губы, ловит его ртом, сжимает зубами, тянет, голова Сержа склоняется к ней, она выпускает цепочку, обвившуюся вокруг его подбородка, тянется к нему губами, юноша целует их, его язык проникает в ее рот, обшаривает десны, зубы, нёбо; Эмилиана прячет свой язык, но язык юноши обвивается вокруг него, на их губах клокочет пена, Эмилиана обнимает Сержа, смыкает руки на его спине, на его пояснице, член юноши входит в нее, из их глаз на подушку брызжут слезы, она запрокидывает голову, стонет, ее пальцы вцепились в ткань его шортов, в пояс, отталкивают его бедра; охваченная желанием, она выгибается ему навстречу; ее ногти царапают ткань шортов, ладони поднимаются к поясу, цепляются за лямки, потом, спустив шорты, скользят по его коже, пальцы ощупывают, ногти царапают потные ягодицы; она ощущает трепет, биение, неутомимую скрытую работу его члена; мышцы Сержа устало обмякают, он понемногу освобождается от спермы и от желания, судорожные движения стихают; пот на их телах остывает, между их животами, как льдинка, зажата лужица спермы; их объятия слабеют, становятся нежнее, их покидает исступление; оно, словно пар, поднимается к увлажненному пологу от их сплетенных тел, трепещущих, как раздавленные насекомые; их ноги разгибаются, как луки, только жилы слегка дрожат. Серж смотрит на Эмилиану; она бледна, щеки и ноздри ввалились, она уже дремлет; юноша наклоняется, слизывает слезы, остановленные сном на щеках; он медленно отстраняется, застывая при каждом ее движении, ложится сбоку от нее на краю кровати, член высунулся из ширинки, живот и подъем бедра липкие от спермы, пряжка ремня блестит на ляжке.
Он встает, соскальзывает с постели, застегивает пояс, нащупывает ногами сандалии, тонкая струйка спермы стекает из шортов на колено; он смотрит на Эмилиану: она спит голая на смятой простыне, ее грудь безмятежно вздымается, приоткрытые губы, иссушенные дыханием, дрожат, как свежие листья на ветерке после дождя и бури, одна ладонь лежит на лобке, другая — между грудей. Серж наклоняется, подбирает простыню, накрывает Эмилиану до шеи; делает шаг назад, член снова встает; Серж подходит к кровати, кладет ладонь на грудь Эмилианы, скрытую простыней, гладит ее; натянутая ткань спадает, соски трепещут под пальцами юноши. Снаружи задувает песчаный ветер. Юноша бледнеет, вытирает ладонью лоб, губы; задыхаясь, он опирается о стену, потом, оттолкнувшись от стены, бежит в туалет, склоняется над унитазом, блюет, двумя руками сжимая фаянс; окно спальни шумно захлопывается, закрывая красное облако; его дыхание над сплющенным островом обжигает воду, пот влюбленных, глаза больных детей, раскрытые влагалища шлюх на порогах борделей; песок заносит косы и серпы, пронзает зубы, зубы во рту крошатся, словно они из песка.
Влюбленные, статуи, скалы, вставайте… катитесь к морю… рыбы и соль съедят ржавчину, прикипевшую к вашим телам; поршни, карбюраторы, оси, колеса, крутитесь, впрыскивайте вхолостую под вечным солнцем, лапы, усики, клешни, зубы, иглы, лезвия, копья, члены, вздымайтесь; слезы и расплавленный свинец, ослепите покаявшегося палача. Облака и дым, бейтесь, как сердце, надо мной; песчаная буря, раскаленный пепел, кожа зверей и людей сыпется с неба, как пыль; от любовных объятий нам остается лишь горсточка пыли, да блевотина на стекле.
— Серж, ты здесь? Что ты делаешь? Ты болен…
Он встает, оборачивается, вытирая ладонью рот, глаза опущены, колени дрожат; сквозь стеклянную дверь ванной он видит лежащую на кровати Эмилиану, простыня отброшена к ногам, смятое платье лежит рядом — голая, дрожащая, пришпиленная бабочка, черные ресницы дрожат; дверь спальни захлопнута ветром. Эмилиана встает, надевает платье, не застегивая, идет в ванну, Серж прислонился к стене, скрестив руки за спиной. Эмилиана застегивает платье на животе, скользит взглядом по опущенным глазам Сержа, подходит к умывальнику, опускает голову перед зеркалом, поправляет волосы на висках и за ушами; в зеркале справа от себя она видит юношу, прислонившегося к стене, он скрестил ноги, шорты смяты, рубашка расстегнута, лоб блестит; он поднимает глаза:
— Я ухожу.
И, шатаясь, идет к двери.
— Нет, останься, подойди к зеркалу.
Она удерживает его за руку, юноша возвращается; они стоят рядом перед зеркалом, его стриженый висок у ее черных горячих волос; пуговица с ворота ее платья обрывается и падает в умывальник:
— Посмотри, как ты меня замучил: щеки впалые, у меня больше нет сил…
Она улыбается; Серж обнимает ее за талию, по его ладони скользят тяжелые, влажные груди; она застегивает полы платья на бедрах, потом на груди.
Он, дрожащий, истомленный, целует ее ухо под прядью волос:
— Оставь меня, Серджио, вдруг папа войдет?..
— Он увидит тебя такой усталой…
— У тебя руки, как у него… ты обнимаешь, целуешь, как он… Она подносит к виску руку и отстраняет его губы.
Они стоят перед умывальником, обнимаются у красного окна; песок, принесенный ветром, обрушивается в трубы, крутится в кустах роз, покрывает воду бассейна, оперение птиц; во дворах нижнего города петухи кричат, пытаясь взлететь против ветра; пять лисиц пролезают под натянутой проволокой и бросаются на сидящих кур, дрожащих, засыпанных песком, куры беззвучно позволяют перегрызть себе горло; ладони Сержа сжимают горло Эмилианы, они смеются, резвятся, хватают друг друга за колени, за грудь, за бедра… целуют глаза; из открытого до упора крана течет красная вода, Эмилиана набирает воду в ладонь и брызжет ею между ног юноши, он гладит мокрые шорты и прижимает ладонь к ее щеке; они вздрагивают, краснеют, Серж проводит ладонью между грудей Эмилианы, его внезапно напрягшаяся рука грубо расталкивает груди, спускается вниз, к животу, ногти скребут пупок, ладонь поднимается, щиплет сосок; тело молодой женщины вздрагивает, она испускает приглушенный крик:
— О! Серджио!
Из ее глаз текут слезы, он не видит их, его ладонь обнимает грудь, его губы, его зубы впились в рот Эмилианы, на них стекают слезы, он отстраняется, видит, что она плачет, его ладонь отпускает грудь, он разжимает объятия; он стоит, кусая пальцы, лицом к стене в углу комнаты; потом поворачивается:
— Прости меня.
Она стоит неподвижно в красноватом свете окна, застегивает пуговицы внизу и вверху платья, ее блестящие глаза смотрят на него:
— Подойди к зеркалу; прости и ты меня.
Он подходит к ней, она наклоняется, их плечи соприкасаются:
— Когда меня в моей постели охватывало желание, я уступала ему, потом я подходила к зеркалу, мое тело горело, ладони пылали, я смотрела себе в глаза — они никогда не опускались — мне было стыдно, но я не закрывала глаз: это ты меня освободил, это ты…
— Теперь уходи, оставь меня…
— Этим вечером я приду опять; ты ведь поедешь с нами в Элё? Приходи вечером к морю! Теперь мне наплевать на Фабиану!
— Ты так счастлив, ты причинил мне такую боль! Ты лишь начинаешь свою жизнь, я — твоя первая радость, ты — мое первое страдание…
Она отталкивает его и задергивает полотняный занавес; он неподвижно стоит рядом, паркет скрипит под его сандалиями, он слышит биение капель по плитке и мерный шум струящейся воды:
— Вода течет по ее плечам, по спине, по груди, она счастлива.
Окно с шумом открывается, красный песок блестит на паркете, на стекле, вокруг сандалий Сержа, юноша подходит к окну, закрыв глаза, склоняет голову, ноздри щиплет песок; положив ладонь на затылок, он трясет головой; по его плечу скользит маленький нож, Серж отскакивает, поднимает занавеску ванной комнаты, встает на бельевую корзину, створка окна хлопает по влажной от пара плитке, он выглядывает, бурая тень срывается с дикого винограда, катится по гравию, встает и убегает: это босой мальчик, одетый в мешок с отверстиями для шеи и рук, он оборачивается, плюет в сторону Сержа, бежит вдоль розовых кустов. Серж замечает часового, бегущего по галерее стены, солдат поднимает винтовку, целится в мальчика:
— Не стреляйте!
Серж вылезает в окно и спрыгивает в сад, бежит за мальчиком, солдат, прищурив правый глаз, прижавшись щекой к прикладу, целится, стреляет, мальчик подпрыгивает, бросается в кусты самшита, солдат стреляет снова.
Пуля пробивает плечо Сержа, другая царапает его бедро, третья дробит правое колено, Серж падает у края бассейна, красные рыбы шевелят плавниками под лесенкой, уходящей ступеньками в ил; солдат опускает винтовку; испугавшись, он спрыгивает с внешней стороны стены и убегает по улицам верхнего города. Мальчик вылезает из кустов, бежит к стене, карабкается наверх, соскальзывает по наклонной крыше и спрыгивает на улицу.
Отец держит голову Сержа, тот стонет; наполненный кровью рот то надувается, то опадает, как у играющего на флейте, кровь хлюпает между губами; посреди лужайки лежит труп большой хищной птицы, высохший на солнце; мальчик, пахнущий самшитом, бежит по переулку, стуча пятками по мостовой, он отталкивает загородку хлева, входит, идет на ощупь, ударяясь лбом о столбы, в темноте, единственная дверь закрылась. Он идет, привлеченный дыханием животных, спотыкаясь о коровьи копыта, залезает на кучу навоза, садится, дрожа, прижимается к животным, ждет; по канавке в середине хлева журчит навозная жижа, его плечо касается коровьего глаза, корова мотает головой и мычит.
Мальчик сидит так до вечера, потом встает, идет к двери, приотворяет ее; внизу, по улице, еще белой от солнца, идет на цыпочках солдат; подняв глаза, он замечает мальчика, тот прячет голову в тень хлева, но солдат уже идет к двери, приклад винтовки, висящей на ремне, бьет его по бедру; на двери, внизу, темно — красной краской написано: «Десант смерти».
Мальчик прячется за коровой, подбородок, живот и колени в навозе, висок прижат к морде животного; он думает о ноже, тогда, днем, блеснувшем на окне, он сжимает и разжимает ладонь, словно силясь ощутить холод лезвия; дверь открывается, мальчик видит на фоне солнечной улицы очертания бедер, расставленные ноги, складки ткани в паху, приклад и блестящий ствол винтовки; мальчик, лежа, как краб, зарывается в навоз, продавливает его животом и коленями, солома колет его ноздри и веки, жижа липнет к губам, ресницам, стриженым волосам и кровавым струпьям на голове, он задыхается, солдат оборачивается, видит полуголого мальчика рядом с неподвижно стоящей коровой, его извивающуюся спину, голый зад, грязные ступни, измазанные навозом колени; сжав зубы, он смотрит налево, направо, замечает стоящие за дверью вилы, хватает их, подбрасывает в руке, выставляет вперед и кидается на мальчика.
Мальчик выпрямляется, встает, скользя руками по навозу, бежит в тень, в глубину хлева, солдат преследует его, тычет вилы в тень, ударяясь лбом о столбы; взлетевший петух, вздымая сухую навозную пыль, машет крыльями над солдатом, путается в ремне, кричит, вцепившись когтями в погоны, соскальзывает по гимнастерке, на один миг складчатый прохладный гребень касается губ солдата; он сталкивает петуха свободной рукой, тот, крича, падает и, проскользнув между его ног, бежит к двери, распушив перья; солдат бормочет: «Блядский петух» и кидает вилы.
Крик, мальчик падает, его пятка зажата между двумя зубьями и приколота к земле, солдат рычит, бьет себя по груди, падает в темноте на мальчика. Мальчик отбивается, солдат откидывает голову назад; прижав его к земле коленями, он бьет мальчика по лицу:
— Жаль, что ты не женщина!
Мальчик вырывается, кусается, ищет пальцами глаза солдата, солдат бьет, зажав его извивающиеся ноги коленями, бьет, его кулак скользит по животу, мальчик голый, ладонь застывает, пальцы ощупывают пупок, солдат ощущает его твердый член, зажатый между напрягшимися ляжками, его ладонь касается члена, охватывает его целиком, слегка сдавливает, кончики пальцев гладят нежный пушок в паху, головка члена согревает впадину его ладони; мальчик успокаивается, его руки, раскинутые по бокам, опускаются на навоз:
— Жаль, что ты не женщина! Жаль, что ты не женщина!
Солдат отпускает член мальчика, встает, спотыкается о его тело, снова присаживается на корточки, освобождает его пятку.
Из темноты звучит неожиданно уверенный голос:
— Еби меня, если хочешь.
Солдат видит, что две маленькие ладони тянутся к нему, но не могут достать. С винтовкой за плечом, он тихо идет к двери, выходит, закрывает дверь. Мальчик вслушивается в его шаги по белой пыли, встает, идет к двери на шум шагов, ждет, прижавшись ухом к доске.
— Солдат скрылся. Мальчика нашли мертвым в хлеву десантников, на его теле — сто проколов от ударов вил…
— О Боже, я ведь запретил все эти хлева, овчарни, голубятни за оградой дворца, за пределами лагерей…
— Десантники держат там скот, награбленный по деревням.
— Кто убил этого мальчика? Солдат?
— Ваше превосходительство, это были десантники: вчера вечером они пришли в столовую пьяные, полуголые, они били тарелки, избивали поваров; я был там, видел свежую кровь на их руках; часовые схватили их, бросили в тюрьму; я слушаю: пятеро или шестеро спят, остальные сходятся вместе, угощают друг друга, переговариваются вполголоса; они свистят, вздыхают, мурлычут, мяукают… потом хихикают, смеются.
Самый молодой, невысокий блондин, встает, выходит из круга, идет к стене камеры, прикрывая глаза дрожащими ладонями, он упирается в стену, расстегивает ремень и пуговицы, резко поворачивается спиной к стене, штаны сползают на колени, распахнутая гимнастерка обнажает правое плечо; он топчет пол сапогами, запрокидывает голову, делает шаг в сторону: солдат, стоящий напротив, выбрасывает руки к стене, отступает на шаг, выгибает спину, снова выбрасывает руки вперед, солдат у стены приседает, закрыв руками лицо, другой шарит по стене, садится на корточки, нащупывает пол, он уже у стены, протягивает руку, сжимает каблук блондина; выставив другую руку, он упирается ладонью в его грудь. Тот, прижатый к стене, кричит, вырывается, другой солдат удерживает его, вдавив кулак в его грудь; остальные солдаты окружают их, распятый солдат вырывается, его тело обнажено, он бьет себя кулаками в грудь, рвет, толкает, его грудь ввалилась, живот выдается из тени, черный пот стекает по члену, мышцы бедер и жилы скручиваются со скрипом (ночью, в объятиях, блеск их кожи, их постанывание, их слюна), солдат падает, голова упирается в стену, руки, подергиваясь, отрываются от груди…
Утром я вхожу в камеру с новой сменой караула, под угрозой оружия они признаются в своем преступлении: напившись, они убили его…
Тело мальчика лежит в госпитале; для его транспортировки нужен кусок брезента или носилки, некоторые части оторваны, сто ударов вилами, Ваше Превосходительство.
Колено Сержа после операции стянуто тяжелой повязкой, он шевелит губами, его голова скатывается на забинтованное плечо, он грызет бинт зубами, у подножья кровати шумит прибой, по чернильному морю плывут фотографии, по валам перекатываются джипы, антенны взбивают грязный воздух, стальные мышцы под кузовом натыкаются на рифы; в освещенной солнцем воде стоят, накренившись на волне, джипы, из распоротых сидений лезет конский волос, морские водоросли между ног у солдат с перерезанным крест — накрест горлом, кровь клокочет в их ртах, стекает в уголки губ, заря покрывает мир, на касках, на коже сидений сверкают кровавые муравьи, красные головы, уши трепещут на утреннем ветру, рыбы кусают золотые медальоны на распоротых горлах, волны красят в черный цвет волосы на затылках, жгучие вспышки соли, вода надувает мою майку, Эмилиана кладет на нее руку, это кровь, я вскакиваю, полдень, скольжу на животе по селитре, пытаюсь встать, в гранитной тени под твоими грудями, мама, я хочу быть завоевателем, римляне, мама, римляне, конь мой дрожит, под его ноздрями — зеленая долина, я завоеватель, но я вижу, как из зеленой воды выпрыгивают лягушки. Мой большой мальчик, не забудь этих лягушек, римляне, мама, земля дрожит под их ногами, я познакомлю вас с Одри, он выходит из кустов, волоча за волосы женщину, его ноги горят. Серж, хватит болтать, засыпай поскорей. Зачем вы до сих пор крестите мой лоб? Лучше перекрестите живот. Спи, мой дорогой. Эмилиана, Эмилиана, если я умру, возьми к себе Одри, положи ему ладони на живот, одень его, он дрожит, колючая проволока царапает его бедра, овцы бегут по стелющейся траве, возьми его, коснись его выбритой кожи, люби его, верни его из Элё, он лежит на тебе в полдень, откинув волосы, после любви ты засыпаешь, тебе тепло под шерстяным пледом. Бронзовый шар летит под облаками, он ищет вас, он падает в деревья, под которыми вы любите друг друга, он давит вас и скатывается в пруд, шипя под водой. Я хочу, чтобы ты называла меня Соссело, чтобы ты касалась моих одежд, чтобы ты поклонялась мне, а не то лисица пролезет к тебе под платье и сожрет тебя, Трацизиус, я выплевываю облатку причастия, она тает на моей груди, соскальзывает в шорты, плавится на бедре, линии высокого напряжения гудят в раскаленном воздухе, пыльца спаривающихся насекомых сыпется мне на ухо; непорочные девочки и мальчики уходят с теннисного корта, прыгают в кусты дрока, преследуя дрозда в туннеле; вы знаете, с тех пор, как перестали ходить поезда, они разводят шампиньоны. Серж, мой маленький поэт, она гладит меня по щеке, кладет мне пальцы на подбородок и улыбается; она убегает, прыгает на рельсы, ее белая юбка скользит по крапиве, капли дождя падают на ее плечи, стекают по сводам и буравят золотой песок, посыпанный угольной пылью. Я догоняю ее, Вероника, обнимаю ее за талию, она откидывается назад в моих руках, отдаваясь мне, я целую ее губы, горькие от угля. Оставь меня, Серж, папа умер в туннеле, они забили его. Она плачет, дрожа в моих руках. Но ты должна быть счастлива, ради него, ради них. Я люблю тебя. Мама умирает. Теперь я буду твоей мамой. В проеме туннеля — ветви, крылья, листья, скалы, прозрачные, искрящиеся, будто стеклянные; Вероника, положи мне ладонь на живот, он пылает день и ночь; это ты там, внутри, положи ладонь, положи. Под огромным одиноким летним листом скрывается пронзительная стрекоза, она угрожает нашим беззащитным губам.
Десантники закованы в кандалы и помещены в дворцовую тюрьму; народ ропщет, окружив дворец, вырывает винтовки у охранников, группа молодых художников разворачивает красный транспарант, на котором нарисован зарезанный ребенок.
На закате губернатор, против воли офицеров — один из них ударил его по щеке, после чего был арестован стражниками и заперт в угольном подвале — решил встретиться с Иллитаном. На броневике в сопровождении двух джипов Иллитана перевезли из Элё в Энаменас. На всем пути следования повстанцы выгоняли детей из хижин и заставляли их махать бело — зелеными флажками; солдаты стояли спокойно в люках броневика: был приказ не стрелять.
Колонна въезжает в Энаменас через Северные ворота, за дворцом. Это самые большие ворота, выходящие на горы, народу пользоваться ими запрещено. Иллитана вытолкнули из машины во двор, он стоит, качаясь, на белом песке.
Губернатор спускается во двор, три сопровождающих его охранника стоят у колонн, передергивая затворы винтовок; солдат держит Иллитана за волосы, оттянув назад его голову, губернатор подходит, охранники расступаются; у Северных ворот солдат отгоняет голых детей; те, что постарше, ищут куски хлеба и мяса в канаве, прокопанной вдоль стены; над ними вороны, тяжелые и блестящие, как слитки стали, вылетают из дыр, летают в тени, но, едва задетые солнцем, возвращаются в гнезда.
Иллитан стоит на коленях на песке, колени кровоточат, солдат бьет его по затылку, губернатор удерживает его руку:
— Не бей его; сколь велика жажда свободы у того, кто не останавливается перед убийством детей; отойди.
Солдат смотрит на генерала, тот поднимает руку, солдат отпускает голову Иллитана.
— Останься со мной. Генерал, проводите Иллитана в ваш кабинет; мы с часовым следуем за вами.
В глубине двора блестит стекло: солдаты эскорта, сидя за столом, пьют пиво, винтовки и подсумки с магазинами висят на ставнях кабинетов. Иллитан встает, генерал ведет его в свой кабинет:
— Ты похож на женщину. Терпеть не могу женщин.
Иллитан прикован к стулу, его голова подрагивает в солнечных лучах; на ставне висит подсумок, под ним вымазанная в глине ладонь солдата, еще ниже, сквозь щель, видна полоска бедра между поясом и тканью, дымящаяся под слабым вечерним солнцем, из пор сочится пот. Губернатор встает, подходит к Иллитану, кладет ладонь на его плечо:
— Завтра мы поговорим еще. Генерал, разместите его в старой школе.
Он поворачивается к часовому, прислонившемуся к двери, винтовка между ног:
— Ты будешь охранять его до полуночи, я буду рядом в моем кабинете. Потом капрал сменит тебя. Ты вернешься в Элё только послезавтра. Генерал, не заставляйте кардинала ждать.
— Я зайду к вам, когда вернусь от него, Ваше Превосходительство.
— И постарайтесь, чтобы вас не находили больше, как позавчера, в оранжерее, под кроватью маленького певчего…
Под подвязанными ветвями, орошенными вечерним туманом, кардинал идет, опираясь на руку генерала:
— Он считает меня идиотом. Ему легко оставаться чистеньким. Его сыну — тоже. Они все гордецы. Он больший бунтовщик, чем это ничтожество Иллитан.
Иллитан лежит на скамье, часовой сидит на парте, одна ягодица на чернильнице, другая — на петле откидной доски; он скребет сапогами пол, посыпанный опилками и крошеным мелом, руки сжимают ствол винтовки; он недавно поел, рот блестит от жира и молока; стражники в столовой кидают ножи в бамбуковую стену, хватают мясо и крошат его в котелке. Перед ним, на доске, висит карта метрополии. На возвышении, в тряпках, возится крыса. Солдат, уставившись на крысу, засыпает, голова клонится на грудь… раздевается перед кроватью, я, голый, потный, лежу под простыней, жду, лифчик скользит по ее животу, цепляется за расстегнутые трусы, прикрывающие истерзанное влагалище и окровавленную прядь волос; она кладет руку на простыню в том месте, где член натянул ткань; на ее туалетном столике лежат гребни, щетки, блестящие флаконы; в фаянсовой раковине — я вижу ее в наклоненном зеркале — дымится кусок мяса. Она ласкает мой член через простыню; на лестнице смеются парочки; она берет мою скомканную, грязную рабочую одежду и трет ее о свой живот, она обвязывает джинсы вокруг груди, кусает пуговицу, одевает их на голову, просовывает руки в штанины, трусы и бюстгальтер висят между ног; разгоряченная, она склоняется надо мной, я обнимаю ее за талию, прижимаю к себе, впиваюсь в ее рот, ее груди трутся о простыню, из них брызжет молоко, она срывает простыню, она прижимается к моему обнаженному телу, молоко течет, струйки скользят по животу, скатываются между ног, образуя под моими ягодицами, поясницей, спиной ласковую лужицу, мой член опадает, ее волосы скользят по моим глазам, залезают под веки, как нить — под ногти, я переворачиваюсь, встаю на четвереньки, толкаю ее под себя, с моих бедер капает молоко, я разрываю трусы и бюстгальтер, приклеенные потом к ее ляжке и бросаю их на пол, на свои джинсы и рубашку, я беру рукой член и вставляю его до половины в ее истерзанное влагалище, ее рука свисает со спинки кровати, опускается на раковину, ее пальцы нащупывают мясо, ее ногти проскребают крестик на дымящейся плоти, потом разрывают ее, ее ладонь сжимает горячий, черный, розовый внутри, ошметок, подносит его к моему рту, я лижу, кусаю мясо, приподняв голову с подушки, она хватает кусок, сжимает зубами, ее горло, мое горло, мой член раздуваются, мое копье касается ее сердца и убивает его… На доске висит карта метрополии; солдат вздрагивает, проснувшись; между ног — влага, он встает, идет к доске, прижимает тряпку стволом винтовки, его пальцы стряхивают следы мела с доски; крыса, подпрыгнув, прячется под трибуной, удар ногой, писк, солдат громко смеется, опускает ствол винтовки на спину крысы; сжав зубы, изрыгая пену, он подталкивает крысу к сапогу, подминает ее ногой и медленно давит ее голову; он берет тряпку, встряхивает ее над крысой, швыряет ее на пол, ставит на нее ногу, вытирает подошву, отбрасывает крысу под трибуну; сдерживая приступ тошноты, он вытирает испачканные мелом руки о бедра, присаживается на корточки, вытягивает крысу за хвост, встает, подходит к Иллитану и швыряет крысу ему в лицо; солнце умерло, слышен лишь шум деревьев и шорох песка. Солдат подходит к окну, дышит; официант из столовой протирает стол мокрой тряпкой, солдат ощущает запах пьяной блевотины, он видит сквозь ставни блестящие под песчаной луной ладонь и тряпку, напряженные мышцы под светлым пушком; официант свободной рукой зажимает нос, по доскам стола скатывается грязная пена, официант, голый до пояса, улегшись на стол, тянет руку, останавливает ладонью пенную пелену и собирает ее тряпкой; когда он тянется дальше, трусы на его заднице выбиваются из под шортов; солдат вспоминает своего младшего брата, присевшего на корточки за игрой в шары…
Вверху сталкиваются солнечные зайчики; под сводами крон, под дрожащими от тяжести воронов и сорок ветвями гусеницы танков пожирают песок, усеянный взметенными ветром листьями; солдаты бросают ножи в ободранные стволы; река, плоты, на которых распяты семьи бледнолицых, трупы с обнаженными коленями и грудями гниют в неподвижной, покрытой бензиновой пленкой воде; выпрыгивающие из воды рыбы хватают ступню, ладонь, лоскут одежды; в воде дрожит кинжал. Танки продвигаются по равнине. Мама выбрасывает в окно матрасы и подушки. Папа на соломе извивается на девушке, которую первые солдаты пригнали с моря; это скифы; мама открывает им рты и набивает их луковым пюре; входит Мариан; они сидят на сене. Мама закрыла двери сарая; мы с Гансом смотрим в щели дверей, моя сестренка забирается на сено, садится рядом с усталыми солдатами, их глаза закрыты, их губы измазаны луковым пюре, она гладит их светлые волосы, просовывает пальцы в дыры их свитеров, она расстегивает ширинки их синих саржевых штанов, ее ладонь ложится на живот, потом берет теплый член и дрочит его; раскачивающиеся вокруг сарая, во тьме, высокие ели опускают ветви в холодную воду пруда; скоро придут другие солдаты, персы, они хватают мальчиков за члены, уводят их с собой, чтобы продать данакилам из другой армии; Мариан сжимает губы, Ганс вцепился пальцами в мою грудь, его член, прижатый к моему бедру, встает:
— Это же Мариан, щенок.
Солдаты, освободившиеся от семени, откидываются назад, положив ладони под голову, раскинув ноги на соломе. Мариан вытирает пальцы о солому:
— Мерзавка, мерзавка, я убью ее, заставлю ее съесть свои пальцы.
Слезы из моих глаз стекают на дрожащие губы.
— Мама ей позволила, они переговаривались, когда резали лук.
— Она тоже мерзавка, я скажу папе.
— Папа спит с девушкой… знаешь, она сегодня вечером в прачечной разрешила мне потрогать свои ноги.
Моя пощечина отбрасывает его в темноту, он плачет, прижав руку к щеке. Мариан спрыгивает на пол сарая, она вытирает ладонь о платье, на ее ладони кровь, кровь и шерстяные нити, она открывает дверь, видит нас, я бросаюсь на нее, сжимаю ее горло, кричу, плачу:
— Мерзавка, мерзавка, мерзавка…
Я засовываю кулак ей в рот:
— Ешь, лижи, ешь, ты думала, это — вино, нет, это слизь улиток, лижи, лижи…
Я вижу кровь и нитки на другой ее ладони, она отрывает мои пальцы от своей шеи, падает на колени у моих ног:
— Это кровь, я стягивала их сапоги, на их носках была кровь. Не бей меня. Кончиками пальцев я ощущала их усталость. Я думала о тебе; это тебя я усыпляла своими прикосновениями…
В соседней комнате солдаты катают бочки, они смеются, садятся на бочки верхом, словно на женщин или лошадей.
Это чтобы усыпить их, я бью ее, она хватает мои руки, я бью ее коленом в живот, чтобы убить ребенка в ее чреве; я сжимаю ладонями ее бедра, крысы бегают под ее кожей, между мышцами, взбираются, пища, на живот; вцепившись в мою руку, она обнимает мою талию, грудь, дрожит, стучит зубами, она вся почернела, крысы продираются под щеками, под плечами; ее крик разбивает мою голову, как огненный цветок, я сжимаю ее плечи, чувствую, как крысы поднимают морды под моими пальцами. Она извивается в моих объятьях, кусает волосы на моем затылке, раздирает мою рубаху, я сжимаю крысу в ее плече, душу ее, чувствую, как она трепещет, умирает, коченеет под кожей, омытой слезами и потом, на ложе из жил и стянутых мышц; я смотрю на ее искаженное лицо, беру ее ладонь и кладу между ног, заставляю ее взять мой член и дрочить, сперма стекает по моим ляжкам, смачивает ткань моих шортов, крысы покидают ее тело, ярость — мою голову…
Иллитан, опустив голову, всматривается в пыль на полу: длинные черные звери мечутся в щелях паркета, складки на башмаках, свежие царапины на дереве.
— Ты воняешь, как свинья.
Солдат наклоняется к нему:
— Вы там, в маки, моетесь когда — нибудь? А как вы целуетесь? Ты целуешь своих бойцов, прижав их к скале, правда? Все ваши, которых мы поймали, говорят, что у тебя во рту лезвие. Дикари.
Он возвращается к парте, садится, смотрит на сидящего на корточках Иллитана, на крысу рядом с ним, на клочья кровавой пены на его губах…
Она одевает меня, лаская мое тело; я устал, и она уложила меня на свою постель, я был голоден, и она вспоила меня своим молоком, я был покинут, и она вошла в меня, защитила мое тело, вооружила его. Потолок над дверью обрушился, в щелях между досок, под штукатуркой, возятся летучие мыши:
— Каждый вечер я убиваю по паре.
Я встаю с постели, ставлю босую ногу на коврик у кровати, два трупика, еще теплые, хрустят под моей ступней… протягивает руки, обнимает меня за талию, ее палец упирается в мой пупок, ноготь царапает его, я резко поворачиваюсь, она лежит голая на забрызганной кровью простыне, черный пушок на лобке блестит, пот стекает по ее ляжкам:
— Ты грязная шлюха, грязная шлюха.
Она опускает веки, гладит ладонью мой член, я иду к окну, я силен: за две недели мои руки окрепли, мышцы живота отвердели, эта шлюха, я причинил ей боль, мои кости раздавили в ее чреве зародыш ублюдка, с ее бедер слетает ветер, под светом прожекторов развеваются знамена: «Я тоже пленник», мне холодно, волосы на затылке зудят.
— Тебе позволили прийти поцеловать меня?
— Да, я еще скучаю по тебе.
— Входи, но это в последний раз, потом ты будешь уставать… Они заставляют тебя много работать?
— Нет, я работаю в саду, зарываюсь в землю; по вечерам нужно возвращаться, чистить инструменты доктора, я украл один из них, я убиваю им мышей и стрекоз; я сплю рядом с нянькой; раньше каждый вечер приходили жандармы и запирали меня…
— Тебя схватили с оружием в руках.
— Я бежал через руины, реки, по трупам; здесь я нашел взвод солдат, они сказали: «Сразимся, вернемся в нашу страну, чтобы защитить наших жен и дочерей», я говорю: «Они убили маму, изнасиловали и убили Мариан, бросили Ганса в огонь».
— Я сижу в траве, на черной земле корчатся черви, раздавленные прикладами винтовок; низ неба красен, из кустов порхают птицы, утром на заре меня схватили.
Окно открывается и упирается мне в бедро.
…Я голоден, я прыгаю в сад, поедаю зеленые плоды, спрятавшись за простынями, хлопающими на ночном ветру на веревках, натянутых над сверкающими камнями, луна убегает за облаками; с простыней стекает мыльная вода, я присаживаюсь на корточки, на мои мокрые ягодицы опускается рука, бережно, как птица, севшая, чтобы снова взлететь; рука скользит по ягодицам, поднимается по ляжкам; на горизонте, за лесами, встает, как крыло, как плавник, гигантская тень; рука говорит: «Все кончено, они победили. Умрем».
Рука опрокидывает меня между ног сидящего на корточках высокого офицера, я отбиваюсь, отталкиваю локтями его колени:
— Я не хочу умирать. Три дня и три ночи я искал кого-нибудь, чтобы умереть с ним.
Он прижимает меня к груди, я качаю головой, его ладонь опускается на мой живот:
— Но прежде я хочу выебать тебя.
Я ощущаю на ягодицах его член, встающий под тканью штанов, я опускаю голову, мои волосы спадают на его ладонь, я впиваюсь в нее зубами, он отпускает меня, я вырываюсь, на моем затылке сохнет его слюна, я бегу, натыкаюсь на колючую проволоку, кричу: пальцы ног, колени, пупок расцарапаны в кровь, высокий офицер преследует меня, я отталкиваю шлагбаум, закрываю его за собой, он бежит следом, его медали, галуны, пряжки блестят под луной; кобура пистолета бьет его по бедру, я ненавижу цвет его униформы; мама говорила: «Они убивают детей, бросают их в огненные рвы».
Папа говорил: «Я люблю моего вождя, эти дети хуже бездомных щенков».
Один из солдат — его глаза завязаны, руки покрыты мехом — находит Мариан, лапает ее живот, папа подходит, прижимает ее к стене, говорит: «Не бойся, это не страшно».
Мама и Ганс зарезаны в свинарнике, солдат удерживает мои связанные за спиной руки, папа расстегивает штаны, Мариан дрожит, я кричу, вырываюсь, на мои ноздри, на голую грудь, брызжет пена: «Не делай этого. Мариан, задуши его. Убей его, Мариан». Она тихо стонет, дрожит, ее ноги корчатся в грязи, солдаты вокруг смеются, их светлые волосы залиты вином; голова Мариан опускается на папино плечо, он выпрямляется, голова подскакивает; высокий солдат с выщербленным стаканом в руке заходит за папину спину, вынимает из-за пояса саблю, я молчу, горячие слезы брызжут из моих глаз, стекают по щекам на руки держащего меня солдата; высокий солдат поднимает саблю и вонзает ее в папину спину, он заводит руку назад, пытаясь оттолкнуть пронзающую его саблю, клинок протыкает Мариан и гнется, упершись в камень; два тела падают, увлекая за собой сжимающего саблю солдата; горят тополя, между стволов визжат свиньи, солдаты расстреливают их в упор, животные подпрыгивают, натыкаются на стволы; пепел и горящие головни падают с веток на их бока; деревья разгораются, ветки пылают, верхушки рушатся, солдаты хватают их, раздувают, бросают на свиней; свиньи горят до вечера, солдаты цепляют туши вилами, волочат их по зеленой траве, разрубают на части и пожирают горячими, выплевывая не прожаренные куски; трава усеяна обугленными костями; я пьян, они открывают мне рот, заталкивают в него мясо, гладят меня по губам, по плечам; мои веки опалены, они напяливают мне на голову каску и бьют по ней саблями и прикладами винтовок; в отсветах пламени я вижу, как пьяный солдат волочит за ноги вокруг костра тело моей матери; тополя рушатся в ледяную воду пруда, пепел рассыпается по траве, я протягиваю ладони к огню, солдат обнимает меня под мышками за грудь, мама поворачивает голову ко мне; ступни и колени Ганса торчат из свинарника; мамина голова подскакивает на камнях; горит куст сирени у свинарника; огонь подступает к воде, облака плывут к морю: «Не мсти, живи, люби, люби…», солдат толкает ее ногой в огонь, ее плечо шипит под головней…
…«Иди ко мне, погрейся, иди».
Я иду к двери, поднимаю руку, мой кулак осыпает штукатурку, в зеркале я вижу свой потный лоб, она тянет ко мне руки, я бросаюсь на нее, пожираю ее, мой покрытый известкой кулак раздвигает губы ее влагалища: «Сколько мужчин пожирают тебя днем и ночью?..», я бью ее по лицу, кручу ее соски, пригибаю к ним ее голову, вдавливаю пальцы в ее живот: «Ты любишь меня потому, что я одинок, потому, что я пахну ветром», потом я люблю ее, мы любим друг друга среди неподвижных вещей, оконное стекло заглушает шум водопада, ее живот, груди, плечи подо мной, рыбы в золотистом поту: «Потому что у меня нет ничего, что ты могла бы любить, кроме моей кожи, моих глаз, моих волос, моей спермы».
Ах, я ползу к морю, я горд тем, что нахожусь рядом с капитаном, наши волосы соприкасаются; сидя в джипе, я ем печенье, в синем небе — красная кремниевая крошка, цветы и растения испускают млечный сок, трава, по которой катали изумруды, кишит скарабеями; моя ладонь лежит на раскаленном стальном листе, пальцы вцепились в красный катафот, взрываются пыльные вишни, щека лейтенанта забрызгана, кровь намочила воротник рубашки, но он улыбается, разговаривает с шофером, оборачивается, улыбается мне, говорит со мной, его губы шевелятся, в уголках блестит слюна:
— Господин лейтенант, вы не ранены?
Я горд, джип мчится по колышущейся пшенице, по мантиям коронации, стыд объемлет меня, как кровь. Выше стыда — моя слава; в траве пылают трупы, полдень взрывается бензином; в темных, прохладных глубинах аллеи птицы сбиваются в стаи, они поют, когда сжигают трупы; виселицы, телеграфные столбы, блоки срываются в огонь; по снежному склону пробегает солнечный луч, солдаты сжимают нам горло: «Смотрите, что вы сделали»; за огненным кольцом, скорчившись, лежит на траве детский труп с обугленной ногой; я стою за спиной высокой женщины в пальто, я опускаю глаза на ее бедра, она смеется, ее бедра дрожат: из пламени показывается длинная тощая нога, потом рука, женщина смеется взахлеб, солдат с весенними листьями на каске, стоящий рядом со мной, бьет ее прикладом винтовки в плечо, женщина падает головой в костер; ее руки вспыхивают с бумажным шелестом, пепел кружит над телами, объятыми пламенем, как рой хмельных насекомых.
Я стою перед огнем, солдат берет меня за плечи, разворачивает, проталкивает сквозь толпу деревенских; офицер в джипе смотрит карту, он поднимает глаза, берет меня пальцами за подбородок, на железном сиденье рядом с ним сидит молодая женщина, она выходит из джипа, подходит ко мне, солдат отдает честь:
— Пойдем, Филипп, этот запах ужасен.
Офицер бережно подталкивает меня в руки молодой женщины.
— Надо, чтобы они видели.
Она прижимает к себе мое маленькое дрожащее тело, мои глаза закрываются на цветах ее платья:
— В Бандере, во дворе лагерной лаборатории, мы нашли триста детских трупов, кастрированных и исколотых шприцами; в Соссело, вдоль шоссе — пятьсот детей — солдат, повешенных за дезертирство.
Она берет меня на руки, поднимает в джип:
— Они внушали ужас, теперь, отрезвев, пусть ощутят его сами — он им больше не принадлежит.
Я засыпаю.
Вечером я лежу в шезлонге на опушке леса, на террасе большого деревянного дома с каплями золотистой смолы на бревнах; у опущенных хлопающих штор жужжат пчелы, травы урчат; на пальцах моих ног сплетаются две змеи.
Она выходит из дома, кладет руки на шезлонг, касается моих плеч; офицер сидит справа от меня, расстелив на колене платок с разобранным пистолетом, который он чистит, не говоря ни слова:
— Здесь нет этого ужасного запаха.
Она вводит меня в дом, усаживает на кухне, приносит мне фрукты, яйца, молоко; усевшись напротив меня, она смотрит, как я ем, ее ресницы опускаются, когда я поднимаю на нее глаза; входит офицер, открывает шкаф, берет нож:
— Для твоего пистолета? Но, дорогой…Она вытирает мне губы салфеткой из синей бумаги, стоя за моей спиной, она держит в ладонях мою голову и целует меня в затылок; потом она провожает меня наверх, в красную комнату; кровать стоит перед окном с раскрытыми шторами; она оставляет меня посреди комнаты, я иду к кровати, привлеченный белизной и нежным ароматом простыней; она открывает шкаф, достает из него пижаму, подходит к кровати, я сижу, мои колени дрожат, она садится рядом, обнимает меня за плечи, ее пальцы касаются моей щеки, ее грудь согревает мое предплечье, другой рукой она расстегивает мою рубашку, потом снимает ее и складывает на постели, я поднимаю руки, она стягивает с меня майку; над деревьями золотится небо; пижамная куртка касается моей груди, молодая женщина присела к моим ногам, она снимает с моих ног сандалии, потом я встаю, расстегиваю ремень, штаны спадают на колени; раскрытый ворот ее платья приоткрывает ее груди; луч света, упавший из окна, перебегает по полу к ней, освещая ее юбку, сквозь ставшую прозрачной ткань я различаю ее бедра.
Ночью я плачу, лежа в постели, я стону, она открывает дверь, садится ко мне на кровать, ее ладонь ложится на мой горячий лоб, она чертит на нем крест: «мой толстячок, мой толстячок…», ее распущенные волосы струятся по плечам, по ночной рубашке; на талии, на бедрах, на груди — едва заметные следы пальцев: объятия офицера, его руки еще в ружейной смазке, под ремнем, на груди и под мышками — пот; ногой под одеялом я касаюсь ее бедра; ее губы дрожат; черные раскачивающиеся верхушки сосен сбрасывают птичьи гнезда; птенцы верещат, перепрыгивая с ветки на ветку, да, я слышу их, а еще — шум зеленых ручьев и крики слепых у костров.
Грубоватый голос зовет из коридора:
— Дорогая, иди сюда, ты простудишься.
Она вздрагивает, голос становится нежнее, женщина еще раз чертит крест у меня на лбу, встает, наклоняется, целует меня в щеку; она выходит из комнаты, оставляя дверь открытой, я слушаю: она ложится на кровать, офицер привлекает ее к себе:
— Завтра они схватят меня и выдадут скифам.
Тогда я встаю, дожидаюсь, когда они ослабят свои объятия, одеваюсь, беру в руку сандалии, спускаюсь по лестнице, толкаю застекленную дверь, выходящую на террасу, черный ветер с деревьев опрокидывает и душит меня, но я встаю и бегу по долине, держа сандалии в руке. Я встаю на мельничное колесо, теплая пена брызжет на мои колени и бедра, в воде плавают, крутятся на медных камнях полу обглоданные трупы лицами вниз…
Солдат вскакивает, Иллитан извивается на полу, солдат сжимает винтовку.
В кардинальском дворце официанты держат серебряные и фарфоровые блюда над плечом генерала; в начале обеда темный двор под окнами столовой наполнился криками и смехом: маленькие кастраты играют в мяч, в пятнашки, бегают взапуски; генерал жалеет, что обед начался, он представляет себе стянутые фланелью бедра, приклеенные потом ко лбу челки, тонкие, охрипшие, трепещущие горла; официанты знают о желаниях генерала; они обещают избранным им маленьким кастратам лучшие куски, добавку, разрешают им прятаться на кухне во время принудительных игр, при условии, что они не будут кричать, когда генерал обнимает и ласкает их.
Официанты — молоденькие солдаты: за спиной генерала они постанывают, визжат, втягивают и надувают живот; кардинал глух, подслеповат; иногда генерал быстро проводит локтем по бедру официанта; перед обедом он оставил кардинала, расспрашивавшего о его «смятенной душе», и спустился в подвал; он открывает дверь кухни: работники в шортах, обрезанных по карманы, склонившись над плитами, копошатся в облаках пара; в глубине, в маленьком алькове, освещенном забрызганной кровью лампочкой, работник рубит кусок мяса; его шорты пропитаны жиром и кровью, расстегнутая рубашка и перед шортов покрыты обрубками жил, пушок на его губе, на его щеках и подбородке блестит от розового пота; генерал подходит, опускает голову под дверной перемычкой, работник бросает ножи и встает по стойке «смирно», его пальцы теребят край шортов, пуговица висит на ниточке между ног; генерал опускает взгляд:
— Вольно, пришей пуговицу.
— Слушаюсь, господин генерал.
Генерал протягивает руку к его животу, трогает шорты, берет пуговицу, работник улыбается, кладет правую руку на ткань шортов между ног, слегка касаясь ладони генерала; работник кусает губы, его живот колышется, он разражается смехом; генерал резко отрывает руку; работники на кухне поднимают головы, генерал делает шаг назад, работник прикрывает рот окровавленной ладонью, смех продолжает сотрясать его живот и плечи; генерал протягивает к нему ладонь:
— Продолжай работу.
Работник склоняется над столом, берет в руки ножи и вонзает их в кусок мяса; генерал оборачивается, идет на кухню, проходит мимо задов и голых ног склонившихся над плитами поваров. Его взгляд подмечает за облаками пара овал щеки, биение век и ресниц, подъем плеча, смешанный с грязью пот, стекающий по шейным венам, изгиб бедра под ремнем, мокрую, смятую, выбившуюся на боках из-под ремня рубаху, пот на коленной впадине, край шортов, задранный до ягодиц, движение плеча под натянувшейся рубахой, выступы ключиц, сходящиеся на венах шеи; генерал дрожит от их трепета, его бедро, колено, рука, плечо, объяты смятением: «Броситься на эти тела, готовые для наслаждения, обнять эти крепкие, влажные спины, прижаться животом к этим ягодицам, к этим мускулистым ляжкам, сжать эти бедра локтями, скользя пальцами по животу, вдавливая их вниз, до члена, вырывая волоски, соскребая ногтями пот на лобке; потом моя ладонь распрямляется, проходит под членом и сжимается на яйцах; другая ладонь держит член, ощущая, как он крепнет, напрягается, греется и краснеет, как раскаленное железо; грызть, лизать волосы на затылке и над ухом, кусать ухо, вылизывать его внутри языком; юноша возбуждается от щекотки, по его горячему, потному телу пробегает дрожь, мои плечи дрожат, волосы колют глаза, из них на его виски брызжут слезы, он, обернувшись, выпивает их; мой язык по-прежнему обшаривает его ухо, его член бьется о мою ладонь. Остальные лежат на плиточном полу, среди угля и раздавленной кожуры, в липком чаду, раздвинув ноги, вцепившись пальцами в грязные края шортов, стягивая их и открывая тень члена, падающую от света из окна и от забрызганной кровью лампочки, этот свет блестит на омытой потом тени, ожидающей мои губы; они корчатся на кафеле, выгибаются, касаясь плиток только затылками, плечами и пятками, подставляя бедра и животы; задранные рубашки спадают до подбородков, затыкая рты удушающим кляпом; они вращаются, ткань шортов трещит, освобождая скованную кожу, так в полдень открывается дно наполненного водой сосуда; они извиваются, обнимаются, шорты трещат, рвутся, ноги переплетаются; они медленно скользят друг к другу, как змеи, сплетающиеся в клубок после охоты…»
— О чем вы мечтаете, генерал?
— Я смотрел на закат, блестящий в щелях ставен, как пот в тени.
— Вот уже почти две недели мы не видели губернатора и нашего дорогого сына Сержа, маленького Серджио.
— Губернатор плохо знает солдат, он хочет очаровать их, заставить их забыть о солдатской доле; только я понимаю этих зверенышей; нужно подчинить их, командовать ими, заставить их плакать, тогда они будут верны вам до смерти; ожесточить их сердца двумя — тремя казнями, разрешить им насилие, тогда они за вами, рядом с вами, спят по ночам у ваших ног.
— Мне говорили, что они грязны.
— Да, некоторые месяцами не стирают форму.
— Генерал, вам необходимо по утрам присутствовать при их одевании.
— Вы искушаете Господа, Монсеньор.
Кардинал прикладывает согнутую ладонь к уху:
— Я говорю: Господь видит их белыми и нагими, такими, как он их создал.
— Да, Господь видит нас белыми и красивыми.
— …обнять их всех до последнего, бить, приказать высечь того, кто прикрыл рот окровавленной ладонью и зарезать его этими ножами; убить всех невинных, тогда снизойдет на меня великий покой, зеленый ветер окутает мир.
Обед закончен; перед наступлением темноты кусты, обрамляющие пустынный двор, раздвигаются, пропуская повстанцев, прокравшихся в сумерках по теплым террасам архиепископства; они прыгают со стен, перебегают сад с легкими винтовками в руках; их сандалии приминают влажную землю вокруг бассейнов; генерал услышал шум прыжков, он подходит к окну, видит дрожащие кусты. Кардинал берет салфетку, встает, сутана цепляется за стул, он качается: «Генерал, генерал…», он плачет, тянет руку к двери, бросает салфетку на стол, звенят два бокала, генерал оборачивается:
— Ничего не бойтесь, Монсеньор. Он берет трубку полевого телефона:
— Стены охраняют стражники.
— Пусть возьмут золото, серебро, только…
Выстрел, перестрелка, генерал выталкивает кардинала в коридор, сестры с криками окружают его, складывают ладони, кардинал начинает молитву, уставившись на лестницу, ведущую в подвал. Стражники продвигаются по саду, падает один повстанец, потом другой, повстанцы убегают в лунном свете, стражники бегут по стенам; в коридоре — прохлада погреба проникает под платье — самая юная сестра хлопает в ладоши, потом ее лицо застывает, она бросается прочь, вырывается из рук, пытающихся ее удержать, подбегает к окну, под которым сидит на корточках генерал с телефоном на коленях, глядя на стычку в свете луны.
Стражник и повстанец сцепились на краю бассейна, кровь окрасила неподвижную воду, генерал тянет юную сестру за руку, она сопротивляется, потом присаживается, генерал опирается на ее плечо, она дает ему пощечину и убегает; генерал гладит себя по щеке: «Ох, уж эти женщины, эти женщины… парни гораздо послушнее…». Юная сестра пересекает кухню, работники лежат за плитами, она распахивает застекленную дверь, выбегает в сад, оранжерея освещена, молодой человек удерживает маленьких кастратов, упершись руками в дверной косяк; сестра бежит вдоль кустов, генерал звонит во дворец, подкрепление — двадцать заспанных пьяных солдат — погружено на машину и сброшено у ворот архиепископства; юная сестра бежит к двум дерущимся на ножах у бассейна, бросается между ними. Она бросается между ними, на ее грудь льется их кровь, ее голова бьется об их плечи, вклинивается между их грудями, ее окровавленный чепец сминается; юная сестра, крича, как птица, упирается головой в тела дерущихся, потом — клинки касаются ее щек — она сбрасывает чепец и расстегивает ворот платья, волосы растекаются из-под чепца по расстегнутому платью; девушка выпрямляется, встает, выпятив грудь, солдат отпускает повстанца, его рука, сжимающая нож, опускается, касается груди девушки, лезвие касается другой груди, девушка стонет. Повстанец опускает руку на ее грудь, два ножа звонко скрестились под ее шеей, холодные, омытые розовой кровью лезвия касаются ее пульсирующих вен, ладонь солдата разжимается на ее груди, пальцы повстанца, лежащие на открытой груди девушки, касаются пальцев солдата.
Стрекозы, изгнанные сражающимися из кустов, летают над красной водой. Девушка видит их черные хвосты, изгибающиеся под дрожащими крыльями; два противника тяжело дышат, их вздымающиеся груди прижаты к вискам зажатой между ними девушки.
Шум схватки удаляется, тени солдат и повстанцев вдали качаются по гравию, как медведи.
Генерал сидит на корточках, сжимая между коленями телефон, кардинал и сестры вздыхают в коридоре:
— Губернатор, нападение отбито…
«…сорвать эту рясу, сжечь знаки различия, тот, с ножом мясника, бросает их в огонь, присев на корточки, на лице — отсвет пламени, я тихо открываю дверь, одной ногой ступаю в синюю комнату, подхожу к нему, кладу ладони на его зад, потом на его теплый розовый лоб: давай откроем вместе мужской бордель!
— С ваннами для клиентов во дворе?
— Да, но ты будешь моим хозяином; с кнутом в руке, на бедрах — тигровая шкура, с деревянного балкона ты управляешь театром; ты ешь с моей тарелки, пьешь из моего стакана, ты слизываешь зерна с моей руки; два черных парня кидают песок в подземную тюрьму — ты хочешь?
Я притягиваю его к себе, я прижимаю его к себе, его слюна стекает мне на ладонь. Теперь я надену мой плащ пилигрима, он поднимается ко мне, его твердеющий член упирается мне в бедро; под его ногтями пахнет спермой; голова запрокинута, волосы спадают на мои запястья, рот приоткрыт, где ты учился искусству любви? — С самого моего рождения все вожделели меня под голубым небом, они опрокидывали меня на землю, обесцвеченную яростным светом, спиной или животом на дохлых мошек, их члены пронзали меня до сердца, когда они вынимали их, мой живот пылал; мухи, копошащиеся на кучах дерьма в отхожих местах над нами, привлеченные запахом спермы, вылетают из тени и садятся на наши сплетенные, дрожащие, задыхающиеся тела; мой принц, лежащий подо мной, твои слова волнуют мою грудь, твоя ярость — под моими клейкими коленями, ветер пролетает над долиной, омрачая хлеба, дитя, тысячу раз изнасилованное, смятое, пьяное, в полдень твоя блевотина на лестнице, другие мужчины подстерегают тебя у стойки, поглаживая блестящую бутылку, взгляды устремлены на твои бедра, дитя, вскормленное спермой, твоя майка сохнет на веревке над спящими голыми мальчиками, сплетенными на простыне…»
Солдаты вытесняют повстанцев за стены, сержанты приказывают открыть огонь, солдаты стреляют в деревья, сержанты зовут генерала, тот, с телефоном в руке, встает, подходит к двери кухни; повстанцы разбегаются по улицам верхнего города; маленькие кастраты дрожат у входа в оранжерею; у бассейна солдат и повстанец ласкают грудь девушки: «Теперь уходи, не то они тебя увидят», солдат толкает повстанца, рука девушки лежит на бедре повстанца, вверху, на стене, взахлеб смеются часовые:
— Товарищи, давайте напугаем кардинала, покажемся монашкам голыми!
Сержанты прячутся в кустах, один из них прицеливается в повстанца, стреляет, повстанец падает в бассейн, его большое тело тонет в теплой воде, девушка прижимается к солдату, он гладит ее затылок:
— Меня зовут Карлотта.
— Бунт, господин губернатор.
Генерал ставит телефон на угол стола, толкает дверь кухни, касаясь ладонью кирпичной стены; работники стоят, погрузив руки в горячую воду, моют и протирают посуду, вокруг бедер повязаны грязные рваные простыни; в алькове работник режет, рубит, отбивает мясо, нож и топорик сверкают над его плечом, он видит генерала, его шорты колышутся между ног:
— А меня зовут Аурелио. Мой брат Пино работает на кухне.
Солдаты прыгают со стен, рассеиваются, прячутся на улицах города, одни убегают в горы, другие пытаются найти убежище в кварталах нижнего города, но их обитатели, по приказу повстанцев, перерезают им глотки; солдатам, добравшимся до маки, горцы сохранили жизнь, их разоружили, ночью провели к пещере, допросили и вооружили снова.
Но генерал, пьяный от желания и вина, рыщет по кухне, засунув ладонь за ремень.
— Господин генерал, Пино — легкомысленный, по вечерам он ходит в нижний город, на ушах мыльная пена, рубашка расстегнута до пупа, гимнастерка приталена; он пьет с повстанцами и шлюхами, неизвестно с кем — он поднимается, ебется, они теребят его, умывают, причесывают, поливают духами. В полночь, вернувшись в казарму, он, голый, достает семейные драгоценности, целехонькие; он кладет их между ног, ложится на тюфяк и засыпает.
Пино опускает глаза, последние выстрелы отбрасывают блики на разбитые стекла. Кардинал благословляет сестер, его поджилки и колени дрожат:
— Овечки мои, овечки мои…
Быстрые рыбы накидываются на тело повстанца, шнурки его эспадрилий скользят по поверхности воды; солдат тащит девушку в кусты; сержанты бьют по стенам, выкрикивая угрозы.
— Возьми меня, возьми меня.
Она обнимает солдата, кусает его рот, его пальцы, вцепляется в его рубаху через мокрую от пота ткань, ощущая шерсть на груди, жесткие пуговицы на плечах, спускается до ремня.
— Освободи меня, открой меня, я не воплощена.
Ее пальцы сжимают ляжки солдата, ласкают его бедра, слегка касаются ткани между бедрами, только ладонью, пальцы дрожат, взволнованные потным пятном и трепетом мышц; их дыхание струится в кустах самшита, словно одинокое пламя в прохладный вечер: солдат присел, рука девушки шарит между его ляжек, он хватает ее, подносит к губам, кусает пальцы между фалангами, потом подносит ее к низу живота, она ощущает под тканью биение его члена; они валятся на пустынную землю.
Он расстегивает ремень и пуговицы, она раздвигает ноги, выгибает спину, опираясь на голову; кровь отливает от ее ладоней; он задирает ей платье, раздирает белье; его пальцы тянут ткань, бело-розовую, скребут землю, возвращаются на живот, поднимаются к грудям, опускаются на бедра; он запускает ладони под платье, шарит в этой плененной теплоте; пена белеет в уголках ее губ.
— Господин генерал, почему вы так на меня смотрите? Шум винтов вертолета заглушает крики животных. Ее пальцы, когда член солдата изливается в ее раскрытую вагину, разрывают ее темное тело, вонзаются в землю, покрытую старой пылью, сквозь которую стремятся в ночную прохладу черви.
Сержанты ищут своих людей, шарят по кустам; солдат, как копье, вынимает свой член, девушка стонет, кусает губы, голова катается по крошеву самшита, высыхающим каплям, крошечным норкам червей; солдат подносит белые пальцы к ее губам, пряжка ремня скользит по животу девушки, она громко стонет, ее ладони вжимаются в плечи солдата:
— Прикрой меня, прикрой… О, как мне холодно, я вся горю…
Ладони солдата накрывают вагину девушки, свежая кровь течет между ее ляжек, пачкая его пальцы:
— Я умираю, навались на меня, задуши.
Он вытирает пальцы о лохмотья ее платья, поднимается, разводит кусты, выпрыгивает на аллею за спиной сержанта, бежит к стене, садится на корточки, падает на землю, стонет, тянет руки, сержанты оборачиваются:
— Раздирай, пожирай, грязный Бог, Непорочная Дева, твои воды отравлены… все солдаты… Расчленяй, кусай, жри, Аурелио, я никогда не молюсь. Святой Франциск на окровавленных мышиных лапках. Ночью не буду молиться; солдаты разденут меня, я вставлю распятие между ляжек, солдаты будут плевать в него, их слюна смешается с водами из моего влагалища, которое ласкают твои пальцы, кусают твои зубы; твой язык проникнет в мои срамные губы, раздвинет их, твой нос распушит прядь в моем паху, твои ресницы будут царапать мой живот; голова Христа, небесного жениха, из слоновой кости и черного дерева, в моем влагалище, и я счастлива, твердые, холодные губы Христа на моих срамных губах. Возбуди меня, мой солдат… Она смеется, бьет ногами по земле, сержанты раздвигают кусты, она, скрестив руки, изгибается, голые ноги раздвинуты, на коленях блестит кровь; сержанты приближаются, наклоняются, ее рука с пистолетом приближается к виску: «Черт, отбери у нее пистолет, она еще дышит»… Сержант вырывает пистолет, швыряет его в кусты, распластывает ладони на животе девушки, другой пристраивается рядом, он берет голову девушки двумя ладонями, тянет ее к себе, целует уже побелевшие губы, его зубы трутся о щеки девушки; тот, кто ласкал живот девушки, подносит губы к ее влагалищу; почувствовав вкус крови, он принюхивается, плюется:
— Она кровенит, не трогай!
— Мне все равно, сейчас ночь.
Сержант расстегивает ширинку: «Черт побери, черт побери», совокупляется «Черт побери, черт побери…»; тот, кто целует и кусает ее рот, отстраняется.
— Она кончает, посмотри, у нее дрожат губы.
И он снова впивается ртом в остывающее личико.
Вокруг куста самшита вьются мухи; в тот миг, когда сержант вставляет свой покрытый кровью член, белая слюна выступает в уголках губ девушки, ее голова скатывается набок; сержант тянет ее голову, другой, лежа на ней, задыхаясь, скребет ей грудь, сержант пожирает бесчувственную голову, обескровленные шейные вены; его плечо, бедро, колено скребут землю, его член, стоящий под тканью, касается локтя другого солдата; девушка исчезла в тени пиршества. Тут же налетевшие из кустов мухи, жужжа крыльями по круглым листочкам, взрывают пыль, обновив вонь гниения и слюны; они покрывают поляну, садятся на тела, привлеченные дрожанием мышц и клокотанием спермы под кожей солдатского члена.
Иллитан продышал окошко в пыли на полу. На ставнях — руки часовых, слышны их голоса:
— Эй, Немец, сторожи лучше своего зверя! У святош заварушка.
— А где генерал?
— Щиплет своих малышей.
— Это у старика горит окно?
— Да, он не закрыл ставни, сидит за столом, смотрит фотографии.
— Мясо сегодня мерзкое, блядь!
— На вышках все переблевались.
— Все черное, блядь, а внутри — белые прожилки. У меня все зубы ими забиты.
— Можешь выковыривать их до полуночи. Пока, Немец!
Иллитан сидит на корточках в лунном свете, Немец снимает руку со ставни и возвращается на парту; Иллитан вытягивает связанные руки на колени, Немец гладит его по спине прикладом винтовки:
— Ты слышал, что они говорили? Блядь, ну что вы ни как не уйметесь?
Приклад поднимается к подбородку:
— Вы не можете жить в дерьме, как все остальные? От вас не прячут солнце, вам не мешают ебаться. Воды у вас не отнимешь, ее у вас до хуя.
У себя на родине все солдаты живут, как волки, они, как и вы, бьют своих жен, они грязные, они ебутся на столе или на навозной куче, на подоконниках у них стоят календари, и что же? Они молчат. Что до меня, я хотел бы стать генералом…
У меня дома было чисто, было хорошее сено, зерно, скотина, их можно было трогать и не запачкаться. А эти глупы и грубы… Я умею петь, я верю в Бога… Ты спишь? Иллитан поднимает глаза на солдата.
— И вот, когда они пришли сюда, когда увидели ваши лачуги, ваших женщин, вашу одежду, увидели, как вы глупы и ленивы… они бьют вас, как зеркала, в которых увидели свое отражение.
Иллитан кладет голову на связанные руки, солдат спрыгивает с парты, подходит к возвышению, берет мел, скребет им по доске. Иллитан, Иллитан, на помощь, на помощь, солнце давит на мои веки, пламенем поднимается по ногам, я бегу, раздвигая кусты, на помощь, Иллитан, на помощь, я присел, поднял капкан, Башир кричит, его плечи катаются по белому песку, я хватаю зубы капкана, разжимаю их, нога кровоточит, скользит по моей руке, Башир бросается ко мне, плачет; перед нами площадка из белого песка, колеблемая ветром проволочная решетка, ограждающая теннисный корт и, чуть выше, большая белая вилла, наполовину укрытая красными листьями: теперь они ставят капканы; когда они увидели, что я попался, они побежали ко мне с ракетками в руках — я растираю рану теплым песком — она кричала: «Соссело, посмотри, маленький черножопый», ее голые ноги под короткой теннисной юбкой дрожали у меня над головой, ракетка прижата к груди, я бросаюсь к ней, кусаю ее за ногу, она кричит «Ох, Соссело, он меня укусил, убей его», тот смеется, отвернулся и смеется, она теребит капкан, я кусаю пальцы, чтобы не закричать; «Оставь его, сестренка, ночью они его заберут».
— Поставь везде капканы, Соссело, чтоб было видно из окон.
Они возвращаются на корт, мяч бьет меня в висок; по ноге слизью стекает кровь, засыхая, как муравьи.
Иллитан, Иллитан, его слезы ласкают мои губы, его тельце трепещет в моих руках, они играют в теннис за решеткой, зачем ты пришел? В кустах лежал кусок хлеба; вставай, они увели маму… я стану большим, я восстану, я освобожу вас всех, я встаю, поддерживая его под руки, рана на его ноге блестит от песка и крови, я отомщу за вас… я войду в город… я отомщу… мой кинжал звенит во всех городских кварталах…
Я сожгу хлеб, посеянный в неволе… Я не обещаю вам ничего, кроме пепла, но сметать его вы будете свободными… Я отомщу… Я войду в город; он ест муку, лежа на земляном полу рядом со мной, мама вернется завтра утром, так сказали солдаты, один из них погладил меня по щеке, ласка солдата — как укус кобры, малыши смеются в глубине хижины, кувыркаются в тряпье; на остове дома и снаружи, на кучах отбросов, кричат птицы.
Ночь. Заря: я иду искать маму, оставайтесь с Баширом. На улицах, прислонившись к влажным известковым стенам, заспанные солдаты перекликаются, как шлюхи; подбитыми гвоздями сапогами они скребут землю и швыряют пыль на середину улицы, на мои босые ноги; по фасадам пробегают тени, похожие на плавники рыб и копья, окна открываются, тени звякают о стволы и кроны деревьев; из-за окон показываются непокрытые головы; запах постели, зеленое тепло, ночные грезы выходят из этих открытых на восток ртов; солдат сонно сыпет песок на железный рычаг красно — белого шлагбаума, я подхожу к караулке, солдат идет к вышке, часовой складывает свою накидку, перекидывает ее через плечо, открывает калитку и спускается с вышки, опираясь рукой на стальные перила: «Ха… ха».
— Быстрей, быстрей.
— …Полные штаны… ха.
Он трет рукой мокрую ткань между ног. Окно невысоко, я слышу шум постелей и одеял… Вот! Ее голые ноги, их руки, прикованные солнцем к этим ногам; они спят стоя, как животные, когда я открываю дверь и кричу, руки соскальзывают, прижимаются к животам, часовой дышит мне в спину, хватает меня руками за плечи, за грудь, я вырываюсь; мамино платье — на голове одного из солдат, он нюхает его и стонет, прижав голову к тюфяку, выгнув спину, сжимая руками ткань, раздирая колени о каркас кровати; мама на нижнем тюфяке дрожит под тенями и складками, я бросаюсь на нее, закрываю собой ее нагое тело, ее рот своим ртом, ее груди своей грудью, ее живот своим Животом, ее колени своими коленями, солдаты отходят к окну, оборачиваются, кладут ладони на лбы, потом на бедра, застегиваются.
— Всю ночь… всю ночь…
— Молчи… молчи…
Часовой кричит: «Сволочи, сволочи…» Он стоит у кровати, расталкивает солдата, лежащего на верхнем тюфяке, вырывает у него платье, складывает на руке и вешает на меня:
— Теперь уходите.
Солдат спрыгивает вниз, другие идут к двери, я плачу, мои плечи и живот трясутся, часовой кладет ладонь мне на затылок, потом убирает, дверь тихо закрывается; я смотрю на земляной пол, под кроватью — осколок зеркала, покрытый каплями спермы, мама кричит, отталкивает меня руками и коленями, опрокидывает меня на пол, я хватаю зеркало на тюфяке… чтобы видеть… моя слабость… прости, уходи, уходи. Я снова бросаюсь на нее, я кричу:
— Я ни разу не видел тебя неодетой.
— …Моя слабость… откуда ты родился… откуда ты родился… ты видел…
— Я не трогал… не трогал…
Иллитан покачал головой, солдат положил руку на винтовку; мелкие пташки стучатся в ставни, просовывая кончики крыльев в освещенные щели, их коготки царапают крашеное дерево.
…Мелкие пташки скачут по песку, серое море плещет по пляжу, как огромные крылья рассветных птиц, рука отца сжимает мои пальцы; в рассветных сумерках видны полузасыпанные песком белые кости, рыбьи хребты, водоросли, торчащие зубы чаруют мой взор и режут мои ступни; мои ногти скребут по камушкам, по затянутым песком валунам; я хочу поспевать за дыханием отца и моря, но мой вздох короток; отец меня ждет, прислонившись к стене каземата, он обнял меня, я кусаю пряжку его ремня, мои слезы промочили ткань у него на животе: «Они забрали маму… Я одел ее… Я поддерживал ее по дороге…»
Я ощущаю под тканью его мягкий член, его руки дрожат на моих бедрах; на крыше каземата, среди обесцвеченных солью трав звенит колючая проволока; освобождая горизонт и брызжущее в море солнце, восходит большая черная туча, блестит военный корабль, его медленно вращающиеся орудийные башни отбрасывают на воду длинные тени:
— Отсюда начнется революция… отсюда начнется революция…
Большие влажные птицы пролетают над нашими головами; между двумя вздохами моря я слышу шум бороны на лугу за дюнами; травы на дюнах наклонены, как зубья бороны; крейсер с серыми усами и блестящим брюхом ползет в порт Энаменас; белая процессия пересекает дюны, дети утопают босыми ногами в зыбучих, горючих песках, острые травы секут их по ногам; музыка стонет в пыли, дрожит и скрипит в синих и красных ремнях; процессия удаляется, исчезает, солнечный гонг; поворачивается лицо мальчика, блестящее от песка и пота и смотрит на меня в упор, кожа его бела, волосы — светлые, очень тонкие, он исчезает за облаком песка; отец сжимает мою ладонь и говорит мне: «Убей его… возьми нож у меня на ремне…»
Я беру нож, отхожу от отца; облако песка скрывает нож и мою ладонь; мальчик видит занесенную руку, его лицо, улыбающееся, дрожащее от криков и полета чаек, склоняется ко мне; нож упирается ему в живот, скользит по ткани рубашки, касается покрытой песком кожи, кончик лезвия прилипает к валику пупка, соскабливая пот, но мальчик, улыбаясь, говорит:
— У тебя загнутые ногти… Вы и вправду голодаете?..
Вы поедаете все сырьем? Может, поэтому у вас звериные когти?
Но его глаза закатились, губы побледнели, ресницы хлопают по обесцвеченным глазам, моя ладонь сжимает Рукоятку ножа, мальчик дрожит, как тростинка, из раны а мои пальцы брызжет — нет, не кровь, а молоко, голова клонится в облако песка; теплое, легкое молоко течет по моим коленям; мы с отцом относим тело белого мальчика на крышу каземата; я выбрасываю нож в заросли паутинника, дрожащего на ветру; отец, склонившись над мальчиком, гладит его по животу, я вырываю траву вокруг его головы, отдаю отцу, тот кладет ее на рану; из разрезанного пупка на траву сочится молоко; над дюной раздается шум бороны и крики работников; показались их лица, ясные, смешливые, блестящие от пота.
— Я живу здесь уже пять лет… Сразимся, чтобы они подавились своими улыбками…
Я бегу к вершине дюны, тяну к ним руки:
— Не подавайте руки рабам.
Крейсер плывет к зеленому островку, солдаты с палубы кричат: «В море ветер уносит их проклятья…» Я стою, запрокинув голову, под солнцем, на дюне, по моим стриженым волосам ползают мухи: «Мы бедны… мы бедны…»
Работники удаляются, покачиваясь на бороне, к их задницам прилипли пучки травы и пшеницы: отец, склонившись над ребенком, протирает рану травой, голова мальчика свесилась за бетонную стену. Солнце печет подбородок и горло.
Иллитан поднимает глаза, солдат сидит на корточках, ладони на бедрах, подбородок свесился в вырез рубахи; легкий, внезапный ветер, прилетевший с моря и долины, задул сквозь ставни, когда сгустилась тьма; над головой Иллитана задрожали цветные обручи, висевшие на стене, он слышит эту дрожь, похожую на шум ливня; он медленно встает, распутывает веревки на руках, хватает большой обруч, набрасывает его на солдата, тот резко просыпается, упирается, но Иллитан тянет обруч, винтовка солдата скользит по парте, Иллитан хватает ее, горло солдата по-прежнему стянуто, его пальцы вцепились в обруч, пытаются снять его, но Иллитан поднимает винтовку, бьет солдата прикладом по спине, солдат стонет и падает навзничь на парту, его голова касается бедра Иллитана, его ноги, зажатые в коленях, бьют по крышке парты; Иллитан снова поднимает винтовку, бьет солдата прикладом в висок, голова подпрыгивает, из уголков губ струится кровь. Иллитан берет винтовку на ремень, бежит к двери, открывает ее, прислоняется к стене вестибюля. Полоска света из-под двери кабинета губернатора простирается до его ног, он перешагивает ее, пересекает внутренний дворик с журчащим фонтанчиком; в галерее он перебегает от колонны к колонне до двери в сад, открывает ее; у входа в будку на траве сидит часовой; солдат стянул штаны до колен и разглядывает муравьев и сороконожек, бегающих по его ногам; он зажигает спичку, казнит насекомых и наслаждается запахом своих подпаленных волос. Иллитан бросается на него, разоружает, укладывает на землю двумя ударами приклада в плечо и выбегает в сады: они спускаются к дороге, разделяющей город на две части; Иллитан бежит по аркаде из листвы, он слышит шум от падения улиток с виноградных листьев на стены; рядом с бассейнами блестят лейки, на грядках и свежепостриженных лужайках покоятся вилы и грабли, на зубьях еще дымится свежая земля.
С двумя винтовками на правом плече Иллитан поднимается на стену и спрыгивает на дорогу; нижний город с дрожащими от ветра крышами из шкур и жести похож на огромную свалку или на панцирь гигантской твари, сброшенный во время линьки; опершись рукой на сырую гранитную плиту, Иллитан прыгает во дворик, где собаки грызутся из-за куска мяса; через окно он видит лежащие вперемешку, трепыхающиеся в пыли тела, руки, бедра, блестящие от пота и жира щеки; собаки с грязными мордами впрыгивают в это окно, обнюхивают сонные тела и снова залезают во двор, чтобы напиться грязной воды из лохани; в глубине комнаты он видит женщину, лежащую с открытыми глазами, платье задрано до колен; он улыбается; она пытается приподняться, и сразу в воздухе разносится запах гниения и грязной кожи; с крыши сыплются обрывки тряпок, сквозь тростниковую изгородь блестит луна, по волнистому железу пробегает крыса; дети, встревоженные снами, пробегающей крысой или взглядом Иллитана, ворочаются и стонут, один попадает ногой другому в глаз; их животы трепещут, купаясь в испарениях и лунном свете, по ним ползают бесчисленные, безымянные насекомые — тараканы забились между пальцев ног.
Собаки тычутся в колени Иллитана; он перешагивает окно и детские тела, подходит к женщине, присаживается на корточки, наклоняется над ней, видит ее открытые груди, вздымающиеся к его подбородку, пот, капли пота, перетекающие одна к другой по ожерелью; женщина поднимает руку, обнимает шею Иллитана, притягивает его к себе; Иллитан ощущает на своей щеке, потом на губах накрашенные губы матери, он закрывает глаза; лай собак, детский стон, крыса пробегает по волнистому железу: «Каждую ночь он говорит со мной, он ждет меня, как супруг». Крыса скользит по тростниковой изгороди, обнюхивает, тычется мордой в обрывки тряпок: «Каждую ночь, как примерный супруг, он ощупывает, обнюхивает одежды своей жены и своих детей и уходит, довольный и спокойный…» Иллитан целует ресницы матери:
— Благослови меня, очисти эти руки, которые убивают.
Она подносит его ладони к губам, потом скрещивает их на его лбу; вокруг слышны шорохи, на холмах зажгли прожекторы:
— Они придут снова, всякий раз они разбивают все в доме, спускают на детей собак…
Иллитан видит на ступнях и коленях своих братьев недавние укусы.
— Уходи, прежде чем приведут собак.
Иллитан встает, перешагивает через тела спящих братьев, выпрыгивает в окно; дворик перепачкан кровью, дерьмом, ошметками мяса; над лоханью вьется рой комаров Иллитан бежит через нижний город к реке, прыгает в лодку; голый мальчик, сидя в тине, ловит лягушек; он смотрит на Иллитана, широко раскрыв глаза, хотя уже довольно темно; песчаные кучи, подмытые водой, обрушиваются в реку; Иллитан гребет, теплая вода брызжет ему на колени на щеки; он по очереди опускает в воду натертые веревками запястья; две украденные у часовых винтовки блестят на дне; в нос лодки ударяются рыбы, ветки, ужи, гадюки, крысы, кора, подхваченные течением мелкие камни. На противоположном берегу Иллитан, увязая в тине, вытаскивает лодку на сушу, винтовки гремят, Иллитан вешает их на плечо, взбирается по откосу; зажженные вдали, над городом, лучи прожекторов обшаривают окрестности, достигая берега, где затаился мальчик; грузовики, джипы, бронетранспортеры движутся в их свете; Иллитан бежит вдоль соляных копей, соляные испарения разъедают его глаза, его одолевает сон, он щиплет себя за запястье, под ногами потрескивает соль, Иллитан дрожит, его окружают кучи мошкары; луна укрылась за облаками, по солевым отложениям пробегают небесные тени, кристаллы блестят, крошатся, рушатся; на кучах соли, под лопатами и вилами лежат мертвые и умирающие птицы; с другой стороны канавы кристаллы исчезают в кустарнике; Иллитан бежит, раздувая мошек, закрыв глаза и сжимая винтовки; москиты лезут к нему в рот, в уши, запутываются в ресницах, он фыркает носом, москиты падают под рубаху, до пупа, Иллитан просовывает руку под ремень, волосы на лобке кишат насекомыми, соль от его пальцев проникла под головку члена; другие мухи прилипли к потным пятнам под коленями; хруст кристаллов и насекомых; внезапно, на другой стороне реки — шум грузовиков…
Мальчик в иле оборачивается, амфибии катятся прямо на него, он прыгает, качается, его держит ил, фары греют его спину, солдаты смеются, мальчик падает головой в ил; водителя, сидящего за рулем, толкают его товарищи, один из них нахлобучивает камуфляжный шлем ему на глаза, солдат отбивается, кричит: «Сволочи, я не хочу его давить, я не хочу его давить…», транспортер увеличивает скорость, гусеница цепляет мальчика, солдаты стучат по стеклам, щекочут водителю подмышки, шею, грудь, водитель хохочет, всхлипывает, его голова упирается в ветровое стекло, транспортер входит в воду, водитель тормозит, останавливает машину, качает головой. Солдаты выпрыгивают из транспортера, мальчик раздавлен, голова под гусеницей, раздробленные ноги в иле; внезапно остывшие солдаты смотрят на него молча, ладони на ремнях винтовок.
Офицер выходит из джипа, подходит, видит труп: «Вы это сделали?» — трогает его, проводит рукой по разбитой голове: «Но как он оказался на берегу?»… дует в лицо: «Сволочи!» обходит транспортер, встает перед кабиной; руки водителя на руле, голова на руках, он плачет, пускает слюни, всхлипывает:
— Ты был за рулем? Водитель молчит.
— Отвечай!
Парень молчит, его колено стучит о дверцу.
— Быстро выходи.
Офицер залезает на подножку, хватает солдата за руку, грубо вытаскивает из кабины; солдат покорно сползает с сиденья и падает перед транспортером, офицер поднимает его за волосы, бьет кулаком в живот, по лицу: — Будешь отвечать?
Он берет с сиденья винтовку шофера, бьет его прикладом по почкам, солдат падает плашмя, прижав руки к животу; он катается по илу, извивается, стонет, кровь с губ и из носа смешивается с черным илом; офицер сапогом поднимает голову и плечи солдата, тот переворачивается на бок, его заголившееся бедро и грудь испещрены полосами, с подбородка, с бровей стекает кровь; другие солдаты, стоящие сзади транспортера, смотрят молча, сглатывая слюну.
— Вытащите ребенка. Заверните его в мою палатку и отнесите в джип, я присмотрю за ним, вы, дикари, еще надумаете его изнасиловать!
Солдаты вытаскивают мальчика из-под гусеницы, расстилают широкий прохладный брезент, укладывают труп; унтер-офицер наклоняется над шофером, поднимает его, прислоняет к дверце транспортера, бьет по щекам; солдат открывает глаза, его руки висят вдоль измазанной в иле гимнастерки; унтер-офицер толкает его на сиденье, сам садится за руль:
— Перестань дрожать. Одним меньше…
Колонна трогается, въезжает в реку: «Лучше убивать их молодыми».
Генерал целует перстень кардинала:
— Идите спать, Монсеньор, опасность миновала.
— Генерал, мои стражники неспокойны.
— Вам повезло, Монсеньор, ваши — лучшие в гарнизоне.
— Я все же боюсь, как бы они не побратались с повстанцами.
— Разве вы носите пурпурную мантию кардинала не для того, чтобы нести мир?
— Говорят, они не почитают даже священников. Те, что калечат детей, могут ли пощадить священников?
— Мне, во всяком случае, эта война предоставила возможность поглядеть на красивых голых солдат.
— Генерал, вы видели меня напуганным, забудьте об этом.
— Жир, окружающий ваше тело, жир на вашем лице смывает все чувства, все страхи, все неожиданности, все Желания, которые могли бы вас коснуться.
— Мне, признаюсь… до сих пор страшно.
— Я вижу, как блестит кольцо на вашем дрожащем пальце.
— В Гори они разграбили священные сосуды и златотканые покровы.
— Может быть, напялив эти ризы и стихари, обвязавшись орарями, они пили из этих чаш, развалившись в своей горной пещере, локти и зады треплет ветерок, вышивки замараны пылью; пили и спали до полудня, сжимая в руках золото; лен и пенька мокли и трепались под мышками и на ляжках, запах спермы исходил от повалившихся где попало пьяных тел дикого братства, звучал смех, и на земле, омытой вином, ветром, блевотиной, дрыгалась нога — так дрожит нога, соскользнувшая с постели проститутки.
Батюшка, иди почивать.
— Иду, нянюшка; сын мой, генерал, ступайте с миром.
— Спокойной ночи, Монсеньор. Я ухожу к моим радостям.
Поддерживаемый нянюшкой — она появлялась лишь по вечерам, перед отходом ко сну — кардинал поднимается в свою молельню; отсюда ему видна приемная и спящие на каменном полу монахини — те, что помоложе, лежат ровно, старые — скорчившись. Ветерок, подувший из ризницы, поднимает в лунном луче пороховую пыль: «Монсеньор Бог, Монсеньор Бог, пошли мне маленькую смерть». Генерал открывает дверь на кухню, работники и повара спят в двух альковах, смежных с мясницкой, генерал проходит вдоль печей, касаясь пальцами медных предметов, проводит рукой по перилам, к которым весь день прижимаются животы работников; генерал тоже прижимается к ним животом; на скамье лежат передники, генерал отступает от перил, трогает передники, скользит пальцами по завязкам, гладит жирную влажную ткань, он берет передник, прикладывает его к груди и животу, двумя ладонями проталкивает ткань между ног, натягивает ее на бедрах и осматривает себя, положив голову на плечо, чтобы увидеть складки на бедрах и завязки на ягодицах; генерал расстегивает верх кителя; он слышит шум в алькове колеблется бамбуковая штора, сквозь планки генерал видит ногу, он надевает передник, подходит к алькову, нога поднимается за шторой, в теплой тьме скрипит постель: «Я один, остальные в карауле…» Генерал подносит руку к сердцу, горло его трепещет; этот голос лежащего на кровати мальчика, пот на верхней губе, плохо выбритый подбородок царапает горло… Генерал поднимает завесу, юный мясник развалился на нижнем тюфяке койки, стоящей напротив входа, голый, свесив ноги по обе стороны тюфяка, пах и подъем бедер прикрыт усеянным подозрительными пятнами, журналом со склеившимися страницами; живот поднимается, дыхание втягивает живот и поднимает грудь; парень видит вошедшего генерала, видит передник, генерал улыбается, подходит к кровати, садится на корточки, парень молчит, не улыбается, генерал наклоняется над ним, дует ему в лицо, парень закрывает глаза, морщит нос, генерал дует на горло, на грудь, на пупок, он оглядывает тело, продолжает дуть в пах, на губах парня появляется улыбка, генерал протягивает руку, трогает живот парня, пупок, парень хохочет, рука генерала поднимается по животу, останавливается на боку, давит на ребро:
— Здесь больно? А здесь? А там? А здесь?
— У меня болит ниже, господин генерал.
Генерал вздрагивает, пот со лба течет на веки, рука опускается на живот парня:
— Еще ниже, генерал.
Другая рука опускается на грудь, накрывает сосок, тот скользит под линией жизни ладони; пальцы упираются в подмышку, в мягкий пушок, вбирают пот, генерал подносит их ко рту и лижет, другая ладонь касается журнала:
— Но у тебя не стоит?
— Стоит.
Рука генерала сдвигает журнал: показывается прядь вьющихся, черных от пота волос; генерал погружает мизинец во влажную прядь, давит на основание члена, сдвигает еще немного комикс, наполовину обнажается член, заправленный в рукав рубахи, обмотанной вокруг ягодиц солдата; генерал отбрасывает комикс и приникает ртом к рукаву, скрывающему член под натянувшийся тканью, к пульсирующим венам и прожилкам члена; он покусывает и лижет трепыхающуюся плоть.
— Здесь у меня болит, господин генерал.
Генерал ложится на парня, передник из грубой ткани покрывает его обнаженное тело, пригибает его член к животу, парень стонет:
— Теперь вы мне делаете искусственное дыхание.
В его открытом рту колышется язык, генерал приникает к его губам, его язык ищет язык солдата, изо ртов течет слюна, собираясь в уголках губ.
— Ты помнишь день, когда я позвал тебя в свой кабинет?
— Господин генерал, маленькая зверушка просит, чтобы ее приласкали…
— Я приметил тебя еще в день твоего прибытия, вас было несколько, сидящих на пороге казармы, руки сложены на коленях. А ты сидел, раздвинув ноги, между ляжкой и шортами я увидел твой член, мураша, растущего из складок тела, ты засунул руку в шорты, твои пальцы тянули ткань…
— Господин генерал, у меня мурашки по телу.
— Всю ночь я крутился на кровати, я мечтал, я вставал на корточки, я клал ладонь тебе на ляжку, ты сжимал ноги, моя ладонь, зажатая между твоих ляжек, скользила к тебе под шорты, ты трепетал всем телом, дождь, пришедший из долины Себау, гнул деревья над казармой, швырял листочки на железо кровли, капли стекали по моему лицу, мочили твои шорты и мою руку, лежащую сверху, стучали по земле, брызгами пачкали твои ноги; я беру твой член, прячу его в ладонь, как дрожащую птичку, на твои волосы падают листья, я держу тебя за член, ты вырываешься, ты катаешься по сырой траве, ударяешься головой о камень, струйка крови стекает в ручей; твоя сперма брызжет на мою ладонь; мы лежим в ручье, твоя шея трется о мою, зеленые тени листвы на твоих ногах, зеленая слизь дождя на твоих ногах…
— У меня мурашки по телу, господин генерал.
— На следующий день я несколько раз видел, как ты одиноко сидишь на пороге казармы, твои голые по пояс товарищи валялись на двухъярусных койках, раскинув ноги, расстегнув шорты, спали в поту под раскрытыми форточками; ты с мокрыми блестящими волосами, положив руки на колени, мечтательно смотрел на стволы и нижние ветви эвкалиптов; из уборной справа от эвкалипта выходит солдат, ладонь между ног; я захожу, присаживаюсь на корточки, ищу на цементных стенах скабрезные надписи, рву грязные, затоптанные страницы журналов, брошенные вокруг дыр, поверх невысокой стены я вижу тебя; мой член висит между ног над дырой; он встает, и от него исходит все более резкий запах спермы, на этот запах из дыры слетаются мухи, они жужжат вокруг моего члена, задевают крыльями, кусают, садятся на нежную фиолетовую головку; во дворе гаража ездят грузовики и бронетранспортеры, вздымая пыль; я поднимаюсь ослепленный, першит в горле, ты сидишь под деревом у барака, щенок с красным залупившимся членом, волочащимся по песку, рот приоткрыт, живот бьется под шортами, твои губы трепещут от жары, воздух дрожит, как испарения бензина.
— Генерал, моя зверушка сейчас сплюнет.
— Я желал тебя, лаская, склонившись с джипа, деревенских щенков и котят, тебя, тебя, член, стоящий под засаленными шортами; утром я вижу, как ты склонился над умывальником за гаражами, твое белье висит на ветке; на трубе, торчащей над умывальником, установлен осколок зеркала, я подхожу поближе, вижу лишь твои бедра, упирающиеся в край умывальника, твои ягодицы, стянутые шортами, мои ладони раскрываются, округляются, мне хочется кричать, сорвать с себя нашивки, мундир, я подхожу к тебе, ты окунул голову в ржавую воду, ты плюешься, твоя спина пахнет клопами, я провожу ладонью по складке шортов между твоими ягодицами, ты вздрагиваешь, вскакиваешь, видишь меня, узнаешь, встаешь по стойке «смирно», твои мокрые пальцы мнут край шортов, твои щеки покрыты каплями воды…
— Что ты делаешь? Ты не на работе? Смотришься в зеркало? Как кокетка?.. У тебя под грудями блестят соломинки.
— Я стоял эту ночь в карауле, господин генерал.
— Поспеши догнать остальных на стрельбище.
— Я не причесан.
— Твоя расческа торчит из заднего кармана, я вынимаю ее, касаясь твоих ягодиц; я замечаю, что у тебя встает, я беру расческу, поднимаю ее над твоей головой, я беру тебя за подбородок, упираясь большим пальцем в твою нижнюю губу, на мои пальцы течет слюна; на твоей груди и плечах отметины ночи: складки одеяла, след от ремня винтовки; я причесываю тебя и засовываю расческу в твой карман; ты улыбаешься, опустив влажные ресницы…
— Господин генерал, я запачкаю ваши брюки…
— Вечером, по возвращении со стрельбища, я вызываю тебя в мой кабинет, ты входишь в гимнастерке, испачканной зеленой грязью. «Подойди к столу. Так. Обопрись о стол. Крепче. Так. Сядь на стол. Так. Повернись ко мне спиной. У тебя в кармане лягушка. Не двигайся. Я выну ее. Ты любишь животных? В жару я люблю щенков, выходи, лягушонок, а то солдат раздавит тебя своими тяжелыми бедрами…»
— Я вынимаю лягушку из твоего кармана; она ускользает и прыгает тебе на бедро, я протягиваю руку над столом, моя ладонь касается твоей ляжки, лягушка прыгает дальше, на член, мои пальцы смыкаются на ткани, хватая лягушку; чуть слышный смешок, похожий на всхлип, поднимается в глубине твоего горла, лягушка бьется в моем кулаке, между пальцами сочится слизь; я отпускаю лягушку на стол, откидываюсь в кресле, ты, спиной ко мне, продолжаешь тихо смеяться, я вижу, как дрожат твои плечи. Повернись. Лягушка прыгает в чернильницу, на цветные карандаши, они сыплются на нее; повернувшись ко мне, ты все так же смеешься, твои руки перед ляжками мнут берет. Лягушка прыгает на край стола, потом, одним прыжком, снова оказывается у тебя на бедре: «Она решительно привязана к тебе!»
— Она чувствует источник, господин генерал.
— Источник?
— Те, кто из него пили, находили его воду вкусной и успокаивающей.
— Прохладной?
— Обжигающей, когда она исходит.
— Чистой и легкой?
— Тяжелой, густой, как молоко, потом, чуть погодя, текучей.
— И когда ее можно пить? В какое время дня она пахнет лучше?
— В полдень или после захода солнца.
— Легко ли ее добыть?
— Да, надо присесть на корточки, упереться коленями в землю по двум сторонам источника, опустить голову к поверхности воды, отодвинуть траву и пить, вдыхая; вода брызжет в лицо, вы фыркаете, вода стекает по губам, по подбородку, по щекам…
— И как заставить бить этот источник?
— Он бьет сам, как только услышит шаги, как только губы приблизятся к его ложу.
— Но если эти шаги и эти губы ему не по нраву?
— Тогда его не разбудить Генерал лижет ухо солдата.
— Генерал, позвольте мне вытащить мешок для мяса из-под задницы.
— Позволь мне сначала снять брезент, скрывающий твою маленькую пушку.
— Генерал, прячьтесь, мой товарищ возвращается из караула.
Солдат отталкивает генерала, приподнимает его над собой, генерал встает, его ноги расставлены по сторонам кровати; он перешагивает тело солдата.
— Выходите в погреб через дверь под занавеской.
Генерал поднимает занавеску, открывает дверь, спускается, согнувшись, до середины лестницы, задевая коленями корзины с фруктами; он протягивает руку, его пальцы скользят по гнили; часовой входит в альков, кладет винтовку и патронташ на верхний тюфяк, коленом касаясь плеча Пино:
— Маленький нахал, теперь ты спишь голым?
Пино со стоном переворачивается, закрывает член руками, его ягодицы крутятся на спальном мешке:
— Послушай, ты не мог бы одолжить мне свои башмаки на ночь? Мои жмут.
— Бери, но одень их только на посту, а то твои ноги воняют.
— Заткнись, ты, у тебя вот что воняет.
Солдат показывает пальцем на его член:
— Все знают, что ты ебешь генерала в жопу, у тебя эта штука в крови, как у блядей.
— Во-первых, генерал меня не трогает, во-вторых, ты мне завидуешь, потому что все бабы хуеют от меня, а когда раздеваешься ты, их тошнит; мне не нужно искать их, и они не берут с меня денег. А ты дурень гнойный с корявой рожей, они вывернут твои карманы и наградят тебя сифилисом.
— Ладно, ладно, Пино, ты тоже не всегда будешь свеженьким.
Часовой присаживается, берет башмаки под кроватью, лицом ощущая жар тела Пино, тот слегка раздвигает рукой ягодицы, часовой отворачивает голову от задницы Пино:
— Сволочь, ты пернул мне прямо в нос!
Пино, уткнувшись лицом в тюфяк, посмеивается и напевает «Все ароматы Аравии», часовой поднимается, гладит Пино по заду подошвами башмаков, Пино, зарываясь лицом в тюфяк, мурлычет:
— Продолжай, я тащусь!
Часовой, возбуждаясь, трет ягодицы, бедра и бока, Пино покатывается со смеху, переворачивается на спину, вытягивает руки, скрещивает их под затылком, грязь с башмаков осыпается с его бедер, часовой, держа в одной руке башмак, трет подошвой живот Пино, другой рукой бегло ласкает его грудь, щекочет подмышки; пульсирующий, твердеющий член Пино поднимается к верхнему тюфяку, Пино изгибается, кончик члена касается тюфяка, часовой внезапно хватает член двумя руками, сжимает его, пригибает к животу, Пино орет, хватает руки солдата, отрывает их; его освобожденный член, обмякший, со следами от пальцев солдата, скатывается на ляжку; часового бьет дрожь, красными руками с волосками под ногтями он берет винтовку, патронташ, башмаки и выходит.
Пино со стоном извивается на тюфяке, прикрывая ладонью член. Генерал выходит из укрытия, садится на корточки перед тюфяком.
— Он хотел мне его сломать, они все мне завидуют, придут ночью и оторвут его.
— Скажи, где у тебя болит, мой милый, мой бедный.
Генерал склоняет лицо к животу Пино, берет на ладонь трепещущий член, бережно поднимает и целует.
— Мой маленький, мой слоненочек, мой эвкалиптик, мой черный медовый цветочек…
— Подите прочь, оставьте меня, я ебусь только с женщинами, вы как дурак в этом переднике.
Пино вырывается, переворачивается на локте на другой край тюфяка, его бедро скользит по щеке генерала, тот продолжает удерживать член в ладони, целует его в кончик: юный принц, встающий с постели, пятнадцать лет жизни и службы, синий воздух, разливающийся по гранитной плитке, сохнущая на бархатном ковре моча, подоконник, заставленный щербатыми флаконами, открытые раны под горлом и у края подмышек.
Пино внезапно поднимает ягодицы, они толкают и поднимают вверх подбородок генерала, тот отпускает член; ладони генерала скользят по бедрам Пино; тот покачивает бедрами, ладони генерала соскальзывают по ягодицам на спальный мешок из грубой ткани, испачканный раздавленными клопами, непроизвольно излившейся спермой, ночной слюной, дерьмом, смешанным с потом; одна ладонь генерала наполовину входит под ягодицу Пино, палец другой руки проводит по краям анального отверстия, потом поднимается к члену по бороздке между ягодиц; член зажат между ляжками, палец упирается в набухшую мошонку, внутри которой он ощущает два яичка; вся ладонь охватывает этот нежный теплый мешочек, в котором увязают ногти.
Пино стонет, его член вздыбился, стягивая кожу на животе, ляжках, яйцах; Пино смотрит на генерала, по-прежнему сидящего на корточках и ласкающего его; лицо генерала заволокло потом и жаром от тела парня; тот переворачивается на спину, закидывает одну ногу на другую и обнимает двумя руками генерала за шею; генерал, которого стискивают руки парня, приходит от влажных объятий в неистовство, горло его сжимается, он наваливается на парня, тот раздвигает ноги, генерал в переднике прижимается к нему, член парня пролезает в нагрудный карман передника.
— Генерал, сейчас будет обход: может, подождете до завтра?
— Я люблю тебя, я питаюсь тобой, я тебя ем, я тебя сосу.
— Господин генерал, я несъедобен.
— Я выкапываю мою добычу, как пес, я толкаю мою добычу мордой.
— Я ваша падаль.
— Мой щенок с маленьким красным членом.
— Маленьким? Так ли вы скажете, когда я засуну вам его в рот или в жопу?
— Не будь таким грубым.
— Вам же это нравится, чем грубее я говорю, тем сильнее вы возбуждаетесь.
— Если бы я мог сожрать тебя, а потом сожрать самого себя.
— Господин генерал, приближается обход, прячьтесь в погребе, я вас потом найду.
Парень приблизил губы к уху генерала:
— Я вам подрочу и отсосу.
Генерал вздрагивает, поднимается, кожа его напряженного члена готова лопнуть; генерал откидывает занавеску, спускается по лесенке. Пино покрывает бедра спальным мешком; входят офицер, дежурный унтер — офицер и сменный капрал; Пино лежит на спине, раздвинутые ноги укрыты спальным мешком, он вздыхает, сопит, стонет, крутит головой и роняет ее на подушку.
— Это кто такой?
— Это Пино, господин лейтенант, Пино Идроскало. Из вспомогательной части.
— Так. Он не стоит в карауле?
— Нет, генерал не хочет.
— Боится, что яйца застудит?
— В альков вбегает солдат, он передает офицеру телефонограмму: «Иллитан сбежал. Найдите генерала. Адъютант генерала полковник…»
Лейтенант кладет послание в карман.
— Сержант, объявите во взводе тревогу, двух человек пошлите в сад, троих без оружия — к кардиналу, пусть обшарят оранжерею и парники; тот, кто найдет генерала, передаст ему сообщение. Выполняйте.
Они выходят, Пино ворочается, раскрывается, берет синие шерстяные трусы, приподнимается, натягивает трусы, встает с кровати.
Генерал, прислонившись к стене, в темноте ждет парня:
— Господин генерал, Иллитан сбежал, вас везде ищут.
— На, возьми пять тысяч франков.
Пино хватает деньги, засовывает их под трусы, протягивает руку к бедру генерала, другой рукой развязывает тесемки передника на талии, передник падает к ногам генерала, ладонь Пино гладит бедро генерала, поднимается к ремню, касается пряжки, расстегивает ее двумя пальцами, ладонь ложится на трепещущий живот генерала, ремень падает на ляжки по обе стороны члена, парень смотрит на лицо молодого генерала, его холодные голубые глаза под короткими светлыми волосами блестят, из них сыплются искры, пахнущие миндалем; тяжелые, грубые, но бледные и изогнутые — как у красивых женщин — губы блестят от пота и желания. Парень улыбается, опускает глаза, расстегивает брюки генерала, тот стоит, вытянувшись, у стены, парень, растопырив пальцы, ощущает под трусами встающий, горячий, краснеющий член; расстегнутые брюки сползают к коленям, парень берет затянутый в ткань член двумя руками, сдавливает его, потом одна рука сползает под член, проходит между ягодиц до шва трусов. Запястье ощущает влагу промежности, пальцы хватают трусы за резинку, тянут их вниз, а другая ладонь, обнимая член, частично обнажает его, задирая трусы на бедра; парень приближает рот к открывшемуся члену, приникает губами к яйцам, головка члена торчит сквозь ткань, парень одним рывком сдирает трусы, нежный, мускулистый, наполненный спермой член упирается ему в ноздри; парень кусает его, держит в пальцах и вставляет в рот; другая рука ласкает, мнет яйца, щекочет зад; держа член во рту, он бережно дрочит его; почувствовав приближение спермы, вынимает член изо рта, прижимает к щеке, целует его, водит им по лицу, потом, приподнявшись, водит им по горлу и по груди; генерал испускает протяжный вздох, тянет парня за волосы, задыхаясь, напрягает ноги.
Сова, влетевшая в форточку, натыкается на свод и на подвесные шкафчики, падает на обнаженный живот генерала; сперма брызжет в лицо парня, пачкает его щеки, ноздри, веки; парень открывает рот, берет губами головку члена; сперма, тяжелая, теплая, как кровь, продолжает изливаться ему в рот, стекает по зубам, под язык; парень выжимает член, приложив две ладони к ляжкам; со всхлипом всасывает сперму, запускает пальцы под ягодицы, стягивая их кожу к бедрам; его щеки надуваются и опадают, сперма, которую он сосет, становится прозрачнее и горячее; генерал глубоко вздыхает, испуская последние капли; теперь парень сосет пустой член, он чмокает, выпуская член изо рта, облизывает губы, высовывает язык до ноздрей, укладывает член генерала в трусы, ткань на месте головки промокает; смягченный член укладывается между яйцами.
Парень поднимает брюки генерала, застегивает их, застегивает ремень, генерал покачивается, он ощущает между ляжек, под ягодицами, тяжесть члена и яиц, волоски, приклеенные к головке и венам спермой и потом, легкий зуд в самом кончике; парень ладонями вытирает сперму с лица, вылизывает ладони, пальцы скользят по губам; он глотает свою слюну, смешанную со спермой, генерал видит блестящее в полутьме горло; от этого зрелища, от поедания его спермы, генерал снова возбуждается; парень это видит, он поднимается по лесенке, открывает дверь; свет из алькова, приглушенный занавеской, обрисовывает контур его фигуры: плечи, щеки, бедра, ляжки, колени, колебания живота, тень пупка, складки трусов; парень расставляет ноги, приставляет ладони кружком вокруг члена, большими пальцами оттягивая резинку трусов; он выпячивает живот с выдающимся вперед пупком, расправляет плечи, откидывает голову назад, втягивает и раздувает живот, щелкает резинкой по покрытому курчавыми волосками паху; взвешивает на ладони член, тихо смеется, выгибает ляжки, гладит себя по бедрам и ягодицам, приспускает трусы, наполовину открыв член, теребит его, задирает, натянув ткань под яйцами и щекоча их.
— Демон, демон, грязная тварь, как можешь ты жить с грязными руками, жирными губами? Женщины, которые тебя любят, знают, что ты — продажный, видят отметины любви и ярости, которые оставляют мужчины на твоем теле.
— Я знал лишь жестокие ласки и ласковую жестокость. Тот, кто хочет меня любить, душит меня, тот, кто хочет меня задушить, любит меня.
— Проваливай. Я не хочу тебя больше видеть.
— Как только вы меня покинете, ваша плоть восстанет вновь.
— Я больше не хочу любить мужчин. Отведи меня к своим блядям. Я никогда не спал с женщиной. Я стал генералом потому, что не люблю женщин. Я стал генералом от одиночества, от отчаяния.
— Вы понравились бы женщинам. У вас красивые волосы, красивые глаза, красивые бедра.
— Молчи. Я не могу любить существо, не похожее на меня.
— Однако же я — ваш подчиненный.
— Лаская тебя, я ласкаю себя.
— С женщиной то же самое.
— Нет. Я — чудовище. Я ввел тебя во грех.
— Не вы первый, генерал. И вы мне нравитесь.
— Молчи.
— У вашей спермы вкус молока.
— Молчи.
— У вас встает?
— Я люблю Иисуса.
— Он от вас не убежит, он прибит гвоздями.
— Пусть я стану рабом, пусть меня бичуют, пусть закуют в цепи, пусть я умру под бичами.
— Пусть меня опрокинут на землю, пусть задерут мою тунику, раздвинут мне ноги; стеная, я сожму мой член руками с отметинами кандалов и веревок. Пусть набросятся на меня, пусть лижут, пусть пьяные мужчины проводят горячими, свежими, пылающими языками по моему животу, по моей груди, другие пусть льют на меня вино, ставят на меня босые или обутые в грязные сапоги ноги, на подо швы собрав песок, отбросы и дерьмо нижнего города; мужчина ставит сапог мне на горло, другой — босую ногу на мой член, теребит мой член пальцами, пяткой, упирается мне в пупок. Я задыхаюсь. Я не боюсь. Пусть раскроют мне рот, пусть раскроют мне жопу…
— Молчи.
Парень смеется, потягиваясь, он поворачивается, подставляя спину и зад генералу, присаживается на корточки, делает вид, что раздвигает ягодицы руками, генерал не может сдержать тихий рев, он поднимается к парню, присаживается сзади на корточки, обнимает его за талию, прижимает к себе, лижет ему затылок, волосы, еще пропитанные бриллиантином, кусает ему мочку уха; он обнимает парня, его руки сжимают его грудь, ладони накрывают его член, залезают под трусы, парень заводит руки назад, гладит ляжки и живот генерала, ладони катаются по скрытому под тканью брюк члену; генерал тычет членом в ладони и в ягодицы парня; трусы парня трутся о мундир генерала; потом он встает, поднимает занавеску, ложится на тюфяк, генерал поднимает занавеску, облокачивается о кровать, парень приподнимается на локтях, выгибает спину, опускает трусы до колен, потом ложится на спальный мешок, край которого, спадающий с кровати, прижат к полу ботинками генерала; он показывает пальцем на край трусов, зажатый на коленях, генерал садится на тюфяк в ногах парня, тот раздвигает и напрягает ноги; генерал тянет трусы за ткань внизу, прикрывавшую член; он чувствует под рукой влажные липкие пятна, тянет, но парень раздвигает ноги, трусы натягиваются, резинка вжимается в ляжки. Парень раздвигает ноги еще шире, трусы спадает с колен. Член парня бьется в тени волос. Генерал тянет еще, парень сжимает колени, трусы скользят по ногам, генерал тянет за резинку. Трусы оказываются у него в руках.
Парень, чьи ноги теперь свободны, ложится на бок и укрывает живот спальным мешком, трет потную грудь стоптанной полой мешка; генерал мнет трусы, подносит их к лицу, кусает, лижет, нюхает, натягивает на голову, как намордник, закрывая рот и нос, лает. Парень видит, как язык генерала растягивает шерсть трусов, губы раскрыты, ноздри упираются в ткань; он смеется, генерал снимает трусы, кладет их между ляжек парня, встает, склоняется над парнем:
— Я мог бы любить тебя десять дней и десять ночей.
Он целует парня в губы, тот пускает слюни, генерал слизывает их, пьет; слюни стекают по щеке парня:
— Я люблю твой пот, твою слюну, твою сперму, твою кровь, твою желчь, твои внутренние соки, твою блевотину, твои сопли, твои скрытые испарения, все выделения твоего члена и твоей жопы, твое дерьмо, серу в твоих ушах. На тюфяке, там, куда стекает слюна парня, проступает солома.
— Когда ты хочешь поехать в отпуск? Я тоже поеду. Мы поплывем на пароходе в одной каюте. Здесь я не могу тебя любить.
— За гаражами есть заброшенный нужник…
— Этот полковник, мой адъютант, везде ходит за мной, женатый, отец восьмерых детей — старший очень красив, под фланелью угадывается превосходный член — крепкий, боязливый, покорный. Хочу крикнуть всем солдатам, что я люблю самых красивых, самых жестоких, самых грязных мальчиков. Каждую ночь я, генерал, дрочу на своей кровати, я оборачиваюсь грязными тряпками, изгибаюсь, лежа на боку, глажу себя по голому бедру, до крови кусаю свое плечо, посмотри.
Генерал обнажает плечо, наклоняется, парень поднимает глаза, смеется, смотрит на кровавые отметины на плече, царапины, укусы, смеется:
— Это я вас покусал.
— Прижмись губами к этим шрамам. Парень привстает на локтях, целует плечо генерала.
— Дотронься до них своим членом.
Генерал садится на тюфяк, парень встает с кровати, стоит так, словно собирается поссать, берет член двумя руками, подходит, упирает его в плечо генерала, тот склоняет голову набок, член парня поднимается от плеча к уху, потом к щеке, потом к губам; член напротив зубов.
— Теперь ложись. Скажи мне, любишь ли ты меня хоть немного, нравится ли тебе прикасаться ко мне или чтобы я прикасался к тебе?
— Это так. Я люблю вашу нежную и грубую кожу, ваш живот, вашу шею, ваши веки, ваши губы, целующие мой член, ваш рот, открытый на моей жопе.
— Молчи, молчи. Ты не любишь меня. Ты брезгуешь прикасаться ко мне, и я заставил тебя выпить мою сперму.
— Я давно полюбил этот вкус, это первое молоко, которое я сосал.
Парень опускает глаза, генерал гладит теплый твердый член, парень внезапно напрягает ноги, генерал приставляет член к горлу, под подбородок, парень смеется, сперма брызжет на мундир генерала, тот, застигнутый врасплох, отбрасывает член на ляжку парня и встает:
— Малыш, малыш, принеси мне воды. Парень открывает дверь алькова, снимает с плиты котел с кипящей водой, берет ковшик, наполняет его и приносит в альков; он льет горячую воду на мундир, генерал вынимает из кармана платок, смачивает его в ковшике и оттирает свои погоны.
Парень ставит пустой ковшик на постель. Генерал обнимает парня за талию, целует его в затылок, проводит горячим платком за ухом у парня; его ладони, в одной из которых по-прежнему зажат платок, опускаются на бедра, влажный горячий платок протискивается между ягодиц парня; генерал смеется.
— Подвинься, я сделаю тебе перевязку.
Парень отодвигается от генерала, тот берет его член, оборачивает влажным платком и завязывает его концы вокруг члена:
— Когда я был маленьким, я думал, что дрочить — то же, что и лечить.
Парень, подняв руки, танцует посреди алькова с перевязанным членом; генерал берет с кровати ковшик, держит его перед животом парня, потом подносит его к члену, накрывает его, просовывает ручку под член, заходит сзади, держа ручку между ляжками; он поднимает ручку, та проходит между ягодицами парня; парень стонет, извивается с ковшиком между ляжками, генерал притягивает его за ручку к тюфяку, парень падает на живот, ручка ковшика торчит из жопы, чаша режет живот:
— Дай мне платок. Положишь ковшик туда, откуда взял.
Парень просовывает руку под живот, вынимает липкий платок, отдает его генералу. Генерал кладет его в карман.
— Теперь прощай, забудь все, что мы здесь делали. Я приду к тебе завтра в полдень. Ковшик на место.
Парень молчит, уткнувшись лицом в спальный мешок, ягодицы слегка подрагивают, спина в полосках тени.
— Прощай, ты мне не ответил. Ты уже спишь, Пино? Парень молчит, но пердит в тишине:
— Салют подлеца подлецу.
Генерал идет к двери, открывает ее, выходит, пересекает кухню. В темноте клубится пар, кипящая, пенящаяся вода поднимает крышки над котлами.
— Что будет, если я вскипячу мою сперму?
Генерал вытирает лоб, возвращается к двери алькова, прикладывает ухо к бамбуковой завесе: парень плачет, всхлипывает, матрас трещит; генерал отгибает две пластины завесы, видит, что парень лежит на животе, его плечи вздрагивают от рыданий, ковшик на ягодицах повторяет колебания дышащей груди; генерал улыбается и уходит.
Два взвода, посланные для поимки Иллитана, вернулись во дворец на другой день утром, перед сменой караула; солдаты валятся на свои тюфяки, сталь грузовиков изъедена солью.
Капитан получил разрешение генерала на то, чтобы солдаты спали во время построения.
— Я приду посмотреть на них в казарму.
— Господин генерал, они спят.
— В таких позах они наиболее очаровательны.
— Я прошу вас, господин генерал.
— Лежат на боку, штаны обтягивают задницы, ремни спущены на бедра. Господин генерал.
— Вы сражаетесь, вы подчиняетесь, вы не вызываете у меня желания. Война скоро кончится, мы будем разбиты. Вы говорите не с генералом, а с хозяином борделя. Приведите ваших людей.
— Но, генерал, вы разрешили им отдыхать.
— Я хочу их видеть. Я знаю, что ночью они раздавили ребенка, я хочу их видеть.
Капитан уходит за своими солдатами, он будит их и выводит на построение. Генерал приказывает им раздеться до пояса. Солдаты раздеваются:
— Вы будете так стоять до полудня. Солдаты складывают форму на землю:
— Снять головные уборы.
Солдаты снимают береты, некоторые — легкие каски. Генерал приказывает другим солдатам разойтись. Капитан возвращается в свою комнату, моется, бреется и ложится на кровать. Генерал входит в свой кабинет, выгоняет секретарей и встает перед окном, из которого виден двор с раздетыми солдатами; он берет бинокль и смотрит на обнаженные торсы, по бокам которых таятся желанные тени, на впалые от голода животы; он знает, что его адъютант и секретари, прислонившись к двери, смотрят на него, влюбленного, исполненного желанием; солдат, пересекая двор, останавливается перед наказанными и показывает им язык; генерал узнает Пино по грязной гимнастерке, по прилизанным волосам, по полотенцу, висящему у него на плече, по мороженому, торчащему из кармана на бедре.
Его одолевает желание ласкать это влажное жилистое тело, побросать на землю награды, звания, титулы и бежать за ним, назначить его своим лейтенантом наслаждений, командиром и вербовщиком мальчиков; он, генерал, пустится в публичный разврат, будет красоваться, прислонившись к двери своего борделя; парень внутри будет растлевать и насиловать ребят моложе или старше себя. А он, генерал, будет предлагать грязный и жестокий разврат, устанавливать порядки, предпочтения, награды, считать и отмечать время наслаждений, количество пролитой спермы, продавать мальчиков распаленным прохожим — мужчинам и женщинам, выдергивая им на выбор спящего мальчика и зачитывая список его особенностей; стегать этих мальчиков хлыстом, заставлять самых юных вести хозяйство: мыть грязный паркет и кафель, менять простыни после каждого клиента; запрещать давить и пачкать детей, но самому каждый вечер затаскивать их в постель и пинать их, когда они скребут пол, сидя на корточках, задирать их передники, расстегивать шорты, стягивать трусы и опрокидывать их на спину с раскинутыми ногами, как щенков, заставлять бедных клиентов довольствоваться цементным полом уборной, чтобы тискать и пачкать детей; развеять сердечную и телесную тоску королевской свободой и омытыми солнцем ласками; расхаживать у ног мальчиков, спящих вповалку на лестнице, в погребе, на улице, утомленных утренним развратом; установить между мальчиками строгую иерархию, одним предоставляя общий зал, другим — комнату на этаже; подчинить первых вторым, при этом используя в качестве наказания для высших временный перевод на работу в общий зал; внушить всем необходимость подчиняться клиентам — мужчинам и женщинам; обязать всех мальчиков, даже самых маленьких, пить поутру вино, чтобы вырвать из сердца тоску, чтобы вырвать и сердце само, приучать их к удовольствию и жестокости, уметь давать и получать, изнурять недавно набранных, купленных или украденных мальчиков трудом, а потом, добившись полного подчинения, понемногу освобождать их; приучить их к сексуальным состязаниям, чтобы они изобретали самые непривычные позы; и еще: «вспомним о красивых нежных мальчиках, привыкших к хорошей пище в садах Энаменаса, тех, кто возвращается с теннисного корта в намокших от пота между ног шортах, открытых, веселых, челки на глазах, о том, кто после десерта, почувствовав недомогание, выходит из-за стола и идет блевать в компании заботливой любимой сестрицы, которая помогает ему и держит за плечи во время приступов рвоты, о том, кто лежит на лестнице виллы с открытой грудью и бедрами, одетый только в выцветшие плавки; его ноги, свешивающиеся с балюстрады, касаются розовых кустов; моя рука издалека ласкает его теплый живот; о том, наклонившемся к электрическому поезду, короткие легкие шорты немного соскользнули по ягодицам, открылась полоска спины между ремнем и рубашкой, на ногах — шерстяные носки с зелеными ленточками; вербовщики соблазнят их одного за другим, вывезут из родных домов и швырнут в пучину наслаждений; Пино прижмет эти лица, на которых еще не просохли слезы стыда, к своим ляжкам; я увижу их смятение перед первым клиентом, увижу пот на их бедрах, когда посетители сожмут их руками, их отчаяние, а потом наслаждение, их торжествующие взгляды после выдержанного испытания, их усердие в исполнении советов и поучений Пино, а потом внезапное вдохновение, нисходящее на их губы и руки при прикосновении с кожей партнера в объятиях, становящихся все более яростными по мере возрастания цены; возбудить в этих хорошо воспитанных мальчиках зависть и трусость, искусить их низостью и гнусностью оскорблений, заставить их, пьяных, отречься во всеуслышание от их матерей, замарать грязной бранью материнские тела и души; вспомнить о мальчиках нищих, шустрых, битых, уже соблазненных, отыскать их, схватить и бросить в общий зал, как зверьков, которых ребенок, наигравшись, запирает в клетке; перессорить их между собой и заставить драться; устроить кровавые потасовки между самыми уродливыми и продавать клиентам, мужчинам и женщинам, эти избитые, кровоточащие тела, чтобы клиенты могли вдыхать и слизывать сперму, смешанную с кровью; ввести единую рабочую одежду для всех, в комнатах и в общем зале: выцветшие плавки, зимой — свитер, также выцветший и дырявый; я буду щупать сквозь влажную и липкую после череды свиданий ткань их члены, выжимать из них последние капли горячей спермы, а потом шлепком по заду отправлять их к следующим клиентам; я дрожу, полусонный, сидя у двери в дождливый полдень, по улице пробегает зеленая сернистая тень, я возбуждаюсь на проходящих по тротуару мальчиков, на останавливающихся мужчин, на выкрики юношей, на предложения, на беглые бесплатные ласки этих мужчин, на напряженные ноги мальчиков, по которым сбегают дождевые капли, на цены, выкрикнутые звонкими голосами; обнявшиеся клиенты и мальчики слегка касаются меня, когда они, намокшие под дождем, входят в общий зал; мальчик улыбается и подмигивает мне, запрокинув голову, когда клиент нависает над ним на кушетке, другой, сидя рядом со мной на коленях у грузчика в расстегнутой рубахе, на заплеванном, залитом вином столике, повиснув на шее грузчика, опускает со смехом голову мне на плечо; за другим гонится между скамейками и столами женщина с его разорванными плавками в руке; мальчик протискивается между моих ног; я вздрагиваю от раската грома, он поднимается и бросается со стоящим членом на женщину; они катаются по полу, женщина запихивает рваные плавки между ягодиц мальчика; самый молодой из мальчиков борделя входит с мясником в уборную в дальнем конце коридора; толстый парень, прислонившийся к стене в тени уборной, привлекает его за бедра к себе, он делает мне знак рукой, дверь за ними закрывается; от их объятий звякает щеколда и трещит дверное полотно, из-под двери показывается напряженно вздрагивающая рука, следом нога, потом они понемногу втягиваются внутрь, дверь открывается, мальчик выходит, мясник, стоя на подножке уборной, застегивает ремень; мальчик возвращается к нему, одной рукой застегивает пряжку ремня, другой ласкает его между ног; они выходят, обнявшись, на середину общего зала, опираются о стойку; мальчик протягивает мяснику стакан вина, его ладонь, держащая стакан, помята, увлажнена, к пальцам прилипли волоски, мясник берет стакан, отпивает половину и с грубым смехом выливает остатки вина за плавки мальчика, оттянув ткань жирной ладонью. Плавки намокают спереди и сзади, вино стекает по ляжкам до колен, мальчик трет колено о колено; мужчина в рубашке и кепке хватает мальчика сзади и прижимает к своему животу, член мужчины тычется в ягодицы мальчика через плавки; мальчик вырывается, отрывает руки мужчины, вцепившиеся в его бедра; помощник мясника берет пустой стакан и надевает его на член мальчика; мокрая ткань натягивается вокруг стакана; мужчина сдирает плавки с его задницы, мальчик снова натягивает их, мужчина сдирает опять, вонзает свой член между ягодиц мальчика, разведя их руками, мальчик хохочет, его голова запрокидывается на грудь мужчины, его блестящие глаза смотрят на меня, мясник давит ему на живот, мальчик ощущает, как член мужчины входит в него, пронзает и жжет; капельки слюны выступают в уголках его губ, его щеки побледнели, голова скатывается на плечо, распахивая рубашку мужчины и обнажая его грудь, на которой блестит капля вина или крови, живот мальчика втягивается, трепещет над стаканом, который помощник мясника крутит по плавкам, член мальчика встает под стеклом, плавки рвутся на бедре и, следуя за движениями стакана, накручиваются на него; губы мальчика синеют, внезапно открываются, изо рта выливается кровь и блевотина; мужчина тяжело дышит, напирает членом и животом, мальчик, сотрясаясь всем телом, теряет сознание, кровь и блевотина текут по его груди, пачкают стакан, мясник роняет его, он разбивается о кафель, помощник мясника бьет мальчика ногой по коленям, по ногам, давит на его ступни, плавки скользят на бедро, на колено, мужчина обнимает мальчика, кусает его веки, подхватывает грязные плавки и прижимает их к члену мальчика; мальчик, которого мужчина держит одной рукой, падает к его ногам, член мужчины, дрожа, выходит из ягодиц мальчика, подскакивает и цепляется за рубашку; мальчик, распростертый у ног мужчины, плавки между ног, очнулся от удара об пол, он стонет, мясник пинает его ногой, давит ему на живот, нашаривает ногой плавки и поднимает их носком ботинка; мужчина садится на корточки, набрасывается на мальчика, ложится сверху и снова вводит член между ягодиц мальчика.
В зоопарке слоны трубят под мелким дождем; во вспышках молний полуголые погонщики, увязая в грязи, загоняют их ударами бичей под большие зеленые тенты, раздуваемые ветром; погонщик кричит, напоровшись бедром на колючую проволоку; испарения города поднимаются в струях дождя. Под моими ногами высокий матрос и светловолосый мальчик катаются, обнявшись, по полу, стонут, они совершенно голые; ослепительно — белая форма матроса и красные плавки мальчика лежат на скамейке; расставленные ляжки матроса нависли над лицом мальчика, черные волосы его лобка смешиваются со светлыми волосами, матрос сотрясается всем телом, он кончает, его член целиком во рту мальчика, тот кашляет, отталкивает руками живот матроса, нависший над его подбородком, сперма переполняет его рот, душит его. Голова матроса втиснута между ног мальчика, согнута под его членом, как лошадиная морда, он хрюкает, смеется, ржет, плюет на яйца; член мальчика, твердый, огромный, красный после свиданий утром и в полдень, согревает шею матроса, добираясь ему до уха.
Помощник мясника проходит мимо меня, он выходит из общего зала, поглаживая под передником свои ляжки, с улицы доносится крепкий запах слоновьего дерьма; ягодицы помощника мясника под завязками передника покрыты засохшим дерьмом; на улице, в солнечных бликах, он оборачивается ко мне, из расстегнутой ширинки торчит его член, еще твердый и красный, он берет его руками и скачет, как на лошадке, его смех еще раздается на улице, когда мужчина в кепке и мальчик разъединяются под стойкой; все прочие пары вокруг меня расплетаются, сплевывают, руки тянутся к жалким одеждам.
Кафель блестит, длинные дорожки спермы и вина, покрывая плавки, рубашки и кепки, тянутся, переливаясь в свете бури, под скамейки.
Дети, вложите мечи в ножны, мужчины, спрячьте ваши копья, я поднимаюсь над вами в закрытую долину, задыхаясь от запаха сосен, я бегу с одного края стадиона на другой, гора покрылась солдатами, их копья пронзают листву, я умираю, я ни разу не изменил свободе, моя глотка забита сухими листьями, солдаты пригвождают меня копьями к сырому песку стадиона, а я ведь мечтал быть задушенным в уборной борделя одним из мальчиков, мои раны сохнут на горном ветру, я умираю один под крики птиц Божества, я вижу мою смерть и мое нисхождение в ад; рождество не ждет, пока я умру до конца, чтобы выделить мне местечко в вечности, я умираю покорно, смиренно, лишь солнце касается духа моего, я не ропщу, а ведь я мечтал умереть в смятении наслаждения и безнадежности». Генерал кладет бинокль на стол, вызывает радиста:
— Пиши: «Срочно, секретно. От главнокомандующего войсками Энаменаса генерала Костаса Зигуриса начальнику главного штаба метрополии — Пленный вождь повстанцев этой ночью сбежал. Офицеры, солдаты и я не можем больше видеть крови. Необходима бомба. Ждем новых приказов».
— Передайте это сообщение немедленно.
— Зашифровать, господин генерал?
— Нет. Повстанцы и моряки, которые перехватят это сообщение, обожгут себе пальцы и уши. Что можно противопоставить Богу, падающему с неба огню?
Генерал слышит дальний рокот моря и рябь небес, столкновения твердых и мягких панцирей под синей водой, грубые голоса солдат и унтер — офицеров на строевых занятиях. Под водой морей, под землей полей крадется страх, скрытая угроза; черные люди в касках, вооруженные короткими кинжалами и удавками, выходят из лона волн, жители на пляжах пятятся, закрывая глаза руками; на острове царит измена: на востоке все зарезаны, заколоты, повешены, трупы блестят, покачиваясь на кромке прибоя; на западе солдаты идут, повинуясь приказам командиров, на стоящих или упавших на колени обитателей деревень и, не останавливаясь, закалывают их, как рыбу с лодки, на рукоятках их кинжалов развеваются ленточки; преследование одиночек заканчивается в расщелинах скал, в хижинах на соляных копях, жертвы живыми брошены в сонмище теней подводных тварей, в соляной раствор, там барахтаются они:
— Господин генерал, линия связи перерезана, повстанцы этой ночью…
— Наказанных солдат послать восстановить связь, немедленно. Ты будешь старшим.
Радист выходит, генерал рвет эвкалиптовый лист, занесенный на его стол ночным ветром: «Член мальчика разрывается с таким же шумом, как этот лист».
Генерал вызывает адъютанта, полковник входит в кабинет.
— Полковник, один из ваших капитанов говорил мне о парне по имени Кмент, который со своими братьями и сестрами занимается проституцией в верхнем городе. Нужно держаться до конца войны. Что до меня, я хочу развлекаться, изведать в метрополии запретные наслаждения; итак, я наделяю вас всей полнотой власти. Следовательно, вашим первым приказом будет найти этого парня. Если вы найдете его до утра, приведите его ко мне немедленно, если схватите его вечером, дайте ему хорошую кровать, закройте дверь, чтобы он мог восстановить свои силы, и свежим доставьте его ко мне.
— Господин генерал, штаб осведомлен о вашей морали.
— У меня нет морали. И от кого?
— От солдат и унтер — офицеров. Солдаты сложили про вас песню. Я знаю автора.
— Что ж, полковник, я знаю, что ваша жена уродлива, что вы зачали ваших детей под проповеди вашего брата, аббата. Но вы в вашем возрасте, в вашем чине, так и не осмелились попробовать мальчиков. Так довольствуйтесь теперь мастурбацией в постели… Кстати, по ночам меня будит скрип вашего матраса. Пожалуйста, делайте это ближе к утру, у вас будет время просохнуть.
— Господин генерал, грех толкает вас… Я люблю мою жену… моих детей…
— Я недавно думал о вашем младшем сыне, которому нравятся электрические поезда. Вместо того чтобы определять его в Военную школу, продайте его сутенеру на востоке, получите хорошие деньги.
— Вы молоды, вы — генерал, я почти старик и всего лишь полковник; генерал, я восхищаюсь вами, служба рядом с вами — честь для меня, я хотел бы излечить вас…
— Здоровье — это желание.
— Господин генерал, я сделаю все, о чем вы меня просите… Хотите знать имя этого солдата?
— Превосходная идея, полковник, пусть его приведут сюда, немедленно.
— Он также лучший стрелок в роте.
— Тем лучше. Быстро, я хочу его видеть.
— Господин генерал, он совершенно нормальный.
— Неважно, я красив, и я генерал, а солдаты здесь скучают.
— А я пока попытаюсь разыскать молодого Кмента.
— О'кей, я предпочитаю подлую плоть.
Полковник выходит, генерал кладет ноги на стол, он гладит натянувшуюся ткань брюк между ног, на бедрах, на ягодицах; под его ботинком опрокидывается чернильница; генерал зовет часового: «Вытри эти чернила». Часовой выходит, возвращается с тряпкой, промокает разлившиеся чернила; генерал смотрит на солдата, выхватывает из его рук намокшую тряпку и прикладывает ее к его брюкам, солдат вырывает тряпку и снова прижимает ее к столу.
— Я выпишу тебе талон на получение новой формы.
— Спасибо, господин генерал, но я вас боюсь.
— У тебя есть невеста?
— Да, господин генерал.
— Она работает?
— Да, господин генерал.
— Где?
— В баре, официанткой.
— Проститутка?
— Нет, господин генерал.
— Ты уже спал с ней?
— Господин генерал…
— Ты думаешь, ты у нее первый?
— Я только целовал ее, господин генерал.
— В пизду?
— Господин генерал, разрешите мне уйти.
— Ударь меня. Не бойся. Задуши при мне этого болвана полковника, я присвою тебе его чин, отдам тебе его пистолет и его жалование. Иди, найди его и убей. Убей. Убей. Вот ты дотронулся до него, ах, как воняет его клопиная кровь. Теперь задуши его. Руками. Бедрами. Ты придешь на похороны. Стой рядом со мной, и когда его вдова, покрытая облаками и черной кровью, опустив ладонь на кропильницу, спросит меня с налившимися кровью глазами о том, как погиб ее муж, ты громко пернешь. В церкви священники повешены на крюках со скотобойни. Она говорит: «Генерал, пойдемте со мной, мы разобьем на берегу флакон со спермой, который я храню со дня моей свадьбы. Скажите мне, ваши солдаты привезли на родину сперму моего мужа? У нас у каждого по флакону: я храню его сперму, он — мою…»
— Господин генерал, вы обещали мне выписать талон.
— Подождешь, у меня нет больше ни бумаги, ни ручки. И потом ты мне больше нравишься с этим пятном на ляжке. Можно подумать, что ты кончаешь чернилами, как спрут. Оберни твои щупальца вокруг моей шеи, вокруг моих бедер, сожми и согрей мою голову в своем клюве. Ну же, я умер, люби мертвого, кто тебя осудит за это?
Солдат пятится к двери.
— Ладно, уходи, собирай свои вещи, ты переведен на шахты Аи-Саада.
— Господин генерал, не делайте этого. Если я погибну, моя невеста умрет.
— Дурак. Она упадет в объятья другого. В мире, в барах полно красивых, стройных, мускулистых парней. Один из них очарует, обнимет, соблазнит, поймет ее и сделает своей рабыней. Для него она будет торговать своим телом на улице; она стоит, дрожа, как сука, у стены уборной, между ее губами и губами парня пенится слюна, их языки соприкасаются, цепляются друг за друга…
Солдат выходит, бежит по вестибюлю, потом по галерее КП, крича: «Генерал сошел с ума!»
Стражники хватают солдата, но генерал, выйдя из кабинета, бросается на них с расстегнутой ширинкой, он трется отвердевшим членом об их брюки, о приклады их винтовок; полковник в пункте связи говорит по телефону, на столе радист комкает сообщения.
— Полковник, смотрите, что генерал…
— Сохраните это сообщение, я сам оповещу штаб.
Он слышит крики генерала, быстро выбегает на галерею, оттаскивает генерала от солдат, которые уже начали бить его:
— Оставьте его, эти приступы у него с детства. Я его знаю, это скоро пройдет.
Генерал, подбородок и грудь покрыты пеной, снова бросается на солдат, полковник застегивает ему ширинку:
— Пойдем, Костас, я отведу вас в вашу комнату…
Генерал молчит, широко раскрыв глаза; солдаты, в руки и плечи которых он вцепился, стоят неподвижно; с крыши галереи взлетает журавль, генерал видит его бледное отражение на солдатской каске, он вздрагивает, кладет ладонь себе на лоб, опирается на плечо полковника:
— Вы знаете, что раньше я любил открыто и честно, лишь любовь связывала меня с жизнью. В сперме и слюне всех этих мальчиков, этих солдат утонули мой разум и сердце.
— Всем разойтись; пойдемте, Костас. Ты, бегом на кухню, принеси генералу отвар вербены. Быстро.
— Все эти солдатики — наши рабы, они служат не родине, а своим офицерам.
— Не разговаривайте, Костас. Обопритесь на мою руку. Пойдем. Завтра я прикажу арестантам убить этих журавлей.
— Нет. Солдаты взяли этих птиц под свою защиту. Они поставят того, кто ранит хоть одну птицу, на четвереньки…
Солдаты не слушают, уходят. Генерал поворачивает голову, они неспешно расходятся по своим постам, прислоняются к стенам КП, ремни спущены на бедра:
— Костас, не смотрите на них. Это все шпана.
— Таких я люблю больше всего: воров, сутенеров, проституток, предателей, алкоголиков, сирот, лишенных невинности в одиннадцать лет…
— Костас, вы начинаете снова…
— Вы знаете, что этим утром я послал в главный штаб просьбу о вашем повышении?
— Благодарю вас, господин генерал.
— В воскресенье, если позволят погода и обстановка, я охотно съезжу с вами и вашими детьми в Лутракион искупаться: пляж там хорошо охраняется, мы разденемся в кустах олеандра.
— Я буду счастлив… мой младший сын останется в лагере, Эмилиана обещала дать ему урок живописи.
— Просьба о повышении отправлена по радио утром, перед построением.
— Генерал, Эмилиана привязана к нему, она находит у него талант… Но я буду с двумя другими сыновьями.
— Что поделаешь… они уродливы, как и вы. Их кожа груба, у них нет ни задницы, ни воображения, ни слюны, вместо спермы — желчь…
Полковник опускает глаза.
В кабинете полковник смотрит в окно на пустынный двор: солдаты ушли с радистом, остались лишь следы провода на песке; генерал оборачивается с громким смехом, обнимает полковника за талию, потом отпускает:
— Костас, вы опять теряете голову.
— Я хотел бы потерять ее между ног красивого мальчика.
— К вам приведут солдата, сочинившего про вас песню. Я дал приказ отыскать молодого Кмента.
— Вы становитесь славным сводником, полковник; знаете ли вы, что приехав на остров я страстно влюбился в Сержа? Но теперь я его ненавижу. А все же, какая грация, какая нега, какой пыл… но его сперма не для меня, я почувствовал это сразу, как только его увидел: чересчур прозрачная, чересчур одухотворенная, кровь, слезы. Я предпочитаю сперму тяжелую, горячую, молоко, возбуждающее к жизни, сперму, с которой можно играть, накручивать на палец, ощущать ее дрожь на губе.
— Господин генерал, я вам больше не нужен, я ухожу. В полдень нужно отправить два взвода на разминирование.
— Делайте что хотите, но я хочу немедленно видеть солдата и знать, что Кмента ловят. У нас есть десять пленных, привезенных из Тифрита позавчера. Отвезите их на грузовике за пределы города, и пусть новобранцы их расстреляют.
— Есть, господин генерал. Прекрасный способ приобщения к войне.
— Идите.
Полковник уходит. Генерал неподвижно уставился в кафельный пол кабинета.
… В этом доме раньше был бордель; девушки развешивают грязные лохмотья на нижних ветвях эвкалиптов, раскаленное солнце жжет их раскрытые вагины; они смеются, плачут, повиснув на плечах солдат, те щекочут их между ног; некоторые солдаты, возбужденные их ласками, кончают в штаны на лестнице, ведущей в комнаты; они стоят неподвижно, дрожат, сжимая пальцами намокшую ткань между ног. Девушка обнимает обалдевшего солдата, ласкает его, заводит в комнату, падает на кровать, увлекая за собой солдата, вставляет его набухший член в свою всегда открытую, горячую, дубленую, зияющую пизду.
Между двумя клиентами шлюхи выглядывают в окна этажа, облокотившись на подоконники; их груди, вылезающие из корсажей, дрожат, как молоко, на них слетаются мухи, чтобы отыскать корочки засохшей спермы и слизать пот, мухи крутятся по грудям, потом перелетают на волосы подмышек; когда приходят солдаты или рабочие, шлюхи расстегивают корсажи и задирают платья до пупа; выглядывающие в окно шлюхи плюют на тех, кто расположился внизу.
В комнате на рваном тюфяке лежит, сжав ноги, укрывшись простыней с пятнами крови, молодая шлюха; она стонет: каменщик слишком жестоко лишил ее невинности, уже три дня она бредит и истекает кровью; тени эвкалиптов, раскачиваемых ветром, скользят по ее бледному животу, очерчивая отверстие пупка и кровавые потеки; по тротуару бегают крысы, шлюхи визжат; мужчины, остановленные посреди улицы объятиями шлюх, подбирают камни и кидают их в крыс; дети с палками в руках выбегают из переулка, добивают еще живых крыс, хватают их за хвосты и снова, крича и споря из-за крыс, исчезают в переулке. Временами из пустыни, расстилающейся за городом, налетает песчаный ветер, покрывающий красным песком реку и пшеничные поля; шлюхи за работой чувствуют приближение песка, клиенты вздрагивают, их мышцы под блестящей кожей медленно растягиваются, их вены, прижатые к телам шлюх, набухают; красный песок липнет к стене напротив окна, вцепляется зубами и когтями в селитру и плющ. Вдали, над морем, поднимаются ножи, разрывая развешанное на белых улицах белье, мужчины раздают детям винтовки, ставят перед ними манекены для стрельбы, дети, лежа на животе на песке у реки, расстреливают эти чучела, плечи сотрясаются от отдачи.
Молодые люди, подкупленные банкирами и землевладельцами Энаменаса, ходят по улицам с криками: «Снесите, сожгите Энаменас, расстреляйте всех повстанцев…» Капитан, стоя над лежащими детьми, сжимает свою грудь:
— Прекрасная молодежь, змеи, извивающиеся среди сырых скал. Поджигайте, топите, перерезайте глотки!
Войска Энаменаса разбегаются от криков этих молодых волков, стариков хватают и швыряют на песок, пена из пастей молодых волков на животах женщин. Ах, война, война.
Шлюхи моются поздним утром в корытах с голубой водой; мухи, слетающиеся с куч человеческого и звериного дерьма, дымящихся у дверей хлевов и хижин, покрывают лохмотья шлюх, их жалкую рабочую одежду, брошенную на грязную мостовую вокруг корыт, поднимают и опускают лоскуты еще влажной, смятой ткани; дети месят грязь вокруг, они дразнят шлюх, щиплют их за бедра, топчут их одежду, брызжут им на ноги грязью; мальчик, прижимая к себе козу из хлева, совокупляется с неподвижно стоящим животным; дети вокруг смеются, их сверкающие зубы покрыты кровью и прожилками черного мяса. Невидимое в небе солнце обжигает, отражаясь в лужах воды; сперма мальчика блестит, стекая на козью шерсть; тени журавлей скользят по спинам шлюх; под эвкалиптом кричит сводня с обнаженной грудью: мужчины в одежде, испачканной смазкой, цементом, кровью, желчью, млечным соком растений, тянут ее за руки. Шлюхи опускают головы в корыта:
— Пусть старуха выкручивается сама, ей пойдет на пользу немного мужской крови.
Их смех морщит голубую воду в корытах. Дети кричат:
— Давайте, бляди, пейте ваше молоко, сосите ваши конфетки, плюйте в рот мужикам!
В полдень мужчины и шлюхи спят вповалку, их спины хлещут хвосты и плавники…
Полковник стучит в дверь, открывает, подталкивает солдата, к генералу.
— Я не хочу его видеть, верните его на службу.
Полковник берет солдата за ворот и отступает с ним к двери.
— Мне еще надо найти молодого Кмента.
— Нет, я не хочу никого видеть. Пусть мне наполнят бочку свежей водой, и оставьте меня здесь одного, пока я вас не позову. Опустите в помещении все шторы, и чтобы ни один солдат не разговаривал и не смеялся под моими окнами.
— Ты, опусти шторы генералу.
— Нет, полковник, сделайте это сами. А он пусть немедленно выйдет.
Солдат смотрит на полковника.
— Иди, ты слышал, что сказал генерал?
Солдат отдает честь, поворачивается, открывает дверь и выходит.
— У него на ноге жирное пятно. Вечно грязные, вечно рваные, как жители Энаменаса.
— Господин генерал, как можете вы переживать из-за этих подлецов? Но я вас оставляю. Этой ночью я буду спать дома.
— Ваши мальчики резвятся с вами в вашей постели, в доме пахнет ночным потом и молоком, ваш сын лежит между вами и вашей женой, его пижама расстегнута; чернильный ветер задувает в окно; в тени под хрустальной лампой в изголовье кровати звенит будильник. Мальчик развязывает пояс пижамы, запускает руку между ляжек, вы кончиком пальца ласкаете его запястье, касаясь волос на лобке; его мать, ваша жена дрожащей рукой скользит по бедру своего сына, ее влагалище волнуется, набухает, приоткрывается; занавеска, намокшая от чернил, падает; вы оба наваливаетесь на мальчика, вы проникаете в него одновременно спереди и сзади, он стонет, откинув голову на подушку, вы спариваетесь на его теле, наполненном и опустошенном, на его нежном животе вы обнимаетесь, как в первые дни, ваше семя изливается на его пупок; его тело подпрыгивает, губы дрожат, в уголках губ проступают капельки крови, вы и ваша жена слизываете их, вы тянете его каждый в свою сторону; мокрая пижама смята, задрана до плеч, спущена до колен, ваши руки мнут его тело, ваши зубы кусают его; ваша жена, присев на корточки, проходит над ним, берет его за ноги, поднимает и разводит их, погружает голову и зубы между ляжек, словно в арбуз, сок которого стекает по щекам до мочек ушей, раздвигает ляжки и хрюкает, хрюкает, сопит и стонет.
Мальчик стонет, откинув голову на вашу грудь, ваша жена передразнивает этот стон и смеется, волосы щекочут ее губы и нос; мальчик кладет ладонь на ваше колено, ощущая, как напряжены мышцы перед оргазмом; из вашего сиротливо стоящего члена брызжет сперма, падает, пачкает ваш живот, ляжки, ладонь вашего сына; чернильный ветер забрызгал хрустальную лампу; распятие, висящее над кроватью, движется, колеблется, извивается, как змея; смешок, исходящий от распятого, сдвигает набок терновый венец.
Пружины матраса раскачиваются, разрывают ткань под ягодицами мальчика; ветер раскидал по паркету белые флоксы; воровка мнет и дрочит член своего сына. Ноги толкают дверцы шкафа, ваши колени красны, как шея индюка; берегите вашего сына, я могу его съесть, продать, положить на прилавок мясника, содрать с него кожу и съесть ее, впиться зубами в живое тело, в шею, в бедра, в ягодицы, изблевать на его живот съеденный в полдень лавр, слизать его блевотину; взять его на руки, отнести в оружейный зал, надеть на него доспехи и отдать его оружейникам и арестантам, чтобы они кусок за куском срывали с него доспехи, чтобы его, голого, за волосы и за ноги протащили по мокрому граниту.
А я, появившись на окружной дороге с лицом, лоснящимся от жира, накинусь на окровавленное юное тело, вцеплюсь в него в пустыне под иглами дождя; земля вздыбится и потрескается от падения наших тел; по нам прокатится колонна грузовиков и танков, раздавит нас, но я воскресну, восстану, скользя ладонями по крутящимся колесам. Грузовик отброшен в кювет, в открытой кабине мертвый солдат бьется, как лошадь, упавшая на круп, ноздри сдувают пыль с приборной доски; с утеса струится песок, собачьи зубы и кости катятся по белому песку:
— Выньте этот член из моего горла!
— Я поднимаюсь в кабину, ложусь на тело солдата, погружаю кулак в его рот, вынимаю живую змею, ее голова покрыта пеной; тело солдата выпрямляется, змея извивается в моем кулаке; под веком солдата блестит лезвие; мальчик стонет под грузовиком, вцепившись руками в днище, масло и жир заливают его лицо и волосы; он мой, я продаю его, я запихиваю ему в рот змею; солдат скользит на заднице к берегу, к моему ремню цепляется чертополох, он смеется, но умолкает, когда его ягодицы касаются мокрого песка; я слышу, как стучат его зубы, как шлепают его губы, когда он раскусывает панцири маленьких белых улиток, собранных на пучках колючих трав.
Я вынимаю моего мальчика из-под грузовика, ложусь на него и говорю:
— Ты мой раб, у меня есть для тебя медное кольцо, кнут, плевки, драгоценные взгляды и ласки, блевотина, известь и кровь.
Он обнимает мою шею теплыми руками, я слизываю с его щек горючие слезы, на его животе, под моим животом, плавится лавр.
— Я буду бить тебя, стегать кнутом; день и ночь ты будешь ходить голый, блестящий, влажный от спермы и слюны, ты будешь тереться теплым липким животом о холодный мрамор стойки бара, смеяться, сверкая зубами, упираясь локтями в цинк; твоя черная шевелюра — головокружительная, тошнотворная пальма; в глубине зала тебя подстерегает мужчина, он набрасывается на тебя, он липнет к тебе, как магнит, он прижимает тебя к мрамору, вырывает зубами волосы с твоего затылка, грубо поворачивает тебя и кладет ладонь на лавр твоего живота. Я дарую свободу тому, кого я люблю». Генерал стирает пот со лба, расстегивает ворот рубахи, ерзает мокрой спиной по колючему одеялу; шарканье по кафелю галереи; птицы бьются о ставни, генерал ворочается в кровати, его рука под ремнем и под тканью поднимает и тянет член — так вырывают корень из-под земли:
«Мальчик, спящий голым на сухом песке скалы, под покровом ночи крысы черные бьются с крысами белыми на вязанках акации, я раздвигаю, прищипывая пальцами, губки твоего члена, я выплевываю в него лавр, я закрываю нежные губки твоего члена, я возбуждаю его шариками янтаря, выкопанными в песке, я ощущаю, как поднимается сперма, как твердеет член, я прикладываю мои губы, омытые стыдом и мимолетным раскаянием, к приоткрытым губкам твоего мраморного члена и вдыхаю сперму и лавр. В полдень капитан выходит из своей комнаты, он видит раскрытые ставни на окнах кабинета генерала. Его люди пересекают двор и подходят к нему:
— Господин капитан, что такое творится с генералом, он сошел с ума… Мы чуть не сгорели на солнце. Хорошо, что радист освободил нас. Мы пошли восстанавливать линию связи. Посмотрите, наши руки забрызгал едкий сок травы, растущей вдоль дороги. Жаме сбили дрезиной на сто двадцать первой ветке парни из патруля, они ехали к девкам.
— Сейчас идите мыться. После обеда и отдыха всем собраться на складе колючей проволоки.
— Опять колючка, господин капитан? Напяливать кожаные перчатки в такую жару на израненные руки? Нельзя ли пойти работать во дворец, к старику?
— Нет. Нужно натянуть эту проволоку до начала перемирия.
— Господин капитан, вы верите в перемирие? Я, перед тем как уехать отсюда, пройдусь по бабам в нижнем городе.
— Молчи, Виридо. Господин капитан, сколько было за завтраком этим утром?
— Две тысячи шесть.
— Блядь, мой бедный капитан, вы не выходили из гостиницы.
— Твое мнение, Виридо, меня не интересует.
— Господин капитан, Жаме до сих пор не отошел от ночной взбучки? Все утро, восстанавливая линию, он хныкал. Господин капитан, вы слишком гуманны к этим тварям. Жаме все правильно сделал.
— Ты жлоб, Виридо. Знаете, господин капитан, у себя дома они ебут животных. А его сестра, слышишь, Виридо, твоя сестра, ты спишь с ней. В семье Виридо не знают точно, кто чей сын, кто чей отец. Твой братик, Виридо, случаем, не твой ли сын?
— Заткнись. У себя дома я свободен. Подожди, гад, до следующей вылазки.
— Ты и родился в навозе. У твоей матери не было времени закрыть дверь. Они же, господин капитан, не наши, они там у себя подыхают с голоду, как здешние фели.
— Где сейчас Жаме?
— Должно быть, хнычет в уборной, как в тот день, когда он подстрелил журавля.
— Господин капитан, вы спросили у генерала разрешения поставить наши ящики с пивом в холодильник офицерской столовой?
— Делайте, что хотите. И не забудьте прилечь вздремнуть.
— Господин капитан, похоже, что радист второго взвода в тюрьме.
— Не может быть! Тивэ в тюрьме?
— Полковник и два лейтенанта из разведки допрашивали его утром: он разговаривал с фелями по радио, предупреждал их о засадах.
— Замолчите, Тивэ с трудом справлялся с передатчиком, и вообще он надежный парень.
— Господин капитан, если это правда, — то, в чем его обвиняют, — его нужно убить?
— Вы и так уже убили достаточно.
— Тивэ был отличный парень. Ты помнишь, как он похоронил феля и его сына рядом с пещерой, а командир даже не вякнул?
— Тивэ все умел делать, он был писателем: когда я был в отпуске, я видел его книгу на вокзале.
— Он сумеет отбиться от этих тыловых крыс.
— Господин капитан, замолвите за него словечко. Ты помнишь, как Тивэ в наряде по кухне мыл посуду, а капитан нашел его на берегу реки?
— Мы с Тивэ учились вместе. Но что хотят от него эти штабные? Тивэ в красных плавках купается в салатной воде, я, повязав полотенце, загоняю фермеров в реку, Тивэ брызгает на них водой…
Солдаты расходятся, заходят в казарму, садятся на тюфяки, скидывают мокрые башмаки, ложатся, сложив ладони под затылком. Виридо шарит в своем сундучке — коробке из-под патронов с веревочкой на крышке — берет банку сгущенного молока, протыкает крышку ножом, прикладывает губы к разрезу, пьет, закинув голову, стоя на коленях, прижав ягодицами к тюфяку свои босые пятки; песок, сыплющийся из-под двери, сечет по стенам барака.
— Тивэ, ты здесь?
— Да, это ты, Ксантрай?
— Да, что они с тобой сделали?
— Они отобрали у меня тетради и книги. Скажи, ты сможешь отправить мои фотографии из Аи-Саады в Энаменас? Напечатай лучшие снимки.
— Не волнуйся, старик, я все понял. Твой щенок повсюду бегает за мной. Пипо, Пипо. Ты слышишь, как он скулит под дверью? Ты что — нибудь видишь там? У тебя есть тюфяк?
Песнь четвертая
— Лампочку только что выкрутили. У меня моя раскладушка.
Мне нравится запах стеллажей. Когда ты постучал, я вспоминал о девушках с фермы Рэско…
— Предупреди меня… о следующем допросе.
— Скажи, Ксантрай, ты видел еще раз малышку Эмилиану?
— Нет, она сидит у постели раненого Сержа.
— Подстереги мгновение, когда рана затянется, и она сможет оставить его хотя бы на несколько часов. Тогда, в смятении и замешательстве от возвращения на солнце, она позволит тебе дотронуться до руки, потом до плеча…
— Но она любит его. И раненого любит еще сильнее.
— Ты уверен, что любишь ее?
— Даже после войны я буду любить ее.
— Огонь, утро, лихорадка, праздность, кровь на губах твоих солдат, твоя кожа дрожит, и ты счастлив; любовь сжимает твои колени. Но наступает мир, твое тело преображается, твои ноги ходят по родной земле, вдали от крови и огня, от обнаженных тел…
— Я люблю ее, Тивэ!
— Да, скажи, Ксантрай, говорят, что у тебя трудности с солдатами.
— Да, этой ночью один из них сознательно раздавил ребенка.
— Кто это?
— Жаме, водитель.
— Защити его. Этот парень давно на войне. Он бывал во всяких переделках.
— Я знаю. Я командую ротой сирот, детей битых, проданных, купленных и перепроданных.
— Прежде ты сам этого хотел.
— Да, но я очень быстро капитулировал. Тивэ, из-за того, что я все время сдерживаюсь и жду, я уже не способен любить.
— Все вы, военные с чистым сердцем, обязаны убивать. Дети, подростки, вы сражаетесь с повстанцами, убиваете мужчин. Ксантрай, ты не любишь буйство, ты предпочитаешь скромность и тихое достоинство. Но ты затянут в ремни, проплачен, награжден, ты проглатываешь наживку. Ксантрай, ты не любишь жизнь. Оставь немного свободы для других. Ненавижу ваши муки совести. Этот полковник с лейтенантами сегодня утром, Ксантрай, как ты можешь шутить с ними? Дебилы, двоечники, пердуны из колледжа. Ты думаешь, они свободны? О, Ксантрай, когда — то влюбленный в свободу находчивый резвый зверек, свобода взорвется в твоем горле, пробитом пулей, твоя смерть будет прекрасна, ты протянешь руку своему убийце, и тот прикончит тебя, разорвет и проткнет…
— Тивэ, я несчастен, я бесполезен. Я люблю людей, но не люблю их свободу.
— Я и не призываю тебя запереться здесь со мной. Мои губы не дрожат, мои глаза не горят, когда они оскорбляют меня: их книги, их журналы переполнены фотографиями гордых, презрительных, могучих пленников, удерживаемых грязными и грубыми стражниками. Нет, я продолжаю умываться, бриться, причесываться перед тем же разбитым зеркалом; я опускаю глаза, чтобы не рассмеяться; мне нравится запах этих стоек, я наконец один после двух лет тягостного, гнилостного смешения, я слушаю музыку моего сердца, только этим утром мне было страшно, принеси мне книг, я спрячу их под стеллажами в ящиках.
— Дорогой Тивэ, я тебе сочувствую.
Ксантрай со щенком пересекает пустынный двор, по которому скользят тени журавлей; Ксантрай спускается к гаражам, он гладит на ходу собаку генерала, привязанную к двери бункера с топливом, собака встает, под ней блестит синеватая лужица бензина; щенок остался в казарме первого взвода, он копается под тюфяками, катает по цементному полу легкие каски:
— Что хотят от Тивэ тыловые крысы?
— Тивэ образованный, он поумнее их будет.
— Ты думаешь? По — моему, он такой же, как все…
— Ты знаешь, Крейзи Хорс получил посмертно крест.
— В день, когда его привезли мертвым к генералу, тот плакал, пытался собрать куски тела, я вел джип, я сказал ему: «Генерал, вы как баба». Было очень холодно, он пытался согреть руки между ляжками; в хижине под елями я сварил ему кофе, он схватился двумя руками за член, я не мог ему больше подчиняться, увидев его член. Все они — падаль. Для них солдат хорош лишь тем, что его можно облапать.
— Блядская армия.
— Одни лишь женщины нас смогут исцелить. Капитан Ксантрай зовет щенка, поднимает глаза на Центральную вышку, деревянный пол будки трещит, часовой, навалившись на броневой лист животом, дрочит под кровавым солнцем; кровь растекается по телам спящих солдат, по кишащим на них насекомым. Кровь течет по шейным артериям певцов, по ножным венам танцоров, шея певца, нога танцора проколоты колючей проволокой; шлюхи, облокотившись на подоконники, смотрят на свадьбу, поедая глазами злато плеч невесты; невеста кружится по теплому дворику, жених подстерегает ее за оконной решеткой, его пальцы скребут затвердевшую замазку, его ноги, обернутые пучками острой травы, бьют по пыльному полу.
Ксантрай смотрит на свадьбу из-за колючей проволоки, кортеж разгоняет влагу и пыль; щенок открыл дверь к механикам, он прыгает на кровати, будит солдат, кусает их за плечи, за приоткрытые груди, блестящие под противомоскитными сетками:
— Иди прочь, Пипо. Блядский пес. Иди, попроси у генерала сахара.
— Смирно!
— Вольно, отдыхайте. Сегодня во второй половине дня мне будет нужен бульдозерист.
— Зачем, господин капитан?
— Разгрести мотки колючей проволоки за вашим бараком.
Солдаты переглядываются, облокотившись на тюфяки. Щенок крутится по животу бульдозериста.
— Ты, Дафни?
— Мне нужно вымыть бульдозер, господин капитан.
— Вымоешь его после.
— Я не хочу торчать у него всю ночь.
— Смотр через три дня, у тебя будет время.
— А там наряды, караул… Сегодня ваша колючка, завтра перепахать сад полковника, послезавтра придет генерал и будет тискать меня, пока я мою бульдозер.
— Да или нет?
— Если я скажу «нет», я попаду в тюрягу, если скажу «да», попаду в нее же; стало быть, я умолкаю.
— Все вы трусы и тыловые крысы.
— Мы все побывали в стычках и засадах. Все старики. И потом, никто не хочет подчиняться генералу. Тивэ он тоже хочет выебать? Зачем он запер его на складе?
— Вас это не касается. Генерал болен, но он выздоровеет.
Щенок ложится между ляжек Дафни, его теплый живот согревает член солдата. Капитан Ксантрай выходит, щенок пытается соскочить с живота Дафни, но тот удерживает его за хвост:
— Оставайся с нами, не ходи к этим подонкам.
Щенок оборачивается, кусает солдата за палец, соска кивает с тюфяка.
Капитан Ксантрай снова пересекает двор, перед ним появляется Пино с ножом в руке; солнце светит так ярко, что Ксантраю видится убийца, он кладет ладонь на бедро и расстегивает кобуру пистолета:
— Господин капитан, что с генералом? Почему он больше не выходит?
— Убирайся отсюда. Ты мне отвратителен. Ты уже всем разболтал про пять тысяч франков?
— То, что генерал меня любит, вас не касается. Он первый любит меня так сильно. Ваш приятель Тивэ не оскорблял меня. Но я найду вас на гражданке, попробуете сиротского ножичка. Ксантрай вытирает пот со лба:
— Ты развратил нашего генерала.
— Ну надо же! Он стал другим, ваш генерал, он положил на вас, на вашу войну, на ваши пытки; знаете, куда он пристроил свои галуны? А Монсеньор и Бог? Святой Пиньоль, моли Бога о нас.
— Молчи.
— Не бойтесь, я не буду вас насиловать. Вы слишком худосочны.
— Как ты разговариваешь с генералом?
— Как проститутка, каковой я и являюсь, господин капитан. И он мне отвечает, как проститутка, каковой он мечтает стать.
— Приходи после ужина в мою комнату.
— И вы туда же? К вам… Нет, господин капитан, не хочу. Не было дождичка в четверг.
— Приходи, если мы сбежим с острова, я, Тивэ, Эмилиана и Серж, ты присоединишься к нам?
— Вы меня бросите на том берегу, а я не хочу снова встретить тамошних мужиков.
— Мы любили бы тебя.
— Я хочу одного: чтобы меня прикончили здесь.
— Почему ты хочешь умереть?
— Потому что я ублюдок. Я не существую. Я ничего не умею делать. Так, по крайней мере, останется хоть запись. Когда я сдохну, струя мочи стечет на руки медсестры или монашки, месть, господин капитан. Мир — большой бордель: все дети продаются.
Солдат запускает пятерню в шевелюру, когда он вынимает ее, черная полоса — жир и машинное масло — проходит посреди его лба; корни волос слегка кровоточат. Капитан кладет ладонь на плечо солдата, на его ладонь, прижатую к шейной артерии, тот всхлипывает, прижимает плечо к виску, касаясь щекой ладони Ксантрая, его губы на мгновение прижимаются к верхним фалангам пальцев капитана. Ксантрай ощущает у своего запястья горячую дрожащую щеку, благоухающую, как свежая роза под пылающим утренним солнцем.
— Насекомое живет достойнее меня, оно может родиться, жить и умереть свободным и невинным, укрывшись под одной и той же травинкой, никому неведомое, никем не тронутое.
— Прости, что я тебя оскорблял. Ты поедешь с нами?
— Не отнимайте у меня моей свободы. У вас в головах возник чудовищный образ борделя. Для меня это естественное состояние. Вы подчинялись гувернантке, я — сутенеру. Вы учились наукам, я — любви. Я знаю, как распорядиться своим телом. Я умею быть красивым без оглядки, когда я ссу и когда я сплю; я могу быть черным, желтым, красным, негром, викингом, греком, рабом на галерах; моя слюна, грязная, как пена прибоя, плещет по животам мужчин, как прибой, проливается в их открытые рты, как капли дождя, жжет их веки, как капли дождя, стекающие с листьев, мой живот втягивается и набухает под их губами, как болотная жижа, я привязан цепями, прибит гвоздями к кожаной кушетке, к измятой постели, к мокрому тюфяку, к липкому кафелю, к цементу, под моей спиной лопаются раздавленные черви.
— Молчи, молчи.
— Ребенком воспитательница положила меня, закутанного в одеяло, на пороге борделя, чья — то рука поднимает меня за волосы, воспитательница убегает, я молчу, страх толкает меня в душный зал, где плещут волны спермы и вина; одеяло сдернуто, брошено под кушетку, посреди зала молодой человек делает записи в расходной книге; рука хватает меня за горло, сжимает его; в глубине открывается дверь, из темного сада в мое лицо веет дыхание ветра и трав; рука поднимает меня за загривок, как котенка.
— Откроет ли Божество свое сердце, когда мы будем пить кровь его сердца? Когда оно разбудит меня, прикоснувшись солнечной рукой и сосновыми губами? Когда пройдут женщины, взыскующие материнства, молодые вдовы с хриплыми, нежными, сюсюкающими голосами, не отвернет ли оно глаз от моего полуголого тела, скорчившегося в фонтане, где ледяная вода плещется у меня между ног, а мою намокшую голову удерживают в объятьях солнце и песчаный ветер?
Тивэ вытягивается на раскладушке, скрестив ладони под затылком.
Все правильно. Я, наконец, один. Я грязен. Попытки побриться нелепы, я сожалею о ледяной воде Мэзон Форестье этой зимой, утром натянувшийся брезент палатки касается моего колена. Первым делом умыться, чаще смотреть в окно, чтобы не забыть дневной свет, переставлять три часа в день ящики на стеллажах, поднимая их на вытянутых руках, вслушиваться в голоса, в лай собак, в шорох песчинок, смотреть на сокращения мышц допрашивающих меня офицеров, не размякать с Ксантраем. Мыслить, а не мечтать: пусть Ксантрай мечтает за меня.
Солдаты плотными группами спускаются в нижний город; дети, вскарабкавшись на кучи отбросов, непристойно жестикулируют, солдаты смеются, с криками бросаются вперед; дети отступают, снова приближаются, подбирают отбросы и кидают их под ноги солдатам. Голый мальчик встает со сломанной кроличьей клетки — мужчина прячется за эвкалиптами — поднимается на мусорную кучу; солдат прицеливается в него, ствол автомата опускается к его ступням, поднимается вверх по ноге, солдат видит стекающую по ней струйку спермы, смешанной с грязью; солдаты уходят, мужчина выходит из-за дерева, подбегает к клетке, на которую, раздвинув ноги, улегся мальчик, уткнувшись лицом в старую, гнилую, перепачканную дерьмом подстилку, впалая грудь касается гвоздей и железной проволоки, член прижат к сетке; солдаты с автоматами в руках взбираются на развалины и насыпи; голые дети с перевязанными тряпками членами, коленями, горлами, с красными спинами, ягодицами, щеками, поднимают покрытые соломой головы у ног солдат; в еще теплых норах дрожат, кружатся, пищат крысы; солдаты проходят перед прачечной напротив казармы десантников, на границе двух частей города; они останавливаются: стеклянная дверь приоткрыта, один из солдат прикладом автомата толкает дверь: Джохара в глубине лавки гладит рубашки и гимнастерки; ее мать, сидя на солнце в наполненном испарениями дворике, шьет без наперстка; солдат подходит к Джохаре.
Девушка кладет утюг, ее руки вцепились в гладильную доску, ладони и пальцы лежат на горячей ткани, обуглившейся в середине доски, солдат подходит с автоматом в руках, наставляет его на Джохару, другие солдаты топчутся снаружи, закуривают; солдат набрасывается, опрокидывает доску ударом колена, размахивая зажатым в руке автоматом, свободной рукой хватает девушку за плечо, привлекает ее к себе, стволом автомата закрывает дверь во дворик, поворачивает ключ; мать стучит в стекло, кричит, пар понемногу заволакивает стекло; мать бежит к другой двери, открывает ее, выходит в сад, потом на улицу, солдаты отталкивают, потом окружают старуху; та встает на колени, бьется головой в колени неподвижно стоящих солдат, хватает руками их гимнастерки, щиплет их бедра; в лавке солдат опрокинул Джохару на кафельный пол, приклад автомата разбил стеклянную банку с водой, плечо Джохары упирается в доску, солдат, не выпуская автомат, другой рукой задирает ее платье, она тычет пальцами в глаза, в ноздри, в рот солдата.
Он плюет девушке в лицо, подминает ее под себя, свободной рукой рвет платье на лоскуты, мнет их, засовывает между ног девушки, вынимает, подносит к лицу, рвет зубами, сплевывает куски ткани на обнаженный живот девушки. Потом убирает с лобка девушки все лоскуты, все нитки, разглаживает волосы в паху — так зверь расчищает свою нору; его рука поднимается, расстегивает ширинку; его бедро, вся правая половина его тела прижимает левый бок девушки; от его лица к ее лицу тянутся волокна слюны; пальцы девушки скребут ткань гимнастерки на плече солдата, тот трется щекой об ее пальцы; он вынимает член, колено девушки поднимается, касается члена, она скользит взглядом по кафельному полу, совсем близко на синих ромбах плитки блестит утюг, одна рука девушки скребет плечо солдата, другая тянется к утюгу, хватает и поднимает его; солдат направляет свой стоящий, как змеиная голова, член в пах девушки, другой рукой он отбрасывает автомат, блестит поднятый вверх раскаленный утюг, электрический провод обмотался вокруг запястья девушки, солдат отпускает член, утюг прижимается к его ладони, обожженная кожа шипит, солдат кричит; девушка сильнее прижимает утюг к его ладони, он корчится и падает навзничь, обмякший член скатывается по ткани штанов; пот, струящийся по носу, затекает в глаза, ослепляя их, пот омывает уши, горло, затылок; девушка встает, убирает утюг; солдаты несут раненого на руках, тот кусает обгоревшую ладонь, кусает запястье, кусает до крови руку; радист по рации вызывает медпункт десантников; мать и дочь заперлись в дворике за лавкой; дети, набившиеся в сад, смотрят на двух обнявшихся женщин; запах горелого мяса, проникающий сквозь обрешетку, будит спящего на соломе чердака Кмента.
Солдаты несут раненого, выходят из лавки, кладут его под эвкалиптом; подъезжает джип, вздымая пыль, останавливается, из него выходит врач, солдаты расступаются, врач наклоняется над раненым, берет его ладонь, поворачивает, приказывает солдатам уложить раненого на заднее сиденье джипа. Два сопровождающих врача солдата, сидящие по бокам сиденья на железе кузова, зажав между ног автоматы, убирают бидоны с маслом, укладывают раненого на красный пластмассовый лежак, врач садится рядом, джип трогается, раненый стонет, из его рта стекает слюна, врач держит его за руку.
Солдаты в пыльных гимнастерках, с автоматами в руках дрожат на полуденном солнце; дети прячутся за связками соломы, внутри которых пищат крысы. Кмент в натянутой на лоб кожаной кепке, в джинсах, подвязанных веревочкой, с голым торсом, спускается по крыше, прыгает в сад, дети разбегаются. Кмент входит в дворик, останавливается в тени на пороге, у его ног — развалины спичечного домика; Кмент опускает глаза, Джохара, голая, обнимает мать; Кмент поворачивается и возвращается в сад, мать толкает Джохару в лавку, Джохара подбирает в куче лохмотьев платье, одевает его, мать загораживает ее своим телом; плечо Джохары расцарапано:
— Пойдем, не плачь. Я зашью твое платье. Пойдем. Кмент, засунув руки в карманы, проходит по саду, раздвигая ногами тяжелую от спаривающихся насекомых траву, раскидывая гладкие камушки, набросанные детьми; он подбирает смокву, ест ее, пальцы, покрытые уколами от колючек кактусов, касаются губ; он выходит из сада, идет к ручью, разделяющему два города, садится у грязной воды, опускает в нее ступни; на противоположном берегу труп недавно убитого ребенка — ночью, когда он искал отбросы под колючей проволокой — блестит от мух, кружащих по животу, кишащих в пупке; его ступни свисают в воду, член лежит на зазубренном краю консервной банки, веки, покусанные пчелами, сочатся засыхающей на солнце слизью.
Кмент держит ноги в воде над илом, потом опрокидывается назад, прижавшись плечами к истоптанной копытами животных земле. Он лежит под солнцем и смотрит в небо, его член встает; журавль летит к эвкалипту, два вертолета неподвижно зависли в небе; Кмент слышит, как в кронах и на стволах эвкалиптов грызут, кусают, прокалывают, сосут кору и листья насекомые; чуть выше, за колючей проволокой, в будках, укрытых листвой, стоят солдаты с винтовками в руках; другие солдаты, перепоясанные полотенцами, несут дымящиеся котлы, они спускаются с холма, останавливаются перед будкой, часовой достает котелок, звенит черпак, солдат с котелком садится в тени.
Кмент облизывает губы, глотает слюну; за его спиной вдоль ручья сидят группками сонные, больные, покачивающиеся от голода дети, они облизывают губы, глядя на вершину холма; пропущенный по колючей проволоке электрический ток потрескивает в проводах; крыса, выбравшись на берег из черной воды, кружится вокруг трупа мальчика, взбирается на руку, шарит под мышкой, вырывает пряди волос, выплевывает их на грудь мальчика, тянет кожу на горле, свернувшись на ключицах, поднимает морду, кусает подбородок; жужжат пчелы и мухи, крыса, сидя на впадине ключицы, приглаживает лапками шерсть за своими ушами, лижет шерсть на спине… упирается лапами в плечо мальчика, пятится, вытягивается, пятится, вцепляется в щеку, пчелы перелетают на лоб, крыса хватает их когтями и грызет, выплевывает их на волосы, садится на лоб, трет морду лапами, поднимается к глазам, останавливает морду у век, кусает брови, тянет ресницы, раскрывает глаза, еще синие и свежие, сдирает зубами радужную оболочку, вытягивает ее со свистом. Мухи взлетают и садятся между пупком и членом, вгрызаются в складки тела под волосами; крыса видит их, бросает оболочку, подпрыгивает на месте и бросается на живот, мухи улетают, оставляя следы на пропитанной потом, пылью и слюной коже мальчика. Крыса погружает всю морду целиком во впадину пупа, касаясь зубами пуповины, кусает ее, грызет, разрывает, рвет кожу до основания члена, открывая бороздку, пропитанную розовой слюной, она вгрызается под член, поднимает его, надкусывает сморщенную, нежную крайнюю плоть, пятится на ляжки, вцепившись зубами в кожу, тянет ее, понемногу открывая головку члена; из-под вывернутой кожи распространяется легкий запах мочи, крови и засохшей спермы. Крысиная морда трется об еще красную головку члена, крыса вонзает в нее свои зубы, отгрызает ее и, задрав морду, подпрыгивает, крутится между ног трупа, крайняя плоть понемногу стягивается, закрывая белую рану; крыса поедает мясо, сидя под яйцами, упираясь в них головой, яйца падают ей на уши; раны дымятся под солнцем.
Мухи, зажатые крайней плотью, подыхают, затянутые в рану; крыса кидается на колено, пробегает вниз по ноге, раскачивается на пальцах, отгрызая ногти; дети с другого берега ручья собирают камни и куски железа, кидают их в крысу, та бежит на живот мальчика, потом по ранам поднимается к подмышкам, прячется там, камень попадает в плечо мальчика, крыса прыгает, бежит вдоль бедра по черной грязи, забирается под ягодицы, протискивается между ляжек, камень попадает ей в голову, крыса пищит, дергает лапами, ее морда дрожит, консервная банка с зазубренными краями режет ей ухо, она трет лапами раненую морду, снова протискивается между ляжками, бежит вдоль бедра, заостренный обломок дерева, брошенный Кментом, пригвождает ее бок к земле; она бьется, пищит, кровь, брызжущая у нее между зубов, стекает на бедро и пах трупа, крыса, приподнимаясь на лапах, вырывает осколок дерева из земли, дети, сгрудившиеся за спиной стоящего на коленях Кмента, смотрят на издыхающую крысу. Крыса оседает, стонет, разрывает мордой землю, кусает отрезанное ухо, падает на живот, закрывая его лапами, вскакивает, втягивает живот, протянутые лапы дергаются, потом застывают; дети испускают протяжные крики, слюна, стекающая по их подбородкам, покрывает груди и животы; дети кричат, дрожащие струи слюны, протянувшиеся от губ к подбородку и груди, блестят на солнце; тела детей, покрытые открытыми ранами и шрамами, пробиты, проколоты, разорваны, избиты, искусаны, обожжены, придавлены; их раны кишат мухами и пчелами, усеяны стеблями соломы, осколками стекла и фарфора. Труп мальчика покрыт черными крысиными следами, они вьются вокруг его рук, его ног и шеи, пересекают щеки, лоб и грудь, пряди волос приклеены ко лбу; мухи и осы набиваются в раны, в разрывы, проделанные крысой, забираются под надорванные радужные оболочки глаз, кишат в волосах на лобке, шевелят их, дрожат, жужжат, хрустят, как в свежей поросли кустарника.
Кмент встает, возвращается к прачечной, дети идут за ним, вороша ногами комья земли и камни. Как только нога касается чего — нибудь мягкого и холодного, ребенок наклоняется, присаживается на корточки, подбирает кусок, ест, обшаривает землю кругом. Кмент садится под эвкалипт напротив прачечной; мальчик лежит на кроличьей клетке, сверху на нем — мужчина, он слышит шаги и голоса детей, поднимается, опираясь руками на клетку; измученный, смятый, ослепший от солнца мальчик привстает на локтях, его щеки покрыты слюной мужчины; мужчина вынимает из кармана купюру и кидает ее на живот мальчика. Кмент встает, мужчина закрывает лицо рукой и убегает. Мальчик отдает деньги Кменту. Юноша берет их, дети садятся в кружок под деревом. Кмент с купюрой в руке входит в бакалейную лавку, тесное помещение с беленными известью стенами и земляным полом, за бамбуковой перегородкой играют дети.
Кмент протягивает купюру, берет хлеб, выходит; дети сбегаются к нему.
Кмент рассаживает детей под деревом, отрывает кусок, протягивает мальчику, который только что был под мужчиной, остаток делит между остальными детьми. Он уходит. Он идет следом за мужчиной, спускающимся к реке, в нижний город, мужчина оборачивается, видит ножик, блестящий на бедре юноши, Кмент проводит лезвием вокруг члена и улыбается мужчине.
Дети под деревом едят хлеб; тот, что лежал под мужчиной, еще ощущает запах пота, табака и одежды мужчины. Дети подбирают крошки у себя на ногах и вокруг на земле, их животы быстро раздуваются, те, что постарше, меряют и мнут их, представляют, как хлеб проходит по кишкам в желудок, стараются внушить себе отвращение к этому сырому, пропитанному бледным соком, переходящему из кишки в кишку, гниющему между ляжек хлебу. Дети зевают, ложатся на землю, опершись головами на корни эвкалипта.
Кмент, посмеиваясь, идет следом за мужчиной; тлеющие головни, лужи, испарения сточных канав; в верхнем городе звенят колокола архиепископства, мужчина замедляет ход, останавливается, оборачивается.
— Если ты хочешь меня зарезать, делай это поскорей. Накинься на меня, схвати за горло, ну же!
Мужчина поднимает руки, запрокидывает голову, его горло блестит под солнцем; большой сине — белый пароход выходит из порта Энаменаса.
Кмент подходит к мужчине, плюет в это гладкое, трепыхающееся горло, плюет еще и еще, его слюна жжет горло мужчины.
Кругом собаки разрывают песок, отыскивают кости, вверху парят журавли, ветер от их крыльев взметает песок; ослепленные солнцем собаки рычат, оскаливают пасти, бросаются на птиц, но те одним взмахом крыльев поднимаются в синее небо, садятся на крыши бараков на безлюдных берегах, слетают к кромке прибоя вдоль вырытых морем в песке пляжа ручейков; ветер от их крыльев обрушивает их песчаные края.
Море выбросило к верхней границе пляжа гальку, круглые камни, кости каракатиц, кору и пемзу, люди покрыли их своим дерьмом, в этих кучах роются крысы, разгрызая зубами пучки водорослей. Выше, на плоских уступах, в лужах с розовым дном плещутся мелкие рыбки. Еще выше, у подножия скал, между дымящимися лужами ослиной и человеческой мочи бегают верткие ящерицы.
Кмент взбирается на скалы, присаживается на корточки, окунув ладонь в желтую лужицу, и подстерегает ящериц; он быстро опускает руку, ящерица ускользает; Кмент преследует ее на четвереньках, прижимает ее к камню, маленькая жесткая ящерица изворачивается, кусает его за ноготь, Кмент сжимает открытую пасть между большим и указательным пальцами, поднимает руку, ящерица зависает в воздухе, Кмент откусывает хвост, съедает его, лапки ящерицы царапают его губы, Кмент хватает их зубами и съедает, из извивающегося брюшка течет кровь, Кмент впивается в него и съедает, коготки ящерицы впились в его губы, Кмент разгрызает их и сплевывает на гранит, он бросает в рот голову с конвульсивно сокращающимися челюстями, раскусывает ее, зубы ящерицы скрипят под его зубами; Кмент облизывает пальцы, осматривается кругом, замечает бегущих по камню ящериц, прячущихся в отверстии утеса, он вытягивает руку, хватает сразу двух ящериц, сжимает их в ладони и съедает — хвост к голове, брюшко к брюшку, хвост к голове, его губы покрыты мелкими чешуйками и зубами ящериц, коготки колют его горло; над его головой, на вершине утеса, горит трава; Кмент поднимается, вытирает мокрую ладонь о бедро и танцует, дым и запах горящей травы сушат пот на его теле, он танцует, перебирая ободранными, обожженными ступнями по скале, он выбрасывает руки над головой, хлопает себя по бедрам, бьет по животу, втянув его; тряпье, покрывающее его тело, развязывается, скользит по бедрам, падает у ног; он откидывает на плечи зудящие волосы, в его уши набились мухи, колени и мышцы хрустят, с подбородка стекает слюна; откинув голову назад, так что черные жирные волосы касаются спины, он садится, расставив колени и соединив пятки, мышцы его живота сокращаются, ягодицы прижаты к пяткам; он опускает руки между колен, сжимает кулаки, опираясь ими на скалу, красные, скрючившиеся пальцы его ног царапают ногтями камень; он заваливается на правое плечо, ложится на бок, его с ног до головы объемлет жар горячего камня; скрестив руки под затылком, он вытягивает ноги, куски ящериц бурлят в его чреве, он открывает сухие глаза, растопыривает пальцами веки, поворачивается к солнцу и всматривается в него до слепоты; он закрывает глаза, залитые слезами — теперь он сможет уснуть, он прикладывается виском и ухом к раскаленному острому камню.
Эмилиана поддерживает Сержа, юноша обнимает ее за плечи, его костыль оставляет ямки в сыром песке.
— Как ты думаешь, нам не угрожает здесь случайная пуля или снаряд?
— Нет. Но мы вышли, не предупредив папу.
— К тому же на моем израненном теле пуля или снаряд лишь нагромоздят рану на рану, смешают кровь с кровью, сломают уже разбитые кости, разорвут уже пробитые мышцы…
— У тебя гладкая кожа, в волосах твоей красивой головы нет кровавых струпьев, я могу накрыть ладонью твое горячее ухо, погладить кончиками пальцев твои веки, почувствовать, как трепещут ресницы над твоими закрытыми глазами — синими, влажными, строгими.
— Ты никогда не поймешь моей муки. Какое море может омыть мою тайную скорбь?
— Поведай мне ее, поведай.
— Чтоб ты утопила ее, как котенка?
— Поведай.
— Я один во всем мире, нагой, ветер Творения сушит родильную влагу на моих плечах. Всякий раз перед наступлением ночи на опушку леса выходит одна и та же лань, я вижу в проемах листвы, как трепещет ее рыжеватая шкура, одно и то же облако всякий раз зависает над верхушками окружающих поляну деревьев; я лежу в остывающей траве, по моему лицу пробегают тени рушащихся развалин; без сердца, не чувствуя ни холода, ни трепета лани, я жду, когда с облака спустится Бог и унесет меня к солнцу.
Каждый вечер Бог спускается, уносит меня к солнцу, и я просыпаюсь. Я — первый и последний человек, взлелеянный богами, я вижу вершину творчества и чистую страсть, творчество из земли на земле, трепетность жестов, вершину Творения, лик Божий, отлет, возвращение, кружение ангелов, их пятки, отрывающиеся от облаков, их волосы, обвившиеся вокруг соляных столпов, пронизанных лучами солнца, их полные веселия сонмы, их лишенные тени руки, касающиеся моего лица. Под лучами солнца перекатываются мои мышцы, растягиваются жилы, моя кожа дрожит под ладонями богов, моя слюна, моя сперма изливаются на чистые чрева. От ночи к ночи кричит ребенок, зачатый на облаке и сразу ставший ангелом. Богам неведомы красота, расстояние, небытие.
Каждый вечер Бог неизменно спускается, уносит меня к солнцу, и я вижу творчество, огонь, который не жжет, и воду, которая не смачивает рук; для меня одного каждую ночь Бог творит птиц и выпускает их в отсветы зари, я слышу трепет их крыл в ледяной ночи, и ветер уносит их в отсветы зари; для меня одного бог творит рыб и выпускает их в сверкающую тьму, я слышу, как они падают на льды и пальмы, и море жаждет их; на грани мирозданья Бог держит меня за руку, рыбы и птицы выплывают из той части Его тела, что задумала их: ладонь мечтает о птице — птица вылетает из ладони, и ладонь сжимается; птицы и рыбы смешались в полете, земля и море жаждут их, они поднимаются им навстречу; птицы, повернутые в своем полете встречным ветром, ударяют в лик Божий, Он хватает их на лету и передает мне, я сразу отпускаю их — иначе они умрут; я задыхаюсь от ветра, моя спина, укрытая тенью, становится грудью моей, я весь — перед, кругом — перед. Боже, отними у меня немного этой силы, осени своим светом этот мир, вышедший из Твоего чрева — он живет без Тебя, вдали от Тебя. Столкни меня в этот свет, я буду падать, глядя на Тебя, среди блестящих клювов и чешуек. Боже, оторви меня от чрева Твоего, сними Твою руку с моего сердца, вырви Твой образ из моего сердца, из моих губ, из моей головы, из всех способных чувствовать частей моего тела, умри у ног моих: подгнили корни растений и губы солдат. Что за голос, черный, как факел, звучит в небесном хоре? Это голос тайного Бога, ребенка, взращенного молодыми мужами, его мантия сверкает в прохладе храма; молодые мужи не ведают, что Он есть Бог, они поют гимны Богу, и Он поет с ними и славит себя. Эмилиана прижимает колено к перевязанному колену юноши, касается бедром ткани его джинсов, завернутых над повязкой; ее рука опускается на другую ногу юноши, дрожащую под обтягивающей тканью и согнутую в колене:
— Тебе больно сегодня?
— Нет. На моей повязке выступает соль.
— Я люблю тебя.
— Я грязен.
— Этой ночью мы будем вместе?
— Моя рана может открыться.
— Я тут же закрою ее губами. О, Серж, ради тебя я готова продать себя на площади…
— Блаженна ты, блаженна, затерянная среди нас, покрытая ветром и молоком, запятнанная и остывшая; молодые люди, раздувая губами белую завесу, склоняются над тобой и касаются остывшей грязи у тебя между ног. Во время урока гимнастики ты прячешься, присев на корточки, за угольной кучей, твои колени наливаются кровью; за приоткрытой дверью умирающая старая монахиня поднимает руку и роняет ее на простыню. Ты поднимаешься и входишь в комнату, наполненную запахами соли, сахара, желчи, пара и крови; ты приближаешься к постели, трогаешь простыню, старая монахиня издает белый вздох, она открывает верх своего тела, снимает с него покровы, наклоняется к тебе, умоляет тебя, ты кладешь ладонь на ее правую грудь, на то место, где раньше была грудь, поникший сосок почти врос в тело, ты поднимаешь его зубами и сосешь, молоко брызжет в твой рот, в твои ноздри, старуха гладит тебя по блестящему затылку, по пахнущей мылом ткани на плече:
— Посмотри, дитя мое, что я прячу у себя под кроватью.
— …Ты присаживаешься на корточки, на твоих губах молоко; под кроватью в тазике, привязанном к пружинам матраса, ты видишь кусок свежего сырого мяса, озаряющий красными бликами пыльную полутьму, из мяса струится кровь, засыхающая на дне тазика, ты встаешь, тебя выворачивает наизнанку:
— Каждую ночь я отрываю кусок и съедаю его, глядя на ледяную луну…
…Днем вокруг приюта бродят молодые люди и мальчики, они натягивают луки, выпущенные ими стрелы увязают в плюще, вьющемся по стене; во время сиесты ты слышишь их крики, хлопки луков, слюна клокочет у тебя во рту, ты засыпаешь, но в окно спальни ударяет стрела, ты просыпаешься, тебе кажется, что ты видишь за стеклом смеющееся лицо мальчика, его плечи укрыты шерстяной пелериной, отец ждет его на урок стрельбы.
— Ты слишком много говоришь, у тебя жар. Уйдем с этого берега. Я хочу найти тень. Ты видишь тень? Там, вдали, вдоль пляжа, есть пещеры.
— Внутри их — связки тростника, шевелящиеся от пчел и крыс. Там повстанцы прячут трупы, туда приходят умирать под взглядами крыс голодные дети.
— Я совсем не знаю другого берега моря. После войны мы будем гулять с тобой, танцевать там, где земля и люди не истекают кровью.
— Но мы все будем мертвы, утоплены, зарезаны, задушены, взорваны, наши тени, отпечатавшиеся на стенах, упокоятся в подводном мареве.
— Я люблю твои глаза, залитые светом, синеватую солнечную дымку на твоих веках, дрожь в твоих ослабевших ногах, слюну, сохнущую на твоих губах, о, Серж, ляжем здесь, пусть соль покроет наши раны, пусть песок заполнит наши рты, пусть на нем отпечатаются наши тела.
— Я принадлежу Богу. Пусть Бог тебя поглотит.
— Я тоже хочу поглотить тебя, чтобы ты жил во мне, у меня нет другого голода, другого желания.
— Мы подошли к пещерам. Вдыхай запах смерти. Если ты хочешь поглотить меня, съешь сначала эти трупы, за хороненные без гробов, укрой их в своем теле, а потом и меня в своих внутренностях.
Они проходят мимо пещер, по песку ползают полуголые дети. Эмилиана дрожит, вцепившись в плечо Сержа.
Дети хватают их за колени, она ощущает маленькие ногти, как чертополох, царапающие ее кожу:
— Они жаждут твоей крови.
Мальчик начинает разматывать повязку вокруг колена Сержа.
— Они хотят твоей крови.
Перед входом в пещеру мальчик кидает камни в мертвого спрута, кидает, отходит, рычит, снова кидает, отходит, наскакивает, топчет спрута ногами, плюет на него, садится на подрагивающее тело, переводит дыхание, протаскивает щупальце между ног, зажимает в кулаке, приставляет к носу.
— Три дня и три ночи ты подстерегал меня, спрятавшись в луже, закопавшись в песок, вращая огромные шары своих глаз. Ты съел моего отца, мою мать и меня тоже хотел съесть. Мать моя, бегущая по звездам, посмотри, я убил твоего врага, того, кто соблазнил моего отца, зачаровал его, повис на его шее, на его пояснице, украл его заработок. Мать моя, бегущая по звездам, спустись, омой мое лицо, прочисти мои уши. Твои дети, изгнанные с отцовской постели, исхлестанные щупальцами спрута, взывают к тебе, стоя на коленях в навозе, по ночам, их зубы стучат, их колени покрыты кровавыми струпьями. О мать моя, спустись, обними мои бедра руками, я сяду к тебе на живот. На улицах на меня смотрят мужчины, в их руках блестит золото. О мать, забери нас к себе. Посмотри на мою раздавленную ногу: ночью меня сбил джип, солдаты смеются, их рты набиты черным виноградом, лейтенант сжимает между ног рукоятку переключения передач, солдаты хлопают его по плечам, я кричу, извиваюсь на песке, моя нога зажата колесом. Лейтенант приказывает водителю остановиться, солдатам — спуститься и приподнять джип, шофер подает машину назад, солдаты запрыгивают в джип, мои кости хрустят.
— Меня зовут Тижена.
— Что ты делал там ночью? Воровал?
— Спрут хлестал меня щупальцами, пожирал меня глазами. Я был голоден.
— Вам раздают еду…
— Чтобы у нас были силы доносить.
— Посмотри, как блестят его губы и зубы. Уходи отсюда со своей раздробленной ногой. Пусть тебя лечат в одном из ваших подземных госпиталей.
— Мадам, они все приходят в пещеры умирать; ночью там полно обнявшихся трупов. Мать моя, задуши меня, убей меня, привяжи меня к своей спине. Спустись, возьми меня за раненую ногу, унеси меня вниз головой, так, как я вышел из тебя.
Мальчик ложится на мертвого подрагивающего спрута, солнце жжет его лицо, синие камушки останавливают кровь, текущую из плеч, из запястий, из колен.
Эмилиана и Серж идут по костям каракатиц, по коре, пропитанной солью и морской пеной; перед пещерой лежат старики: когда их касается тень Эмилианы, они шевелят голыми ногами. Струи спермы, стекавшие по их ногам, намочили белый песок. Девочка роет норы в этом песке.
— Они уже не слышат шагов тех, у кого есть еда.
— Уйдем отсюда, Серж, или умрем здесь, среди трупов, умрем их смертью, сорви свои повязки, разорви мое платье, я лягу умирать рядом с этим стариком.
По ночам нас будет понемногу засыпать взметенный ветром песок; огромные спруты всасывают песок, разгребают его, но мы уже умерли и окоченели; старик со сломанными костями скатывается на меня, его голова на моей груди, его губы впились в мою шею.
— Я никогда не хотел умереть, и еще меньше вести людей в бой, проливать кровь или сперму, мне больше не ведомы ни высота, ни ширина, ни волны, ни ветер, ни грусть минувших веков; умолкли рты, глаза ослепли. Бог мой, нисходящий из глубин Истории, оставляя людей минувшего в тени бичей и мраморных колонн, Ты, в мудрости своей, Ты, в жестокости своей крутящий и насилующий Землю, о, скверный знаток Истории, Земля ускользает из твоих рук, ты греешь ее, жжешь, чтобы она открылась, чтобы она взорвалась в Твоих руках, чтобы снова увидеть каждую тварь живой; Ты появляешься и я страдаю; Ты против меня во всем, что живо. О Боже, Твое Творение устарело, мы с ужасом смотрим на то, как оно умирает. Сожги, сожги Землю, погрузи нас навечно в это пламя, сбрось наши тени в небытие; сожги эту Землю, служившую нам убежищем от Твоего гнева, вода и пальмовые ветви скрывали нас от Твоих влюбленных взглядов и ласк, Ты протягивал к нам свои руки — мы бежали в девственные леса или, омытые любовным потом, прятались под сень струй; во имя Твое мы катались по простыням со ртами, приоткрытыми, как у плывущих кролем, часто бились наши сердца, на наши животы изливалась жертвенная влага, в золотом воздухе вокруг нас летали перья, прилипая к нашим потным коленям, под кроватями кричали петухи. Эмилиана, не опускай ногу на кафель, петух разорвет тебе ногу, вырвет клювом жилы; взметенные его крыльями пыль и песок прилипают к ране, кровь притягивает лучи и становится золотистой; в углах оконной рамы кишат пчелы и мухи, дети прижались розовыми языками к стеклу, их глаза устремлены на твое раскрытое влагалище; снаружи по реке, по каналу, между кирпичными стенами приюта плывут дым, ладан, пена, клочки буйволовой шерсти, мы оба — брошенные дети, наши шеи огрубели от ветра, наши головы украшены цветами, мы лежим на черной ледяной воде, по нашим спинам скользят плавники рыб и цветы шалфея; мы опускаемся к солнцу, ручьи выносят нас на пляж, мы катаемся по белому песку, покрывшись песком, солью и пеной, мы принесем в жертву перья и кровь, укроем нашу обожженную кожу льняной одеждой, мой сжатый член твердеет, в уголках губ белеет соль под лучами предзакатного солнца.
Ты; я слеп, возьми меня за руку, столкни меня в огонь; по твоим бедрам струится пот, кровь обвивает, как сеть, твои пальцы, ветер разносит дым сгоревших лесов. Покрой меня золотом, вылей чаны с золотыми монетами на мою голову, посвяти меня в сан.
— Брось меня живым на растерзание псам, к основанию крепостной стены, чтобы кипящее масло лилось мне на грудь, чтобы на меня падали трупы шедших на приступ, чтобы все ружья целились в мой живот, чтобы колени солдат сдавили мои бедра.
— Но ты не шлюха. Пусть ветер выстудит желание из моего тела. Боже, вручи мне скипетр. Пусть мой отец умрет, я заступлю на его место, повстанцы подчинятся мне, и я прикажу убить всех священников. Для меня — нескончаемые поездки через сожженные леса, колеса джипов и бронетранспортеров скрипят по пеплу. Для меня и моих солдат — суд над офицерами повстанцев в темных дворах; дым полевых кухонь поднимается к трибуне, с которой я говорю; я оглашаю приговор, солдаты набрасываются на разоруженных офицеров и раздирают их своими ножами; ветер приносит с гор дождевые тучи, дождь хлещет по крышам и смывает кровь с мостовых, прогоняет собак от растерзанных трупов, солдаты в темных казармах пьют, обнимаются, танцуют, прижавшись лицами друг к другу, садятся у окон и смотрят, как сияют трупы под солнечным дождем; один из них выходит, приближается к трупам, наклоняется, задравшаяся на спине гимнастерка обнажает белую кожу, усеянную веснушками; он присаживается на корточки, его ладонь касается вспоротого живота, залезает в карман на бедре, возвращается с зажигалкой; солдат кладет ее в свой карман, обшаривает другие трупы, его ладонь в карманах порой омывает кровь, он выпрямляется, его намокшая гимнастерка прилипла к телу, вода, струящаяся по складкам ткани, смывает кровь — он вытер ладони о грудь и о бедра — солдат сморкается, крутит головой и плюется, как пловец; генерал, освобожденный от наказания, но оставшийся под подозрением, служит простым солдатом в своем эскорте: теперь он постоянно видит возбужденные тела солдат, но те могут побить его, если он к ним притронется; он танцует в казарме с солдатами укрепления, к ним присоединяется моя охрана. Но я возвращаюсь в Энаменас, там меня ждут послы; в головном бронетранспортере на скамье сидит генерал, зажав между ног винтовку, его тело трясется на дорожных камнях и выбоинах, он смотрит на солдата, сидящего напротив, ждет, когда удар или резкий рывок приоткроет его расстегнутую ширинку; навстречу колонне движется груженный фруктами фургончик, мой джип касается дикой виноградной лозы, оторванная гроздь падает мне на ноги; в бронетранспортере вставшие с мест солдаты, прислонившись к бортам, осыпают руганью водителя фургончика: их отвердевшие члены натягивают ткань, упираются в борта. Небо темнеет, запах раздавленного винограда поднимается вверх, расплывается над горизонтом, бросает меня и моих солдат на сиденья машин…
Эмилиана берет Сержа под руку, склоняет голову на плечо юноши, на его грудь; почувствовав через рубашку медальон и цепочку, она трется щекой об его грудь:
— Я хочу видеть золотую цепочку на твоем обнаженном теле.
— Пусть откроется моя рана, пусть снова кровоточит под твоими губами. Разбуди мою кровь, пусть твои губы разгонят ее по телу и соберут в моем члене.
— Ляжем на песок под ветвями тамариска, будем любить друг друга здесь, на берегу, пусть пена прибоя стекает по нашим сплетенным телам, смывая пот со слипшихся животов, пусть тени облаков скользят по твоей спине; я, задыхающаяся, скованная, бьюсь под тобой на песке, как раненая птица; я вижу, как по нижним, осыпанным песком ветвям тамариска ползают мошки, как они падают на раковины улиток и на куски коры, поднимают их и зарываются в песок, их усики одно мгновение блестят в солнечном луче, вокруг моей талии с хлопаньем обвивается горячий сырой ремешок, и ты овладеваешь мной.
— Моя золотая цепь струится между твоих грудей, из твоих глаз к вискам стекают слезы, ты улыбаешься, откинув голову на песок, твои щеки ввалились, кровь приливает к твоей груди, твои бедра трепещут под моими, между твоим животом и моим хлюпает сперма, я кусаю твой рот, кровь брызжет на мои зубы, подъем моего бедра прижимает низ твоего живота, ты отталкиваешь ладонью мое лицо, твой язык слизывает кровь с моих зубов, я сжимаю их, прикусывая твой язык, ты кричишь, плюешься, слюна покрывает мой подбородок, я тяну твой язык вбок, к уголку губ. О, съешь меня, съешь, я соскользну в тебя, я заберусь в твою утробу через раскрытое влагалище, я войду в тебя взрослым, исторгни меня назад младенцем, храни меня, съешь меня, я — твоя кровь, твое тело, твое желание, твой голод, когда ты смотришь на мужчин, я отливаю от твоих колен и разжигаю низ твоего живота. Все твое тело покрыто моей спермой, ты встаешь, я, голый, остаюсь лежать на спине, ты надеваешь платье, оно прилипает к твоим бедрам, животу, груди, спине; я лежу, скрестив ладони под затылком, ты наклоняешься надо мной, набираешь в ладонь песок и медленно высыпаешь его на мой член, песок, намокший от спермы, понемногу засыпает мой обмякший член, ты наклоняешься ближе и гладишь мокрый песок, зверек, где прячется полевой зверек, не под этой ли кучкой песка?
Под твоей лаской он поднимается, пробивает песок, касается твоих пальцев, ты опускаешься рядом, я перекатываюсь через тебя, я провожу рукой по вороту твоего сырого платья, покрываю ладонью твои груди, глажу плечо перекатываюсь, задираю твое платье, моя ладонь, мои пальцы спускаются по ткани на твой живот, ты стонешь, раздувая щеки, мою ладонь согревает нежный бугорок твоего влагалища; твои груди протыкают платье, я целую их стягиваю ткань, они хлынули в мои губы, я обнимаю их, прижимаю к своим щекам; ты ласкаешь ладонями мои бедра, твои пальцы касаются основания моего члена, ворошат мокрую прядь волос у меня на лобке, член бьется, упирается в твое бедро, ты уже не смеешься, я наваливаюсь на тебя, ты сдавливаешь ляжками мой горячий отвердевший член, ты часто дышишь, твое дыхание колышет твое тело, я приникаю к твоим губам, пью твою кровь, твое дыхание, твои жилы дрожат под моими зубами, основание моего члена прижимается к губам твоего влагалища, я приподнимаюсь, мой член скользит между твоими ляжками, потом твое влагалище, как магнит, втягивает его.
— Заживо сожженная, смятая, брошенная на песок, поднятая, избитая, разорванная, съеденная этим влажным ртом, задушенная, побелевшая, покрасневшая, остывшая, отброшенная, созревшая, сварившаяся, поглощенная, выпитая, связанная, развязанная, исхлестанная, туман наплывает на меня, солнечный дождь, рыбы проплывают у меня между ног, ложатся на мой живот, твоя сперма разрезает меня пополам, поднимается к груди, омывает плечи и жжет меня, жжет… она клокочет в моем горле, ты сжимаешь мне шею, чтобы удержать ее, но она брызжет тебе на пальцы, переполняет мой рот, ты приникаешь к моим губам и всасываешь свою собственную остывшую сперму; выпив ее, ты опрокидываешься на песок рядом со мной, растопырив онемевшие от объятий, залитые спермой пальцы, ты раздвигаешь ноги, солнце проникает между твоими ляжками, под его лучами блестят пот и слюна; я лежу неподвижно, оставив на своем теле следы от твоих ладоней и лохмотья моего платья; я раздвигаю ноги, ты привстаешь, держишь их руками, опускаешь лицо к моей вагине, приникаешь к ней губами; я вздрагиваю, ты сжимаешь пальцами мои ляжки, я приподнимаюсь на локте, другой рукой ласкаю твои влажные ладони, твои губы поднимаются вверх по животу, твой язык проникает во впадинку моего пупа, заливает ее слюной, твои ладони скользят по моим бедрам, накрывают мои груди, сжимают подмышки; твое тяжелое, мокрое, блестящее тело поднимается вверх по моему телу, твоя грудь сдавливает мои груди, твои челюсти трещат над моими глазами, твой еще стоящий член скользит по моему животу, омытому спермой, потом и слюной, мои ноги расслаблены, мои руки упираются в твои ляжки, пытаются оттолкнуть тебя, мои пальцы касаются твоих теплых, липких яиц, свисающих под членом, я проникаю ладонью во впадину между членом и ляжкой, я складываю ладонь в этом детском тепле; от моей ласки, от сложенной ладони твой член напрягается до предела, моя ладонь ласкает его у основания, за яйцами, потом поднимается вверх, к нежной синеватой головке, я беру ее в руку, бережно сжимаю, ты движешься на мне, ты стонешь, словно пробужденный ото сна, ты наваливаешься на меня, моя ладонь опускается за яйца, проникает между твоих ягодиц, я держу тебя, мой ребеночек, согнув руку, мой локоть между твоих ног, ладонь на пояснице, я подтягиваю тебя вверх по моему телу, как ребенка, которого купают; на твои джинсы, наполовину засыпанные песком, садятся птички.
— Я кусаю твои глаза, мои зубы скользят по жесткой коже между твоими бровями, мои ноздри упираются в твои волосы. Я пожираю, я раскусываю пальмы, леса, целлулоид нашего детства.
Ты, лишенная детства и я, убивший свое, мы можем любить друг друга, как сироты; наши сердца выброшены на ветер, наши сердца бьются у нас между ног. Нас будут искать, но я убью моего отца, заставшего нас вместе, перед его агонизирующим телом я овладею тобой; в ночи, полной огней, мы устроим избиение священников; мы бросим изуродованное тело кардинала в бассейн; в одной руке я держу факел, другой обнимаю твою грудь; мы освободили маленьких кастратов, они раздирают на куски чернокожего юношу, охранявшего их, от гнева шорты у них между ног окрасились кровью, многие из них к утру умерли; заря дымится в лохмотьях и в лужах; я прохожу по месиву из крови, жил, глаз, отрезанных членов, мои ноги увязают, словно в тине, кишащей червями и лягушками; я иду, опустив голову, факел в моей руке погас, горло сжимает тоска: надо похоронить все эти тела. А ты веселишься в караулке, солдаты положили тебя, полуголую, на пыльное, грязное одеяло и подбрасывают в воздух; когда ты падаешь вниз, они запускают руки в одеяло и щупают, шлепают твое тело в ярком свете лампы; разбуженные охранники смотрят на тебя, сидя на двухъярусных кроватях, одеяло на сапогах, винтовки между ног. Ты смеешься, когда один из тех, кто подбрасывает тебя, трогает тебя за грудь или за низ живота; та же рука, что трогала тебя за грудь и за низ живота, пыльная и горячая, касается пыльной и горячей лампы. Один из солдат расталкивает остальных и уносит тебя на нижний тюфяк, он ложится на тебя, одетый, с оружием, патронташ давит на твой живот, от его губ пахнет вином и мясом, он приподнимается, расставив ноги по краям тюфяка, расстегивает ширинку, вынимает член и входит в тебя.
Часовой с вышки укрепления видит за колючей проволокой убегающего священника, он направляет на него прожектор и кричит; все солдаты, кроме того, который лежит на тебе, выбегают из караулки, перепрыгивают через мешки с песком, бегут по выжженной траве, пролезают под колючкой, кричат, свистят, засунув пальцы в рот; священник петляет налево, направо, они ловят его, валят на пепел, вынимают ножи, отрезают ему голову, выбрасывают ее из круга света прожектора в заросли бамбука; они срывают с трупа одежды и повязывают обрывки сутаны на бедра и вокруг головы, старослужащий отрезает член священника и прикрепляет себе на ремень; часовой на вышке радостно вздрагивает, его ладони дрожат на стальном листе, стражники возвращаются в укрепление под вышку, раздвигая плечами ветви эвкалиптов; они поют; насекомые, летящие на свет прожектора, ударяются в их лбы и глаза. Пляшите, пляшите, кричите, войте вокруг меня, свистите, пейте, стащите с себя рубахи, кусайте их, мухи, кусайте свет и огонь, бросьте ваши рубахи в пыль и топчите, топчите пот, льющийся с ваших щек. Тем временем солдат, лежащий на тебе, обшаривает твой живот; твои глаза блестят, ты запрокинула голову на окровавленную подушку, но солдат поднимает твою голову к своему лицу и целует твои губы; по мешкам с песком бегают крысы, один шакал, потом два, потом десять теребят труп священника, по их шкурам стекает вода и тина; на реке паводок, болото подступает к колючей проволоке; одеяла в караулке отсырели, солдаты вокруг меня греются, переступая с ноги на ногу, легкие каски прижаты к животам; генерал смотрит на солдат, опершись на дверь караулки, его штаны топорщатся от вставшего члена. Сражайтесь, рвите друг друга на куски, принесите себя в жертву на моих глазах, перережьте горла друг другу у моих ног, поверните ваши шеи, подставьте их под нож; по лезвию стекают капли дождя, за эвкалиптами ревут моторы грузовиков; солдаты, стоя на трупах, прокалывают их штыками; на улицах нижнего города истекающие кровью дети цепляются к бортам грузовиков, фары слепят кошек и собак, из хижины выходит старуха с кошками, вцепившимися в ее лохмотья, она подходит ко мне; кошки мертвы, их зубы впились в тело старухи, их перерезанные горла черны, по запекшейся крови ползают красные насекомые; в нижнем городе по реке плывут трупы священников и офицеров — повстанцев. Я ненавижу вас, я вижу вашу кровь, я вижу ваши сердца. Кровь освещает праздник, который я вам устроил, вы не узнаете меня, я вырвал мое сердце и сжег его. Мне больше не нужно сердце, возьми его, священник наполнивший его, съешь его вместо моего члена, который заставлял тебя вздрагивать и преследовал тебя, как Иисус Христос. Съешьте мое сердце, мой член, мой мозг. Мне останутся зубы и руки, чтобы хватать и пожирать, мама, зачем ты не отказалась от меня?
— Я повисла у тебя на плечах, прижавшись животом к твоему животу, но ты поднял руки, твой взгляд блуждает. Я обнимаю твои колени, они трясутся от гнева. Посмотри, что они сделали со мной; но перед тем, как они проникли в меня, в утробу Земли проскользнула рыба.
Иллитан бежит в горы, в полдень он достигает вершины, падает к ногам часового перед гротом. Разбуженный Бежа вскакивает, выходит из пещеры, поднимает Иллитана; двое часовых несут командира на походную кровать в глубине пещеры, перед окном; Бежа открывает ему рот, дует в него; женщина приносит большой стакан свежей воды, Бежа приподнимает за затылок голову Иллитана и вливает ему в рот немного воды; Иллитан открывает глаза, видит присевшую перед ним женщину; повернувшись на бок, гладит ее по голове; все выходят, женщину, несущую стакан, у выхода из пещеры грубо прижимает к себе часовой и целует в шею; Бежа вынимает колючки чертополоха из рук и ног Иллитана:
— Они пытали тебя?
— Да, но это ничего. Я привык.
— Ты болен?
— Я видел губернатора. Не надо его убивать. Если он останется у власти, война затянется в нашу пользу. Если умрет, власть перейдет к генералу и офицерам — экстремистам, стоящим за его спиной. Предупреди все взводы. Наша борьба подходит к концу. У меня нет больше сил. Вся пролитая кровь подступает к моему горлу; займи мое место, пусть зрелище нашего освобождения разворачивается вдали от моих глаз. Оставь меня, я хочу спать. Если хочешь, убей меня во сне. Иллитан переворачивается на другой бок, кладет ладони под голову и засыпает.
Бежа видит следы от веревок на его запястьях: «Я буду вождем». Ветер вносит в пещеру солнечный свет: «Я займу город». Часовой опрокидывает женщину на скалу: «Я убью своих лейтенантов». Он впивается в ее губы своей пастью: «Я буду править один». В полдень народ снова восстает, подстрекатели, прибывшие накануне в нижний город с указаниями Бежи, обходят улицы, дворы, лестницы.
Они вырезали в борделях сводников и сводниц, мужчин, развлекавшихся с мальчиками на тюфяках, солдат, пришедших к женщинам; толпа на улице криками одобряет каждое убийство; мальчики и шлюхи убегают, толпа с триумфом проносит их на руках; на их губах и коленях еще не просохла сперма; сводники, сводницы, клиенты, брошенные на кафель и на тюфяки, еще хрипят, толпа тащит их тела в общий зал и сваливает у стойки, в том самом месте, где над пустыми рюмками происходят первые прикосновения, первые пожатия рук, первые объятия; тела изрезаны ножами и штопорами, покрыты плевками, залиты мочой, ящики выдвинуты, деньги украдены; мальчики и шлюхи возглавляют разгром; в погребе толпа обнаружила двух мальчиков, связанных друг с другом по ногам, с серебряными колечками в губах; в небольшой комнате, смежной с погребом, стоят, прислонившись к стене, восемь мужчин, голый мальчик ласкает их и дрочит им по очереди, его грязные ладони блестят от угольной пыли; толпа врывается в комнату, набрасывается на мужчин, мальчик протискивается под ногами и убегает; толпа отхлынула, мужчины сползают по стенам в кровавые лужи; толпа хватает мальчика, тот отбивается, его тело и лицо покрываются кровью, шлюхи защищают его, уводят с собой, что — то шепчут ему на ухо, но взгляд его затуманен; наверху опьяневшие подстрекатели совокупляются со шлюхами; толпа велит мальчикам показать тайники, один из мальчиков ведет толпу за собой, но когда он указывает пальцем на тайник, толпа отбрасывает его, топчет и набрасывается на деньги и съестные припасы.
Во второй половине дня толпа, отягощенная деньгами, вином, мукой, принуждает мальчиков раздеться и совокупляться со шлюхами; один из мальчиков отказывается, двое мужчин, выйдя из толпы, приказывают шлюхам зарезать его; брызжет кровь, толпа возбуждается, лакает вино; в суматохе голый мальчик выбирается из борделя, бежит в нижний город, к ручью, у которого спит Кмент, вокруг него скулят голодные дети, мальчик наклоняется: «Кмент, Кмент».
Парень просыпается:
— Кмент, Кмент, иди быстрей, надо предупредить Бежу перед приходом солдат. Он говорит на ухо Кменту.
Кмент поднимается, отряхивает свои лохмотья:
— Иди к Джохаре, она тебя оденет.
Мальчик опускает глаза. Кмент уходит. Мальчик стоит посреди детей, вдыхает свежий воздух, гладит себя по рукам, по груди, по животу, по бедрам. Дети ведут его к прачечной, он входит:
— Кмент сказал, что ты меня оденешь.
Она наклоняется над корзиной, он стоит в тени у нее за спиной, его член приподнимается, девушка оборачивается, видит стоящий член, краснеет:
— На, возьми вот это.
Она протягивает ему порванные на коленях и на заднице джинсы, мальчик берет их, отворачивается, поднимает ногу, натягивает джинсы, застегивает пуговицы, улыбаясь, поворачивается к девушке, та опускает глаза, мальчик оглядывается вокруг: в корзинах и на плечиках, повсюду — кители и гимнастерки, хорошо ему знакомые, принадлежащие офицерам, солдатам, чиновникам, приходившим ласкать его и отдаваться ему; он подходит к плечикам с висящей на них формой; берет штаны, разводит их, подносит ко рту гульфик и дважды плюет на него.
— Что ты делал в этом доме? Я тебя уже давно не видела.
— Кмент знает.
— Что ты делал в этом доме, Драга?
— Пил.
— Где Кмент?
— Пошел к Беже.
— Однажды его схватят.
— Нет, он знает много военных. Я тоже, я тоже… Его голос стихает, он свистит, подходит к девушке, тихо смеясь, кружит вокруг нее:
— Оставь меня, Драга, оставь, от тебя как-то странно пахнет, оставь меня.
— Ты полюбишь этот запах.
Он прижимается губами к затылку девушки:
— Кмент пахнет не так, оставь меня, у тебя мокрые ладони.
Он обнимает ее за талию, она вырывается, грудь мальчика нагревает ее спину, голова Драги опускается по ее щеке, его волосы касаются ее ресниц, его ладони обнимают ее груди, нежно покачивают их; Джохара больше не сопротивляется, ее глаза наполнились слезами, мальчик говорит ей тихо на ухо, свистя губами, брызгая слюной:
— Я пахну мужчиной, я мальчик из борделя, там женщины и мужчины склоняются надо мной, выбирают меня, бросают деньги на стойку, обнимают за плечи, приказывают сделать то и это, ласкают меня так и этак… раздвинув колени, я опираюсь затылком на спинку кровати… Джохара вздрагивает.
— Я поднимаю свободную руку, шарю в карманах висящей на стуле одежды, сводня требует денег, все время хочется есть, если утаишь деньги — отстегают хлыстом, не дадут спать. Во второй половине дня женщина присылает за мной своего шофера, в машине солдат гладит меня по животу.
— Мой муж проводит войсковой смотр. Ты хочешь развлечься? Покажи мне, что ты умеешь делать.
…Я, голый, стою перед ней, из шкафа с криками вылезают другие женщины, они набрасываются на меня; потом, когда мы все выбились из сил, входит солдат, он сворачивает ковер, перепачканные простыни и покрывала; он возвращается с подносом, на котором стоят чашки с чаем, я набрасываюсь на хлеб, солдат стоит за моей спиной, женщины кричат, солдат наваливается на меня, сжимает ляжками мою голову, я кусаю ткань его штанов и его задницу; женщины садятся на корточки, хватают мой член, тянут его, мои ягодицы скользят по бархату дивана, одна из женщин подносит чашку с остывшим чаем к моему члену, полощет его в чашке, протягивает чашку другим женщинам, ставит ее на паркет; сидящие на корточках женщины лакают из чашки чай, одна из них встает, блестя губами:
— Как тебя зовут?
— Драга.
Она приближается к моему члену, берет его губами, лижет и сосет его, ее подбородок упирается в мои яйца.
— Твоя мать жива?
— Нет, она умерла два года назад.
— Ее придушили в борделе. Она была шлюхой. А твой отец?
— Он погиб в маки.
— Его убил мой муж. Однажды вечером он втолкнул его, закованного в цепи, в эту комнату; я сосала у него, как сосу у тебя, потом мой муж оглушил его передо мной, на этом диване, он бил его головой о деревянную спинку, я сосала до тех пор, пока обмякший член не выпал у меня изо рта. У твоего члена тот же вкус…
Она поднимает на меня глаза, целует мой член; дверь открывается.
Входит офицер:
— Выбрось эти грязные простыни и покрывала из вестибюля.
Солдат разжимает ляжки, освобождает мою голову и уходит; офицер подходит ко мне, берет меня пальцами за подбородок, приподнимает мою голову:
— Это мальчик мадам Лулу?
— Его выбрал Рэско.
— Вы его помыли?
— Нет, Рэско его вытащил, по нашему приказу, из-под клиента. Посмотри, на его теле повсюду видны следы объятий.
— Дашь ему плитку шоколада перед тем, как отпустить.
Женщины, уткнувшись лицами в паркет, сопят и стонут.
Офицер большим пальцем поднимает мою верхнюю губу, стучит по моим зубам, катает мою нижнюю губу, вставляет ноготь между моими зубами:
— Мадам Лулу хорошо их кормит.
…его ботинки касаются моих босых ступней; уже вечер, мне холодно, мой член снова полощут в чашке с холодным чаем; возвращается солдат; их холодные руки на моих плечах и животе; офицер отходит к противоположной стене; облокотившись на мраморный камин, он наклоняется над аквариумом и дует на воду; рыбы опускаются ко дну, прячутся между водорослей и под камнями; чей-то мизинец под моим членом поднимает, трясет его; открывают окно, я слышу крики морских птиц; женщина на четвереньках подползает к моим джинсам и свитеру, обернутым вокруг ножек чайного столика, она кусает их, разматывает, волочит по полу, отпускает, кусает гульфик, мочит его слюнями, толкает по полу ртом; офицер смотрит на нее усталыми красноватыми глазами; я думаю, что они собираются отправить меня назад, я вытягиваю и слегка раздвигаю ноги, я не сплю уже три дня, мы все не спим, приближающийся конец войны заставляет людей бодрствовать, страх толкает их к нашим ногам. Но женщины стягивают меня за ноги с дивана, возят меня по паркету, переворачивают меня на живот, раздвигают мои ягодицы, возятся надо мной; прижавшись щекой к паркету, я смотрю, как они опускают губы к моим ягодицам, я чувствую, как их языки шарят у меня в заду, лижут нежную кожицу, мой влажный член прижат к полу; подходит офицер, паркет под моей щекой скрипит, он подносит ногу в ботинке к моему виску, бьет по нему, поднимает ногу, давит подошвой щеку и ухо, пыльным носком ботинка шевелит мои ноздри; я лежу молча, без движения. Он вынимает сигарету изо рта, стряхивает пепел мне на спину, я вздрагиваю; на камине, за аквариумом, я вижу фотографию мальчика с коротко остриженными волосами; солдат стоит перед окном, офицер убирает ногу, я приподнимаюсь, но женщина хватает меня за запястья и выворачивает руки мне за спину:
— Увезите мальчика к мадам Лулу.
Солдат приближается к женщинам, те кричат, катаются по мне, обливая меня слезами, слюной, потом и чаем:
— Оставьте нам мальчика еще на несколько минут!
Одна из женщин виснет на талии солдата, целует его ляжки, тот отпихивает ее ладонями, она тянет его за ремень, обнажая живот и бедро солдата; другие сосут мои волосы, спину, веки, переворачивают меня на спину, я лежу, как мертвый, они сосут мою грудь, подмышки, пупок, три рта сосут мой член, два рта сосут мои пальцы:
— Увезите мальчика к мадам Лулу.
…Солдат наклоняется, берет меня за плечи, тянет на диван, женщины вцепляются в мой живот, солдат тянет, женщины держат меня за ноги, солдат вынимает меня из-под их губ и грудей, мои ступни скользят по их грудям, он усаживает меня на диван, вырывает мою одежду изо рта женщины, кладет ее рядом со мной на диван, я встаю и натягиваю свитер. Я поднимаю руки, одна из женщин набрасывается на меня и целует мои подмышки, кусает и тянет мокрые от пота волосы, по моей щеке скатывается слеза, другая женщина тут же слизывает ее.
Я надеваю джинсы, мои ляжки и член намокли от их слюны; женщины поднимаются, солдат кладет мне руку на плечо, толкает меня к двери, я присаживаюсь на корточки, завязываю сандалии, подходит офицер, проводит носком ботинка по моим бедрам, по натянувшимся на ляжках складкам джинсов, я поднимаюсь, солдат выталкивает меня в коридор; на кафеле блестят следы слюны и спермы от простыней и покрывал:
— Возьми на кухне плитку шоколада и дай ее мальчику.
Солдат останавливает меня у дверей кухни, я, скрестив ноги, опираюсь о дверной косяк; солдат открывает шкаф, берет из него плитку шоколада и протягивает мне, я кладу ее в карман; солдат ведет машину по окраинным улицам, его автомат лежит между нами на сиденье:
— Эти женщины безобразны, ты — мальчик, но ты красив.
— Оставь меня, оставь меня.
…Солдат заглушил двигатель, машина скрыта высокой сухой травой, я вытягиваю руку в окно, срываю василек, протягиваю его солдату, но он хватает меня за руку, выкручивает ее, укладывает меня на сиденье, моя голова оказывается у него между ляжек, свободной рукой он гладит мои ляжки и член через ткань джинсов, его ладонь проникает у меня между ног, под членом, поднимается между ягодиц, он подтягивает меня к себе, прижимая рукой мою ладонь к сиденью.
— Оставь меня, ты не заплатил.
Он смеется, наваливается на меня, кусает мое колено, смачивая его слюной; млечный сок растений брызжет на стекла, грудь солдата давит на мою спину; крики петухов, шум моторов; его горячий рот поднимается по моим ляжкам к животу, потом перескакивает на мои губы, душит меня, ресницы солдата скребутся по моим щекам, по моим глазам, моя голова скатывается набок, мое сердце учащенно бьется, кровь отливает от моих губ, солдат пугается, отпускает меня, отталкивает к дверце, трогается с места, выводит машину на белую дорогу, тормозит перед борделем, выходит, открывает мою дверцу, вытаскивает меня за плечо из машины, доводит до зала; мужчины, пьющие у стойки, оборачиваются; солдат подводит меня к мадам Лулу, мужчины, когда я прохожу мимо, гладят меня по щекам и по животу, мадам Лулу прижимает меня к себе, солдат протягивает ей деньги:
— Мой маленький Драга был послушным?
Мадам Лулу отталкивает меня, подходит к солдату, тот протягивает руки и обнимает бедра мадам, ее ляжки дрожат у меня за спиной; солдат уходит, на его щеке и шее видны отпечатки накрашенных губ. Мадам Лулу открывает мой рот, вливает в него вино, мужчина, сидящий за столом в темном углу зала, смотрит на меня, поднимает руку, другая рука стянута перчаткой, мадам Лулу выпускает меня, шлепает по заднице и указывает на мужчину, который опустил голову и приглаживает волосы. Я подхожу к столу, пальто мужчины расстелено на черной скамье; я сажусь к нему на колени, обвиваю руками его шею, он начинает расстегивать мою ширинку, шоколад плавится на моей ляжке, ладонь мужчины задерживается на кармане джинсов, приклеенному к ляжке шоколадом:
— Ты уже любишь меня?
Запах шоколада поднимается к моим губам, его глаза закрыты, рука, расстегивающие пуговицы, дрожит.
…девушка согнулась под ним, губы Драги на проборе ее волос, мальчик берет руками ее груди, поднимает их ко рту, свесив голову между ее плечом и локтем:
— Оставь меня, Драга.
Но мальчик лишь крепче сжимает объятья, его пальцы вонзились под груди девушки:
— Кмент тоже кормился у мадам Лулу.
Мальчик хватает губами ее соски, сосет, трется шеей о шею девушки; он задирает ее платье; его ладонь, вцепившаяся в ткань, поднимается от колена по бедру и разжимается, ткань скользит по предплечью юноши, ладонь возвращается под платье, протискивается между ляжками, накрывает трепещущее под темной прядью влагалище; под ладонью юноши влагалище набухает и приоткрывается, голова девушки запрокидывается на его плечо, кровь отливает от ее губ, ее язык бьется о зубы, выталкивает между губами слюну. Груди девушки трепещут под его свободной рукой, локоть мальчика упирается в ее пупок, скользит по потному животу; мальчик прижимается животом, бедрами, членом к ягодицам девушки, в то же время нажимая на ее влагалище, мальчик гладит ее живот и свой член, он прикусывает ухо девушки, проникает языком в ушную раковину, его слюна стекает по шее девушки, она закрывает глаза, мальчик вынимает ладонь из-под платья девушки и кладет на ее губы, ладонь горячая и влажная, на пальцы намотались черные волоски, мальчик опускается, тянет девушку за плечи, опрокидывает ее на корзины; девушка томно прикрывает грудь платьем, ткань влажная, мальчик встает на колени и, расталкивая локтями корзины, ложится на девушку, возится на ней, под складками платья трепещет ее кожа.
Их пот пробивается сквозь ткань и смешивается, пряди волос девушки приклеены ко лбу слюной мальчика, на них блестит и тает пена; мальчик чувствует, как влагалище девушки медленно поднимается к его члену; он кусает ворот ее платья, скользит по нему зубами, его губы приглаживают пушок между ее грудями, орошают его слюной; девушка стонет, вцепившись пальцами в руки мальчика, ее ноги медленно раздвигаются, мальчик, раздвинув свои ноги, сжимает ее ляжки.
— Встань и выгони мою мать из дому, выгони, но не бей. Встань.
Мальчик поднимается, член стоит под тканью джинсов, кожа на груди смята — пот проступает сквозь грязь — он толкает дверь, говорит старухе: «Уходи, твоя дочь тебя выгоняет, она любит свое тело, уходи».
Мальчик подходит к ней, берет старуху за плечи, толкает ее к двери, выходящей в сад, открывает дверь:
— Уходи быстрее, твоя дочь меня ждет, раздвинув ноги, она может простудиться.
Мальчик вынимает из печи хлеб, сует кусок в старухины руки; та, не говоря ни слова, покорно спускается по лестнице, на улице ее обжигает солнце; мальчик возвращается, снова ложится на девушку, она обнимает руками шею мальчика, тот, скользнув ладонью по животу, расстегивает ширинку, отгибает полы джинсов, девушка двумя руками стягивает их вниз на бедра, открывая низ его живота и член; волосы на их лобках смешиваются, от этого прикосновения она приглушенно смеется, порой ее смех звонко прорывается в облаках окутавшего их лица пара; член мальчика изгибается над влагалищем девушки, мальчик приподнимается, член распрямляется, головка тычется в края сочащихся влагой губок, проскальзывает между ними и погружается во влагалище; часть члена, оставшаяся снаружи, раздувается, жилы бьются под натянувшийся кожей; девушка стонет, хрипит, из уголков глаз скатываются слезы; ее влагалище полностью поглотило твердый, дрожащий, заостренный член, на ее груди навалилась потная грудь мальчика.
На улице пальмы выпрямляются после порыва ветра. Кмент бежит в гору, укрыв голову от солнца ладонями.
Драга встает, отрывается от девушки, его член выскальзывает из влагалища, волочится по пряди на лобке, девушка облизывает иссушенные губы, ее мраморные веки дрожат под пальцами Драги; молодых людей охватывает холод, холод пробегает по их жилам, по дорожкам спермы и слюны на их телах:
— Где моя мать? Зачем ты ее выгнал? Я сошла с ума. Я пойду искать ее. Уходи.
Девушка приподнимается на локтях, но Драга прижимает ее к полу, снова вытягивается на ней, елозит по ней животом, втягивая и раздувая его на животе девушки, ее груди катаются под его грудью, их колени соприкасаются, чашечки скользят одна по другой:
— Оставь меня, я не хочу тебя больше. Уходи. Дай мне укрыться в тени. Уходи, обсохни на солнце, пока солдаты расстреливают на дороге мою мать.
Пальцы мальчика вцепились в волосы на лобке девушки, потом в ее влагалище.
— Ты моя. Я разорву и сожгу все белье, свяжу твои руки, уведу тебя с собой, тебя накрасят, нарумянят, я отдам тебя мужчинам, женщинам, животным. Я выкрашу твою пизду в синий цвет. В мои руки потекут золото и серебро, купюры набьют мои трусы, их краска отпечатается на моих ляжках.
Одной рукой он берет коробку с гладильной доски, зажигает спичку и бросает ее в корзину; белье загорается, девушка кричит, ее запястья, прижатые к полу руками мальчика, напряженно дрожат, пальцы сгибаются, ногти вонзаются в его ладони, она плюет в лицо Драги, слюна стекает с бровей мальчика вдоль носа, по ушам, на горло.
Драга хохочет, он опускает лицо, упирается лбом в голову девушки, прижимая ее к полу, его колено поднимается между ее ног, давит на сочащееся влагалище; но края губок сухи, они отвердели от гнева Джохары; колено мальчика трет, елозит, роет, подтягивает влагалище к животу, давит на пупок, девушка стонет, плачет.
— Кмент убьет тебя, убьет.
— Это тебя он побьет ногами, когда спустится с гор, потом он вымоет тебя в корыте вместе со своими шлюхами. Ты познаешь сотни мужчин. Ты, как и я, будешь мертвой внутри.
Он обнимает ее за шею, грызет зубами сонную артерию, вокруг них все пылает, их опьяняет сумрачный запах пота. Драга отталкивает ногой горящие лоскуты, брошенные на них порывом ветра, они, вспыхивая, извиваются на полу; пламя отбрасывает блики и тени на спину, на ягодицы и колени Драги; корзины обваливаются, белье падает, из окон дома валит дым, солнце поднимает его над крышей; в борделе толпа чувствует запах дыма, вокруг дома бегают дети, мальчик встает, берет девушку за руку, сквозь пламя они выбегают в сад.
Они бегут к реке; расслабленное тело Драги внезапно твердеет, его члены напрягаются; девушка, осыпанная пеплом, сжимает руку мальчика; хотя она быстро бежала, ее груди тверды.
Толпа волнуется перед прачечной; мать Джохары сидит у реки, прижимая кусок хлеба к животу; стадо переходит реку; в опустевшем борделе мальчики и шлюхи собирают свои одежды, вваливаются в комнату сводни, крушат шкафы, дерутся из-за платьев, денег, акций; они бьют фотографии в рамках и безделушки. На стене висит цветной рисунок: солдаты развлекаются с девушками и мальчиками под наблюдением сидящей за кассой мадам Лулу; вверху рисунка, на гирлянде из грудей и членов, надпись: «Мадам Лулу, госпоже наших тел».
Мальчики напяливают черные и розовые кружевные лифчики, расхаживают на цыпочках, покачивая бедрами, оттопырив зады, пристраиваются спиной друг к другу, трутся и толкаются ягодицами; девушки кидаются на кровати, крича, как кошки в течке, раздирают простыни, жуют лохмотья и засовывают мокрые от слюны тряпки между ляжек.
Девушки расхватывают платья мадам Лулу, срывают с себя рабочие купальники, напяливают платья, вертятся в ванной перед зеркалами, обливают себя духами, красятся; мальчики достают одежду любовников мадам Лулу, надевают ее, смотрятся в зеркала из-за спин девушек, обнимая их бедра. Самые маленькие волочат штанины брюк и полы пиджаков по земле. Все ходят по своим еще сырым рабочим купальникам, топча их ногами; в спешке девушки ранят себя заколками для волос и брошами мадам Лулу, мальчики — заколками для галстуков ее любовников; остальные поднимаются из погребов, окровавленные после расправы, которую они учинили над мужчинами в подвальной комнате; они несут бутыли с вином, прикладываясь губами к горлышку; девушки щекочут под мышками и в паху у пьющих, бутылки падают из их поднятых рук и разбиваются под ногами, пьяные дети волочат по осколкам бутылок трупы мадам Лулу и ее клиентов — мужчин; они режут их стеклом, плюют на них, дрочат над их ртами, они задирают платье сводни, присаживаются, выводят круги из спермы на ее животе, танцуют над трупами, подняв руки; из их членов еще стекает сперма; один из мальчиков выносит из задней комнаты высокий детский стульчик — мадам Лулу купила ребенка и сдавала его мужчинам и женщинам для осквернения и разврата — он крутит стул над мадам Лулу, сжимая его в кулаке, потом бьет им по трупу; ножка стула пробивает правый глаз, та же покрытая кровью и слизью ножка разрывает влагалище, кровь брызжет на вырванные пряди; мальчик переворачивает стул, держит его за ножки, упирает спинку в рот трупа; стоя между грудей, он поднимает стул и дробит челюсть, потом вынимает ножик, подвешенный под мышкой на веревочке, завязанной вокруг плеча — зашита против слишком яростных клиентов — присаживается на корточки, режет губы, щеки, нос, лоб; девушки, затянутые в расшитые золотом платья сводни, крутятся между трупами, лифы залиты вином; у стен девушки и мальчики поджигают кушетки, скамьи и столы, пламя лижет грязные, несмотря на любовь мадам Лулу к чистоте и порядку, стены; мальчик встает с трупа, берет спички, поджигает стойку, потом, с помощью других мальчиков, забрасывает на стойку труп; все, собравшись, смотрят, как огонь пожирает труп, блики от языков пламени пляшут на их лицах и животах.
Нижний город заволокло дымом; солдаты просыпаются после сиесты; офицеры и чиновники отдыхают, читают, предаются любовным утехам в верхнем городе, склоняются над кроватями своих спящих детей.
Кмент добрался до вершины горы; он рассказывает о событиях в городе Беже, укрывшему плечи пледом, показывает пальцем на клубы дыма. Прачечная обрушивается, искры, угли, пепел разлетаются во все стороны, обжигая детей, подошедших слишком близко к пожарищу, зачарованных зрелищем, забывших о голоде; толпа возвращается в бордель; группа мужчин и женщин схватила мальчика и девушку, им затыкают кляпами их рты и уводят к границе нижнего города, на четвертый этаж недостроенного здания; остальная толпа рассеивается; вербовщики сводни, предупрежденные беглецами, покидают свои посты наблюдения и пленения и бегут к борделю, где мальчики и девушки играют в шлюх и клиентов; вербовщики окружают бордель, раскрывают окна и прыгают в общий зал; они захватывают вяло сопротивляющихся мальчиков и девушек, приковывают их к колоннам, тушат костры, угрожая ножами и пистолетами, заставляют двух мальчиков вынести пепел и трупы.
Головы мальчиков качаются, глаза закрыты, мальчики сметают пепел, сгоняют его через заднюю комнату к выходу в сад; поднятый метлами и сквозняком пепел опускается на их головы, липнет к их коленям, смоченным вином и спермой, окрашивает в черный цвет их груди, омытые остывшим потом; пепел и сгоревшую мебель выбрасывают на кучу мусора, куда обычно бросают тела юных шлюх, зверски лишенных невинности.
Вербовщики понемногу освобождают женщин, приказывают им раздеться; женщины складывают украденные платья и поднимаются в комнаты:
— Положите на место все, что вы взяли, все приведите в порядок, вымойте стены и кафель, разгладьте простыни, разденьтесь, мальчики пойдут искать клиентов; мадам Лулу была скверная женщина, с нами вы будете счастливы.
Девушки поднимаются в комнаты, вербовщики освобождают мальчиков, выгоняют их на улицу, сами, с револьверами на бедрах, садятся у двери; мальчики, отяжелевшие от вина, бродят по улице, засунув ладони под плавки, к их голым ногам липнет пыль; на улице появляется рабочий, затем три молодых человека; мальчики замечают их; тот, у которого под мышкой спрятан нож, направляется к рабочему, кровь сводни на его руках и под ногтями просохла на солнце.
Рабочий видит мальчика, он проводит языком по губам, мальчик подходит, просовывает ладонь в сумку рабочего, вынимает бутылку, пьет, рабочий бьет мальчика по голове, вино пузырится на губах мальчика, рабочий отнимает бутылку, мальчик вытирает ладони о бедра, плавки скользят по ляжкам, обнажая основание члена и прядь волос, он шепчет мужчине на ухо: «Ты хочешь женщину? Посмотри наверх».
Рабочий поднимает глаза: в окне комнаты мадам Лулу девушка задрала платье до груди, прижавшись животом и приоткрытым влагалищем к стеклу; рабочий поворачивает, три молодых человека следуют за ним; мальчик пристает к ним, пьет из их бутылок; члены мужчин встают под джинсами, мальчик тащит их за ремни к дверям борделя, вербовщики прячутся в задней комнате; один из мальчиков лезет на стену сада, вербовщики видят его, подбегают, хватают мальчика за ступню, потом за ногу, сваливают его на пустырь, волокут за ногу к домику для инструментов, открывают люк, двое вербовщиков спускаются вместе с мальчиком, остальные возвращаются в заднюю комнату, мужчины повалили девушек на ступени лестницы, пары копошатся у деревянных перил, как тараканы, перепачканные намокшим пеплом; мальчик бегает от одной к другой, возбуждает их пинками, щекочет щетиной швабры; двое вербовщиков вталкивают мальчика в тайное подземелье, они уже в застенке, мальчик дрожит, кричит, кидается на стены, заламывает руки; его широко раскрытые глаза бегают, блестя во мраке, под его ногами хлюпает кровь зарезанных мужчин, вербовщики подходят к нему, мальчик бросается в угол, вербовщики достают ножи, мальчик шарит по стене, встает на четвереньки, ползет, натыкается головой на бедро зарезанного мужчины, забирается под кучу окровавленных трупов, вербовщики расшвыривают трупы ногами, мальчик протискивается у них между ног, встает, снова бежит, забивается, скорчившись, в угол; вербовщики выходят, закрывают карцер на ключ, кричат из-за двери: — Не бойся, мы не будем тебя убивать. Мальчик присаживается под отдушиной, скрестив ступни на земляном полу, опускает голову на колени.
…Моя мать бьет меня, проныра унюхала деньги, спрятанные у меня в трусах, она хочет отобрать их, я вынимаю мой ножик, бью ее за ухо, она слабо вскрикивает и оседает на пол, прижавшись ко мне. Блядь.
Мы грязны, солдаты хватают Элё, погружают его в корыто, мать завалена навозом, собаки и кошки пожирают крыс на ее носу, между ее ляжек, Драга бьет кулаком по спине сводни, Кмент работает днем, Элё прыгает на руки солдат; сводня гладит капитана по ляжке, в свете ламп блестят заколки для волос, Драга счастлив, его горло трепещет, он подзывает меня глазами, губами, я опираюсь на перила лестницы: «Мадам Луду хочет отдать тебя на вечер капитану. Уходи, я тебя подменю. Это зверь!»
…Я поднимаюсь по лестнице, на площадке пальмовые ветви гладят мои голые ноги; весной крысы, собаки и грифы раскидали навоз, я увидел труп моей матери, проныра размякла после оттепели; она хорошо сохранилась в навозе, сгнили только губы и влагалище; водянистые глаза вылезли из орбит, солдаты швыряют в труп камни, мухи жужжат, ночью они слетаются к нашим окнам, садятся на наши губы.
Я люблю Йемену. Когда ее голова подпрыгивает на ступеньке уборной, когда на ее растрепанные волосы липнет дерьмо, когда склонившийся над ней мужчина вливает ей в рот вино, она прекрасна.
Рано утром я спускаюсь искать ее, девушки и мальчики, мертвецки пьяные, спят на кафеле зала, в коридорах, в задней комнате, в раскрытых кабинках туалета; дверцы хлопают под утренним бризом; пьяные, политые вином и спермой, с открытыми ртами, они лежат на спине, на животе, скорчившись на боку, в той позе, в которой оставил их последний ночной клиент; я ищу мою нежную Йемену; я нашел ее, я беру ее на руки, она попрежнему прекрасна, ее волосы прилипли ко лбу, черный пушок на ее лобке слипся от пота, она сопит у моей груди, я целую ее щеки, вытираю ее губы, уношу ее в комнату мальчиков и укладываю на тюфяк рядом со мной.
…Другие мальчики спят, сопят в лунном свете, на веревке, протянутой от стены к стене, дрожат плавки; Драга во сне прижимает к себе Элё, все мальчики лежат голые на дырявых тюфяках; мальчик, спящий у самого окна, спрятал ладони между ног, солома и конский волос лезут из прорех, смешиваются с черными волосками на лобке; чайки скользят из ночи на свет, влетают в открытые окна, ветер от их крыльев раздувает волосы и пучки конской щетины; голова у всех мальчиков обрита, волосы остались только у меня, мужчины омывают их своей спермой.
Йемена вздыхает, грязь на ее трепещущем теле блестит в лунных лучах.
Драга стонет, его ладонь гладит живот Элё, он открывает глаза, закрывает их, открывает снова, приподнимается на локте, его бедро разворачивается в лунном свете, член скатывается в тень по ляжке, его губа вокруг серебряного кольца кровоточит:
— Он сделал тебе больно? Я прятался в зарослях тамариска.
— Он держал меня два часа, искусал мне губы, везде, сволочь!
Я опускаю глаза и вижу кровь на его члене.
— Бежа хочет убить Иллитана и напасть на город.
— Надо расспросить солдат и гражданских. Передай это девушкам. Мадам Лулу напугана, я видел вчера, как она дрожала, принимая деньги от капитана: «Я видела, как ты разговаривал с ним, расспрашивал его. Я тебе запрещаю. Ты должен открывать рот только для того, чтобы глотать его сперму, его плевки, его слезы».
Я ласкаю ладонью груди Исмены, бережно касаюсь ее соска, Исмена вздрагивает:
— Не трогай ее.
— Посмотри, Драга, как они замучили ее этой ночью.
— Тише, Петрилион, мадам Лулу выходит из своей комнаты. Слышишь, она открывает дверь уборной, присаживается на корточки, дверь открыта, она ссыт, хрипит, ветер студит ей жопу.
— Откуда она взялась, эта мадам Лулу, ты знаешь, Драга. Я нашел в саду в навозной куче труп ребенка, по нему бегали крысы.
— Она приплыла из метрополии, там она тоже содержала бордель, ее любовник был сержантом, его убили в первый день Революции, Бежа прикончил его, а Кмент погрузил ладони в его живот, распоротый косой. Мадам Лулу оставила труп гнить на площади; мало-помалу она стала перекупать вербовщиков и одним воскресным утром открыла свой бордель, по улице шла процессия, кардинал задумал посетить нижний город; полуголые девушки и мальчики из борделя остановили шествие, священники разбежались, посох кардинала упал на ногу одному из мальчиков, тот набросился на старика, плюнул ему в лицо, кардинал благословил его, остановился джип, из него выпрыгнули солдаты, они забили мальчика насмерть, мадам Лулу со своими крошками заперлась на ключ, труп остался гнить на площади, по нему проезжали джипы и грузовики, он понемногу превратился в такую же падаль, как и все прочие.
— Драга, убить ее несложно.
— Она дает нам есть и спать.
— А также пить и сосать…
…Мадам Лулу поднимается, ее ступни онемели на ступеньках уборной, ее ночная рубашка скользит вниз по ягодицам, она выходит в коридор, наклоняется у двери, приникает глазом к замочной скважине, видит скрещенные на краю тюфяка ноги мальчика, ее взгляд поднимается по ляжкам, на несколько мгновений задерживается на прозрачной, как паутина, тени члена. Блядь!
…Я стучу в дверь кулаками и коленями, Лулу вздрагивает, отходит на цыпочках от двери. Я возвращаюсь на тюфяк; тяжелый, знойный запах, исходящий от тел, не дает мне спать.
— Драга, давай, у меня есть ножик, у тебя твой всегда под мышкой, послушай, она вернется к двери, мы ее откроем, перережем Лулу горло, она упадет без крика, я знаю, куда бить.
— Замолчи, спи.
Он носит нож под мышкой, ему разрешили, я прячу свой под тюфяком, на котором сейчас спит Исмена. Утром мадам Лулу толкает дверь, раскрывает ставни, один из мальчиков вытягивает ногу, Лулу спотыкается и падает, мальчики смеются, мадам поднимается, бьет мальчика ладонью, мальчик кусает ее руку, мальчики прыгают на тюфяках, хохочут, Лулу прикладывается губами к покусанной ладони:
— Поспешите, каменщики и булочники ждут внизу.
— Иди, сама сдирай с них шкуру, мамаша Лулу.
— Я иду за вербовщиками.
Мамаша Лулу выходит, наверх тяжелыми шагами поднимаются, зевая, вербовщики с кнутами, ножами и пистолетами, они входят в комнату, кончиками ножей колют ягодицы и груди спящих, стегают смеющихся кнутами, они видят рядом со мной Йемену, стегают меня, я забираюсь под тюфяк, один из вербовщиков расталкивает мальчиков, бросает зажженную спичку на тюфяк, он хватает Исмену за талию, прижимает ее грудью к себе, кусает ее рот; тюфяк горит, я выбираюсь из-под него, набрасываюсь на вербовщика:
— Оставьте ее, это моя подруга!
Вербовщик замахивается ножом, мамаша Лулу обнимает меня за плечи, гладит по волосам:
— Спускайся вниз побыстрее, они хотят намылить тебе голову.
Она наклоняется над перилами лестницы, кричит:
— Вот Петрилион, дети мои, намыльте хорошенько его роскошные волосы.
Она легонько подталкивает меня к лестнице, я спускаюсь, они стоят у стойки, Драга наливает им вина, они через стойку тянут его за плавки, я останавливаюсь внизу лестницы, правая нога на последней ступеньке, они оборачиваются:
— Вот Петрилион, дети мои, намыльте хорошенько его роскошные волосы.
…Моя ладонь дрожит на перилах, я подхожу к стойке, Драга протягивает мне большой стакан черного вина, я беру его, пью, их ладони гладят мои бедра, спину, шею, скользят между ляжками; моя кожа и ткань моих плавок покрыты мучной пылью и известкой, вино течет у меня по губам, по подбородку, один из мужчин прижимает свой стакан к артерии на моей шее. Они укладывают меня на стойке. Мой отец по вечерам, по ночам ищет мать под кроватями, он подсаживается к девушкам, ласкает их, его рука поднимается и опускается в лунном свете, девушки лежат неподвижно, их груди поднимаются, сердца стучат — маленькие наковальни под сожженными огнем, проколотыми сталью ладонями, я встаю, он видит, как я, голый, подхожу к нему, но его ладонь продолжает ласкать тела, я бью его, он откатывается в угол комнаты, там, скорчившись, он до зари плачет и пускает слюни, но утром поднимается, красивый, тень на пупке, он выходит, опускает голову в фонтан, девушки его кормят, я подсаживаюсь к столу, он выбирает солому из моих волос, я целую его в пупок, девушки заворачивают его хлеб с мясом в ту же тряпку, которой наша мать, безопасности ради, дрочила нам и утирала нас. Он выходит в холодную зарю, бедра забрызганы водой из фонтана. В полдень он ложится на женщин, он на весь бордель проклинает своих детей, он пьет, выгоняет женщин в сад, в его волосах копошатся мухи, его золотистый плащ падает на ветви тамариска, пыль блестит на гранитной лестнице. Отец, теперь я знаю, где ты спишь, отец, ты ласкаешь меня, ты дрочишь мне, ты нагибаешь мою голову своей ладонью, ты обливаешь меня вином, ночью ты бежишь в маки, ты подползаешь к женщине, ее живот колышется в лунном свете, ты прикладываешь пистолет к ее животу, мы зовем тебя, но ты стреляешь в ночи, я слышу перестрелку в тростнике у реки, мы голодны, а ты подбрасываешь к нашим дверям искалеченных детей, мы опускаем наши рты и глаза в прорехи тюфяка, но другие мужчины приказывают нам целовать их пупки. Отец, вернись, вымой нас, оближи наши тела; мужчины и женщины, которые сжимают их, не познают их, мы для них — лишь одежда, которую они примеряют на свои уродливые тела. Ты, отпусти мою ногу, он карабкается на стол, он хватает меня за ляжку, за колено, сгибает его, я стою на коленях, отец, спаси меня, он кусает мои ягодицы, мою руку, тянет мой член к занозистой доске, сжимает мое горло, его нож скользит по моим губам; мадам Лулу хлопает в ладоши наверху лестницы, Драга спускается под руку с капитаном, его грудь покрыта отпечатками пальцев, зубов, ногтей, костей, капитан улыбается, положив ладонь на пупок Драги.
Проходит Исмена, голая, между ног тряпка, испачканная мелом, ее останавливают двое подмастерьев, один прижимает ее спереди, другой сзади, каждый берет конец тряпки, они пилят ее влагалище, тряпка жжет и саднит, девушка кричит, мадам Лулу зовет вербовщиков, они выходят из задней комнаты, набрасываются на подмастерьев, отталкивают их, укладывают Исмену на свободную кушетку.
— Масла, масла скорей! Я спускаюсь.
Мадам Лулу спускается по лестнице, склоняется над Исменой, мои глаза закрыты, вербовщик приносит в ладони масло, мадам Лулу берет его, смазывает ее влагалище, Исмена вздрагивает, ладонь мадам Лулу погружается между ее ляжек, я дрожу, вино булькает в моем рту и в животе. Драга застегивает ремень капитана, капитан наклоняет его голову и заставляет его поцеловать пряжку; вокруг лампы вьется пыль, снаружи, во тьме, журчат фонтаны. Отец, ты укрываешься украденным одеялом, ты ворочаешься рядом со своими товарищами — бойцами, спустись, укрой меня своим одеялом, уведи меня подальше отсюда, нет, оставим Драгу здесь, он не хочет; там, наверху, я могу развлекать твоих солдат, скажи им: «Я отдам вам своего сына, распните его на ваших тюфяках, пейте его сперму, выпейте его целиком». Отец, ты раздеваешься, я уже лежу, твои одежды падают на темный кафель, я смотрю на волосы на твоем лобке, ты присаживаешься, тянешь на себя одеяло, укладываешься рядом со мной, твои губы блестят; в ночи кричит мужчина, которого жестоко пытают, солдаты пьют под навесами из выкрашенной зеленой краской жести, перед открытой дверью ходит часовой; я засыпаю, утром я просыпаюсь один, твои одежды лежат на полу, капитан нагибается, бросает одежды мне на грудь: «Отведите его домой и охраняйте». Солдаты поднимают меня за плечи и выталкивают наружу; остальные солдаты строятся под знаменем; на досках шевелятся обрубки мяса. Дома холодно; мадам Лулу приехала развлечь солдат, я сижу на тюфяке отца, солдаты гладят плечи мадам Лулу, она подсаживается ко мне, берет меня за подбородок, раскрывает мои губы, стучит пальцем по зубам, подходит солдат, хватает меня за ляжки, говорит: «Капитан велел нам убить его, но мы его пожалели, мы зарежем козу и ляжем на свои тюфяки с окровавленными руками; мы передаем тебя мадам Лулу, ты будешь делать все, что она скажет; ты будешь послушным, ты подождешь у нее, когда вернется твой отец».
Мадам Лулу улыбается мне, гладит меня по волосам, прижимает меня к себе, я сажусь в джип, мадам Лулу вцепилась пальцами в плечи солдат, теплый ветер выдувает из джипа пыль; в доме мадам Лулу, за стойкой, расписной потолок, она наливает солдатам вина, они уходят: «Приходите каждый вечер, мои дорогие, бесплатно. У меня есть то, что вам нужно…»
…Она подходит ко мне, трогает мой медальон на цепочке, подбрасывает его на ладони, переворачивает: «Покажи свою штучку».
Я расстегиваюсь, а она своей холодной уверенной рукой уже поднимает мой член между ляжек, катает его в ладонях:
— Ты умеешь им пользоваться?
Она задирает платье, под ним — голый живот, губки раскрылись между ляжками, я дрожу.
— Видишь эти губки? Вставь между ними свою штучку.
Увидишь, как это приятно.
Я взбираюсь на ее колени, из кухни плывет запах жареного мяса, мадам Лулу берет мой член, трет его о свои губки, медленно вставляет его во влагалище, я больше ничего не чувствую, кругом вода, я плыву по воде; мадам Лулу подмахивает, моя голова скатывается на плечо, отец, я слизываю кровь с твоих колен:
— Сядь рядом с тем господином и скажи ему: «Пейте, мсье, пейте».
Стемнело, лампа над дверью освещает двор и повозки дорожных рабочих; Исмена спускается по лестнице, она наклоняется ко мне, целует меня в щеку, усаживает меня к себе на колени.
— Пей, люби много мужчин, отдай им свои ноги, свои руки, свои губы. Притворись мертвым. Мадам Лулу следит за руками клиентов, она оторвет их от твоей шеи, если они сдавят ее слишком сильно.
…Посреди ночи сырые плавки хлюпают на животах мальчиков; я лежу на полу, ножка стола между моими ляжками, мужчины снуют между борделем и повозками; на моем плече — ожог от фонаря рабочего; мои пальцы касаются моей груди, скользят по лужицам спермы; я весь сверкаю, самые темные впадины моего тела блестят, мужчина, стоящий передо мной на коленях, трет лицо моими влажными плавками; Драга в комнате, его черный рот открыт под блестящим членом капитана, на вешалку для полотенец прыгает саранча:
— Я пришел за чистыми простынями.
— Разве ты не видишь, что ты нам мешаешь? Драга ждет свое молочко. Уходи.
Он шлепает меня по заду, но его ладонь скользит по сперме, он ругается, вытирает ладонь о простыни, я вижу, как он медленно наклоняется над животом Драги, трепещущим под его горлом, как Драга берет его член и погружает его в свой клокочущий рот; в коридоре мадам Лулу берет простыни; когда она уходит, я поднимаюсь на чердак, трусь о штукатурку стен, открываю маленькое оконце и всматриваюсь в ночь; бриз холодит сперму на моем теле; я сажусь на пыльные тряпки, цепляясь членом за кружева; на берегу реки голенастые птицы бегают по пене, вылезающие из-под лодок крысы хватают ящериц, увязших в смоле; я не слышу больше ни криков, ни смеха, с моей груди стекают струйки спермы, по небу одна за другой проплывают звезды; море поднимается, облокотившись на берег…
Петрилион засыпает под отдушиной; вербовщики в общем зале возбуждают пары, один из них поднимает сожженные стулья, ломает обугленные ножки; один из мальчиков моет стойку струей из шланга, двое каменщиков валят его на пол, стоя над ним, они срывают с него плавки, вставляют свисающий шланг ему в зад, мальчик вырывается, кусает их ладони, плюется; вербовщик, сидящий в задней комнате со сломанным стулом на коленях, сбрасывает обломки и выходит в зал, он отталкивает каменщиков, мальчик безуспешно пытается вытащить шланг, его вынимает вербовщик, мальчик поднимается, изрыгает воду изо рта на стойку, падает, раскинув руки и ноги, вода изо рта выливается под стойку, вербовщик избивает каменщиков, выталкивает их на улицу, склоняется над мальчиком, поднимает его за плечи.
Йемена, спустившись по обгоревшей лестнице, вытирает его рот полотенцем, вербовщик возвращается в заднюю комнату, он срезает своим ножом обуглившиеся ножки стула, поднимает глаза, улыбается, вытирает нож о бедро, Исмена обнимает мальчика, относит его на кушетку, укладывает на горячую кожаную обивку, присаживается у его ног, заправляет его член под плавки, завязывает их на бедре; вербовщики спускаются в карцер:
— Я только что вернулся из порта; жена и сын губернатора сидели в зеленой лодке, они кидали хлеб чайкам, дети отнимали куски у птиц. Я видел твою сестру, ее платье было разорвано на бедре, она приставала к рыбакам, гладила их по ляжкам; лодка, в которой сидели жена и сын губернатора, качалась на объятых пламенем волнах, он держал ее за руку, отталкивая ногой рыбьи головы, лежащие на занесенном песком днище лодки. Твоя сестра Ифе в одной руке держала кусок хлеба, то и дело откусывая от него, другой рукой ласкала ляжки рыбаков. Посмотри, я сжег лицо на солнце. Солдаты повсюду искали жену и сына губернатора, они окружили склады, один из них ударил меня прикладом по плечу; из склада на песок, блестя на солнце, стекал ручеек из желчи и сажи; другие девушки и мальчики спрятались в верхнем городе, вербовщики скрылись: Бежа кричал, что перережет им глотки, когда войдет в город.
…Петрилион заперт в карцере, слышишь, как он кричит, мадам Лулу защищала его, Драга ревновал, теперь Драги нет, он сбежал в горы с прачкой. Солдаты окружают лодку, жена и сын губернатора встают, солдат положил ладонь на ее бедро. Это Эмилиана, монашка нас купала вместе с ней по ночам; сын губернатора бьет солдата, к порту спускается джип, в нем сидит генерал, он всматривается в улочки, его ладонь лежит на бедре водителя, обтянутом тканью, вокруг джипа носятся дети; братья Кмента расположились на волнорезе, джип катит по берегу, вздымая облако брызг, генерал на ходу гладит щеки и бедра братьев Кмента, джип останавливается, генерал выходит, упирает палец в живот мальчика, садится на лестницу, спускающуюся к морю, солдаты хватают мальчика, толкают его к лестнице, генерал усаживает его на несколько ступенек выше, запрокидывает голову назад, катает ее между ляжек мальчика, трется о его нежно набухший под легкими шортами член, солдаты охраняют лестницу, отгоняют детей с расстегнутыми ширинками. Спи, я сижу рядом, я тебя защищаю. Слышишь, как кричит Петрилион? Каждую ночь он спускается, обнимает меня, поднимает мою голову к окошку, где сквозняк и мухи, берет меня на руки, ласкает, вытирает меня, его колено хрустит под моей поясницей, его грудь липнет к моему телу. Когда он гладит мои колени, его стоящий напряженный член бьется между его ладонью и сгибом моего колена, я смеюсь, я просыпаюсь, он катает член под моим коленом, моя набухшая пизда блестит под его животом, он укладывает меня рядом с собой на тюфяк, кровать Драги пуста, у всех мальчиков волосы в паху чисто вымыты с мылом; Петрилион засыпает, Драга выходит из тени; Петрилион спит, вытянув руки и сложив их под затылком, Драга, голый, стоит над Петрилионом, он берет его член, смотрит на меня, член встает, Драга мнет свои яйца, гладит свою жопу, проводит пальцем по краям дырочки, я закрываю глаза, член стоит в лунном свете, Драга бесшумно дрочит, слышно лишь тихое трение и вздохи Драги, прилив и отлив слюны у него за зубами; трепетание его горла смущает сон Петрилиона, он ворочается на тюфяке, глотает слюну, его губы разжимаются, он стонет, Драга дрочит, на его теле проступают напрягшиеся мышцы, колени ходят ходуном; брызжет сперма, Драга направляет член на раскрытую подмышку Петрилиона, сперма липнет на. волосы, Драга выжимает свой член по всей длине, от основания до красной подрагивающей головки, сперма стекает на тюфяк, брызжет, прозрачная, как перламутр; Петрилион просыпается, опускает руки, под мышкой хлюпает сперма, Петрилион вскакивает, Драга, закрыв глаза, опрокидывается на тюфяк, Петрилион прыгает на него, хватает его за горло, Драга впивается в его ладони ногтями; другие мальчики просыпаются, садятся на тюфяках, хлопают в ладони, Петрилион кричит, закрывает ладонью рот и нос Драги; один из мальчиков закрывает окно, возвращается и усаживается на тюфяк; Драга упирается ногами в грудь Петрилиона, я лежу спокойно, опершись локтем на намокший тюфяк, я смотрю, как они дерутся, плюются, царапаются, душат друг друга, я засыпаю, пальмовые ветви ласкают мои бедра, в бухте сверкает большой белый парусник, паруса сплетаются с листьями, солнце поднимается и гладит меня по щеке, оно пахнет абрикосом; глядя на меня, оно разрывает мое платье, я лежу на парусе, маленькие разноцветные птицы бьют крыльями надо мной, улетают, возвращаются с засахаренными сверкающими клювами, они опускаются на мой живот, копаются в моих лохмотьях: на палубе судна появляются пары, они танцуют среди такелажа, платья скользят по серебряным кольцам, молодые музыканты одеты в белые костюмы, на спинах и ягодицах — влажные пятна от морских брызг; серебряное кольцо в губе флейтиста звякает о мундштук флейты; они видят меня, улыбаются мне, птица пролетает перед моими улыбающимися губами, одна из танцующих женщин сходит с корабля, садится в шезлонг, ее платье стелется по моей ноге:
— Пойдем с нами, там у тебя будет варенье и голубая вода. Пойдем.
…Ее ладонь опускается к моему колену, скатывая лохмотья моего платья:
— Я мать Драги, я сбежала, один мужчина на корабле любит меня, его сын будет любить тебя. Но пошли же, после ты вернешься на Энаменас, ты пройдешь по улице к борделю, ты приведешь ко мне Драгу; мы здесь едим прозрачные плоды.
Ее ладонь ласкает мою пизду, она приоткрыта, маленькие птицы клюют губки, очищают искусанную зубами ночных клиентов кожу; плоды падают в золу, ступня негра у шезлонга, женщина бежит на берег, фуражка моряка падает на мой живот, я поднимаю глаза, три негра — моряка едят плоды, испачканные пеплом, вымоченные в росе, по их горлам течет сок, они хватают меня, уносят на вершину горы, запирают в хижине, сквозь щели я до ночи смотрю на море и на парусник.
Танцующие на палубе присаживаются и едят живых рыб, молодые музыканты продолжают играть, к их ногам летят рыбьи хребты; негры с криками бегают вокруг хижины, вершина горы гремит и дымится, негры раздеваются, мажут глиной свои тела, их ноги, разрисованные полосками, как у зебры, бьют по стенам хижины. Всю ночь они пожирают меня, переворачивают своими мордами, едят, чавкают, пускают слюну, разрывают на моем животе белое мясо. Деревья, кусты лавра, плющ, растущие на вершине, сдерживают первые капли потопа…
В карцере вербовщики стегают Петрилиона кожаными плетками, мальчик прячется по углам, его плавки цепляются за выступы камней, за железную арматуру, за наплывы цемента; вербовщики хохочут, щелкая плетками.
Мальчик поворачивается к ним лицом, на его губе блестит кольцо, один из вербовщиков стегает по нему, рассекает губу, кровь течет на серебро; мальчик бросается вперед, плюет на плетку, слюна попадает на кулак вербовщика, тот накидывается на мальчика, бьет его кулаком в живот, мальчик, вцепившись в свисающую из руки вербовщика плетку, падает на земляной пол, продолжая сжимать в зубах кожаные ремешки, вербовщик топчет его ногами:
— Этим вечером к зверям.
Он поднимает ногой голову мальчика, вырывает плетку, голова мальчика тянется за плеткой, вербовщик упирает подошву ботинка в его щеку, дергает ремешок, тот выскальзывает изо рта мальчика:
— К собакам. У солдат с маяка появился новый пес; он уже задавил двух сук.
Вербовщик пинает ботинком голову мальчика.
— Попробуешь его сегодня вечером. Вставай.
Мальчик поднимает голову, встает, держась за стену, его плавки сползли на колени, он закрывает низ живота, вербовщик уходит, оставляя дверь открытой, мальчик идет за ним, заломив одну руку за спину, ладонью другой опираясь на бедро, вербовщик внезапно оборачивается, хватает мальчика за волосы и впивается губами в его слюнявый рот, мальчик смеется, трется о вербовщика:
— Не отдавай меня сегодня собаке, я приду к тебе в постель; Драга пойдет к собаке, хочешь, этой ночью ты будешь моим псом?
Вербовщик плюет мальчику в рот, смеется, его грудь трясется, мальчик вцепился в его рукав, он шарит между его ног:
— Я буду маленькой улиткой, ты будешь большой…
Вербовщик ласкает щеку мальчика с отпечатком подошвы, его ладонь опускается по спине до ягодиц, забирается под плавки, палец упирается в дырочку, ладонь ползет вперед, поднимает яйца и член; два грубых пальца мнут головку члена, ноготь колет кожицу, ладонь скользит между ног, вылезает из плавок, вербовщик вытирает ее о плечи мальчика:
— Нет, ты выйдешь к этому псу, у тебя есть все, чтобы ему понравиться, и спереди, и сзади. А теперь поднимайся, потренируйся с клиентами погрубее.
Мальчик идет за вербовщиком к лестнице, вербовщик поднимает люк, пропускает мальчика вперед, пока тот поднимается, он целует его в бедро; они выходят из домика, уже стемнело, в лунном свете прыгают насекомые; в долине, пересеченной текущей вспять рекой, джипы и грузовики давят забрызганные грязью цветы; мальчик дрожит всем телом, его губы и ноздри вздрагивают от шума, от порыва ветра; вербовщик берет его за руку, ведет к освещенному борделю. Мальчик садится на стул в задней комнате, вербовщик поворачивается к нему:
— Ну что? Ты идешь? Если устал, выпей вина или сходи поблевать, потом иди в зал — там тебя быстро согреют.
Мальчик зевает, зажав ладони между ног.
— Хочешь отведать плетки?
Вербовщик подходит к мальчику, толкает его в плечо, мальчик вытирает ладонью уголки губ:
— У меня горечь во рту.
Вербовщик берет со стола бутылку вина, поднимает за подбородок голову мальчика, открывает ему рот, вливает в него вино, мальчик кашляет, вцепившись ногтями в запястье вербовщика, тот бьет его по спине; порыв ветра стелет по земле ветви тамариска, в легких пальмовых листьях щебечут птицы, прилетевшие с моря, мальчик смотрит на них, они залетают в зал, порхают над ним, осыпая солью его плечи, горло, затылок; они наигрались в парусах судов и в источниках на кромке пляжа, заваленных иссохшими костями:
— Мальчики, которых ты видел во дворцах и на виллах, одеты в белые одежды, но их души грязны. Все они рабы.
А вы здесь свободны, как птички, как уличные щенки.
Мальчик с замирающим сердцем протягивает руку к птицам, взлетает пурпурник, касаясь ладони крылом, на запястье мальчика падает перышко из хохолка, мальчик подносит его к губам, нюхает, проводит им по ноздрям, по щекам; вербовщик отнимает у него перышко, крутит его в пальцах, подносит дрожащее перышко к пупку мальчика, щекочет его, мальчик поднимает глаза, вербовщик присаживается на корточки, лает, вытянув губы, мальчик громко смеется, разжимает ноги, присаживается на корточки за спиной вербовщика, прижимается животом к его ягодицам, ладонью приподнимает воображаемый хвост, вынимает член из плавок, прижимает его через ткань к бороздке между ягодиц, опираясь на спину вербовщика, тот лает, склоняет, урча, голову на плечо; дождь выбивает дробь на ветвях тамариска и на ступенях лестницы.
Вербовщик встает, мальчик сидит на корточках, его член натягивает ткань плавок:
— Теперь вставай. И смотри, если я увижу, что ты снова пытаешься перелезть через стену, я тебя зарежу.
Мальчик встает, выходит, закрывает дверь. Под буфетом валяется полуобгоревшая фотография мамаши Лулу; вербовщик нагибается, гладит ее:
— Старая кокетка, пожиравшая и выплевывавшая мальчиков, теперь там, под кучей навоза, тебя пожирают и выплевывают черви.
Он выпрямляется и выходит в общий зал.
Исмена, голая, стоит на столе, зажав между ног смятый обрывок газеты, мужчины тянут ее за ноги, она плюет им в лица, они вонзают в стол, между ее ступнями, свои ножи, они плещут красное вино на ее колени, на обрывок газеты; мокрая, отяжелевшая от вина и спермы газета падает на стол, один из мужчин накрывает ею свою голову, другие плещут вино из стаканов на ее ляжки.
— Мы заделаем тебе ребятишек, пьяниц и шлюх. Пей, пей.
Мы наполним твою пизду вином, ты будешь вечно пьяная, так мы легче овладеем тобой.
— У меня никогда не будет детей, никогда, даже пьяниц и шлюх.
— Наливай, выливай, пусть вино навсегда смешается с ее соком, с ее молоком.
— У меня никогда не будет молока. Наливайте, наливайте. Петрилион, у тебя плечи в крови?
Мальчик подходит к ним, на его плечах — кровь:
— Плетка.
Один из мужчин прижимается ртом к его плечу, лижет кровь, Петрилион слегка запрокинул голову, мужчина вцепился пальцами в его плечи; другой клиент тянет плавки Петрилиона, прижимает мальчика к своей ноге, лижет его окровавленные соски; мальчик, которому вставляли в зад шланг, лежит на кушетке; он бледен, он дрожит, его нога сползла с кушетки на кафельный пол; мужчина хватает его за эту ногу, стаскивает с кушетки на пол, укладывается на него, мальчик блюет, мужчина целует его в губы, блевотина мальчика переполняет его рот, мужчина хватает его за голову, бьет ею о кафель, мальчик продолжает блевать, мужчина встает, вытирает рот и горло плавками мальчика, пинает его ногой; Исмена падает на руки мужчин, Петрилион забирается на стол, по его ногам течет кровь, мужчина срывает с него плавки, кровь, затекая в пупок, капает на прядь волос в паху; тот же мужчина, облокотившись на стол, тянет губы к члену мальчика, он пятится, другой мужчина, сидящий сзади, кусает его за ногу, Петрилион бросается вперед, мужчина касается языком его члена, кусает его, Петрилион подвигается ближе, мужчина хватает его член пальцами, тянет к себе, слизывает кровь с волос, берет его за яйца, тянет вниз, мальчик приседает, потом садится на стол, мужчина держит его за ноги, тянет, мальчик, скрестив руки, опрокидывается на спину, его голова скатывается на край стола.
Мужчина, кусавший его за ноги, запихивает его голову себе между ляжек, губы Петрилиона раскрываются под членом мужчины, ткань джинсов смята, увлажнена, испачкана известкой, мужчина сжимает ляжки, сдавливая щеки мальчика; мужчина, снявший с него плавки, поднимает ногу, натягивает плавки на свои ляжки, растягивает их на бедрах; плавки, растянувшиеся поверх джинсов, трещат по швам:
— Коротковаты для меня. Тебе они тоже маловаты, бляденыш, они покрывает твой член только наполовину: когда он у тебя встает, плавки врезаются в твою жопу.
Мужчина расхаживает по залу, плавки трещат спереди, сверху и снизу; мужчина опирается на стойку, приказывает Драге подать стакан вина; Драга изгибается, как благоуханная трава, двое мужчин, стоящих перед ним на коленях, сосут и дрочат его член, но ни его губы, ни его плечи не дрожат; он берет бутылку, наливает в стакан вино и протягивает мужчине.
Мужчина хватает Драгу за запястье, гладит его руку, Драга улыбается, мужчина пьет вино и гладит руку мальчика, прижав ее к стойке; за спиной мужчины проходит вербовщик, он направляется к столу, на котором лежит Петрилион, мужчина, сжимающий между ног голову Петрилиона, стоит, раскрыв рот, тяжело дышит, ляжки сжимаются и разжимаются в такт дыханию; вербовщик отстраняет мужчин, склонившихся над Петрилионом, вылизывающих и мнущих все его тело; он прикасается к его плечу: «Петрилион, на укол».
Мальчик ворочается, освобождая голову, мужчина разжимает ляжки:
— Укол? Вечером будут собаки? С Петрилионом?
Мальчик слезает со стола, вербовщик обнимает его за плечи, мужчина у стойки снимает с себя его плавки, бросает их Петрилиону, тот ловит; на джинсах мужчины спереди и сзади, там где были плавки, видны мокрые следы от спермы Петрилиона — мужчина дрочил ему перед тем, как он забрался на стол.
Вербовщик уводит мальчика в заднюю комнату, там, сидя на стуле, его ждет пожилая женщина; она расстелила на столе полотенце и положила на него шприц и две ампулы:
— Согрей немного воды.
Петрилион вздрагивает, отходит к стене, берет в раковине кастрюльку, наполняет ее водой, ставит на плиту, зажигает газ, поворачивается, прислоняется к раковине, его спину и поясницу освежает льющаяся вода, он смотрит на женщину, склонившуюся над шприцем, на вербовщика, стоящего перед ней с ножом на бедре; вода закипает, мальчик не двигается, он дрожит всем телом, кровь отхлынула от его лица и горла, женщина поднимает на него глаза:
— Ты что, не видишь: вода закипела? Давай ее сюда, а сам ложись на стол. Шевелись.
Мальчик снимает кастрюлю с плиты, пар омывает его лицо и грудь, он ставит кастрюлю на стол, женщина указывает пальцем на середину стола, Петрилион залезает на него, ложится на живот.
— Да, твоих мальчишек долго раздевать не надо, не то, что в школах и больницах. Женщина наклоняется к вербовщику, смеется, прикрывая рот рукой, встает, опускает шприц в кипяток, погружает иглу в первую ампулу; мальчик лежит неподвижно, только ягодицы слегка подрагивают, женщина кладет на них свои ладони, вербовщик отворачивается к стене, женщина берет шприц, протирает кожу смоченной спиртом ваткой, втыкает иглу в ягодицу; мальчик дергается, жидкость проникает в него, жжет ягодицу, все его тело темнеет, женщина вынимает иглу, свежей ваткой снова протирает ягодицу, мальчик бледнеет, стонет, ползет по столу, опускает голову за край, его плечи поднимаются, глотка выворачивается, он стонет и плюется, слюна стекает с подбородка; женщина подходит к раковине, наполняет стакан холодной водой, возвращается к столу, льет воду ему на голову.
— Теперь встань и пройдись немного.
Мальчик медленно сползает со стола, вербовщик, привстав на цыпочки, смотрит в запыленное грязное окно, разделяющее зал и заднюю комнату: Исмена отдается на растерзание, лежа на кафеле, ее рука порой поднимается вверх и сгибается, как большой белый цветок. Мальчик, стоя перед столом, вытирает рот тыльной стороной ладони; женщина моет шприц, погружает иглу во вторую ампулу, снова указывает пальцем на середину стола, мальчик прижимает руки к груди.
— Ну — ка быстро залезай на стол и ложись на живот.
Мальчик пятится, женщина хватает его за плечо и толкает к столу, вербовщик трогает свой нож. Мальчик забирается на стол, женщина колет в другую ягодицу, мальчик снова опускает голову за край стола, потом встает, по его лицу струится пот, женщина моет руки под краном:
— В следующий раз помой свою задницу, она вся залита вином и спермой.
Дверь в сад открыта, под тамарисками рычит собака, из качающейся тени доносятся голоса мужчин, мальчик дрожит, второй укол согрел его кровь, вербовщик подходит к нему, щупает бедра и подмышки мальчика тот стоит, подняв руки, его член твердеет; вербовщик проводит ладонью под его членом, треплет яйца, мальчик напрягается, вытягивается, к нему возвращаются силы, его член под лаской жесткой ладони вербовщика твердеет еще, встает, наливается кровью, вербовщик поворачивается к женщине, улыбается, та улыбается ему; приближаются мужчины с собакой, они проходят по саду, вербовщик отпускает мальчика.
— Поднимись в комнату, опрыскай голову одеколоном мадам Лулу. И сразу назад.
Мальчик выходит.
— Он хорошо перенес две инъекции. У него стоял так, что мой кулак разжался.
Вербовщик перебирает ампулы:
— Та, что против бешенства, его встряхнула. Пес ужасно злой.
Женщина заворачивает ампулы и шприц в полотенце.
— На афродизиаке он продержится всю ночь, до рассвета.
— Они изуродовали тело мадам Лулу и швырнули на навозную кучу. Смотри, будь осторожна.
Женщина выходит в сад, на нее кидается пес, мужчины удерживают его на поводке, вербовщик встает перед женщиной, он провожает ее к тамариску, толкает ворота, женщина протягивает руку, вербовщик хлопает себя по груди.
— Подожди меня здесь, я возьму деньги в кассе.
— Ладно, заплатишь в следующий раз.
Женщина уходит, вербовщик возвращается в сад; мужчины ждут у лестницы, пес обнюхивает освещенную землю, вербовщик отводит их в домик, спускается с ними через люк по лестнице в подземелье, пес рычит во влажной мгле, вербовщик проводит их по погребу; они запирают пса в тесном карцере, возвращаются в погреб, скамьи и стулья расставлены вокруг расстеленного на земляном полу брезента военной палатки; мужчины — солдаты в ободранных гимнастерках, с губами, блестящими от свиного сала — рассаживаются на стулья; вербовщик поднимается в сад, бежит в заднюю комнату, толкает дверь в общий зал, хватает Драгу за плечо, тянет его к себе:
— Спускайся в погреб, будешь принимать входную плату. Нож у тебя под мышкой?
Драга отталкивает двух мужчин, расположившихся перед ним на полу, выходит из зала с плавками в руке; вербовщик поднимается в комнату мальчиков, Петрилион лежит на тюфяке, вытянув руки вдоль тела, его ладони, прижатые к бедрам, дрожат, вербовщик наклоняется над ним, нюхает его голову.
— Ты хорошо пахнешь, псу понравится такая подружка.
Мальчик лежит; его ресницы часто моргают под дыханием вербовщика, но глаза остаются широко раскрытыми; вербовщик гладит его по плечу:
— Отдыхай, я приду за тобой.
Вербовщик спускается в зал, другие вербовщики пьют у стойки, дверь на улицу открыта; два мальчика, прислонившиеся к стене по обе стороны от двери, зевают во весь рот; когда по улице проходит мужчина, они выпячивают животы, трясут членами под плавками, тихо стонут; вербовщик пьет со своими товарищами.
В подвале Драга усаживается на колени к солдатам, все его тело покрыто жирными пятнами; в саду у домика толпятся тени, выходят два вербовщика, они говорят с тенями, спускаются в люк; в подвале мужчины и женщины раздеваются, Драга, которого солдат опрокинул на брезент, поднимается и встает у входа в подвал; в карцере лает пес; Драга протягивает руку, перед ним в подвал пытается проскользнуть женщина, Драга хватает ее за плечо, она оборачивается:
— Драга! Это я макала твой член в чашку.
— Платите.
Женщина дергает за рукав сопровождающего ее мужчину, тот шарит во внутреннем кармане, вынимает пять банкнот, протягивает их Драге, тот запихивает их под плавки, к животу.
Мужчины и женщины сидят на стульях; в общем зале мужчины поднимаются и уходят под наблюдением вербовщика; Исмена спит, лежа на полу среди лужиц вина и спермы; голова запрокинута на локоть, ладонь другой руки покрывает низ живота. Мужчины расходятся по переулкам, два мальчика смотрят им вслед; лунный свет холодит их животы; поднятая ночным ветром пыль щекочет их ступни; над дворцом трещат вертолеты, свет их фар слепит мальчиков, вертолеты слетают к реке, скользят вдоль берега ко входу в долину; мальчики идут в дом, вербовщик возвращается в сад, мальчики поднимаются к себе в комнату, один ложится и сразу засыпает, другой подходит к окну, достает член и мочится, расставив ноги, струя ударяется в стену борделя, брызгает на окна общего зала; в комнату влетает птица, садится на руку спящего мальчика, потом на его бритую голову, мальчик дергается, птица взлетает, возвращается, снова садится, забивается между головой и изголовьем тюфяка; птицы часто устраиваются так, привлеченные теплом и нежным детским запахом; другие мальчики, вернувшиеся со склада, шумно входят в комнату, скидывают джинсы на пол и падают на свои тюфяки; птицы летают вдоль стен, порхают между комнатой и цветущими деревьями, роняют на губы и ресницы мальчиков зернышки, сладкую пыльцу и лепестки; проснувшиеся мальчики слышат шум ветвей, следят за полетом птиц; вербовщик касается плеча Драги, потом его плавок в том месте, где набиты деньги, рядом с членом; он спускается, подходит к воротам, прохаживается по улице, снова поднимается в комнату, хлопает Петрилиона по плечу, мальчик встает, вербовщик берет его за руку, выводит в сад, мальчик вырывается, вербовщик кладет ладонь на рукоять ножа, вталкивает мальчика в домик, двое вербовщиков поднимают люк, хватают мальчика за ноги, тянут, тот скользит по ступеням, Драга тянет его к себе, Петрилион отстраняется; Драга снова прижимает его к себе, согревает его тело; солдаты выводят пса из карцера, держат его за ошейник посреди брезента, открывают ему пасть, высыпают в нее красный порошок из пакета, пес проглатывает его, рычит, пока его гладят, приседает на круп, поднимает заднюю ногу, солдаты гладят его по ляжке, вокруг члена, пес лает, опрокидывается на пол; мужчины и женщины облизывают губы, глотают слюну; пес поднимает голову, рычит, поднимается на лапы, прыгает на Петрилиона, мальчик, вытолкнутый на брезент Драгой, который занимает место у двери, подходит к собаке, свистит по — птичьи губами, кладет руку на загривок пса, запускает пальцы в шерсть, пес урчит, Петрилион трется бедром о морду пса, тот лижет его плавки, горячий язык проникает в прореху ткани, оборачивается вокруг члена мальчика, Петрилион дрожит, его член вылезает через прореху; солдаты стоят, прислонившись к стенам, Петрилион перебрасывает ногу через спину пса, садится на него, его член погружается в длинную прохладную шерсть, пахнущую солью и ночью, пес поворачивает голову, лижет колено и ляжку сидящего на нем мальчика, хвост поднимается, бьет мальчика по спине, Петрилион опускает ладони на живот собаки, гладит его соски, потом член, пес лает, его слюна стекает на колени Петрилиона; мальчик не видит больше ни женщин, ни мужчин; все они смотрят на него, на его трепещущее горло, на яростный член, они подмечают дрожание его мышц и жил, прилившую к коже кровь, они скользят глазами по гладкой коже, по торчащему из черной пряди члену, спрятанному в рыжей собачьей шерсти; мальчик сжимает ляжками крестец собаки, потом привстает; плавки, завязанные шнурками на бедре, поддерживают его яйца; Петрилион больше не дрожит, он стоит позади собаки, он поворачивается к зрителям, мужчинам и женщинам, и трясет перед ними членом, потом поднимает псу хвост, лаская другой рукой его член, он раздвигает ему лапы, когти скользят по брезенту; опираясь на руки, он наваливается, выгнувшись, на собачий круп; хвост пса бьет по его животу, щекочет кончиком его грудь, член мальчика ищет под хвостом собачий зад, находит его, проникает внутрь, влажный жар охватывает тело мальчика, на его губах рождается улыбка, его член погружается целиком; мальчик, держась за шею пса двумя руками, прижимает его к животу, склоняет голову на спину пса, его задыхающийся открытый рот смачивает слюной собачью шерсть, его зубы кусают ее; мальчик, изгибаясь, ударяет лобком о собачий круп, пес лает, лижет сложенные на его шее ладони; мальчик снимает одну руку, просовывает ее между своим животом и задом собаки; из пасти пса изрыгается пена, он сжимает и разжимает зад, сдавливая и отпуская разбухший член мальчика; Петрилион сжимает свой член у основания, дрочит, его напряженные колени трещат, покрываются потом, напрягшийся до предела красный член пса волочится по брезенту; мальчик в ярости вцепился пальцами в отвисшую губу пса, тот кусает его пальцы, сперма подступает к члену, Петрилион кусает шерсть, сперма брызжет, пес расставляет задние лапы, лает, облизывает губу, его глаза подернуты влагой, задние ноги оседают, мальчик, держась за хвост у его основания, подгибает правую ногу и вместе с собакой ложится на бок, он прижимает собачью лапу к своей ляжке, чтобы удержать свой член в заду собаки, он мнет его соски, его липкий член; задыхаясь, он поднимает пса на ноги, поднимается сам, снова напрягает ноги, на этот раз опираясь левой рукой на спину собаки, вцепившись пальцами в шерсть; он выпрямляется, собачий хвост поднят к его груди, он дрочит член у основания, касаясь ладонью яиц пса, которые ударяются о яйца мальчика, сжатые разорванными плавками; второй раз изливается сперма, пес завывает, мальчик стоит неподвижно, плавки, сползшие на ляжки, увлажнились от пота, который стекает по его груди на прядь волос в паху и смешивается с потом пса, блестящим на шерсти.
Лампочка над головой мальчика отбрасывает блики на вымазанные спермой волосы, на потные щеки, нос, живот, бедра, руки, ладони с приклеившимися рыжими волосками, песчинками, листочками; мальчик снова опускает ладонь на член, яростно дрочит; солдаты хлопают себя по бедрам, сперма изливается в третий раз, ноги мальчика подгибаются, пот заливает его глаза, чернит волосы, брови, тени под ноздрями, мальчик дважды бьет в собачий круп, пес скребет брезент когтями передних лап, мальчик отступает, понемногу вынимая член, но пес удерживает его, сжимая зад; мальчик упирается в круп двумя руками, отступает, но член остается зажатым, мальчик пугается, его сердце учащенно бьется, щеки бледнеют, один из солдат подходит к нему:
— Дрочи четвертый раз и перед тем, как кончить, резко вынимай хуй. Он отпустит.
Солдаты прислоняются к стене, мальчик выпрямляет ноги — пес давит на его ступни когтями задних лап, он медленно, легонько сдавливая член, дрочит, гладит кончиками пальцев нежную кожу вокруг дырочки; сперма подходит, наполняет член, пес на мгновение расслабляет зад, мальчик рывком вынимает член, пес снова сжимает зад вокруг головки члена, но мальчик пальцами разводит края дырочки, член выходит полностью, он показывает его зрителям, мужчинам и женщинам, член красен, помят, он опадает и скрывается в прорехе плавок, прижимается к правой ляжке; мальчик садится на брезент, пес поворачивается, мальчик кладет руки на колени, пес лижет его ступни, просовывает голову между его коленями, шарит между ляжками, двумя толчками головы раздвигает ляжки мальчика, слизывает с плавок продолжающую изливаться сперму, запускает язык в прореху, достает член; мальчик опрокидывается на спину, раздвигает ноги, отдается псу, тот ставит лапу на его грудь, слизывает пот и свою слюну с горла и груди, потом возвращается к члену, кусает плавки, лижет волосы в паху, зажимает зубами край прорехи, тянет ткань, плавки рвутся, с морды слетают клочья пены, пес крутит головой, цепляет прореху когтями передней лапы, прореха расширяется, открывает яйца, пес нюхает их, лижет, язык забирается между ягодиц, касается краев дырочки; мальчик смеется, сложив ладони под затылком, приподнимает ягодицы, пес рычит, трется мордой о живот мальчика, лижет его пупок; плавки развязываются на бедре, пес отгибает висящую полу на другое бедро, кусает ткань, тянет, поднимая ногу мальчика; шнурок завяз в его зубах, он сплевывает его на живот мальчика, он трется своим красным членом о его ногу, колено Петрилиона облито спермой; пес опускается на лапах, наваливается животом на ляжку мальчика, член собаки касается члена мальчика, член мальчика привстает; пес лает, выгибается на животе Петрилиона, поднимается к его лицу, его член упирается в губы мальчика, тот, не дрогнув, открывает их и сосет этот огромный член; горькая, как желчь, сперма наполняет его рот, мальчик закрывает глаза, пес лижет его волосы, навалившись животом на его лицо, его шкура намокла, его лапы скребут посыпанную угольной пылью землю, смятый, скатанный брезент накрывает бедра и плечи мальчика, кругом летает черная пыль, по телу Петрилиона тянутся черные полосы, пес проходит над ним, оборачивается, лижет ляжки и член мальчика, тот держит член пса в руке, прижимает к губам, сдавливает его, в глаза и на лоб мальчика брызжет сперма, он берет член в рот, полощет его в своей слюне, пес стоит, задрав хвост, его подернутые влагой глаза смотрят на женщин и мужчин, его спина трясется, хвост метет пол за головой мальчика; мальчик отталкивает живот пса, поднимается, опираясь на локоть, он отталкивает пса, тот, рыча, наступает на его живот; мальчик становится на четвереньки, пес обходит его кругом, нюхает его ягодицы, лижет их; мальчик, задрав ягодицы, ложится на брезент; пес обнимает передними лапами талию мальчика и прижимается ляжками к ягодицам Петрилиона, трется о них животом, колеблется, его член вонзается между ягодиц мальчика, который приподнимается с брезента; пес глубже вставляет член, его задние лапы дрожат, когти царапают брезент; слюна, стекающая с его губы, брызжет на талию Петрилиона, омывает его спину от бедер до затылка; горячая сперма пса проникает в тело мальчика, Петрилион поднимает голову, видит солдат, прислонившихся к стене, у всех стоит в штанах; мужчины и женщины, почти все — на ногах, смотрят, как пес толкает мальчика, понемногу сбивая его с ног; брезент весь мокрый, мальчик, пытаясь встать, отталкивает рукой морду пса, но пес словно прилип к нему; мальчик движется к солдатам, пес делает маленькие шажки, вцепившись передними лапами в живот мальчика, обнимает его; один из солдат вынимает свой член из форменных штанов; держа его прямо, он берет мальчика за волосы и прижимает к своим ляжкам, мальчик открывает рот, берет член в губы; солдат откинулся к стене, мальчик, по прежнему склещенный с псом, дрочит член солдата, упирает его в ноздри, лижет; член наполняется спермой, сперма брызжет, мальчик зажимает головку члена во рту и всасывает горячую сперму, душащую его; пес трется, стонет, лает; собачья сперма и сперма солдата смешиваются в утробе мальчика; большой палец его правой ноги зацепился за кольцо брезента; солдат оседает, его дыхание становится свистящим и прерывистым, потом он снова напрягается, мальчик вцепляется ему в ляжки, берет обмякшую головку его члена в рот, но в этот раз тот дрочит сам; пес еще раз кончает в мальчика, он кусает его в поясницу; заостренный кончик собачьего члена щекочет ему мочевой пузырь, он смеется и прикусывает головку члена солдата. Солдат тихонько стонет; мальчик вынимает член изо рта, вытирает липкие губы, солдат прижимает колено к его горлу, мальчик задыхается, пес от кашля мальчика трясется, выгибается и набрасывается на него с новой силой; мальчик хочет высвободиться, солдат заходит за круп пса, тянет его за хвост, пес лает, поворачивает голову, кусает колено солдата, тот бьет его по заду, пес оборачивается снова, его член торчит в жопе мальчика, его когти царапают его спину, мальчик стонет, плачет. Подходит вербовщик:
— Довольно, уведите вашего пса.
Солдаты хватают пса за шлею; один из них вынимает из кармана штанов прилипший к ткани кусок мяса, подносит его к клыкам собаки, дрожащим на спине мальчика, пес чует мясо, поднимает голову, солдат пятится, пес скалится, солдат пятится еще, пес резко, раздирая бедра мальчика когтями, отрывается от него, бросается на кусок мяса, хватает его, трясет, волочит в пыли, рвет и топчет его у ног мальчика.
Петрилион остается лежать на месте, его горячие руки сжаты, опавший член пылает, губы и веки склеились; солдаты удерживают пса, вытаскивают его из подвала, толкают по лестнице наверх; пес рычит, скалит клыки у самых глаз солдат, но те вытаскивают его в сад; пес, почуяв землю, подпрыгивает и лает; шерсть вокруг жопы и морда блестят в лунном свете, с члена стекают капли спермы; в погребе Петрилион, лежащий с закрытыми глазами на холодном брезенте, дрожит от холода; мужчины и женщины встают со своих мест, склоняются над мальчиком, смотрят на его почерневшее, истерзанное, клейкое тело, трогают кончиками пальцев член и пылающий, черный, влажный клочок волос над ним; одна из женщин, встав на колени, целует окровавленную ступню мальчика; Петрилион не может подняться, все его тело дрожит; женщины и мужчины уходят, Драга склоняется над ним, вербовщик берет его за руку, расклеивает его веки, развязывает плавки на правом боку, выходит в сад, закрывает ворота; член прилип к ткани, Драга, потихонечку сдергивая ткань, освобождает член, мальчик открывает глаза, стонет, Драга нежно гладит его по клейкому животу, одним рывком срывает плавки и бросает на брезент, Петрилион подбирает их и протягивает Драге, тот разворачивает их и, растягивая прорехи, помахивает перед глазами Петрилиона:
— Смотри, как он любил тебя.
Петрилион поднимается, опираясь на плечо Драги, вербовщик возвращается, оттягивает плавки Драги, шарит, вытаскивает деньги, считает.
— Отведи Петрилиона в комнату мадам Лулу, смажь ему член мазью и уложи спать. Потом приходи ко мне, в мою кровать.
Вербовщик садится на стул, пересчитывает деньги, Драга несет Петрилиона на руках, член мальчика скатывается на ляжку, он громко кричит, Драга поднимается по лестнице, открывает люк обритой головой, выходит в сад; голова Петрилиона откинута к земле на локте Драги, ее омывают свежие травы, листья и цветы, звезды поют на его губах; Петрилион, ослепленный свечением неба, закрывает глаза ладонью; они входят в заднюю комнату; вербовщик пьет один за столом; когда Драга проходит, вербовщик кладет руку на живот Петрилиона, ноги которого свисают с рук Драги, сжимает его член, Петрилион стонет, вербовщик жмет сильнее, Петрилион кричит, вербовщик бьет мальчика по ноге, вынимает из-за пояса нож, колет ступню, ладонь и ногу мальчика, крики Петрилиона переходят в рыдания, вербовщик вонзает нож и оставляет там; нож дрожит в ране, вербовщик вынимает его, кладет ладонь на раны, трет их, пачкает кровью ногу мальчика, снова прикладывает окровавленную ладонь к члену Петрилиона, но тот уже потерял сознание; вербовщик показывает ладонь Драге, тот усаживает Петрилиона на стул, ведет вербовщика к раковине, вербовщик ласкает его спину и плечи окровавленной ладонью; Драга берет ее, открывает кран, моет ее с мылом, его пальцы сплетаются с пальцами вербовщика, его член, прижатый к сырой цементной стойке раковины, встает; вербовщик запускает вымытую ладонь под плавки Драги, мальчик отталкивает ладонь, вербовщик достает нож и делает надрез в виде креста на ткани плавок, на ягодице:
— У распятого Христа стоял, когда он смотрел на голые, скорченные тела разбойников, распятых ошуюю и одесную, поцелуй меня, поцелуй меня.
— Нет, мне нужно позаботиться о Петрилионе, пес его покусал, а ты порезал.
— Бляденыш подождет. Видишь, он спит. Я хочу тебя. Малыш, малыш…
— Ты знаешь меня наизусть.
Из погреба возвращается другой вербовщик; тот, что прижимал Драгу к раковине, отпускает его; Драга поднимает Петрилиона и относит его в комнату мадам Лулу; очнувшийся Петрилион плачет на плече Драги, тот укладывает его на широкую кровать сводни, ищет в ящике стола тюбик крема, открывает его, выдавливает крем на палец, смазывает член кремом, Петрилион стонет, кусает губы, Драга проводит пальцем по члену, смазывает яйца и основание члена под волосами:
— Спи здесь. Я закрою дверь на ключ; спи на спине, не переворачиваясь. Слышишь, они дерутся там, внизу?
— Разбуди Исмену и положи ее рядом со мной.
— Спи, спи, завтра твое сердце снова воспылает.
— Этой ночью я чувствовал его биение.
— Нет, нет, то был твой хуй.
— Вербовщик хочет меня зарезать.
— Нет, другой его побьет.
— Он хочет выпить мою кровь.
— Для него кровь — что вино.
Драга выходит, Петрилион засыпает, Драга спускается, видит Исмену, лежащую в лужах вина и спермы, он щелкает резинкой плавок и встает в дверях заднего зала, опершись на косяк; оба вербовщика катаются по полу; тот, у которого деньги, прижал другого к кафелю, бьет его в живот и по лицу; он поднимается, берет Драгу за руку; вербовщик и мальчик поднимаются в комнату; перед тем, как лечь, Драга стаскивает плавки и кладет на стул; на ткани еще виден, несмотря на пятна крови и спермы, маленький разрез в форме креста; мальчик проводит по нему пальцем; голый вербовщик хватает его ладонь, прижимает мальчика к себе, трется коленями о его ягодицы.
— Ты избил Христа?
Вербовщик опрокидывается в постель вместе с мальчиком, обнимает его, сжимает его ляжками, проводит своими ногами по ногам мальчика; Драга подставляет ему свой рот; вербовщик отпускает мальчика, тот перекатывается набок, его нога свисает с постели; вербовщик гасит свет, москиты облепляют лица и бьющиеся горла, лезут в глаза, еще ослепленные светом; вербовщик берет ладонь мальчика, кладет ее на свой обмякший член, еще хранящие нежность пальцы мальчика накручивают влажные от пота волосы; лунный свет омывает их тела и постельное белье.
— Христос, мертвецки пьяный, раскинув руки, лежит на кафеле, ноги придавлены к полу ножками стола, он истекает кровью, но не через бок, а через рот.
— Если он воскреснет, с утра он сожрет Исмену.
— Я выбил ему зубы.
— Я не люблю Христа, он всегда чего — нибудь просит, прежде, чем поцеловать.
— А я просто беру.
Вербовщик наваливается на мальчика, Драга смеется, волосатая грудь вербовщика щекочет его соски, лошадиный пот вербовщика разъедает его глаза, во рту вербовщика клокочет блестящая слюна, мальчик прижимается к этому рту губами, раскрывает его и пьет льющуюся в его рот слюну, остатки слюны вербовщик выплевывает в губы мальчика.
Вдали море накатывает на пляж, свежесть поднимается к садам, мальчик скорчился под вербовщиком, который целует его глаза, мальчик открывает их пошире, вербовщик лижет их языком; в то же время рука вербовщика гладит живот Драги; мальчик переворачивается на живот, вербовщик раздвигает ему ягодицы и погружает между ними свой напряженный член; волны катают гальку на дне бухты, на острые камни взбираются крабы, в норах их поджидают спруты, они выбрасывают свои щупальца и оборачивают их вокруг клешней, затаскивают крабов в свои каменные норы и пожирают их, панцири трещат в их клювах; они сплевывают клешни, усики и остатки панцирей; вербовщик облизывает бритую голову мальчика, его ушные раковины, слизывает серу из его ушей; по его спине, до затылка, сквозит ветерок; он ласкает виски мальчика, обернутые простынями; мальчик засыпает, вербовщик дрочит, кусая ухо мальчика, Драга просыпается, вербовщик лижет его висок:
— Ты забыл обо мне? Клиенты говорят, что ты бредишь вслух: «навоз, крысы, весна, пещера…» Ты принимал сегодня порошок?
— Да, но я хочу спать.
— Ты у меня самый лучший, Драга…
Несколько мужчин со стоящими членами бродят у борделя, заглядывая в окна; лампы погашены, лишь лунный свет омывает липкое тело Исмены; из-под стойки выползает крыса, бежит к лунному лучу и слизывает вино и сперму из-под рук Исмены.
На поверхности моря, у горизонта, там, где садилось солнце, пересекаются несколько сверкающих дорожек; одинокие птицы ныряют, хватая рыб, уснувших в пучках водорослей или зачарованных в светящихся сердечниках анемонов. Тивэ проснулся на заре, когда погасли огни борделя; он вылезает из спального мешка; на холме, под самой высокой вышкой, прозванной Эйфелевой башней, кричат петухи, их красные гребни скачут в густой траве между зарешеченных отдушин; по лестнице спускается часовой, его винтовка гремит о броневой лист; Тивэ ложится поверх спального мешка; с высоких древесных ветвей роса осыпается на красную крышу КП. В горле Тивэ першит, он складывает руки на животе. Солнце, ослепляя его, бьет в отдушину.
— Это я, Ксантрай, сегодня тебя будут допрашивать в штабе. Держись. Я уезжаю на разминирование в Аи-Саада.
Тивэ молчит; Ксантрай, присев на корточки, смотрит в отдушину, он видит Тивэ, который неподвижно лежит на складной кровати, расставив ноги и укрывшись гимнастеркой:
— Тивэ, ты не слышишь меня? Не видишь?
Глаза молодого человека открыты, вши грызут его бритую голову. Ксантрай поднимается, трет руки и колени.
Водители, солдаты сопровождения и минеры умываются; вокруг умывальника блестит грязь. Тивэ гладит свою голову, ощупывает порезы, оставленные бритвой парикмахера:
— Обрить его наголо.
Когда офицер вышел, гражданский парикмахер положил бритву и вытер лицо:
— Господин Тивэ, я не могу… Офицер возвращается:
— Обрить предателя.
Я улыбаюсь, наклоняю голову, парикмахер дрожит, бритва скоблит мою голову, царапает ухо, офицер давит мои босые пальцы красными кожаными ботинками; парикмахер вытирает руки полотенцем, повязанным вокруг моей шеи, падающие срезанные волосы щекочут мне уши и нос, цепляются к бровям, мама, я не хочу, чтобы парикмахер срезал мою челку, мама садится в кресло, гладит меня по колену, достает журнал, раскрывает его на коленях; за перегородкой Вероника стоит со своей тетей, парикмахерша тихонько подталкивает ее, Вероника подает мне в зеркало какие — то знаки; срезанные волосы цепляются за петли моей рубашки; мама выходит без своей сумочки, она идет под дождем вдоль реки; парикмахер оглядывается, кладет ладонь на теплую фланель моих штанов, его рука ползет по моей ляжке, я смотрю на Веронику, это она меня ласкает, мама кричит и плачет под дождем, докеры катят по грязи рулоны колючей проволоки; мама кусает свой намокший шарф; рука парикмахера протискивается между моих ляжек, я отталкиваю его руку, другая рука спускается по моей груди, мое колено наталкивается на мраморную плевательницу, она пошатнулась, парикмахерша оглядывается, ладонь парикмахера по-прежнему покоится на моей трепещущей груди, мама вытирает туфли под дверью, она входит, уже темно, она хватает мои ручки своими мокрыми ладонями, я спускаюсь с кресла, мама платит парикмахеру, он подталкивает меня к двери, мама уводит меня по темным улицам к реке. Докеры греются у костров из угольной пыли; они свистят; мама берет меня на руки, она погружается в туман, взбирается на мол, бежит по бетону; скалы покрыты снегом, я вырываюсь, мама прижимает меня к груди, я кусаю ее ладонь; буксир с горящими иллюминаторами, отбрасывающими блики на черную маслянистую воду, выходит из лимана; мама прыгает, я кусаю ее ладонь, она отпускает меня, я падаю на лестницу, мама скатывается по скале в море, ее покрывает пена, я бьюсь на ступенях лестницы, мамина голова качается на волне, ее руки скользят по гладкому блестящему утесу; буксир поворачивает, матросы выбегают на палубу, спускают шлюпку, прыгают в нее, гребут к молу; меж облаков зажигаются звезды; моя голова лежит в луже желчи; матрос выпрыгивает на лестницу, берет меня на руки, целует меня в щеку и в лоб; другие матросы веслами вытаскивают мамино тело на большой плоский утес; мои ноги и спина разбиты, матрос бежит по молу, пересекает порт, перепрыгивает через шлагбаум, солдат преследует его, матрос останавливается перед освещенной палаткой, из нее выходят два солдата, они приподнимают полог палатки, матрос укладывает меня на походную кровать; на центральном столбе покачивается фонарь; кровь отливает от моих рук, от моего сердца; солдаты говорят по телефону, трут мои руки, укрывают меня с головой, раскрывают защитного цвета снарядные ящики…
Джипы и грузовики трогаются с места; Тивэ, оглушенный и ослепленный рассветным солнцем, закрывает лицо гимнастеркой, больше на нем ничего нет; навозные мухи скребутся под отдушиной, они вылетают, садятся на тело, на член, залезают в прядь волос внизу живота, шевелят волоски; Тивэ вздрагивает, раздвигает ноги, утренний бриз холодит его ляжки и промежность, облепленную мухами…
Песнь пятая
Вероника откидывает волосы назад, я трогаю их, погружаюсь в них головой; Вероника оборачивается, берет мою голову руками:
— Ксантрай поцеловал меня в саду.
Я обнимаю ее за талию, кусаю в губы, ее груди катаются, мнутся под моей грудью, она отталкивает мои руки, я целую ее веки, ее рука гладит меня по спине, по поясу, ее веки пахнут тиной, я лижу их; моя расстегнутая рубаха мокра от пота:
— Когда ты мне дашь своего молока?
— Прежде возьми мою кровь.
Она смеется, я опрокидываю ее на диван.
Ветер перебирает страницы книг на столе, катает карандаши, я целую ее губы сквозь волосы; моя ладонь пролезает под ее платье, накрывает ее правую грудь, она дрожит, трепещет, нагревается под моей ладонью, я накрываю другую грудь, нежно ласкаю ее, я расстегиваю платье, целую сосок, Вероника тяжело дышит подо мной, я сосу ее грудь; окна в парк открыты настежь; Ксантрай бродит по высокой траве с ружьем в руках.
— Тивэ не жми так сильно, ты сломаешь мне хребет.
Я забираюсь по ней повыше, ее ладони мнут шорты у меня на ягодицах, ее пальцы теребят края ткани.
— Ты в плавках, я чувствую. Они сырые.
— На мне больше нет белья.
— А во мне нет больше сердца.
Ее пальцы раздвигают мои ягодицы, скользят под шорты, впиваются в мой зад; я закрываю ей рот своими зубами; на диване лежит раскрытая книга Ксантрая: «Учебник тактики и стратегии». Я листаю ее, нахожу картинку, на которой изображен обнаженный греческий гоплит, метающий копье, у его ног — олеандр; мечтательный Ксантрай однажды вечером нарисовал чернилами на животе грека набедренную повязку; я оставляю книгу раскрытой на этой картинке; ладонь Вероники пробирается между нашими животами, она начинает расстегивать ширинку, ее глаза смотрят, не мигая, в мои, ее пальцы расстегивают пуговицы, я сжимаю в своей ладони ее ладонь, пальцы переплетаются, она обнажает мои ляжки, мой член стоит под мокрыми плавками, ладонь Вероники проникает под них, трогает член, набухшие вены.
Ксантрай свистит под деревьями, его рубашка расстегнута до пупа.
— Этой ночью он пришел в пижаме под окно моей спальни. Он сидел и стонал на камне бассейна; в его расстегнутой пижаме я увидела его стоящий член; он ковырял прутиком норки дождевых червей, его грудь со стоном вздымалась…
— В тот день, когда мы приняли тебя в наш клуб бессердечных, он испачкал свои штанишки, негр ударил его в живот, а потом нагнул его голову под краном давильни, да так, что разбил ему нос. Твоя тетя смотрела, стоя на лестнице, она ждала своего негра.
— До того, как она взяла к себе тебя и Ксантрая, я гуляла с негром по сырому парку, он говорил мне, как называются цветы и листья, топтал червей и саранчу; вечером, у огня, она надевала ему на голову цветочные венки, а он разрывал обивку дивана между ее ляжек и доставал пучки конского волоса…
Ксантрай гладит стволы деревьев, солнце слепит его, он не может стрелять в воздух; он возвращается по аллее к дому, идет по ступеням, поднимается на второй этаж, входит в комнату, подходит к дивану, берет свою книгу, лежащую рядом с потной головой Вероники; девушка хватает его за колено, он пятится, она тянет к себе, ее ладонь поднимается к шортам Ксантрая, мальчик отступает еще, но с улыбкой, он отстраняет руку Вероники, берет книгу и прижимает ее к груди.
— Пойду, склею пакет для твоей тети. Я сам отнесу его в больницу.
— Передай привет от ее камешков!
Ксантрай выходит; Вероника облизывает ладонь, касавшуюся бедра Ксантрая.
— Пойдем на море, ты будешь ласкать меня в воде.
— В морской воде только верхняя часть тела хранит желание.
— Я хочу посмотреть на крейсера вблизи, прикоснуться к их блестящим носам.
— Моряки будут стрелять в тебя.
— Ты будешь со мной.
Я поднимаюсь, заправляю свою смятую мокрую рубашку, застегиваю шорты; Вероника встает и застегивает свое платье.
Внизу Ксантрай шуршит упаковочной бумагой, я спускаюсь в кухню:
— Она хочет вас видеть, погладить перед смертью ваши волосы. Я иду на море с Вероникой.
— Будьте осторожны, моряки стреляют во всех, кто плавает рядом с крейсерами.
— Ксантрай, этой ночью я видел сон: в нижнем городе кричали о чуде; мои ноги были отрублены, я не мог встать; над верхним городом, как мечи, плещут орифламмы. Чудо плыло вдоль реки, до лимана, дети стаскивали меня с кровати. Тут же, ночью, толпа построила базилику на месте хижины, в которой остановилось чудо. Потрогай меня, я живу, но сердце мое не бьется.
Окровавленная Вероника цепляется за обшивку крейсера, моряки открывают трап в борту судна, бросают веревки, я держу Веронику в руках, плыву, хватаю веревку; весь мокрый, я падаю на палубу трюма, кровавые полосы покрывают грудь и ноги Вероники…
Тивэ переворачивается на живот, мухи, прижатые к постели, шевелятся у него в паху…
Вода блестит. Вероника, уцепившись за нос лодки, трется животом и бедрами о мокрый форштевень, поднимает ноги вдоль бортов, я плыву за ней, хватаю ее за плечи, прижимаюсь животом к ее ягодицам, обнимаю ногами ее ноги у бортов лодки. Она отпускает лодку, оборачивается ко мне, погружает мою голову в пенную воду; я вырываюсь, я тяну ее за купальник на бедре, ткань рвется, волоски на ее лобке тянутся в лучащейся воде… Тивэ уткнулся в спальный мешок, измаранный клопиной кровью… Ксантрай скорчился в углу салона, Вероника играет на пианино, чтобы привлечь его. Тетя Вероники этим утром купила маленького Ксантрая, она берет меня за шею, я смотрю на маленького Ксантрая, она уводит меня в свою комнату, негр развалился на постели, одна рука на животе; он спит на кружевной простыне, зажав кружево в зубах; она открывает свой секретер, достает из него фотографию: мама сидит под магнолией, белая собачка лижет ее в щеку; тетя Вероники кладет фотографию на столик, засовывает свою ладонь мне между ног, теребит мой член:
— Поторопись, негр скоро проснется, на фотографию, один разик.
Я дрожу, улыбаюсь, я боюсь сказать ей: «Я сегодня уже дрочил три раза в оранжерее, Веронике нравится этот запах».
Тетя оборачивается, красит свои ногти, я достаю член, он скатывается по серой фланели, я кладу головку на собачку, глянец фотографии холодит кончик, я смеюсь, она поворачивает голову:
— Побыстрее, с маленькими рабами в порту ты был куда проворнее.
Я напрягаю ноги, тру член, но он не встает, я думаю о платье Вероники, о ее ляжках, о ее сладком ротике, о тонком пушке над губками, как на персике или абрикосе, ее бедра сжимает кожаный ремень, грудь стянута портупеей, которая, сминая волосы на лобке, снова поднимается вверх между ягодицами, ремешки перекрещены в паху, кольца сверкают на солнце, моя сперма блестит на лугу, налипшая на стебель, как кокон; вот она брызжет, заливая фотографию, бесцветная, горячая, мамино лицо едва различимо под лужицей.
Мадам оборачивается, улыбается, берет фотографию, негр просыпается, потягивается, я заправляю липкий член в шорты, мадам подносит фотографию ко рту, ест ее, на ее губах — моя сперма, в ее глотке — белая собачка, мама, шезлонг и магнолия. Я спускаюсь, мадам запирается со своим негром.
В салоне Ксантрай неподвижно сидит в углу, Вероника поворачивается на табурете, ее ладони скользят по клавишам, я беру их в свои ладони, потом отпускаю, подхожу к Ксантраю, он сидит, скорчившись, закрыв лицо руками:
— Ты сирота, я и Вероника — тоже, наша Великая Мать сожрала наших родных матерей, слышишь, как она урчит от голода?
— Ты мальчик или девочка?
— Ветерок врывается в окна, приносит камешки из сада, крики, посвист. Мы с Вероникой лежим на ковре, мы освобождаем место между нами для Ксантрая; он открывает лицо, Вероника задирает платье на бедра, Ксантрай остается в углу.
За обедом он не может проглотить ни куска, негр под скатертью хватает его за бедро, мадам не ест, только слизывает с ногтя соль, ее бриллиант звякает о стекло; негр жрет, как бык, на его толстых губах блестит сало; Вероника под скатертью задрала платье на живот, я прижимаюсь коленом к ее ноге; Ксантрай спит в моей комнате, я отдал ему кровать у стены, а сам лег у окна; он не смеет раздеться, забирается под одеяло в одежде; я подхожу к окну, Вероника, голая, стоит, прижавшись животом к ржавым перилам; крепкая и гладкая под ледяной луной, она смотрит на звезды; ее ступни трут цементный пол, ее плечи дрожат, округлыми руками она сжимает свои груди, соски набухли кровью; я вхожу в ее комнату, обнимаю ее сзади, скрестив ладони на ее животе, я стираю с него ржавчину, ладони гладят пупок, поднимаются к грудям, обнимают плечи; пояс моей пижамы проникает между ее ягодицами, я понемногу вытаскиваю его, Вероника опрокидывается на меня, ее голова катится по моему плечу, высунув изо рта язык, она лижет мою щеку, ищет мой рот, моя ладонь опускается, накрывает ее лобок, щиплет волоски, проникает между ляжками, щиплет губки влагалища; стон, донесшийся из моей комнаты, останавливает мой рот на щеке Вероники:
— Это маленький Ксантрай. Он кусает простыни.
Она убегает от меня, пересекает свою комнату, идет по коридору, входит ко мне, приближается к окну, берет с моей кровати шорты, наклоняется, натягивает шорты, не застегивая — полы распахнулись на бедрах, ее ягодицы стягивает фланель; она подходит к кровати Ксантрая, садится на нее, мальчик приподнимает простыню, видит обнаженные груди Вероники, та встает, расставив ноги, уперев кулаки в бедра, чуть склоняется к кровати; Ксантрай снова приподнимает простыню, Вероника сдирает простыню, падает на него, обнимает, мальчик отбивается, кричит, царапает щеки Вероники, она впивается в его рот, заглушая крики, ее вьющиеся волосы покрывают щеки и глаза мальчика; она поднимает голову, откидывает волосы, медленно раздевает мальчика, двигаясь к изножью постели, проводит волосами по его телу, ослепляя его, заставляя его истекать слюной, шевеля его член, плененный, опутанный.
Трижды она проводит волосами по телу мальчика сверху вниз, снизу вверх; мальчик, успокоившись, пропускает волосы между пальцами, его член встает, Вероника обматывает член прядью волос и тянет, он растягивается, растет, пряди скользят по головке; мальчик изгибается, смеется, берет член в руку, Вероника проводит волосами по его животу, отцепляет пальцами прядь, обмотавшуюся вокруг головки, гладит член сверху вниз, поднимает голову, волосы, спадающие на бедра мальчика, тянут его яйца, член встает выше, касаясь губ Вероники; я глажу ее трепещущую спину, натянувшуюся на ее ягодицах фланель; ее вьющиеся волосы дрожат, как волны, в лунном свете, я погружаю в них пальцы, шум морской на твоем затылке, рокот волн в твоих ушах… О, твои глаза скрипят в тени, твои ногти смотрят, твои грудки блестят меж твоих плеч; Ксантрай, лежа, вдавив подбородок в горло, гладит твои груди, как ребенок, зачарованный шумом волн, гладит прибрежные камни в свете луны.
Всю ночь мы любим его. Мы сдавливаем его руками и ногами, чтобы выжать сердце из его груди, чтоб оно брызнуло в звездное небо…
Тивэ покрывает живот спальным мешком, он дрожит, пыль с мешка прилипает к его потному телу, между ящиками стеллажей пробегает крыса, ее зубы скребут по железной проволоке. Тивэ приподнимается на раскладушке, слушает крысиный писк, он садится на кровати, локти прижаты к коленям, по его ступням струится холодный рассветный пот на который палач швыряет свежую землю.
Тивэ сдавливает в горле крик.
Во дворе солдаты толкаются, помадят волосы, моют руки и пах; свежая зелень над умывальником гладит их голые плечи; солнце блестит в осколках зеркал, прикрепленных к трубам; из давильни выбегает голый мальчик, солдат хватает карабин, стреляет, мальчик падает у стены: «Это сын феля, он каждую ночь приходил спать в давильне», солдат подбегает, поднимает мальчика, его щека и горло залиты черной кровью, он еще дышит, солдат берет его за волосы и три раза бьет головой о камень, с которого разлетается красная пыль; мальчик дышит, солдат пинает его сапогом в горло, глаза мальчика вылезают из орбит, язык вываливается изо рта; солдат снова хватает мальчика за волосы, тащит его к мешкам с песком; солдаты возле умывальника смотрят, в их руках дрожат расчески, их губы дрожат на зубных щетках; солдат перебрасывает тело через мешки, потом сталкивает по насыпи, он толкает его прикладом карабина, но труп цепляется за пень эвкалипта; солдат берет палку для чистки уборной, размахивает ею; ее конец измазан свежим дерьмом утренних часовых.
Солдат толкает палкой труп мальчика, голова и плечи которого зацепились за пень, конец палки протыкает щеку и плечо мальчика, труп скатывается по недавно распаханному откосу в болото, и вязнет в нем, поглощенный синей водой и прожорливой тиной.
Тивэ через отдушину видит, как солдат швыряет палку к стене уборной и вытирает руки о штаны; солдат с голым торсом возвращается в казарму, кладет карабин на кровать, прикрепляет зеркало к верхнему тюфяку и причесывает свою тяжелую черную шевелюру; на зубьях расчески остаются кровавые колтуны, раздавленные клопы, кофейный порошок и женская слюна.
Тивэ возвращается на кровать, задевая ногой котелок, в котором катаются куски сыра и ветчины; Тивэ склоняется на ящики, его выворачивает наизнанку, он блюет на стеллажи, блевотина стекает по подбородку, он стонет, нашаривает ладонью капюшон спального мешка, вытирает им рот; не переставая стонать, спускается в маленький погреб, обшаривает стены, скребет пыль в трещинах, выковыривает камушки; он зажигает спичку, поджигает паутину, подпаливает притаившихся тараканов и бегущих пауков; он совершенно голый, его глаза холодны…
Маленькая дикарка, я приглаживаю иголки на твоей коже, но они поднимаются вновь; иголки, забившиеся под губки твоего влагалища, обдирают мой набухший член, иголки, стреляющие из хрусталиков твоих глаз, царапают мои губы, целующие их.
Ксантрай лижет стену под твоим балконом, по ковру катаются бутылки, разбитые кубки я швыряю в камин, они шипят и взрываются; мадам умерла этой ночью; я блюю на ковер, ты грызешь абажур, ночные бабочки посыпают красной пыльцой твои ноздри; Ксантрай пытается забраться по стене, раздирая колени о кварц, Вероника клацает зубами, я бегу к ней, я впиваюсь зубами в ее рот, она хватает меня за член под шортами, сжимает его, тянет, я кричу, сбиваю рукой лампу, горячая лампа падает на руку Вероники, сжигает волоски, обугливает низ моих шортов; Вероника кричит, кусает руку, смачивает ее слюной и слезами; я бегу на кухню, хватаю масло, Вероника лежит на диване, ее рука поднята, я смазываю ее маслом; Ксантрай поет и лезет на стену, его щеки и горло, его рубашка залиты вином, негр катается среди осколков кубков, хрипит, к его волосам прилипли колоски пшеницы и ячменя. Ксантрай стонет, его колено скользит по селитре, Вероника хнычет на диване; ночные бабочки с абажура слетели на ее обнаженное тело:
— Убей меня, сожги мне губы лампой. Прикончи меня; как жить с молчащим сердцем?
Я бью ее по лицу, она плачет, я бью снова:
— Вставай, ты не должна показывать дурной пример Ксантраю.
— Убей меня, придуши, отрежь мне ноги.
— Я ничего не почувствовал, когда она бросилась в воду. Я сын ветра. Замолчи и вставай. Здесь я не всеми покинут, зачем же, сын ветра, я живу и топчу землю? Я не помню твоего лица. Сыны ветра, брошенные в навоз, толпящиеся в борделях, гниющая, спаленная падаль…
Тивэ упирается лицом в селитру, солдаты бегают вдоль отдушины, пыль, поднятая их сапогами и сандалиями, клубится в солнечных лучах, пересекающих погреб от стены к стене, они кричат:
— Тивэ, Виннету убил мальчишку, маленького феля.
Тивэ вдыхает селитру…
Я буду приговорен к смерти, они съедят мое сердце и мои глаза, и мою мать, что живет во мне и питается мной. Они разделят по жребию мое жалкое тряпье, мое разбитое зеркало, мой янтарный шарик и мой транзистор. Ксантрай заплачет, эта нецелованная голова, это неболевшее сердце, эти неплакавшие глаза. О смерть, брось меня в навоз, пусть мимо проедет король, подними его ладонь, останови его слуг с черными соичьими челками на глазах, вооружи их мотыгами, пусть они разгребут навоз, подцепят мои колени, оглушат крыс у меня между ног; дай мне сгнить в пустынной стране, населенной грязными рабами; каждый день молодые владыки морей сходят на берег, прячутся в кустах, хватают семьи рабов, жгут их хижины, вытаптывают их поля; потом они возвращаются на лодки, будят гребцов, накачивают их тяжелым липким вином, смеются над тем, как они качаются на днище и нащупывают сиденья, чтобы сесть. Бог, который больше не бог, но оскалившийся камень, разбудит меня и соберет мои сгнившие члены. Выйдя от Мадам, я стал рабом, я нашел рабов Веронику и Ксантрая в нижнем городе в вечер прихода судов, груженных пауками, крабами и барабульками; Вероника принадлежит Кооперативу, она поднимает ящики с рыбой, ее лицо и руки в крови, моряки гладят ее плащ и мокрые шорты под ним, сухая полоска только между ног; она падает на ящики; в складе, освещенном снаружи, моряк завалил ее на огромную рыбу, его рука, клейкая от желчи — он только что вышел из трюма, где оглушал рыб и отрубал им головы — его грубая рука залезает под ее шорты, треплет влагалище, заливая его желчью; ребенок швыряет портфель в стекло; Вероника из-под плеча моряка смотрит на сети и паруса, дрожащие в лунном свете; сто раз она прочитала цифры, нарисованные на носу судна; моряк проникает в нее, бьет ее по лицу, между глаз, тяжелым кулаком; глаза Вероники наливаются кровью; моряк, возбужденный запахом крови, давит груди Вероники; рыболовный крючок, прицепившийся к куртке моряка, прокалывает плащ Вероники и впивается в ее грудь, она кричит, моряк поднимается, его обмякший член волочится по плавнику рыбы; он встает и втаптывает Веронику сапогами под груду рыб; там и лежит она, израненная, до зари; Ксантрай, в набедренной повязке, ходит от кабака к кабаку, ползает под стойками и столами, обшаривает урны, собирает окурки; мужчины, сидящие за столами, толкают его, он падает, разбивая губу о плевательницу; в казино он ползает под ногами игроков; женщины с огромными мундштуками в руках задирают ему подбородок; лакеи стегают его грязными полотенцами, воруют из карманов его джинсов окурки; вечером он, дрожа, стоит перед социальным инспектором, ожидая плетки; он поднимает руки, инспектор обшаривает его карманы, вынимает окурки и высыпает их в шкатулку с надписью «Для престарелых граждан». Инспектор шлепает его по заду: «Живо, на псарню!»
Ксантрай пятится к двери, выходит в сад, ползет на четвереньках к псарне, перелезает через ограду; разбуженные, сбившиеся в кучу собаки рычат, он ощущает на плечах их горячее дыхание; он пробирается в конуру собачьего сторожа, тот, пьяный, лежит на пороге, Ксантрай спотыкается об его тело, гасит свечу и ложится на тюфяк; посреди ночи сторож будит его: «Завтра они посылают меня на военную подготовку, они хотят призвать нас в армию, десять государственных рабов на одного свободного. Я уезжаю сегодня утром. Они поставят нас во вторую линию. Ни отступить, ни сбежать. Не спи, смотри на меня, говори со мной. Моя жена и дети прячутся в городе. Вчера дети социального комиссара заставили меня пить, я блевал на ирисы, они стояли перед входом в конуру, не пускали меня. Я видел, как один из моих детей проходил по переулку, он катил бочонок с навозом, его впалые голые плечи почернели от оглобель…
Собаки воют, в утреннем сумраке бряцают ружья. Я, Тивэ, третий сын ветра, работаю на гражданской почте, я сортирую письма, мои ноги прикованы к столу; с самого утра я стою в углу центрального зала; свободные люди отправляют телеграммы; серебряное кольцо в моей губе кровоточит, ноги трясутся, кровь блестит; в полдень молодая служащая, свободная, приносит котелок, в котором смешаны куски хлеба, недоваренное мясо, зерна овса и печенье; она ставит котелок на кафель, я опускаюсь на корточки и ем; она стоит и смотрит, потом присаживается на угол стола:
— Кем ты был, когда был свободным? Я молчу.
— Я свободна уже год.
Я поднимаю глаза и вижу на ее губе отметину от кольца.
— Уже год, посмотри.
Она задирает платье, трогает пальцем колено, исполосованное рубцами.
— Моя хозяйка заставляла меня ползать на коленях по битому стеклу. Она отдавала меня своим любовникам, чтобы они продолжали ходить к ней.
Она расстегивает ворот платья: на ее плечах, на горле, на грудях видны следы зубов.
— Этим утром они отобрали в семьях рабов тысячу младенцев для собак, которых вечером отправляют на задание; псарня и все вокруг нее залиты кровью, повсюду лоскуты мяса, кровью окрашена земля, кровью пропитан воздух. У рабов будут отнимать продукты, чтобы кормить солдат и собак; рабы будут есть только траву и грибы из леса. У тебя ссадина на затылке, хочешь, я тебя перевяжу?
— Не надо, они все равно сдерут повязку. Это комиссар: сегодня утром, когда он брился, я опоздал принести тазик с теплой водой.
— Когда ты станешь свободным, твои раны затянутся, и ты забудешь о побоях. У меня есть маленькая комната с другой стороны порта. Мой брат еще раб, я выплачиваю деньги за его освобождение. Уже четыре года я не вижу его чистого лица: он работает в угольной шахте, его тело всегда черно, глаза изъедены угольной пылью: когда его бьют, из них сочится черная кровь. Ешь, не смотри на меня, не улыбайся мне.
Я ем, смотрю на то, что ем, я не имею права смотреть на жизнь, на свободных зверей; если я встречусь глазами с глазами свободного человека, я буду избит до крови, а этот свободный человек может убить меня одним ударом ноги; каждую ночь мои плечи пухнут; я сплю в почтовом фургоне; телеграфисты рвут письма, а доносят на меня, они вынимают из карманов фотографии голых женщин и трут ими по моим губам, я молчу, не двигаюсь, они опрокидывают меня на мешки с письмами, трут фотографии о мои джинсы в паху, они щиплют кольцо в моей губе, дергают за него, на их ладони брызжет кровь, они бьют меня, катают мою голову по залитым кровью письмам, потом они убегают, хватают девушек в переулках, затаскивают их в подвалы; они перерезают горло беглому рабу, его одинокий крик нарушает кровавые сны загнанных в склад и спящих стоя рабов, заспанный игрок открывает окно казино и зевает, наклонив дрожащую голову. Все свободные женщины ласкают меня, выходя из телефонных кабин, их руки скользят по моим бедрам, их глаза опускаются на мой живот, поднимаются к груди, они суют в мой карман деньги, адреса, непристойные записки. Чтобы увидеть, как меня, голого, хлещут кнутом, как я истекаю потом и кровью, они доносят на меня. Священники проповедуют рабам, перевязывают их раны, чтобы усыпить бунт…
Дежурный офицер открывает дверь в погреб.
Тивэ поворачивается спиной к стене, не прикрыв бедер; офицер опускает глаза:
— Генерал придет поговорить с вами ближе к полу дню. Оденьтесь и умойтесь.
Тивэ опускает голову на плечо, опускает глаза; офицер оглядывает пол, кровать, грязные ступни Тивэ. Тивэ, прикрыв глаза, смотрит на разглядывающего его молодого офицера, он улыбается его удивлению, его смятению; губы молодого человека красны, полны, никакого следа от кольца; офицер тихонько выходит, часовой закрывает решетку, потом дверь, на его губах — следы кофейной пенки:
— Море сегодня спокойно, ожидают прибытие пятнадцатого артдивизиона. Одни новобранцы.
Тивэ открывает глаза, тянется к солнцу.
Солдаты идут на построение. Плещут знамена, подошвы трутся о землю; потом, внезапно, крики, споры, удары кулаков о бедра и груди; взвод Тивэ возвращается в казарму. Солдаты ложатся на тюфяки, достают комиксы, командир ходит между кроватей, бьет по бедрам, тянет за руки:
— Вставайте, убийцы, вы нужны генералу.
— Пусть освободит Тивэ, и мы будем его слушаться.
Солдаты крутятся на кроватях; на полу валяются смятые, грязные обрывки комиксов: заспанные солдаты приносят их на подошвах из уборной после сиесты; командир гладит висящие на кроватях каски, покачивает прозрачные мешочки, куда солдаты складывают отрезанные уши и пальцы убитых повстанцев; насосавшиеся крови клопы падают с верхних тюфяков и из блестящих волос; солдаты читают, засунув ладони между ног и мечтательно теребя члены, руки, держащие комиксы, подняты вверх.
Генерал сказал: если они сейчас же выйдут, отведи их вечером на пляж.
— Сволочь, сволочь, потаскун.
Виннету встает с кровати, командир хватает его за ремень:
— Ты, скажи им: «Генерал нуждается в вас, он позволил вам вечером искупаться».
Виннету высвобождается, он копается в своем мешке под матрасом, вынимает из него череп, еще свежий: в полостях, между челюстями, видны полоски высохшего мяса.
Виннету снова ложится на тюфяк, кладет череп себе на живот, поворачивает его, играет челюстями; полуприкрыв ресницы, он поднимает череп над головой, смотрит на него, двигает челюстью; командир уходит, хлопнув дверью; генерал работает в своем кабинете, подписывает смертные приговоры, отпуска, рапорты интендантов, боевые донесения, он говорит по телефону с главным штабом метрополии, он слышит треск телефонной станции Экбатана, крики, ругань телефонистов, шум с кухни и журчание воды в туалете.
— Господин генерал, десантники отказываются повиноваться.
— Ну что же, оставьте их в покое, нам сейчас без них не обойтись, не стоит им перечить. Купание отменить.
— Господин генерал, я предупредил пленника.
— Останьтесь на минутку, лейтенант; это ваше первое дежурство? Вам наговорили обо мне ужасных вещей. Солдаты, этой ночью, на вышке… Все это правда, моя ладонь еще хранит следы объятий этой ночи, мои губы смяты принятыми и отданными поцелуями. Я не впадаю в искушение и — следуя вашим мыслям — в мерзость греха, удовлетворяя мои желания, мое тело и дух полны самоотверженности и меланхолии. На этом опустошенном острове повстанцы и силы поддержания порядка открыли тройственный лик божества: повстанцы устали от своей революции, мы — от наших репрессий; наша машинальная борьба порождает неизлечимую опустошенность всех моральных принципов; каждый впадает в самый сильный из всех свойственных ему грехов; стремление к его удовлетворению рождает в нем новые силы — силы разума, но не силы морали; лишь грешный человек приятен Богу. Подойдите ближе, ваша мать еще жива? Здесь почти все солдаты — сироты; естественное право не работает, и вы не сможете обвинить меня в жестокости. Забудьте привязанности вашего сердца, любите кровь, трепет мышц, думайте о камне, о рыболовном крючке…
Лейтенант пятится к двери, отдает честь, выходит. Часовой, перед тем, как закрыть дверь, делает знак рукой, генерал улыбается ему; лейтенант спускается по лестнице; часовой входит в кабинет, генерал хватает его за ремень, гладит его по животу, солдат кладет карабин на стол, подходит к генералу, тот обнимает его за талию, усаживает к себе на колени, целует в рот, солдат ласкает шею генерала:
— Все, что низко — прекрасно, безобразно все высокое. Солдат трогает ладонью губы генерала:
— Ты моя мать, мой отец, ты мой брат.
Ладонь генерала ласкает тело солдата через прорехи в штанах на бедре и колене.
— Не вы ли запретили нам зашивать нашу форму?
— Да, таким образом я держу вас в руках. Ты поедешь в воскресенье со мной, полковником, его женой и детьми на пляж в Лутракион.
— Его жена — блядь, она гниет на глазах. Старики забавлялись с ней в дождливые вечера.
— Уходи, сними свои руки с моей шеи, слезай с моих колен, уходи.
Солдат слезает с колен генерала:
— Но, господин генерал, я на посту.
— Уходи, уходи.
— Ухожу, ухожу.
Солдат, забирая со стола карабин, немного расставил ноги: в расстегнутой ширинке генерал видит черные трусы, его горло сжимается, он хватает солдата за ремень, запускает ладонь в ширинку, ласкает теплую, натянутую, наполненную членом ткань трусов; солдат, подняв руки, раздвигает ляжки, выпячивает живот и, склонив голову набок, стонет, зевает, пускает слюни.
Тивэ натягивает рваные, испачканные жиром штаны, садится на тюфяк, вытаскивает конский волос из дыр.
В полдень генерал открывает решетку, Виннету прислонился к стене, винтовка на плече. Тивэ встает, генерал упирает кулаки в бедра.
— Вы не моетесь? Вы не едите?
Генерал приближается. Тивэ отступает к стене:
— Твое кольцо кровоточит. Ты сам открыл себе кровь. Ты красив, я трогаю твою кровь, она обжигает мне пальцы, она наполняет твой член, она жжет мои губы, мой язык. Вы все, расчлененные, лежите передо мной, я выбираю голову, самые красивые руки, две ноги, самый большой член, самый мощный торс, собираю их вместе и склеиваю кровью. Дай мне твой член, пусть твои ноги скользят по моим бедрам.
Я не называю моего тела, я не знаю его, пусть взбираются на него твои руки. Виннету, выпусти мою кровь. Ты, ты. Я раздираю твою грудь, я вырываю зубами твои легкие, я опустошаю тебя, я высасываю тебя, как сырую перепелку, я надеваю на себя твою кожу. Пусть любят тебя, лаская меня.
Генерал склоняет голову на грудь Тивэ, он раздирает его рубаху, он кусает его горло, темное от грязи и масла, кусает губы, кровоточащие десны. Тивэ, прижатый к стене, отталкивает ладонь генерала, мнущую его живот.
Виннету давит на ступеньке лестницы пустую консервную банку. Генерал держит в ладонях голову Тивэ, поворачивает ее в сторону, кусает натянувшуюся на виске кожу с пульсирующей жилкой; ладонь генерала давит ухо, его ногти скребут кожу на голове:
— Тивэ, ты, такой сильный, такой решительный в служении своим страстям, позволяешь себе умереть. Выйди, будь с нами, мы — твои партнеры с ледяными щеками, идущие по безголосой земле, под безрукими деревьями, смешай твой пар с тем, что исходит от наших жестких губ, заройся с нами в дикую кожу диванов, изрыгай блевотину в огонь, ласкай наших собак, наших мальчиков и девочек с животами, затянутыми в кожу, вдыхай аромат нашего пота и спермы, вонь между наших раскинутых ляжек, запах трав и мыла на плечах наших девушек, разорви легкую ткань, укрывающую их, сожми в зубах свежее белье на их влагалищах; грызи его разорванные кружева, вычисти ими кусочки мяса, застрявшие между зубов; лижи ноги и колени служанок, целуй суставы их бедер, когда они нагнутся, чтобы служить тебе. Я посажу мальчиков к тебе на колени, пусть они дрожат в твоих руках, тебе не захочется живой добычи…
Генерал выходит, Виннету закрывает решетку, Тивэ ложится на кровать, раскинув ноги по обе стороны тюфяка; на его груди — слюна генерала, кровь высосанная им из его десен, мокрые лохмотья рубахи. В три часа генерал возвращается, он распинает Тивэ, прижав его руки к стене, Тивэ бледен, он задыхается, его сердце бьется в тени палача; его щеки, по которым никогда не текли слезы, горят. Тивэ, вырвавшись из рук генерала, падает в обморок; вечерняя прохлада приводит его в чувство; его голова покоится на выступающем из стены камне, его штаны расстегнуты, член засыпан землей, губы склеены спермой; он встает, падает на кровать.
…У меня не было имени. Меня называли Зуб; Ксантрай — Лоб, Вероника — Губа. Еще Рука, Живот, Плечо, Затылок, Ресница, Щека, Ляжка, Колено, Пуп, Нога. По той части тела, которой касался покупатель в знак обладания. Дети социального комиссара взяли меня с собой в заграничную поездку. Я готовлю для них комнаты в отелях, они едят паштет, сидя на белом горячем песке, они швыряют мне корки; без постели, без крова, без теплых вещей, я сплю ночью в уборных, сидя на ступеньках, журчание воды освежает мне спину; я не могу спать в машине, она закрыта; на пляже они кидают мне куски пробок, подгоняют меня криками и свистом, я бегу на четвереньках, беру пробку зубами и приношу к их ногам; они поят меня прокисшим вином, в душе, на возвышении перед морем, я намыливаю и тру их дикие тела, от которых во всякий час исходит для меня смертельная угроза; перед тем, как они присядут, я убиваю пауков в уборных; я рву для них бумагу и подаю им; сидя в багажнике, я ударяюсь головой о выступающую канистру с маслом, меня трясет на дорожных камнях и выбоинах, я не слушаю их смех — мои уши слышат, но ни мой разум, ни мое сердце, ни мое горло не отзываются. В городе Тивэ — правда, один из братьев кричал: «Фивы, Фивы, Фивы…» — они меня выпускают, я иду к фонтану; пшеница горит на солнце, я погружаю ступни в ледяную воду; мальчик поворачивает велосипед на дороге, его слишком короткие ноги не достают до педалей, поршни его ляжек хрустят у ржавой рамы, как закрылки насекомых. Я поливаю водой колени, она смачивает джинсы, подвернутые на лодыжках.
…Проходят три молодые женщины в черном, три вдовы, на их губах — следы колец; ветерок поднимает их вуали; они окружают фонтан, я набираю в ладони воду и погружаю в нее лицо; капли блестят на моих коротко стриженых волосах; газонокосилка срезает траву, воздух над мотором дрожит: «Tis efus brotaun?» Я молчу, смотрю на НИХ: «Ei gennaios, aus idonti, plain tou diamonos». Теплый шелестящий голос льется в мое горло, обволакивает мое сердце. Я прикладываю ладонь к кольцу на моей губе; они опускают глаза; их ресницы бьются о спущенные на глаза вуали, как крылья ночных бабочек.
Самая высокая из трех протягивает руку, гладит меня по мокрой блестящей голове; молодые хозяева спят в машине, уткнувшись головами в стекло; платье девушки задралось на бедра, ее рот приоткрыт, ее светлые волосы прилипли к губам. Ладонь женщины касается моего уха: «ESKLAVOS?» Ее рот опускается, отбрасывая тень на мое лицо, ее рот приближается, он открывается и закрывается на моем кольце, ее руки давят на мои плечи: «Кай». На краю фонтана бьется в грязи сбитая колесом велосипеда птица; одна из женщин приседает, берет птицу в ладони, моет ее оперенье в фонтане; когда она поднимается, черная ткань на ее плече задевает мой локоть, обжигает его; река, перебирая камушки, течет по пшеничным полям, она пересекает, пронзает поля и залитые солнцем холмы, ее вода течет по огненному руслу; эта земля сверкает высоко в небесах; женщины уходят, в мою ногу летит камень, один из мальчиков, вытянув ногу из машины, положил руку на руль, другая рука — в кармане; я бегу, втискиваюсь в багажник, девушка просыпается, я ощущаю запах реки, я слышу ее голос, слышу, как она веселится, приближаясь к лиману:
— Мне не нравится запах воды из багажника, меня от него знобит.
Мальчик поворачивается, бьет меня кулаком по голове:
— Эй ты, сохни поскорее!
Вечером девушка усаживает меня, голого, верхом на стул перед собой, мои живот и грудь упираются в спинку; они едят, сидя на песке; песок холодит мои ступни; они достают пневматические пистолеты, целятся в меня, свинцовые пульки царапают мои бедра, пробивают уши, мой член встает, упирается в спинку стула, девушка видит его, опускает глаза; неподалеку рыбаки вытягивают свои сети, прибой накрывает мои ступни и ножки стула; в пене играют зеленые, красные, синие блики; мальчики встают, бегут к рыбакам, стреляют в них из пистолетов, пульки звенят по кольцам в губах рыбаков; девушка встает, подходит ко мне, смотрит на мой член, упирающийся в спинку стула, она гладит меня по голове, по простреленным, окровавленным ушам:
— Мои братья хотят, чтобы я занялась с тобой любовью, но я не хочу, я тебя боюсь, у тебя под кожей — броня. Любовь, ты, кожа, боюсь…
Мальчики воруют рыбу из лодок, они бросают ее мне под ноги. Перед отъездом я собираю рыб, они скользят по моему животу; мои уши, руки, пупок прострелены, разорваны; девушка кидает мне джинсы, я надеваю их, опираясь одной ногой на бампер; машина трогается, я в расстегнутых джинсах падаю навзничь на дорогу, извиваюсь, кричу, машина волочит меня по асфальту; она останавливается, моя голова и спина залиты кровью; мальчики вылезают из машины, поднимают меня, несут к морю, погружают в потемневшую воду; мое тело горит, я закусываю губу, чтобы не кричать, мальчики относят меня к машине, бросают меня в багажник на тряпки и брезент; с наступлением ночи я кричу, моя голова, приклеившаяся кровью к тряпкам, бьется о кожу и железные стойки заднего сиденья. Девушка и мальчики поворачиваются, открывают капот; я слышу звон колокольчиков, блеяние стад и крики невидимых в ночи пастухов; граница вздымает башни и зажигает огни; мальчики выходят, я остаюсь в машине с девушкой, она гладит меня по лицу; мальчики достают свои паспорта и таможенную декларацию, куда я, раб, вписан, как груз; они сидят на скамейке в таможне, их загорелые колени, покрытые потом и зеленой пылью, отливают медью в свете неоновых ламп. Из их карманов сыплются монетки, звеня по кафелю; ладонь девушки касается моих ресниц, я сжимаю эту ладонь, она дрожит в моих пальцах, кровь отливает от нее, голова девушки скатывается на подголовок сиденья:
— Не трогай меня, ты мне делаешь больно. Ты выпьешь всю мою кровь. Не трогай меня. Ты обжигаешь меня. Оставь меня…
Она кричит, дуновение полевой мяты, исходящее из кювета, где поют пастухи, пролетает над открытой машиной. Девушка падает в обморок на сиденье. Таможенники с пистолетами, бьющими по бедрам, расхаживают между машинами; мальчики возвращаются:
— Должно быть, замерзла… да еще этот запах крови, эти крики…
…Мальчик прижимает голову девушки к своей груди, гладит ее, целует омытые холодным потом волосы; машина трогается в колючей пшеничной пыли; на берегу реки она останавливается, мальчик открывает багажник, вытаскивает меня наружу, бросает на дорогу; я кричу, плачу; свежий ветер, брызги, запах гниющей пшеницы заглушают, смягчают мой крик; утром я встаю, мое тело покрыто росой и птичьим пометом, на груди и ногах — следы от червей и слизней, я иду, падаю, ползу к реке, вдоль берега ходят цапли; весь день я сплю в тине, вечером, изголодавшись, я подстерегаю цапель, выбираю самую слабую, хватаю ее за ногу, ломаю ее поворотом ладони, вжимаю птицу в ил, душу ее, она царапает когтями и клювом мою голову, я вырываю перья из ее груди и шеи, пух слепит мне глаза, я прижимаюсь ртом к ее груди, кусаю ее зубами, разрываю ее; кровь и перья поглощает волнующийся ил; мой рот, нос, все мое лицо погружается в разорванную плоть; внутри, в кровавой тьме, бьется сердце, я вижу его биение залитыми кровью глазами, я хватаю сердце, оно бьется между моих зубов, я перекусываю его, кровь брызжет на мой язык, плоть скрипит на моих зубах, голова птицы падает в ил, ее клюв раскрывается, глаза затуманиваются; я засыпаю, уткнувшись головой в теплое кровавое месиво. Утром я вырываю кольцо из губы, вместе с вросшим в него кусочком плоти я бросаю его в реку, слетевшая цапля глотает кольцо; я умываюсь в реке, рана в моей губе горит огнем; лежа в канаве, согретый испарениями пшеницы, я глотаю свою кровь…
Генерал приходит в третий раз, он поднимает Тивэ, укладывает его на кровать, ласкает его.
«…Я освобождаю Веронику и Ксантрая, они вырывают свои кольца. Я живу в маленькой комнате на другой стороне порта, я вхожу в здание гражданской почты, я обнимаю за талию Беатрису, она целует мою изуродованную губу; каждый вечер она вымачивает ее в маленькой ванночке, наполненной ароматным травяным настоем, она собирает для меня нежные раковины, я сплю на крахмале и воске, она приходит, накрывает мой член, обматывает его мокрой тканью, она гладит мои яйца, я съедаю тарелку дымящихся ракушек. Беатриса поддерживает меня за плечи; когда мы обнимаемся, наши раны соприкасаются, слезы текут из наших глаз, ночью она лежит рядом со мной, она усыпляет меня лаской свежих ладоней, она расстегивает мою пижаму, ее пальцы сматывают ткань с моего члена, ее млечные груди дрожат в тени простыней, я касаюсь их, я прижимаюсь к ним пахнущими травой губами, мой нос скользит по ложбинке между грудей, я высовываю язык изо рта, лижу тончайший пушок, укладываю его, моя слюна пенится на соске, мои зубы слегка прикусывают его, мои губы сосут его края; моя слюна стекает струйкой по груди, ладонь Беатрис поднимается к моим губам, я целую ее; я перекатываюсь на тебя всем телом, мокрая ткань покрывает мой член и отделяет его от твоего влагалища, ты что — то напеваешь, лежа подо мной, я тру ладонями твои холодные пятки; уже полночи минуло, но я не познал тебя, ты не открываешь глаза; портовые огни скользят по моей спине, по твоим грудям, когда я склоняюсь к твоим коленям; отбросив простыню, я открываю твое влагалище, я прижимаюсь к нему губами, я дую на него дыханием сына ветра, ты стонешь, ты раздвигаешь ноги, я погружаю между них мои волосы, подрастающие волосы свободного человека, ты сжимаешь мои щеки, на моих глазах я ощущаю острую свежесть сока, омывающего губки твоего влагалища; я смеюсь, когда мои ноздри раздувают вьющуюся прядь волос, Беатриса, Беатриса, Беатриса, вырви крик из моего горла, сожми мое сердце, люби меня, чтобы я закричал, наконец, и чтобы другие услышали мой крик, а не только я сам, и пустынное море, и камни.
Сожми меня, пусть брызнет кровь из моих ран, из моих желаний, из трещин моей жизни, из моих глаз, из моих видений, пусть отвердеют мои ноги, мои руки, мои губы; среди живущей природы лишь один я мечтаю; коснись моих вен своими руками, своими губами, чтобы они стали любимы, знакомы, желанны. Желай меня, желай меня, съешь меня! Пусть родится в тебе голод к моей плоти, жажда моей крови, возьми мое тело, перережь ему горло, разорви его и, пожирая его, сожалей и желай, и съешь себя, чтобы съесть меня заново. Твоя голова раскалывается под моими зубами, как нераскрывшаяся чашечка цветка. Нежные травы, свяжите мой член, сдержите яростную сперму, которая сожгла бы тебя целиком. Спи, моя сперма не выплеснется тебе на живот, спи, улыбайся, спи под покровом моих бедер; мои глаза грезят на твоих дрожащих грудях. Спи, обнаженная, без страха в моей тени, под моими глазами и пальцами, прежде свирепыми и развратными, спи в моем новом запахе, в трепете моего отчаяния, спи подо мной, твое небо покрыто облаками и звездами из крови и слюны. В своем сне слушай богов спермы, зовущих твой спящий потаенный сок…»
Ночью пьяные десантники, подстрекаемые своими праздными командирами, пытаясь снискать их любовь, ринулись к погребу, в котором спал терзаемый кошмарами Тивэ. Их сапоги замелькали перед отдушиной, в лунном свете взметнулась пыль, Тивэ внезапно проснулся; голый, он лежит на животе; камушек ударяет его по ноге, он оборачивается, он видит сапоги, топчущие землю; десантники спускаются по лесенке: «Он заперт на ключ. Дождемся обхода. Войдем вместе с ними».
Тивэ встает, затаив дыхание, прячется в самом темном углу погреба, его живот трепещет в лунном свете, десантники топчутся у двери, идет обход, лампа светит в отдушину; сержант освещает десантников, прислонившихся к стене: — Мы хотим видеть Тивэ, открой нам дверь. Сержант открывает дверь и решетку, они врываются в погреб, Тивэ бежит вдоль стены, протискивается за стеллажи, десантники переворачивают походную кровать, взметенная пыль оседает на их плечи; один из десантников — голый по пояс, на волосатой груди раскачивается медальон — просовывает руку за стеллажи, хватает Тивэ за ногу, тянет, Тивэ залезает на стеллаж, бьет десантника ногой в лицо, тот хватает его ногу, кусает, Тивэ, закусив губы, сдерживает крик, другие десантники, схватившись за стеллажи, раскачивают их; сержант, поваленный на сломанную кровать, пытается подняться, шевеля разбитыми в кровь губами, в его рту клокочет кровь; стеллажи рушатся, Тивэ, голый, стоит в облаке пыли, обритая голова, в паху — темная прядь волос.
Десантники достают ножи; Виридо вынимает из-под ремня вилку — солдаты всегда носят с собой вилки и ложки — Тивэ откидывает голову к стене, он прячет ладони между ног, все его тело трепещет в пыли, в мокрых руках звенят ножи; Виридо выходит вперед, берет Тивэ за шею, плюет ему в лицо, давит ему на плечи, Тивэ слабеет, падает на колени, закрывает руками грудь, Виридо хватает его за уши, опрокидывает голову назад, подносит вилку, проводит ею по натянувшейся коже шеи. Тивэ:
— Виридо, не убивай меня. Не убивай меня. Ты пьян.
— Я — Тивэ.
Виридо вонзает вилку под артерию; кровь брызжет ему на руки, Тивэ задыхается:
— Виридо, Виридо…
С каждым словом кровь брызжет и наполняет его рот; Виридо слизывает кровь с ладони, вынимает вилку из шеи, вонзает ее в грудь; Тивэ, стоя на коленях, ловит его руку, Виридо вырывается, вынимает вилку, отходит в сторону, оборачивается к десантникам:
— Добейте гада.
Десантники бросаются на Тивэ, впиваются в него ртами, испачканными блевотиной, протыкают ножами все его тело, разрезают пупок и ладони; Тивэ падает у стены, его голова бьется о рухнувшие стеллажи с каждым ударом зубов или ножей, ножи десантников ударяются в землю, в стену, скалывают синюю краску со стеллажей; глаза Тивэ заволокло кровью, он уже не сопротивляется; нож, зажатый в нежной руке молочного цвета, забрызганной красным, раздирает его щеку.
Его глаза, проколотые ножами, вытекают; лезвие разрывает радужную оболочку и нервы; сержант, приподнявшись на локте, кричит, подняв лампу на вытянутой руке; один из десантников оборачивается, ударом ножа перерезает запястье, лампа разбивается об обломки кровати; десантник возвращается к трупу Тивэ; кровь застилает им глаза, они продолжают наносить удары вслепую, отрезают от тела куски, вырывают жилы; во вспоротый живот Тивэ попадают комья земли; мертвая ладонь Тивэ вцепилась в руку Дафни; сержант прижимает отрезанную ладонь к груди, искалеченная рука горит, часовые бегут к погребу; десантники, погрузив головы в живот Тивэ, вырывают зубами внутренности, оборачивая их вокруг шеи, накручивая на запястья; ножи, погруженные в плоть, сверкают, когда солдаты двигают руками в кровавом месиве; только шрам на верхней губе Тивэ остался нетронутым; разорванные ноздри, отрезанные ресницы, выпотрошенный живот, разрезанный до мочевого пузыря, вздёрнутый член, разрезанные яйца, расцарапанные ляжки, колени, разбитые ударами ног, выбитые фаланги пальцев, исполосованные руки…
Часовые приближаются, десантники, рыча, сидят на корточках; часовые окружают их, угрожая автоматами, двое часовых поднимают сержанта, у него сломан позвоночник и искалечена рука; десантники сгрудились над останками Тивэ, руки над головой, они блюют, их спины ходят ходуном, поднятая пыль, опадая, окрашивается кровью. Снаружи белые петухи выходят за ограду, бегут к реке, чтобы в ожидании зари драться с цаплями в грязи, истоптанной бегущими зверями и влюбленными парами. Утром Ксантрай будит генерала, сжимает его горло. Генерал боится, зовет часового; Ксантрай бьет его по щеке; часовой оглушает Ксантрая прикладом; его запирают в окровавленном погребе.
Губернатор больше не выходит из кабинета, город пропитан запахом крови, надо долго идти и высоко подниматься, чтобы выйти из кровавого облака. Жены высших офицеров устраивают ночные маскарады. Медведи, грифы, кобры танцуют с женщинами, пьют из бокалов, поданных котами в джинсах.
Дети бегают в пижамах, трутся о меха и перья, поднимают хвосты, наматывают их на шеи; двери и окна открыты в сады, заметенные красной пылью; пары убегают, прыгают в пыль, погружаются в нее, как в воду; изгороди, кусты, деревья, под которыми протянуты провода высокого напряжения, заглушают крики и рвоту солдат, играющих в карты или дерущихся между бараками. Пары обнимаются, раздеваются.
Дети, оставшиеся дома, подбирают обрывки костюмов родителей, одеваются в них и ложатся, обнявшись, на кровати.
Подростки собираются за городом, в заброшенном Королевском дворце Энаменаса; машины, мотоциклы, велосипеды катят по приморскому бульвару; попрошаек и голодных детей, сидящих на обочине, завораживает свет фар, бамперы сбивают их, колеса давят. В королевском дворце, построенном в глубине пустынной долины Игидер, выходящей к морю, восемьсот пятьдесят комнат, пятьдесят пять внутренних лестниц, тридцать наружных, семьдесят лифтов, тринадцать холлов, крытый бассейн с подогревом длиной сто метров, отделанный мрамором и выложенный синей плиткой, гимнастический зал, театр.
Подростки, некоторые из них привели с собой воспитательниц своих младших братьев и сестер, поднимаются по центральной лестнице, толкают зеленую бронзовую дверь, расходятся по просторному холлу; старуха, консьержка этих полуразвалин, склонившись с выступа парадной лестницы, кричит:
— Мерзкие. Мерзкие. Я принимала здесь принцев, королей…
Она плюет сверху на светлые волосы.
Один из мальчиков затыкает ей рот рукой, другой громит ее жалкую каморку на первой площадке лестницы; опрокинувшаяся керосиновая лампа поджигает ковры, тряпки, ложе старухи:
— Я принимала здесь дьявола с его генеральным штабом, я видела в его карманах списки расстрелянных и планы газовых печей…
Мальчики уходят, взбегают по лестнице, расходятся по коридорам, снимают с блоков лифты, отпускают их, лифты рушатся в шахты, холл дрожит от ударов; старуха кричит, один из мальчиков цепляет шестом люстру, подтягивает ее к себе, отпускает, и люстра валится на старуху, хрустальные шарики осыпают ее плечи, она падает навзничь на обгоревшие тряпки.
Девушки, дрожа, сдерживая дыхание, прячутся за дверями; мальчики на цыпочках входят в коридор; заметив девушку, они набрасываются на нее, дерутся за право ее раздеть; воспитательницы поднялись на последний этаж, легли, не раздевшись, на диваны в разрушенных комнатах, там они ждут в холоде, иногда до зари, когда мальчики найдут их и разденут; пары соединяются в отделанных мрамором ванных комнатах, стены которых исписаны непристойностями и призывами к убийству; мальчик втягивает в комнату зеленую ветку дерева, голый, садится на нее верхом и бешено скачет на ней, потом снова набрасывается на девушку, заставляет ее слизывать сок со своих ляжек и разгрызать черных муравьев, ползающих по его члену. Воды в кранах нет, после оргазма пары встают и выходят в коридоры, по их ляжкам стекает сперма и смазка; из комнаты выходит мальчик, хватает готовую к случке девушку, затаскивает ее в комнату, сгоняет с кровати свою девушку, та выбегает в коридор, там мальчик с мокрым от спермы членом хватает ее и заваливает на пыльный, покрытый высохшими мертвыми насекомыми пол; группа мальчиков и девушек спускается в бассейн, они укладываются на кафель, катаются друг по другу, ползают, изображают пловцов; приходящие следом ныряют в кучу обнаженных тел; опустошенные, замерзшие медленно сходят на дрожащих ногах на дно бассейна, идут по телам, ложатся между них, трутся о них, пускают слюни и стонут, как дети, ощутившие в тепле постели первое желание; на стенах бассейна заря цвета яичного желтка проявляет непристойные рисунки и надписи: замшелые стволы пушек, раскрытые миндальные орехи; пес, совокупляющийся с женщиной, осел; оседлавший женщину — она тянет его за уши, а его член проникает в нее; мужчина с мужчиной, женщина с женщиной; гениталии совокупляющихся мужчины и женщины, вид снизу; мужской член, поглощенный женским ртом; голова мужчины, вид сзади, между женских ляжек; женщина, натянувшая веревку между ног… Забытые воспитательницы спят на верхнем этаже.
Первые проснувшиеся мальчики выходят в парк; травы, склоненные под тяжестью росы, омывают их босые ноги; они собирают кислую ежевику, едят ее пригоршнями, потом возвращаются и ищут свою одежду.
Старуха просыпается, свешивает голову с лестницы, опершись подбородком на фигурный выступ; мальчики, одетые, поднимаются по лестнице с платьями девушек в руках; девушки в бассейне просыпаются, дрожат, стонут, трутся друг о дружку; мальчики кидают им платья; подгоняемые нарождающимся желанием мальчики поднимаются на этажи, перескакивают через провалы лестниц; спотыкаясь о лохмотья ковров, мальчики ищут воспитательниц: им предназначены самые жестокие объятия, бесцветная жгучая сперма и слюна с привкусом крови; кругом, на стенах и на полу, хлопают обрывки ковров, колеблемые свежим ветерком.
Проснувшиеся воспитательницы спускаются вниз, корсажи и лифы их платьев, смоченные потом и слюной, поднятые сдержанным желанием, трещат под беглыми ласками мальчиков; все возвращаются к машинам, мотоциклам, велосипедам, покрытым росой и птичьим пометом; гениталии мальчиков и девушек, прижатые к сиденьям, пылают; вдоль моря ветер срывает пену прибоя и швыряет ее на стекла машин, на щеки девушек и мальчиков. Все въезжают в спящий город; часовые ходят на вышках; машины, мотоциклы, велосипеды пронзают сны, срезают травы, клонящиеся на дорогу под тяжестью росы.
Подростки обнимаются перед домами, возвращаются к себе.
Открывается дверь, свет зари льется на ковры и плитку прихожей, мальчик или девушка раздеваются и ложатся в кровать; глаза слепит солнце цвета крови и яичного желтка.
Воспитательницы еще дремлют на стульях в кухнях; луч солнца ползет по плитке, поднимается по ноге; воспитательница просыпается, встает, подходит к умывальнику, задирает платье, берет тряпку, смачивает ее в воде, протирает ляжки и влагалище; она вздрагивает, вода стекает на колени; полотенце, на котором клубится солнечный луч, накрывает черную прядь волос; груди ворочаются под корсажем с натянувшимися петлицами.
Иногда солдаты, напившись в борделях, располагаются на приморском бульваре и подстерегают подростков; они останавливают их, бьют, валяют по земле, другие преследуют девушек, задирают им платья, затыкают рты, валят на землю, ложатся на них и тут же насилуют; мальчиков они пинают, оглушают, бьют в пах, отрезают своими кинжалами их длинные волосы, рвут их шелковые рубахи, топчут и режут их туфли с пряжками и длинными носами, режут, иногда доставая до тела, их обтягивающие ноги джинсы.
Рядом тормозят джипы военной полиции, удары дубинок, удары прикладов, солдаты окружены, брошены в джипы; избитые, окровавленные мальчики и девушки поднимаются, набиваются в машины, едут к Тальбо или Сен-Галлу, там воспитательницы до полуночи моют их, перевязывают, подравнивают волосы, зашивают их одежду; полуголые, с пятнами йода на груди, они садятся на постели или падают на них; Сен-Галл, в одних черных хлопковых трусах, дремлет, лежа на боку, прижав ноги к животу.
Фабиана ложится рядом с мальчиком, гладит его бедро, кромку трусов, ягодицы, складки под членом; Сен-Галл открывает глаза, поворачивается, перекатывается на Фабиану:
— Теперь, когда Одри уехал в Элё, ты ласкаешь меня.
Ладонь Фабианы опускается на бедро, ласкает ляжки, забирается в трусы, Сен-Галл отталкивает эту ладонь, наваливается на Фабиану, раздвигает коленом ляжки девушки, его ладонь накрывает лифчик, мнет его, сдвигает наверх, открывает грудь, ласкает ее, жмет, двигает; на его колено уже стекает смазка из влагалища девушки, прижатого к его ляжке; Сен-Галл расстегивает лифчик, кусает кружева; расстегнутый лифчик скользит по груди, щекочет живот мальчика; лицо Фабианы озаряется под его глазами, впитывает их бледный цвет:
— Я забыла Одри, я не хочу больше о нем говорить. Это было в те времена, когда еще существовали мораль и привязанность. Теперь я больше не живу, не плачу, не люблю, ты не заставишь меня ни смеяться, ни плакать, я окаменела.
Мальчик целует это лицо, эти лучи, это молоко, эти мурашки, его губы всасывают эту прозрачность, его рука стаскивает трусы, они скользят между его членом и влагалищем Фабианы, девушка тянет их вниз, мальчик коленом спускает их до ступней; мальчик сжимает в ладонях голову Фабианы, покачивает ее, волосы рассыпаются, покрывают подушку; в соседней комнате девочки говорят с воспитательницами; когда воспитательница зажимает зубами нитку, чтобы ее оборвать, наперсток звенит о кольцо в ее губе. Сен-Галл лижет волосы на висках Фабианы, они прилипают к его языку:
— Иногда я вспоминаю мою мать, она одна могла бы согреть меня, осветить мой день, но память о ней стирается. Мой брат Серж кричит на морском берегу; покрытые песком, они с Эмилианой живут в маленькой хижине на пляже, они не едят, не спят, день и ночь они обнимаются, чтобы не умереть. Дети и солдаты бегут от них; они ходят голые, волосы Фабианы торчат из песка, как водоросли; голые, они лежат, обнявшись среди лохмотьев джинсов, трусов, платья, бюстгальтера, рубашки. Отец по-прежнему живет во дворце, я кочую из одного дома в другой, куда приводят меня мальчики. Без любви, без ненависти, без сердца, без слез я блуждаю вокруг борделей и живу только телом; слишком много нежных рук ласкали меня; с тобой во мне проснулось сердце. Жить можно только в борделе, но я не могу в него войти. К несчастью, я не родилась шлюхой. Мы играли с Сержем в бордель: он был клиентом, я — блядью. Он, в ту пору такой невинный, хватал меня за талию, тянул мои волосы назад, втискивал, втирал свое колено между моих ног, он опрокидывал меня, раздевал, заставлял меня раздеть себя; он, такой невинный, знал все позиции любви, он изобретал новые на моем совершенно бесстрастном теле, он бодался, как козленок, он катался у меня между ног, его ноздри терлись о мои щеки, о мой живот; он лизал мое влагалище, прикусывал его зубами; я смеялась над его стонами, над его отрыжкой.
Потом Эмилиана рыдала у него на груди; он, умирая, обрел мать. Сегодня он, как и я, вырвал свое сердце, но не может его съесть.
Революция получает из-за границы оружие, припасы и деньги.
Бежа убил Иллитана; тот, бунтовщик, наделенный властью, принадлежал старому миру, в то время как он, Бежа, не был ни вождем, ни заместителем, ни подчиненным, был не вдохновленным, но избранным; он был направленным судьбой математическим продуктом истории, словом, а не ртом, первым человеком, которого не смог подчинить ни один бог, первым человеком, не молившимся никому, первым человеком без сердца, без разума, без жестокости, без матери, его тело пронзала жизнь, но не смогла в нем удержаться, тело без предела, без формы, без числа и символа; после неудачного бунта детей в борделе Бежа начал готовить тотальное наступление, которое спровоцировало бы сбор всех элитных оккупационных войск в одном месте. Корабли, груженные оружием, взрывчаткой, маленькими вертолетами, пересекают море. Повстанцы по радио направляют их к пустынным пляжам на севере острова. Лодки плывут в зарослях тростника, нос натыкается на гальку, кости, скелеты. Пост морских пехотинцев на утесе захвачен, многие солдаты вырезаны, те, кому удалось выбежать на пляж, забиты среди камней прикладами, затоптаны ногами; радист повстанцев садится за стол в радиоузле, а радист морских пехотинцев, успевший принять шифрограмму о перемещении войск, лежит на койке с перерезанным горлом. Лодки вытащены на берег; Бежа на первой разгруженной лодке плывет к флагманскому кораблю; он поднимается на палубу, начальник экспедиции ждет его, он приглашает Бежу в свою каюту, обнимает его за плечи, оглядывает с головы до ног:
— Твои фотографии напечатаны во всех газетах мира, я привез тебе все, что нужно, чтобы завершить революцию.
Девушки моей страны влюблены в твои глубокие и черные, словно нарисованные, глаза.
Приглушенные крики моряков и повстанцев, биение пенной волны в борт судна; Бежа смотрит в иллюминатор, капитан раскладывает газеты на столе, Бежа проводит рукой по корешкам книг, рыжеватым в золотистом свете. Дверь открывается, маленький мальчик входит в каюту, утыкается головой в ноги капитана; капитан гладит его по спине, поправляет на бедрах красные трусы — единственную его одежду, он разворачивает мальчика, берет его за руки, которые достают как раз до его ремня:
— Это мой сын, он мечтает увидеть тебя с самого начала вашей Революции, по ночам он говорит во сне: «Папа, герой, папа, герой; мама, Бежа, мама, Бежа…» Мальчик опускает глаза, Бежа приседает перед ним, гладит ребенка по щеке, по плечу; колено мальчика дрожит под локтем Бежи; мальчик поднимает глаза, его трепещущее личико согревает ледяной лоб Бежи:
— Мы отправим к вам наших детей, но не спрашивайте меня о рабстве, в котором их удерживают в городах и в горах.
Ребенок гладит гимнастерку Бежи на груди, трогает карман, погоны; от силы и одиночества, исходящих от большого тела, его рука дрожит. Бежа встает, гладит блестящие волосы ребенка; большая морская птица влетает в иллюминатор, биение ее крыльев приглаживает волосы на затылке мальчика; ноги Бежи подкашиваются; ослепленный, он садится на кожаный диван, мальчик уходит, возвращается со стаканом холодной воды, протягивает его Беже, тот под взглядом черных глаз ребенка залпом выпивает его.
Лодка доставляет Бежу на пляж; разгрузка закончена, снаряжение, в том числе несколько маленьких вертолетов, доставлено на вершину горы. На КП радист удивлен — повстанец на береговом посту отвечает на ночные послания, но радист КП не узнает почерк своего товарища, он предупреждает генерала, взлетает самолет, летит к посту, летчики смотрят в бинокли, освещают землю прожекторами, видят следы, оставшиеся на пляже и на дороге после разгрузки; пролетают над постом, видят разбитые прожекторы, радист в самолете вызывает пост; повстанцы разбежались; заря выглядывает из морской бездны; самолет шумит, дрожит в холодных лучах; летчики поднимают воротники курток; самолет возвращается в Энаменас, оттуда вылетает вертолет, он опускается за постом, на площадке, недавно расчищенной солдатами поста; летчики с оружием в руках выпрыгивают из вертолета; взвод десантников направляется к посту; солдаты входят; главный прожектор на вышке крутится на своей раме, скрежещет над их головами; солдаты обнаруживают тела раненых и убитых, распоротые горла трупов сочатся кровью; взвод десантников занимает пост, вертолет вывозит раненых, умирающих; на одном, застигнутом во сне, только черные трусы, испачканные кровью; его голова катается по кожаному сиденью, из его разодранного горла льется кровь; бедра расцарапаны ногтями повстанцев; его рот наполнен кровью; в уголках губ, под струйками крови, скрыта запекшаяся корка ночной слюны; летчики отводят глаза; мухи, забравшиеся в вертолет через открытые под винтом двери, жужжат вокруг тел, набиваются в уголки губ, их белые жирные задки в блеске зари волочатся по волоскам, по прозрачным векам; хрипит один раненый, потом другой, кровь клокочет во ртах; вертолет садится, генерал ждет на площадке; ребристая жесть ангаров блестит в лучах восходящего солнца.
Летчики вынимают раненых, бегут санитары с носилками, укладывают на них тела. Генерал подходит, смотрит на раны и увечья, ласкает глазами обнаженные и полуобнаженные тела, его руки в карманах дрожат, на трусах солдата с перерезанным горлом блестит кровь, генерал подносит ладонь, смачивает ее в крови, солнце, словно кулаком, бьет его в лицо; тело проносят под его ладонью, неловкое движение носилок качает член мертвеца под трусами; генерал с окровавленной ладонью идет за носилками в госпиталь.
Солдаты с КП, разбуженные посреди ночи, греются на солнце, сидя на земле, прислонившись к стенам бараков; они смотрят на генерала, закрывают глаза, улыбаются, как маленькие крокодилы на солнце; генерал входит в госпиталь вслед за носилками, санитары ставят носилки в пустой белой комнате.
Они выходят, генерал приближается к трупу, трогает окровавленной рукой живот, потом трусы, ощущает сквозь ткань обмякший член, накрывает ладонью пропитанную кровью ткань, втискивает руку между ляжек, вынимает ее окровавленной до запястья, снова гладит член; кончиками пальцев генерал приподнимает трусы, заглядывает под них: черная мешанина плоти, крови, волос, генерал отпускает трусы, его пальцы снова протискиваются между ляжек, давят на член, кровь брызжет, вытекает из трусов на ляжки и живот, до пупа, генерал наклоняется, слизывает эту кровь, его пальцы проникают между ягодиц, поднимают яйца; он трется животом и членом о края носилок; лучи солнца растекаются по кафелю, в раскрытых форточках поют маленькие пурпурники; генерал вынимает ладонь, запускает ее под трусы, пальцем приподнимает ткань и лижет языком то место, где ткань натянулась.
Санитары возвращаются с раненым, видят, что генерал с окровавленными пальцами и губами склонился над трупом; они укладывают носилки рядом с первыми; генерал оборачивается, смотрит на молоденького светловолосого солдата, раненого в голову: обнаженный торс, штаны спущены на бедра, ремень у пупа залит кровью.
— Господин генерал, не тормошите этого слишком сильно, он очень слаб, не возбуждайте его, он от этого умрет.
Санитары уходят, член генерала набух, ляжки взопрели, он склоняется над солдатом, гладит рукой окровавленные волосы, запускает пальцы в этот пшеничный сноп, омытый кровью крысы, раненой косой; солдат стонет, его рука, прижатая к бедру, поднимается, генерал берет ее и кладет на живот солдата; потом он гладит его веки, склоняет к нему лицо, целует бледные губы солдата, его щеки, горло; он присаживается на корточки, его губы пробегают по животу, по окровавленным штанам, приклеенным кровью к ляжкам; генерал приподнимает солдата за талию, трется лицом о штаны, солдат снова стонет, из уголков его губ стекают струйки крови, генерал раздвигает ноги солдата, полулежа на носилках, опускает лицо между ляжек, урча и поднимая голову после каждого толчка, задирает носом член солдата; голова солдата качается направо, налево, скатывается с носилок, кровь приливает к его лицу, руки поднимаются, отталкивают стриженую голову генерала; пурпурники улетают; санитары возвращаются с новым раненым, его живот распорот до легких, рана заткнута ватным тампоном, блевотина другого раненого стекает по краям раны; генерал продолжает рыться между ляжек солдата.
— Мой шакал, мой генерал, этот почти готов. В любом случае, его не спасти. Господин генерал, ваш мундир в крови. Господин генерал, ваши руки и ваше лицо залиты кровью. Господин генерал, ваш завтрак накрыт в офицерской столовой. Господин генерал, священник хочет видеть раненых…
Генерал поднимает голову, кровь растекается по его лицу; санитары укладывают раненых, уходят; генерал оставляет второго раненого, корчащегося в солнечных лучах, он склоняется над солдатом с распоротым животом; его тоже застигли во сне — пижама прилипла к груди и к ляжкам, генерал расстегивает пижаму. Солдат поднимает руки, трогает живот генерала, отталкивает его, генерал берет его ладони, прижимает к своему члену; от вспоротого живота уже исходит скверный запах, генерал садится у ступней раненого, он берет их руками, толкает, прижимает согнутые ноги к вспоротому животу, погружает лицо между поднятых ляжек, кусает натянувшуюся пижаму, складки ткани под членом, скат ягодиц; шнурок расстегнутой пижамы свисает на его лицо; из ширинки пижамы генерал достает зубами окрашенный кровью его ладоней член солдата, тянет его, раненый издает протяжный стон, генерал поднимает голову, прижимается губами к губам солдата, приглушает его стон; его мундир трется о рану, пуговицы цепляются о кровавые лоскуты, о внутренности; солдат отталкивает плечи генерала; солнце жжет его затылок, в луче роятся мухи; светловолосый раненый хрипит, генерал поднимает голову, встает, бросается к агонизирующему солдату, впивается губами в его рот, отпускает его, солдат снова хрипит, генерал целует его шею, поглощая его предсмертный хрип, солдат дергается, его бледные потрескавшиеся пальцы дрожат на щеках генерала, тот прижимается бедрами к остывающим бедрам умирающего, солдат испускает долгий предсмертный хрип в рот генерала; генерал кусает его губы, чтобы всосать кровь, отхлынувшую от его лица; колени мертвеца твердеют, его плечи обмякают под пальцами генерала; другой раненый поднимает руки, сгибает их в ярком солнечном свете. Санитары приносят новые носилки:
— Господин генерал, ваш завтрак накрыт.
Генерал поднимает голову, проводит рукой по члену мертвого светловолосого солдата:
— Вот мой завтрак.
И он погружает голову между ляжек солдата.
— Господин генерал, священник вас ждет.
— Пусть уходит, Бог подо мной.
Кмент видит зайца, бежит за ним, швыряет в него камни; один из камней попадает в голову, заяц падает на песок, Кмент оглушает его ударом кулака. Заяц дергается, перебирает лапами в воздухе. Кмент разжимает его челюсть, раздирает ее, вырывает язык, съедает его, сидя на песке под высоковольтными проводами; вокруг блестят насекомые. Кмент слышит голос, выплевывает заячий язык, взбирается на скалу, прячется, скорчившись, зад раздирают колючки; подходит Джохара, Кмент спускается со скалы, подходит к девушке, обнимает ее за талию; травы и камни горят у них под ногами:
— Драга взял меня силой.
— У Бежи есть вертолеты.
Пурпурники пролетают сквозь верхушку кедра, сотрясая ветви:
— Он вернулся к мадам Лулу.
Кмент задирает платье девушки, гладит ее потные ляжки, липкое влагалище.
— Драга — мой брат. Ты не должна плакать. Ложись на песок.
Кмент укладывает Джохару на горячий песок, поднимает голову девушки к восходящему солнцу:
— Смотри на солнце, пока не ослепнешь.
Он ложится рядом с ней, ласкает ее живот, задирает платье до пупа; в тростниках ползают, свистят змеи, их следы переплетаются на белом песке; в глубине долины кричат обезьяны, они прыгают в реку, спариваются в пыльной листве. Кмент ласкает груди Джохары, восходящее солнце сушит и жжет их. Джохара закрывает от жгучего солнца кольцо в губе. Над изумрудным морем поднимается ветер, он впрыскивает в воду фиолетовую кровь, орошает брызгами кусты тамариска, катит кости, куски дерева и веревки по пустынным пляжам.
Молодые офицеры, капитаны, лейтенанты, младшие лейтенанты в полдень собираются у погреба, в котором заперт Ксантрай, они клянутся убить генерала и разогреть сердце войны. Ксантрай стонет, лежа в крови Тивэ.
Генерал этим утром купается в море; сопровождающие его десантники ласкают его в теплой воде.
Солдаты смотрят на молодых офицеров, жуют резинку, пожимают плечами; другие спят на своих тюфяках, орущие транзисторы опрокинуты между ног. Джип губернатора рассеивает солдат и офицеров; губернатор выходит из машины, поднимается по лестнице КП, толкает дверь пустого кабинета; в маленькой смежной комнате на кровати он находит голого до пояса генерала; расстегнутые штаны и стоящий член склонившегося над ним солдата скользят по его животу:
— Ваше превосходительство, какая приятная неожиданность!
Генерал, произнося эти слова, сплевывает сперму солдата; солдат нагнул голову и смотрит на губернатора из-под мышки:
— Генерал, вы смещены со своего поста. Приказ пришел из метрополии. Я арестую вас до решения военного совета.
— Мои солдатики взбунтуются, я хорошо кормлю их, я их люблю, я — их жена, их невеста. Правда, Вильдфрай?
Генерал целует солдата в губы, губернатор смотрит на висящее на умывальнике полотенце, измазанное спермой и слюной; солдат переваливается через генерала, укладывается рядом с ним, генерал ласкает его твердый член, торчащий из ширинки; губернатор выходит, генерал переваливается на солдата:
— Вильдфрай, он увидел полотенце, как припухли твои губы! Красив ли я? Не двигайся, я хочу сохранить твой пот на моей коже; твой член встает между моими ляжками, как солнце между двумя холодными реками. Красив ли я? Лижи мой соленый пот; твои веки тают под моими губами; жить на твоем животе, есть, спать, пить, ты держишь мой член, я — твой, поток моей спермы блестит в лунных лучах на твоем животе; я вижу цепочку на твоей шее, браслеты на твоих запястьях, на твоих лодыжках, на твоих ляжках, цепочку на твоем члене; мой язык лижет твои стриженые волосы, приглаживает ресницы и брови, волосы в паху и подмышками; по улице проходит вереница рабов; с тяжелым сердцем оглядывают они незнакомую страну и эту площадь, куда их привели на заре и поставили в начерченные мелом прямоугольники; и ты дрожишь подо мной, ты узнаёшь их запах и мольбы; в тени мои губы ищут твой рот, но ты отворачиваешь голову от моего лица; твой живот скользит и вздымается подо мной; я беру твою голову ладонями, прижимаю ее к своим губам, я давлю своим телом на твой живот, на твои ляжки, ты стонешь, твоя голова поворачивается к окну, к восходящему солнцу; по прилавкам мясников скользит легкий бриз, прогоняя запах разлагающейся плоти; торговец кричит; набедренные повязки, лохмотья, колпаки твоих братьев дрожат на ветру, таблички бьют их по груди; ты вырываешься, звенят твои кольца и браслеты, но мой пот понемногу заливает их; по мере того, как поднимается в небе солнце и пустеют начерченные мелом прямоугольники, ты успокаиваешься в холодном поту, ты засыпаешь, теперь я могу разбудить тебя одним движением бедер и, лежа на твоем животе, приказать тебе любить меня, напрячь твое сонное дрожащее тело…
…Плоть, серебро, золото, ногти, зрачки, зубы сверкают на разоренной простыне. Твои губы, розовые на загорелом лице, обнимают мой член, твоя слюна пенится на его коже, твои губы волнуются, ощущая приближение спермы; мои яйца прижимаются к твоим щекам, катаются по твоему горлу. Я — пес, козел, волк, мой хвост ласкает твою грудь, мой язык вылизывает твои волосы; ты, ты — щенок, твой член краснеет в пыли; он — солдат, он возводит саманную стену вокруг твоих бедер; я хочу откусить его зубами, посмотреть, как освободятся от груза твои яйца; где ты его потерял? Кто тебе его оторвал? Я бегу во вражеский лагерь, я вижу тебя в толпе, ты присел на корточки в траве, твои ляжки в крови: «Оставь меня. В детстве я днем и ночью завязывал сандалии моего хозяина, ты не можешь купить меня; хозяину, чтобы исцелиться, нужна моя кровь.
— Кто ты? Откуда ты пришел?
— Меня звали Вильдфрай, я родился в семье охотников на медведей, в волосы моих отца и матери вплелась медвежья шерсть. В последний день зимы мой отец приковал цепью к столбу в середине зала самую послушную из медведиц; моя мать печет пироги, сестры умащивают себя благовониями, я слышу их смех на краю люка; я облокотился на лестницу между полом зала и открытым люком; по моей меховой набедренной повязке прыгают блохи; моя мать руками, покрытыми сахаром и вареньем, месит синеватое тесто; через приоткрытую дверь я вижу цветочки, дрожащие на снегу; мой отец обвязывает медведицу веревками и цепями; я спускаюсь, выхожу в деревню, мои ноги в башмаках из плетеной соломы взметают легкий пахучий снег; вокруг леса с начала зимы появляются следы неведомых зверей; я вхожу в лес, спотыкаюсь о кусок железа, поднимаю его, отношу отцу, отец опускает глаза, выбрасывает кусок железа в снег; медведица открывает и закрывает бледные глаза, ее дыхание согревает мою грудь; я иду в хижину девушек, зову их, поднимаю кожаную завесу; мой член твердеет; девушки, сидя и лежа в полутьме, шьют праздничные одежды, я сажусь среди них, касаясь волосами обитой шкурами стены хижины; девушки поднимают на меня глаза, опускают их, смеются, толкаются локтями; одна из них колет мое плечо иглой, я хватаю ее руку, потом лицо; соломенные башмаки на моих ногах со скрипом сгребают белый песок, рассыпанный на подстилках из шкур и ивовых прутьев; мой член натягивает меховую набедренную повязку; я целую девушку в губы, я кусаю кольцо из слоновой кости, продетое в ее ноздри, я целую темную сонную воду ее глаз; другие девушки гладят меня, тянут за ногу, за руку, за волосы, за набедренную повязку; ночью пол в зале залит кровью, медведица с высунутым языком висит на столбе; все едят пироги; медведица вся утыкана стрелами и оперенными иглами. Ночью неведомые звери выходят из леса, они давят хижины, крутящимися ногами раскидывают вышивки, пироги, ножи, медведицу, лестницу, я бросаюсь в угол, но рука в перчатке хватает меня, поднимает в воздух; утром, связанные, сбитые в кучу, мы идем по снегу, мои плечи замерзли, моя набедренная повязка покрыта росой, на ногах — окровавленная солома; мои отец и мать, навсегда умолкшие, идут передо мной; вышивки девушек волочатся по снегу; железные звери гонят нас перед собой к реке; мужчины, вышедшие из их чрева, загоняют стариков кнутами в ледяную воду; железные звери плывут по зеленой воде между льдин, мы привязаны к их спинам; солдаты хватают девушек за ноги, заваливают их, вливают им в рот вино, развязывают веревки и втаскивают их в чрева зверей, смеются и пищат; перед заходом солнца они кидают нам между ног куски мяса; присев на корточки, мы поднимаем его, раздираем зубами; пташки слетают к нам на плечи, клюют мясо из наших ртов…
Вокруг плещутся на ветру вражеские палатки; я ласкаю твои плечи. Все поцелуи, все ласки всех матерей земли не могут увлажнить твоих глаз:
— Не трогайте меня, не волнуйте мою кровь!
Стада уходят, рабы, обнявшись, спят у станины работающего генератора; над верхушками палаток развеваются шитые золотом флаги с вытканным в центре черным пауком; из главного шатра выходит солдат; он поднимает тебя за шею и ведет в освещенную палатку:
— Хозяин болен, он не может уснуть.
Солдат толкает тебя к ногам врача, хватает твою руку, поднимает ее к своей груди, врач маленьким кинжалом разрезает твое запястье, брызнувшая кровь стекает в чашу из слоновой кости, которую держит юноша с железным кольцом на члене; врач давит на твое запястье, ты бледнеешь и падаешь на ковер с густым ворсом; врач подносит чашу хозяину, лежащему в темноте под охраной двух голых, набеленных мальчишек, один из них поднимает голову хозяина, тот пьет, отбрасывает чашу к ногам другого мальчика, неподвижно сидящего с полузакрытыми глазами: — Приведите мне его, это не его кровь. Врач шепчет на ухо юноше с кольцом на члене, тот подходит к тебе, поднимает, сжимает пальцами твое кровоточащее запястье, ведет тебя к ложу хозяина; хозяин обнимает тебя за талию, укладывает на край ложа, хватает твою руку, целует запястье, кусает его, лижет языком маленькую ранку, всасывает кровь, его губы причмокивают на запястье, кровь, выпитая хозяином, отливает от твоих жил, твоя голова скатывается на край ложа, пена, выступившая на твоих губах, смачивает простыни; врач бьет тебя по затылку, хозяин зубами расширяет рану; над ложем, в лепной золоченой раме, улыбается его бог; хозяин отпускает твое запястье, опрокидывается на спину, отирает ладонью свой потный лоб; врач перевязывает твое запястье, отправляет тебя на траву, кровь проступает сквозь бинты. — Ты не можешь меня купить. Уходи… Молодые офицеры врываются в альков, достают пистолеты, генерал, склонившийся над солдатом, оборачивается; пуля дробит ему челюсть, другая разносит в клочья его лицо; генерал падает на солдата, тот отталкивает его, высвобождается, скатывается на кафель; офицеры поднимают солдата, прогоняют его; генерал лежит ничком на животе, голова и спина в крови, он еще шевелится; пуля в сердце, он подпрыгивает, хрипит, задыхается, кровь забрызгала полотенце, висящее на умывальнике; офицеры выходят, солдаты, привлеченные звуками выстрелов, собираются на лестнице КП. Вильдфрай на ходу застегивает ширинку, солдаты расступаются, он спускается по лестнице, бежит к умывальнику и окунается в него с головой; офицеры сидят в кабинете генерала, разбирают последние подписанные им бумаги с отпечатками слюны и спермы; они звонят в губернаторский дворец, приказывают сочувствующим им молодым офицерам запереть губернатора в его апартаментах; плененный губернатор смотрит в окно, облокотившись на подоконник, на его столе — фотография Эмилианы, купающейся в Лутракионе; Серж, еще ребенок, брызжет на нее водой и бросает в нее водоросли. Солдаты всех гарнизонов острова переведены на казарменное положение и привлечены к усиленным занятиям. Освобожденный Ксантрай встал во главе войск; полковник взят под домашний арест; молодые офицеры разрабатывают планы операций, приказывают разведротам арестовывать всех подозрительных, допрашивать, применяя пытки, шлюх и мальчиков из борделей.
Ксантрай велел собрать останки Тивэ, их положили в деревянный ларец, который он хранит в углу своего кабинета. Солдаты ропщут, некоторые сбегают и прячутся в борделях нижнего города. Офицеры разыскали нескольких своих единомышленников, которые недавно, разочаровавшись в губернаторе, ушли в маки с несколькими солдатами из колонистов, родившихся на острове, и сражались самостоятельно с подразделениями повстанцев. Дезертиры, офицеры и солдаты, ночью вошли в нижний город и поднялись к дворцу.
Ксантрай прыгает в свой джип; во дворце он призывает дезертиров к сотрудничеству и распределяет им должности в войсках. Все идут спать. Ксантрай возвращается на КП; либеральные политики, склонные к переговорам, звонят в метрополию, предупреждают газетчиков и политических деятелей; Ксантрай приказывает арестовать их в постелях.
Все телефонные линии, связывающие остров с метрополией, перерезаны, рейсы самолетов отменены; тело генерала выбросили на кучу навоза.
Ксантрай поднимает солдат, приказывает им убрать мешки с песком; сонные солдаты — винтовки бьют по бедрам — поднимают дырявые мешки, песок сыпется на руки, на сапоги; москиты, привлеченные светом прожекторов, направленных на баррикады, вьются перед лицами, кусают губы, забиваются в глаза. Ксантрай по радио вызывает все посты, подтверждает в должности командиров, расслабившихся в ожидании политических перемен.
К утру войсковая группировка на острове приведена в боевую готовность. Ксантрай встает со стула, идет в угол кабинета, присаживается на корточки, гладит деревянный ларец, поднимает его, подносит к губам. Он выходит, смотрит на город, укутанный дымами и розовыми испарениями; проходят девушки, под платьями — тугие купальники, в ушах — фарфоровые серьги телесного цвета, такого же, как губы их влагалищ и рты.
Либеральные политики заключены в городские тюрьмы, их семьи сторожат в домах надежные часовые; жены и дочери прогнивших либералов красуются перед часовыми, улыбаются им, но солдатам сказали, что они сношались с повстанцами, и вооруженные до зубов солдаты не отвечают на улыбки, не оборачиваются на призывы и свист. Виннету с автоматом в руке стоит на лестнице над морем, он слышит, как его зовут, оборачивается; сквозь застекленную перегородку он видит двух девушек, лежащих на диване и ласкающих друг дружку; время от времени они берут из стоящей на полу вазы вишни, едят их, выплевывают косточки и продолжают ласки; корсажи их платьев приоткрыты. Они смотрят на солдата, улыбаются, закрывают глаза вуалью; одна из них задирает платье на бедра. Виннету смотрит на нежное загорелое тело с перламутровыми следами купальника; внизу набегают и разбиваются волны; он улыбается двум близняшкам, толкает стеклянную дверь, его форма цепляется за розовый куст, он наклоняется, отцепляет шипы, кровь приливает к его лицу, он поправляет оружие, выпрямляется, входит, идет по ворсистым коврам; поблекшие цветы в вазах дрожат под дуновением моря, лепестки осыпаются на мрамор камина и консолей; он подходит к дивану, две девушки ласкают друг друга, не поднимая на него глаз, подрагивают от тихого прозрачного смеха, он наклоняется, трогает плечо, девушка смеется громче, ее смех колеблет волосы, распущенные на груди сестры.
Виннету, не выпуская оружия, садится на край дивана, прижавшись к ноге девушки, та начинает гладить пальцами его ягодицы, лямки ремня; Виннету хватает девушку, переворачивает ее на спину, отталкивает вторую, та скатывается на ковер и остается лежать, раздвинув ноги и задрав платье на бедра, положив руки под голову. Виннету берет девушку за плечи, приподнимает ее, прижимает к груди, автомат соскальзывает с его плеча, магазин цепляется за край дивана, Виннету целует девушку, та слегка задыхается:
— Меня зовут Алиса. Ты убил много людей?
— Вчера я убил маленького феля.
— О, злодей! Что такого он натворил?
— Каждую ночь он приходил спать в давильню.
— Дави меня, дави, как ты давишь блядей и крестьянок. Сожми меня. Оставь автомат, чтобы он бил тебя по бедрам и возбуждал тебя.
Виннету не спал две ночи, тоска сдавила его горло, он набросился на Алису; кровь и сперма приливают к его животу, к его ляжкам, ногам, коленям, он сжимает пальцами подмышки девушки, его живот трется об ее живот, задирая платье до пупа; маленький выпуклый живот Алисы трепещет под его грудью. Виннету сжимает ладонями лицо девушки, из ее глаз льются слезы и стекают по складкам, образовавшимся на сжатых щеках, по носу и по губам; Виннету снимает с плеча автомат и кладет его на ковер, задирает платье до грудей, ласкает и тискает живот, прикладывается губами к пупку.
— Люби меня, как ты любишь блядей, быстро и сильно.
Она сжимает ляжки, Виннету раздвигает их ладонями, расстегивает ширинку, достает член и погружает его в раскрытое влагалище девушки, член цепляет волоски, черные, блестящие пряди волос солдата и девушки смешиваются. Член солдата схвачен, втянут, стиснут пенным влагалищем девушки; Виннету напрягает ляжки, давит живот девушки, сжимает ее талию, душит ее, его пальцы опускаются на груди, стискивают их, они пахнут молоком и розами, Виннету лижет их; волосы девушки прилипли к потной ложбинке между грудями, Виннету смешивает их со своими почерневшими от соленого ветра волосами, Алиса гладит их, расчесывает, целует затылок Виннету; она стонет, выгибается; штаны вокруг члена и между ягодиц намокли, Алиса гладит их пальцами, ее колени трутся о бедра Виннету, пальцы скользят по мокрой ткани; подступающая сперма переполняет член, брызжет, девушка дрожит всем телом, вцепившись пальцами в ягодицы Виннету, изгибается; член солдата схвачен, стиснут, как рыболовный крючок в темной воде, Виннету дрожит, по его затылку течет холодный пот, он пугается, вынимает член, но девушка перехватывает его, снова вставляет во влагалище, член втягивается, словно схваченный невидимой рукой в чреве девушки. На щеках Алисы блестят слезы, Виннету слизывает их, ее груди катаются под грудью Виннету, их соски соприкасаются, кровоточат, горят; расстегнутая гимнастерка Виннету запахивается, когда он выпячивает свою грудь и стискивает груди Алисы; она стонет, извивается, вытягивая его член; стеклянная дверь хлопает в золотистом свете; другая девушка, перевернувшись на живот, задрав платье до ягодиц, болтает ногами и напевает нежную мелодию, свистит, подзывая пурпурников; она подталкивает ногой вазу с вишнями к автомату Виннету; солдат поднимает глаза, встает с Алисы, его освободившийся, обмякший член скатывается на ляжку, он убирает его в штаны, застегивает ширинку, подходит к лежащей девушке, ее задранное платье натянулось на распухшие бедра, он наступает на ее ладонь, топчет ее сапогом, девушка кричит, Алиса с дивана скатывает к ней голову:
— Молчи, Анна, а то он убежит.
Виннету берет автомат, выходит на лестницу, прижимается спиной к деревянной колонне; испаряясь под ярким солнцем, сохнут его ладони, губы, ткань его формы; в пене прибоя скользят голубые рыбки; на глади белого от пены залива блестят большие корабли, их поднятые антенны неподвижны в горячей дымке; Виннету понемногу ощущает, как желание поднимается вновь и от этого слабеют колени; девушки спят, лежа на прежних местах: Алиса — на диване, Анна — на ковре.
Виннету смотрит на обнаженные груди, трепещущие на ковре; он поворачивает ручку стеклянной двери, тихо входит в салон, приседает, хватает Анну за плечи, та внезапно просыпается, он переворачивает ее, прижимается коленом к ее потному дрожащему бедру; он берет девушку за руки, поднимает ее, ставит к двери, задирает ее платье, расстегивает ширинку, вынимает отвердевший член и погружает его между ляжек девушки; стоя, прижав ее к стеклу, он лижет светлые волосы на ее лбу; она задыхается, горячее стекло потрескивает за ее спиной.
Алиса лежит неподвижно, раздвинув ноги, сперма Виннету сохнет на ее ляжках; сквозь опущенные ресницы она смотрит, как дрожат ягодицы солдата, к которым прилипли влажные брюки; ее влагалище набухает среди черных волос, она накрывает его ладонью, оно успокаивается; ладонь Алисы поднимается на нежную теплую кожу напрягшегося живота, касается гладкого прохладного бутона пупка; по ногам Алисы стекают капельки спермы, Анна видит их, улыбается; растоптанные капли блестят на ворсе ковра, Анна вытирает их босой ступней. Виннету лижет ухо девушки, покусывает мочку, плюет в складки ушной раковины; слюна блестит на висках и щеках Алисы; сквозь раскрытую дверь Виннету слышит шум порта, крики сходящих по трапу солдат, команды офицеров, скрежет кранов, дыхание локомотивов под пыльным стеклянным колпаком вокзала; член Виннету зажат в горячей тьме, втиснут в чрево девушки, он зацепился за ее плоть головкой, кожей, жилами, их колени сталкиваются; пурпурники слетают на розовый куст; по глади моря, как пламя по степи, пробегает пенная гряда, огибая втиснутые в зеленое зеркало корабли; солдаты сходят на берег, взвалив вещевые мешки на плечи или волоча их по сходням; молодые женщины под светлыми прозрачными зонтиками, привстав на цыпочки, машут им белыми, загорелыми до локтя руками, бросают сонным, мокрым от брызг солдатам печенье; рты солдат перекошены, покрыты розовой блевотиной; женщины хватают их мешки, поднимают их, несут, прижимая к шеям загнутые, дрожащие под морским бризом рукоятки зонтов. Маленькие продавцы газировки и медового печенья шныряют между ног взволнованных новобранцев; мед прилипает к гимнастеркам солдат, к женским платьям:
— Печенье, печенье, печенье. Булочки, булочки.
Они дергают женщин за платья, солдат — за гимнастерки, солдаты отталкивают детей коленями; лица и шеи детей покрыты соплями, слюной и рыбьей чешуей, губы вымазаны медом, обсыпаны сахаром, почти все дети голые, на некоторых только кусок мешковины, обернутый вокруг бедер; дети, торгующие с маленьких прилавков расческами и бумажниками, одеты в дырявые джинсы; дети, спускающиеся с улиц нижнего города и порта, тянут солдат за рукава, раскрывают ладони и показывают маленькие книжечки с фотографиями голых, совокупляющихся мужчин и женщин, на обложке — гениталии, раскрашенные охрой; другие дети, прислонившись к стенам или к ставням баров, смотрят на солдат черными бешеными глазами, поодиночке или группами по протягивают им ладони; поодиночке или группами по двое, по трое они блуждают по порту, протягивают руки, лязгают зубами, солдаты дергают их за хохолки, оставленные на макушках наголо выбритых голов; так они ходят целый день, а вечером, обессиленные, валятся на кучи отбросов; посреди ночи их будят крысы, устроившие возню в пустых консервных банках; проходят вербовщики, едят булочки, смеются, подходят к мальчикам в плавках, сидящим на причальных тумбах — плечи и животы блестят в лунном свете — обнимают их за талию, потом, продолжая жевать булочки, возвращаются к куче отбросов, наклоняются над спящими на очистках голодными, дрожащими детьми, дышат в их лица сладостью.
Они говорят им что — то на ухо; один ребенок, самый маленький, встает; вербовщик берет его за руку, вынимает из кармана булочку, дает ему; старый фургончик, за рулем — вербовщик, въезжает в порт; переднее сиденье свободно, на задних сидят заспанные мальчики в плавках, собранные в порту после рабочего дня. Петрилион, — его глаза широко открыты, — кусает булочку, поводит плечами, водитель оборачивается, запускает руку за сиденье, трогает пальцами пупок Петрилиона над смятыми плавками, тот отталкивает руку:
— Отстань, Христос.
Вербовщик вталкивает в фургончик мальчика, жующего булочку, усаживает между собой и Христом, мальчик жует; у стены, на куче отбросов, поднимаются другие дети, но Христос трогает фургончик, ведет его по переулку.
У борделя мальчика вытаскивают из машины, его оставляют в общем зале, с пьяницами, больными, безумными, стариками, с теми, кого мальчики не хотят принимать в комнатах.
Лишь потом Исмена берет его за руку, уводит в заднюю комнату, усаживает за стол, толкает к его подбородку тарелку с жареным мясом; мальчик набрасывается на еду, его щеки покрыты соусом и золой, Исмена сидит напротив и смотрит, как он ест; вербовщики спят.
Исмена снова берет его за руку, уводит в комнату, моет ему лицо, живот, ноги, руки, укладывает с собой в постель; мальчик во сне ворочается, сворачивается между ног спящей Исмены, потом у нее подмышкой, стонет, сосет ее пальцы, грудь.
Вокруг на своих постелях ворочаются мальчики, блеют, как овцы в хлеву, открытом в лунную ночь.
Виннету до вечера развлекается с близняшками: сидя, лежа, присев на корточки на ковре; они едят вишни, девушки напевают, открывая свои груди; Виннету время от времени берет автомат и выходит на лестницу; розы дрожат под мрачнеющим небом.
— Виннету, Виннету…
Он садится, ест вишни, выплевывает косточки, Алиса встает, забирается на плечи Виннету, ее раскрытое влагалище увлажняет шею солдата, ее горячие ляжки сжимают щеки и веки Виннету. Он гладит ляжки девушки, целует их, его ладони поднимаются на бедра Алисы, та наклоняется и, изогнув шею, целует его в губы; он гладит и жмет ее ягодицы.
Анна, задрав платье, лежит на боку, катает вишни по своим ляжкам, толкает маленькой ступней колено Виннету; пурпурник, запертый в ванной, свистит, его свист отражается эхом от белого кафеля. Виннету поднимает голову, Алиса трется ляжками о шею солдата.
Выстрел, Виннету резко вскакивает, хватает свой автомат и выбегает на лестницу; застыв, он вглядывается в море, горы, порт, его ноздри раздуваются, лицо и руки омывает лунный свет; Алиса стучит в стекло:
— Мы хотим приготовить тебе поесть. Что ты любишь больше всего?
Виннету открывает дверь, ветер врывается в салон, близняшки обнимаются.
— После твоих грудок и твоих губок там, внизу…
Говоря, он кладет руку между ляжек Алисы и гладит ее влагалище… я люблю животик Анны и песенку на ее языке… и еще люблю жареное мясо с травами и взбитые сливки.
Близняшки идут на кухню, Виннету, дрожа, выходит на лестницу; на берегу залива горят маяки, Виннету зачесывает волосы назад. Близняшки возвращаются в салон с полными руками тарелок, бутылок, фруктов, складывают все на ковер; Алиса возвращается на кухню, снимает мясо с плиты, Виннету чувствует запах, Алиса открывает дверь, зовет Виннету, солдат входит в дверь, Алиса трогает через ткань его член, жмет и покачивает его:
— Ты весь замерз. У тебя иней на теле.
Анна режет мясо, Виннету входит, обняв Алису за талию; все усаживаются на ковер, едят и пьют; Виннету плюет на ковер, близняшки накрывают плевки ладонями или губами, Виннету расстегивает ремень, Алиса протягивает руку, трогает, теребит пуговицы на его форме, Виннету пьет, захлебывается вином, Анна бьет его по спине, Алиса слизывает розовые винные пятна с его щек; пьяный солдат отталкивает девушку, наваливается на нее, Анна подносит чашу со взбитыми сливками к его губам, Виннету приподнимается, берет чашу, подносит ее ко рту, пьет, лакает, слизывает взбитые сливки, Алиса тянет его за ремень…
Анна, опрокинувшись на спину, стонет, изображая оргазм; Виннету, возбужденный ласками Алисы и стонами Анны, вынимает перепачканную морду из чаши, отбрасывает чашу, снова подбирает, опрокидывает ее на грудь Алисы, перекатывается на девушку, та, задыхаясь, расстегивает его ширинку и вынимает его встающий член:
— Взбей во мне свою сперму.
Он слизывает сливки с ее губ и щек, член солдата бьется о влагалище девушки. После совокупления в гостиной остается запах гнилого мяса. Анна напевает, Виннету встает с Алисы, ее щеки ввалились, ноздри просвечивают, она легонько отталкивает его дрожащими ладонями.
Виннету переваливается на Анну. В моменты забвения она начинает напевать, член Виннету встает над ее лобком, Анна замолкает, берет его член, ласкает его ладонями; почувствовав приближение спермы, она задыхается, царапает ногтями руки солдата, ее колени дрожат, слабеют, горло сжимает спазм, ее дыхание обволакивает лицо и горло Виннету:
— Вставь в меня весь свой хуй. Вставь в меня весь свой хуй.
Виннету, громко смеясь, пронзает, трет и прожигает ее пах; Анна отрывает голову от ковра, ударяясь лбом о лицо навалившегося на нее Виннету, о его широко раскрытый рот с оскаленными клыками:
— Мой любимый, мой пес…
По ногам Алисы струится сперма, девушка ползет к дивану, подбирает автомат Виннету, гладит его, поднимает, кладет на живот, сжимает ляжками магазин, скользящий по мокрой коже, Виннету поднимает голову, оставляет Анну, бросается на Алису, вырывает у нее оружие:
— Блядь, только автомата тебе не хватало!
Его обмякший липкий член свисает из ширинки. Алиса смотрит на него, облизывая бледные губы. Виннету оборачивается к Анне, снова ложится на нее, раздвигает ее руки, складывает их крестом на ковре; он копается мордой под ее грудями, поднимает их, его член шарит по ее животу, его сапоги давят рассыпавшиеся по ковру вишни; пурпурники бьются о стекло, Виннету встает.
Он застегивает ширинку, затягивает ремень, наливает в бокал вина, пьет, закидывает автомат за плечо, вытирает губы, трет ладони, раздвигает ляжки, трясет горящий член, выходит на лестницу, прислоняется к деревянной колонне, ветер холодит его сырые ляжки; его тошнит, он склоняется над сумрачным садом, где свищут пурпурники и перепела; за дверью, в салоне, щенок с лаем прыгает на груди близняшек, Виннету, вцепившись рукой в колонну, запрокидывает и наклоняет голову, блюет на розовый куст, прижав другую руку к груди; море вздыхает, Виннету задыхается, плачет, пускает слюни, стонет; блевотина льется на розы, отягощает, сгибает их, стекает по стеблям.
…После кражи, с горящими щеками, я бегу на пляж, начался прилив, я ложусь у гряды водорослей, чайки плавают на гребнях волн, у моих ног кипит прибой, по утесу бежит шлюха, ее платье раздувается на ветру, на ее голой шее треплется шарф; она сбегает на пляж, взбирается на гряду из водорослей, скользит ко мне, я обнимаю ее за шею, прижимаю ее к груди, она трогает карманы моих джинсов, запускает в них ладони, вытаскивает деньги, мой член встает, она пересчитывает банкноты, засовывает их за корсаж, берет меня за руку, уводит с пляжа:
— Пойдем, я буду любить тебя как следует.
В комнате, на постели ее нагое белое тело открывается и закрывается:
— Малыш, малыш…
Сперма брызжет на простыни, я трясу свой член над краем кровати.
— Не пачкай белье, мой щеночек…
На кухне она усаживает меня к себе на колени, пихает мне в рот куски жареного мяса; мои пальцы, выпачканные в соусе, касаются ее грудей, я глотаю мясо, раскрывая рот у ее глаз; под моими ягодицами я чувствую ее раскрытое влагалище, я двигаю бедрами, она стонет:
— Тебя ищут на берегу. Ты убил свою мать?
— Да, вместе с сестрой, я сбросил ее труп в пропасть.
— Зачем ты убил ее?
— Мой отец этого хотел. Она совокуплялась со всеми мужчинами на нашем побережье. Она спала в своей постели, все утро она занималась любовью с моряком. Я приготовил завтрак, взял нож, открыл дверь, моя мать лежала на мокрой простыне, раздвинув ноги, я повернул руками голову матери и пронзил ее шею ножом, кровь брызнула на мои ладони; моя сестра закричала, я вымазал кровью ее лицо; руки моего отца, вытягивавшего сеть на берегу, задрожали. Я убежал. Я хотел ебаться и воровать. Я бежал по рыбным садкам. Передо мной возник Гал, он убежал со свекловичных полей. «Возьми меня с собой. Они заставляют меня работать ночью, при свете фар».
Его джинсы пропитаны соком свеклы, майка забрызгана навозной жижей. До ночи мы прячемся в садках, едим ежевику. Гал плачет, я бью его кулаком. Ночью мы выходим на пляж, я закапываю Гала в сухой горячий песок, он засыпает, держась за мою руку.
…Чайки уплывают, скользя по гребням волн, возвращаются с рассветом, я не сплю, я тру окровавленные ладони о песок.
Шлюха берет меня за руку, мы идем по утесу: «Ты знаешь, я пролез там, где разбито стекло».
На пляже она возвращает мне деньги и уходит, она гладит меня по голове и уходит. Я залезаю на камень, Гал писает, сидя на корточках над лужей, я даю ему кусок жареного мяса:
— Я выебал блядь.
Я устал, я ложусь на песок, залитый солнцем; Гал подползает на четвереньках, садится рядом, дрожит, плачет, жует мясо, выплевывает его:
— У меня остались деньги.
Слезы Гала капают на песок. Я вскакиваю на ноги, хватаю его за пояс, подминаю под себя, бью его по лицу, прижимаю коленом его бедро, он закрывает лицо руками:
— Виннету, ты убил свою мать, ты убил ее, я видел ее в пропасти.
Я бью его, поднимаю камень, швыряю ему в лицо, течет кровь, я блюю на песок, на лицо Гала, он сбивает меня с ног, топчет мою грудь босой ступней.
Утром нас арестовали жандармы; они прыгают в высохший канал, я бегу к воротам шлюза, Гал лежит, лапки вверх, жандарм бьет его дубинкой, я карабкаюсь на ворота, пуля обжигает мое запястье, я бросаюсь в канал, ударяюсь о цемент, жандармы набрасываются на меня, оглушают, на моих запястьях и лодыжках клацают наручники.
— Мой юный клиент говорит, что его вспоили козьим молоком, но всем известно, что коза — щипачка…
— А ты — то сам…
Кровь сохнет под моими ногтями, мой затылок горит; фургон прыгает на ветках, обломанных бурей, суп жжет мои губы; Гал, опустив глаза, лакает свой суп; рядом со мной сидит мальчик, брошенный в фургон вместе с нами, одна его рука держит ложку, другая гладит кромку шортов, обтягивающих мускулистые ляжки; его член встает и натягивает ткань над кромкой; стражник наступает ногой на мою спину и бьет меня плетью по пояснице, крыса высовывает морду из щели в углу столовой; мальчик кидает ей кусок сала, крыса впивается в кусок зубами, выплевывает его и прячется в щели:
— Смотрите — ка, сегодня она не хочет есть; видно, долго еблась.
Плеть щелкает по затылку мальчика. Гал придвигает свой тюфяк к моему.
— Отстань. Ты что, не можешь без меня жить? Смотрите, парни, это моя жена…
Я ложусь, укрываюсь военным одеялом; в глубине камеры мальчики катаются по тюфякам, я переворачиваюсь на спину, приподнимаю голову; мальчики курят, дверь, выходящая на черную лестницу, приоткрыта, я слышу шум елей; мальчики лежат, обнявшись, на одном тюфяке, сплетясь ногами, курят одну сигарету на двоих, вынимая ее друг у друга изо рта, из их расстегнутых пижам торчат стоящие члены, вьются черные пряди. Входит стражник, идет к их тюфяку, бьет мальчиков кнутом, топчет их ногами, зажженная сигарета падает одному из них на живот, кожа горит, мальчик кричит.
Утром свежий ветер раскачивает цветущую ветку, она благоухает в углу раскрытого настежь окна; я облокачиваюсь на подоконник; мои плечи дрожат под рубашкой, шея голая, волосы коротко острижены, сера в моих ушах блестит в лучах восходящего солнца; я смотрю на небо, я вижу в нем круги, колесницы, каски, золотистые волосы, я тяну руку в синий воздух, мои губы съеживаются, как увядшие цветы, мое горло сжато тоской, мои колени слабеют, я сажусь на тюфяк; побитые вчера мальчики идут в умывальник, тот, что обжегся сигаретой, присаживается на корточки перед ящиком для обуви, шарит в нем, достает коробку гуталина, смазывает обожженный пупок, встает, идет в умывальник, подставляет руку в синяках от побоев под струю ледяной воды; стражник подходит к нему сзади, гладит его по затылку рукояткой плети:
— Тебе снились кошмары, Дюдоре? Тебя во сне били?
Мальчик резко выпрямляется:
— Молчи, если не хочешь, чтобы ночью тебе пустили кровь. Я залью кровью всю твою глотку.
Я растягиваюсь на тюфяке, положив руки под голову; Гал возвращается из умывальника; полотенце цвета хаки обмотано вокруг его шеи, он причесывается, садится на тюфяк, наклоняется ко мне:
— Ты ведь защитишь меня, да?
…Я молчу, уставившись в небо за окном, золотистые волосы опускаются на вершины елей. Дюдоре ложится на свой тюфяк; на поле он зажимает свеклу между ног, чтобы очистить ее от грязи и отрезать ботву, я прыгаю на его грядку, Гал работает с другой стороны поля вместе с малышами; меня стражник выгнал в группу старших, потому что я очень силен; до полудня Дюдоре не поднимает глаз, его рубашка завязана на груди, между узлом и ремнем шортов я вижу загорелый блестящий пупок; после обеда на мягкой сахарной земле стражник стегает плетью колесо тачки; согнувшись рядом с Дюдоре, я прыгаю в его сторону, когда мимо, подняв плеть, проходит стражник, я касаюсь бедром его бедра, он отталкивает меня локтем:
— Не трись об меня. Я убил своего отца.
— А я — свою мать.
Он поднимает глаза, мое бедро по-прежнему прижато к его бедру, он поворачивается ко мне лицом:
— Ты убил мать? А как?
— Ножом, потом я выебал шлюху.
— Ты хочешь сбежать? Он опускает голову, я молчу; только вечером, когда он, весь мокрый, сидит на своем тюфяке с полотенцем на шее и расчесывает курчавые волосы, я наклоняюсь к нему и говорю:
— Да.
Расческа застряла в кудрях; Гал дрожит, лежа на своем тюфяке, я говорю:
— Гал со мной.
— Ладно, возьмем и твою девчонку. На заре третьего дня мы прыгаем в солому и бежим к городу. Ты, Гал, останавливаешься у кондитерской, твои ступни сбиты в кровь, по твоим губам текут слюни, проходит мужчина, он гладит тебя по плечу, мы прячемся за помойкой, мужчина склоняется к тебе, ведет тебя в кондитерскую. Дюдоре подбирает табакерку, сжимает ее в руке, мужчина выходит, Гал ест пирожное, мужчина снова наклоняется к нему; стоя посреди улицы, он уже гладит его ляжки; Гал, уставившись на помойку, ест, не двигаясь, на мочках его ушей блестит варенье; мужчина берет его за плечи, заводит за помойку, толкает к стене, гладит его по всему телу, Гал только приподнимает колено, его губы и нос измазаны кремом; мужчина прижимает его к стене, расстегивает его шорты, запускает ладонь под его член. Дюдоре кричит, встает, потрясая табакеркой, мужчина оборачивается, поднимает руки, Гал убегает, прячется за наши спины, Дюдоре подходит к мужчине, прижимает табакерку к его животу:
— Давай сюда все деньги, а то я скажу, что ты пристаешь к мальчикам.
Мужчина поднимает руки выше, выпячивает бедро, Дюдоре плюет ему на ноги:
— Ты, скотина, хочешь, чтоб я тебя пощекотал?
Дюдоре запускает руки в его карманы, выворачивает их; его ладони дрожат на ляжках мужчины: у него стоит. Дюдоре вынимает паспорт, отдает мне, я прячу его в карман шортов, он снимает с мужчины шарф и часы, потом оборачивается ко мне:
— Скажи девчонке, пусть плюнет на него.
Гал выходит вперед. Мужчина краснеет, бледнеет, Гал, вытянув губы, плюет на его пальто, потом, привстав на цыпочки, плюет ему в лицо; плевки стекают по лацканам пальто, Дюдоре хватает его за руку, бьет мужчину табакеркой в живот, тот падает на отбросы; мы убегаем, Гал хохочет, я захожу в магазин, набираю побольше хлеба, мяса, фруктов, печенья, сыра, вина; мы идем к черкесам, они разожгли свои костры в глиняном карьере; другие мальчики, сбежавшие с каторги, выглядывают из окон их повозок; они раздеты до пояса, их волосы уже отросли; Дюдоре наклоняется над костром из коры и сухой мяты, целует сидящую на корточках старуху в красном платке:
— Я принес тебе миндальное пирожное.
…Старуха берет мальчика за руку, целует его в сгиб локтя; Дюдоре идет ко мне, Гал, присев на корточки, играет под повозкой в бабки с голыми светловолосыми мальчиками; мы с Дюдоре заходим в повозку; два голых мальчика лежат на куче тряпья и сине — золотых покрывал. Девушки, одетые в вышитые шали, дырявые трусы и бюстгальтеры, ласкают их унизанными кольцами пальцами; один из мальчиков, лежащий на животе, подтягивает колено к животу, я вижу между его раскрывшихся ягодиц корку засохшего дерьма; ладонь девушки гладит его зад;
Дюдоре садится на край постели, одна из девушек обнимает меня за шею, я прислоняюсь к двери, девушка тянет меня на тюфяк. Дюдоре щиплет ее за бедро.
— Не бойся, Виннету, они никогда не моются и даже не подтирают жопу.
Лаская тело лежащей на мне девушки, мешая во рту мою холодную слюну с ее пахучей сладкой слюной, я трогаю ее трусы, прилипшие к ягодицам; меня выворачивает наизнанку, но я креплюсь, я срываю лохмотья, раздвигаю ляжки, сжимаю коленями ее бедра, широко раскрываю рот, чтобы она впрыснула в него весь свой яд, я постараюсь не умереть и не блевануть. Я мну ладонями лохмотья, приклеившиеся к ее потной спине, пояснице, плечам; я запускаю пальцы, пропитавшиеся теплым потом, мочой, молоком, в ее тяжелые, пыльные, липкие волосы, приклеенные к вискам слюной мальчиков и фруктовым соком; мой рот, наполненный слюной, кривится под ее губами, я кусаю ее щеки, ноздри, лоб, ее ладонь протискивается под мои шорты, между ягодиц, она щиплет пальцами волоски на моей жопе, на мои глаза набегают слезы, она целует их, ее дыхание обволакивает мое лицо, мой язык обшаривает ее ноздри, слизывает корку из слюны, спермы и молока в уголках ее губ; ее тяжелые, влажные, теплые груди, прижатые к моей голой груди, дышат, дрожат, растекаются до моих подмышек.
Птица, влетевшая в раскрытое окошко, ударяется о кроличью шкурку, растянутую под потолком. Дюдоре сидит напротив, девушка, сидящая у него на коленях, кусает его ухо, серебряную серьгу, тянет ее, плюет в ухо, слизывает свой плевок из складок ушной раковины. Девушка расстегивает пальцами, на которых блестят жир и румяна, шорты Дюдоре, вытаскивает член, приглаживает прядку волос; темнеет; в окошке появляется лицо Гала, покрытое солью и туманом, он смеется, прислонившись лбом к занавеске между створками.
— Проваливай. Иди играть с малышами.
Он опускает голову, прыгает в грязь, ныряет под повозку, садится на овечью шкуру, кидает свои бабки: «Хоп, хоп, хоп», прислонившись спиной к оси.
Ночью с животом, набитым мясом, вином, сахаром, сливками, я ворочаюсь на постели рядом с Дюдоре, девушки спят в другой повозке, стоящей под каштанами; на согнувшихся над крышей повозки ветвях, в сырой от дождя листве, прыгают, вытирают клювы, чирикают пурпурники; девушки, лежа под одеялами, откидывают волосы за уши, тяжелые от медных и серебряных сережек, вслушиваются в птичий переполох, доносящийся сквозь деревянные крашеные ставни.
… Я выхожу, холод сковывает мои плечи, мужчины провожают нас глазами, женщины раздирают губы о бледных лангустов, я подношу замерзшие пальцы к лотку, на котором дымятся жареные каштаны. Гал хватает меня за другую руку; как всегда улыбаясь, к нам подходит Дюдоре; из окна, завешенного тяжелой красной шторой, женщина со стаканом холодного лимонада смотрит на наши босые ноги.
— Нам надо разойтись, чтобы полицейские нас не сцапали. Вы с Галом уходите, я пойду один. Если захочешь меня увидеть, приходи к черкесам.
Мое горло сводит спазм, я закусываю губы, чтобы не закричать, Дюдоре уходит, теряется в толпе, Гал плачет:
— Пойдем теперь к блядям.
Я увожу его на освещенную улицу. Я подхожу к шлюхе, та берет меня за руку, кладет ее на свой живот, покрытый шитой золотом тканью, смеется, ее живот колышется; другая шлюха, в синем платье, ласкает Гала. Мужчина отталкивает меня от шлюхи, моя ступня скользит в сточную канаву, на ногу брызжет кровавая грязь; синяя шлюха прижимает Гала к своему животу, Гал говорит:
— Мадам, мне холодно.
Шлюха курит длинные сигареты, одергивает обтягивающее бедра платье:
— Подождите у кинотеатра, я скоро приду за вами.
Нынче вечером я уже вряд ли найду клиента.
Я смотрю на нее, на ее пахнущие мылом локоны на лбу и на висках, она смотрит на меня большими влажными глазами, сигарета дрожит в ее пальцах, я ухожу, оборачиваюсь, она опускает глаза, мы с Галом ждем, прислонившись к колонне у входа в кино, я держу его руку в своей.
Заблудившиеся пурпурники бьются в стекла крытого пассажа, крысы опрокидывают крышки мусорных бачков, тащат кости в свои норы. Шлюха смотрит на меня в неоновом свете. Гал уснул, я вижу складки его ушных раковин, блестящие от серы, его грязную шею, глаза, окаймленные коростой, покусанные губы; по тротуару скользит ветер, забирается по моим ногам, под шорты, вдоль бедер до плеч; обрывок газеты, принесенный ветром, оборачивается вокруг моего колена, я отдираю его, моя рука увлажняется кровью и слюной, я вытираю ее о стену, покрытую надписями и рисунками: крест внутри круга, «Да здравствует смерть!», коса, крест…
Шлюха подходит к нам:
— Идите за мной, я скажу что вы — мои братья, вы будете спать в моей комнате.
Она гладит по плечу проснувшегося и дрожащего Гала; в ярко освещенном зале шлюха прикрывает свои блестящие глаза, ведет нас к лестнице, навстречу спускается мужчина под руку со шлюхой с золоченым животом, она гладит меня по голове:
— Заходи ко мне, красавчик.
…Ее ладонь опускается на мою рубашку, гладит мои соски, синяя шлюха вздрагивает, задранное платье открывает розовую, покрытую мягким пушком кожу ее бедра, складку на ляжке, я спрашиваю:
— У вас под платьем ничего нет?
Она молчит, я касаюсь ее тела, мну его пальцами. За дверью, выходящей в коридор, я слышу смех, скрип матрасов, поцелуи, вздохи, полоскание горла, звяканье сережек; шлюха закрывает дверь; я сажусь на край кровати, простыни смяты, скомканы, усеяны мокрыми пятнами, подушка усыпана светлыми и черными волосами, посреди простыни — мелкие темные волоски и свежая пудра; шлюха подталкивает Гала к умывальнику, моет ему лицо, раздевает его, трет ему спину, грудь, уши, Гал смеется, кусает ее мокрые пальцы, горячая вода его возбуждает; шлюха усаживает его на биде, дает ему губку:
— А теперь подмойся сверху и снизу.
Гал опускает губку в горячую воду, прижимает ее к члену, смеется, я тоже смеюсь, шлюха срывает с постели простыни, комкает их в руках:
— Оставайтесь здесь, я пойду поищу чистые.
Она уходит, Гал встает, горячая вода струится по его ногам на линолеум; мой член стоит; я поднимаюсь, Гал прижимает губку к животу, я отбираю ее у него, тру его плечи, живот, ляжки, Гал снова садится на биде; я отдаю ему губку, он смеется:
— А теперь подмойся сверху и снизу.
Шлюха останавливается на пороге, услышав мой хриплый смех, смотрит на пол, на постель, на матрас, на мои забрызганные водой шорты; Гал, опустив голову, трет губкой член и ляжки, его плечи дрожат от смеха:
— Мойтесь побыстрее; сегодня праздник, вы пойдете со мной; вы — мои свободные братья. Мадам Теодора угостит вас пирожными. Гал одевается, шлюха чистит щеткой его шорты, я говорю:
— Я хочу спать, я, пожалуй, не пойду на праздник. Гал вздрагивает.
— А ты иди, принесешь мне пирожное. Шлюха берет Гала за руку.
— Я скоро приду тебя проведать; застели постель и не забудь разуться.
Они выходят, двери хлопают; вымытые, надушенные шлюхи, выгнав клиентов, с визгом спускаются по лестнице.
Я разуваюсь, ложусь на кровать, засыпаю, ветер открывает окно, опрокидывает лампу в изголовье кровати, мои плечи, спина, поясница, член горят, небо давит мне на грудь, нож вспарывает мой живот, протыкает горло, моя мать обрезает веревку, от твоих поцелуев просыпается мое сердце, уходи, пусть крысы из бездны сожрут тебя, блядь, пусть крысы из бездны растянут твою жопу, а чайки — твой рот. Я в Экбатане, в месте, слишком чистом для тебя, пожирательница запястий. Дверь открывается:
— Ты не спишь?
— Нет, подойди ко мне.
— Меня зовут Антигона. Этим летом у меня были первые месячные.
— Меня зовут Виннету, я убил мою мать.
— У тебя теплый живот, от тебя хорошо пахнет. Мадам Теодора посадила Гала к себе на колени. Она сказала, что вы останетесь здесь до возвращения лакея. Однажды утром вошел молодой человек, я взяла у него чемодан, сняла с него пальто, мое сердце часто забилось: это был мой первый мужчина; я гладила его светлые волосы, он забрал у меня чемодан; мой корсаж был приоткрыт, мадам Теодора вышла из своей комнаты; он сел на мою кровать, я открыла кран с горячей водой, он подставил свою голову под дымящуюся струю, вытерся полотенцем, которое я ему подала; он молчал, гладил мои ресницы и плечи, я разделась у батареи, его пальцы дрожали на кромке моих трусиков, я легла на кровать, раздвинув ноги; он разделся, не снял только хлопковые трусы, лег рядом со мной, я дышала ему в ухо, гладила ладонью его живот; я сняла с него трусы и дотронулась до его трепещущего члена, он перевалился на меня, от его груди пахло угольной пылью; в его волосах мои ногти давили хлопья сажи, мой язык слизывал их с его ресниц.
Я мою, пачкаю, мою, плюю и лижу; молодой человек отодвигает ногой чемодан, он говорит, приподнявшись на кулаках:
— Послушай, в моей груди клокочет революция, в полдень она брызнет с моих губ во все губы Экбатана. Благословенна ты, сосущая и лижущая первой молоко свободы.
Он встает, одевается, расчесывает перед зеркалом, испачканным помадой, свои светло — рыжие волосы, берет чемодан и выходит.
В полдень кровь брызнула на решетки дворца, на столбы, на ступени храмов, на пальмовые стволы; толпа косит, отходит, колет, отходит, топчет, отходит, режет, отходит, выкалывает глаза, отходит, рвет на части; в горлах кровь порождает крик, разбитые лица на тумбах, раздробленные ноги на драконах фонтанов, вспоротые груди, где кровь почернела от пороха…
— Антигона, ты свободная или рабыня?
— Рабыня. Разве ты не видишь кольцо в моей губе и второе, под пупком?
— А я — свободный, так и бродим мы свободно по городу, нищие, грязные, сонные, но с чистыми губами.
— В конце зимы я тоже буду свободной.
Ее губы пахнут цветами и ветром; коленями и ляжками я поднимаю ее ноги; ее соски приклеились кровью к моим, на взбирается на мою грудь, ее голова катается под, моей головой, ее бедра сжимают мою грудь, мой член бьется между ее ягодиц, протянув руки, я беру член, отгибаю его назад, вынимаю; сок ее раскрытого влагалища омывает мой пупок; мой вывернутый член хрустит, я выпускаю его, он опадает и скатывается по моей ляжке.
— Кто тебя научил искусству любви?
— Моя мать. А мой отец учил мою сестру.
Я беру в руки голову несчастной Антигоны, ее рот заполнен жгучей спермой зари, ее ноги сбиты туфлями; пуговицы, зубы и ногти царапают твои соски; твои веки склеены слюной, твои глаза залиты вином; дрожат твои зубы, ногти, кости, мышцы перекатываются под кожей. Твоя цена? твои ляжки, разведенные уверенной рукой сводни, твои вывернутые губы, твои зубы, по которым стучит молоток зазывалы. Твоя цена? твоя цена?
Она плачет на моей груди. Гал, пьяный, рот набит пирожным, шорты расстегнуты, рубашка мокра от пота и веселых слез, открывает дверь, слоняется над раковиной, блюет, его шорты наполовину сползли на ягодицы…
Виннету вытирает мокрые губы, вытирает руку о балюстраду из крашеного дерева.
В салоне близняшки спят, обнявшись, на диване. Виннету вскидывает руки к черному небу; по морю пробегают пенные валы; он кричит, ствол автомата упирается ему в челюсть, заря прицеливается, он кричит; слезы блестят на его щеках, избитых зарей, по лбу стекает пот.
Чайка кричит, раскачиваясь на куче водорослей. Ксантрай назначил на завтра начало операции «Экбатан», названной так в честь столицы метрополии, где родилось большинство солдат, где рабы Ксантрай и Тивэ смутили сердца и тела множества мужчин и женщин, где политические, военные и религиозные лидеры азартно ссорятся друг с другом, не стесняясь в выражениях, и бранят молодежь за эгоизм.
Машины загружены, Пино по представлению Ксантрая назначен старшим поваром, арсеналы почти полностью опустошены, госпиталь укреплен, дворцы огорожены палисадами, архиепископство напичкано часовыми, самого кардинала сержант научил стрелять из пулемета.
Вечером Ксантрай в сопровождении Виннету навещает солдат в их казармах; солдаты молча сидят на тюфяках и пишут письма своим невестам; на обратной стороне писем они составляют списки своего имущества. Ксантрай собирает эти письма, чтобы запереть их в гарнизонном сейфе, приказав секретарям хранить их.
Некоторые солдаты поднимают глаза на Ксантрая:
— Господин, капитан, на этот раз все серьезно?
— Господин капитан, они все придут на свидание?
— Господин капитан, они все еще сражаются ножами?
— Господин капитан, правда, что у них появилась авиация?
Его приятель Вильдфрай написал ему из деревушки близ Элё, что они обнаружили в маки следы самолетных шасси.
— Господин капитан, Экбатан нас бросил.
— Господин капитан, не перерезать ли нам поджилки чиновникам из Экбатана?
Ксантрай улыбается, смотрит на стоящие у стены винтовки, передергивает их затворы, наклоняется к вещевым мешкам:
— Я приказал вам выдать новые комплекты обмундирования. Вы их получили?
— Да, первый раз за всю службу. Господин капитан, позвольте завтра, перед отъездом, набить морды этим каптенармусам?
Ксантрай выходит.
— Виннету, тебе не страшно?
— Мне? Я убил мою мать и Тивэ, чего мне бояться смерти?
На кухне Ксантрай кладет руку на плечо Пино, нагружающего вместе с помощниками кастрюли, вертела, ножи на прицеп полевой кухни, стоящей во дворе.
— Тебе ничего не нужно? Все в наличии?
— Да, господин капитан, не хватает только одного черпака.
Подозреваю, что его стащил генерал. И знаете зачем?
Ксантрай смеется, Виннету хватает с печи кусок сыра и ест его.
— Эй, Виннету, нечего воровать припасы.
Два помощника со следами от кольца на губах, склонившиеся над ящиком с увязанными котлами, выпрямляются, их лица и руки блестят:
— Пино, следи за чистотой твоих людей. И за своей, кстати, тоже.
Ксантрай возвращается в кабинет, Виннету встает у двери, опершись на балюстраду галереи, плюет вниз; комната радистов освещена, радиостанции трещат, пищат, блестят; выходит радист с голым торсом, вокруг поясницы повязано мокрое полотенце, он спрыгивает во внутренний двор, поднимает голову, видит стоящего на галерее Виннету:
— Эй, Виннету, хочешь выпить? Я приму душ, иди, выпей, Иолас получил посылку с тремя бутылками водки.
Спускайся.
— Не могу, я охраняю капитана.
— Пусть сам себя охраняет.
— Тише, Суччиньо, нет, я, правда, не хочу. Радист заходит в казарму, выходит с кружкой водки. Суччиньо поднимается на галерею, протягивает кружку Виннету:
— Пей, малышка.
Ксантрай выходит из кабинета. Суччиньо складывает руки крестом на голой груди.
— Иди спать, Суччиньо. Да, найди мне батарейку для фонарика.
Суччиньо спускается по лестнице, кружка блестит на балюстраде.
— Пей, Виннету, пей.
— А вы, господин капитан?
Но Ксантрай молчит, уставившись в ночь, размышляя о чем-то. Капля воды падает с крыши на его запястье, он выпивает ее, она скатывается по его губе, у нее привкус и цвет кольца; Суччиньо поднимается, протягивает Ксантраю батарейку; Виннету пьет, Ксантрай возвращается в кабинет; пурпурники сидят на электрических проводах.
Песнь шестая
Энаменас спит, Ксантрай приказал загородить все выезды рогатками и поставить часовых; рядом с ними толпятся подростки Энаменаса, их мотоциклы и автомобили сигналят и дрожат у проволочных заграждений, девушки раскрывают свои корсажи, но часовые показывают руками, что проезд закрыт; один из мальчиков видит след от кольца на губе часового:
— Ты был рабом? Опусти руку и дай нам проехать. Сен-Галл, можно я его ударю?
— Нет, он солдат, может пожаловаться. Вернемся.
Мотоциклы и автомобили разворачиваются на песке дороги.
Часовой поглаживает губу, его кулак сжимает колючую проволоку; пена лижет песок; часовой садится на дюну, на его бедра прыгают блохи:
— Эй, Володя, почему ты его не пристрелил?
— Ты с ума сошел, я — бывший раб.
— Капитан тебя защитил бы.
— Нет. Он с ними заодно.
— Видел девчонок?
— Предпочитаю блядей.
— Мальчишки убили мамашу Лулу.
— Капитан говорит, что он расстрелял бы новобранцев и взял мальчишек в солдаты. И девчонок — стирать белье и стряпать для солдат.
— Блядей, которых можно тискать и ебать…
— Тише, идет патруль.
Сержант освещает фонарем лицо Володи:
— Ты остановил их?
— Да, сержант. Они меня оскорбляли.
— Сожми кулаки. Выиграем сражение и сбросим в море всех этих блядей и ублюдков. Будем жить с бедняками.
Володя снова садится на песок, ворошит зажатый между ног пучок чертополоха, с него скатываются маленькие белые улитки, он берет их пальцами, давит, кривится от запаха гнилого мяса, встает, вытирает пальцы о гимнастерку, подходит к ограде, отделяющей шоссе от луга, качает колышки, на которые натянута проволока, смотрит на ручей, текущий в трубе под дорогой и вытекающий на границе пляжа, раскачивает приземистые деревца, падающие с них звонкие капли омывают их красные корни. И так всю ночь, с болью в груди от перенесенного оскорбления, он ходит, садится, наклоняется, вырывает, давит, плюет, хрустит, трет…
Над его головой носятся чайки, замедляясь на перекрестке ветров.
На заре Ксантрай толкает двери, бьет в ладоши. Через полтора часа грузовики заполнены, солдаты помылись, вооружились, уселись на скамьи, прицепы подняты и закреплены. На дороге часовые открывают заграждения; грузовики едут к долине Королевского дворца, съезжают с автострады, поворачивают вниз, съезжают на побережье; девушка в шортах катит против ветра на старом велосипеде, ее ляжки трутся о седло; Виридо встает, грузовик обгоняет девушку, Виридо, волоча по брезенту лязгающий затвором автомат, снимает легкую каску:
— Продается?
Солдаты смеются, девушка оборачивается, ее волосы рассыпались по плечам, на зубах блестит слюна:
— Этот товар не для твоей корявой рожи!
Ксантрай в своем джипе слышит девушку, оборачивается; Виридо, стоя у борта, раздвинул ноги, трясет член сквозь ткань штанов:
— А этого не хочешь? Тепленький, свеженький.
Шорты девушки натянулись на ляжках, она крутит педали, часто дышит, по ее лицу скользят золотые блики; грузовик обгоняет ее, Виридо свистит, он смотрит на ягодицы девушки, катающиеся по сиденью, натягивая и сминая легкую ткань шортов, на полоску кожи между завязанной узлом на пупке рубахой и поясом шортов, открывающуюся при движении. У Виридо и у всех солдат встает; после свиста солдат из последнего грузовика девушка откидывает волосы назад; солдаты накрывают ладонями, ласкают, давят, целуют холодными губами ее влагалище, припухшее, сдавленное, сжатое в складках шортов, согретое трением о седло.
— Суччиньо, ты знаешь эту девушку? Кто она?
— Шлюха… свободная, ее ебли в Королевском дворце; еще она дает мужчинам, старикам и молодым, из деревень. Господин капитан, если вы позволите, я расскажу вам, как она ебется…
— Потом, Суччиньо.
— Господи Иисусе, когда она у вас сосет, когда ее сладкая влажная пизденка плющится, как шерстяной кошелек, на ваших губах… Господи, господи, от нее встал бы даже у генерала…
— Замолчи, Суччиньо.
Иолас толкает Суччиньо локтем, провода их наушников переплетаются.
— Иолас, ты на связи с КП? Скажи им, что мы в квадрате NY 22.
Иолас передает сообщение, его нога задевает деревянный ящик, Ксантрай вздрагивает:
— И как зовут эту девушку?
— Ника.
— Останови, Бэби.
Шофер тормозит.
— Скажи девушке, что я беру ее в свой джип. Ее велосипед поставь в грузовик.
Бэби выпрыгивает из джипа, взмахом руки останавливает колонну, стоит, расставив ноги, посреди дороги, девушка подъезжает к нему, ставит одну ногу на землю:
— Капитан приглашает тебя в свой джип, давай мне велосипед.
Девушка толкает руль солдату, он гладит ее ладонь, руку, Виридо спрыгивает с грузовика, отряхивает штаны на бедрах, кладет ладони на патронташ, Бэби поднимает велосипед, закидывает его на кучу походных кроватей; Виридо обнял девушку за талию, целует ее запрокинутое лицо, девушка отбивается, пальцы Виридо мнут шорты, ногти скребут ткань, ладонь опускается на ягодицы, проникает между ног, сжимает зажатые между ляжек губы влагалища; его мокрые от слюны и пены губы шлепают по щекам девушки; Бэби отталкивает его, обнимает девушку за талию, притягивает к себе. Виридо бьет его по спине, Бэби оборачивается, бьет Виридо по щеке, девушка прислоняется к колесу грузовика; солдат, сидящий на походных кроватях, встает, берет ее за волосы, наклонившись за борт, гладит пальцами ее лицо и веки; девушка стоит, раздвинув ноги и держась руками за борт, ее рубашка задралась до грудей, шорты спустились до низа живота, она кричит и наклоняет голову; Бэби валяется в пыли, Виридо бросается на девушку, прижимается к ней своим большим горячим телом, ловит ее губы своими зубами, стискивает ногтями ее влагалище; солдаты, сгрудившиеся у борта, кричат, обнимаются, их каски сталкиваются во влажном воздухе; Ксантрай выпрыгивает из джипа, приближается к солдатам, ладонь Виридо разрывает ширинку шортов; ягодицы девушки катаются по горячим шинам, ее рука отталкивает мускулистую грудь Виридо, другая рука накрывает член солдата, прижатый к разорванной ткани шортов.
Ксантрай хватает Виридо за плечо, сбивает его с ног, солдат падает на колени в пыль, капитан бьет его по лицу; его член со змеиной головкой торчит из ширинки, колени разбиты о полосу гудрона, лицо кровоточит, с губ стекает розовая слюна; он держится за живот; девушка пальцами расчесывает волосы, разорванные шорты открывают низ живота, темную прядку волос и розовые губки влагалища под ней, Ксантрай смотрит на эти влажные губки, девушка не спешит прикрыться, она трясет волосами, глядя на Ксантрая; Бэби встает, отряхивает гимнастерку, солдат на раскладушках наклоняется; девушка сгибает ногу и упирается ступней в колесо, солдат наклоняется, плюет на ее голые ляжки, плевок попадает в угол между пахом и ляжкой, стекает по складке на влагалище, солдат плюет снова, слюна стекает по пряди волос; девушка поднимает глаза, волосы рассыпаются по ее плечам, солдат плюет ей в лицо, ослепленная девушка трет глаза; подошедший Бэби гладит ее по бедру, Ксантрай отталкивает его руку:
— Иди в джип. А ты застегнись. И иди за мной.
Лицо и ляжки девушки блестят от слюны, она прижимается к Ксантраю, гладит его виски, прижимается к ногам офицера, целует его рот и щеки; Ксантрай отстраняет ее:
— Застегнись.
Девушка завязывает полы шортов на бедрах, Виридо поднимается, девушка отходит от грузовика.
— В следующий раз ты мне заплатишь.
— Я тебя заебу до смерти.
В долине Игидер Ксантрай спускается на ферму Тальбо. Сен-Галл младший и Тальбо в пижамах завтракают в гостиной, Ксантрай садится, берет тартинку с вареньем; девушка, сидящая в джипе на месте Ксантрая, расчесывает волосы; Бэби смотрит на нее, смеется, глупо ухмыляется, ерзает задом по сиденью, гогочет; вылезшие из грузовиков солдаты окружают джип, покачивают бедрами; те, что мочились у кювета, поворачиваются и трясут членами над бампером джипа, свистят, но девушка спокойно расчесывает волосы, улыбается, вздыхает.
Солдаты подходят ближе, Суччиньо и Иолас внезапно хватают девушку за плечи, вжимают ее в сиденье, Бэби переваливается на девушку, садится на ее колени, двигает задом, трется о ляжки девушки, его спина сдавливает ее груди.
Подходит Виридо с перевязанной головой, толкает Бэби, вытаскивает его из джипа; он тянет девушку к себе, укладывает ее на дорогу, наваливается сверху, одной рукой затыкает ей рот, другой снова рвет шорты и вынимает свой член из ширинки; девушка вырывается, ее ступни и колени бьют по спине Виридо; лохмотья шортов, прижатые приподнятыми ягодицами, треплются в пыли; через некоторое время: ее ягодицы приподняты, яйца Виридо, вывалившиеся от яростных движений из ширинки, бьют по заду девушки; стоящие кругом солдаты дышат в такт, топчут сапогами землю; один из них присаживается на корточки, склоняется над спиной Виридо, прижимается к нему, вцепившись пальцами в его бедра.
В гостиной Ксантрай ждет фермера Тальбо:
— Вы видели Одри в Элё?
— Да. Он обрил голову, все время молчал, сжав губы. Мы говорим ему о Серже — он молчит. Он сильно избит, гимнастерка порвана, за ушами кровь.
— Тивэ умер. Его зарезали десантники.
— Отец сказал: «Ксантрай сохранил бы генералу жизнь».
— Я был в тюрьме, когда его убили.
— Я слышу шум на дороге. Ксантрай, твои солдаты завалили девушку. Псы, негры. Отец был прав, когда брал с них деньги за стакан воды.
— Не презирайте моих солдат. Все они — бывшие рабы. Я, кстати, тоже. И Тивэ носил кольцо в губе. И за что они поставили меня во главе войска, как не за мое стремление к Солнцу? Солдаты сочинили походную песню, вот что в ней говорится:
Встав из грязи, с ложа бесчестья, мы идем к тебе, Феб. Открой наши лица, высуши наши бедра. Укрепи наши длани, разорви покров моря, омой ступни твоих детей. Окури наши раны, поцелуй наши шрамы. Пусть тяжелая каска защитит плоды между наших окровавленных бедер, когда, мертвые, мы будем лежать над бездной с раздробленными скалой ногами.Ксантрай наклоняется над девушкой, ее липкий живот дрожит. Когда Ксантрай касается его, по телу девушки пробегает огонь, оно изгибается; ее влагалище кровоточит, ветер сносит вырванные из пряди на лобке волосы в пыль. Сонные солдаты, винтовки между ног, сидят на скамейках, смотрят на Ксантрая из-под опущенных ресниц, их колени дрожат. Ксантрай поднимает девушку за плечи, ведет ее к джипу, усаживает, джип трогается. Бэби бросает на девушку беглый взгляд. Ксантрай наклонился за борт, упираясь ногой в ступеньку, раздувая ноздри от запахов земли. Ладонь Бэби накрывает рукоятку переключения скоростей, теребит ее; девушка улыбается, прикрыв глаза. Бэби трет шарик рукоятки, наклоняется к девушке, та хохочет; холодный пот течет по спине Бэби, от смеха Ники его член встает; он скребет пальцами сиденье у ее бедра; влагалище девушки под лохмотьями, красное, горящее, набухает снова, ткань увлажняется, Бэби замечает это мгновенно, он касается его, сдвигает лохмотья; медленно, как ежик, разворачивается темная прядь под толчками губок влагалища. Ксантрай снова поднимает ногу в джип, рука Бэби скользит по ляжке девушки; легкая каска Бэби съезжает на затылок.
— Куда вы едете, прекрасные воины?
— Спроси у капитана, детка.
— Господин капитан, ваши солдаты — грубияны.
— А зачем ты показываешься перед ними полуодетой?
— Потому что у меня нет денег, чтобы купить красивую одежду. Не можешь ли ты выдать мне военную форму?
— В Титов Велесе Бэби даст тебе мою запасную.
— Они грязные, твои солдаты. Скажи, капитан, можно мне остаться с тобой? Я хочу посмотреть на сражение.
Самолеты сопровождают колонну. Вечером они приземляются в городе Титов Велес, названном так в честь пастуха по имени Велес, который в этом месте во времена царства Рока отыскал, загнал, схватил и сжег Духа Зла; Солнце помогло юноше, раскалив свои лучи и выпарив воды потока, на дне которого Дух Зла обитал в великой роскоши, окруженный развращенными им юношами золотого племени.
Жители Титов Велеса, враждебные повстанцам, намеревающимся лишить их привилегий, окружили колонну; женщины и девушки гладят колени солдат, мужчины, спустившись по лестницам своих домов, жмут руку Ксантраю; всю ночь, несмотря на сухой закон, солдаты, разместившись по домам, где рабы вымыли их, умастили благовониями и побрили, топят в вине свою тоску. Часовые, охраняющие колонну, в свете горящих окон ждут прихода Ники; по-прежнему одетая в лохмотья, она встает перед ними на колени и дрочит им, повторяя нежные и непотребные словечки; сперма брызжет на штаны, капает в пыль и на колеса грузовиков, Ника вымазанной в сперме ладонью заправляет член в свой рот, солдат напрягает ноги, вцепившись пальцами в тяжелые липкие волосы девушки. С днища машины капает бензин.
Ксантрай поставил деревянный яшик на ночной столик и уснул на мягкой постели. Жители Титов Велеса и офицеры местного гарнизона устраивают кровавые игры: пленные, вожди и рядовые повстанцы после допроса, если они живы и не слишком искалечены, помещаются в муниципальную тюрьму, а потом сдаются в аренду или продаются учителям фехтования или спортивным тренерам, которые день и ночь обучают их смертельным ударам, бегу, прыжкам; по завершении этих занятий их спаривают со шлюхами из Энаменаса; зачатые таким образом дети принадлежат их хозяевам; по ночам в частных крытых бассейнах тайно устраиваются бои; кровь и пыль покрывают пальмы и стекла; бой прекращается только со смертью пленника, рабы тащат труп, поднимают его по лестнице; потом его продают мяснику, слуги которого, чаще всего рабы, ждут за стеклами, дремлют в фургонах; мясник прячет труп в холодильнике и в дни голода или бунта продает человечину черни. Пленники, ослепленные неоновым светом и ослабевшие от наркотиков, бьются неуклюже, кровь течет ручьями и скапливается в сливных отверстиях; раненые катаются в крови, их спины и бедра пронзены самым необычным оружием: кухонными и консервными ножами, штопорами, пилками для ногтей… Другие, с руками и ногами, сломанными при прыжках, корчатся под ногами сражающихся; несколько пленников бегают вокруг бассейна; впалые груди, покрытые кровавой пеной губы; офицеры заключают пари, ставят на своих бойцов, к их груди, прямо к телу, рабы прикалывают значки батальонов.
Так каждую ночь уничтожают до сотни пленников. Их детей, родившихся от принудительного спаривания, до поры до времени кормят матери в Энаменасе; подросших продают в разные места, некоторых на судах контрабандистов отправляют в порты Экбатана и продают содержателям борделей, устроителям зрелищ и в иностранные легионы. Эта резня, эта торговля, эти случки, неизвестные губернатору и солдатам, творят из Титов Велеса город высокий, тайный и грустный. Днем мужчины и молодые люди ясны и чисты, ночью их тоскующие души омываются кровью. Что до офицеров, то они хотят видеть, как повстанцы, захваченные днем в честном бою по приказам командиров, ночью трусливо и безжалостно сражаются между собой, забыв навсегда о бунте и свободе.
Жители Титов Велеса покупают большое количество рабов; дети, плененные в горах или на близлежащих островах, при налетах на перенаселенные деревни, уведенные из семей, вырванные из лап смерти при эпидемиях или из когтей грифов, служат хозяевам без слов, без крика, без слез. Их не бьют, но во всякое время дня и ночи их зовут на ложе хозяев; они раздеваются и раздевают, они поворачиваются и поворачивают; всегда и сверху, и снизу их тела объяты желанием, они выделяют без отдыха, без устали сперму и пот, текущие нежными, свежими, пахучими струями, чтобы стереть в их памяти воспоминания о свободе. Охваченные желанием жители Титов Велеса жаждут впрыснуть его, словно яд, в тела рабов, чтобы сохранить свою свободу и близость к божеству. Мертвых рабов уносят на плоскую скалу, возвышающуюся над городом; их обнаженные трупы забрасывают, заваливают камнями, чтобы их месть не настигла их хозяев.
В Титов Велесе нет борделей. Жители, не имеющие рабов, совокупляются с детьми, бездетные — с полудикими, умирающими под эвкалиптами собаками, ослицами и ослами.
У входа в храм два раба, юноша и девушка, поднятые на ложе два раза днем, один раз ночью и три — четыре раза во время обряда, посвященного Року, останавливают поклоняющихся божеству, разувают их и совокупляются с ними в похожем на склеп закутке под портиком; освобожденные от желания, с дрожащими плечами и пустыми желудками почитатели божества входят в храм и встают на колени перед статуей, в правый глаз которой вставлена электрическая лампочка, излучающая слепящий свет.
Жрецы, которым священный закон запрещает касаться человеческой и животной плоти, совершают обряд в галереях под куполом храма, над головой статуи. Тех из них, кого застанут за совокуплением с храмовыми рабами, юношей или девушкой из портика, тащат на самую высокую галерею, сбрасывают на голову статуи и оставляют их тела на руках божества; волосы, уши и плечи статуи покрыты засохшей кровью и брызгами мозга, на губах белеют осколки костей и зубов. Некоторые рабы, к которым во время оргазма возвращается память, напевают, прислуживая хозяину, древнюю песню, которую их похитители, прячущиеся за бамбуковыми изгородями деревень, слышали от детей, которых собирались украсть. В этой песне упоминается древняя богиня, вышедшая вооруженной из головы своего отца, главного бога вселенной; в тростнике, окружающем плоскую скалу — кладбище рабов, лежит разбитый на две части барельеф, на котором изображена эта богиня: шлем на голове, уши открыты, висок пробит; часто кровь, вытекающая из свежих трупов, заваленных камнями, капает на серый камень барельефа. Как следует из песни, эта богиня в древности царствовала в городе, где волю людей разделяли две силы: Любовь и Рок.
Сердца жителей Титов Велеса начинают часто биться, когда из задыхающейся груди лежащего под ними потного раба вырывается древняя песня. Поэты, музыканты, художники обходят Титов Велес стороной; скульптор — раб, воздвигший гигантскую статую божества, был вскоре после этого умерщвлен. Только составители законов и конституций могли жить и владеть рабами в этом городе. После дневных занятий юристы воспитывают в молодых людях преклонение перед Историей и Кастовым правом.
Школьные классы тогда наполняются истекающими потом девушками и юношами в расстегнутых рубашках, ремни болтаются на бедрах; девушки кладут головы на плечи юношей, все стоят и слушают, прислонившись к стенам, сжимая в руках листки бумаги и карандаши, чернеют брови, пот стекает за ушами; учитель велел закрыть окна — в садах и общественных столовых кричат рабы, окликают друг друга из своих каморок; учитель, стоя на небольшом возвышении, призывает молодых людей к храбрости, к действию, презирать наслаждения и философию.
Снаружи рабы счищают навоз с лошадиных боков, солнечные лучи нагревают их грязные ладони; другие, мужчины и женщины, лежат под автомобилями, грязь и смазка с черного днища пачкают их лица и шеи, слепит глаза. Ночью грязь из их ушей, хоть они и мылись в бане, осыпает хозяйскую подушку.
Солдаты гарнизона, изнасиловавшие одну из рабынь, были брошены в бассейн и умерли под холодными взглядами рабов. Повстанцы редко заходили в Титов Велес — бедняки их боялись, пьянство и содомия превратили их в скотов, их было трудно отличить от животных, с которыми они совокуплялись: умирая от одних и тех же болезней, они валялись вместе под эвкалиптами; у них была еда, но ремесленники и торговцы понемногу оставляли свои лавки, поднимались в спальни и ложились на кровати, сжимая между ляжек животных и детей.
Повстанцы убивали их в постелях; трупы месяцами оставались неубранными, гнили на тюфяках, рои блестящих мух перелетали из окна в окно; на пальцы детей, ловивших этих мух, брызгала кровь; грифы и вороны отодвигают ставни и одним взмахом крыльев слетают на полуразложившиеся трупы; повстанцы, обуянные гневом, пытались вытащить эти трупы, но тут же выбегали на улицу с черными от мух ртами, глазами, ноздрями, мчались к реке, бросались в воду, и еще долго потом их бедра дрожали от страха и отвращения.
На заре колонна сократилась на тринадцать грузовиков, которые остались во дворах Титов Велеса под охраной четырех взводов.
Ксантрай ведет за собой четыре грузовика, две связные машины, два джипа, три бронетранспортера, шесть взводов по пятнадцать человек в каждом, десять ящиков гранат и полное снаряжение для минирования и разминирования; колонна медленно въезжает в ущелье Тилисси, окружает горный массив, на вершине которого находится Лисья пещера, КП повстанцев. Три самолета сопровождают колонну.
В украденный из вещевого мешка на приморском посту бинокль Бежа смотрит на склон своей горы, механики из дружественной страны собирают вертолеты; летчики на краю пещеры играют в карты с повстанцами; после множества атак, сброшенных бомб, выпущенных разрывных пуль, вылитого напалма, пещера осталась неуязвимой для авиации: отверстие пещеры выходит на море, морской ветер сбивает огонь и сносит бомбы на камни ущелья; там они и взрываются.
Бежа видит грузовики на дороге и самолеты в небе; колонна останавливается на высоте 720 — посту, прозванном солдатами Свинской башней: комендант Титов Белеса поселил там свою свинью, чтобы она набирала вес на свежем воздухе под присмотром солдат; эти солдаты вместе со взводом десантников, поднявшихся на пост для минирования горного массива, в один голодный, но пьяный вечер зарезали и разделали свинью; всю ночь они ели, развалившись в траве у поста. Назавтра комендант приехал проведать любимицу; солдаты показали ему открытую загородку и сказали, что свинью увели повстанцы; в это время повара прятали остатки под котлы и вилами наваливали навоз на кости и куски кожи. Комендант сел в свой джип, оттолкнул шофера, взялся за руль, и тут щенок Тивэ, радиста десантников, радостно подбежал потереться о колесо, в зубах он держал уши и хвост злополучной свиньи.
Вокруг поста расположена деревня Тилисси, не раз опустошенная повстанцами; эта деревня славится на весь остров и даже Экбатан гончарными изделиями и коврами, в ней жили очень красивые люди, украшенные драгоценностями и говорящие стихами. В начале века жители Титов Велеса пытались подчинить их своим военным законам, детей отобрали у родителей, спустили в Титов Белес, постригли и разместили в казармах, но их руки не смогли справиться с выданным для защиты Республики оружием; пятьдесят лет спустя повстанцы также безрезультатно пытались поднять их на борьбу за свободу, которую, как говорят их поэмы, они никогда и не теряли. Тогда они окружили деревню, сожгли дома, мастерские, тростники, мельницы, сады, скотные дворы; скот разбежался по окрестным лугам; десять детей были зарублены топорами в своих колыбелях, вынесенных в сад; оккупационная армия раздавала мешки с зерном, солдаты усыновили детей, родители которых были зарезаны, и отвели их на пост, но ни сироты, ни вдовы не могли указать, где прячутся повстанцы, потому что они встречались с ними только во время резни.
Этот народ поклоняется облаку над горизонтом, всегда позолоченному солнечными лучами; они называют его Скала Бога.
Солдаты, спустившиеся в Тилисси, пьют под пальмовым навесом пряное вино; масляные лампы отпечатывают и переплетают на их спинах тени сидящих на корточках за тростниковой изгородью мужчин, женщин, детей; все они дрожат, когда ночь окутывает мраком священное облако, с позолоченного гребня которого до земли доносятся вопли богов.
Виридо, Суччиньо, Виннету спят под пальмовым навесом, их рты благоухают вином и медом, их животы набиты едой, их винтовки лежат на сырой соломе; шакалы бросаются на стены стоящих с краю домов, царапают известку и валятся на спину, испуганно воя; над деревней, на окружной дороге укрепленного поста, часовой проводит ладонью по утыканной осколками стекла стене. В казарме солдат укладывает своего ребенка на тюфяк убитого повстанцами товарища; он раздевает ребенка, укутывает его одеялом; на столе в луже кофе, смешанного с типографской краской, лежит закрытый комикс; солдат склоняется над ребенком, крестит его лоб, ребенок, глядя на него широко раскрытыми глазами, вынимает руку из-под одеяла, гладит ладонь солдата, тот выпрямляется, садится на табурет, берет комикс, стряхивает с него капли кофе, открывает его, читает под мигающим светом лампы; когда свет гаснет окончательно, он поправляет штепсель в розетке; часовой останавливается у двери; с криками входят другие солдаты, форма расстегнута, некоторые босиком, часовой прижимает палец к губам, солдаты замолкают, раздеваются в темноте, ложатся, мечтают, согнув ноги в коленях, теребя медальоны на цепочках.
Виридо и еще несколько солдат поставили свои кровати на чердаке под вышкой, на которую можно забраться через люк в крыше; они лежат, ругаются, крутятся на кроватях, причесываются, чинят обмундирование; начальник поста, молодой, приехавший вместе с Ксантраем из Титов Велеса сержант — командиры из военного трибунала простили ему убийство солдата, отказавшегося сражаться — входит в кухню, где Пино с помощниками и поварами поста моют посуду. Он сильно пьян, в руке у него бутылка вина, он берет со стола нож, колет ягодицы Пино и других поваров, те не реагируют: «Оставь его, он пьян, это у него пройдет».
Сержант проводит лезвием по затылку Пино, лицо которого окутано паром и залито потом:
— Ну что, повара? Надушенные солдатики, вы у себя в Энаменасе жрете отборное мясо, вы первые на счету интендантов, лучшие куски для ваших собак — офицеров, а что похуже — для бедолаг из пустыни. А здесь едят шакалов. И не ебутся. Молятся облаку. Сопляки убили вашего генерала. Пять лет я подыхаю в этом ущелье. И меня судят за то, что я убил предателя. Я разучился говорить. Дерьмо прилипло к моей жопе. Эти в трибунале затыкали носы; мне двадцать два года. Я никогда не был с девушкой. Один раз я спал с одним из моих солдат… Потом я три дня блевал.
Я поднимусь на облако раньше вас. Вот моя огненная жена. Я вставлю ей в рот и в зад. Трите, трите, посудомойки, бейте посуду, пачкайте пол. Ты. Ты. Ты. Ты.
Он дергает завязки передников на талиях поваров, смеется, пьет, плюется, на его лбу, под светлыми прядями, блестит пот. Сержант выходит из кухни, бросает нож в навозную кучу, кружит вокруг поста, застает врасплох часового, который, прислонившись к парапету, дрочит в лунном свете.
— Делай как я, придурок, пей. На, пей.
Он вытаскивает пробку из бутылки и вливает вино в рот солдата, тот облизывает губы, вынимает руку из штанов, берет бутылку за горлышко и пьет, пока хватает дыхания. Сержант возвращается на кухню, входит в дверь, смеется, проходит за спинами поваров, развязывает их передники. Потом хватает с залитого кровью стола скалку, подходит к Пино, сильно бьет его в висок, Пино падает, сержант бьет его по горлу; один из поваров набрасывается на сержанта, вырывает из его руки скалку, сержант отталкивает его, выбегает в ночь; повар поднимает Пино, укладывает его в алькове, из уголков губ Пино течет кровь, на шее расплывается синяк. Сержант залезает на чердак, открывает люк; десантники, сидя на кроватях, чешут ступни, спины, яйца; сержант, по бедру которого бьет кобура пистолета, набрасывается на часового, сталкивает его в люк, солдат падает на десантника, выворачивает, ломает ему большой палец ноги, десантник кричит, часовой встает, вцепляется пальцами в люк, но сержант топчет их сапогами, поворачивает пулемет, направляет его в отверстие люка, передергивает затвор, стреляет, пули разрывают доски настила, десантники прыгают к лестнице, сержант стреляет, прошивает кровати, десантники стучат в комнату Ксантрая, хватают на бегу винтовки и поднимаются по лестнице на чердак. По их голым спинам стекает селитра; сержант поднимает пулемет, наставляет его в небо, целится в то место над горизонтом, где вечером опочило священное облако, стреляет, кричит, стреляет, топчет ногами настил вышки, его рукава закатаны по локоть, он целится в звезды, планеты, туманности, звуки выстрелов отдаются эхом в горах, в пещерах, разносятся по ущелью до Титов Белеса, где командиры думают, что капитан Ксантрай раньше условленного срока начал операцию «Экбатан»; молодые люди вскакивают со своих кроватей, выбегают в пижамах на улицу и собираются у гимнастического зала, чтобы бодрствовать вокруг костров и под изображением идола, в знак своего единения с солдатами.
Сержант бросает с вышки бутылку, она разбивается на окружной дороге, осколки блестят у ног часового; сержант слышит на чердаке шум, вынимает пистолет из кобуры, Ксантрай бросается на него, хватает за ноги, сержант, теряя равновесие, целит в офицера, Ксантрай выбивает пистолет одним ударом приклада карабина, забирается на вышку, скручивает сержанта, бьет его по лицу; пулемет вращается на турели, Ксантрай останавливает его и Разряжает:
— Ты разбудил всех фелей Энаменаса.
По склонам горы до приморской долины повсюду загораются огни.
Ксантрай укладывает сержанта в его комнате под охраной троих солдат; он связывается по радио с комендантом гарнизона Титов Велеса, тот прыгает в джип с двумя десантниками, катит по ущелью, тормозит у шлагбаума поста, поднимается в комнату сержанта; целый час он осыпает его руганью, бьет кулаком, прикладом винтовки, ногами, плюет ему в лицо; мало-помалу удары превращаются в грубые ласки. Ксантрай, сидя за походным столом, пишет длинное письмо губернатору с просьбой простить ему его бунт, на столе стоит старая фотография Тивэ времен его освобождения, на ней он ловит с черкесами крабов на скалистом берегу Экбатана. Комендант, наклонившись над сержантом, мнет его живот, расстегивает ширинку, сержант, откинув голову на подушку, молчит, широко открыв глаза, только когда ласка становится особенно грубой, он поднимает руку и касается пальцами ладони офицера. Окно раскрыто в ночь; сверху доносится смех солдат, лежащих на чердаке; комендант зовет своих десантников, те берут сержанта за руки и за ноги, выносят из комнаты, несут и кидают в джип; комендант — Ксантраю:
— Я отвезу его в Титов Велес, чтобы отправить в метрополию. Завтра я пришлю вам нового командира поста.
Подождите его приезда перед началом операции.
Он запрыгивает в джип, бьет по лицу сержанта, которого держат двое десантников, берет руль, трогается с места.
Бежа приказал вывести вертолеты из пещеры, их выкатывают по склону горы, спускающемуся к морю. Солдаты, выглядывающие из бойниц крепостного вала, ерзают, стирая сосками известку, они плюют из-за стен на капот джипа; комендант поднимает глаза, солдаты прячутся, присев на корточки, комендант оборачивается:
— Гермион, сотри плевки, блестящие при луне.
Десантник выпрыгивает из джипа, берет у коменданта тряпку, вытирает плевок; на его губах два шрама.
— Гермион, ты опять в грязной гимнастерке. Когда ты наконец соберешься и пойдешь за разрешением на рабыню?
Десантник возвращает тряпку коменданту.
— Или ты, как только видишь бабу в садике, сразу кончаешь?
Солдат садится в джип, голова сержанта падает на его мокрую ляжку. Джип спускается к Тилисси.
— Завтра утром, телок, пойдешь покажешься врачу.
Настоящий десантник Титов Велеса должен уметь пользоваться всеми частями своего тела.
Солдаты, высунув головы из окон и из-за стен смотрят на проезжающий по деревне джип.
— Гермион хочет, чтобы его отправили в метрополию, видно по всему.
Джип выезжает из деревни, едет по ущелью; внезапно — крики, вспышки на склоне; джип увеличивает скорость, пуля пробивает правую переднюю шину; джип заносит, он ударяется о скалу, солдаты выпрыгивают, прячутся за опрокинувшейся машиной, свистит граната, ударяется о спинку сиденья, комендант выпрыгивает на дорогу, пуля укладывает его у капота, джип взрывается, подпрыгивает, горит, трещит, свистит, солдаты за ним охвачены огнем с ног до головы, они кричат, катаются по скале; огонь перекинулся на кусты дрока над скалой, объятые пламенем ветви падают на головы солдат; три повстанца спрыгивают на Дорогу, один из них расстреливает наполовину обгоревшее тело коменданта, перерезает ему горло, пинает труп ногами, забирает оружие; двое других расстреливают солдат, Дергающихся на скале; Ксантрай вбегает в казарму поста, собирает солдат, винтовки летают над головами; солдаты, Раздетые до пояса, в сваливающихся с затылков касках, бегут по уснувшей деревне, ложатся на землю на небольшой площадке на выезде из деревни, целятся в повстанцев, стреляют; повстанцы, освещенные пламенем догорающей машины, сморенные теплом пожарища, опьяневшие от порохового дыма, сжимают оружие в обмякших ладонях, пули косят их, они падают в пыль, солдаты стреляют выше, по склону, до освещенного костром виноградника, среди лоз мечутся тени, солдаты стреляют, тени подскакивают, пыль с трясущихся листьев падает на лежащие тела, в открытых ранах которых, как мушиный рой, бурлит кровь.
Солдаты сходят с площадки на дорогу; десантники, лежащие на скале под обгоревшим джипом, поднимают обуглившиеся руки; Ксантрай подходит, трогает одну из этих рук, она обламывается, пепел осыпается на окровавленные ноги солдата; под свежим ночным ветром тела остывают, коченеют и падают со скалы на дорогу; окровавленные ладони и губы дрожат под слоем пепла; артерии, глаза и мышцы сожжены, они умерли под взглядами солдат, спускающихся из виноградника с ляжками, покрытыми пеплом и раздавленными ягодами; в покореженном, раскаленном железном кузове языки пламени шевелят кучку пепла; оторванная взрывом, согнутая в колене нога лежит под сиденьем, на колене повисла цепочка со смертным медальоном; Ксантрай наклоняется над телом коменданта, расстрелянного повстанцами посреди дороги, его заголившийся живот покрыт волдырями, похожими на мух, копошащихся на зловонной падали.
Ксантрай оставляет сержанта и три взвода на посту и с четырьмя взводами выходит в горы по следам повстанцев, выгнанных собаками из виноградника, просочившихся через оцепление и рассеявшихся в ночи. На заре он останавливается под пещерой повстанцев, радист вызывает Титов Велес, самолеты, взлетевшие по его приказу, направляются к ущелью, Ксантрай со своими людьми крадется в зарослях дрока; самолеты обнаружили взводы, Ксантрай по радио приказывает летчикам поддержать штурм; повстанцы, вцепившись в кусты дрока, лежат на гребнях скал, прячутся за камнями, дрожащими руками заряжают оружие; ночью они заложили вход в пещеру камнями, проложили вокруг нее обходные тропы, вырвали кусты и траву, чтобы избежать поджога.
Самолеты пикируют на пещеру, Ксантрай и его люди ползут к ущелью, самолеты расстреливают повстанцев, Ксантрай, воспользовавшись суматохой, бросается в ущелье, ищет вход в пещеру, винтовки солдат скребут по камням; повстанцы выбегают на окольные тропы, самолеты их расстреливают, Бежа на приморском склоне поднимает в воздух три вертолета, летит вдоль дороги на Энаменас; каждый вертолет сбрасывает тридцать пять бомб на дворец губернатора, на штаб, на КП, на порт; над аэродромом их обстреливают стоящие на земле самолеты, они взлетают, атакуют их в воздухе, два вертолета сбиты, тот, в котором летел Бежа, возвращается на гору, Бежа выпрыгивает, самолеты из Энаменаса присоединяются к тем, что обстреливают пещеру; Ксантрай в крошеве камней и пуль осматривает стену, нагромождение скал; выступ у входа в пещеру объят пламенем; повстанцы, пробравшись окольными тропами, окружают гору и выходят Ксантраю в тыл; самолеты пикируют в ущелье, один из них задевает за выступ, загорается и, вращаясь, падает; дым ослепляет Ксантрая, повстанец вырывает у него пистолет и разряжает ему в спину, Ксантрай бьет себя ладонями по животу и падает, солдаты кричат в дыму; два самолета разбиваются об уступ скалы, их фюзеляжи крутятся по камням, скатываются на гальку; солдаты, накрытые грудами раскаленного металла, кричат, их руки, разодранные острыми краями, выгибаются и, шипя, обгорают; Бежа с раненой рукой, задетой пулей в небе над Энаменасом, прыгает в ущелье, вклинивается в ряды солдат, окруженных повстанцами, убивает наповал шестерых; повстанцы спрятавшись за уступы, стреляют из пулеметов по самолетам; у солдат кончились патроны, они собирают камни и кидают их в повстанцев, вцепившихся в трясущиеся пулеметы, забираются на уступы, сбрасывают с площадок оглушенных повстанцев и перезаряжают раскалившееся, обжигающее ладони оружие.
Тело Ксантрая обожжено, растоптано, засыпано камнями, которые швыряли солдаты; Виридо, прячась в дыму, склоняется над ним, сбрасывает камни; взяв труп за ноги, он волочит его на уступ, наскочивший сзади повстанец хватает его за пояс, Виридо вынимает нож и вонзает в пах вцепившегося в него повстанца, тот отпускает руки, сползает на землю, его лицо скользит по ягодицам Виридо; солдат забирает у него винтовку и патроны; Виридо топчет голову повстанца, ставит ногу на его живот, кричит петухом, трясет гривой волос, бросается в схватку, оглушает, стреляет, режет, его рука, горло, бедра покрыты посыпанной порохом кровью, на его губах пузырится пена, лицо бледнеет от ярости; он отпихивает кулаками раненых им повстанцев, один из них прицеливается в него, он набрасывается на него, переворачивает на спину, хватает за челюсть и бьет головой о скалу, другой раздирает его штаны, обрывки топчут солдаты, Виридо с голыми ногами, набрасывается на повстанца, убивает его выстрелом в живот, повстанец падает, Виридо нагибается, снимает с повстанца штаны, прячась за выступ, натягивает их на себя, застегивает ширинку; заметивший его повстанец бежит к нему, Виридо поднимает ремень над головой, раскручивает его, повстанец подбегает, пряжка ремня бьет его по лицу, кровь заливает его глаза, Виридо наступает, повстанец пятится, закрываясь руками, Виридо хлещет его по глазам, по губам, кровь брызжет, сочится, Виридо заносит кинжал, вонзает его в грудь повстанца, лезвие раздирает легкое, повстанец падает, его кровь забрызгала грудь и лицо Виридо, и тот плюется, сморкается, икает, из его стоящего члена льется сперма и моча, он бросается в гущу боя; Виннету, Вильдфрай и Дафни дерутся бок о бок под уступом; Бежа с плечом, раненым разрывной пулей, выпущенной из горящего самолета, вбегает в ущелье, собирает своих людей; из объятого пламенем Энаменаса вылетают самолеты; повстанцы выходят из-за камней, окружают взводы, бросают гранаты; разорванные осколками тела взлетают в воздух, опрокидывают на камни уцелевших солдат; Виридо, прокравшись за дымом, заходит Беже в тыл, но тот слышит шаги по гальке, резко оборачивается и разряжает свой автомат ему в живот; Виридо кричит и падает на камни, ломая нос и выбивая зубы; Бежа стреляет в упор в спины и плечи солдат, те вздрагивают, кровь из их ртов течет на сияющую белизной гальку; Виннету, прижатый к скале тремя повстанцами, надвигающимися на него с зажатыми в окровавленных руках ножами, кричит, плюется, пустой магазин его автомата блестит на гальке, он подбирает его, кидает в противника, потом, вынув нож, прикрыв грудь автоматом, кидается на повстанцев; те бросают к ногам свои винтовки, облепленные пылью и кровью; Виннету кидается на пламенеющие ножи, лезвия прошивают его ляжки и живот, обжигают руки; Виннету тычет ножом в облако взметенной пыли, сквозь которое сверкает галька; кровь горит на его шее, скользит, как ласковая ладонь, по плечам, слезы наполняют глаза, кровь отливает от щек и коленей; кругом дымятся на солнце окровавленные, обуглившиеся тела; изо рта, набитого галькой, звучит песня; птицы, пурпурники и голуби, выпорхнувшие из нор и гнезд под корнями деревьев, жаворонки — из гнезд на камнях, снуют по воздуху, кричат над полем боя, опьяненные запахами пороха и крови.
Виннету с пронзенными руками падает головой на камни, он еще дышит, гимнастерка от крови прилипла к стене, голова дрожит, виски трещат, море вливается в его Рот и вытекает фиолетовой блевотиной, зловонными листьями и цветами, желчью заката.
Повстанец вонзает свой нож под лопатку солдата, проворачивает его в ране; Виннету, заломив руки, загребает ладонями мелкие камешки, хрипит в осыпающуюся гальку. Бежа отстраняет своих людей, бросается на Вильдфрая, протыкает его кинжалом, прицеливается в бегущего Дафни, стреляет, пуля разрывает живот солдата, кровь из раны брызжет на его грудь и светлые волосы; он придерживает двумя руками розовые внутренности, выпадающие на ляжки; наклонившись вперед, он выбегает из-под огня, садится на уступе, его глаза затуманиваются, голова скатывается на окровавленную грудь; в глубине долины, между высокими кручами, он видит дым горящей столицы и кружащий над ним рой блестящих ос.
Он видит растущее, пробивающееся сквозь дым пламя, его губы открываются, кровь выливается толчками, смачивает, нагревает гимнастерку на груди, хлюпает в складках, под тканью, под ремнем; его голова падает на колени, кровь льется на гальку, изрытую лезвиями ножей; Бежа подходит к Дафни, берет его за волосы, откидывает голову назад, солдат стонет. Бежа, вцепившись в окровавленные волосы, бьет Дафни головой о скалу, ногой топчет рану в животе; наклонившись, укладывает солдата на площадке, подбирает гальку, кидает ее в распоротый живот; галька скользит в рану, голова солдата бьется о камень, его глаза широко раскрыты; Бежа вытирает ладонь о камень, кричит, бросается в бой; Вильдфрай корчится у скалы, повстанцы оборачиваются, бегут к другим солдатам; самолеты в разорванном, раскаленном воздухе движутся скачками, как стрекозы. Бежа подходит к Вильдфраю, солдат хрипит, раскинув окровавленные руки по каменной стене, гимнастерка на груди расстегнута, Бежа вынимает нож, проводит лезвием по горлу Вилдфрая, потом вонзает нож по рукоятку; голова солдата скатывается на его кулак; Бежа вздрагивает, его кровь холодеет, он опирается на стену, тяжело дышит, труп Вильдфрая рядом с ним падает на гальку; вытолкнутый изо рта потоком блевотины язык откушен.
Бежа отворачивается, поднимает глаза к вольному синему небу; кровавые блики, блеск ножей, гул самолетов; он отирает пот со лба окровавленной ладонью. Окруженные солдаты отступают, их убивают поодиночке, к сапогам повстанцев, которыми они затаптывают солдат, прилипли лоскуты кожи и пряди волос.
Самолеты расстреливают повстанцев, которые прячутся под уступами, в расщелинах скалы, направив пулеметы в небо. Над столицей кружит эскадрилья; солдаты, слуги, чиновники заливают ведрами небольшие пожары; пожарные тушат горящие руины дворца; губернатор, выбравшись из пылающего кабинета, бегает по плацу, его сломанная рука болтается на бедре; Серж и Эмилиана, сожженные заживо в своей лодке во время бомбежки порта, хрипят между обуглившихся досок; над городом, окутанным дымами, разливается запах сгоревшей рыбы; на стенах дворцов и казарм — сидящие и лежащие обугленные трупы солдат, слуг, священников, детей, застигнутых огнем во время бегства; спасатели опрокидывают их ударом шеста, взметенный пепел осыпается на их лица; в порту горят корабли, огонь расплывается по волнам; в развалинах складов догорают ящики с припасами, мешки с зерном; у городских ворот струи воды омывают обгоревшие трупы нищих и детей, настигнутых огнем во сне или в болезни; в верхнем городе горят сады; вишни, раскинувшие ветви над травой, сохранили свои покрытые росой плоды; ветви, высовывающиеся на улицы, рушатся на покрытый пеплом асфальт.
Бежа прыгает в вертолет, летит в Энаменас, где повстанцы, нахлынув из нижнего города, окружили спасателей у стен дворца; Бежа и трое его людей, сгорбившись в кабине, пролетают над рекой, над лиманом, вертолет садится на берегу, Бежа и его люди бегут по песку, смеются, плачут, дрожат, над их головами, крича и шумя крыльями, пролетает стая пурпурников. Бежа и его люди поднимаются по свалке к нижнему городу, Кмент ждет его перед борделем, Бежа и три его спутника входят, убивают всех клиентов в общем зале и в комнатах, выбрасывают трупы в окна; вербовщики выбегают в сад, прячутся в погребе, Кмент, Драга и Петрилион ведут Бежу в домик, он открывает люк, они сходят в погреб, находят вербовщиков, прячущихся за батареями пустых бутылок, расстреливают одних, оглушают других, вытаскивают их из погреба, нога Бежи скользит на брезенте, он опускает глаза, видит свежую кровь, высохшую сперму, собачий мех, волосы ребенка, он бьет вербовщика по лицу, давит ногой ему на горло; вербовщики оставлены в саду под охраной пятерых молодых повстанцев, сбежавших из борделя до прихода Петрилиона.
Джохара, опираясь на плечо Кмента, проходит по борделю, перед ней появляется Драга, она опускает глаза; Драга наклоняется, целует ее в затылок. Бежа поднимается в верхний город; взбунтовавшиеся солдаты грабят архиепископство, убивают чернокожего юношу, запершегося в дортуаре со своими маленькими кастратами. Исмена, голая, спускается по лестнице борделя, проходит перед Кментом, ее тело выпачкано вином, спермой, слюной, Джохара уткнулась в плечо Кмента, потом вдруг обнимает Исмену, целует ее щеки, лижет лоб, уши, веки. Навстречу Беже идут группы солдат, в руках — ящики с припасами; в садах солдаты сворачивают головы курам, забивают кроликов, срывают цветы и вставляют их в петлицы; Бежа входит в развалины дворца; губернатор выходит ему навстречу, жмет ему руку:
— Я вас узнал, вот дворец, который я хотел вам передать по закону с тех пор, как в нем поселился. Берите его. Он уходит. Он пересекает обгоревший двор, проходит под аркадой портала и исчезает в дыму. Он поднимается по лестнице, заваленной обуглившейся мебелью и истерзанными трупами, его ладонь, дрожа, скользит по мраморным перилам; поднявшись на этаж, он смотрит в окно, дым поднимается в горы; порт и адмиралтейство горят до полудня. Бежа забирается на фронтон здания, срывает флаг Экбатана и прикрепляет к древку рваные грязные трусы, подобранные в борделе; он спускается вниз, взбунтовавшиеся солдаты подходят к нему, ведут его в гаражи, на оружейные и продовольственные склады, повстанцы присоединяются к Беже; в ущелье, под пулями, повстанцы прыгают с уступа на уступ, разрывные пули вырывают кусты, дробят камни; пуля прошивает ногу прыгающего повстанца, он падает лицом на камень, другая пуля пробивает его затылок; его спина и плечи сотрясаются в конвульсиях; пилоты, узнавшие о победе Бежи, разделяются, половина эскадрильи возвращается в Энаменас, другая половина кружит над ущельем, расстреливая зажатых в нем повстанцев. Самолеты огибают Энаменас, пытаются сесть на аэродром, но он захвачен повстанцами и взбунтовавшимися солдатами; солдаты, унтер — офицеры и офицеры, оставшиеся верными присяге, закрылись в ангаре; на взлетной полосе солдаты поднимают стволы пулеметов, стреляют, сбитые самолеты падают в окружающие аэродром болота; трава загорается, огонь перекидывается на цистерну с бензином, она взрывается с глухим шумом; уцелевшие самолеты взлетают высоко в небо, сближаются, переговариваются по радио, решают лететь через море.
— Летим в Экбатан и вернемся сюда с подкреплением.
— Правительству не нужен разрушенный город. Останемся. По крайней мере, умрем достойно.
Три самолета отрываются от группы, пикируют на аэродром, стреляют, но мощный и точный огонь укрывшихся повстанцев прошивает кабины, два самолета вспыхивают и падают в болото, фюзеляж громоздится на фюзеляж, обгоревший летчик выбирается из кучи железа, скользит по крылу, поднятый элерон срезает ему голову. Третий подбитый самолет падает, вращаясь, на землю, срезает верхушки эвкалиптовой рощи на берегу реки и, шипя, погружается в мертвую воду, тут же смыкающуюся над раскаленным корпусом…
На земле повстанцы кричат, обнимаются, кусают руки; солдаты тащат корзины с булочками, украденными в офицерской столовой. Повстанцы разбредаются по городу, они убивают в тюрьме либеральных политиков, те стонут, подняв руки, пытаются выразить революционную солидарность, бросаются к повстанцам, чтобы обнять их.
Но Бежа приказал убить всех колонистов, кроме губернатора, тот должен сам покончить с собой. Убив Иллитана за излишнюю мягкость, Бежа хочет править бедняками, его интересует только толпа. Он разрушит все виллы Энаменаса, отнимет детей у матерей, уничтожит институты брака, семьи, частной собственности. Он бросит свою свору на баррикады Титов Велеса.
Он садится в кабинете губернатора, кладет ноги на стол, стряхнув с него пепел; два повстанца с винтовками в руках, стоящие у двери, привстав на носки, выглядывают в окна лестничной площадки.
Подростки Энаменаса под предводительством Сен-Галла собираются в Королевском дворце; Сен-Галл ударом ноги убивает старую привратницу, заваливает ее труп хламом; все собираются в подвале, считают винтовки и гранаты; Сен-Галл, собрав в небольшом погребе военный совет, предлагает убить самых слабых; члены совета выходят, Сен-Галл выбирает жертвы, его лейтенанты хватают их, сгоняют в центральный коридор к лестнице, целятся, стреляют, мальчики падают, сползают по перилам лестницы, девушки с криком бросаются к ним.
Сен-Галл приказывает собраться под главным фасадом, он берет девушек за руки, тянет их за собой; как только мальчики закрывают двери коридора, крысы вылезают из своих нор, из тряпок, из старых порванных матрасов, прыгают на тела, грызут горла умирающих; одна крыса ставит лапу на раскаленную гильзу; она кричит, крутится, подняв трясущуюся лапу. Сен-Галл ставит своих мальчиков к окнам и отдушинам; Фабиана, одной рукой обняв его за талию, другой гладит его волосы; Сен-Галл между приказами сжимает ее в объятиях:
— Сегодня вечером я покину дворец, я пойду в Рисвик, один.
— Фели наверняка убили твою родню. Окровавленные трупы их детей плавают на наших пляжах; от Рисвика до Лутракиона песок на берегу залит кровью.
— Пьержинский, принимай командование. Я вернусь перед рассветом.
Едва стемнело, Сен-Галл выбрался из дворца; он бежит к морю, у схода на пляж лежат пары, их ноги и руки испачканы кровью и спермой, блестящей в лунном свете; в полночь он входит в сад вокруг виллы; в холле его нога скользит в луже крови, он поднимается по мраморной лестнице, по площадке первого этажа пробегает тень, Сен-Галл стреляет, тень падает, Сен-Галл подходит, спотыкается о трепещущее тело, наклоняется, струйка теплой крови стекает ему на ногу, он поворачивает голову, потом все тело мальчика, сжимающего в руке серебряный подсвечник, Сен-Галл бьет его рукояткой пистолета по голове, сталкивает по ступеням вниз, входит в вестибюль, открывает дверь комнаты, входит, выключатель вырван с проводами, Сен-Галл подходит к кровати, отдергивает шторы; сестра его отца, которую подростки Энаменаса называют Родня, лежит на скомканных простынях, ее рука стиснута натянутым балдахином, Сен-Галл тянет ее за эту руку, она падает на окровавленные простыни, Сен-Галл задирает ее платье, разбитое влагалище исполосовано следами ногтей и зубов. Сен-Галл подходит к окну: внизу лежит освещенный лунными лучами пустынный порт, волны раскачивают причальные кольца; богатая и праздная Родня построила порт и Целый город вокруг него на прибрежных холмах, с бассейнами и складами; но ее приказчики и рабы напрасно возводили дома на пустынном взморье, напрасно она сама писала торговцам и поставщикам с острова и заграничным: только одна семья из пустыни Гилдо под Тилисси согласилась жить в Рисвике. Ее поселили в самом красивом доме, каждое утро рабы приносили туда фрукты, вино и приготовленные яства, их дети приходили играть с собаками и обезьянами Родни. Но однажды утром семья, снедаемая тоской по родным местам, исчезла. Родня навеки заперлась за высокими стенами виллы; однажды зимой, за пять лет до начала восстания, мэр Энаменаса прислал ей двух маленьких флейтистов, она послушала их, а потом велела переломать им ноги, в отместку столице за свой заброшенный порт. Однако она привязалась к своему племяннику, часто привозила его Рисвик, забавлялась с ним днем, а вечером отсылала обратно в Экбатан, обласканного и закормленного сладостями; однажды она увидела, что он подрос, кровь ударила ей в голову, она оставила его на обед, на ночь и лишила его невинности. Мальчик больше не приезжал, но присылал ей письма, рисунки, стихи и глиняные статуэтки.
Сен-Галл садится перед секретером, створки которого блестят в лунном свете, открывает ящики, разворачивает пакет, обвернутый золотистой нитью, пробегает глазами страницу, встает, подставляет листок под лунные лучи, облокачивается на край окна: «…моим рабам — кнут. Моему племяннику за утраченную девственность — мои оранжереи в Лутракионе, чтобы он выгуливал в их аромате свое потное дрожащее тело… мои приказчики сами будут частью завещания…»
Сен-Галл сворачивает бумагу, кладет в карман, выходит из комнаты; на лестнице он спотыкается, позабыв о лежащем теле мальчика, ударяется подбородком о мраморную ступень, крошит зубы, выплевывает их с кровью, выходит в сад, гладит верхушку самшита, наклоняется над большим цветком: «Это лилия», пьет росу с его дрожащих лепестков. На заре он бежит между кустами у дворца, входит по главной лестнице; все мальчики и девушки убиты на своих местах; Сен-Галл, задыхаясь, проходит на носках между опрокинутыми, стоящим на коленях телами, повернувшими головы к восходу, роса на их лицах, на их нетронутых одеждах смешалась с кровью. Сен-Галл не осмеливается дотронуться до неподвижных тел, до ресниц над еще блестящими глазами, до бледных губ и волос, примятых руками убийц; Сен-Галл спускается, садится на свой мотоцикл, едет к Энаменасу мимо груд голых истерзанных трупов; собаки, грызущие их, кидаются на голые ноги Сен-Галла, его плечи пробирает холод, соски приклеились кровью к сырой от росы и пота рубашке; обезьяны, точно во время эпидемии, спустившиеся с гор, группами шныряют по улице, их влажная шерсть позолочена зарей, у них в лапах — женские ленты и волосы, они расступаются перед мотоциклом, протягивают лапы, трясут головами, царапают когтями плечи Сен-Галла; солнце печет его спину, сиденье и бензобак обжигают его ляжки и смятый под легкими шортами член; Сен-Галл останавливает мотоцикл, гладит по голове урчащую обезьяну, трогается с места, наезжает колесом на обезьянью лапу, обезьяна машет кулаком, берет лапу в ладонь, раздвигает пальцы, трет фаланги, ставит лапу на землю, кричит, скребет щеки, снова берет отдавленную лапу, садится, прислонившись к стене, лижет ступню; Сен-Галл останавливает мотоцикл перед своим домом; цветы и беседки в саду сожжены, на лестнице лежит голый труп его отца, горло перерезано, оторванная голова лежит у плеч, ноги застряли в розовом кусте под балюстрадой, член задран на живот; Сен-Галл оставляет мотоцикл, наклоняется, берет труп за плечи, волочит его к подножью лестницы, берет голову и относит ее в разграбленный салон, ставит на полку секретера, ложится на шкуру белого медведя, поворачивается на бок, кладет под голову ладонь и засыпает.
Бежа, спавший на постели Сержа под охраной десяти повстанцев, просыпается, встает, принимает душ, бреется бритвой Сержа, причесывается его гребнем; он обходит комнату, гладит листья винограда за окном; он расшвыривает книги и пластинки, стоящие в книжном шкафу, включает проигрыватель, двигает рычажок, сгибает его, вырывает, бросает на пол и давит каблуком. Он спускается в сад, садится на мраморную скамейку, возвышающуюся над городом и портом, охранники идут за ним. Он видит пустынные улицы и проспекты, выходящие к морю, только несколько детей купаются в синей воде, в мокрых плавках они вылезают на камни у мола и ловят крабов, просовывая ладони в щели.
Бежа опускает голову, смотрит на нижний город; улочки, залитые росой и солнцем, полнятся тенями обезьян и людей, но ни одного голоса не доносится из этого идущего, прыгающего, совокупляющегося сонмища; повстанец наклоняется к Беже:
— Один ученый говорит, что этой ночью он видел огромную волну над островом Ланнилис, что лежит напротив порта, а под Элё тряслась земля.
Бежа отталкивает повстанца.
В ущелье повстанцы одерживают победу, они сбили десять самолетов; ущелье становится непроходимым из-за сбитых самолетов и трупов, они обходят его сверху, самолеты пикируют, трое повстанцев падают, но двадцать невредимыми врываются в деревню Тилисси; они хватают женщин и детей и гонят их перед собой живым щитом к воротам поста; солдаты не осмеливаются стрелять; повстанцы, продолжая гнать перед собой заложников, врываются во двор поста; солдаты ждут подкрепления и приказов из Титов Велеса; они отступают, закрываются на чердаке; повстанцы жгут все вокруг; Пино встает в уборной, застегивает ремень, бежит в кухню, пуля пробивает его сапог; закусив губы, он прыгает в кухню, видит, как двое повстанцев поджигают уборную, хватает ножи с разделочного стола; его помощники, запертые на чердаке, горят вместе с солдатами; зажав в руках ножи, он прячется за котлами, повстанцы его заметили, один из них поджигает газету, другой вырывает ее у него из рук, они идут к кухне; по навозной куче бегают крысы; ослабшие от высоты, они не могут прорыть норы, повстанцы их убивают и нанизывают трупы на лезвия кинжалов:
— Мы тебя видели, мы зарежем тебя, грязная крыса!
Пино затаил дыхание, его шея трется о жирное днище котла; повстанцы входят в кухню, закрывают дверь, ногами опрокидывают котлы, видят Пино, он пятится к стене, сбивает головой полку с солью, сахаром и перцем; повстанец, смеясь, делает выпад кинжалом, Пино сжимает ножи, его сердце бешено бьется, соль, сахар, перец ссыпаются с его горла под рубашку, до паха; скрестив ножи, он закрывает ими грудь и живот, повстанец бьет по лезвиям кинжалом, другой забегает сбоку, бьет кинжалом в бедро Пино, тот громко стонет и, не выпуская из рук ножей, оседает по стене набок, по его ноге льется кровь, кровь стекает изо рта; повстанец, стоящий перед Пино, крутит в руке рукоятку кинжала, потом вонзает его под колено солдата, Пино истошно вопит, кровь бурлит у него во рту, но он остается на ногах, обдирая локти об известку стен, он слизывает сахар с губ; повстанцы обезоруживают его и вонзают кинжалы ему в живот.
Снаружи солдаты, объятые пламенем, прыгают в окна чердака; внизу их ждут поднятые кинжалы, солдаты накалываются на них, увлекая за собой повстанцев; склонившись, повстанцы ударами в сердце и спину закалывают выживших и оглушенных; двор оглашается сотнями криков, вздохов, возгласов, стонов и хрипов; пурпурники, вылетевшие из ущелья вслед за повстанцами, чирикают, купаясь в крови; удар кинжала разрубает птицу пополам; в кухне разоруженный, изрезанный вдоль и поперек Пино хрипит под ногами повстанцев, его ноги, к которым кровью приклеились лохмотья гимнастерки, лежат на куче опрокинутых котлов, ручка большой сковороды торчит у него между ляжек; пепел и головни с горящего чердака падают на спины, плечи и волосы повстанцев; в кухонной пристройке куски мяса останавливают огонь; повстанцы тычут кинжалы в поджаренные куски, отрезают ломти и пожирают их с кончиков ножей, потом, обернувшись, погружают те же дымящиеся лезвия в трепещущее тело Пино; сталь разрубает кости, скрипит в мышцах и в горле; присевший на корточки повстанец тянет голову Пино, зажав ее между ног, солдат хрипит, кричит, повстанец тянет, плюет, потом, приподнявшись, упирается коленом в плечо Пино, поднимает голову за волосы и одним ударом отрезает ее; он поднимает ее за уши и, танцуя, выгибая спину, крутя задом, целует ее в губы и кладет на плечо.
Повстанцы, сжимая в зубах едва прожаренные мослы, вытирают пальцы об эту голову, смеются, рыгают, вытирают губы вырванными клоками волос; повстанец подбрасывает голову в воздух, все пинают ее, выбивают во двор и, крича и хрипло смеясь, гоняют ее по залитому кровью, засыпанном пеплом песку; женщины и дети, которых они использовали как живой щит, разбегаются, но пули опрокидывают их на шлагбаум; кричит ребенок, голова которого зажата рычагом, повстанец подходит, поднимает шлагбаум, трещит раздавленный череп, ноги ребенка несколько раз дергаются, потом, бледные, с напрягшимися мышцами, падают на землю; повстанец опускает шлагбаум, освобождает голову ребенка, его тело сползает по рычагу на землю, дрожит, потом, отвердев, затихает; повстанец подходит, наклоняется, трогает колено ребенка; женщина ползет, одной рукой опираясь на землю, другой закрывая лицо; она скатывается к деревенской дороге, повстанец бежит к ней, переворачивает ее на спину, ногой откидывает ее голову, присаживается на корточки, расстегивает ширинку, задирает платье женщины; насилуя ее, он вонзает ей в горло кинжал; другая женщина подбегает к ребенку, накрывает его своим телом, облизывает его раздавленную голову, прижимает ее к губам, омывает ее слезами и слюной; повстанец толкает ее в плечо, опрокидывает под шлагбаум, наклоняется над ней, женщина встает, отталкивает винтовку повстанца и его руки, задирающие ее платье; повстанец прижимает ствол винтовки к ее колену, стреляет, пуля дробит колено, кровь брызжет на грудь повстанца; женщина корчится на земле, повстанец щупает ее живот, вспарывает его, вырывает матку с младенцем, разрезает матку, на его кинжал накручиваются внутренности, он плюется, отбрасывает кинжал, кишки шлепаются в пыль, повстанец поднимает покрытого слизью младенца двумя руками, женщина стонет, царапает ладони повстанца. Тот кладет младенца на приоткрытую грудь женщины, двумя руками открывает ей рот, младенец соскальзывает в пыль, повстанец берет его за шею, втискивает его голову в раскрытый рот его матери, встает, топчет хрупкое тельце младенца, забивает его, топчет липкий рот женщины; остальные повстанцы в это время едят жареное мясо.
Горят несколько домов на окраине деревни, подожженных повстанцами; жители разбегаются по окрестным лесам, повстанцы врываются в дома, поджигают мастерские, напяливают на себя женские платья, опрокидывают кувшины с маслом, разбивают ткацкие станки, накручивают нити на головы; фрукты, едва надкусив, они бросают в огонь, они отрезают ломти мяса и хлеба в погребах, ложатся на циновки, встают, кромсают их ножами. В Титов Велесе на площади собирается подкрепление, Ника ходит между грузовиками, протягивает руки солдатам, те тянут ее к себе, она забирается на колесо, солдаты гладят ее волосы, плечи, груди; солдаты с другого грузовика хватают ее за талию, за пояс шортов, тянут к себе, она вырывается; один из солдат вылезает из кузова, прислоняется лицом к выпяченному заду девушки, протискивает голову между ее ног, целует ее пупок, поднимает ее, несет на плечах к другому грузовику; девушка держится за его волосы, он целует влагалище, прижатое к его подбородку, ноги девушки скрещены на спине солдата; она ощущает его смех, его дрожащий язык на своем влагалище, слюна намочила шорты, солдат несет Нику за грузовик, опускает на пыльную мостовую, ложится на нее, овладевает ею, от шока она плачет, пьет свои слезы, его губы скользят по груди девушки, кусают расстегнутую, задранную, смятую под мышками рубашку; он ловит ртом соски, сосет их, часто хлопая ресницами; распущенные волосы девушки рассыпались по пыльной мостовой:
— Малыш, ты делаешь мне больно.
Но солдат не слышит, его ресницы скребут по шее девушки, он грезит…
— Сандр, мой щеночек… Ты толкал меня ножками в живот, я хотела тебя убить, твой отец наваливался на меня, ты поднимал мой пупок, ночью я била по нему сапогом, днем — ножом или кастрюлей, я прижималась животом к стене, чтобы задушить тебя, я слышала, как твой рот шевелится на моей пояснице. Теперь я не так тебя ненавижу, ты заплатил за мои загулы с Аурелио, за эту новую кровать. Я начинаю любить извивы твоего тела, сочащиеся золотом… маленький хуек, из-за тебя я увязла в этом дерьме.
Аурелио не хочет работать, моей вдовьей пенсии не хватает, ты ешь, я вырываю еду из твоего рта, выдавливаю из глотки, но ты не умер, айны и черкесы кормят тебя ракушками и водорослями; ночью, когда ты раздеваешься перед моей кроватью, я опрокидываю тебя на пол ударом ноги, я плюю на фотографию твоего отца, погибшего на войне солдата.
На заре Аурелио берет меня, накрыв простыней, я мну фотографию, я тру ее о липкий член Аурелио; в сумерках ты смотришь, как мы обнимаемся, отсветы зари скользят по ягодицам и спине лежащего на мне Аурелио; ветер распахивает окно, холодит наши сплетенные тела: — Пусть твой заморыш закроет окно. Он встает, подходит к тебе, вытаскивает тебя из кровати, его большое тело дрожит в белесых бликах зари, он сжимает твою растрепанную голову своими ляжками, твои губы примяты его черными яйцами; тишина, шлепанье потных тел, жаворонок в когтях у сокола; его спавший член, толстый волосатый паук, встает, разбухает между ляжек, он тащит тебя по полу, занозы из половиц вонзаются в твои колени, он бьет твое маленькое, худое, голое тело:
— …Оставь его пока, у меня есть идея, я хочу его откормить, Аурелио, его тело хоть немного возбуждает тебя? Ну же, попробуй, посмотрим, сможешь ли ты любить его… Он набрасывается на тебя, подминает под себя, дергает тебя за член, задирает его вверх, прижимает к своей ляжке, к своему члену снизу, из-под ягодиц, он переворачивает тебя, сжимает ладонями твою грудь, упирается вздыбленным членом в твой зад, погружает его между твоих ягодиц; ты вырываешься, Аурелио накрывает ладонями твой член, дрочит его, ты, всхлипывая, плачешь, отталкиваешь руками его бедра, но он проникает глубже, его разбухший, округлившийся член пронзает твой живот.
— Не совсем получается, но со временем он пообвыкнет… И уж очень он тощий.
Его ляжки трутся о твой зад, он вынимает свой член из твоей расширенной, разбитой дырочки, ударом ноги опрокидывает тебя на твою кровать, забирается на мою, наклоняется и вставляет свой горячий член в мои трепещущие губы, я узнаю на нем твой младенческий запах; ты корчишься на своей постели, стонешь, зажав кулак между ягодиц, затыкая воспаленную дыру…
Я просыпаюсь, мое потное тело прилипло к кожаной обивке, они пьют шампанское, ласкают айнских девушек, затаскивают их в кабинки с перегородками красного дерева, девушки кричат, из-под портьер льется кровь; они льют шампанское на мою грудь, разбрасывают лохмотья моих шортов и рубашки; из кабинки выходит стражник, его штаны на ляжках пропитались кровью и спермой, айнская девушка дрожит в неоновом свете на диване, голая, на обритой голове — фуражка стражника; ботинок стражника, развалившегося в кресле, прижимает мой член к ляжке; на балконе священник читает вполголоса молитву, кровь небес окрасила его запястье; заря холодит мое голое тело; священник, увидев меня, задирает сутану и трясет свой длинный тонкий член, его запах щекочет мои ноздри; в порту, в утреннем мареве, горят корабли с грузом зерна и сахара — их обстреляли стражники; запах горелого зерна и расплавленного сахара поднимается к балкону; черная рука вырывает молитвенник, стаскивает священника с балкона, он падает на мокрые плиты базилики, из-под его задранной сутаны выглядывают бледные, исполосованные при флагелляции ляжки.
Я поднимаюсь, задевая головой каминную полку из фиолетового мрамора; в камине горит голова священника, куски горелой кожи отрываются и падают с тонзуры; ночные бабочки в сером свете зари прилипли к окнам; стражник встает, подходит к окну, гладит ладонью стекло.
— Так начинается новый мир. Пройдет немного времени, и вы не увидите ничего, кроме огня и мрака. Пройдет немного времени, и вы увидите воду и свет.
Златокрылый орел касается стекла; вдали, на базилике, звонит золотой колокол; влажные перья орла прижимаются к стеклу в том месте, куда стражник положил свою ладонь. Дверь открыта, я, обнаженный, спускаюсь по лестнице; люди, разгребающие на улице снег, не видят моей наготы, я бегу; Аурелио лежит на моей матери; моя рука в серой воде зари; я беру кувшин, пью холодное молоко; в моей руке дрожит шило, я подхожу к кровати, заношу руку, шило блестит, я погружаю его в спину Аурелио, оно пронзает его сердце, входит в грудь моей матери, пронзает ее сердце, пригвождает их к кровати; из-под рукоятки шила по спине Аурелио скатывается блестящая капелька, на моих руках крови нет, я снимаю со стены фотографию отца, прижимаю ее к груди; по моему животу стекает холодное молоко…
Девушка приподнимает тело Сандра. Солдат, спрыгнув с грузовика, бежит к ней, его сигарета падает в открытый бензобак; огонь расползается, как волна по приморскому утесу, грузовики взрываются; солдаты, винтовки взлетают в позолоченный воздух, окровавленные обломки падают в пыль, винтовки стреляют в дыму; Титов Велес горит; рабы безропотно позволяют огню пожрать себя; кричат подростки, запертые в гимнастическом зале, стекла лопаются и падают им на головы; священники в храмах задыхаются от дыма; огонь лижет будки для совокуплений и, поднимаясь к горе рабов, покрывает копотью священный камень.
Сен-Галл бежит в горы, входит в лес, кинжал бьет его по бедру; роса с ветвей кедров стекает на его лоб и губы; к его коленям липнет паутина, слюна и мох; твердые, прямые, наполненные млечным соком стебли дрожат в ослепительном свете. Лужайка правильной формы, как в парке, девственная трава, стрекот птиц и насекомых; над кедрами, на проводах высокого напряжения, блестят жесткие надкрылки.
Сен-Галл лежит на глинистом склоне; шум винтов маленького вертолета, который пролетает над лужайкой, возвращается, кружит над деревьями, снижается, садится на стелющуюся траву; из него выпрыгивает молодой человек в синем свитере; распрямившаяся трава лезет в кабину; он открывает другую дверцу, помогает выйти девушке в темном пальто; они бегут по высокой траве; пурпурники и орлята слетают по склону; девушка одной рукой держит жесткую руку юноши, другой поправляет сбившиеся от бега волосы; она видит птиц, смеется, бежит за ними; пурпурники залетают в подлесок, орлята подпрыгивают на кончиках крыльев; девушка наклоняется, трогает орленка, тот распрямляется, раскрывает крылья, шипит; девушка гладит его клюв, он кусает ее за палец; они садятся посреди опушки, достают напитки и фрукты; над верхушками кедров пролетают бакланы.
Сен-Галл выходит из леса, подходит к лежащей на траве паре; шорты на его бедре прожжены пистолетным порохом; девушка поднимает глаза, тут же опускает их, Сен-Галл выходит на солнце, садится между юношей и девушкой.
— Если ты голоден и хочешь пить, угощайся.
Сен-Галл берет банан, подносит его к губам, смотрит на девушку, в ее глазах — мечтательный блеск; девушка касается ладонью руки юноши, ее пальцы дрожат; из приморской долины доносится грохот разрывов.
— Мы в свадебном путешествии.
— Вы видели пожар в городе?
— Мы из Экбатана.
— Здесь матери едят своих детей и совокупляются с собаками. Этот лес к вечеру сгорит. Улетайте, скажите в Экбатане, что ад наступает на них.
Он встает, хватает орленка, сворачивает ему голову, находит на глине другого, закалывает его кинжалом, бросает трупы птиц к ногам молодоженов, набрасывается на девушку, угрожая ножом и заряженным пистолетом, овладевает ею стоя; юноша бросается к нему, Сен-Галл вынимает горящий член, бежит в лес; девушка падает на руки юному супругу.
— Кровь и огонь во мне. Воды, дай воды, я умираю.
Дым из горящего Титов Белеса поднимается к лесу; юноша поднимает девушку на руки, укладывает ее в вертолет; дым, как туман, стелется над травой, вертолет взлетает и направляется в сторону моря. Сен-Галл с голой жопой сидит, задыхаясь, на корточках в задымленном лесу близ источника, он встает, сгребает ладонями свое дерьмо, мажет им лицо, тело, одежду, бросается с пистолетом у виска в источник, в тот момент, когда лицо касается воды, гремит выстрел, кровь брызжет, красит блестящую под слоями дыма воду, голова скатывается на рыжие камни; олени, кабаны, обезьяны и орлы, гонимые огнем, крича, пробегают, пролетают над погрузившимся в воду телом; в подмышки впиваются раки; над лужайкой, над приморским склоном языки пламени хватают летящих орлов, шипя, бросают их на землю, преследуют оленей и обезьян в зарослях дрока, в нагромождении камней, хватают их за ноги и сваливают ноздрями в пылающие угли; горит вся гора, взрываются камни, в ущелье фюзеляжи самолетов, взметенные в воздух огненным вихрем, бьются о стены и уступы. Огонь поднимается к Элё, где пьяные повстанцы вырезают узников детского лагеря; они узнали Одри, сына префекта полиции, убитого ими весной; они гоняются за ним по разоренной школе, мальчик перепрыгивает через трупы с распоротыми горлами, закрывается в курятнике, повстанцы перелезают через решетку, бросают в него взятые в столовой ножи; Одри прячется в кроличью клетку, его сердце бьется среди трепещущей шерсти зверьков, он ложится на дно клетки, кролики накрывают его тело, повстанцы ломают дверь, поднимают клетку, кролики выпрыгивают из нее, разбегаются между ног повстанцев; Одри вцепился в прутья клетки, повстанцы вытаскивают его за ноги, волочат по усеянному экскрементами полу; один из повстанцев хватает за шею петуха, другие держат Одри за руки и за ноги, повстанец прижимает голову петуха к шее Одри, петух вырывается, бьет крыльями по ладони повстанца и по лицу Одри, повстанец вонзает клюв петуха в горло Одри; брызнувшая кровь ослепляет петуха; вверху, в дымном воздухе, кричат орлы и чайки; петух кричит, его окровавленный клюв разрывает рану; Одри хрипит, раскинув руки крестом, пена с его губ стекает по сапогам повстанца; на голову повстанца слетает орел, вцепляется когтями в его потное лицо, бьет крыльями, повстанец падает, петух убегает, орел слетает на труп Одри, покрывает крыльями его лицо и рану на горле; повстанцы расступаются, уходят; во всех зданиях детского лагеря повсюду лежат изуродованные, сваренные в кипящих котлах прачечной, искалеченные, искромсанные мясницкими топорами, изнасилованные на черной земле погребов трупы. Между обнаженных, исполосованных кнутами ягодиц торчат порожние бутылки, руки приколоты к партам ножами и смоченными в чернилах перьями, обезглавленные тела у разделочных чурбаков, окровавленные топоры, брошенные в пыльные стружки; полуобгоревшие тела, втиснутые в топки котлов, больные, ошпаренные кипятком в своих постелях, с сожженными купоросом ртами, дети, распятые на крестах двух часовен, священники с выбитыми чашей зубами, втиснутые, втоптанные в корпуса фисгармоний; на члены одеты церковные сосуды, глаза выколоты и вырваны ударами скаутских цепочек.
Шесть дней длится разграбление Энаменаса; нижний город опустел, грабители засыпают в местах грабежа и убийства. Кардинал заперт в своей комнате под охраной десяти повстанцев. Бежа застрелил женщину, набросившуюся на кардинала, чтобы его изнасиловать. Кардинал сыт и ухожен.
— Сохраним ему жизнь, он был близок со всеми городскими богачами, он знает, где они спрятали свои сокровища. Он скажет нам под пыткой. Мы убьем его, когда найдем золото.
Кардинал молчит, повстанец выкручивает ему запястья. Кардинал кричит, из-под его век скатываются слезы:
«Господи, да свершится воля твоя, но, если возможно, пронеси эту чашу мимо моих уст. Ненадолго. Я готов умереть за тебя, Господи, но не сейчас…»
«Под второй кабинкой в бассейне Тальбо». Теплое молоко, уцелевшие после пожара плоды. Кардинал набрасывается на питье, его нос мокнет в кувшине, фруктовый сок стекает по его горлу.
«Где еще золото? Говори!» Бежа, Бежа, когда он говорит, у него изо рта лезет дерьмо. «Будешь говорить?» Дверь открывается, повстанец толкает к его ногам раздетые, обмытые трупы монашек.
— Посмотри на своих овечек. Мы освободили их от данных ими обетов.
Посмотри на их улыбки, на их припухшие губы, налившиеся груди, почерневшие от пота пряди в паху…
В кармане повстанца лежит скальпель, найденный в разграбленном госпитале:
— Говори, или я тебя зарежу.
Он присаживается на корточки, вонзает скальпель в горло самой юной сестры, розовая пена брызжет ему на запястье; кардинал вздрагивает, смотрит в открытое окно, синее небо подернуто розовым дымом, верхушки кедров усеяны фиолетовым пеплом, исходящий из его рта глубокий вздох овевает ладонь схватившего его за горло повстанца. Два стражника волокут кардинала к часовне, поднимают его, усаживают на алтарь, склоняются перед ним на колени, целуют его сандалии:
— Приветствуем тебя, царь белых людей.
Трупы монашек усадили в исповедальнях. Повстанец вырывает из подсвечника пасхальную свечу, вставляет ее между ляжек кардинала, зажигает, воск стекает по свече, как сперма по стоящему члену, повстанец открывает дарохранительницу, берет из нее дароносицу, одевает ее на голову кардинала, другой повстанец плюет кардиналу в лицо. Тот изнанкой стихаря вытирает щеку; его ноги скользят на лакированном паркете, по его вискам, цепляясь за уши, скатываются облатки; он снимает их дрожащей рукой, собирает в сложенные ладони; повстанец грызет большую облатку, сидя на полу. С самого утра кардинал стоит, зажав свечу между ляжек, у него осталось только одно желание: «Господи, забери меня поскорее в Твой рай, чтобы я смог обрести покой».
Слезы стекают по его щекам, смешиваясь с плевками. Повстанец, сидящий на фисгармонии, давит кулаками на клавиатуру, вырывает клавиши, грызет их зубами. Вороны, напуганные ревом фисгармонии, вспархивают со сточных труб, сонно махая крыльями, летят к нижнему городу.
Бежа проходит по галерее архиепископства, расталкивая ногами трупы священников, дьяконов и монашек; открытые двери трапезных забрызганы кровью, повстанцы спят на скамьях, на возвышении лежит тело, Бежа подходит к нему: это монашка, ее ряса задрана, чепец залит кровью, Бежа наклоняется над ней, он берет ее за руку, ставит на ноги, она закрывает лицо ладонью; со стены падает распятье, один из повстанцев просыпается, вскакивает, снова ложится, положив голову на рукоятку окровавленного кинжала с куском человеческого сердца на кончике лезвия; Бежа уводит монашку в коридор, она положила голову ему на плечо, они входят в темную комнату, лучи утреннего солнца просачиваются сквозь ставни, блестят на натертом паркете; Бежа обнимает монашку, прижав ее к завешенной красным ковром стене; стекло входной двери дрожит от взрывов; Бежа целует монашку, обняв ее за талию, та обнимает его за плечи, Бежа срывает с нее чепец, бросает его на паркет и топчет ногами; монашка смеется у шеи вождя повстанцев:
— Я видела другую жизнь, она была черна. Монсеньор и его бог лгали. Между моих ляжек саднят занозы. Солдат лежал на мне, его обрезанный наполовину член проникал в мои срамные губы, но я мечтала о настоящем воине, герое. Священник согрешил, чтоб даровать мне радость, потом дьякон, но и их члены не были обрезаны. Тогда явился Христос, он кружил вокруг меня, опустив глаза, он показывал мне свое скорбящее сердце:
— Мне мало твоего сердца, обручение затянулось, ищи себе другую невесту.
Бежа опрокидывает девушку на залитый солнцем паркет, кусает ее губы, сплевывает куски плоти ей в рот, девушка берет его член и вставляет себе между ляжек: — Крепни, маленький плуг, проникай, разрывай и сей. Дождь внезапно застучал по ставням, Бежа встает с мертвой девушки, наваждение прошло, он выходит в галерею, слышит крики кардинала; дождь кончается к полудню. Бежа гладит мокрые от пота волосы и лицо кардинала, тот вздрагивает, словно его гладит рысь.
— Ты можешь служить обедню, мы воскресим для тебя дьяконов. Вы, ищите в коридоре, в кельях, в уборных. Сколько тебе нужно? Сколько, чтобы напялить на тебя ризы?
— Хватит одного; мне может, ради спасения души, помочь один из вас.
Повстанцы роются в кучах трупов, находят молодого дьякона с выбритой тонзурой, только глаза его выколоты, они вытаскивают его из-под трупов, толкают к кардиналу.
— Сын мой, приготовь святые дары, я облачусь сам. Он входит в ризницу, выглядывает из окна: слишком высоко, он сломает ноги; он преклоняет колени перед золоченым шкафом, облачает свое мокрое тело; он пожимает руку дьякона:
— Блажен ты, не видящий всех этих сынов сатаны. Перед преосуществлением двое повстанцев хватают дьякона, берущего сосуды за алтарем, перерезают ему горло, вырывают сердце из его груди, один с пистолетами в руках встает перед алтарем, другой, без оружия — справа от кардинала, тот молится, склонив голову на покров; повстанец, тот, что без оружия, берет сердце и кладет его в чашу, накрывает чашу дискосом; повстанец за алтарем надевает ризу дьякона, наполняет кровью сосуд и встает справа от кардинала, склонив голову.
Кардинал открывает чашу, подносит ее к сосуду, повстанец наливает в чашу кровь, кардинал опускает пальцы в чашу, к его ноздрям поднимается запах крови, кардинал смотрит на дно чаши. Тогда они набрасываются на него, открывают ему рот, вливают в него кровь дьякона, забивают окровавленное сердце в глотку кардинала. Забрызганный кровью, он, задыхаясь, падает навзничь, его зубы кусают сердце, рот выплевывает, Бежа приседает перед ним, прижимает его голову коленом:
— Мы поднесли тебе подлинные святые дары, а ты бунтуешь против своего бога.
К вечеру кардинал встает, покрытый плевками, залитый кровью и мочой. Он говорит повстанцу, плюющему ему в лицо:
— Хватит. Я — негр. У меня нет золота. Снимите эту белую кожу, я — негр. Хочу быть, как вы. Я сдаюсь.
— Он хочет быть царем. Убьем его, Бежа.
— Я негр. Я негр. Я свободен. Негр.
— Ладно, посмотрим, вправду ли это так.
Набросившись на него, они сдирают с него кожу.
Ночью грабеж продолжается при свете факелов. Электростанции разрушены бомбардировкой; горят картины, ковры. В соборе грабители, забравшись на скамейки, зажгли аварийное освещение, газ вспыхнул у лиц повстанцев; женщины, завернувшись в ризы, бродят между колонн, плюют на дарохранительницы. Обнявшиеся пары лежат на алтаре, на острых клавишах органа. Группы детей, присев на корточки у дароносиц, поедают облатки. Съестные припасы на исходе; новорожденные, оставленные поспешившими на грабеж матерями в нижнем городе, умирают под пронзительными взглядами крысиных глаз. Мальчик катает, как обруч, по кафелю собора большую облатку, другой, присев на корточки, испражняется в дароносицу. Мужчина стаскивает с постамента деревянную статую Девы, вырезает ножом щель у нее в паху, набрасывается на нее, кусает выцветшие деревянные губы и щеки, достает член и погружает его до половины в щель. Уличный музыкант, сидя на кафедре, отбивает на бубне ритм совокуплений. Несколько крыс, привлеченных запахом спермы, голодных тел, пролитого вина и зерна, прилипшего к окровавленным лохмотьям грабителей, протискиваются между совокупляющимися телами, лижут перетекающую с тела на тело сперму, кусают раскрытые в оргазме ладони и напрягшиеся колени, нападают на спящих, забывшихся в страшных грезах детей. Женщины, обезумевшие от вина и блеска золота, прижимают к себе своих сыновей, раздвигают их ягодицы, заставляют совокупляться с собой и тут же, не позволив им встать, оглушают или режут их. В свете витража женщина на восьмом месяце беременности сидит на корточках, задрав платье над кучкой дерьма; большая черная змея ползет к ней из исповедальни, поднимает голову, направляет ее между ягодиц женщины, та кричит, падает лицом на кафель, змея, шипя, протискивается в чрево женщины, разрывает матку, впрыскивает в плод свой яд, ее голова вкручивается в плоть; женщина вопит, пот с ее лица смешивается на кафеле с текущей изо рта пеной, змея вынимает влажную голову, выползает в приоткрытую дверь на галерею, ползет к бассейну с красной водой, ныряет, плывет между окровавленными покровами, поднимается на камень, греется на солнце, снова ползет к ограде сада и сворачивается кольцом у ног живого, никому не известного человека, появившегося на Энаменасе перед началом грабежа, когда смолкло эхо последних взрывов.
Повстанцы, прикрепив облатки к членам, гоняются за женщинами, на полу дрожат опрокинутые ими статуи. Голые мужчины шарят в шкафах ризницы, женщины одевают их и в то же время ласкают и дрочат их члены, они поднимаются на алтарь, перерезают себе вены на запястьях и пьют свою кровь, женщины задирают свои ризы и окуривают ладаном их члены. Молодой повстанец сидит неподвижно под витражом в шитой золотом ризе, прилипшей к его окровавленной груди; он грезит в струящемся вдоль его бедер облаке ладана, он смотрит на образ распятого бога, раскидывает в стороны руки, сдвигает ступни, склоняет голову на плечо. Он танцует. Пальмовые ветви, поднятые вверх дыханием совокупляющихся пар, застилают на миг образ бога. Молодой повстанец, затянутый в золото и лен, танцует, скребя подошвами подкованных сапог по испещренному острыми лучами полу. После каждого коленца он смотрит на бога, улыбается ему, раскидывает руки, опускает голову на плечо; образ бога, окутанный бликами и тенями, оживает, молодой повстанец, танцуя, поднимается к алтарю, раскидывает руки, но живой человек бросается из сада к алтарю, вцепляется ему в горло, опрокидывает на ступени; вытащив девушку из-под лежащего на ней мужчины, он подкладывает ее под молодого повстанца, потом срывает образ бога, рвет его и бросает в огонь, разгорающийся у его ног. Широко шагая, он идет среди совокупляющихся тел, наклоняется, прикасается к ним ладонью; они замирают от прикосновения, кровь закипает в их жилах. Человек возвращается в сад, присаживается на корточки, говорит со змеей, свернувшейся у его ног; змея разворачивается на горячих камнях, ползет по саду; цветы, покрытые росой и насекомыми, сохнут за ее следом, камни теряют свой блеск; змея снова проскальзывает в собор, толкая перед собой пучок цветущей травы.
Волна накрывает остров Ланнилис, переполняет бухты, топит посевы в низинах, заваливает илом утесы; она собирается, растет, увенчанная пенным гребнем, она подкатывается к порту Энаменаса, ломает дамбу, крушит обугленные обломки, сносит корабли на мол.
Кмент ищет в соборе Джохару; лежащие на полу женщины вцепляются в его колени, хватают его за член, синий луч омывает его лицо, одна женщина срывает с его бедер кусок разорванной ткани; у входа в ризницу он спотыкается о лежащие тела; повстанец прижал Джохару к шкафу, она кричит, повстанец рычит, он обернут литургическими покровами, мышцы его ног дрожат, левая рука упирается в ковер с потеками свечного воска, правая рука держит член и задирает мокрое платье Джохары; Кмент бьет его кулаком в спину, голый повстанец падает к его ногам, его член накрыт епитрахилью; у него нет губ; Кмент поднимает глаза на Джохару, из ее рта вылезает крыса:
— Не целуй меня, крыса только что вылезла. О, Кмент, вода подступает к городу. Бежим. Улицы кишат голодными змеями, они охотятся на крыс, эта крыса спряталась у меня во рту, она обгрызла губы этому человеку. Ты слышишь змеиный свист под окном? Их глаза видят женщин насквозь, они пожирают младенцев в утробах матерей. Не оборачивайся.
Она наклоняется, поднимает на ладони крысу, гладит ее шерсть:
— Не бойся, серая, беги за нами, прыгай через лужи крови, малышка, выплюнь куски детского мяса, застрявшие в твоих зубах, выплюнь, малышка, выплюнь…
Кмент обнимает Джохару за талию, девушка гладит его набухающий член, они пересекают опустошенный неф, змеи бросаются на ноги Кмента, юноша, подняв Джохару на руки, прыгает в сухую траву. Море вышло из берегов; в выжженных напалмом, изрытых снарядами горах дождь переполняет водоемы, потоки воды смывают целые семьи из гниющих деревень, несут по улицам трупы детей, вскормленных отбросами, выкатывают искалеченные тела детей из лагеря в Элё, огнем полыхают на наковальнях камней, шипят, обрушиваясь на почерневшее железо крыш, разрывают песок пляжей, катят кору, кости, веревки, хлещут море, взрываясь при встрече с прибоем.
Кмент бежит по верхнем городу, его босые ступни вязнут в кровавой грязи, хлынувшей из разоренных деревень и растерзанных садов, он сжимает в руках Джохару, девушка закрывает лицо ладонями; дверь в стене собора громко хлопает, Кмент ныряет в нее; молодой дьякон, укрывшийся от резни, молится, преклонив колени на скамеечке, закрыв лицо руками; Кмент пересекает крипту, поднимается к алтарю, молодой дьякон смотрит на него, Кмент одной рукой открывает дарохранительницу, в другой он держит спящую Джохару, ее груди обнажены, мокрое платье вбито между ляжками; Кмент, выгнув спину, хватает дароносицу, открывает ее, берет две больших облатки, ест одну, другую сует в губы Джохары; молодой дьякон пятится вглубь крипты; Кмент берет еще две облатки, кладет одну в карман рубашки, другую прячет под платьем Джохары, между ее ляжек; он выходит, Джохара, проснувшись, жует облатку; Кмент выходит под дождь, проглатывает облатку, бежит к Титов Велесу, опускается на землю перед скалой рабов, укладывает Джохару на холодную мокрую траву, ложится на нее сверху, дышит ей в лицо, Джохара гладит виски Кмента:
— Утром во мне шевельнулось дитя: потрогай. Это будет последний ребенок этого мира, и зачала я его от крысы. Весь архипелаг скрылся под водой; только вершины гор торчат из крошева грязи, камней, веток, лопат и вил, тележных осей, ружейных магазинов, колес, самолетных кабин и ножей. Раскаленное солнце бьет с неба в пучину. Скала рабов возвышается над кровавым водоворотом, в котором сталкиваются два бронетранспортера, набитых полуголыми трупами солдат с омытыми водой ранами. Снаряды, мины и гранаты до сих пор взрываются в глубине, вздымая волны, разрывая водную гладь. Через день и две ночи вода отступает до руин Титов Велеса. Утром чистые воды, пересеченные морскими течениями, вновь окружают скалу, покрытую густой легкой грязью; к полудню вода снова отступает к руинам Титов Велеса, омывая открывшуюся сушу; ночью по границам отхлынувших вод возникают песчаные пляжи. С первыми проблесками зари остров принимает окончательную форму, включая в себя бывшие грязные пригороды Титов Велеса и место, где раньше стояла деревня Тилисси. Деревья, пригнутые грязью к земле, распрямляются, опираясь ветвями на вольный воздух; ручьи, прежде заваленные трупами взрослых и детей, иссушенные огнем, журчат в полумраке, ищут свои старые русла под склонившимися травами и, найдя их, устремляются по склонам, разбиваются с радостным шумом в водопадах, сплетаются, теряются и снова бегут, смеясь.
С рассветом пчелиные рои и кричащие птичьи стаи обрушиваются на остров, качают цветочные стебли, листву и обломанные верхушки деревьев, купаются в пыли, пролетают над еще объятыми тьмой долинами; небо, кишащее вольными птицами и золотистыми пчелами, проясняется, поворачивается к больному солнцу, глубокие раны которого затягиваются и подсыхают. Ручьи поворачивают к руинам и пробивают новое русло там, где прежде был неф храма или сточная канава темницы для рабов.
Скала рабов, вершина нового острова, заплыла грязью; Кмент, голый, встает, опираясь на локоть, раны на лице и коленях промыты, пропитанные грязью волосы блестят, губы красны, рот забит илом; выгнув спину, уперев руки в бедра, он открывает глаза и осматривается; присев на корточки, он разрывает ладонями грязь, освобождает тело Джохары, поднимает, прижимает ее к себе, целует в губы, в плечи, в грудь. Джохара просыпается, по ее закрытым векам, по ее ушам стекает слизь, щеки измазаны илом, Кмент целует их; прижавшись губами к ее губам, он всасывает эту слизь; так они смешивают ил и слюну, текущую из ртов, свой изначальный сок, так, голые и замерзшие, они даруют жизнь друг другу, а солнце зажигает их и включает в свою орбиту, как две новые планеты. Они бегут, погружаясь в хаос цветов, листвы, птиц и ручьев. Ладонь Кмента на животе Джохары, ее ладонь на его груди; солнце вспенивает их волосы.
Напротив, вдалеке, на опушке елового леса, стучит барабан. Кмент и Джохара обнимаются под блестящим от семян деревом, их слюна, их сок смешивается с семенами; у их ног, забившись по грудь в землю, спариваются два пурпурника, громко хлопая крыльями; на верхушках деревьев вцепившиеся в ветви орлы натирают клювы еловой смолой. Кмент и Джохара бегут, истомленные, мокрые от пота, росы, сока и семян, продираясь между исполосованных солнцем густых, липких от слизи и помета ветвей.
Песнь седьмая
Олени, лежащие на солнце напротив скалы, трубят и засыпают. Кмент и Джохара с бьющимися сердцами бегут к морю, бросаются на песок, погружают в него пальцы, выкапывают перепелов, засыпанных ночным движением песка, выпускают их на волю, скатываются по пляжу до кромки прибоя; из леса, из листвы на опушке на них смотрят молодые буйволы, оленята, орлята и волки; Кмент поднимает руку, юные звери скачут, прыгают, летят к синей воде; орленок слетает, расправляет крылья, ложится на Джохару, теплый пух его живота трепещет на ее груди; рядом с Кментом ложится лань, юноша обнимает ее, сжимает ногами ее круп; два молодых буйвола, зайдя в воду до живота, бьются лбами, один волчонок лижет лицо Джохары, другой нерешительно застыл на берегу, потом входит в воду, у его морды выпрыгивают блестящие рыбки, он ловит их лапой; потом все перемешиваются, и из этого скопища шкур, перьев, когтей, рожек и клыков исходит треск языков и мускулов, жалобный писк, частое дыхание, смех Кмента; чайки, прилетевшие из открытого моря, спускаются на пляж, садятся на спины волчат и оленят; Кмент, смеясь, встает, слюна стекает с его губ на шею, на его плече сидит чайка, буйволенок подталкивает его в спину; Кмент поднимает Джохару, уносит ее вглубь леса, укладывает в русло теплого ручья, ложится на нее, над его спиной смыкаются травы; птицы ищут их, раздвигая кусты; они кричат, сидя на спинах оленят, на их клювы липнет паутина и коконы насекомых. Чайки взмывают во влажное небо; листья пальм, распрямляясь, освобождаясь от их тяжести, раскачиваются в тумане, как птичьи крылья; голубоглазый пурпурник порхает над ручьем, садится на тростник, чирикает, Кмент поднимает голову, нашаривает ладонями в глубине ручья ржавую саблю, задирает голову, лает, оскалив зубы, солнечные лучи горят на его красных и влажных, как член, деснах; испуганный пурпурник машет крыльями и улетает, Кмент, подняв ногу, брызжет водой ему вдогонку; Джохара вздыхает, ее уши погружены в воду, кровь приливает к вискам, раскрытое влагалище поднимается из залитой солнцем воды; Кмент приподнимает бедра Джохары, его рот приникает к влагалищу, язык пробирается внутрь; прижавшись носом к паху девушки, Кмент всасывает ее ароматный сок; Джохара дрожит, обнимает ногами бедра и ягодицы Кмента, скрестив их на его спине; Кмент упирается ладонями в ляжки Джохары, его нагретые солнцем губы прижаты к губкам влагалища, волоски щекочут его щеки; Кмент надувает щеки и выпускает во влагалище Джохары свое теплое, сладкое дыхание; ладони Джохары, запущенные в волосы Кмента, тянут их, закручивают вокруг ушей, начесывают на лоб; позолоченный солнцем, окруженный колечками волос, мраморный с фиолетовыми прожилками член юноши полощется в воде, кишащей мелкими рыбками, их стайки вьются вокруг его ляжек, он в нетерпении переступает, трет свои яйца и чашечки коленей; звери, оповещенные криком пурпурника, лежат вдоль ручья, мычат, жуют салат, вылизывают шерсть, щиплют перья, с их губ стекает слюна, их члены напряжены; лежа на боку, лань отдается молодому волку с окровавленными деснами, ее рот раскрыт, голова погребена под изломами красных корней.
Волчата, высунув мокрые языки, часто дыша, катаются по траве, глазами, утонувшими в мягком подшерстке, ловят взгляды Джохары. Ладони Кмента поднимаются по животу девушки, накрывают ее груди, она видит волчат, улыбается им, Кмент целует ее улыбку, его колено прижимается к ее влагалищу.
Стемнело, Джохара поднимается рядом с Кментом, идет к волчатам, сбившимся в кучу, спящим на эвкалиптовом пне, только один не спит, Джохара берет его на руки, относит на вершину горы, кладет на омытые лунным светом, свисающие до земли лианы, ложится под него, ласкает и обнимает его.
На заре Кмент вскакивает на ноги, берет камень, бежит по заросшей лесной тропинке на пляж, солнце бьет его кулаком в лоб; солнце поднимается выше, расплывается по земле, колени Кмента вязнут в кровавом тумане; весь день он обшаривает остров, прохладные плоды падают ему на плечи и раскалываются; не замеченная им обезьяна протягивает руку из синеватых колючих кустов и хватает его за член, Кмент прицеливается, кидает камень, обезьяна с другой стороны куста падает на своих спящих детенышей.
Кмент возвращается к источнику, ложится, но не может уснуть, он бросается в море, его колен в темной воде касаются светящиеся рыбы, его ступни спотыкаются о живые камни и перламутровые раковины, его член дымится под пенной бахромой, омывающей бедра, он берет его в руки, погружает в море, сжимает ляжками, скребет им по песку; он откидывает волосы и, крича, бросается в воду; его живот сотрясают рыдания, ноздри дрожат, на губах клокочет пена, он гладит, сжимает ладонями свои ляжки, живот, грудь, он кричит, слезы капают на его горло; дыхание моря, похожее на вздохи любовного восторга, воскрешает в его памяти речь, и его крик завершается стоном, полным древних, изуродованных, мягких слов; Кмент возвращается к ручью, ложится на живот, трется ляжками, животом и грудью о водоросли и холодную глину, его член, царапаясь о камешки и тернии, роет ямку и проскальзывает в нее; тогда Кмент успокаивается, подгребает к члену рыхлую почву; пыль липнет к его потному лбу; приподнявшись на локтях, он напрягает ноги, вжимает член и изливается в темную безмолвную землю.
После первого оплодотворения спавшие на ветвях птицы суматошно взлетают, бросаются в ночь, разбиваются о стволы, запутываются в петлях лиан; разбуженные звери сплетаются и разрывают друг друга на куски; пара оленей, спавшая на опушке, вскакивает, сталкивается; сломанные деревья цепляются за тяжелый воздух и, иссушенные, падают вниз; спина Кмента покрыта кровью, перьями, шерстью, вырванными когтями и клювами; лишь на вершине скалы, над всеобщим смятением, слившись в объятиях, пьяные, залитые луной, блестя полными грусти глазами, волк и Джохара яростно любят друг друга; Джохара грезит наяву, волк сдерживает объявший его мышцы огонь.
Два дня Кмент охотится, он забивает камнями, душит, сталкивает зверей в овраг, крича, набрасывается на их трупы, раздирает их сломанные члены, вырывает языки и прикрепляет их к своему затылку, выбивает зубы и вешает их ожерельем вокруг своей шеи, забивает свои ступни в раны; выпитой кровью он смиряет свою тоску, заглушает крик своего одиночества.
Ночью, увидев блестящий глаз, он вскакивает, пробивает его заостренным бамбуковым стеблем, зверь кусает его руку, Кмент погружает свое копье в его шерсть, держит его; когда зверь падает и разжимает клыки, Кмент склоняется над ним, разглядывает, омывает свои волосы его кровью; согнув ноги у копыт зверя, он ищет влагалище, но он опять убил самца, и его член опадает, втягивается в живот. Кмент стоит, напрягшись, перед пурпурным морем:
— О, ты, свет и тьма, мужчина и женщина, соедини во мне два пола, утоли мое желание их вечным слиянием в глубине моего тела.
Но, вернувшись в лес, Кмент напрасно ложится на дымящиеся трупы и щупает свой живот; он бросается к вершине скалы, находит в темноте Джохару, задыхающуюся под телом молодого волка; он подбирает камень, кидает его в голову волка, убивает его наповал, наклоняется, поднимает труп с тела Джохары и кидает его в заросли, откуда взмывают напуганные птицы; Кмент обнимает ладонями голову Джохары, целует ее, омывает слюной и слезами, всю ночь он лает, дует ей в рот, лижет ее язык, но Джохара остается безучастной, она целует губы юноши, воет по — волчьи; ее груди, которые он целует, ее живот, в который он упирается кулаками, отвердели и потемнели, как волчья шкура; пряди волос в паху и под мышками скребут горло Кмента, как пучки сухой травы, он выплевывает их, его пальцы скользят по складкам, царапинам, ссадинам насыщенной крепким пресным запахом кожи; когда он вводит свой член, губки ее влагалища крепко сжимают его; его сок омывает его, он крепнет, напрягается, кровоточит, Кмент хочет его вынуть, но Джохара сжимает ляжки; сок ее влагалища преображается, он размягчает член Кмента, пожирает его; Кмент, крича, встает и убегает в лес, прикрывая ладонью рану. Джохара, ныне двуполая, засыпает.
Кмент скачет, спотыкаясь о булыжники, звери смеются в тени; когда он присаживается или ложится, чтобы отдохнуть и помечтать, они щиплют его за ноги, испражняются ему на плечи, колют его грудь. Он встает и идет, его сопровождают кричащие, рычащие медвежата, львята, пумы; его ноги вымазаны в белой глине, пучки шерсти прилипли к его ушам; однажды утром он вставляет между ляжек пропитанный млечным соком стебель бамбука; каждую ночь он подходит к поляне, на которой спит Джохара; он смотрит на нее, наслаждающуюся в одиночку, он дрочит бамбуковый стебель, его губы беззвучно движутся; однажды вечером он прыгает на нее, ложится сверху; вернувшись на берег ручья, он осматривает рану между ляжек, видит росток нового члена; присев, он набирает в ладонь сок растения, поднявшегося из вод; он наклоняет голову, смотрит на пробивающийся между ляжек росток, натирает его соком, гладит и ласкает его:
— Расти, расти поскорей, у меня есть для тебя что — то вкусненькое.
Член Кмента растет, и в Джохаре вновь просыпается желание, ее объятия становятся все крепче. Теперь они все время лежат, обнявшись на вершине скалы, и питаются собственным соком и спермой; земля под ними осела; между их ляжек, под мышками и в ладонях свили гнезда пурпурники; дождь, слюна и помет стекают по спине Кмента. Вокруг них высохли деревца, цветы увяли и сгнили на земле, насекомые умерли, пролетающие над ними птицы падают, едва их тени касаются скалы, бьют крыльями по земле, их клювы отваливаются, перья и глаза тускнеют; сок, брызжущий от тел Кмента и Джохары, выжигает землю; вокруг, в лианах и тростниках, кричат напутанные звери; однажды ночью Кмент встает и направляется в лес, он срезает свежие лианы, сплетает их, расстилает циновку на земле, перекладывает на нее Джохару, сам ложится на нее; утром звери и растения оживают, со скрежетом сплетаются до вечера, надвигающийся мрак наводит ужас на зверей и распустившиеся цветы, но ночью с безлунного неба на священную скалу изливается свет; Кмент и Джохара встают, смотрят на каменную богиню, изваянную с рабыни в день обретения свободы. Они преклоняют колени, гладят мрамор барельефа; раскинувшееся под ними ночное море блестит сквозь фиолетовые кусты; ладонь Джохары сжимает между огрубевших ляжек член стоящего на коленях Кмента.
Внизу, на поляне, бьет барабан; сквозь раскидистые корни они видят лежащих сплетенных зверей; из глубин неба до них доносится крик, спускается на землю в раскаленном луче, Кмент и Джохара прячутся в кустах, засыпают; в полночь кусты дрожат от шума гигантских крыльев; луч гаснет, крик стихает; на горизонте возникает белый парус, надутый яростным вихрем, в котором смешались все тайные вздохи земли и моря…
Разбуженные Кмент и Джохара продираются сквозь кусты, в их ладони и колени вонзаются колючки; мужчина, склонившись над камнем, спаривается с богиней; из его затылка и спины растет конская грива, на его голове — голубка и терновый венец; его раскаленные ноги дрожат; в море, вдали, парусник держит курс на остров, рыбы выпрыгивают, блестят чешуйками, натыкаются на борта корабля, играют в глубине под тенью бушприта; корабль пуст, но первый луч зари смотрит недреманным оком с белого холста паруса. Кмент встает на колени перед Джохарой, Джохара перед Кментом. Прижав кулаки к земле, они целуют друг друга в колени, в пах, в лицо.
Послесловие
«Мне привиделась эта книга, когда, не выспавшись, я стоял в карауле, а передо мной расстилалась бездна ночи, озаренная лишь луной и звездами». В начале 60-х, когда Пьер Гийота начал обдумывать «Могилу для пятисот тысяч солдат» среди пустошей и гор охваченного войной Алжира, он был молодым французским солдатом, чуть старше двадцати, попавшим на колониальную войну после переезда из захолустного горного района на юге Франции в Париж. Поначалу мечтавший о сражениях, Гийота постепенно начал сочувствовать алжирским повстанцам и навлек на себя гнев французского командования; герой книги Тивэ, помещенный в карцер, пережил многое из того, что выпало на долю самого Гийота. Алжирская война с ее немыслимой жестокостью, пытками и убийствами мирных жителей, ставшая прообразом множества других конфликтов в последующие сорок лет, повлияла на образы и язык Гийота; речь его однополчан с лаконичным набором отрывистых фраз впиталась в расточительно галлюцинаторный язык эпоса, который он сотворил. Книга — второй роман Гийота, после «Ашби», действие которого происходит на северном побережье Англии, — была написана в Париже, где, вернувшись из Алжира, он прозябал в нищете.
Публикация «Могилы для пятисот тысяч солдат» изменила направление французской литературы, превратив Гийота в заметную фигуру, героя ожесточенных споров. За без малого сорок лет, прошедших со дня первой публикации книги, ее признали величайшим и самым ярким французским романом современности, а сам Гийота считается единственным живущим писателем, равным таким ключевым фигурам, как Арто, Батай, Жене и де Сад. Для молодых французских писателей, художников и кинорежиссеров — от Эрве Гибера до Лео Каракса — знакомство с книгой Гийота стало значительным опытом, повлиявшим на их собственное творчество. Еще работая над книгой, Гийота сознавал, что проводит глубочайший эксперимент с материями языка и тела, эксперимент, перенесший его роман далеко за пределы беллетристики в запредельную чувственную, визуальную и лингвистическую зону. В начале 1965 года, написав сотню страниц (работу над романом он начал в октябре 1963), Гийота дал интервью, в котором объявил, что его книга радикально переоценит и отвергнет предрассудки и стратегии, привычно ассоциируемые с романной формой. По его словам, «Могила для пятисот тысяч солдат» — это «не роман, но своего рода эпос, развивающийся в оккупированной, охваченной гражданской войной вымышленной африканской стране. Есть несколько главных героев, а также персонажи, вырванные из толпы гражданских и военных двух противоборствующих сторон. Будет множество повторений слов, образов… Идея книги возникла у меня, когда я пересмотрел фильм Бунюэля «Забытые». То, что Гийота подчеркивает влияние фильма, а не литературы, демонстрирует его пристрастие к визуальным средствам, хотя в то же время каждый компонент из числа источников книги (элементы мифологии и истории, «Мальдорор» Лотреамона, Библия и многие произведения живописи и кинематографа) переосмысливается и сглаживается по ходу инкорпорирования в язык Гийота.
«Могила для пятисот тысяч солдат» связана с историческим периодом, начавшимся в 1962-ом году, когда закончилась Алжирская война и французы были вытеснены из опустошенной колонии, и завершившимся парижскими уличными боями мая 1968-го года, призванными уничтожить репрессивное государство. Книга Гийота, опубликованная за несколько месяцев до этих боев, внесла свой вклад в необычайную атмосферу восторга и протеста той эпохи: написанные по трафарету фразы из «Могилы для пятисот тысяч солдат» появлялись среди граффити, испещривших парижские стены. Но в книге сокрыты и другие исторические эпохи, полные запредельной жестокости: например, в сцене, где связанные дети висят на крюках, пока их конечности постепенно срезают, и тела превращаются в кучи разрубленной плоти на земле. Второе издание романа Гийота посвятил своему дяде, который за участие в сопротивлении во время Второй мировой войны был заключен в нацистский концлагерь Заксенхаузен. В июле 1991 года мы с Гийота посетили концлагерь, где погиб его юный дядя. Заключенных там убивали инъекцией яда или пулей в затылок; когда в пустом и обветшавшем лагерном кинотеатре мы смотрели документальный фильм о Заксенхаузене, казалось, что зрителям этих зверств по-прежнему следует опасаться пули в затылок. В то время, после ликвидации ГДР, история бывшего концлагеря пересматривалась — нацистский геноцид преуменьшали, и внимание журналистов сконцентрировалось на преступлениях, совершенных советскими оккупационными войсками, которые заняли Заксенхаузен в 1945-м году, превратив его в лагерь для интернированных, многие заключенные которого погибли от истощения. Часть лагеря в то время собирались разрушить и превратить в супермаркет (в конечном счете, от этих планов отказались). Сама история распадалась у нас на глазах. В лагерной прозекторской, где, возможно, побывало тело его дяди, Гийота выломал на память кусочек напольной плитки. Свидетельствуя о проектах Гитлера, Ленина и Мао, «Могила для пятисот тысяч солдат» провидчески воплощает множество последующих конфликтов (в Камбодже, Боснии, Косово) и фигур новейшей истории, вдохновляющих братоубийство и революции.
«Могила для пятисот тысяч солдат» перенасыщена спермой бесчисленных совокуплений — их формы бесконечно варьируются, а участниками становятся слуги и хозяева, солдаты и генералы, собаки и проститутки. В своей книге Гийота воплотил уникальное видение жизни как безжалостного спектакля рабства, проституции, ликования и распада, в котором только безумное вторжение секса способно подорвать власть. В первую очередь, именно обилие сцен секса, перемежающихся с хладнокровными описаниями зверств, привело к взрыву негодования в СМИ после публикации романа. Ответ Гийота был недвусмысленным: «Я не собираюсь оправдываться. В конце концов, мне пришлось сделать нечто худшее: прожить собственную книгу». Непрерывная сексуальная детонация романа породила и погубила множество попыток его экранизировать, но предоставила материал для нескольких удачных театральных постановок, среди которых выделяется спектакль Антуана Витеза в Пале-де-Шайо. Произведения Гийота после «Могилы для пятисот тысяч солдат» сложились в высшей степени впечатляющий инновационный корпус работ — от романов «Эдем, Эдем, Эдем» (1970) и «Проституция» (1975) до колоссального многотомного труда «Потомства».
Иностранные читатели были лишены знакомства с «Могилой для пятисот тысяч солдат» примерно четыре десятилетия. Единственный рукописный экземпляр английского перевода книги, выполненного Хелен Лейн, по случайности или намеренно погиб в огне: сам Гийота не знает подлинную причину этого несчастья. Английский перевод Ромэна Слокомба вышел только в 2002-м году. Не столь горючие переводы (например, на японский) перенесли физическую и визуальную материю книги в другие культуры с последствиями, похожими на французские. В иноязычных культурах нет произведений, подобных книге Гийота, да и в контексте французской литературы она остается отчаянно одинокой: читатель «Могилы для пятисот тысяч солдат» вступает на чувственную территорию, отсутствующую на картах, всепоглощающий «анус мира».
Стивен Барбер.


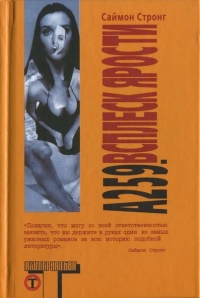

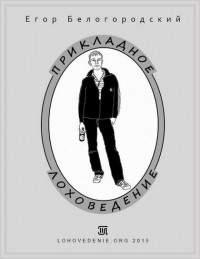
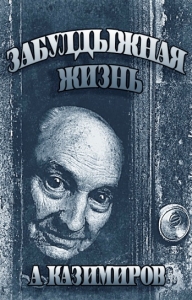
Комментарии к книге «Могила для 500000 солдат», Пьер Гийота
Всего 0 комментариев