Андрей Ханжин (Литтл) Дождливые дни
И если это жизнь — то не найдётся на земле ни одного человека, который в тайниках души своей, где-то там, глубоко внутри, не желал бы скорейшей собственной смерти. Это желание, эта тайная тёмная страсть проявляется, конечно, не сразу, иначе мы удавили бы себя еще в сладком младенчестве. Но в детстве смерти нет. Ненависть жизни блокируется жаждой познаний. Капкан ещё защёлкнут. Но вот повороты тяжёлого ключа знаний — и всё, что мы постигаем, с каждым мгновением, с каждым забитым в подкорку байтом опыта приближает нас к разочарованию. А ещё позже — и это неизбежно — к чудовищному внутреннему опустошению.
Некоторые, особенно чувствующие эту свистящую пустоту, пытаются совершить побег из или от собственного погибающего Я. Смешно и печально. Одновременно и смешно и печально. Горькая улыбка королевского шута.
Люди бросаются на поиски иррациональных доктрин, люди ищут бога. Бога в себе, бога вне себя, в эмоциях, в чувствах, в стихах, в инстинктах, заложенных дикой природой в нервной системе, раздражённой до приступов сентиментального слезотечения… или спиваются как индейцы — по русской традиции. Или кайфуют — нарушая и традицию, и уголовный кодекс. Замешиваешь в ложке щепочку коричневого афганского порошка в комочках, подносишь зажигалку, чиркаешь, и вот он — пузырящийся парадиз для уличных героев новостроек. И героинь. И героин. Первый укол — и ты счастлив, потрясён и бесконечно счастлив. Но дьявол в том, что счастье живёт только в первом уколе. Все последующие инъекции — не более чем тщательная попытка вернуться в то первое, ослепительное мгновение, когда от пяток к сердцу поднималась волна несвойственного человеку состояния, иллюзорность блаженства. Но так бывает только первый раз. Один раз. И жаль, если не умер сразу.
Похоже на любовь. На первую любовь. На первую и на, увы, последнюю любовь, потому что любовь ослепляет человека лишь однажды. Потом — иммунитет и пошлость. И всё, что происходит после расставания, все дальнейшие попытки отыскать объект нежного вдохновения — это тщетная надежда на возвращение или хотя бы на отголосок того первого, обжигающего сердце чувства. Флэшбэк возможен. Да, возможен. Короткая искра. Но это уже не любовь. Это стопка тёплой водки на утро после бешеной попойки — сначала окрыляет и начинает казаться, что эйфория завернула обратную петлю, что прозрение равно ослеплению… Но вместо откровения наваливается мутное, вялое, жирное и тяжёлое бессилие. Красивая, допустим, красивая мягкая игрушка спит на твоём плече. От неё пахнет ребёнком. Так пахнут только те женщины, в которых влюблён. Но, поверьте, трудно быть оптимистом там, где все ожидают конца света. И выживший Ромео отдан на растерзание. И может быть француз, ну почему же, способен легкомысленно увлечься случайной мадмуазель и дожить с нею до конца дней своих в романтической радости… Может быть. Но русский — вряд ли. Скоро гибель. Разумеется, не так скоро, чтобы застать врасплох отдельно взятую человеческую душу, но всё равно ведь — будущего нет.
No future.
Это не создатель «Sex pistols» провозгласил, и не Бодлер продекламировал. Улыбающиеся конопатые славяне так живут, с таким мироощущением. Только миг. Потому наши средства всегда оправдывают цель. Только миг. Вечное сейчас. И по-другому здесь никогда не было и никогда не будет. Хоть помазанник ты божий, хоть художник в федеральном розыске, пытающийся продать девять пистолетов «CZ — 75» по три штуки баксов за каждый.
Я перестал быть рабом жизни в тот момент, когда в меня впервые выстрелили. Произошло это в Киеве, в подземном переходе под площадью Льва Толстого. Стреляли в спину. Из «Макарова». Длинная, выложенная черным кафелем труба с колоннами посередине. Сзади выход из метро, впереди ряд подземных магазинов и кафетерий. Пульсирующая — как в кибердансинге — трубка лампы дневного освещения. Не страшно. Когда не знаешь, не страшно. Наполненное выстрелами пространство, единожды услышав этот звук, уже ни с чем его не перепутаешь, даже в акустическом преломлении подземки, и — тепло в спине. Всё. Пуля прошла навылет, чуть зацепив ребро, две дырочки — входная и выходная. Смерть постучалась по правой лопатке, наглядно разъясняя всю иллюзорность и надуманность ценности человеческой жизни.
И снова стал рабом, когда впервые выстрелил сам, потому что свобода — это открытая возможность быть убитым. Путь воина. А рабство всегда подразумевает продолжение жизни любым путем. Теперь не осталось ничего, кроме пустоты, всё сожравшей пустоты. Почти Луцилий до писем Сенеки.
Хорошая машина «CZ — 75». Калибр 9мм, начальная скорость полёта пули 420 м/сек, обойма на 15 зарядов. Патроны НАТОвские — «пробеллум» или «лугер». Тяжёлый, правда, пистолет, но с очень удобной рукояткой. Ещё из минусов — магазин фиксируется кнопкой и, бывает, выпадает от случайного нажатия: рукой задел или ещё как зацепил. Но, в общем — вещь! У этого «чезета» есть ещё автоматическая версия — «CZ — 75 automatic». О!!! Обойма увеличена до 25 патронов, предохранитель врубается только при взведённом курке. Запасная обойма загоняется под ствол, как ручка — автомат, натурально! Затяжные городские бои вести — то, что надо. Говорят, Абу аль Валиа с таким не расставался, пять штук зелёными за него в Пакистанском ущелье отвалил. Цены — как в Москве. Здесь, в Питере, дешевле.
Ну да, в Питере… На углу Стремянной и Марата. В городе пусто. Пустое питерское воскресенье. Часов десять утра. Провинциальная благодарность.
Стволы эти чешские достались мне, если можно так сказать, случайно. В самом начале Суворовского проспекта, в коммунальной квартире, жил перекупщик Юха — из бывших советских ещё фарцовщиков. Бритые виски, штаны-бананы. Отсидел за валюту, откинулся, страна усохла и переименовалась, дефицита нет, джинсы, правда, продаются в тех же уличных туалетах, но уже переоборудованных под коммерческие точки. Всё легально. Валютные обменники на каждом углу. Прежняя профессия накрылась медным тазом. Почему «медным тазом»? Так говорят. А что, хорошее выражение, ёмкое, пусть и сильно поношенное. Короче, Юха проиграл в лагере глаз и носил повязку, как капитан Сильвер, которого боялся даже сам Флинт. Юху не боялся никто. Впрочем, лагерь пошёл ему на пользу. После отсидки Юха занялся благородным бизнесом — стал торговать оружием. Начинал, кажется, с тротиловых шашек… Ещё раз отсидел. Трёшку. И вернулся в бизнес помудревшим и будто бы даже просветлённым. Курил план и толкал питерским гангстерам стволы. Почти Будда.
Меня познакомил с ним Саня Аксёнов — он же Рикошет — они знали друг друга ещё со времён старого «Сайгона» и «Н4/В4». Рикошет частенько к нему раскуриться наведывался. Джа. Принципиально слушали старые виниловые пластинки — «Velvet underground», «МС-5» — как раз то, что надо старым ленинградским бесам. Вот и я к нему захаживал. Каждый раз, оказавшись в Городе-на-Неве, выбредал к большому серо-голубому дому на Суворовском, ввинчивался в хитрую подворотню, и прямо перед помойкой — дверь, второй этаж, три коротких звонка… Чёрт! Тут же — семидесятилетняя коряга в очках на засаленной от волос резинке: «К кому, милай?»
— Давай, давай, вали отсюда, старая! — Бабка чудовищным зайчиком немедленно отпрыгивала к стене и бубнила в спину: «На хлебушек бы подкинул, будёновец». Обычно хватало полтинника. Бабка молниеносно выхватывала деньги и тут же становилась на шухере — из кухонного окна просматривался весь двор.
Бабку звали Чеснок. Ну, в общем, похоже.
Комната Юхи — чулан с окном.
У каждого своя судьба. И жизнь — пересечения, вторжения, роковые случайности, нечаянные и страшные ошибки. Все живут для того, чтобы однажды умереть. Поэтому — все одиноки. Как говорил Эспинас, для умирания не собираются вместе. Вместе собираются те, кто думает, что жизнь имеет смысл. Наивные, они непременно желают что-нибудь спасти: тушканчиков от вымирания или отечество от распада. Но, как показывает историческая практика, спасители отечества опасны для народа. Хотя у каждого своя судьба.
Когда я вошёл в Юхину комнату, мне показалось, что его земная судьба завершилась. Нет, трупа не было. Но было свистящее ощущение пустоты, той пустоты, которая остаётся после ухода, окончательного ухода человека, которого, нет, конечно, не любил, но всё же понимал. Я понимаю Юху. Судьба его была мне безразлична.
Занимавший половину комнаты диван, застеленный синим пледом в шотландскую клетку, с прожжёнными дырочками от упавших конопляных кропалей. Этажерка с книгами: «Тропик Рака», «Механический апельсин» на украинском почему-то языке, «Бизнес со скоростью мысли», «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», ещё какая-то хуйня вселенского масштаба. На полу — дырявые тапочки, вертушка «Электроника» и медный пакистанский кальян «Made in Pekhavar». Аллах Акбар! На вертушке, покрытый слоем двухнедельной пыли, диск «Joy Division». Хотя, почему именно «двухнедельной»… Я в пыльных слоях плохо ориентируюсь. Просто так показалось. А может Юха повесился? Наслушался Кёртиса и повесился. В сортире на Финляндском. А?
Я включил проигрыватель и закурил. Немытое с прошлой осени, как с прошлой жизни, окно напоминало оплёванное зеркало. Будто это отражение плевало изнутри в оригинал. Подвижная тень. В дверях, раскорячась, стояла бабка по прозвищу Чеснок. В руках она держала наведённый на меня «CZ — 75», произнося примерно такой тест: «Шмальну нахер, не сомневайся, милай! Ручищи-то в кровянке. Вижу-вижу. Юреньку ухлопали, поди, а теперь хатку обшмонать явились. Шмальну щас!» Её пластмассовая челюсть при этом отпадала от нёба, и бабка, причмокивая, водружала её на место. Смешно.
Так я и не понял, то ли она заслуженная энкаведешница из расстрельной тройки, то ли выжившая маруха из шайки со Староневского. Пизданул ногой с разворота. Два раза окурком прижёг, и выволокла старушенция дорожный чувал на скрипучих колёсиках.
Девять «чезетов».
А что случилось с Юхой, я и до сего дня не ведаю. Надеюсь, что он не мучится. Легко сдох, как жил.
Чеченец один, боевичок весёлый такой, рассказывал, что после первой войны Масхадов учредил в Чечне Шариатские суды. По всем населённым пунктам. В каждом грозненском районе, всё как положено — табличка с названием учреждения, кади, судья то есть, бородатый охранник при входе. А названия городских районов остались прежними, ещё советскими. И вот бюрократический шедевр независимой Ичкерии: «Ленинский шариатский суд г. Грозного». К чему это… Так, вспомнил, сидя на литой оградке клумбы, что на улице Марата. «Ленинский шариатский суд». Похоже на нашу действительность, скомканную, жесткую и поверхностную. Живи Юнг в наше время, ему не нужно было бы втыкать свечи в человеческий череп, чтобы создать мрачную рабочую атмосферу. Было бы достаточно просто включить телевизор. Без звука. Фоном. В прайм-тайм на любом метровом канале.
Стволы лежали всё в том же бауле на скрипучих колёсах. Поверх стволов — пустые пивные бутылки. Рядом — бомж. За сто рублей подвизался за спиной пооколачиваться. Ну стакашку уже пропустил, не без этого. Шуршит кульками в мусорном баке.
Питер — город прагматичных Джульетт. Любого Ибсена убедят отказаться от акварельной живописи в пользу литературной деятельности.
Покупателя на пистолеты нашла девушка Рита, бывшая барабанщица новгородской группы «Вальтер Скотт». Вальтер Скотт этот, в смысле писатель, предпочитал работать от рассвета до завтрака. Удобное время. Никто не мешает. Девки только в постелях валяются, нежатся, обнажённые… белые, как северные гурии. Прохладный джоннат. Вдохновляют на литературные подвиги. Рита тоже вдохновляла. Может быть, и Вальтера даже Скотта — в прошлой жизни. Тихая такая сучка, хотя и барабанщица. Тихая внешне. Еблась, попискивая. Нашёптывала: «Ещё, ещё… до матки достал…». И так далее. Кончала быстро. В общем, удобная тёлка. Турецким «Диором» пахла.
С покупателем — таджиком с азербайджанским именем Ильхам — она должна была подойти к десяти утра, вот сюда, на угол Марата и Стремянной, к баням, напротив винного, где три ступеньки вниз и — алабашлы, будьте любезны.
Тихо, как в жилище Шопенгауэра.
Договаривались на двадцать семь американских тысяч. По три за каждый ствол. Но что-то мне не нравилось. Не знаю… Не могу высказаться более определённо. В солнечном сплетении демоны ногтями скребли.
А лето, чёрт возьми, прохладное и солнечное, но всегда с предчувствием дождя, питерское лето! Отошли уже белые ночи. Неровная, выщербленная тень от углового здания падает на пыльный тротуар. Умная собака выгуливает опрятного пенсионера с грустными, как у собаки, глазами. Откуда-то, наверное, из полураскрытого окна, звучит Цой Витька: «Когда твоя девушка больна… на вечеринку один… у-у-у…у-у…». Лишь бы Рита не заболела на всю голову. Рита. Рита. Всё же я решил продать не девять, а восемь стволов. Деньги — пыль. За спиной копошился и всё шуршал мусорными пакетами святой бомжара. Благодать, как в старой сельской церкви.
— За восемь только двадцать дам! — Ильхам говорил «Са фосильм» и «тфатчачь».
— И стакан травы.
— Откуда трафа, слюшай, какой трафа?
— Короче.
— Ладно, тафай. Где тафар?
— И Риту.
Трава по уличным питерским меркам оказалась, в общем, приличной. Даже три-четыре шишки попались. Два глубоких напаса, и тянет порассуждать о технической стороне творчества Марселя Швоба, который умышленно писал испорченными перьями, укрощал их в процессе деятельности. Скучной до отвращения деятельности. Поверьте, умирать куда веселее!
А с обкуренной девкой умирать — прямо в рай отправляться, как шахид, экспрессом «Земля — Неземля». Монша, по-нашему.
Ночью пошёл дождь.
Рита. Синдерелла из Великого Новгорода, так и не превратившаяся в ленинградскую принцессу. Нацистские бункеры, панк-рок, криминал, андеграунд. Какое-то время она протусовалась со Свином — главным нигилистом эпохи позднего застоя. Набралась у Звезды основ мизантропии и скоро осознала, что панк — это естественное состояние души каждого фрезеровщика завода им. Кирова. После смерти Свина занималась всем. Служила официанткой в бандитском кафе на улице Огнева, приторговывала амфетаминами, снималась в порнофильмах, сочиняла сценарии для рекламных роликов, подрабатывала частным извозом. За деньги фотографировала туристов на «Полароид», продавала чебурашек возле Спаса-на-Крови, поставляла новгородских девочек в ночной клуб, ещё раз пыталась собрать группу «Вальтер Скотт», собрала, записала альбом на студии Лёши Вишни, сожительствовала с подполковником Минюста, выкупила подругу из женской колонии в Саблино, скупала тротил у чёрных копателей и выиграла в нарды семьсот ящиков молдавского коньяка «Белый аист», до кости прокусила руку командиру питерского ОМОНа, вступила в партию «Единая Россия», сходила с ума от Кости Кинчева — и при этом ухитрилась не только выжить, но и ни разу не оказалась под следствием. Рита Мовчан.
На исходе ночи, под утро уже, на рассвете, когда танцующий Люцифер совершает последний круг, в нервных грёзах мерещились мне сгоревшие церкви и обугленные башни московского кремля. Пепелище было ослепительно чёрным, антрацитовым, со слезой. Ещё руины каких-то древних помещичьих усадеб с театральными залами, раскрошившимися от векового безлюдья. И снова каменные пепелища, где сгорели именно камни, оплыли, расплавились, будто пластмасса, и оттого панорама этой гибели казались нереальной, ужасной и фантастической, словно во сне. Смещение перспективы. Смерти каменного гостя.
Пробуждение.
И ещё снилось мне, что я навсегда потерял свою единственную любовь — Оксану. И это было уже не сон, а установление факта. Рита, чертовка, навеяла, что ли? Прощай.
Дождь залил всё.
Прочь отсюда!
Прощай.
Дорога похожа на безболезненный переход в следующую жизнь. События прошлого рассеиваются по мере географического удаления от этих самых событий, возможное будущее ещё не проявлено и даже не обозначено, а настоящее — всего лишь быстро чередующиеся слайды придорожного пейзажа. И если хочешь сбежать от себя, то выходи на трассу, тормози дальнобойную фуру с философствующим драйвером за рулём, и вали от всего того, что навивает смертельную тоску устойчивости и определенности! Окружающая среда должна максимально соответствовать состоянию души — только так достигается гармония. И даже теперь, когда я пишу эти строки, сидя в камере Лефортовской тюрьмы, мне становится легче, потому что я пусть и мысленно, выхожу на дорогу. Беги! Поэтому беги прочь, прочь от всего неподвижного. Беги, когда в душе начинают метаться буйные бесы совести.
«Мне дорога бы все, да дорога…» — Николай Васильевич Гоголь.
И автостоп — величайшее изобретение эры грузовых автомобильных перевозок. Передвижение всеми иными наземными способами — в консервной банке междугороднего автобуса или в трясущемся саркофаге железнодорожного вагона — отдает такой невыносимой скукотищей, что может развиться хроническая мигрень. Это не состояние пути, а его уродливая имитация. Ну, скажите, дошел бы Александр Македонский до Ленинабада, если бы хоть раз в жизни имел несчастье собачиться с обрюзгшей проводницей на станции, к примеру, Конотоп! Об авиадоставке из пункта Икс в пункт Лямбда стоило бы и вовсе умолчать. Пассажирская авиация — это вершина пошлости, Эверест суеты. У пассажиров нет даже парашюта… То есть — добровольная сдача себя в заложники. Подкормка внутренней овцы. Есть в этом что-то жертвенное. Несомненно, гражданская авиация очень близка к мироощущению первых катакомбных христиан. Но все мы вышли из моря. Вот почему лишь передвижение по морю — ну ладно, по любой жиже — способно сравниться с автодорожным странствием на перекладных.
Море… В принципе, из Петербурга до Ялты можно, конечно, дойти водным путем. Но унылые бюрократические перипетии с оформлением документов, постановкой виз и с прочей выдуманной политическими упырями хуйнёй, отобьет любое, даже самое пылкое желание к путешествию. Наслюнявит пальцы и прижмёт фитилек мерцающей свечи авантюризма. Да и какие, к черту, визы для господина, пребывающего в состоянии федерального разыскиваемого. Согласно липовой ксиве, я Дмитрий Львович Файнштейн, да простит меня самый печальный московский поэт Димка за приложение моей татарской рожи к его одесской благородной родословной.
Поэтому — автостоп. В Крым! По Пушкинским местам, от Ялты — влево. Гурзуф с Массандрой в бутылочках 0,33 литра, стекла зелёного. Переписка с Бенкендорфом, как с участковым милиционером. Тянет. Ай-Петри сваливается большими каменными осколками прямо в волны, заросли кизила, мягкие девки-поварихи, практикантки из города Запорожье, вяжущий язык миндаль, за Симеизом — перевал и заросли среди камнепада. Хочу! Туда! Но для начала нужно выбраться из Гатчины. Когда же прервётся этот всё уже заливший дождь…
Водитель красного, как кровь, КАМАЗа оказался человеком компанейским, жизнь повидавшим и более всего прочего ценившим добрых попутчиков. Философ- тяжеловоз: «Я еще в восемьдесят восьмом году Мишу Красноштана от Химок до Новгородского поворота вёз! Знаешь такого?»
— Умер Миша Красноштан.
— Жаль. Многопонимающий мужик был.
Дорога в дождь похожа на морской поход. Дворники на лобовом стекле размазывают океан. Марево. Насквозь вымокшая одежда высыхает прямо на теле. Чёрные джинсы, лёгкие дорожные ботинки, ремень, серая футболка с длинными рукавами, чёрные очки. В кожаном рюкзаке — деньги, пистолет с двумя обоймами, оставшаяся трава в целлофановом пакете, зубная паста, щётка, еще одна футболка, короткая тёртая до бела джинсовка, блок сигарет и две пачки питерского «Беломорканала». Мост через реку Волхов, в которой древние русские республиканцы христианских проповедников топили, и — город Луга?
Церквями и молоком. Русь.
Огромные деревья с гигантскими корзинами аистовых гнёзд. Грациозные птицы жмутся друг к другу от дождя, повернув головы вправо, где далёкой манящей полоской сверкает синий небесный просвет.
Дождь словно преследует меня. Радио весело передаёт, что в Питере уже без осадков.
Водителя зовут Борисыч. Он Борис Борисович, как Гребенщиков. О Гребенщикове слышал, разумеется, но не слушал. Вот если бы он знал, что такое электричество… С возрастом понимаешь, что лукавый гуру из Бобруйска всю свою жизнь занимался настоящим искусством. Мягким и сиреневым, как конопляный дым. От «Аквариума» всегда пахло хвоей. А его вульгарный визави Андрюша Макаревич раз за разом сдёргивал с гитарных струн добротные эстрадные хиты. Но и за одного и за другого молилась группа «Воскресенье». «Я сам из тех, кто спрятался за дверь, кто духом пал и ни во что не верит…». И кто еще был бы способен на такую исповедь… Новая поэзия начиналась на лестничных ступенях. Мне тридцать пять лет, а кажется, что семьдесят. Скорость.
Слева остается Псков.
Металлические купола парашюта со стрелами строп-лучей, устремившихся в пасмурное русское небо, в Валгаллу, куда уходят погибшие в бою или в пути войны.
Памятник Псковским Десантникам.
Теперь, вот здесь, в лефортовской камере, напротив меня, поджав ноги, сидит человек, который участвовал в том бою. Моджахед. Каранаевец. Хубиев Тамбий. Они отходили от Шатоя большой колонной. Отряд Хаттаба, отряд безногого уже Басаева, банды помельче, чеченцы, арабы, дагестанцы, казахи, таджики, карачаевцы, турки, ингуши, татары, кабардинцы, принявшие ислам славяне — тысяч шесть в общей сложности. Непрерывные бомбардировки. Взрывчатые змеи — сброшенные с самолётов рукава пожарных шлангов, набитые гексогеном. Взрыватели на таймерах. В траншеях уже не отсидишься — разорвет на молекулы. Решили отходить по единственному пути, через ущелье. Практически по бездорожью.
В ходе судебного заседания председательствующий дотошно расспрашивал Хубиева о подробностях того Шатойского перехода и об обстоятельствах боя и гибели псковских десантников. Двое из троих подсудимых рассказывали то, что видели собственными глазами… Как бились наши парни с разведгруппой боевиков, как доложили о готовящемся прорыве, как ждали помощи… И как арабы, выходившие в эфир в том же волновом диапазоне, что и федералы, вызвали на десантников артиллерийский и бомбовый удары. От имени самих же десантников. Обрезанные в ислам славяне диктовали по рации координаты высоты и вопили: «Нас осталось двое! Духи уже здесь! Вызываем огонь на себя…». Но даже после того, как свои ударили по своим, ни один из десантников не дрогнул, ни один не взмолился о пощаде, не выскочил с поднятыми руками.
На вопрос судьи о количестве потерь со стороны боевиков и Хубиев, и Понарьин ответили: «Не более десяти человек». Хубиев тогда отморозил ноги.
И всё же истинный героизм заключается не в самом факте гибели, а в твёрдой готовности пожертвовать собой. В сверхчеловеческой способности принять смерть как подобает настоящему мужчине — без паники и всхлипов о помиловании. Поэтому настоящих мужчин во все времена было ничтожно мало, и гибли они первыми. И подвиг зачастую лишён смысла, с точки зрения откормленного обывателя. Откормленному пошляку неведомо, что подвиг является наивысшим произведением человеческого духа! И уж только поэтому его совершают лишь люди духа. И ни одна начитанная тварь не вправе упрекнуть бойцов той бессмертной роты в отсутствии воли или в отсутствии смысла. Не важно, как они погибли. Важно, что они готовы были погибнуть. Не рассуждая о целесообразности этой смерти и не взирая на извилистый путь изворотливой совести тех, кто швырнул их на смерть.
Вечная память.
И дождь.
И будто послесловие — Опочка — патриархально сонный русский городок с проваливающимися под землю домиками вдоль дороги. Светло и тихо.
Развилка на Полоцк и Невель.
Нам на Невель — через Невель, через последний русский город с древней каменной крепостью, невидимой с трассы, но явно ощутимой, отражённой в каких-то изначальных наших генах.
Борисыч крутанул настройку радио. «Владимирский централ, ветер северный….».
Кажется, что всё уже сказано. Визуальная обыденность исчерпала себя и сломала звук. Ни эмоций, ни впечатлений. Сравнение решёток с крестами, бесконечные этапы в самых разных вариациях… Тошно. Тошно. Дурно от этой безысходности. Ни любви, ни чувств. Пустота. Словно я уже за гранью жизни, но ещё дышу, ещё смотрю и ничего, совсем ничего не вижу. Застрелиться, что ли…
Ощущение переезда в другую страну на границе с Белоруссией отсутствует. Есть чувство перемещения в иную эпоху, возврат на тысячу шагов к декоративному социализму, где все равны лишь чувством страха. Камбэк в заложники идеи или нырок в совсем уж какую-то параллельную галактику размытых физиономий. И пропускник на российской стороне работает как-то без энтузиазма, по-советски как-то. Проверяют документы на машину и на груз, если таковой имеется. Никакой таможни фактически нет. А у меня так и вообще не потребовали даже паспорт. В окно влетела бледная бабочка-капустница, метнулась в сигаретном дыме, и уселась Борисычу на голову. Видимо, Борисыч — святой, хотя и не слышал баллад Гребенщикова. Никаких деклараций. Только квитанция о прохождении границы.
Оказалось, что Борисыч везёт в Киев клетки для волнистых попугайчиков. Полная под завязку фура птичьих тюрем. То-то я чувствую, псковские вороны глумливо так с ветвей на нас поглядывали. Злорадствовали.
«А за окном алели снегири и на решётках иней серебрился. Сегодня не увижу я зари, сегодня я последний раз побрился…» — радио. Народный хит.
Километра через полтора — граница с Белорусской стороны. Транзитная страховка обошлась Борисычу долларов в сорок. И всё.
Существенное улучшение дороги.
Аккуратные домики, раскрашенные колодцы, изразцы, чисто, пьяных не видно. В придорожной деревне продаются картины, выложенные осколками пизженного янтаря. Торговля идёт тайно.
К остановившемуся у придорожной закусочной авто подскакивает фольклорно-выряженная бабулька и приглашает зайти в хату. Вот там и впаривают ошарашенным гражданам те самые янтарные произведения — с пошлыми до судорог сюжетами.
Витебск — родину Шагала — огибаем по окружной. Я не еврей, но тосковать умею. И Шагал мне понятен, хотя и безразличен. Близок только «чёрный» Шагал.
Гомель. Мебель, спички. Проходим мимо.
Граница с Украиной.
Возможен шмон с собаками.
Всё показушно строго. Видимо, много берут.
Говорю Борисычу, что попытаюсь преодолеть пограничные заслоны пешим ходом. Он понимающе кивает и показывает жестом, чтоб ждал его на той стороне.
Дождь гнался за мной через всю Белую Русь, но здесь, на границе с Малороссией, мне показалось, что я сумел сбежать от этой жидкой грусти. А может быть, это дождь сбежал от меня. Может быть я не убегал, а напротив — гнался за этой хмарью, за тёмным беспросветным небом, за непрекращающейся тоской… Гнался, как отчаянно разочарованный сталкер, которому так и не удалось привести в комнату исполнения желаний личность такого масштаба, такого Александра Ипсиланти, от замысла которого сбылись бы все надежды и желания всех несчастных людей. Нет, Ипсиланти мелковат, хотя и потряс Сашу Пушкина до встречи с заговорщиками из «Союза благоденствия». «Граф! Все мои стихи сожжены». Но не отыщешь в колонизированной толпе такого гиганта. И когда такие души сваливаются с Олимпа в наш животный мирок, то мы узнаём о рождении новой религии или о появлении отменяющей прошлые устои доктрины. И если бы я обладал даром истинной поэзии, мне всё равно не удалось бы выразить эту душераздирающую тоску по божеству. Лишь описал бы, как тычемся мы во тьме, слепые и чувственные.
Печальная история о том, как человек расплачивается собственной судьбой за чей-то — ему не известно чей — путь. Будущий путь. Случайный канатоходец на черте добра и зла. Что ж, бывает и так, что мелодичное ничтожество Россини дарит свою флейту великану Шопенгауэру, на которой философ музицирует ежедневно. Предметы и поступки не имеют никакого значения, пока к ним не прикоснётся дух. И вот человек, прокладывающий дорогу легенде.
Он пробирается сквозь невыносимые испытания, пропускает через себя, как через фильтр, такое количество боли и грязи, что сам почти уже не виден за этой болью и за этой грязью. И все это происходит с ним лишь оттого, что суть его жизни заключена в «прикрытии», в расчистке пути для кого — того, о ком он не узнает никогда. Лишь в утренних вспышках полусонного ясновидения улыбается ему синяя и безумно сексуальная Парвати. Он просто всасывает в себя весь негатив, как подвижная чёрная дыра, пожирает опасности, совершает необъяснимые преступления, истребляет себя и кажется сумасшедшим.
Тяжёлая влажность. Лето
В глазах дождевые капли
Так попадает в разум
Жижа пустых сомнений
Тлеет на сердце осень
Скоро сорвутся листья
Так попадает в душу
Искра грядущей жизни
Холод и звон асфальта
Скрип каблуков по снегу
Весь гороскоп сместился
И не видны созвездья
Только весна, как прежде,
Рвёт и швыряет кошкам
Прошлые наважденья
Снова цветут сады
Он снова продолжает движение. Бывает, что ему везёт… Но в то самое мгновенье, когда он ощущает прикосновение удачи — где-то на земле обязательно происходит большая беда, кто-то несет утраты. Может быть, страдает тот, для кого он пробивает штольню. Но как только у него начинается период сумерек и необоснованных мучений — он чувствует облегчение. Легкость бытия угнетает его. Страдания нужны ему для продолжения судьбы.
Идущий следом — его заложник. Но и сам он находится в пожизненном плену. В плену у женщины. Еще точнее — в плену утраченной любви. Цугцванг. Безысходность. Когда-то он был влюблен, дико, иначе не скажешь, дико влюблен в обычную с виду девушку с дьявольской отметиной над верней губой. Между ними пылала ничем не объяснимая, ни химией, ни арифметикой чудовищная, необузданная страсть. Они любили друг друга так, словно собирались немедленно покончить с собой. Они были связаны друг с другом, словно разнополые сиамские близнецы, сросшиеся сердцами и половыми органами. Непрекращающийся оргазм. И кроме этой испепеляющей и опустошающей души страсти, ничто их не связывало. Ничто. Ничто видимое.
Такая сложная инфернальная конструкция, чёртова юла, где иглой служит девушка, москвичка, прилежный офисный менеджер, поклонница умной Дианы Арбениной и глянцевой группы «Би-2». Девушка, держащая в своих ухоженных коготочках, чистильщика, проклятого бродягу, гангстера от скуки, сборщика вселенного мусора, бредущего в никуда…
Они давно расстались. Расстались навсегда. Их тела разрезал океан. Но коготки, впившиеся в шею коготки, всё еще душат любовью — тем страшным чувством, без которого он не может сдвинуться с места. А неподвижность есть его личная гибель. И он ищет как подыхающий от бессилия волк, ищет источник силы для последнего рывка. Ищет любовь. Ищет и знает, что не найдёт ее нигде и никогда. И смерть была бы избавлением. Но и смерти он лишен. Ограничен в собственных правах. Лишён до тех пор, пока не пройдет предназначенным путём до конца, до финала, до зеленого колодца, чтобы сгинуть… ради Неизвестного.
И он надеется, что неизвестное — это легенда о нём самом.
Поэтому — плевал я на украинских пограничников. Или я пройду, или начну стрелять. Ведь не всё ли равно, как и где завершится этот измотавший меня путь.
— Дмытро Хвайнштейн?
— Он самый.
— Чого пешком?
— Автостопом в Крым еду
— Чого у торбочке?
— Оружие, наркотики
— Мы шуток не зрозумием. Мериканьски гроши маешь?
— Есть немного.
— Ну… Скильке дашь?
— Стольник.
— Добре. Проходь, мил чоловик.
Я отошёл от границы почти на километр, пока Борисыч не перегородил обочину своей колымагой, гружённой тюрьмами для пернатых. Вспомнил! На среднем пальце левой руки у Борисыча мутно синел татуированный перстень «Дорога через малолетку». О подробностях я не расспрашивал. У каждого своя судьба.
Часам к десяти вечера он спокойно бы добрался до финального пункта своего дальнобойного вояжа — до Киева — Сбежавшей Невесты Городов Русских. Но ради меня, ради того, чтобы не бросать меня на ночной трассе, он готов был заночевать в трехэтажном мотеле под названием «Чернигов», где сауна и шальные девки, при въезде, разумеется, в Чернигов же.
Я отказался. Нет, мне удалось убедить трудноубеждаемого Борисыча, что ночь на асфальтовой нишке между киевской объездной и Полтавой — через Карловну — это как раз то приключение, о котором я грезил с младых ногтей, и вот оно — почти свершилось! Разве это гуманно, разрушать мечту… Борисыч крякнул, закурил и погнал КАМАЗ на Пирятин.
Пирятин, чёрт… Небольшое отступление, связанное именно с названием этого чудесного, но малозначащего населённого пункта. Шел 1990-ый год…
В одиночестве и скуке, в четырёхкомнатной Ксюхиной квартире, в Тушине, в Москве, в доме 42 по улице Свободы, бухал я приторный церковный «Кагор». Кагора был ящик, без полутора испитых уже пузырей. Грустил. Охватившая меня меланхолия была настолько чудовищной, что сподвигла на перелистывание одного из самых наискучнейших мировых бестселлеров — «Доктора Живаго» Пастернака. Кагор, конечно, выручал, но не настолько, чтобы слиться с накатывающимися волнами пассивно- творческого маразма, пенящимся под каждой строчкой вышеназванного шедевра. Жанр напряженной скуки. Хронический интеллигентский насморк автора передавался читателю буквально после прочтения первых абзацев. Страшно хотелось чихнуть и перекреститься. И даже кровавый Кагор действовал как-то непривычно, как-то по иному… Обволакивающе вязко.
В России, как всегда, шла гражданская война. Всякий насмерть бился против всякого, но, в общем — ни за что. Может быть — за улучшение жилищных условий. Андрей Живаго, как и все прочие Андреи, искал ускользающий смысл в стационарном бессмыслии происходящего. Кагор- своенравный проводник умышленно сводил с тропы, избегал ненужной встречи с генеральной линией повествования, акцентируя внимание на второстепенном, на географических названиях, например. Так по залитому креплёным вином полю моего мозга прошла озвученная Пастернаком борозда — литературный городишко Юрятин. Вцепился, блядь, как имя первой женщины. Где бы он мог находиться?
Немедленно был набран телефонный номер Димки Файнштейна — тогда еще не самого печального московского поэта, а просто хиппаря Бэрри, страдающего от надвигающегося кризиса романтики. Сам разговор дословной реконструкции не подлежит, но суть его сводилась, в общем, к следующему. «Юрятин, Юрятин… Нет, не помню такого местечка» — «Вот и я не могу вспомнить» — «А тебе зачем?» — «С Пастернаком связался. Желаю исследовать детали» — «Читаешь что ли?» — «Угу» — «С чем читаешь?» — «С Кагором. Хочешь, приеду? Вместе дочитаем» — «Валяй!».
И приехал.
Из Тушино в Гольяново.
На географической, равно как и на политической картах Советского Союза населенного пункта под названием Юрятин не обнаружилось. Посмотрели ещё — с тем же результатом. Попытались подключить к поискам интеллектуальную силу — Димкиного отца Лёву. Безрезультатно. Быстро установив практическую неразрешимость ситуации, Лёва испил две чайные чашки Кагору и удалился, уволочив за собой телефон на длинном шнуре. Юрятин не открывался. Зато обнаружился прежде не ведомый нам малороссийский городок под названием Пирятин. Обнаружив данный пункт, районного, видимо масштаба, мы, доцедив пятый батл, возжелали сию же секунду отправиться туда. В Пирятин то бишь.
Сборы были недолгими. Минут семь — восемь. И вот мы с Димкой уже торчим на ледяной платформе Ленинградского вокзала, ожидая последнюю электричку на Калинин, который теперь снова стал Тверью.
Почему Ленинградский вокзал? А куда ещё, кроме Ленинграда, могут отъехать бухие столичные романтики… Не в Пирятин же!
А теперь вот он — по трассе.
Ни хера выдающегося. Похоже на случайную встречу с прыщавой и подслеповатой барышней — секс-бомбой в интернет-переписке. Лучше бы не видел. Гибель фантазии.
И Димка уже не Берри — Dm. Feinstein.
Поворот на Полтаву.
Окончательное расхождение временно совпадавших судеб. Моей и Борисыча. Его дальнейшая карма настойчиво волочит водителя в Киев, к мосту Потона, к дюралюминиевой бабе с обрезанным мечом, к мощам Ильи Муромца в Печёрской лавре, к пивзаводу «Оболонь»… а кривая моего пути — в…
Почти ночь.
На прощание Борисыч, уже привычно немногословный, молча дарит мне атлас автомобильных дорог СССР. Очень ценный подарок. И главное своевременный. Дважды просигналив на прощание, груженый клетками КАМАЗ пошёл на Киев. Неужели Украина переживает попугайный бум?
Нет, это всё же дождь гонится за мной.
И пустота, пелена пустоты. Лишь свист в башке, как в выпитой бутылке. Повод пожалеть, что не обзавёлся плеером. Может быть, музыка смогла бы пробить эту глушь. Врубил бы стонущую Пи Джей Харви или инфернальный и лиричный «Баухаус», в своё время Сантимом присоветованный, и брёл бы под этой опостылевшей изморосью, из бесконечного мрака сочащейся. Там ли бриллиантовые небеса? И что там, за небесами? Вечное ничто и бесконечное нигде? Нирвана ли, первыми арийцами захваченная, Эдэм ли чудейский, куда русский инквизитор Иосив Санин, фанатизмом ослеплённый, братьев своих направлял… А может быть для вечных скитальцев, как и для прирождённых бунтовщиков, загробное царство Яик скрипучие еловые врата отворило… Вряд ли. Последним в Яик Емельян Пугачёв вошел — а немка Екатерина вход замуровала, приказала в Урал Яик переименовать, дабы соблазна больше не возникало. Пустое. Но всегда же хочется выкорчевать к чертям духовные ориентиры для буйных. И это уже соблазн государя. Может быть. И звёзд не видно. Лишь тоскующие волки где-то справа в чащобе завывают, да грохот какой-то приближающийся… Механический грохот. Драндулет с люлькой, набитой упругими полтавскими арбузами.
Заскрипел ручным тормозом. Подобрал. Мотоциклист-крестьянин за спину меня забросил, сигарету стрельнул и погнал в Полтаву.
Ни звёзд, ни будущего. Не на что надеяться, нечему молиться. Да и какое всесильное существо, какая стихия услышали бы мои молитвы из под оранжевой каски-менингитки, которую предусмотрительный извозчик прикрепил ремешком к моей никчёмной голове. А что…Мокра трасса, ночь, занесёт — и пиздец. Неужели! Господи, или что там теперь исполняет твои оперативно-режимные обязанности, неужели когда-нибудь этот липкий житейский сумрак прорежется ослепительно-розовой вспышкой восхода! И прервётся. И во рту появится привкус зрелой калины, устоявшей под первым заморозком. И подуют вересковые ветры. И взор застынет аметистом. А из разорвавшегося кармана высыпется мелочь и начатая пачка жевательной резинки. Господи, неужели ты вычеркнешь меня из перечня проклятых! И кто ты, Господи?
На окраине Полтавы я обменял пачку сигарет на пахнущий раем арбуз. Так ли пахнет Бог? И простился с мотоциклистом, так и не узнав его имя и не рассмотрев лица.
А что, разве бог не может пахнуть арбузом? Полагаю, что именно так и он и пахнет. И сам арбуз — это метафора божественной сущности. Полоса тёмная, полоса светлая, внутри ослепительно красный с нежными розовыми прожилками, но с твёрдыми косточками.
Ночь уже. Мокрая и густая Полтавская ночь.
Ушёл в лесополосу. Рюкзак под голову, «чезет» под ремень, коттон штанов, и спать, спать… Богом больше не пахнет. Остались только корки на обочине, а Бог поселился внутри. Пахнет, почему-то, базиликом. Разве в южнорусских лесах растёт базилик… Июльский дождь похож на одеяло. Всё дело в ассоциациях. Укрой меня бостоном ливня! Чтоб не снился мне кремлёвский ряженый Симеон Бенбулатович, посаженный Грозным на княжение в Москве, в то время как сам Грозный — теперь Иван Московский — поселился «за Неглинною на Петровке, на Арбате против каменного мосту старого». В России всё всегда одно и то же. Грабёж, правёж и поиски преемника. И все равно она мне снится, Россия — с ананасами на кедрах, с малосольными авокадо, и с диковинной агавой на гербе Тушинского колхозного рынка.
У каждого своя судьба и свой путь.
Дождь прекратился сразу, как только я заснул. Вполне объяснимо: какой смысл донимать того, кому ты уже безразличен. Дождь не настолько паскуден, как хотелось бы некоторым назойливым гражданам, проклинающим воду и исповедующим засуху. Дождь не ливерпульский полузащитник, оказывающий тотальный прессинг на своего ослабшего визави. Дождь любит осторожных. Айвы хочется, вяжущей язык айвы. Во сне. И кажется, что утренние сны способны принести несчастье, но пробуждение в пролеске у дороги — это утро на груди у Венеры! Спросонья хочется поцеловать её упругий коричневый сосок… и я поцеловал землю.
На губах остался муравей. Я раскусил его кислую жопку и окончательно очнулся. Рядом, прям на моих глазах, в режиме реального времени, образовывалась целая колония муравьёв. Рациональный театр. Натуральный тред-юнион жестоких, между прочим, насекомых. «Добрые, трудолюбивые мураши» — отчетливо помню этот привитый в коммунистических школах кретинизм. Даже советские муравьи были включены в поддержание идеологической доминанты. Добрые, блядь, существа. В связи с этим вспоминаю проведённый в беззаботном детстве экспромт-эксперимент. Недалеко от муравейника я положил дохлого кузнечика. Через несколько минут на него наткнулся ползущий к рою муравей. Рыжеватый такой. Покружил вокруг трупика, попытался подцепить, не осилил, и позвал за подмогой. В это время я убрал кузнечика. На место, где лежала добыча, приканал отряд численностью букашек в двадцать. Не обнаружив дичь, насекомые, с некоторым, кажется, разочарованием, отправились прочь, достраивать местечковый коммунизм. Тогда я снова вернул кузнечика на место. Через пару минут его снова обнаружили. Возможно, это был тот же самый муравей. Внешне я их не различаю, но он был таким же прусатско-рыжеватым и вел себя как и тот: нашел, покружился, не одолел, вернулся за подмогой… А кузнечика опять нет. Знаете, что сотворили муравьи со своим, обманутым мною, собратом? Они порвали его на части! Тут же, не сходя с места. Чтоб не лгал и не морочил головёнки мирным труженикам. Хотя он им не лгал. Ты уж прости мне мою детскую любознательность, муравей-мученик! Ты не виновен. А все невинно убиенные мчатся, как хрустальные торпеды, прямо в рай, где обилие жратвы и обилие ебливых самок. Добрые, добрые мураши — строители социализма. Карл Маркс, наверное, был муравьиным пророком. Похоже, их креатура. Страшная месть разрушающему термитники человечеству. А хули. Бог для всех исполнен чуда. Аз, как говорится, воздам.
Люди и муравьи живут с различным восприятием времени. Они не воспринимают нас как объект, с которым нужно делить жизненно важные сферы. Поэтому для муравьев мы не существуем. Для муравьев мы некая непознанная сила, способная произвольно вторгнутся в их насекомое бытиё, разрушить их жилище, растоптать их женщин и их младенцев и их героев.… И может быть, они отчаянно вопрошают нас: «За что, Господи?!». Но мы не слышим их и продолжаем асфальтировать разбитые земляными трещинами дворы. И я дважды выстрелил в образующийся возле меня муравейник, надеясь, что и наша Великая Нечто выстрелит когда-нибудь в земную пуповину и развяжется живот, и вырвется раскалённая лава, и закончится литература. Две пули вошли в землю, и вокруг них сразу же образовалась новая муравьиная структура. Ну не в людей же стрелять, душу отводя… Пара ворон крякнули с испуга. И снова тишь.
А ведь мы тоже не знаем, чем же был на самом деле Тунгусский метеорит… То ли Шива со «Смит и Весоном» игрался, то ли дряхлеющий Апполон с меланхолией боролся. Но не в Плутона же шмалять, в самом деле!
За Полтавой пошли деревья дикой алычи и такого же до одури дикого абрикоса. Амброзия для проголодавшегося бродяги. Аж челюсть подвернул, зевая от оскомы!
Через час пешего хода я увидел идущую параллельно трассе ту самую знаменитую шестирядную бетонку, на которую приземлялся вернувшийся из космоса «Буран». А ещё через двадцать минут ко мне подкатился стальной мастик «Мерседес», хотя я не голосовал. Я вообще не торможу легковые авто, потому что нет на свете особи скучнее и навязчивее, чем путешествующий в собственном экипаже мещанин.
Ошибся. Бывает. Я вообще часто ошибаюсь, основывая мнения исключительно на личной, часто не обоснованной предвзятости. Хотя… Если докопаться до сущности, взглянуть на вещи философски — исподлобья, то я, наверное, всё же буду прав. Ведь не случись в моей жизни некоторых событий, я и по сей день был бы убежден, что видимый всеми нами мир однозначен и безусловен. И мент-оборотень — это не плод гоголевского визионерства, а всего лишь газетный заголовок для статьи об уголовниках в милицейской форме. Разумеется, существуют некие необъяснимые, почти мистические стороны бытия, но они, эти стороны или явления, все же принадлежат к однополосному вектору их материального осмысления. Помоешный голубь не станет помощником депутата от партии КПРФ. Это похоже на взаимодействие понятий «Бога» и «Церкви». Бог невидим, но подразумеваем. А церковь — как материальное отображение той самой божественной «невидимости». Но речь идет об одном и том же. Всегда об одном и том же — о совмещении понятий, с обязательной сдачей прибыли в общак. Материализм. Диалектика. Одно вытекает из другого. Яблоко падает на голову Ньютона. Вектор понимания не расщепляется, как у шизофреника, на не зависящие друг от друга системы. Между предчувствием, мнением и фактом существует четкая взаимосвязь. И если мы не видим, как именно течет ток по трамвайным проводам, передовая энергию электромотору и заставляя колеса вращаться, то это отнюдь не означает, что пассажиры этого трамвая отправляются в некие недоступные для вульгарного человеческого разума сферы бытия. Они просто не видят силу, которая помогает им волочиться до следующей остановки. До остановки «Восточный мост», например.
Другое дело, если бы вы скучали на той самой остановке, в ожидании того самого трамвая, а перед вами бы вынырнул из осенней асфальтовой жижи белый прогулочный теплоходик… Перекинул бы трап через проезжую часть, звякнул в рынду и отбыл бы далее, оставляя за собой шуршащий кильватер из мёртвых тополиных листьев…
И ошибка — это когда кажется, что к остановке прибывает трамвай под номером «6», хотя на самом деле у замеченного вами трамвая совсем другой номер — «88», допустим. Просто ошибка. Слабость, неточность зрения. Неверная растасовка фактов. Или банальная предвзятость, как теперь у меня.
За рулём самоходной кареты немецкого производства находился кто угодно, только не праздно путешествующий мещанин. Может быть, он опошлится и станет таким впоследствии, но пока это был крепкий плечистый парняга лет тридцати, в чёрной рубашке с длинным рукавом — две верхние пуговицы расстегнуты, в чёрных хлопчатобумажных брюках и в чёрных же мокасинах. На шее у него, чуть проступая из-под рубашки, болталась солидная золотая цепь. На левом запястье — отечественные часы «Полёт» в золотом корпусе. Вот так, оглядывая бегло, его вполне можно было принять за преуспевающего «братка», катящего по своей криминальной надобности на «Мерседесе» с тамбовскими номерами.
И базар такой: «Слышь, земляк, где тут пожрать можно?!» — но без бычьего пафоса спросил, просто спросил и широко улыбнулся. В улыбке — весь человек. Чистый русак, без обезображивающих облик примесей душевной инфляции рыночного имажинизма и периферийной англомании. Персонаж для нового писателя-почвенника, если бы такой завелся в местном пост-модерне. От мира сего персонаж. Чуть раскосый, разумеется.
Мне бы и самому очень хотелось узнать, где же тут «пожрать можно». О чём я, собственно, и сообщил случайному знакомому, выясняя попутно, направляется ли он к московской трассе, и если направляется, то не подкинет ли меня? — Да, именно туда он и катит. Подкинет, чего же?
Перед лобовым стеклом болтается брелок на кожаном шнурке: металлическая фигурка штурмовика-спецназовца в маске, в шлеме, в бронежилете, припавшего на одно колено и прицелившегося из автомата с глушителем. Вряд ли среднестатистический «браток» повесил бы такую ненавистную для него скульптуру перед собственным носом. Из чего я сделал предположение, что мой новый попутчик всё же имеет некоторые отношения к темным сторонам жизни, но в той же примерной степени, в которой земский фельдшер причастен к охватившей село эпидемии — он и сам болен, но всё же пытается исцелить местных жителей. Федеральный боевик, короче. Спецназовец.
В Краснодаре, насквозь прошитом трассой Москва — Симферополь, мы купили по бутылке минеральной воды, галеты и бастурму. Ничего более съедобного в утреннем краснодарском сельпо не обнаружилось.
Тогда-то я и узнал, что мне повезло. Боец так и сказал: «Повезло тебе, дружище, я как раз в Симферополь еду. Так что если ты не против…». Безусловно, я не был против.
Бойца звали Вадим.
Вместо «спасибо», он говорил «Спаси Господи».
А мною правит Вечное Сегодня.
Спросив разрешения пошарить пультом по радиошкале, я наткнулся-таки — спасибо, ангелы! — на навсегда, наверное, с будущего будто воплощения, любимое:
«Мы живем, ни на кого не полагаясь
Продвигая по кишке очищающие литры
С нами наши дорогие, и ты, моя дорогая
Надеюсь, тоже с нами, а теперь пошли титры».
Хотя я так и не нашел рационального объяснения тому, как московский панк Родионов заплыл на волны украинского радиоэфира. Может, в натуре, у них «незалэжность»? С чего бы…
В Новомосковске сразу за мостом, на блокпосте, нас остановили вооруженные пэпээсники — или ДАИшники бывшие, если быть точным. Никаких претензий у них не было, напротив, они любезно предупредили нас, что на территории практически всей Днепропетровской области орудуют переодетые в старую гаишную форму не то грабители, не то вымогатели.
— Обережно, хлопцы. Вони с жезлами, докумэнты отбирають, гроши вымогають… Побачете, не зупиняйтеся — рухуйте соби далее.
— Чего, чего «далее»?
— У пэрэд, короче, прите без остановок!
— Тебе ж по-русски говорить удобнее.
— Удобнее, — автоматчик сделал ударение на предпоследнем «е». — Це вони там у Киеве заставляют госслужащих на «державной мове» кукарекать. А мы шо, пидчиняемся… Куды денешься.
— Так отсоединяйтесь! В Россию входите.
- Отсоединяйтеся… И шо — с кулэмэтами по лесам ховаться? А-а… Я вот бачу, цигарки у вас якись гарные…
Вадим, который как раз закуривал натуральный американский «Parliament» с жёлтым фильтром, протянул менту сине-серебряную пачку с оставшимися сигаретами и вырулил на трасу, приговаривая: «Знаю я этих «гаишников». Поглядим, может старые знакомые».
Днепропетровск обошли справа.
Не солгали менты постовые. В первой же раскорячившейся за Днепропетровском деревней замаячил белый «жигулёнок» в кустах и трое ухарей на дороге — с жезлами, как и было сказано, с бляхами на груди, но без оружия. Один изображал водителя, двое других работали под инспекторов. Старший — в капитанских пагонах.
Завидев этот пикет гоп-стоп-менеджеров, Вадим рассмеялся: «Старые знакомые! Надо о себе напомнить».
Подкатились с пафосом, как Джордж Буш-мелкий на электротабуретке для гольфа. Ряженые обрадовались, глазёнками заискрили, но разглядев выходящего из авто Вадима, опали взором и натужно заулыбались. Вадим веселился:
— Ну что, рэкетиры! Со старшего триста, с остальных по сто!
— Вадик, Вадик! — безо всяких украинизмов затрещал ряженый в капитана. — А мы ж тебя ждем! Первачок заготовили на лимонных корочках. Нам с поста маякнули, что ты едешь.
— С какого, нахрен, поста? — усмехнулся боец. — Тебе только урки с вышки лагерной цинкануть могли, что я еду!
— Ну что ты, Вадик, ну что ты, говорю — безостановочно дребезжал ряженый, от чего-то развернувшись в пол-оборота и постреливая пуговичными глазками, — мы ж тебя никогда не тормознём. И друзей твоих никогда не тормознём, и родственников дальних тоже не тормознём, и бабушку твою, и внучку… — говорливый псевдокапитан запнулся, полагая, что с «внучкой» он переборщил, но сморгнул и продолжил — ты нам растолковал доходчиво, мы всё поняли! Машины твои не трогаем. И не тронем, боже упаси! Ты же наш мобильный знаешь. Назад поди с фурами двинешься, так ты звонкуй, Вадим Иваныч… трассу, как говорится, откроем!
— Локалку ты на зоне блаткомитету скоро открывать будешь!
— Ну что ты, Вадюша, ну что ты! Ты ж такой человечище душевный, просто сама доброта! Почто кошмары такие наводишь… прими вот горилочки домашней. Жинка моя специально для меня эксклюзивит… на корочке лимонной, — ряженый цыкнул подельнику, и тот шустро, как хорёк, нырнул в «жигулёнок» и выволок пол-литровую банку со стерильно прозрачной золотистой жидкостью.
— Спаси. Господи, спаси Господи, — ответил Вадим, принимая дар и передавая его мне. — Ждите, скоро будем.
Скоро будет Запорожье… Тягуны, подъёмы, спуски.
И ливень.
Новая пелена влаги. Видимая вселенная размыта, границы её утрачены, а путь героя похож на аквариумное метание оранжевого меченосца. Жизни нет. Есть только биография. А биография героя должна быть безупречной, как и Министерство обороны. Другой вариант — биография, как в сверхидее тому самому выстрелу, который является смыслом существования. Даже если само существование очевидно бессмысленно. «Мелочи в жизни губительны. Люди мельчают быстро. Чем всю жизнь быть мишенями, лучше однажды стать выстрелом», — пропел когда-то одержимый Ник Рок-н-Ролл. И хотя эта цитата ломает внутренний мир повествования, она верна, чёрт возьми, верна, по сути.
Но для героя необходим подвиг, иначе цепь совершённых в повседневности поступков рассыпается на отдельные звенья, каждое из которых само по себе опустошено и обезображено бессмыслием. Фрагментарное жизнеописание, пожалуй — единственный выход для тех, кто скитается в поисках подвига, но так и не находит его. В философии официанта, герой — это тот, кого можно ловко обсчитать, манипулируя его презрением к мелочам. Пустота. Душа разрывается, лопается, и на мокрый июльский асфальт падают разноцветные ошмётки воздушных шариков — имитация праздника.
Никчёмное торжество.
Но кто же решил, что на рассечённых доспехах героя должен лежать непременный налёт идиотизма… Как атрибут. Как отличительный признак. Это полумёртвые черви тоталитарной пропаганды всё ещё копошатся в наших тушах, всё ещё жуют разум, всё ещё прогрызают канавки-тоннельчики в затвердевшем сознании, тоннели, по которым волочатся революционные бронепоезда, шастают кровавые пионеры Павлики, колонны книжных поселенцев всё ещё передают с рук в руки кумачовый гроб с трупиком Николая Островского, а рядовой Матросов всё бросается и бросается на одну и ту же амбразуру.
И не дай нам боже когда-либо узнать, что герой в детстве ел козявки и писался в марлевые подгузники! Образ немедленно померкнет, а подвиг превратится в жест отчаяния. — Ещё бы. Ведь он мочился в кроватке, а под простынью у него была постелена клеёнка. Какое уж тут величие личности… Так, в лучшем случае — жертвоприношение. А если герой по пьяни обоссался? Ну, оправдывает, конечно… Но всё равно — репутация подмочена. Так что подавайте нам такого Зигфрида, от биографии которого неприятные запахи не исходят! Безупречного подавайте, огранённого, отполированного и покрытого бирюзовым лаком. Бога — короче говоря.
А я — герой в консервной банке.
В консервной банке космоса, внутри которой находится консервная банка планеты Земля, внутри которой летняя Россия, с консервной банкой рвущегося к морю «мерседеса», где два млекопитающих болтают ни о чём.
Серовато-жёлтое влажное июльское утро сочится по наглухо завинченным автомобильным стёклам.
Начинается ещё один никчёмный день. День, не способный принести ни лично мне, ни жизнерадостному Вадиму, ни всему человечеству в целом ничего, кроме ещё одного разочарования, ещё одной боли, ещё одной потери, ещё одной войны и пляски на костях побеждённых.
И Запорожье — город мертвецов. Бензоколонка. Остановка. Я не выхожу из машины. С навесов льётся небо. Из-за приоткрытой двери придорожного магазинчика доносятся прерывистые вопли местного эФэМа на неразборчивый текст песни и ритм, напоминающий монотонные удары валенка по перевёрнутому ведру. Там идёт непрерывный процесс жизнедеятельности. Кто-то, неведомый мне, такими вот звуками заявляет о своём существовании в этом, кишащем индивидуальностями мире. Я же, вынужденно покинувший стационарный Райх, теперь тих и беззащитен. Призраки несбывшихся надежд и блуждающие тени сомнений пробираются сквозь черепные кости, транслируют себя, сменяются, как девушки в кабриолете Джима Моррисона, и не позволяют сосредоточиться. Простите, если вы нашли меня кричаще хаотичным. Всё же мой мир — это не горняя обитель Брахмы. Это уравновешенный ад для солнечных зайцев. И нужно быть дэзовским столоначальником в состоянии сатори или облучённым подводником, или оторвавшимся от станции астронавтом, или трудновоспитуемым ваххабитом, наконец, чтобы не грустить в дождь, вжавшись в продавленное кресло автомобильного аббатства.
Клаустрофобия, стремящаяся к клаустрофилии.
События собственной жизни ограничены рамками восприятия. То, что ещё не осмыслено, — разглашению не подлежит. Но всегда остаётся право на эксперимент. И если всё в своей жизни подвергнуть аннигиляции — словно при столкновении вещества памяти с антивеществом ничтожности воспоминаний — так вот, если всё стереть и оставить один только образ, одну только вспышку — Оксану — то этого строительного материала будет вполне достаточно для возведения мемориала всем тем, кто потерял свою любовь.
И глупо жить надеждой. Ничего нет. Ничего не будет, кроме математических расчётов. Бензин вольётся в бак, и мы снова помчимся в никуда — я в Симеиз, к осколкам Ай-Петри, осыпавшимся в Понт Эвксинский, а Вадим — к своим грузовикам, набитым контрабандным турецким шмотьём, которое приносит деньги, но деньги не приносят ничего, кроме ещё большего опустошения. Твёрдо концентрированная власть каннибалов. Потому что низость человеческая свирепствует не в коммуналках с облупившимися потолками и не в удушливой трамвайной толчее, и не в бетонном льду тюремных камер, и не в безумных героиновых притонах… Там обнажается горе человеческое, в ужасе своём и уродстве своём. А низость и мерзость обучены хорошим манерам. Низость и мерзость всегда чистоплотны, всегда — из химчистки. Всегда пунктуальны и крайне значительны, блядь… Они заботливы и поразительно умны. И если вы когда-нибудь узнаете об учреждении Фонда По Спасению Человечества, не сомневайтесь — скоро наступит пиздец. Его завершающей фазой займутся сотрудники Фонда. А бессистемно разбогатевшего Вадима — как инородный элемент в системе глобальных бухгалтерских ценностей — они, несомненно, истребят в период коммерческой чистки. И, чувствуя это, спецназовец Вадим смеётся над своим героизмом:
— Какие там подвиги… Слушай. Малаховка подмосковная. Поступает вызов: два киллера, вооружены, оба находятся в федеральном розыске за убийство, ясное дело. Засели на даче. Короче, коттедж двухэтажный довоенной постройки. Там раньше евреи жили. Ну, знаешь, Малаховка — подмосковный Тель-Авив. Ну вот. Дача эта двухметровым забором обнесена.
Четыре утра. Светает. Небольшой такой туманец. У нас группа из двенадцати человек, все рассредоточились вокруг забора. Я и ещё двое — с фасадной стороны. Смысл был в том, чтобы тихо, как можно тише, как можно незаметнее перебраться через забор, засесть перед зданием и ждать команды. И как только поступит команда «Набат!» — проще говоря, в двери, чтоб те не успели огонь открыть.
Моя задача заключалась в том, чтобы выбить дверь. Кувалдой. «Эхо-2» кувалда называется. Две руки — это и есть «2», а молот, значит — «эхо». Эх-ха, взяли! Здесь главное вовремя отскочить, а то штурмовики сметут на хер, кости поломают. Ну ладно… Короче, я во всей экипировке — бронник, маска, за спиной автомат, в руках кувалда — прыгаю через забор.
Заросли старой крапивы, метра полтора стебли. В крапиве — двухсотлитровая пустая бочка. Но я- то об этом не знаю. Сигаю, как бэтмен, и… одна нога в бочке, другая — снаружи. Ни до дна бочки, ни до земли не достал. Прямо яйцами об деревянное ребро! Об борт! Мама дорогая!
— А главное тишина?
— Какая там уже тишина! Ты слышал, как лось орёт во время гона? Так вот это шёпот по сравнению с моим воплем! Кранты, срыв операции… Парни из группы, команды не дожидаясь, подхватили кувалду и попёрли на штурм! А я отрубился от боли.
Пришёл в себя… Солнышко светит, товарищи мои стоят, улыбаются. Говорят, что киллеры мой визг за психическую атаку приняли. Обосрались. Сработал, короче, как светошумовая граната «Заря». Такой вот подвиг.
Помолчали. Закурили.
— Киллеров-то взяли?
— Взяли. Ментам передали. Слава Богу, не убили никого — ни у нас, ни у них.
Редкие, но крупные дождевые капли расшибались на лобовом стекле, как потерявшие силу выстрелы.
— Вадь, а ты где служил-то?
— Ха! Да я и сейчас действующий…
У каждого своя судьба. Частичная фиксация и последующее искажённое изложение запечатлённых в памяти мгновений жизни — вот, пожалуй, и всё, чем нам дано утешать воспаленное чувство собственной значимости. Вынужденная скромность Вадима — это неудовлетворённость уже занятыми жизненными позициями, болезненное, истощающее психику несоответствие чувства личного превосходства с признанием этого превосходства другими людьми. Всеми людьми. В каждом русском живёт император. В каждом русском живёт оплёванный юродивый с базарной площади. Их непрекращающийся убийственный конфликт и есть наша судьба. А личность делают нюансы.
Отброшенный к Чонгару Мелитополь. Мощный немецкий мотор тащит автомобиль через город, в котором делают моторы для уёбищных ушастых «запорожцев». Ну почему же мы конструируем и производим лучшие в мире танки и худшие в мире автомобили? Презрение к комфорту? Постоянное ожидание войны? Надменный император рассматривает в зеркале смешливого и страшного юродивого. Мне кажется, Вадим понимает, о чём я думаю. Он обращается ко мне по имени. Как бы он повёл себя, увидев паспорт с моей фотографией, но с димкиной фамилией «Файнштейн»? Исполнил бы служебный долг, долг гражданина, заподозрившего другого гражданина в преступлении…
Чонгар.
Сиваш в дожде.
Огромные рыбные рынки с обеих сторон пролива. Вокруг пахнет рыбой. Мир пахнет рыбой. Вселенная насквозь пропахла рыбой. Человек — это рыба.
Назаретянин призвал рыбаков, призвал рыбаков, чтобы сделать их ловцами человеков. Мир был уже не так юн, как во времена Самсона и Зороастра, но всё же в нём ещё оставались неуловленные транснациональными религиозными корпорациями человеки. Клавиши нажимаются сами по себе. Пазлы истории не соответствуют официальной хронологии. Хаос. Структурированный хаос. Озабоченный Андрей бродит по берегу Средиземного моря и ворчит, что всё прогнило, искусство отравлено массовой культурой, подвиг опошлен фанатиками, любовь глупа, не на чем остановить взор, не с кем заговорить, чтоб оказаться услышанным… тысячи стихотворных строф, заимствованных Шекспиром у предшественников и современников — больше нет языка для пения, больше нет симфонии для молитвы, больше нет сражения для Ахиллеса. Последнего романтика отпели в Конюшенной церкви, и дворня плакала о нём. Лишился рассудка Жуковский, обучая монарших ублюдков основам космической гармонии. Пиковая дама возглавила редколлегию «Литературной газеты». А последняя библиотека погибла вместе с Петраркой в 1374 году. Лица — даты — факты. Ничего не было. Всё — легенда. Лев Толстой зарезал ангела-хранителя. Календари придуманы людьми. Какая обречённость… Всякий раз мы отмечаем неким условным знаком, цифрой, закорючкой, очередной виток Земли вокруг собственной оси. Каждый раз, назначив исходную точку и приволочив домой пьяного мужика с ватной бородой, мы настойчиво отмечаем оборот Земли вокруг Солнца. Мы перелистываем календарь и отчего-то радуемся наступающему дню. Мы радуемся тому, что ещё живы, а Солнце ещё продолжает светить. Мы радуемся возможности совершить очередную бессмыслицу. Какая обречённость… Но великие дела в царстве микробов совершаются только теми, кто смог отречься от своей микроскопической сущности, теми, кто порвал связь с биологией, нарушил моральные устои кодекса инфузорий. Озабоченный пропитанием Андрей бродит по пляжу Хайфы. Назаретянин призывает Андрея, но тот отвечает, что да, конечно, он непременно поможет Спасителю, как только найдёт свободное время.
Дощщщ…
Все оттенки серого смешаны на палитре крымских небес. Крым! Наконец-то! Рваные тучи мечутся над приземистым Джанкоем, над пятиэтажками, брошенными в степи Тавриды, смыкаются где-то на краю, у входа в бесконечность, сливаются то ли с морем, то ли с раскрошившимся хребтом Ай-Петри, снова отлетают от земли, чтобы ударить ещё раз и растаять уже навсегда. Жизнь дождевого неба.
Я не главный герой даже собственной жизни. Мы въезжаем в Симферополь почти ночью, и я не знаю, честное слово, не знаю, как вывести из текста Вадима? Можно, конечно, расписать какую-нибудь сентенцию в бульварном стиле, чтобы оставить читателю намёк на возможность где-нибудь ещё, в закоулках текста, встретить Вадима — запоминающийся, чёрт возьми, тип. Но я и так пишу в бульварном стиле. Я вообще бульварный философ с вульгарной точкой зрения на жизнь. Но никогда мы больше не встречались. С Вадимом. И скорее всего, никогда больше не встретимся. И единственным местом пересечения наших индивидуальных галактик может стать лишь эта камера в Лефортовском следственном изоляторе, где не открываются на лето окна, где духота и относительное внешнее спокойствие, где я пишу от скуки и от маниакального уже желания поговорить, хотя б с самим собой.
Мне безразлична дальнейшая судьба Вадима. Мне всё равно, жив он теперь или пришили его в каком-нибудь очередном рейсе, когда он сзади — как состоявшийся и солидный уже контрабандмен — сопровождал колонну гружёных дамскими колготками фургонов. Мне наплевать. И это не делает мне чести. Но мне наплевать. Он добрый парень с чёткой жизненной позицией. Он настоящий русский. Он искренне любит Россию, что, впрочем, не мешает ему так же искренне ненавидеть тех, кто управляет его родиной — и это естественно. Всякий, кто, надрывая душу, любит эту страну, не может не чувствовать отвращения к методам, которыми она управляется. Мы, как нация, испытали на себе всё, кроме фашизма как государственной идеологии. И Вадим — фашист. И когда его одержимые единомышленники из Союза Православных Хоругвеносцев придут к власти — а они или нечто подобное им обязательно придёт к здешней власти — то он, если доживёт, снова будет чувствовать приступы патриотической тошноты при взгляде в экран телевизора. И мы с ним — из разных Россий.
И мы прощаемся и курим на прощание. Дождь, кажется, отвязался. И на низком крымском небе проступили пятна жирных жёлтых звёзд. Я курю забитую в ленинградскую папиросу траву, а он — американскую сигарету из короткой сине-серебряной пачки. Железнодорожный вокзал города Симферополя. Арык и склонившиеся к воде ветви деревьев, похожих на русские ивы. Я ещё не знаю, что скоро встречу тьму. Пахнет железнодорожной гарью. Прощай, случайный брат. Спаси Господи!
Таксист-татарин за двести долларов согласился медленно-медленно довезти меня до Симеиза. Медленно, чтобы я смог хотя бы немного выспаться. Дорога от Питера, короткий сон в муравейнике — усталость. А травушка расслабила… И я не видел ни перевала перед Алуштой, ни петляющей Ялты, ни Аюдага, вдохновлявшего польских почему-то поэтов, ни ресторан в Ласточкином гнезде, где завалили Сеню Столяра, ни Алупки, где Воронцова с Вяземской план побега за границу для Саши Пушкина сочиняли — ни черта я не видел, даже беспокойных снов. И очнулся уже в Симеизе.
Расплатился.
Проволокся через крошечный курортный городок с обязательной кипарисовой аллеей, курзалом, танцплощадкой и непременным пивняком в географическом центре, поднялся к перевальчику у скалы под названием Кошка, перемахнул через парапет, метнул рюкзак под пузо — взглянул на море с дребезжащим лунным отражением на водной чешуе — и вырубился как отчаявшийся Руслан, устав от тщетных поисков несуществующей Людмилы. И даже дождь раздумал поливать меня небесными соплями.
Короткая смерть от усталости.
Так, умирая по ночам и пробуждаясь заново, я день за днём проживаю новую жизнь. И нет никакой нирваны. Есть только клетка для попугайчика.
Сегодня ночью, там, за смертью, в зале для одного зрителя, мне транслировали запись первой встречи с Оксаной. 9 апреля 1987 года. ©The Fallen Archangel. По заказу умирающей души.
Спираль уходит в бесконечность, где всякое начало встречает своё предполагаемое завершение. Железный вьюн. На каждой плавной грани воркуют бледные голуби и каркают антрацитовые вороны. Туберкулёзный Эдгар По рыдает, проклиная Беренику. Чуть кисловатый вкус конфет «Дюшес». Сколько же комбинаций понадобилось произвести в пределах воли Большого Взрыва, чтобы создать идеальные условия для встречи двух, казалось бы, совершенно разных людей! Случайных людей. Триллиарды комбинаций! Хотя я и не люблю восклицательные знаки, но вынужден выражать ими ужас осмысления. Правда, есть в восклицательных знаках что-то идиотически нервное. Пусть. Вечер. Вечер вселенной. Откуда знаю? Чувствую.
Случайные знакомства — проводники заблудившихся судеб. Случайные Знакомства — это не понятие, а развоплощённые сущности, незримо действующие среди людей. Сон. Игорь — не помню фамилии — стёрто… Какая разница, была ли у него фамилия вообще! Мы шли к его любовнице Натали Комилягиной, что жила в Тушино, в старых бараках красного кирпича. Он шёл к возлюбленной, а я, как выяснилось — к адской девочке из детских сновидений, которую не знал, но появление которой чувствовал и ждал.
Героини ещё нет.
Постоянно проявляются контекстные шумы. Лишние слова, когда нужно сказать о единственном, главном и важном. Смысл. Суть. Начало апреля. Девятое число. Где-то цветёт багульник. Я помню этот запах из детства. Но всё разбито, серьёзно, как угол дома, на котором висит уличный телефонный аппарат. Ступени. Пыль. Звонок. Имеют ли смысл уже подробности, нюансы постоянных судеб? Остановка в бесконечности. Если пробить взором крышу, то можно увидеть тяжёлые и расплывающиеся дирижабли весенних облаков. Вот-вот пойдёт снег. Последний. Как мокрый пепел.
Героини ещё нет.
Ну кто же выдумал эти электрические звонки! О как он дребезжит…
За распахнувшейся дверью — Натали в бигудях. Коммуналка. Сюда ли войдет моя убийца? В комнате слева кто-то невидимый звякает пустыми бутылками. Земля в созвездии Овна. Саламандра — его мистический символ. Сова — покровительница рождённых в апреле. Неужели через несколько минут сюда войдёт она…
В комнате Комилягиной, на холодильнике, стоят два торта «Птичье молоко». Один на другом. На небе — птичье молоко. Тюлевые занавески.
Руна «ман».
Сколько же планет понадобилось сдвинуть небесным крючникам, чтобы образовать на затерянной в Млечном Пути Земле точку пересечения для двоих, обречённых на любовь! Лахеза. Антропа. Судьба.
Или это созвучия, капнувшие с пера Саади… «Гюлистон». И она — Оксана — уже заходит в подъезд и поднимается по ступенькам. Шаг, ещё шаг, ещё, ещё… Шаг. Последний. Натали говорит: «Сейчас ко мне зайдет подруга. Бывшая одноклассница. За тортами». Ксюха — это вульгарно. Знаете ли, какая фамилия должна быть у женщины поэта?!
Гончарова.
Оксана Гончарова.
Звонок.
Укол в сердце.
Эх, чёртов Пан, весёлый Бог лесов и тёплых рощ, рогатый, волосатый, козлоногий — не жаль тебе своих прекрасных бестий! Им неуютно на Земле. Они застенчивы сперва и молчаливы. И лишь в глазах у них такая пропасть… Чуть влажная и фиалковая.
Не будет лёгкости. Весна. Но всё равно — не будет ощущения полета. И не понадобится имован, чтобы сбить нарастающую тревогу, как только шасси оторвутся от выщербленного тушинского асфальта. «Оксана», — и убрала глаза. Услышь меня, великий пасечник Рудый Панько! Не лёгкости я жду и не покоя… Дважды щёлкает английский замок. Мышеловка захлопнулась, фройляйнин. Теперь ваш обречённый визави начнёт следить за каждым полужестом. «Птичье молоко». Приманка. Дефицит сгинувшей эпохи. Инфляция борьбы за выживание. Петрарка плачет в ворот Ерофеева. И все, как прежде — двое. Адам и Ева. Жизнь и быт. Натали включает радио… или это не радио и не Натали… Затесалась, чёрт. Кто это смотрит на мои татуированные руки? До головокружения влюблён! Выдумки всё. С первого взгляда влюбляются только микробы. Дьяволы принюхиваются долго. Химия. Процесс ассимиляции чувств в завывающем сердце. Она играет. Виконт, подайте астролябию! Я замерю расстояние между взорвавшимися звездами. Ах, не Виконт… Игорь, мне пора. Оксана тоже собралась в апрельский сумрак. Возможно ли дойти с ней до троллейбусной остановки… И мотыльки в кружении снежинок.
Сеанс окончен.
Всё кончено.
Она растворилась в зелёной глади жизненной трясины… Прощай, моя безумная любовь!
Я проснулся с опоясывающей головной болью под палящим полуденным крымским солнцем. Жить дальше не хотелось. С перевала мне махали руками незнакомые волосатые люди. Хиппари, что ли.
Недостаточный рай. Крым. Симеиз. Чайки кричат так, будто они только что вырвались из плена звуковых дорожек Фрэнка Заппы.
Поросший буйной зеленью камнепад. Разбитые глыбы, торчащие из диких зарослей, гроты, поросшие мхом и обожжённой травой, небольшие поля в каменных ожерельях, сыпучие каменистые спуски к морю — всё это на малом, длинною в километр, пространстве между Симеизом и Кацавели. Торчащие из кустов углы палаток! Но людей не слишком много. Немного настолько, что можно не думать о том, что где-то рядом вообще есть люди. Зашёл за валун — и оказался на необитаемом острове. И если не разбивать своё стойбище рядом с тропами, то, провалявшись весь день на месте, можно предположить, что ты единственный человек на планете. Это ли не точка абсолютного покоя для бродяги в федеральном розыске, странствующего в поисках антимира.
Максимальный минимализм. И если не чувствуешь в себе сил стать повелителем вселенной, то следует податься в отшельники.
Заброшенная шамбала. Эти проросшие камни я обнаружил в конце восьмидесятых. Случайно. Просто наткнулся, проезжая по нижнему приморскому шоссе в сторону Фороса. Здесь же познакомился с самым печальным московским поэтом Файнштейном, чьим именем я прикрываюсь последние месяцы. Так что справедливость требует нескольких слов о моем друге — музыканте, актёре и поэте Димке по прозвищу Бэрри.
Рассказывать можно по-разному. Можно пропустить впечатления через себя, через излом личных эмоций — когда необходимо выявить собственное отношение к миру вообще, перебирая чётки событий и медитируя на чужой энергетике. Можно использовать технику ломанных линий — подставляя читателю то иллюзию личной заинтересованности в игре с читателем, то отстраненную и в чём-то циничную, но такую же иллюзорную «объективность».
Так достигается цель далёкая, стратегическая и во многом отвлеченная. На таком заигрывании творца с посторонними строится идеология. Принцип вовлечения.
Можно, следуя выражению Сантима, работать в жанре «люди, которые встретили меня на своём пути».
Можно последовать совету Борхеса и составить такой текст, в котором рассказчик, как Бог, обезличивается до предельной растворённости в объекте повествования, как бы вскрывая изнутри предполагаемую сущность описываемого. При этом желательно употреблять эрзац философских понятий и неожиданно вкраплять специфические военные термины типа «дислокация», «реперное построение», «девиация» и тому подобные штуки. Борхнс полагал, что таким образом конструируется идеальный текст.
Можно подчинить написание сложной технике Сергея Довлатова — короткие предложения, почти разговорный текст. Предложения в абзаце начинаются только с разных букв. Слова в предложении точно так же — начинаются с различных букв, желательно чередующихся гласных и согласных. Но это крайне сложная и кропотливая техника. Разумеется, такая сложность оправдывает себя, но у меня не хватает терпения. Прости, Дим. Лето. Жарко и сыро.
Бемоль.
Мы познакомились с Димкой тогда, когда отголоски гурзуфской бойни восемьдесят восьмого года и на следующий сезон всё ещё витали над южным побережьем Крыма. Не страх, нет. Ненависть. Ненависть в раю. Ни одно животное не бросается на подобное себе по единственной причине лишь несовпадения экстерьера. Здесь всё глубже. Животное бросается в тот момент, когда чувствует приближение явно смертельной опасности истребления своего рода, своей масти.
И чтобы Бэрри не было уютно в собственной стране, пусть даже в малой её части, мусора провоцировали местную шпану. Но местной и, в частности, симеизской шпане было так же глубоко наплевать на Бэрри и на мусорских провокаторов. Тогда уже всем на всех было плевать. Но однажды они таки решились осмотреть окрестности своего курортного кишлака… Или может быть жиденькое пиво, привезенное из Ялты в металлических баклагах успело прокиснуть на раннем солнцепёке, и местные алкаши решили выместить похмельное неудовлетворение на мирных хиппарях? Неважно. Важно, что пара десятков скучающих долбоёбов решили обозначить своё доминирование на данной местности. Просочились слухи. Многие обитатели камнепада сняли палатки и подались прочь. Бэрри было наплевать. Он остался оберегать Птицу.
Был ли он влюблён в Ольгу Птицу? Да, безумно.
Каким же призраком выскальзывает из жизни время счастья! Касается кожи, словно слабое дыхание зачавшей нимфы Эхо, что полюбила бессердечного Нарцисса, да так и растаяла в этой любви. И остался от неё один лишь голос.
Обратная проекция.
Дон Кихот и умственноотсталая Дульсинея. Поэт влюбляется в ту, которая не только не чувствует его любви, но даже не способна рассмотреть в нём поэта.
Роман — средство для продления лета. Или способ удлинения разочарования.
Проклятие! Не проступает этот поэт! Ускользает что-то главное, что-то очень важное — может быть то, в чем и заключена тайна поэзии. И пытающийся открывать эту тайну разрушает музыку. Остаётся лишь взорванная обыденность.
Мы познакомились с Файнштейном здесь, в Симеизе. А через месяц, в Москве, он открыл мне группу «Резервация здесь» и её харизматичного создателя Илью Сантима. Тогда была осень 1989 года. Да, осень. Дневная мгла. Осень же, чёрт возьми, осень… Кислое разливное пиво с осадком, гнусные флегматичные девицы, гарь от тлеющих лиственных курганов на замусоренных газонах, декаданс и предчувствие смерти как бесконечно бессмысленной жизни. Осень.
В одна тысяча девятьсот восемьдесят девятом году тоже была осень. Мгновенное предчувствие дождя.
На окнах полоской дрожал никчёмный липкий свет, смешанный с брошенными ажурами паутин. Мы подсчитали мелочь: хватало ровно на две трёхлитровые банки разливного московского пива, которое продавалось для страждущих совсем рядом, напротив рыбной лавки с грандиозной вывеской «Океан». В нескольких шагах от гостеприимного логова самого печального московского поэта Димки Файнштейна Бэрри.
Я не сказал, что было ранее утро? Так вот, было раннее утро. Около семи. Пивной ларь как раз и открылся в семь ровно, чтобы наспех похмелить и привести в состояние функциональной готовности отбывающих по своим пролетарским надобностям мрачных позднесоветских гегемонов. Мы кричаще не вписывались в оптимистическое общество, окружившее ларёк, но свои шесть литров дурно пахнущего напитка всё-таки получили. На одной из банок был припечатан жирный оттиск растопыренной пятерни, оставленный неряшливой ларёчницей то ли в издёвку, то ли в назидание.
Странно, но в то утро ни я, ни Бэрри не страдали абстинентной меланхолией, не корчились в малодушных приступах человеконенавистничества и даже не намеревались торжественно истребить ещё один бессмысленный день своей бессмысленной жизни. Просто — осень. Моральный долг. Дхарма.
Такой уж неуютный напиток это московское разливное, что сразу после индивидуально испитого литра наблюдается некий духовный подъем. Кратко и обманчиво это иллюзорное вдохновение. Разум погружается в область парадоксальных изысков. Но всё же происходит, ох, происходит некий лирический позыв к расширению круга участников. Навязчивое желание мгновенно поделиться булькнувшей отрыжкой эмоций с кем-то ещё, с кем-то обездоленным и одиноким. Бэрри приволок из кухни телефонный аппарат на длиннющем шнуре и набрал номер…
Было где-то возле девяти часов всё того же утра. Блёклое солнце пару раз презрительно плюнуло на подоконник и надменно затекло за бетонную двенадцатиэтажку напротив.
— Ванька не придёт, — равнодушно сообщил Бэрри. — Не может встать.
Помолчали.
— Но у него сегодня Сантим ночевал… — не меняя интонации продолжил самый печальный московский поэт. — Он встал. И теперь направляется сюда. Кажется, вместе с ним сюда направляются два батла портвейна.
Да ведь идти-то не долго! Ванька Помидоров проживал в том башенном доме, у подножья которого как раз располагался стационарный пункт разлива мутно-жёлтого, как осенние утра, пива. А значит Сантим уже пересёк конечную автобусную станцию и теперь движется по Алтайской улице в направлении тридцать первого дома. Интересно, портвейн молдавский или азербайджанский?
Туркменский.
Практически полтора литра.
Что ж, портвейновое трио — это вам не тщедушный пивной дуэт! Совершенно иная гамма созвучий. Внутренний дансинг при внешней медитативности. Эпопея. Ибо двое пивопьющих — это не более чем частность. Мало ли что воссоединило их на какой-то краткий миг вселенского отсчёта. Так, неустойчивая наркоманда. Но трое! Трое — это уже воплощённая идея о бессмертии. Это уже начало обретения смысла, уже ансамбль, уже противоречие в единстве, уже гегельянство.
Да и Антанта — тройственный союз.
Истребление устойчивых ориентиров.
И потом, должны же мы были когда-нибудь познакомиться! Конечно, судьбы ковыляют на протезах наших помыслов и ещё не известно, кто кем распоряжается — портвейн человеком или человек портвейном… Но нам суждено было встретиться именно так, при посредничестве трогательного Бэрри, и именно тогда, когда все смертники считали себя бессмертными, и даже Ванька Помидоров, и даже… Все ещё были живы. И если ты, читающий эти пунктирные записи, ещё ни разу не смешивал пиво с туркменским портвейном — немедленно смешай! Стакан портвейна и два глубоких пивных глотка вдогонку — для пролонгации одурманивающего действия. Лирический допинг.
Осень, чёрт возьми, была такая осень… Дневная мгла.
Как известно, изобретателем советского гранёного стакана является автор дюралевого монумента «Рабочего и Колхозницы» — скульптор Вера Мухина. Именно ей принадлежит открытие гениального метода промышленного нанесения граней на стеклянные изделия. На кой хуй они нужны, эти грани, доподлинно не известно. Но туркменский портвейн в день нашей первой встречи мы вливали в себя именно из такой посуды. И мне казалось, что я знал Сантима всегда… Может быть даже раньше, чем я узнал самого себя. Так случается, когда один потерявшийся в незнакомой галактике гуманоид встречает случайно другого такого же скитальца, выпивает с ним… А потом обнаруживает себя в галерее зеркал, где одно и то же отражение, преломляясь тысячи раз, расщепляет сознание, будто приподнимая индивидуальное потешное забрало, и видит несчастный своё второе несбывшееся Я.
Так вот, Сантим — это всё то, что со мной не сбылось. Всё, чему уже не сбыться, что пропито, осуждено и отнято за нежелание распорядиться. А сам я — негативное отражение Сантима, его навязчивый кошмар, искажённая явь, беда, от которой он никогда не излечится, потому что друг без друга мы не имеем смысла. Друг без друга мы преданы своим женщинам, а женщины к тому только и стремятся, чтобы хапнуть душу, как жакет на распродаже, и поскорее уволочь её в склепик своих шифоньерных представлений о супружеском счастье.
Бесовщина.
Ха!
Проповедник британской гитарной эстетики. Я-то ожидал, что сейчас войдёт некто, похожий на аптекаря Матюшку, что бродил в шестнадцатом веке по ивановской Руси и толкал протестантскую доктрину в инертные и туго восприимчивые славянские массы. Я-то думал встретить очередного рокенрольного юродивого с печатью вечного хронического воодушевления на постной роже…
А встретил Сантима. Умного и насмешливого.
Осень, чёрт…
На полу валялась виниловая пластинка с записью электрических госпелов в исполнении церковного хора под управлением ренегата-регента… Под управлением Кинчева, короче. Ну ничего… Бах тоже был кантором церкви Святого Фомы. Это от творческой зависти. Я слушаю Кинчева. Я ведь тоже — анархонацинаркоурлопанк.
Что делают три поддатых рифмоплёта, обнаружив завершение алкогольных напитков? Нет. В винную лавку они отправляются позже. А сначала они судорожно ищут какой-нибудь, хотя бы самый истёкший источник совместного вдохновения. Какую-нибудь хуйню, магический предмет, способный зафиксировать и подтвердить спонтанно возникшие подозрения в единстве взглядов. В общем, ищут удостоверение в отсутствии каких бы то ни было взглядов вообще. Какую-нибудь духовную зубочистку. Ведь известно, какие у рифмоплета взгляды…
1 стакан: «Я — гений, все — говно».
2 стакан: «И я гений, и ты гений, и все вокруг гении».
3 стакан: «Все гении — я говно».
4 стакан: «И я говно, и ты говно, и все вокруг говно».
Сатори.
Так в книжном свале бэрриной берложки был обнаружен чудовищного содержания манускрипт, озаглавленный «Стихи о Ленине и прочих героях Октября». За одно лишь название эта книжица должна бы занять почётное место в надгробной композиции, которую, я верю, благодарные ублюдки установят на могиле Ваньки Помидорва… И вокруг будет буйно расти лебеда… и ежевика с привкусом всеобщей гибели.
Стихи о Ленине и прочих…
Бэрри уже тогда начал осваивать художественное бренчание на ленинградской шестиструнке. Он же исполнил дебютную арию матроса Железняка: «Я шёл на Адэээссууу, а выыыышел к Херсооонууу…»
Хер-сон. Ну и городишко. Бывал, бля.
Разбившись на автономные творческие единицы, соответствующий настроению материал и, размягчив глотки «Огуречным лосьоном» из Димкиного гигиенического ассортимента, приступили к спонтанной репетиции.
Да и чего ждать? Умирающие самцы, перед тем, как сгинуть в неизвестности, стремятся в последний момент оплодотворить какую-нибудь случайно подвернувшуюся самку. Срабатывает инстинкт продолжения рода. Те же симптомы обнаруживают апокалиптические рокенрольщики. Рассматривая всякую текущую минуту как последний миг собственной жизни, они спешно стремятся надругаться хоть над какими-нибудь общественными святынями, чтоб не предстать с опущенными гривами на том свете, где Сид и Нэнси спрашивают строго.
«Огуречный», уложившись на отлакированный пивом портвейн, подвигал на импровизации. Больше хороводно-костромские, нежели британо-трущобные. Но Бэрри был чрезвычайно оживлён. Чрезвычайно! А когда гитарист в буйстве… И тогда мы в режиме нон-стоп, при посредстве отечественного магнитофона «Электрика» воронежской сборки, записали полноценный шестидесятиминутный альбом-экспромт кондовой героики. Среди прочих шедевров врезался в подкорку душераздирающий блюз «Каховка, Каховка, родная винтовка».
Потом была купленная в таксопарке водка, пропитый сборник киргизских сказок, был проснувшийся Ванька, утомление в метро, снова водка, уже неизвестно где приобретённая, была короткая драчка со скучающей урлой и какая-то жуткая амурная история в староарбатских подворотнях, при активном участии деклассированной барышни по прозвищу Маугля. Осень, чёрт возьми, осень.
Резервация здесь.
А чуть позже состоялся знаменитый концерт «Резервации» в сквоте на Страстном.
Ну есть же абсолютно, блядь, очевидные вещи! Не требующие алгебраических доказательств. Есть коржик, а есть коловорот. Есть творчество, а есть нарезка бутербродов. О, вот же он, прекрасный Феб, отпускающий солнечные стрелы искусства в пульсирующие мишени податливых сердец! О, Апполон! Эстрадный искуситель… Ты не забыл ещё, как безобразный и бесстрашный сатир Марсий переиграл тебя на флейте? И глаз его, как сумеречный александрит, поглядывал в размытую ветрами бесконечность. Мир сверкал тогда подобно бриллиантовой запонке на крахмальном манжете вселенной. Теперь мир похож на войлок, иногда на чёрный карачаевский каракуль.
Схоластика.
Ну есть же абсолютно, блядь, очевидные вещи!
Этот двухэтажный, полуразрушенный, выселенный, разумеется, дом-сквот на Страстном бульваре был бы, наверное, идеальным антуражем для постановки какой-нибудь жуткой расправы в духе телерепортажа «Россия Криминальная». Вышибленные подрамницы окон, облупившиеся стены цвета увядшего алоэ, хрустящие мусором разрухи, и жизненноопасные в провалах ступеней лестничные марши. Скошенная, болтающаяся на одной петле бывшая парадная дверь. Дохлая псина у входа. Окаменевший георгин в треснутой черепице. Десятки втоптанных в пылищу окурков. Вечер. Но ещё светло.
Электрический кабель тянули от ближайшей стройки. Хотя тогда, в девяностом году канувшего в омут века, нельзя было с окончательной достоверностью утверждать, стройка ли то была, или разбор исторических завалов. Но кабель тянули именно оттуда — из будки сторожей. Литр водяры — и вопрос решён. Процессом руководил Лёша Хоббит. В подручных у него состояли трое подонков, безымянные бойцы андеграунда, без участия которых отпетая отечественная контркультура так бы и ковырялась в сопливом ленинградском носу, выуживая оттуда скользкие катыши эпической достоевщины, адаптированной к балалаечному рокенролу. Из-под бушлатов дипломированных дворников так и прёт эта гипертрофированная недосказанность.
Хоббит матерился… или декламировал стихи собственного сочинения. Впрочем, это одно и то же. Подонки затянули-таки электрическую анаконду на второй этаж и приступили к монтажу аппаратуры. Решающим считался вопрос о точке размещения барабанной установки, бас-бочку которой пересекал земляничного цвета росчерк «Резервация здесь», выведенный, кажется, безымянным пальцем.
Чёрт… Всякое оружие, если, конечно, его изготовлением не занимается идиот-созерцатель, конструируется вокруг пули. То есть сначала изобретается убийственный снаряд, а уж потом разрабатывается механизм его доставки к телу жертвы. Чёрт… Сначала в концептуальную пулю группы «Резервация здесь» хотели отлить тексты Сантима. Даже начали отливать… Но никак не изобретался ударный механизм. Нечем было пиздануть эту пулю по капсюлю, чтобы она прошла насквозь партер, срикошетила от чугунных голов критически настроенной галёрки и уж заметалась бы в хаосе, хуяча кого ни попадя! Но что-то не срасталось с бойком. И тогда участники этого подпольного ансамбля решили сместить акцент. Вместо дуэльного маузера индивидуальной сборки был заявлен фугас. Так тонко, тонко: перкуссия, бля. Бас-бочка, касса и два хэта из легированной стали. Всё остальное, включая трудноразличимые публикой тексты, прилагалось в комплекте к ударному мозжечку.
В помещении пахло спиртным и почему-то свежим асфальтом. На помойке, прямо под дырами окон, разрасталась календула.
Итак, представляю вашему вниманию уникальный состав рок-банды «Резервация здесь» образца 1990 года. Нумерация участников — по мере значимости.
Ванька Помидоров — ударные.
Сантим — вокал, тексты.
Димка Бэрри — гитара.
Лёха Плешь — бас-гитара.
Лёша Хоббит — матерно-поэтические врезки.
Литл — второй вокал, тексты.
Помещение, кстати, представляло даже не некоторую, а вполне реальную опасность для жизни и здоровья талантов и их поклонников.
Всё было гнило: деревянные полы, тексты песен, окружающая действительность. Между несколькими комнатами были обрушены стены. И вот это мрачное пространство, с обвисшими ошмётками обоев в мелкий василек, оказалось самой подходящей площадью для зрительного зала, где с первыми ударами басиста примерно двести не вполне трезвых негодяев приступили к исполнению можно сказать ритуальных плясок. Двухвековые напольные доски прогнулись и упреждающе захрустели. Впрочем, хули там упреждать… безумный ансамбль отделяла от зрителей вполне естественная преграда — раскорчёванная дыра в полу, сквозь которую был виден предыдущий этаж и подрагивающие икры обнажённых дамских ног. Странная поза. По крайней мере мужских частей тела не наблюдалось.
Бас-партия прострелила в динамики. Помидоров врубился в установку, и с три минуты длилась дикая увертюра, при которой то бас-гитара насиловала замогильный барабанный бой, то стальные хэты выдавали жёсткие пощёчины импровизирующему басу. Совокупление падших ангелов. Наконец ритм выровнялся, и тяжёлый дуэт слился в единую монотонную линию. Бэрри — Guitar — вступил в бой одновременно с истошным девичьим воплем, прорвавшимся сквозь раскорчёванную дыру. Обнажённые икры конвульсивно дернулись пару раз и усмирились. Единственный медиатор раскрошился к чёрту на третьем же аккорде. Хуйня! Находчивый Бэрри сложил вчетверо сигаретную картонку и снова врезался в нарастающий ритм. О, этот чудный скрежет отечественной электрогитары «Урал»! Малахольным британским панкам остаётся лишь скудно фантазировать на тему самого поганого саунда.
Энергетика грязной московской романтики. Столовое молдавское — алб-де-масэ.
Глоток…
И Сантим.
И п
е
р
е
к
р
е
с
с Литлом
ь
е
Интервенция истолкованных переживаний. Ууу, эти замшевые дьяволы, терзающие ватные мозги людей жестяными сердцами! Ингредиенты бесконечности. Каналья… я и Вольга Нестерова. Сыпучая река презрение стирает в кровь беззащитные водоросли наших трепетных душ. Рука гитариста похожа на обугленную ветвь иерусалимской вишни… Мы давно уже мертвы и заселены бухтами — обреченными духами, врывающимися в брошенные человеческие трупы. Голос. Голос Сантима дезинфицирует отравленное электричеством пространство. Гибель толерантности. Торжество обаятельной ненависти. Самоистребление. Математическая культура рушится под лирическим вандализмом. Болото. Казарма слов. Сумерки.
От — топота — копыт — пыль — по — полю — летит
От — топота — копыт — пыль — по — полю — летит
Пауза.
Хоббит витиевато матерится в рифму. Бешеный, неожиданно бешеный Хоббит берет рифму, как спонтанное созвучие, и смачно матерится в неё, наполняя искусством.
И снова — отбойник ударной установки дробит гробовую плиту видимого мира. И снова бультерьер электробаса вгрызается в горло собственной песне… Ещё чуть-чуть, и всё будет завершено. Вообще всё.
Коллективная доминанта рассыпается и крошится. Мы перестаем быть нафантазированными карликами из комиксов про жестоких лавочников. Открывается суть. Запевала Литл душит себя микрофонным шнуром и сквозь его окровавленные белки просачивается персональный демон, недостаточный Бог, несчастный Муравьёв-Апостол болтается на шлиссельбуржской рее. Я жалкая пародия на человека. Литл становится мной.
* * *
Алб-де-масэ с грейпфрутом.
Нужно купить сигарет, чтобы было чем сжечь бесконечно долгую искру наступающей ночи.
Сиреневая ветка грохочущей подземки волочит нас на северо-запад столицы. Последние пассажиры устало фиксируют взорами наше пребывание в исчезающих сутках. Сантим молчит. Бэрри молчит. Басист Плешь молчит. Помидоров рассказывает случайной девушке историю создания Микки Мауса. Хоббит мчится в другом составе, в другом направлении и тоже, наверное, молчит. Всё уже сказано. И только Помидоров, предчувствуя, что этот мир ему покидать первым, безжалостно воркует с юной Кипридой о рисованных мышах.
Так давно это было… В прошлом столетии. В прошлой жизни, за которой не оказалось жизни следующей. Лишь бесконечное повторение одного и того же дня, который всё сложнее и сложнее переживать. И не переспать эту жизнь на крымском солнцепёке — взорвётся болью голова. И проснуться, и осоловело смотреть вверх, где в хоре обезумевших чаек и с чёрным нимбом над седой растрёпанной шевелюрой нисходит в юдоль буйный помещик Бакунин.
Нам просто не повезло. Мы выжили в эпоху крушения духа, в эру низвержения мечты. Мы пережили собственное детство. И когда мы повзрослели, мы начали изображать из себя божков. Начали многозначительно кривляться, корчить серьёзные рожи, брать ответственность за самими же собой выдуманный бред. Увлеклись этой пантомимой, этой бессмысленной игрой, забыв, что мы всего лишь расплодившиеся агрессивные млекопитающие — неосознающие свою животную природу зверьки, существа, обученные передавать друг другу свои слабые сигналы посредством определённого набора звуков и закорючек, называемых «речью» и «письмом».
Наиболее восприимчивые из нас, не найдя смысла в каждой отдельно взятой жизни, начали вдруг активно и заразительно беспокоиться о сохранении человеческой популяции в целом. Хотя нахуй нужна эта популяция «в целом», они тоже в принципе не знают. Просто инстинкт самосохранения. Эволюционный процесс.
В центре нашей вселенной торчит большой половой член, соприкасающийся с таким же гигантским влагалищем. А вокруг этой конструкции — триллиарды нюансов, оттенков, доктрин, платформ, обоснований, разногласий, последствий и преступлений. Так сказано в Библии: «В день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Так сказано во всех рукописях, которыми начиналось человечество.
И тогда, чтобы как-то поприличнее, поизощрённее объяснить себе это беспрерывное и бессистемное совокупление, нашими далёкими, еще сутулыми предками было придумано надчеловеческое понятие — Бог.
И когда мы взрослеем и скрещиваем естественное с надуманным, то начинаем изображать из себя божков. Разум искажается до такой степени, что всё естественное мы воспринимаем как зло, а всё надуманное укладываем в фундамент храма Добродетели — и мучаемся от несоответствия природы и мифа о самих себе. Мы ищем себя, но не находим.
И только в юности мы действительно являлись богами.
Но в том-то и заключается подлость этой поганенькой жизни, что, будучи юными богами, мы не осознаём себя в этом качестве. А когда начинаем осознавать, то перестаём быть и юными, и богами.
Умение проигрывать — это тоже искусство. Это не нравственная капитуляция. Не разложение бунтующего духа, не поза опустившегося аутсайдера. Проигрыш — это состояние. Образ мысли. Это — «четвёртая история Борхеса» о самоубийстве бога.
Мой личный проигрыш начался в день моего появления на свет. Рождение в эпоху гибели Империи, когда вокруг, как предвестники гибели костра, срывались и гасли в кромешной тьме мгновенные, ничего уже не значащие искры. Судьбы.
Поколение моих родителей было воодушевлено победой во Второй Мировой. Они родились с жадным стремлением выжить. Они — созидатели. Мои дети — наследники катастрофы, и им тоже очень нужно выжить, и в них тоже заложен мощнейший потенциал созидания. Но я рождён в эпоху водевильно декорированного краха Империи, в годы её позолоченной агонии — с ядерными шахтами и пустыми прилавками, с пионерскими клятвами и глухонемыми, торгующими в электричках мутными фотографиями порно, с культом Запада и презрением к лицемерному Отечеству, с маразматическими физиономиями вождей, олицетворявших это самое «отечество», и с паскудными анекдотами про русских героев.
Ощущение катастрофы преследует меня всю жизнь, как если бы я всю жизнь был пассажиром падающего из-за отказа двигателей авиалайнера. И что такое моя жизнь по сравнению с катастрофой целых народов, развивающейся прямо у меня на глазах, с первого дня моего появления на свет.
Всё, что произошло со страной на переломе восьмидесятых с девяностыми, — не более чем предание тела покойного земле. По меркам человеческой жизни, Дракон умирал долго и в глубочайшей тайне. Но смертельную болезнь невозможно скрыть от организма. Клеточкам тела не нужно даже знать о болезни, потому что они её чувствуют. И не мы — брежневское поколение — были причиной болезни. Мы стали тем, что умирает. Дракон погибал так скрытно, что многие подумали, будто его смертельно ранили неизвестные враги, отравили проклятые заговорщики… О, как бы я хотел поверить в «заговор против Империи»! Эта Вера подвигла бы меня к действию, к мести…
Но не было никакого заговора с отравлением. Как и не было никакой Империи. А существовал только миф о ней, вера в этот миф и жуткая междоусобная расправа внутри мифа. Битва ни за что. И поколение моих родителей стало последним солдатом этой битвы. А мои дети родились после мифа, и может быть им удастся построить для себя и для своих детей настоящую, пригодную для жизни страну. Но я… Я умираю на руинах мифа о великой и могучей Родине. Распадаюсь на пепелище потухшего костра, в котором я уже погасшая искра.
И погибнуть можно по-разному. У каждого своя судьба. Всякий волен сам избрать себе смерть. Кто-то быстро скончался и занялся мгновенным обогащением, зарабатывая монетку для лодочника Харона. Кто-то механически бубнит из-под крышки гроба о «новом духовном возрождении». Кто-то, уже вернувшийся с того света, из рационального царства деловитых чертей, вернувшийся со спецмиссией, производит необъяснимые простым человеческим умом политтехнологические манипуляции. А некоторые, и я среди них, прилюдно умирают, как актёры театра Нерона — приговорённые драматургом к гибели на сцене, в режиме прямого эфира, на глазах жаждущей крови публики.
Поэтому в наших жизнях отсутствует смысл.
Мы заранее знаем развязку и всего лишь обыгрываем её.
Аплодируйте нам.
Играющие смерть приветствуют вас.
Мы — клоуны вечной осени.
Аплодируйте.
А рукопись… Рукопись похожа на жизнь — её можно оборвать в любую секунду.


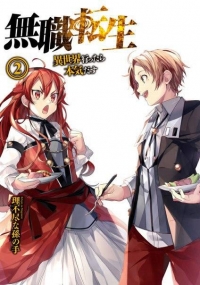

Комментарии к книге «Дождливые дни», Андрей Ханжин (Литтл)
Всего 0 комментариев