Джонатан Летем Бастион одиночества
Посвящается Маре Фэй
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Андерберг
Глава 1
Как будто в темной комнате чиркнули спичкой.
Июльским вечером часов около семи две светловолосые девочки во фланелевых ночных рубашках неумело кружили по серо-синему тротуару на красных роликовых коньках с белыми шнурками.
Девочки негромко читали стишки. Длинные волосы сияли розовым в лучах предзакатного солнца. Малышки пообещали родителям, что перед сном почистят зубы и переоденутся в ночные рубашки, и тогда им позволили выйти погулять после ужина, насладиться летними вечером, воздухом и оранжевым закатным небом, накрывшим улицу, да и весь Гованус, подобно громадной ладони или морской раковине. Пуэрториканцы, что сидели на ящиках из-под молока перед магазином на углу, глядя на девочек, завели разговор о призраках. И время от времени то один, то другой шикал на остальных, предупреждая о необходимости проявлять терпение. По всей улице валялись наполовину вдавленные в асфальт бутылочные крышки — от «Ю-Ху», «Райнголд», «Манхэттен спешиал».
Девочки, Тея и Ана Солвер, светились, будто слабый огонь в лучах солнца.
Семейство Солвер было в квартале не первым. До него здесь объявилась пожилая белая дама, поселившаяся в старом доме, где прежде ютились в комнатах пятнадцать человек, — одна со своим упакованным в коробки скарбом. Она-то и положила начало. Но Изабелла Вендль заперлась в своем доме из бурого песчаника, притаилась, как неуловимая сплетня, как неприметный апостроф. Опираясь на трость, по вечерам она ковыляла с первого этажа на второй — в комнату с осыпавшимся, требующим ремонта потолком. Там читала и засыпала.
Изабелла Вендль была сухой костью, тонким слоем плоти над давней раной. Она жила воспоминаниями о лодке на озере Джордж, писала письма, макая ручку в чернильницу, и заклеивала их печатями. У нее был дубовый стол. И водились кое-какие деньжата. Однако в комнатах на первом этаже всегда пахло заплесневелым сыром и мокрыми газетами.
А девочки на роликах были прелюдией, светлой сценой перед началом представления: на Дин-стрит возвращались белые. Пока только считанные.
Когда Дилану Эбдусу было пять лет, как-то раз, играя на заднем дворе, он случайно задавил котенка. Вокруг дома, который снимали его родители, котят водилось много — пять-шесть или даже семь. В этой дворовой клетке с кирпичными стенами они сновали тут и там — между булыжниками, недавно посаженными вьюнками, уксусными деревьями, словом, повсюду, где играл и в одиночку познавал мир Дилан. Его мать возилась с клумбами или просто сидела и курила, а семейная пара, что жила по соседству, распевала песни, бренча на расстроенной гитаре с наклейкой борцов за мир. Дилан танцевал с когтистыми, пучеглазыми котятами или гонял их возле кирпичной кучи, облюбованной слизняками, и однажды, отскочив от одного, наступил ногой на другого.
Раздавленного, но еще живого котенка унес кто-то из взрослых, а плачущего Дилана поспешили увести со двора. Мальчик догадался, что котенка из милосердия добьют — задушат или утопят. Как-нибудь. Он спросил об этом у отца с матерью, но ему не ответили. Лишь в первый момент они выказали досаду и недоумение, а затем глубоко спрятали свои чувства, и это не ускользнуло от внимания Дилана. Он был слишком мал, чтобы понять, что натворил. Родители посчитали, что происшествие сотрется из его памяти, но оно не стерлось. Позднее Дилан притворился, будто ничего не помнит, так как понял: взрослые будут обеспокоены тем, что он не может об этом забыть.
Смерть котенка стала первой горькой таблеткой вины, которую ему пришлось проглотить.
А может, все началось с другого: однажды мать сказала, что кое-кто хочет поиграть с ним на улице. На тротуаре. Так Дилан в первый раз не пошел гулять на задний кирпично-заплесневелый двор, а отправился изучать жизнь квартала.
— Кто? — спросил он.
— Маленькая девочка, — ответила мать. — Иди сам посмотри, Дилан.
Быть может, это белые девочки, Ана и Тея — те, в ночных рубашках и на роликах. Он видел их из окна и решил, что именно они зовут его сейчас.
Однако его ждала чернокожая девочка, Марилла.
В шесть лет Дилан уже легко разгадывал уловки матери, выросшей на этих улицах. Рейчел Эбдус прощупывала обстановку, желая, чтобы квартал принял ее сына.
Марилла, девочка постарше, держала в руках обруч и мелок. Дорожка перед калиткой — неровная полоса серо-синего асфальта — считалась ее территорией и была помечена. Дилан впервые соприкоснулся с системой территориального деления в квартале. В дом Мариллы ему нельзя было входить, хотя он об этом еще не знал. Дорожка перед калиткой служила приемной Мариллы. У Дилана была собственная дорожка, но пометить ее он пока не успел.
— Вы переехали? — спросила Марилла, удостоверившись, что мать Дилана скрылась из виду.
Дилан кивнул.
— Вы живете в этом доме?
— Да.
— Вы занимаете весь дом?
Дилан опять кивнул, конфузясь.
— У тебя есть брат или сестра?
— Нет.
— Чем занимается твой папа?
— Мой папа художник, — ответил Дилан. — Делает фильм.
Он сказал это очень серьезно, тем не менее слова не произвели на Мариллу впечатления.
— У тебя есть сполдин? — спросила она. — Это такой розовый резиновый мяч, если ты не знаешь.
— Нет.
— А деньги есть?
— Нет.
— Я хочу конфет. И купила бы тебе сполдин. Ты можешь попросить денег у мамы?
Дилан пожал плечами.
— А скалли ты знаешь?
Дилан покачал головой. Что такое «скалли»? Какой-то человек, тоже мяч или конфета? Дилан понял, что еще чуть-чуть, и Марилла начнет жалеть его.
— Мы могли бы сделать крышки для скалли. Со жвачкой или воском. У вас дома есть свечка?
— Не знаю.
— Свечи продаются в магазине, но у тебя нет денег.
Дилан, пытаясь защититься, снова пожал плечами.
— Твоя мама попросила меня перевести тебя через дорогу. Сам ты, наверное, еще не умеешь, — философски произнесла Марилла.
— Мне шесть лет.
— Совсем маленький. А что это за имя такое — Дилан?
— Как Боб Дилан.
— Кто-кто?
— Певец. Маме и папе он нравится.
— А «Джексон Файв» ты любишь? А танцевать умеешь?
Марилла надела на себя обруч, чуть согнула ноги и руки, сжала кулаки, стиснула зубы и выпятила попу. Обруч завращался вокруг талии. Марилла улыбнулась и задвигала вперед и назад челюстью, продолжая вертеть тазом. Наверное, она смогла бы крутить и еще один обруч, на шее.
У Дилана обруч сразу же полетел на землю. Он все еще оставался карапузом, на теле не нашлось подходящего места для вращения обруча, ему и держать-то эту штуковину едва удавалось — вытянутыми в стороны руками. Вместо того чтобы согнуть ноги в коленях, он делал неуверенный шаг вбок. И танцевать у него не получалось.
Так они и играли. Дилан раз за разом ронял пластмассовый обруч. А Марилла ободряюще напевала: «Детка, дай мне еще один шанс, прошу, вернись». Ее голос звучал пронзительно. Дилан, чувствуя себя виноватым, размышлял о том, почему, вместо Мариллы, его не позвали белые девочки — те, на роликах. Осознание этого запретного желания было его второй болячкой. В отличие от истории с котенком здесь никто не мог судить о том, насколько глубоко это осознание и сотрется ли оно когда-нибудь из его памяти. Никто, кроме самого Дилана. До конца своих дней он размышлял, что мешает ему ухватиться за то острое желание, возникшее несчетное количество дней и лет назад, еще до появления в его жизни Роберта Вулфолка и Мингуса Руда, до песни «Сыграй фанки, белый парень», до средней школы № 293 и всего прочего. Желание наперекор материнской воле унестись вместе с девочками Солвер в исступленный восторг света, развевающихся одежд, туго затянутых шнурков и скользящих по асфальту колесиков. Но его выбор постоянно упирался в разметку территории — куда-то указывавшие стрелки и обозначение дорожек, по которым можно ходить.
Марилла кружилась на месте, напевая: «Когда ты считалась моею, была мне совсем не нужна; меня привлекали чужие взгляды, казалось, в них блещет весна…»
Фамилию Бурум Изабелла Вендль увидела на страницах одной из потрепанных книжек в кожаном переплете, когда бродила по Историческому музею Бруклина. Бурум, от слова буры,[1] бурская война. Бурумы были голландцы, землевладельцы, фермеры. Свои богатства хранили в Бедфорд-Стайвесанте, но в Гованусе никогда не были. Обитал здесь когда-то лишь один из них: своенравный, по имени Саймон Бурум, возможно, любитель выпить. Это он построил на Шермерхорн-стрит дом, в котором впоследствии и умер. Сюда его изгнали скорее всего за бестолковость и расточительность и позволили кутить до самой смерти.
Так или иначе, именно фамилия Бурум — тот, кто ее носил, мог бы запротестовать, но он давно отдал Богу душу — была выбрана для обозначения нескольких улиц между Парк Слоуп и Коббл-Хилл. Название «Гованус» казалось Изабелле неподходящим. Гованусом именовался канал и жилой комплекс. А Изабелла Вендль желала отделить свое место обитания и от домов Гованус Хаузис, и от Уикофф-Гарденс — соседнего района, — и от Атлантик-авеню, где высился огороженный колючей проволокой бруклинский Казенный дом. Изабелле Вендль хотелось, чтобы в новом названии была какая-то связь с Бруклин-Хайтс, и она остановила свой выбор на Бурум-Хилл, хотя никакого хилл, то есть холма, здесь и в помине не было. И название прижилось. Ее рука, при помощи капли чернил выведя неразборчивым почерком два слова, подарила этому месту новое имя. Соединила прошлое с будущим. Саймон Бурум и Гованус породили Бурум-Хилл.
Состояние здешних построек оставляло желать лучшего. Дома с террасами в голландском стиле буквально разваливались — здесь снимали комнаты холостяки, не представлявшие жизни без обогревательных приборов и пепельниц, или многодетные семейства, теснившиеся на двух этажах. Дворы почти всех домов кишели детьми. Стены снаружи были обшиты жестью и покрыты несколькими слоями краски. Теперь создавалось впечатление, будто на них толстый налет, как на языке. Комнаты, разделенные на каморки наспех сооруженными стенами, давно потеряли первоначальный вид, вместо ванн были установлены душевые кабины, уборные превратились в кухни. Повсюду царил едкий запах мочи.
Одним словом, все эти стройные голландские дома из бурого песчаника страдали, как искалеченные люди, а Изабелла Вендль мечтала их вылечить, заселить добропорядочными семейными парами — людьми, которые заново отштукатурили бы потолки с лепниной и восстановили камины. Несколько таких семейств она уже разыскала и сумела заманить в Бурум-Хилл. Правда, они немного разочаровали Изабеллу. Это были типичные хиппи, если и приводившие в порядок свои жилища, то лишь самую малость. Но начинать с кого-то ведь надо было. И эти семьи стали первыми рекрутами Изабеллы — конечно, не вполне то, что нужно, но тем не менее она надеялась на них.
Первыми были Авраам и Рейчел Эбдус. Неприглядная действительность супружества всегда навевала на Изабеллу тоску. Рейчел Эбдус имела диковатый взгляд, страсть к курению и была слишком молода. К тому же она оказалась едва ли не местной. Однажды Изабелла увидела ее болтающей по-испански с пуэрториканцами. Так что появление здесь Рейчел, по-видимому, не сулило никаких перемен. Авраам, ее муж, был хорошим художником, но имел странность: увешивал стены дома изображениями голой жены. Неужели ему хотелось, чтобы эти картины, это пиршество плоти, так и бросавшееся всем в глаза сквозь неплотно занавешенное окно, кто-то рассматривал с перекрестка Дин-стрит и Невинс?
Содержала Авраама жена — она работала с утра до обеда в транспортной конторе на Шермерхорн-стрит. И болтала по-испански с мойщиками машин.
Авраам же сидел дома и творил.
У них был сын.
Изабелла оторвала от бутерброда кусочек копченой индейки, поднесла его к носу скучающего рыжего кота и держала до тех пор, пока глупая тварь не принялась жевать угощение.
Существовало два мира. В одном отец поднимался наверх, усаживался на скрипучий стул и целиком отдавался творчеству, стремясь к какой-то неясной цели, мать крутила внизу свои пластинки, мыла посуду и смеялась в телефонную трубку — ее голос заполнял весь дом, долетал даже до верхнего этажа, с легкостью взбегая по ступеням. Ветви деревьев на заднем дворе стучались в окна спальни, а солнечный свет, пробиваясь сквозь них, рисовал на стенах сияющие пятна. На обоях были картинки — лес, изобилующий обезьянами, тиграми и жирафами. Дилан читал и перечитывал книжки «Суперомлет» и «Если бы у меня был зоопарк» или мечтательно катал по полу машинку, или в который раз обнаруживал изъяны волшебного экрана и спирографа. Круглые ручки экрана двигались нехотя, цветные осколки внутри порой не хотели ни во что складываться, колесики спирографа, если на карандаш посильнее надавить, в самый ответственный момент уходили куда-то в сторону, и чудесный круг на бумаге превращался неизвестно во что. В голову с длиннющим носом, в маринованный помидор с уродливым наростом. Но если бы волшебный экран и спирограф работали идеально, они были бы, наверное, машинами, а не игрушками, и относились бы к той области, в которой правят взрослые. Их бы встраивали в приборные панели автомобилей или носили бы на поясе полицейские. Дилан все понимал и принимал. Его вещи были бракованными и потому считались игрушками. Они требовали терпения и сострадания, как умственно отсталые дети, за которыми ему поручили присматривать.
В этом домашнем мире Дилан мог плыть по одному из двух течений. Первое вело наверх. Направляясь туда, он держался за расшатанный, скрипучий поручень, скользил рукой по его блестящей гладкой поверхности, а потом стучал в дверь студии, чтобы получить разрешение постоять рядом с отцом. Посмотреть на процесс, почти невозможный для наблюдения, — процесс рисования фрагментов мультипликационного фильма на целлулоидной ленте. Авраам Эбдус не желал больше посвящать себя живописи — созданию картин с обнаженными телами, заполнившими весь первый этаж. Он относился к ним как к сентиментальному увлечению, ступеньке на пути к цели всей жизни: созданию абстрактной картины, состоящей из множества отдельных фрагментов. Сейчас этих фрагментов хватило бы на фильм продолжительностью максимум в две минуты. Похвастаться пока было нечем, разве что набросками, развешанными на стенах, где когда-то красовались полотна. Большие кисти стояли теперь сухие в пустых жестяных банках. Авраам работал кисточками, похожими на те, которыми мастера смахивают пыль с украшений. Днями напролет он корпел в своей студии с вентиляторами у окна, втягивавшими внутрь августовский воздух, который высушивал картинки, — похожий на ювелира или монаха. Продвигалась работа крайне медленно, но он выполнял ее, как мог, скрупулезно.
Дилан стоял сбоку и вдыхал запах разведенных красок — тяжелый и едкий. Взгляд его был устремлен на ярко освещенную поверхность стола, за которым трудился отец. Мальчик раздумывал, не лучше ли бы подошли для этой кропотливой работы его маленькие руки, нежели отцовские. Когда наблюдение ему наскучивало, он усаживался по-турецки на пол и принимался рисовать ненужными отцу цветными карандашами, осторожно извлекая их из металлической коробки с французской этикеткой. Или начинал катать по покрытым краской половицам машинку. Либо с великим трудом раскрывал огромную книгу с репродукциями и, любуясь на работы Брейгеля, Гойи, Моне, Де Чирико, мысленно переносился внутрь Вавилонской башни или в кружок колдуний, сидящих у костра темной ночью, или присоединялся к мальчикам с прутиками в руках, перегоняющим через мост поросят. У Брейгеля и Де Чирико он находил детей с такими же, как у Мариллы, обручами и задумывался о том, позволит ли она ему поставить свой хула-хуп на ребро и покатать его по улице. Девочка с обручем на картине Де Чирико совсем не походила на Мариллу — у нее были мягкие и длинные светлые волосы, как у Аны и Теи Солвер.
— Эта точно такая же, — сказал Дилан, увидев, что отец закончил рисовать очередную картинку и приступил к следующей.
— Они меняются очень медленно.
— Я не вижу.
— Увидишь, когда придет время.
Время шло — ускоренными темпами. Дни летели, кадры создавались, медленно переходя один в другой, и вскоре Дилану стало казаться, что они ожили, начали двигаться; лето подошло к концу, наступила школьная пора. Он рос на глазах — так считали все, кроме него самого. Он чувствовал себя так, будто увяз в трясине, застрял в каком-то фрагменте рисованного фильма, там, на полу студии, вглядываясь в картину Брейгеля и тщетно пытаясь разыскать под праздничным столом среди собак и ног пирующих таких же, как он, детей. Уходя от отца, он мысленно считал жалобно поскуливающие ступени.
Внизу его поджидало совсем другое. Владения матери — гостиная, полная ее книг и пластинок, кухня, где она готовила еду, смеялась и болтала по телефону, стол, заваленный газетами, сигаретами и заставленный рюмками — все это пугало Дилана непредсказуемостью и беспорядком, как, собственно, и сама мать.
По утрам она уходила на Шермерхорн-стрит, чтобы зарабатывать деньги. А Дилан получал возможность тихо, как привидение, побродить по квартире: сесть где-нибудь с книжкой и почитать, подремать на залитом солнцем диване, доесть остатки еды из холодильника, полакомиться порошком какао из банки, вымазывая губы. Рассмотреть наполовину разгаданный кроссворд на столе, покатать машинку среди пепельниц или по краю горшка с гигантским желтовато-зеленым цветком. Этот цветок со своими мясистыми, будто резиновыми, похожими на ветви деревьев листьями был для Дилана целой вселенной, которую можно исследовать бесконечно и в которой легко затеряться. Но не успевал он насладиться покоем и решить, чего же все-таки можно ждать от матери, как Рейчел возвращалась домой. Дилан понимал, что не может изменить ее. Отец не нарушал его одиночества, а мать раздавливала это состояние покоя, как виноградину. Она могла неожиданно запустить пальцы в его волосы и сказать:
— Ты красивый, очень красивый, ужасно красивый мальчик.
А могла сесть в стороне и, закурив, спросить:
— Откуда ты взялся? Что ты здесь делаешь? Что я тут делаю?
Или:
— Тебе известно, мой милый мальчик, что твой отец сумасшедший?
Часто она показывала ему картинки из журнала и, показывая на подпись «СМОЖЕШЬ НАРИСОВАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ?», говорила:
— Для тебя это проще простого. Если бы ты захотел, с легкостью выиграл бы конкурс.
Когда мать собиралась приготовить яичницу, то просила Дилана подойти, разбивала яйцо о его голову и выливала прозрачно-желтое содержимое на горячую сковороду. Дилан потирал макушку, испытывая смешанное чувство обиды и любви. Мать ставила ему пластинки с записями «Битлз» — «Сержант Пеппер», «Пусть будет так» и спрашивала, кто из четверки ему больше нравится.
— Ринго.
— Всем детям нравится Ринго, — отвечала Рейчел. — Точнее, мальчикам. Девочки любят Пола. Он самый сексапильный. Когда вырастешь, поймешь.
Она плакала или смеялась, или мыла треснувшее блюдо, или подстригала когти дворовым котам — двое из них были теми, которых Дилан знал котятами; теперь они выросли и, прячась за кирпичными кучами или под вьюнками, охотились на птиц.
— Смотри, — говорила Рейчел, надавливая на подушечки кошачьей лапы — появлялись загнутые острые когти. — Подстригать коротко их нельзя, можно задеть кровеносный сосуд, тогда кот истечет кровью и умрет.
Она нещадно заталкивала в него информацию, которую он был еще не в состоянии усвоить: Никсон преступник, «Доджерс» подались в Калифорнию, от блюд из китайского ресторана раскалывается голова, Мухаммед Али выступил против войны и оказался за решеткой, британские фильмы Хичкока лучше, чем американские, обрезание вовсе не обязательно, но женщины выступают за него.
Ей было тесно в этом доме, потому-то она не отходила от телефона; в голове Рейчел теснилось слишком много идей, непонятных для детского ума, и Дилан старался улизнуть от нее, спрятаться там, где все просто и ясно. Например, заползти под ее полки, под картины с изображениями нагого тела, и затаиться в густой тени. Порой он притворялся, что рассматривает там книги матери — «Тропик рака», «Кон-Тики», «Игры, в которые играют люди», а сам подслушивал ее телефонные разговоры, разговоры, разговоры… Он наверху… Дело вовсе не в Калифорнии… Оплатила все счета… Сказала, что ножка гриба кое-что мне напоминает, и он побагровел… Поставила ту самую пластинку Клэптона в четыре утра… Совсем забыла французский…
Временами Дилан развлекался иначе. Услышав голос матери, думал, что она опять болтает с кем-то по телефону, прокрадывался на кухню и обнаруживал, что она сидит с кем-нибудь за столом, пьет холодный чай и курит. Гость смеялся, улавливая звук шагов Дилана.
— А вот и он, — говорил гость таким тоном, будто все это время речь шла именно о Дилане.
Его подзывали к столу, с ним знакомились. О посетителях матери он знал только то, что позднее, за ужином, она рассказывала о них отцу. Ничего не представляющий собой музыкант, которому однажды посчастливилось выступать на «разогреве» перед концертом Боба Дилана, и он уже все уши прожужжал воспоминаниями об этом. Сексуально озабоченный придурок, обвиненный в умышленном создании затора у железнодорожного переезда. Богатый гей, коллекционер картин, которому не нравятся работы Авраама, потому что на них только женщины. Чернокожий священник с Атлантик-авеню, считающий своим долгом присматриваться к каждому новому жильцу в районе. Ее бывший парень, настройщик из Карнеги-Холла, подумывающий, не присоединиться ли ему к организации, выступающей за вывод войск из Вьетнама. Семейная английская пара, любящая цитировать Гурджиева и собирающаяся пересечь на велосипедах Мексику. Женщина из Бруклин-Хайтс, занимающаяся в группе по совершенствованию умственных способностей, которая никак не может свыкнуться с мыслью, что обосновалась в этом районе.
В их квартире появлялось несчетное количество разнообразных людей, и все они, увидев Дилана, тут же протягивали к нему руку, трепали по голове и спрашивали у Рейчел, почему она не подстрижет ему волосы, отросшие уже до плеч, падавшие на глаза. Дилан выглядел как девочка — к этому выводу приходили почти все гости Рейчел.
Потом — в этом и состояла главная проблема, когда он попадал в поле зрения матери, — она вскакивала со стула, зажимая между пальцами сигарету, выводила Дилана на улицу, показывала на играющих детей и советовала к ним присоединиться. Рейчел составила насчет сына некий план. Она выросла на улицах Бруклина, хотела приучить к бруклинской жизни и Дилана. Поэтому и выпихивала его из первого мира, домашнего, во второй. На улицу, на Дин-стрит.
Второй мир состоял из размеченных зон: дорожек перед облупившимися фасадами домов — розовыми, белыми, светло-зелеными, всех оттенков красного и синего, непременно с кирпичом по краю. Это были флаги независимых, закрытых для постороннего государств; внутри них, вероятно, и зарождалась необходимость делить улицу на территории. Насколько Дилан мог судить, никто из детей никогда не ходил друг к другу в гости. И о родителях в его присутствии никто ни разу не заводил речи. Но он не знал, о чем еще можно разговаривать, и вливался в компанию детей молча. Они тоже принимали его без слов. Наверное, как и любого другого.
С одной стороны к улице прилегала Невинс-стрит, с другой — Бонд-стрит. Обе они считались дверями в мир неизведанного, мостиками, соединяющими с жилыми массивами Уикофф. Территорией перед магазином на углу Невинс владели пуэрториканцы. Возле здания, что стояло между домами, где жили Эбдусы и Изабелла Вендль, собиралась другая группа — в основном чернокожие. Они отгоняли прочь мальчишек, чтобы те не попали мячом в лобовое стекло вечно стоявшей напротив дома машины. Автомобиль принадлежал одному из них, человеку с вощеными усами — он постоянно мыл и полировал свою машину, но почти не ездил на ней. А перед домами у Бонд-стрит подметал дорожки и стриг траву угрюмый темнокожий тип; он никогда ни с кем не разговаривал, но смотрел на всех мрачным взглядом. Поэтому детям с Дин-стрит оставалось гулять лишь в середине квартала.
У темнокожего мальчика по имени Генри был младший брат, Эрл, и двор — не кое-как прикрытый асфальтом кусок земли, а аккуратная вымощенная площадка. Низенькая ограда, отделявшая двор от подъездной дорожки, тоже была каменной, вернее, бетонной. Здесь они все и собирались, это место считалось своего рода базой. Сюда приходили и ребята постарше, из этого же квартала. Курящие подростки обычно топтались на противоположной стороне улицы, на углу возле дома, где жили двоюродные братья и сестры Дейви и Альберто. Подростки оживленно размахивали руками, бросали друг другу новенький сполдин и пили клубничный «Ю-Ху», крышки от которого — для игры в скалли — обычно доставались Генри или его другу Лонни. Дилан был на три года младше Генри. Он сидел вместе с Эрлом на крыльце их дома и наблюдал. Компания Мариллы из темнокожих девочек тоже собиралась напротив, на другой стороне улицы. Дилан больше к Марилле не подходил, но слышал, о чем она разговаривает с подругами. Иногдадевочки переходили дорогу и присоединялись к компании Генри. Его двор, да и сам он считались центром. Ему же принадлежало право выбирать игру.
От владений Генри через два дома находилось пустое здание. Окна были заделаны плитами, дверь напоминала рот мумии, во дворе без ворот и ограды царил хаос. Крыльцо наполовину развалилось, поручни отсутствовали. Скорее всего их утащили и сдали на металлолом. Стены без окон идеально подходили для игры в мяч. Его бросали высоко-высоко, мяч ударялся о стену, отскакивал и летел на проезжую часть улицы.
Сполдин будто слушал команды игроков и порой казался заколдованным, особенно если попадал к Генри или к Дейви. Им стоило лишь поднять руки, и мяч точно попадал им в ладони. Когда его подбрасывали до уровня третьего этажа, он, ударившись о стену, отскакивал, и тому, кто должен был поймать его на дороге или на противоположной стороне улицы, следовало очень быстро бежать. Для Генри это не составляло труда, но он по какой-то непонятной причине никогда не соглашался нестись куда бы то ни было. Хотя порой и сам делал промашку — бросал мяч слишком высоко или даже закидывал его на крышу. В таких случаях все громко вздыхали и начинали шарить по карманам, чтобы собрать деньги на новый сполдин.
— Интересно, сколько их там скопилось? — задался как-то раз вопросом Альберто. — Если бы я смог забраться на эту крышу, наверное, целый день скидывал бы оттуда мячи.
За новым сполдином обычно отправляли Дилана или Эрла. Они шли в магазин и произносили это ненавистное для взрослых слово. Старик Рамирез, протягивая мяч, глядел на малолетнего покупателя с подозрением и негодованием. Дилану доставляло удовольствие держать в руках новенький розовый сполдин, но, возвращаясь, он отдавал его Генри и уже не имел права прикасаться к нему до тех пор, пока после сотен бросков мяч не приходил в негодность. Только тогда Дилан мог опять его взять. Обычно это случалось в перерывах между играми, когда все отдыхали, и кто-нибудь просил у приятеля глоточек «Ю-Ху», а другой выворачивал наизнанку футболку и на потеху девчонкам надевал ее, не просовывая руки в рукава. Втакие моменты всеми забытый сполдин медленно укатывался к сточной канаве, и Дилан бежал за ним, удивляясь его ненужности. Такой мяч оставалось только зашвырнуть на крышу. Может, Генри и неспроста это делал, а действовал по определенной системе. Как человек, уполномоченный решать, какие мячи уже не годятся для игры.
Крыльцо заброшенного дома было секретным местом в самом центре квартала — незаметным для стороннего наблюдателя. На потрескавшуюся подъездную дорогу длиной тридцать футов чужие никогда не заходили. Деревья росли густо и как будто умышленно скрывали заброшенный дом пестрой тенью, разбавляемой световыми пятнами, как те, которые солнце рисовало на стене в комнате Дилана. Деревья заглушали звуки, и голоса родителей, зовущих детей на ужин, доносились сюда тихим эхом, будто далекие птичьи крики.
По улице Дилан всегда ходил с опущенной головой: изучал дорогу под ногами. Определить, где он находится — возле двора Генри или перед заброшенным домом, — в любой момент ему не составляло труда. По длинным, слегка наклоненным плитам или по одной из них, напоминавшей формой месяц, или по бетонной заплате, или по здоровенной выбоине, в которой после летних гроз, так внезапно превращавших пасмурный день в наэлектризованную тьму, всегда скапливалась вода.
Удар о стену, битой по мячу, бросок, снова удар. Генри, Лонни, Альберто и Дейви играли после обеда почти каждый день. Передача от боковой линии, прямо с дороги, пуэрториканцы против чернокожих, два на два, блестящий прием мяча на проезжей части между машинами и автобусом. Автобусы больше всего мешали игре, ребята нетерпеливо хлопали руками по нему и махали водителю: давай проезжай быстрее, проваливай. Не бойся, ты нас не собьешь, хватит на нас пялиться, знаками показывали они шоферу.
Однажды, с размаху ударив по стенке автобуса, Генри упал, будто сбитый. Автобус резко затормозил, с шумом остановившись посреди улицы. Пассажиры прильнули к окнам, водитель выпрыгнул из кабины. В этот момент Генри вскочил, рассмеялся и дал деру — он бежал так быстро, что почти касался пятками спины. Потом исчез за углом. Лонни и Альберто надрывались со смеху.
— Это же был не я, — хохоча и разводя руками, крикнул водителю Лонни. — Что ты на меня пялишься? Я даже не знаком с этим парнем, он чокнутый, живет где-то в Уикофф.
Дело было перед самым домом Генри. Водитель успокоился, узнав, что парень живет «где-то в Уикофф». Качая головой, он вернулся к автобусу. Дилан наблюдал.
Время от времени девочки затевали игру в салки. Салки казались примитивом и не подходили мальчишкам, но, если девочки начинали играть, Генри и Лонни непременно к ним присоединялись. Дилан и Эрл тоже каким-то образом оказывались втянутыми в игру. Раз, два, три, четыре, пять — водишь ты опять. Роль водящего легко могла достаться и Дилану. Когда считалочка кончалась на нем, он внезапно отпрыгивал вбок и негромко вскрикивал. Почему вскрикивал — для него самого оставалось загадкой. И никому до этого крика не было дела, вопили время от времени абсолютно все. Прекращались же салки весьма загадочно: игроки ни с того ни с сего вдруг разбивались на группки, водящими становились двое, кто-то из мальчишек убегал вслед за какой-нибудь девочкой за угол, и они выходили из игры.
Все дети собирали крышки и постоянно рассуждали о том, где бы достать воска, но в скалли никогда не играли. Возможно, потому что плохо умели. Изабелла Вендль выглядывала из окна. Мужчины на углу стучали костяшками домино. Порой к детям пытался прибиться какой-нибудь любопытный чужак из соседнего квартала, и тогда поднимался гвалт. Все, что происходило на улице в течение дня, таило в себе много непостижимого. Наконец наступала ночь.
Дилан не помнил, чтобы говорил кому-нибудь, как его зовут, тем не менее его все знали, и никого не интересовало, что означает его имя. Иногда кое-кто из детей мимоходом отмечал, что Дилан похож на девчонку, но ведь в этом не было его вины. Бросать или ловить мяч он не имел возможности и страдал от этого. Со сполдином он общался лишь в те моменты, когда тот укатывался к сточной канаве или, ударяясь о крыло проезжавшей мимо машины, улетал куда-нибудь. Дилану доставляло удовольствие сбегать за мячом и вернуть его раздосадованным, качающим головой игрокам. Иногда сполдин улетал аж к Невинс-стрит или к магазину, и, бывало, его ловили играющие в домино седовласые пуэрториканцы. Прежде чем вернуть мяч, они зачем-то внимательно его осматривали. На сполдине всегда красовались отметины — следы от ударов.
— На крышу его, Генри, — шептал Дилан, несясь с мячом обратно. Шептал самому себе и сполдину, словно читал заклинание. Случалось, Генри брал у Дилана мяч и тут же действительно забрасывал его на крышу. А потом, вместо того чтобы начать собирать деньги на новый, старшие неожиданно уходили. Например, к дому Альберто, в другой конец квартала, где болтали, бросая на землю сигаретные окурки, подростки. Тинейджеры ждали наступления ночи. А Дилан оставался, будто прирастая к месту, у бетонной изгороди дома Генри, одинокий белый ребенок. Отсюда он мог слышать зов Рейчел, хотя и сомневался всегда, что кричит именно она. Дорогу от заброшенного дома или от дома Генри до своего он нашел бы даже с закрытыми глазами.
Мальчик листал фотоальбомы, а его мать сидела на задней террасе дома и курила. Изабелла наблюдала за соскочившей со столба на изгородь и устремившейся куда-то белкой. С каждым прыжком белка выгибала дугой спину и хвост. Кое-кто из горбатых выглядит даже элегантно, размышляла Изабелла, думая о самой себе.
В гостиной у высокого окна, выходившего на улицу, корпел над восстановлением лепных потолочных розеток мастер-итальянец. Мальчик примостился у стола Изабеллы и переворачивал тяжелые страницы очередного альбома с таким серьезным видом, будто был увлечен чтением.
Он горбился, склоняясь над фотографиями. Похож скорее на дикобраза, чем на белку, решила Изабелла.
— Неужели вам нравится вкус табака? — спросила она, повернувшись к Рейчел и нахмурив брови.
— Конечно, — ответила та. Изабелла протянула ей запотевший стакан содовой со льдом. Рейчел приняла его, даже не подумав затушить сигарету. Сизый табачный дым продолжал растворяться в августовском воздухе.
— А я теперь не чувствую никого вкуса. Мой язык умер.
— В содовую можно добавлять еще лимон, — сказала Рейчел.
— Я добавляю лимон в суп. В содовую иногда тоже. Заберите бутылку с собой, когда пойдете домой. В моем возрасте пора пить формальдегид.
Рейчел Эбдус пропустила эту ремарку мимо ушей. Привести ее в замешательство, удивить было невозможно — Изабелла уже поняла это. Молодая мамаша откинулась на спинку стула и положила руку с сигаретой на плечо. Ее черные растрепанные волосы смотрелись безобразно. Изабелла с удовольствием состригла бы эту копну и сожгла во дворе.
Итальянец на приставной лестнице специальной лопаткой собрал с потолка излишек гипса, который звучно шлепнулся на расстеленную внизу бумагу, хрустнувшую под его тяжестью.
Напряжение мальчика, его пристальный взгляд, казалось, стирают остатки блеска со старых фотографий. На рассматривание одной страницы у него уходила целая минута. Он сидел, ссутулившись над альбомом, точно так же, как горбилась всей своей сущностью Изабелла.
Рейчел наблюдала за лепщиком.
— Ему известны все хитрости этого древнего ремесла, — сказала, проследив ее взгляд, Изабелла. — В свободное от работы время он сосет пиво, а разговаривает как уличный бродяга, но вы только взгляните на потолок!
— Красота!
— По его словам, все секреты лепки ему передал отец. И он якобы всего лишь снимает со скрытого здесь великолепия покров, — а в чем-то разбираться, что-то рассчитывать ему нет нужды.
Изабелла чувствовала, что раздражена присутствием Рейчел или самой собой — ей никак не удавалось понять. Она не закончила мысль, не сказала о том, что дом, хоть и не может разговаривать, имеет свой язык, бережно хранит его. Как лепщик — секреты перенятого от отца ремесла.
— У него потрясающий зад, — пробормотала Рейчел.
Во дворе закричала белка.
Изабелла рассмеялась. Ей вдруг захотелось попросить у гостьи сигаретку и стало интересно, можно ли начать курить в семьдесят три года. Она возгорелась желанием попробовать. Скорее всего ее просто доняла собственная беспомощность — о Рейчел Эбдус ей так и не удалось ничего узнать, кроме, пожалуй, единственного: она была ненасытна. И утоляла эту ненасытность сигаретами, потому что они лежали под рукой, тогда как до зада лепщика дотянуться было во всех смыслах гораздо более затруднительно.
— Если дело упирается только в денежный вопрос… — заговорила Изабелла, удивляясь, что смогла наконец перейти к главному.
— Нет, — ответила Рейчел, улыбаясь.
— Я не хочу ставить вас в неловкое положение. В школах «Пэкер» и «Френдз», кажется, существует система стипендий. О Сент-Энн мне ничего не известно. Но я и сама с удовольствием помогла бы вам.
— Речь вовсе не о деньгах. Я верю в муниципальные школы, сама когда-то в одной из них училась.
— Вы заблуждаетесь, уверяю вас. Очень скоро вы обнаружите, что все его друзья ходят в ту или иную частную школу.
— Дилан дружит с детьми из нашего квартала. Сомневаюсь, что они учатся в «Пэкер» или во «Френдз».
Подобные дни выдавались нечасто. Порой все складывалось гораздо удачнее: во дворе не кричали белки, ее альбомы не листали мальчики, под потолком в гостиной не потел лепщик, а соседка, от которой разило радикализмом и неудавшимся замужеством, не мусолила сигареты прямо над фарфоровым сервизом, потягивая содовую, больше не доставлявшую самой хозяйке ни малейшей радости. В обычные дни тишину в ее высоком голландском доме нарушал лишь рыжий кот, когда точил когти о связки газет внизу, давно превращенные им в изодранные, воняющие мочой бумажные кучи. В такие дни Изабелла сидела наверху за письменным столом и выводила загогулины в том месте на чеках, где ставится подпись, решая более или менее важные дела или в который раз оказывая финансовую помощь племяннику, Крофту. Тот жил в какой-то общине в Блумингтоне, штат Индиана, прячась от забеременевшей от него в Сильвер-Бей поварихи-негритянки. Изабелла была уверена, что половину этих денег, которыми она ежемесячно баловала Крофта, он пересылает своей поварихе и ее чаду, а вторую половину отдает общине — на покупку еды и марихуаны.
Да черт с ней, с Рейчел Эбдус. Изабеллу и саму можно было назвать человеком со странностями: она по доброй воле финансировала дикарей-хиппи и цветного отпрыска своего племянничка. И соседку она не имела права осуждать. Если Рейчел считает это делом принципа, ее сын отправится в муниципальную школу № 38 и будет светить своим белым личиком в темно-коричневом океане, красоваться водопадом светлых девичьих волос в толпе афроамериканцев. Изабелле вдруг захотелось, чтобы этот день поскорее закончился. Она с удовольствием заменила бы его другим днем, проведенным даже не за столом, а в кровати, за книжкой Моэма или Мопассана.
Она неожиданно задумалась о том, понравится ли Рейчел зад Крофта. Скорее всего, да.
Мальчик вышел на террасу, положил на стол тяжелый альбом и показал на одну из фотографий.
— Это ваша фамилия, — произнес он с вопросительной интонацией. Удивленная Изабелла наклонила голову.
На нижнем краю черно-белых снимков, запечатлевших пикник, людей в лодке, фотограф из давно минувшего прошлого проставил мелкие белые буквы: «ВЕНДЛЬ ХАРД, СИЛЬВЕР-БЕЙ, ОЗЕРО ДЖОРДЖ, НЬЮ-ЙОРК». Мальчик прижимал шишковатый палец к фамилии Изабеллы и ждал ответа.
Вендль Хард. Клюква в коньяке. Пустые бутылки на дне лодки, покрытой водорослями. И удар веслом, насквозь пронзившим Изабеллу, вошедшим в легкое почти до самой спины. Старая рана, которая так крепко согнула ее.
— Он умеет читать, — удивилась Изабелла.
— Хм-мм… М-мм… — промычала Рейчел, закуривая очередную сигарету. — Конечно, умеет. Он читает даже «Нью-Йорк таймс».
— И вы хотите, чтобы он пошел в школу с детьми, которые никогда ничему не научатся, — сказала Изабелла с жесткими нотками в голосе.
— Может, как раз от него и научатся, — ответила гостья и рассмеялась. — Школа — проблема, которую ему надо будет решить самому. Я в свое время с этой задачей справилась, справится и он. — И Рейчел, выпустив дым, потрепала сына по голове.
Глава 2
Как оказалось, скалли гораздо больше походила на волшебный экран и на спирограф, нежели на игру в мяч. Поэтому-то Дилан и увлекся ею с чувством искренней благодарности. Поначалу он больше проигрывал, чем побеждал, но скалли было искусством, и хитростями игры при желании можно было со временем овладеть. Ко второму лету на Дин-стрит Дилан изучил множество тонкостей скалли и прославился своим мастерством на всю округу. В частности, умением чертить поле для скалли. Перво-наперво требовалось подходящее место — тут-то и пригодилось его отличное знание тротуаров Дин-стрит. Поле должно быть ровным, гладким, без трещин и швов. Дилан выбрал место перед выкрашенной в синий цвет постройкой, удаленное в равной мере от дома женщины, которую Рейчел шутя называла Вендльмашиной, а Генри — бабусей, и от двора самого Генри. Были на Дин-стрит и другие пригодные для скалли участки, но Дилан предпочел остановить выбор именно на этом, тайно решив для себя расположиться поближе к собственному дому и к калитке Генри, у которой собиралась вся компания. К тому же здесь росло, отбрасывая тень, большое дерево. Это место сочетало в себе удобство расположения и освещения, было в меру открытым и в то же время достаточно уединенным. И потом, отсюда Дилан мог слышать, как его зовет с крыльца мать. В общем, всех мелочей, побудивших его объявить, что здесь поле получится наиболее удачным, и не перечислить. Ему поверили. Кое-кто до этого пробовал чертить поля в других местах, но после заявления Дилана все решили, что он в этом деле разбирается гораздо лучше.
После того как место выбрано, нужно расчертить его. Дилан оказался талантливым чертежником — он сам пришел к этому выводу, осознав неспособность других детей соперничать с ним. Когда они видели нарисованные им поля, мел выпадал из их рук, а Марилла даже доверила ему почетное право чертить «классики» для девочек, которые до того постоянно насмехались над его ботинками и брюками, называя их «таракашки» и «штаны-боюсь-воды». Поля у Дилана получались ровными и четкими, цифры во всех четырех углах аккуратно вырисованными — один, два, три, четыре, зону победителя в самом центре он украшал двойным кружком, сам придумал этот значок. Это, да еще удачный выбор места для поля прославили его на весь квартал. Но Лонни и Марилла однажды заявили, что по-другому поле никогда и не выглядело, и заслуга Дилана, изобретшего двойной кружок победителя, мгновенно поблекла в глазах общественности.
Другие его нововведения отвергли сразу же. Как-то раз он начертил поле в форме звезды. Игроки могли бросать крышки в центр, стоя в шести острых углах, как в китайских шашках, играть в которые Дилан научился уже давно. Никто не понял его идею и не принял, сказали, что это, мол, будет уже не скалли. Дилан стер звезду с асфальта, но шесть ее углов, особенно тщательно вычерченных, белели на тротуаре до очередного проливного дождя.
Последним этапом подготовки к скалли было изготовление специальных крышек. Их делали из бутылочных крышек — от газировки и пива, но наиболее подходящими считались более тяжелые, с пробкой. Каждый из детей был одержим манией найти крышку-монстра — такую, чтобы одним сокрушительным ударом вышибала с поля крышки противников. Время от времени они проводили эксперименты с пластмассовыми крышками или широкими металлическими — от бутылок с кетчупом, даже от банок с соленьями и яблочным джемом. Но такие были неповоротливыми, быстро останавливались, да к тому же по ним было больно ударять пальцами. Большая крышка годилась только пустая, когда же ее наполняли воском, она лишь портила дело. А пустыми крышками в скалли не играли. Без воска не было скалли. Свечи покупали или воровали в магазине Рамиреза, либо брали у Дилана, добывавшего их в спальне матери.
И в растапливании воска Дилан тоже стал знатоком. Эта операция проводилась обычно на крыльце заброшенного дома, подальше от глаз родителей и «маленьких детей», в число которых не входили Дилан и Эрл, хотя были самыми младшими среди детей, если не считать двух немых девочек с тугими косичками. Растопленный воск наливали в крышки и оставляли на время. Поверхность затвердевшего воска требовалась гладкая — без бугорков и неровностей, и при ударе крышкой противника он не должен был вываливаться. Словно маленький заводик, Дилан создавал целые партии идеальных крышек и выкладывал их рядами на крыльце пустовавшего дома. От ванильного «Ю-Ху» — с розовым воском, от колы — с зеленым, крышка от «Коко-Рико» с пробковым ободком, который еще долго пахнет сахаром, — с белым.
Странное дело: когда Дилан превратился в ведущего алхимика и философа скалли, у всех пропало желание играть в эту игру. Дилан все крутился возле своего замечательного поля, а остальные начали обходить его стороной, предпочитая скалли все что угодно. Если никакого более или менее интересного занятия не находилось, они просто собирались у калитки Генри и, засунув руки в карманы, пинали друг друга, приговаривая:
— Пошел ты, козел!
Они с большим интересом относились к подготовке скалли, к разработке системы правил, сама же игра их уже не увлекала. Ведь заявить маленькому мальчику, что он понятия не имеет, как играть в скалли, гораздо проще, чем регулярно проигрывать ему свои крышки. А впрочем, что ценного было в этих штуковинах? Рано или поздно их все равно теряли. Или же бросали в проезжающий мимо автобус и наблюдали, как со звоном ударившись о него, крышки отскакивали и улетали в сточную канаву. А может, эта игра просто всем надоела. Или же им казалось, что идти до конца — значит разрушить очарование начала.
Девочки Солвер уехали. Их отъезд стал неожиданностью. Изабелла выглянула как-то раз из окна и увидела грузовик, носильщиков, спускавшихся с крыльца с ящиками из-под спиртного, наполненными книгами и посудой, и девочек в роликах, которые словно приросли к ним. Обе со свойственной им легкостью выписывали на асфальте, будто насмехаясь над Изабеллой, прощальные пируэты. Родители девочек не потрудились и словом с ней перемолвиться — по-видимому, они понятия не имели, что были важной составляющей разработанного ею плана. Вот так с самого начала все пошло наперекосяк.
А Дилан не особенно расстроился. Девочек Солвер отправили в школу Сент-Энн, и для него они уже тогда уплыли в направлении Бруклин-Хайтс. На Дин-стрит Тея и Ана не жили, а словно парили над ней. Дилан же теперь ходил в муниципальную школу № 38, что находилась в соседнем квартале, — настоящую школу, по утверждению Рейчел.
— Он один из трех белых детей во всей школе, — хвасталась она по телефону. — Не в своем классе — в целой школе.
Рейчел придавала этому особую важность. Дилану не хотелось ее разочаровывать, но все, что происходило в школе, не имело никакого значения, служило лишь прелюдией к последующим событиям на улице. В школе дети не смотрели друг на друга, их внимание было приковано к учителю. В классе Дилана учились с Дин-стрит только Эрл и немая девочка из дома, где жила Марилла. Генри, Альберто и все остальные были старше и, хотя учились в той же школе, обитали как будто в другой галактике.
Дилан слушал мисс Люпник, рассказывавшую, как называются буквы в алфавите, или о том, как определить по часам время, или какие праздники считаются в Америке главными. Вернее будет сказать, все это время он читал и перечитывал потрепанные книжки из классной библиотечки, пока не заучил их наизусть, размышлял о чем-нибудь постороннем, выводил карандашом на бумаге каракули, мечтательно чертил миниатюрные поля для скалли — с десятью, двадцатью, пятидесятью углами. Заключал их в прямоугольники, представляя, что эти прямоугольники — листки целлулоида, как у отца, потом закрашивал их, превращая в черный фон. Буквы из алфавита, о которых рассказывала мисс Люпник, красовались над ее головой, — каждая походила на персонаж из мультика. Миссис А ест арбуз, мистер Б берет бублик и так далее. Этот парад улыбающихся букв наводил на Дилана такую тоску, что в результате у него пропадала всякая охота думать о чем бы то ни было. Ему казалось, что эти глупые миссис А и мистер Б никогда не перестанут есть арбуз и брать бублик. Он не мог заставить себя посмотреть дальше по строчке букв, чтобы узнать, какой ерундой занимаются миссис Л или мистер Т. Иногда мисс Люпник читала вслух — настолько медленно, что Дилан изнывал от скуки. Или ставила пластинки с рассказами о том, как следует правильно переходить дорогу, и о том, что разные люди выполняют разную работу. Для чего она все это делала? Чтобы развлечь детей? Никогда в жизни Дилан не проводил время настолько бессмысленно. Порой он оглядывался по сторонам и видел, что другие дети сидят с отсутствующим взглядом, подперев лицо руками, засунув ноги в отделение для портфеля под партой. Не исключено, что кто-то из них заучивал буквы, — сказать что-то определенное по их лицам было невозможно. Кое-кто из одноклассников Дилана жил в соседних с Дин-стрит районах. Одна девочка была китаянкой. Странно, если задуматься об этом всерьез. По какой-то причине дети не общались друг с другом, ни в чем друг другу не помогали. После занятий первоклашек, словно умственно отсталых, забирали старшие ребята. Никто не знал, чем, собственно, занимаются дети в первом классе. Учительница с утра и до трех часов дня обращалась с ними как с домашней собачкой, а потом за питомцами являлись их хозяева.
Если бы кто-то из первоклассников перевелся в другой класс или вообще в другую школу, никто не заметил бы его исчезновения. Даже дети с одной улицы в школе как будто не узнавали друг друга. Однажды, измучившись от скуки, Дилан попытался достать кончиком языка до носа. Учительница тут же велела ему прекратить. Некоторые боялись попроситься в уборную и описывались. А один мальчик как-то раз стал теребить ухо и разодрал до крови. Нередко, едва выйдя на улицу после обеда, Дилан напрочь забывал, что происходило в этот день в школе.
* * *
Чудаковатый бедолага Авраам Эбдус, вероятно, на что-то и сгодился бы, размышляла Изабелла. Время тянулось вереницей одинаковых дней, а процесс претворения в жизнь плана по перерождению квартала застыл в мертвой точке и походил на бесконечное создание картинок для мультипликационного фильма. В «Нью-Йорк тайме» пропечатали новое название района — Бурум-Хилл. Но Изабелла Вендль жаждала других новостей: мечтала, чтобы фрагменты ее личного фильма наконец легли в определенной последовательности и ожили, а не пребывали в убийственной бездеятельности. Рост, развитие, обновление. Единственными, кто не затихал здесь, были мальчишки, подобно насекомым на неподвижной поверхности пруда, сновавшие по дороге между машинами, — один белый в толпе черных. В мусоросжигателе на Уикофф-стрит уничтожали отходы едва ли не через день, по крайней мере Изабелле так казалось, и темный столб дыма почти не исчезал. Какой-то холостяк купил на Дин-стрит дом чудовищного синего цвета и дал Изабелле понять, что будет восстанавливать его очень медленно, то есть конечного результата она могла вообще не дождаться. Он поселился в одной из комнат в задней части дома и приступил к ремонту изнутри, поэтому внешне дом продолжал оставаться развалиной. В квартале было много таких развалин, и надежды на их восстановление почти не оставалось. Пасифик-стрит оживала быстрее, чем Дин. Изабелла смотрела на дом с синей коростой внешней отделки и с трудом усмиряла в себе желание отодрать ее собственными руками. Эта синяя отделка, будто едкая мазь, резала ей глаза. Изабелла с удовольствием заменила бы ее более приличной за свой счет, вложила бы все свои сбережения в обновление Дин-стрит, заплатила бы водителю машины, разрисованной языками пламени, чтобы он ездил мыть ее в другое место, на Невинс или Пасифик. Но у нее не было столько денег. Была бумага, конверты и печати, и дни, которые тянулись слишком долго. Иногда летнюю жару сменяла гроза, и когда дождь кончался, все стихало, а квартал наполнялся испарениями.
Изабелла написала Крофту, обрюхатившему еще одну женщину, теперь уже из общины: «Мне недолго осталось, Крофт, но кто знает! Я понятия не имею, состарилась ли хоть на самую малость с тех пор, когда сорок семь лет назад еще совсем девчонкой получила удар веслом. А ты, Крофт, круглый дурак».
Крофт все сильнее напоминал ей персонажа из «Комедиантов» Грэма Грина. По ее мнению, племянника следовало отвезти на какой-нибудь остров, где бы он изнывал от жары, или посадить в тюрьму.
Было сложно сказать, когда именно на Дин-стрит появился Роберт Вулфолк. Он жил где-то на Невинс или на Уикофф, а может, совсем в другом месте. Однажды Дилан увидел его на крыльце заброшенного дома, потом — сидящим на ограде дома Генри и глазеющим на девчонок. Затем он один или даже два раза участвовал в общей игре, хотя показал себя неважно. Роберт был выше Генри и мог так же сильно бросать мяч, но обладал и какой-то странной особенностью все портить. Уже по его манере размахивать руками и качать головой можно было догадаться, что он умеет лишь делать передачи да закидывать мяч на крышу. Однажды, стоя возле заброшенного дома, Роберт угодил мячом прямехонько в окно соседнего здания. Как выяснилось затем, он еще и неплохо бегал — все это отметили. Домчавшись до угла Невинс, Роберт остановился и станцевал, точно так же как Генри когда-то возле автобуса. К этому моменту еще даже не все осколки вылетели из оконной рамы. Вот это скорость! Оставшиеся у пустого дома мальчишки смотрели изумленно и вызывающе храбрились — не они ведь зашвырнули в окно мяч. Совершив свой подвиг, Роберт Вулфолк не показывался на Дин-стрит около полмесяца. Владелец дома, в котором он выбил окно, вставил в пустую раму кусок картона и в течение недели выходил и стоял на крыльце, буравя собиравшихся после обеда на обычном месте детей убийственным взглядом. Те, ощущая себя виноватыми, начинали играть в салки или спихивать друг друга с невысокой ограды, тихо переговариваясь:
— Вот козел. Ну чего он все пялится?
В конце концов владельцу разбитого окна надоело выражать протест, он нанял мастера, и тот заменил картон в пустой раме новым стеклом. Адети, почувствовав, что гроза миновала, опять начали бросать сполдин и весь день с обеда до вечера, а может, даже два дня пытались повторить знаменитый удар. Когда Роберт Вулфолк вновь объявился, они попробовали уломать его еще раз бросить в окно мяч. Роберт несколько дней наотрез отказывался, держался от просителей подальше, а потом, заинтригованный их настойчивостью, все же согласился. Но произошло нечто странное. Дети, испугавшись, что Роберт в точности повторит свой бросок, вмиг разбежались, а он просто прикарманил новенький сполдин и ушел в неизвестном направлении.
Никто не знал, где живет Роберт. Возможно, на Уикофф, но он никому об этом не говорил.
— Ну и имечко же у него, — сказал Генри, ни к кому не обращаясь.
— У кого? Какое?
— Хреноберт.
— Во-во, — с воодушевлением подхватил Альберто. — Полный придурок.
Остальные промолчали. Слова рассеялись в воздухе, о них забыли. А двумя днями позже Роберт будто из-под земли вырос на крыльце Генри, и у мальчишек появилась неприятная догадка, что он все время был неподалеку и наблюдал. Это сразу же стало заметно по их лицам и позам. В тот тихий жаркий день они ничем конкретным не занимались. Генри с независимым и гордым видом бил мячом о бетонную ограду. До Роберта ему как будто не было дела.
— Подойди-ка. Есть разговор, — сказал ему Роберт. Он сидел на крыльце, воинственно приподняв плечи, одну ногу небрежно отставив в сторону, раскинув руки, и походил сейчас на марионетку, веревки которой на время ослабили.
— Сам подойди, — ответил Генри.
— Повтори, как меня зовут.
Остальные мысленно спрашивали себя: где он прятался все это время? Что ему удалось подслушать? Каждый из них стоял, прикованный к месту, и думал, что, быть может, ему одному неизвестны какие-то очевидные для других вещи. Все они затаили дыхание, ощутив в воздухе привкус чего-то неизведанного и чувствуя легкое головокружение.
— И не собираюсь.
— Нет повтори.
— Вали домой.
Когда Роберт прыгнул с крыльца и напал на Генри, все вспомнили о его ударе мячом. Никто и предположить не мог, что однажды тощие руки Роберта обхватят Генри, и они, переплетясь ногами, будто страстные любовники, повалятся на землю. Роберт с остервенением начал бить противника, подмяв под себя, — зажмурившись, с таким выражением, словно находился под водой и лупил акулу. Генри весь сжался. Какое-то время рассмотреть как следует дерущихся никто не мог: их будто накрыло водяным колпаком. Внезапно тишина лопнула, оба противника всплыли на поверхность из океанских глубин, и остальные подошли ближе, чтобы наблюдать. Они услышали тонкий, почти звериный вой, вырывавшийся изнутри обоих. Дети познавали жизнь. То, что люди иногда дерутся, было известно всем, но возможность увидеть это собственными глазами выдавалась далеко не каждый день. Мальчишки размышляли о том, что когда-нибудь такие же звуки будут издавать они сами, и не торопились разнимать дерущихся, даже не задумывались, на чьей они стороне. Впрочем, никто не смог бы ответить на этот вопрос однозначно. Наконец кто-то крикнул, подчиняясь инстинкту:
— Все! Хватит!
Альберто подскочил к дерущимся и оттащил Роберта.
— Теперь все понял? Понял? — прорычал Роберт, размахивая рукой. Сзади его удерживал Альберто, но он все еще рвался в бой, — оба они топтались на месте, как брыкающиеся в стойле жеребцы. Роберт расцарапал до крови тыльную сторону ладони об асфальт или, может, о зубы Генри. — Что, получил свое?
Он наконец вырвался из рук Альберто и зашагал по направлению к Невинс. А на углу остановился, повернулся и еще раз прокричал:
— Получил?
Мгновение спустя он скрылся из виду.
Невинс-стрит была рекой несчастья, протекавшей вдоль территории Дин.
Куда ушел Роберт? Кому отдал стирать свою перепачканную одежду? Он мог пропасть теперь надолго. А мог и вернуться скоро. Не исключено, что у него были братья или сестры. Никто ничего о нем не знал. Да и не желал об этом задумываться, не считал нужным.
По Дин-стрит, засаженной с обеих сторон деревьями, грохотали машины и автобусы — солнце играло на их стеклах, ослепляя водителей. Мужчины возле сдаваемых в аренду домов выражали безразличие ко всему с помощью нахлобученных на голову в любую погоду фетровых шляп. Они вечно потягивали из бутылок пиво, а если хотели что-то сказать, говорили на испанском. Или же оставляли мысль при себе. Женщины в этот час, наверное, хлопотали на кухне, готовя ужин. Никто не обращал внимания на ребятню. В последние дни даже белая старуха почти не выглядывала из окон.
Порой и сами дети не смотрели друг на друга. Они могли часами спорить о том, кто именно сказал то-то и то-то и кто действительно наблюдал какое-то важное событие, а кто нет. Потом внезапно выяснялось, что этого не видел и сам зачинщик спора. Девочки никогда не вставали на чью-либо сторону, хотя постоянно крутились где-то поблизости и все замечали. Марилла могла дружить с чьей-нибудь сестрой, а брат девочки ни разу не упоминал об этом в разговорах с остальными. Дни протекали одинаково, а если и случалось что-то необычное, разобраться в произошедшем было невозможно — очень многое оставалось неясным.
Генри после драки мгновенно пришел в себя — не подал ни малейшего виду, что ему больно, хотя под носом у него блестела кровавая полоска. Он шмыгнул, вытер кровь, провел языком по зубам, согнул и разогнул руки-ноги — более крепкие, чем у Роберта. Губы растянулись в презрительной усмешке.
— Чертов ублюдок. Урод.
— Ага.
— Готов поспорить, он больше сюда не сунется.
— Угу.
Все негласно решили, что это Генри отделал Роберта, а не наоборот. Генри слишком быстро оправился от драки и сразу схватился за мяч, поэтому им пришлось признать, что, отдав в первый момент победу Роберту, они просто ошиблись, чего-то недопоняли. Проигравшим не всегда был тот, кто оказывался на лопатках. Они вдруг вспомнили, как поспешно исчез Роберт, когда Альберто выпустил его, во всяком случае, шагал он чересчур торопливо.
Дилан позже не мог решить, сам ли он наблюдал за дракой Генри и Роберта или же просто услышал от других мальчишек эту историю, превратившуюся позднее в настоящую легенду.
Фильм рождался. Примерно на четырех тысячах первых кадров рисованные персонажи прыгали где-то на берегу озера, хотя, возможно, это был просто заросший травой луг. Авраам рисовал тонкими, как иглы, кисточками кактусы, грибы, насосы с бензоколонок, вооруженных солдат, разноцветные рифы, в мыслях порой называя своих героев именами из мифологии, хотя понимал, что от мифов можно лишь отталкиваться, но нельзя пичкать ими будущий фильм. Понимал — и тем не менее старательно вырисовывал на плечах одного из персонажей, бегущего на трехстах кадрах, золотое руно. А бегали мультяшные герои пока только, естественно, в воображении Авраама, он лишь представлял, что прокручивает свой фильм на кинопроекторе. В движении созданных им героев не видел еще никто. Он не желал показывать фильм кому бы то ни было, пока не закончит его. Ему предлагали воспользоваться аппаратом для просмотра коротких отрывков фильма, чтобы увидеть ошибки и внести поправки, но он отказался. Созданные им кадры должны были до поры до времени просто лежать и ждать — так ему хотелось. Каждая картинка словно проходила испытание, мучаясь в одиночестве. Все они были отдельными страничками из дневника художника, и стать доступными кому-то еще могли лишь по завершении всего дела.
Сегодня Авраам рисовал не бегущие фигурки и не грациозных танцовщиков. Самые тонкие ювелирные кисточки он убрал в этот день на полку. Сегодняшние картинки были более яркими и менее замысловатыми — пятна света, застывшие на горизонте, которым был заросший травой берег озера из предыдущих кадров. Далекая, расплывчатая линия — наступающая ночь или гроза над тускло освещенным лугом. А на переднем плане несколько фигурок. Авраам рисовал их снова и снова, пока не заучил, как звуки родного языка, пока они не задвигались подобно словам — то означающим что-то конкретное, то лишенным всякого смысла и вновь его обретающим. Фигурки все больше и больше отдалялись и в какой-то момент начали сливаться с горизонтом — тонуть в его глубинах, вновь ненадолго показываться и опять исчезать. Авраам не хотел что-либо менять. В один прекрасный день, пусть даже очень не скоро, его героям предстоит ожить, став тем, чем они сами желали быть. Вырисовывая их снова и снова с незначительными изменениями, Авраам будто совершал обряд очищения — это-то и должно было составить основу фильма.
У него появилась привычка выглядывать из окна. Однажды он обмакнул большую кисть в краску и нарисовал башню Вильямсбургского банка прямо на стекле — так, что она закрыла собой настоящую башню, видневшуюся вдали.
Разрисованное окно, подобно последним кадрам фильма, стерло расстояние и приблизило горизонт.
Дилан, появляясь в студии, каждый раз казался другим.
Рейчел в шутку говорила, что попросит телефонную компанию провести с первого этажа в студию отдельную телефонную линию, чтобы звонить ему из кухни. В последнее время они часто ссорились, но Авраам тут же забывал из-за чего. По выражению его лица Рейчел улавливала тот момент, когда он отключался от пустых разговоров, когда все слова тут же вылетали из его головы. В этот момент он мысленно возвращался к кадрам фильма. Пальцы начинало покалывать от острого желания вновь взять в руку кисть.
Как-то раз ему позвонил из студенческой художественной лиги его старый учитель и спросил, почему он больше не занимается живописью.
— Я занимаюсь ею каждый день, — ответил Авраам.
Второй класс был таким же, как первый, но с добавлением математики. Третий — таким же, как второй, но с появлением большой перемены, во время которой все выходили во двор и играли в кикбол. Это почти что бейсбол, только с огромным мячом, розовым и шероховатым, как коврик в ванной. Его катили по земле к основной базе и пинком отправляли в воздух. Поймать летящий мяч было почти невозможно, в эти моменты он казался невероятно огромным. Поэтому все разбегались в стороны, даже в дальней части поля, или падали на землю. Место приземления становилось первой базой. Впрочем, чаще всего мяч вообще не получалось запустить в воздух.
Все ученические художества, даже совершенную ерунду, обязательно вывешивали. Кисти в школе были настолько ужасными, что сделанные с их помощью рисунки выглядели настоящей мазней. Когда краска высыхала, то становилась похожей на корку.
В штаны больше никто не писал.
На втором году обучения китайцев в классе было уже двое. На третьем — трое, и это всех устраивало: китайские дети постоянно тянули руку. Куда они отправлялись после занятий, для других оставалось тайной. Китайцы не были ни белыми, ни черными, и это тоже всех устраивало. Если бы не они, класс более резко делился бы на черных и белых. Наверное, всем им хотелось превратиться в китайцев — чтобы в будущем избежать проблем.
Но китайцами эти дети были не по своей воле, и когда с ними об этом заговаривали, они лишь пожимали плечами. В третьем классе все только привыкали к цвету своей кожи и не могли за нее отвечать. Почему она именно такая, оставалось только гадать.
Глава 3
Вендльмашина лежала в спальне на высокой кровати. В серо-желтом октябрьском свете, проникавшем в комнату сквозь занавески, кружили стаи пылинок и волнистых ворсинок, и поэтому он казался таким же осязаемым, как дубовые полированные перекладины кроватных спинок, как заполненные на треть коньяком и водой стаканы на тумбочке, как прислоненная к столу трость. И гораздо более прочным, чем медленно двигавшиеся руки крошечной женщины на постели, которая, не отрывая от подушки седой головы, искала свою трость.
— Я заснула, — сказала она тихо.
Дилан, стоявший на пороге комнаты, наполненной старческим духом, ничего не ответил.
— Долго ты ходил.
Дилан очнулся от своих мыслей.
— Там была очередь.
Он отнес очередное письмо в кремовом конверте на почту на Атлантик-авеню и битый час простоял в очереди перед окошком, рассматривая фотографии под словом «разыскиваются», рекламу коллекционных марок и переминаясь с ноги на ногу посреди валяющихся на полу обрывков желтой бумаги и конвертов.
В десять лет, учась в четвертом классе, Дилан по субботам за доллар в час работал у Изабеллы Вендль.
«Вендльмашина, Вендльмашина», — напевал он мысленно. Вслух он никогда не произносил этого слова. Даже в те дни, когда Изабелла Вендль уезжала навещать родственников на озере Джордж, а он приходил к ней в дом, вынимал почту из ящика и насыпал в миску сухой корм для рыжего кота.
Слово «Вендльмашина» придумала Рейчел. Она награждала прозвищами всех своих гостей, всех соседей, и Дилан понимал, что выносить их из дома, из кухни Рейчел, нельзя. Именно мать научила его такой раздвоенности: о некоторых вещах они могли разговаривать только между собой, а с посторонними общались как будто на другом языке, которым, хоть он и отличался бедностью и искусственностью, было необходимо свободно владеть, чтобы манипулировать окружающими. Рейчел объяснила Дилану и то, что миру не обязательно знать твое настоящее о нем мнение. Мир, естественно, не должен был слышать от Дилана и любимые словечки Рейчел: козел, тупица, гей, секси-бой, травка, клички, которые она изобретала: Мистер Память, Капитан Туман, Вендльмашина.
Авраама Рейчел называла Коллекционер.
По утрам в субботу Вендльмашина сидела наверху, в то время как Дилан выносил мусорный пакет с тошнотворными отходами и заменял его новым. Сама Изабелла была не в состоянии поднять наполненный разной гадостью мешок, и он ждал Дилана целых семь дней, распространяя по дому жуткое зловоние. Понаблюдать за мальчиком являлся бесшумно двигавшийся, здоровущий рыжий кот. Его голова напоминала башку монстра. Дилан никак не мог определить, презирает этот котяра его и Изабеллу или ему вообще все равно. Не знал и насколько кот понимает, какую он, Дилан, играет в этом доме роль. Может быть, кот думал, что от него нет никакого толку. Возможно, ему казалось, что все люди должны быть такими же согнутыми, как его хозяйка, и поэтому Дилан — уродлив. Так или иначе, за работой мальчика наблюдал в этом доме лишь он. Казалось, кот только и ждет целую неделю того момента, когда настанет время выносить мусор и кухня наполнится вонью заплесневелой кофейной гущи, сгнивших апельсинных корок и прокисшего молока.
— Я больше не хочу на вас работать, — сказал Дилан Изабелле, закутанной в одеяло, в осязаемый застоявшийся воздух комнаты и в тень. Рыжий кот сидел в пятне желтого света у окна и намывал лапу, ритмично двигая своей головой монстра.
Изабелла негромко простонала. Дилан ждал.
Проезжавший по Дин-стрит автобус тряхнуло на выбоине, служившей основной базой местным бейсболистам. Прогрохотав, он укатил.
— Сходи, пожалуйста, в магазин, — наконец произнесла Изабелла. — Только не к Рамирезу. К миссис Багги на Берген.
Магазином на перекрестке Берген и Бонд владела толстая белая женщина с маленькими глазками, норвежская эмигрантка, миссис Багги.
«Эй, приятель! Ты что, стырил пирожное у Багги? Я слышал, какому-то парню ее овчарка оторвала кусок задницы».
Изабелла опустила на тумбочку тонкую руку. Ногти тихо стукнули по дереву. Дилан подошел ближе, входя в аквариумный сумрак спальни Изабеллы, чтобы взять с тумбочки несколько купюр.
— Нарезку «Крафт Американ», сдобные булочки и кварту молока, — проговорила старуха — так, будто пересказывала сон. — Пяти долларов, наверное, хватит.
Дилан сунул деньги в карман и задумался, сказал ли он то, что собирался сказать.
— Я больше не хочу на вас работать, — тихо прошелестели его слова.
— Топленого молока, — добавила Изабелла.
— Янехочунавасработать, — скороговоркой произнес Дилан.
Рыжий кот моргнул.
— Оно как вода, — сказала Изабелла. — Белая вода.
На улице никого не было, кроме нескольких подростков на углу возле дома Альберто. Дилан понятия не имел, чем занимаются остальные. На дворе стоял октябрь, холодало, люди одевались в теплые куртки. Генри мог отправиться играть в футбол к школе на Смит-стрит, а Эрл, наверное, вообще сегодня не выходил. На крыльце заброшенного дома кто-то оставил пакет с бутылкой. Несколько дней назад там ночевал местный бродяга и пьяница.
Дилан направился к Бонд-стрит, раздумывая о том, насколько странно устроен их квартал. Одна его часть была лишь верхушкой айсберга — фасады домов, тротуары и дорога, — вторую, скрытую, составляли личные ощущения Дилана: немые следы его полей для скалли, возвращения мяча старшим мальчикам, вскрикивания, когда ему выпадала роль водящего. Все это было нижней частью айсберга и скрывалось под толщей воды. Дилан годами ходил по этим дорожкам, таращась на них, словно на листы для спирографа, разложенные на полу, и до последнего не замечал, что все они сворачивают на Бонд-стрит и Невинс, а затем уходят в неизвестность. Идти на угол к Багги у него не было ни малейшего желания, он бы лучше еще раз сбегал с письмами Изабеллы на Атлантик-авеню. Берген-стрит не вызывала у него доверия. Тротуар там был неровный, наклоненный вбок.
На крыльце магазина Багги сидел Роберт Вулфолк, почти в той же самой позе, как перед дракой у дома Генри. Согнутые в коленях ноги, хоть и опущенные на две ступеньки ниже, возвышались над плечами. Дилан остановился, будто по команде. Шум машин доносился издалека приглушенным гулом. Дилан посмотрел на автобус, остановившийся на Смит-стрит, и прислушался к звону церковных колоколов.
— Ты работаешь на ту бабку?
По сотне разных причин Дилан хотел ответить отрицательно. Он думал об утонувшей в своей постели Изабелле, о Багги и ее овчарке и о том, что в случае чего сможет ударить рукой по окну, чтобы позвать женщину и собаку на помощь. Вот только в забитом продуктами магазине было темно, как в пещере. Наверное, если бы Багги выскочила оттуда на солнце, тут же ослепла бы.
— Она дала тебе деньги?
Дилан снова хотел возразить, что ничего не ответил.
— Сколько?
— Мне надо купить молока, — едва слышно произнес Дилан.
— Сколько старуха платит тебе за работу? Доллар? Деньги при тебе?
— Деньги она отдает моей маме, — внезапно солгал Дилан, удивляясь самому себе.
Роберт с насмешливой неторопливостью склонил набок голову и поднял свободно свисавшую с колена кисть руки, будто внезапно обнаружив, что может шевелить ею, но с места не сдвинулся.
Дилан почувствовал, что оба они что-то репетируют, к чему-то подготавливаются. К чему именно и насколько важным это «что-то» окажется лично для него или для Роберта, он пока не мог сказать.
Поэтому и стоял, словно приклеившись к асфальту, а Роберт спокойно изучал его.
— Ну иди, покупай свое молоко, — проговорил наконец Роберт.
Дилан двинулся к двери магазина.
— Но имей в виду: если явишься сюда еще раз с деньгами той старухи, я, наверное, отниму их у тебя.
Слова Роберта прозвучали как философское размышление. Дилан ощутил нечто похожее на благодарность, уловив в предупреждении Роберта скрытый смысл. Начиная с этого дня оба они отправлялись навстречу тому неизвестному, что ждало их впереди.
— И передай Генри, чтобы шел на хрен, — добавил Роберт.
Дилан нырнул в пропахший сыром магазинный сумрак.
Немецкая овчарка Багги возле прилавка заскулила, рванула вперед, насколько позволяла цепь, и многозначительно гавкнула. Из двери, ведущей во внутреннее помещение, тут же появилась и подплыла к кассе похожая на раздувшийся маринованный помидор Багги.
Когда Дилан вышел на улицу с коричневым пакетом, наполненным покупками, Роберта и след простыл.
Прошла неделя, наступило воскресное утро — и только тогда Дилан собрался с духом. Авраам как обычно работал наверху, Рейчел ковырялась в клумбах, а Дилан томился один в своей комнате, медленно одеваясь. Выйдя, он заглянул на кухню и задержался там, снова обдумывая свои шансы. Затем поплелся к лестнице, ведущей на задний двор. Мать сидела на корточках меж голых деревьев, выкапывая что-то из холодной земли. Во рту торчала дымящая, перепачканная грязью сигарета. На Рейчел были джинсы, джинсовая оранжевая куртка и бейсболка с надписью «Доджерс». Зелено-коричневая куча выкопанных растений на глазах съеживалась от холода. Дилан наблюдал.
Открывая рот с намерением начать рассказ, он уже твердо знал, что Роберта Вулфолка упоминать не станет.
— Бедная дряхлая Вендльмашина. Что ж, не работай на нее, мой мальчик.
— Я пытался с ней поговорить, но без толку.
— Что значит пытался?
— Сказал, что не хочу на нее работать, два раза.
— Не морочь мне голову, Дилан.
— Она прикинулась, что ничего не слышит.
— Пропустила твои слова мимо ушей?
Дилан кивнул.
— Ладно. — Рейчел поднялась и отряхнула с джинсов землю. — Сходим к ней вместе.
Дилан почувствовал, что мать кипит от негодования, и затаил дыхание.
— Может, просто позвонишь ей? — спросил он, когда они пришли на кухню.
Рейчел вычистила землю под ногтями и хлебнула остывшего кофе.
— Интересно, что она теперь скажет.
Дилан понял, что вынужден перешагнуть через порогдома Изабеллы по крайней мере еще один раз.
Во дворе заброшенного дома играли в мяч мальчишки, которым Изабелла никогда не предлагала работать у нее. Двое стояли на площадках-базах и перекидывали друг другу сполдин, четверо других — Эрл, Альберто, Лонни и еще один пуэрториканский мальчик — бегали между базами, пытаясь перехватить мяч. Эти четверо то и дело сбивались в кучу, сталкиваясь и пихая друг друга, как мыши в мультике, а Генри дурачил их — делал вид, что вот-вот бросит мяч, и не бросал. Он крепко сжимал сполдин и резко выкидывал руку, крутил мячом перед мальчишками, будто показывая язык, опять имитировал бросок, заставляя измотанных бедолаг снова бежать к его базе, тянуться вверх, поднимая руки, а потом в отчаянии крутить головами и рассыпаться в стороны. Издевательства и превосходство Генри сводили их с ума.
Роберта Вулфолка среди них не было.
Может, никто и не видел появившегося на улице Дилана. Если мальчика сопровождала мать, его обычно не замечали. Просто не смотрели в его сторону, не желая втискиваться в пространство между ним и его родителями.
Неожиданно Эрл поднял руку и помахал, а может, просто показал на облако или птицу в небе. Вместо того чтобы ответить на приветствие, Дилан посмотрел вверх, делая вид, что заметил там что-то интересное — например, человека, собравшегося броситься с верхнего этажа или перепрыгнуть через Дин-стрит.
— Я Крофт, — весело сказал им мужчина, открывший дверь дома Изабеллы Вендль. — Надо полагать, ты и есть тот мальчик, который работает на мою тетю. — Он комичным жестом протянул пятерню, пожал Дилану руку и только потом взглянул на Рейчел. Черные волосы на его голове и на бровях имели одинаковую длину. — Пришел с подружкой, мм? Пойдемте, Изабелла наверху. Мы пьем кока-колу, у нас ее хоть отбавляй.
Похоже, Изабелла вычислила, когда к ней явятся с разбирательством, и пригласила на это время гостя. В воскресенье утром она обычно никого не принимала — дремала в кровати или сидела, согнувшись над письменным столом, вздыхала и смачивала языком очередную печать. Когда бы ни пришел к ней Дилан, она всегда была одна. Но сегодня Изабелла нарушила свои правила, чтобы не дать ему возможности продемонстрировать матери, в какое царство мрака он регулярно вынужден погружаться. Занавески в большой, обычно затемненной гостиной сейчас были раздвинуты, углы, в которые ранее заглядывал только Дилан и рыжий кот, доступны солнечному свету, а пыльные стулья отодвинуты к стенам. В центре комнаты лежал простенький зеленый спальник и туристский рюкзак, набитый скомканными, как использованные салфетки, футболками и прочей одеждой вперемешку с книгами в мягких обложках: «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер», «В арбузном сахаре», «Сексус». Как ни странно, сегодня в доме Изабеллы даже не воняло помоями.
Вендльмашина с хмурым видом сидела у балконной двери, держа в руке раскрытый на странице «Недвижимость» воскресный «Таймс». На столе стояла кока-кола, лежали другие газеты и целый ворох убийственно-ярких комиксов.
— Сегодня утром у Изабеллы стащили газету, — начал Крофт. Казалось, этот парень считает своим долгом поведать пришедшим абсолютно обо всем, причем обязательно с иронией, — хоть даже о том, что он молод, а Изабелла стара, и что все они в данный момент находятся в Бруклине.
— Уже не в первый раз, — добавила Изабелла.
— И я был вынужден тащиться на Флэтбуш-авеню, на Атлантик, чтобы купить другую, — продолжал Крофт. — Среди потока машин, на островке безопасности я разыскал киоск и купил там классные комиксы, — никогда не знаешь, где на них наткнешься. «Фантастическая четверка», «Доктор Дум», «Доктор Стрэндж», ну, сами знаете.
Дилан не понимал, к кому именно обращается Крофт, пока Рейчел не взяла один из комиксов и не принялась рассматривать обложку.
— Джек Керби — гений, — сказала она.
— О да! Вы тоже увлекаетесь комиксами? Как вам «Серебряный Серфер»?
— Работами Питера Макса никого не удивишь, а вот Джек Керби — да, он психоделический художник.
Еще одно любимое словечко Рейчел.
— Полностью с вами согласен, — поддакнул Крофт. — А что вам нравится больше? «Серебряный Серфер»? «Тор»? И что вы думаете по поводу работ Керби, изданных «Ди Си»? А про Каманди слышали? «Последний мальчик на Земле»?
Дилан прошелся взглядом по обложкам комиксов. Человек из камня, из огня, из резины, из металла, коричневый пес в маске — здоровенный, как гиппопотам. Картинки в пятнах света и тени расплывались перед глазами, как уходящие вдаль фигуры на последних кадрах Авраама.
— Черный Гром, — произнесла Изабелла, тыча пальцем в одного из персонажей комикса. — Нелюди. Он главарь Нелюдей.
Рейчел, судя по ее лицу, пришла в замешательство, — наверное, как и Дилан, удивилась тому, что участвует в подобном разговоре. Ее страстное намерение высказать все, что она думает насчет Изабеллы, искусно нейтрализовал Крофт, подсунувший им свои комиксы.
— Очень сильный и спокойный парень, — сказал Крофт, улыбаясь.
— А ты безответственный, — утомленно и с нежностью произнесла Изабелла.
— Моя дорогая тетя Петуния, — проворчал в ответ Крофт.
— Да, да, безответственный, — повторила Изабелла. — Такой же, как этот мальчишка. Он явился сюда с матерью, чтобы сообщить, что больше не желает мне помогать. Я сразу это поняла, Крофт, когда увидела, что его нисколько не интересуют твои комиксы. Он смотрит сейчас на меня, да, Крофт? — Она дернула рукой, и газета сложилась пополам. Горящий взгляд Изабеллы устремился на Дилана. — Считаешь меня злой, Дилан? Или занудной?
Я нахожу тебя психоделической, с удовольствием ответил бы Дилан.
— По-моему, это почти одно и то же, тетя Изабелла, — сказал Крофт. — Особенно для мальчишки.
— Вы ведь поняли, что Дилан больше не хочет на вас работать, — подключилась к разговору Рейчел, вспомнив, зачем сюда пришла. — Он пытался объяснить вам. — Она привстала на стуле, достала из переднего кармана сигареты и предложила Крофту угоститься. Тот покачал головой.
— Да, я чувствовала, что все к тому идет, — ответила Изабелла. — Но подумала, смогу задержать его хоть на несколько недель.
— Парень взрослеет, — сказал Крофт. — Поэтому и пытается убежать подальше от навевающих скуку пожилых дам. Я сам был таким.
— Помолчи, Крофт.
Так и закончился этот разговор, а вместе с ним и работа Дилана у Вендльмашины. Крофт отправился на кухню, вернулся с несколькими стаканами, и они с Диланом и Рейчел принялись выдавливать в колу сок лимона и рассматривать комиксы. А Изабелла дочерна измазала пальцы, листая «Тайме». Человек-факел был младшим братом женщины-невидимки, жены Мистера Фантастика, а Существо звали Бен Гримм — оно любило слепую девушку, скульпторшу, которая искренне восхищалась им, огромным и ужасным. Серебряный Серфер был шпионом Галактуса, а Галактус пожирал планеты. Серебряный Серфер тайно помогал фантастической четверке охранять Землю, а Черный Гром не мог и рта раскрыть, потому что если бы произнес хоть один-единственный звук, то уничтожил бы весь мир. Крофт и Рейчел рассказывали все это Дилану, читая надписи в контурах возле красочных фигурок. А Вендльмашина беззвучно шевелила губами и, в конце концов, задремала прямо на стуле. Воскресный день конца октября плавно перетек в вечер. Авраам все сидел в своей студии, нанося на целлулоид краску, обнаженные тела на стенах гостиной не сияли, потому что уже не было света, ящички на окне, выходившем на задний двор, и пожарная лестница чернели на фоне закатного неба с красной полоской на горизонте. Сгустились сумерки, и дети на улице уже не видели, куда летит сполдин, и не могли уворачиваться от него. Наступило время ужина. В какое-то мгновение Дилан уснул на своем стуле, и около минуты они с Изабеллой смотрели один и тот же сон. Но, проснувшись, оба тут же позабыли его.
— Дай-ка посмотреть. На минутку.
Им всегда хотелось взглянуть на пачку бейсбольных карт, на пластмассовый водяной пистолет — то есть взять в руки, но что за этим могло последовать, не знал никто. Ты владел вещью лишь до тех пор, пока никому ее не давал. Если же позволял кому-нибудь посмотреть, к примеру, на бутылку «Ю-Ху», когда ее возвращали, в ней ничего не оставалось.
— Дай-ка посмотреть. Я прокачусь разочек.
Дилан крепче вцепился в руль. Авраам лишь вчера сменил на велосипеде колеса. Дилан еще не умел ровно ездить, то и дело кренился вбок и, тормозя, упирался ногой в асфальт.
— Ладно, только не уезжай из квартала, — пробормотал он с несчастным видом.
— Думаешь, свистну его? Я хочу только прокатиться, парень. Поезжу и верну тебе твою машину, не бойся. Только объеду вокруг квартала.
Ловушка или загадка. Роберт Вулфолк знал, как поставить Дилана в тупик. А безлюдная улица словно подыгрывала Роберту и шептала Дилану: разгадай сам головоломку. Вулфолка окружал вакуум, или, быть может, он своим присутствием разряжал на Дин-стрит воздух, появляясь в те моменты, когда средь бела дня никто ничего не видел и не желал видеть, когда весь квартал тонул в солнечном свете, как заброшенный дом — в тени деревьев.
Старик Рамирез стоял у магазина, потягивая «Манхэттен Спешиал», и смотрел на мальчишек из-под своей рыбацкой шляпы, будто на экран телевизора. Обращаться к нему за помощью не имело смысла.
Роберт положил ладони на руль рядом с руками Дилана и потянул велосипед на себя.
— Катайся здесь, по нашему кварталу.
— Проеду по кругу, всего разок.
— Нет, тут, перед моим домом.
— Ты что, думаешь, я не верну его? Брось, старик. Прокачусь кружок, и тут же назад.
Роберт говорил монотонно и с мольбой — это не укладывалось в голове Дилана, потому и отвечать было нечего. Глаза Роберта светились жестокостью, а на лице лежала тень скуки.
— Всего один кружок.
У него были слишком длинные ноги, поэтому, когда он взгромоздился на сиденье, уперев колени в руль, то напомнил Дилану клоуна на трехколесном велосипедике. Роберт тут же поднялся, встав на педали, и расставил локти в стороны. Велосипед покачнулся и покатил в сторону Невинс.
Когда Дилан произносил слово «квартал», он не имел в виду Берген-стрит.
Сколько времени потребуется Роберту на объезд всего района? А если он надумает сделать еще один кружок?
Мимо проехал автобус, и похожая на человеческий язык задвижка на решетчатой калитке перед домом Дилана с лязгом подпрыгнула. В конце Дин-стрит, рядом с Невинс, деревьев не было, но в сточную канаву откуда-то набились бурые листья. Пластмассовые ящики из-под молока перед магазином никто не собирался отправлять назад на «Мэй-Крик Фарм, Инкорпорейтед», хотя это грозило тюрьмой или штрафом. Довольно глупо, если хорошенько подумать.
Дилан торчал у калитки в ожидании Роберта, а вокруг, словно огромный воздушный шар, разрасталась дневная суета. Старик Рамирез больше не смотрел в его сторону — не на что тут было смотреть. Дилану казалось, он стоит голый, завернутый лишь в медленные минуты, безразлично сменявшие одна другую на часах башни Вильямсбургского банка. Этот день походил на неотвеченный телефонный звонок, бессмысленный сигнал, никем не услышанный.
Невинс-стрит будто превратилась в глубокое ущелье, в котором, как мультяшный койот, бесследно исчез Роберт Вулфолк — в безмолвии, окруженный клубами пыли. Когда к Дилану подошел Лонни с мячом в руках и спросил: «Что ты тут делаешь?» — он ответил: «Ничего». Ему казалось, что у него никогда не было велосипеда.
Авраам убил на поиски велосипеда целый день. Он ходил по Уикофф, Берген и Невинс, неотступно преследуемый мыслью, что Рейчел разыскала бы пропажу за полчаса. Она знала Бруклин так, как Авраам никогда не смог бы его изучить. Он шел по окраине Уикофф-Гарденс, не заступая в жилую зону — лабиринт дорожек, живых изгородей и низеньких оград, — раздумывая, откуда начать поиски. Разрисованные стены домов из белого кирпича отбрасывали на дорогу мрачную тень. Казалось, эти здания уже на стадии проектировки были как развалины. Авраам заглянул в клуб пуэрториканцев на Бондстрит — небольшой ангар, заполненный картежниками. И тут же вышел, успев заметить стол для пула, увешанные синими коврами стены и резкий запах пробки, пропитанной кислым вином. Никто за весь день даже не пытался с ним заговорить.
Вечером наконец-то судьба улыбнулась ему. Какая-то женщина с младенцем на руках вышла на крыльцо, явно злясь на Авраама за то, что он тут болтается. Его семью — трех глупых белых — в Бруклине, по-видимому, знали все. Отнеся ребенка обратно в дом, женщина повела Авраама во двор, огороженный забором, заваленный хламом, заросший молоденькими побегами, которые разрастаются так же быстро, как трещина на лобовом стекле машины, если на него надавить пальцем. Авраам увидел гору из разбитых детских колясок, прогнивших деревянных брусьев с кусками штукатурки, дырявых жестяных листов и прочей гадости. На верху этой кучи — Аврааму пришлось задрать голову — лежал велосипед с искореженным крылом. Еще бы пара деньков, и ветви ближайшего деревца проросли бы сквозь спицы. Авраам залез на изгородь и скинул велосипед на землю. Никто из собравшихся поглазеть даже не шелохнулся, чтобы помочь. Отвоевывать у вора велосипед не потребовалось. Ведь его украли не для того, чтобы кататься на нем, а чтобы выбросить на свалку в знак протеста, неприятия семейства Эбдусов. Двор утопал в тени, и этот мрак вполне соответствовал настроению спрыгнувшего с ограды Авраама. Велосипед был найден, нужно было только отнести его домой и отремонтировать. Но Авраам сомневался, что Дилан осмелится теперь выехать на нем за пределы заднего двора их дома.
Марилла играла с подругой в фишки у крыльца Эбдусоз, напевая тонким голоском: «Проблема в том, что тебе не хватало лю-ю-бви…»
Вторая девочка — Марилла называла ее Ла-Ла, а Дилан ломал голову, настоящее ли это имя, — после каждого удара мячиком двигала вперед фишки и считала нараспев: пе-ервые, вторы-ые, тре-етьи, четве-ертые. Игра шла внизу крыльца, Дилан сидел на третьей ступеньке и наблюдал.
— Роберт Вулфолк говорит, что это не он укатил твой велик и если ты будешь распускать про него сплетни, получишь, — неожиданно объявила Марилла.
— Что?
— Роберт сказал: «Пусть только попробует соврать, что это я украл у него велик».
— Тогда он намылит тебе шею, — добавила Ла-Ла, протягивая руку к восьмым — беспорядочно разложенным фишкам.
— Да я ничего и не… — начал Дилан, который ни слова никому не сказал о выходке Роберта.
Велосипед стоял в студии Авраама — с выпрямленным крылом, на котором теперь красовалось выведенное отцовской рукой имя Дилана. Вскоре он будет спущен вниз и поставлен, как чучело животного, в коридоре. Слепой хромированный скакун, оседланный родительским ожиданием и страхами Дилана.
Марилла пожала плечами.
— Я просто так сказала.
Сидя на корточках, едва не касаясь задом асфальта, она схватила малюсенький красный мячик, сдвинула в кучу фишки и пропела: «Твоя гордость не знает преде-е-елов, но придумаю я, что с ней де-е-елать…»
— Это Роберт попросил, чтобы ты сказала мне?
— Никто ни о чем меня не просил. Я просто сказала, что слышала. У тебя, случайно, не найдется доллара на конфеты, а, Дилан?
Не подслушивал ли сейчас кто-нибудь их разговор? Где Генри? У себя во дворе? А Роберт?
Дилан дернул головой, запрещая себе оглядываться по сторонам, и нащупал в кармане две монеты по двадцать пять центов, крепко сжав их в кулаке. Он собирался купить на них сполдин — этот резиновый пропуск. Будет бросать его в стену заброшенного дома, чтобы привлечь к себе внимание других ребят. Ловить отпрыгнувший от стены мяч у Дилана хорошо получалось только тогда, когда он тренировался один, когда вокруг никого не было. В конце концов его умения каким-нибудь странным образом могли перейти в гениальную ловкость, как у Генри. Но в последнее время у стены никто уже не играл в мяч — наверное, и этому искусству Дилан зря учился. Все больше и больше игр предавалось забвению, как имена побежденных в войне, не попавшие в анналы истории.
Никто не задумывался о том, где взять деньги. Каждый оставлял себе сдачу, когда родители посылали его за молоком. Альберто вдобавок покупал еще и «Шлитц» для двоюродного брата. Старик Рамирез знал, кто его присылает, потому продавал пиво, а иногда и сигареты, ни о чем не спрашивая.
Болтали, что на Хэллоуин те, кто живет на Уикофф, обстреливают всех сырыми яйцами. Хотя это был праздничный день, занятия в школе никогда не отменялись. Когда в три часа звенел звонок, дети бросались врассыпную, боясь заполучить по голове яйцом. Каждый заботился только о себе, о безопасности других не думал никто.
А что, если все еще изменится, станет другим? Это возможно. Ведь так было когда-то.
Ты и армия врагов.
Ты и твои так называемые друзья.
Ты и твоя мама.
Дилан услышал одинокие звуки спирографа: линейки, зубчатых колесиков, красных ручек, не желавших чертить ровные фигуры.
— Нет, — ответил он Марилле, чувствуя испуг. — У меня нет денег.
— Ты что, боишься Роберта? — Марилла ударила по фишкам на асфальте, они разлетелись в стороны, и она нахмурилась.
— Не знаю.
— У него есть бритва.
— Скажи мне что-нибудь приятное! — громко пропела Ла-Ла. Красный мячик выпал из руки Мариллы и покатился по земле. Девочки отошли от горки разноцветных фишек и затанцевали, напевая: «Oy, оу, оу, оу, оу…»
Вообразите, что вы умеете летать и в один прекрасный октябрьский день, вечером, смотрите сверху на перекрещивающиеся внизу улицы, на длинные ряды узких зданий. Что бы вы подумали, увидев, как науглу Невинс и Берген белокожая женщина с развевающимися темными волосами бьет по спине черного подростка? Хулиганка? Не спуститься ли вниз, чтобы вмешаться?
А кем бы вы себя ощущали? Бэтменом? Или заступником черных?
На этих улицах всегда находится пара-тройка человек, которым есть из-за чего подраться. Их криков никто не слышит, как будто они в лесу. Дорожки перед домами сворачивают на задворки, а там — пустырь, глухие места.
Вас наполняет внезапное желание выпить, и вы летите себе дальше, а женщина спокойно продолжает лупить мальчишку.
На следующий после Хэллоуина день асфальтовые дорожки у школы сплошь покрывали разбитые яйца — бомбы, не долетевшие до цели. Потемневшие желтки с кусочками скорлупы тянулись на земле длинными полосками. Казалось, их расплющило вращение планеты вокруг оси — центробежная сила, а не земное притяжение. Дети, вернувшиеся вчера домой с желтыми разводами на одежде, до слез отрицали тот факт, что в них угодили яйцом. Но урок из столкновения с яростью хулиганов — безумных учащихся школы № 293 — извлекли все пострадавшие. Метатели яиц надели маски героев мультфильмов — Каспера, Франкенштейна, Человека-Паука — и походили на грабителей банка или серийных убийц, на мрачных типов из теленовостей и ужастиков с пометкой «до шестнадцати».
Все они неизменно приближались к тем остановкам на своем пути, которые не принято было обсуждать. Отделаться от мыслей о лезвии бритвы или о шприце с героином не мог никто.
Бывали периоды, когда, выходя из дома, каждый внимательно оглядывался по сторонам. Дни после Хэллоуина таили в себе угрозу и походили на затянувшееся похмелье. Небо словно ложилось на крыши, свет тускнел.
Наступил ноябрь.
— Иди вон туда, — скомандовал Генри. Его последним увлечением и средством управления дворовыми мальчишками был футбол. Четверо ребят стайкой крутились вокруг него. Когда он запустил «крученый» мяч по улице, вся четверка бросилась следом. Что бы ни случилось, независимо от того, попадал ли мяч в чьи-то руки или ускользал от всех, выражение лица Генри оставалось неизменно кислым. И мяч тоже падал на землю как-то резко, грубо.
Дилан стоял на крыльце дома Генри, окутанный облаком безмолвия, и ждал. Он мог бы быть шестым и все надеялся, что его позовут играть. Сегодня в нем пробудился странный талант — быть незаметным, будто полупрозрачным. Рейчел прекратила его четырехдневное затворничество, вырвала из таинственного мира книг и карандашей, подслушивания шагов Авраама и ее телефонной болтовни, тоскливых фигур спирографа и волшебного экрана, но магия одиночества увязалась за Диланом на улицу и облаком оседала на нем, где бы он ни остановился.
Вглядись пристальнее в Дин-стрит, тогда и она увидит тебя.
Засунув руки в карманы, Дилан вышел на улицу и прислонился к машине у обочины. Потом, словно слизанный волной с берега, сорвался с места и принялся бегать за мячом вместе с остальными — не особенно пытаясь его поймать, просто делая вид, что тоже играет.
— Ты не видел Роберта Вулфолка? — спросил между прочим Альберто.
Дилан не удивился. Неизменная весомость имени Роберта давила на него. Он покачал головой.
Они с Альберто вышли из игры. Генри дважды подал мяч кому-то и оба раза тот снова возвращался к нему. На мяче чернел мазут: несколько минут назад он улетел под машину.
— Роберта побили, — сказал Альберто.
Лонни кивнул, за ним и Альберто, Эрл и Карлтон. Глаза у всех расширились, как от благоговейного трепета. Дилан ждал. Генри ударил мячом по земле, а Альберто и все остальные уставились на Дилана, словно он должен был объяснить им избиение Роберта Вулфолка. Разогнал всех Генри — с обычной своей легкостью, словно смахнул капли воды с руки. Он поднял глаза к небу и пробормотал:
— Зона защиты.
Четверо ребят тут же помчались в сторону, куда смотрел Генри, собираясь бросить мяч, — и каждый тайно надеялся его поймать. Сам Генри, едва мяч оказался в воздухе, потерял к нему всякий интерес и показал Дилану в сторону заброшенного дома. Они отошли. На улице появился автобус, закрыв их от остальных.
— Уши Роберту надрала твоя мать, прямо на Берген-стрит, — сказал Генри. — Он разревелся.
Дилан молчал.
— Тебе об этом, наверное, еще не рассказали, — добавил Генри.
Существует ли на свете какой-то отдаленный остров или потайная комната, в которой протекает часть твоей жизни, о которой ты ничего не знаешь? Дилан попытался нарисовать в воображении происшествие на Берген-стрит, нелепую стычку Рейчел с Робертом, но лишь унесся мыслями в свою комнату, из которой во мраке ночи до него, лежащего на кровати в полудреме, долетели звуки всхлипывания матери и сердитый шепот отца. «Тебе об этом, наверное, еще не рассказали». Дилан глубже погрузился в воспоминания той ночи.
Почему Рейчел плакала? Авраам побил ее?
Тогда кто кому надрал уши?
Выходило, что скопившийся в доме Эбдусов гнев выскользнул на улицу и обрушился на мальчишку. Хорошо хоть, что на Роберта Вулфолка — того, кто украл велосипед.
Внезапно Дилану показалось, что все на Дин-стрит отлично слышат по ночам, как Авраам и Рейчел возятся в постели и ругаются, и только он, Дилан, ничего не видит и не знает.
— У тебя сумасшедшая мамаша. — Генри произнес эти слова не насмешливо, напротив — с восхищением и уважением.
Дилан вдруг сообразил, что никакой он не полупрозрачный и был как мумия закутанный вовсе не из-за того, что в нем проснулся странный талант. Просто его накрывала тень материного поступка, дымка позора.
Кто рассказал Рейчел о Роберте Вулфолке? Неужели сам Дилан, затаивший свой страх, во сне болтал о бритве?
Ему захотелось сказать Генри, что он обо всем знает, но язык отяжелел, отказываясь произносить ложь. Альберто вернулся с мячом, опередив остальных, и снова швырнул его в воздух. Мяч взвился над пологом из оголенных веток, над крышами домов и на фоне нависших над землей облаков несколько мгновений казался бомбой. Генри шагнул назад, поймал его пальцами и, чуть наклонившись вперед, внезапно бросил Дилану — будто заверение в дружбе. Дилан прижал мяч к плечу. Холодный, очень твердый.
Глава 4
«НИКСОН УХОДИТ В ОТСТАВКУ», гласил заголовок прикрепленной к стене «Дейли ньюс». Огромные черные буквы идеально соответствовали настроению Изабеллы в это лето — ее семьдесят восьмое, и пятьдесят второе после удара веслом. Ей представлялся другой заголовок: «ВЕНДЛЬ УХОДИТ В ОТСТАВКУ». Страшный момент приближался, это было как маленькая косточка от кислой сливы, что застряла между зубами и сама не знала, чего желает: быть выплюнутой или проглоченной. Отставка, отставка, отставка. Глотать было больно. Брать в руку трость — тоже. Ладонь Изабеллы ныла, пальцы ослабли, запястье отказывалось работать. Глаза, останавливаясь на книжной строчке, слезились. Читать тоже было больно — каждое слово причиняло страдание. Однажды она пришла в такое отчаяние, что схватила шариковую ручку и, нарушая запрет, словно обезумев, исчеркала несколько страниц «Китайского ресторана Казановы» Энтони Поуэлла. Ей почудился голос отца, донесшийся из глубин памяти. Отец требовал относиться с уважением к его библиотеке. Повреждение книг приравнивалось к преступлению, но теперь Изабелле страстно хотелось выбросить их все из окна в заросший сорняками сад. Однако для этого потребовалось бы опять напрягать запястья и ослабевшие пальцы. Она знала, что скоро угаснет — выронит книгу из дряхлых рук и умрет, так и не дочитав двенадцать романов Поуэлла из цикла «Танец под музыку времени». Поуэлл написал чересчур много, отнял у нее целую пропасть времени, за это она и наказала его, изрисовав «Ресторан Казановы» кривыми росчерками, будто иероглифами. Куда ей хотелось бы вернуться? На озеро Джордж? Неужели в конце жизни ее манят все те же волны? Их плеск и биение о широкие доски лодки? Поцелуй за несколько минут до удара веслом?
У нее нет больше сил. Она чувствовала себя никчемной развалиной. Неудивительно, что ее увлекали дома из бурого песчаника — безнадежные калеки, беспорядочно обживаемые людьми, которые не способны осуществить задуманное ею. К примеру, тот чернокожий певец, что поселился в соседнем доме. Какой от него мог быть толк? У этого человека водились деньги, но он выглядел так, будто все время пребывает под кайфом. Его сын-мулат в одежде бойскаута каждый день выходил на поросший сорняками задний двор, смотрел на Изабеллу, сидящую у окна, и отдавал ей честь, словно командиру. Дин-стрит выбрасывала гнилые споры, и Изабелла не могла знать, что из них вырастет. Пасифик заселяли гомосексуалисты; в доме с террасой на Хойт-стрит обосновалась кучка наивных коммунистов, расклеивавших на фонарных столбах афиши шоу, посвященного Красному Китаю, или объявления с призывом жертвовать деньги для нелегальных эмигрантов. Изабелла помогала деньгами только богеме. «Скоро у них не станет придирчивой Изабеллы Вендль». А вообще-то они и понятия не имели, что это она собрала их всех на Дин-стрит.
Они направлялись к «Пинтчик» на Флэтбуш-авеню у Берген-стрит — комплексу магазинчиков, где торговали краской, мебелью, скобяными и прочими товарами домашнего обихода. Когда-то в прошлом эти магазинчики, вероятно, располагались в одном помещении за общей витриной, теперь же занимали первые этажи в домах целого квартала. Все они были выкрашены в желтый цвет, как школьный автобус, слово «Пинтчик» выведено красным. Реклама длиной во всю улицу, жилые дома в клоунском гриме. Какая-то особенная атмосфера «Пинтчик», его явно преклонный возраст неизменно угнетали Дилана. Но здесь чувствовалось, что далеко не весь Бруклин настойчиво пытается выдать себя за что-то иное, не весь пребывает в напряжении и тревоге, тыча в Манхэттен пальцем, как Дин-стрит, Берген, Пасифик. Какая-то часть Бруклина была вполне довольна собой — грязной и оживленной. «Пинтчик» если что-то и демонстрировал, то лишь свое сомнительное происхождение. Он был берлогой, кишащей жильцами, а продавцы, торговавшие здесь запыленными кольцами для занавесок душевой и стеклянными дверными ручками, — кроликами, вроде Баггза Банни или Мартовского Зайца, которые засели за своими кассами, обклеенными вырезками из газет, как в норах, и забавлялись или раздражались, когда в их мирке появлялись клиенты. «Пинтчик» был белым Бруклином; Изабелла Вендль не имела о нем ни малейшего представления.
По дороге к «Пинтчик» Дилан услышал от Рейчел выражение «заселение приличными людьми».
— Если кто-нибудь спросит у тебя, смело отвечай, что живешь в Гованусе, — говорила она. — Здесь нечего стыдиться. Бурум-Хилл — это претенциозный бред.
Сегодня говорила лишь Рейчел, Дилан только слушал. Речь лилась из нее, словно поток воды из гидранта на углу Невинс в самую жару, — мощным фонтаном. Но если тот реальный фонтан из шланга можно было на несколько мгновений заткнуть рукой, так чтобы вода затем с силой отбросила ее, то поток, изливающийся из матери, Дилан даже не пытался остановить.
— Слово «черномазый» вообще забудь, — продолжала она. — Ты не должен произносить его никогда, даже наедине с собой. В Бруклин-Хайтс черных называют животными, для них наши районы — зоопарк. Грабителей бы наслать на этих реакционеров, пусть бы увели у них технику и все остальное. Мы живем в Гованусе. Гованус — это и канал, и жилые массивы, и люди. Мы — жители Говануса! — Она надула щеки, сжала кулаки и у самого входа в «Пинтчик» в шутку набросилась на сына.
Что обнаружил бы Дилан, если бы пересек Флэтбуш и прошелся вдоль магазинов, торговавших футболками с надписями «Я ГОРЖУСЬ СВОИМ АФРИКАНСКИМ ПРОИСХОЖДЕНИЕМ», мимо «Трайэнгл Спортс» и ресторанчика Артура Тричера? Что он нашел бы за пределами того же «Пинтчик»? Кто знает? Мир Дилана ограничивался узкоплечей тенью башни Вильямсбургского банка. Он знал о Манхэттене и о волшебстве Дэвида Копперфилда, и даже о сказочной стране Нарнии — гораздо больше, чем о той части Бруклина, что простиралась севернее Флэтбуш-авеню.
— Мы живем не в телевизоре, мы не фигурки на мультяшном кадре — и мне плевать на все, что про нас болтают! — Рейчел плыла по «Пинтчик», подобно Красной Королеве из книжки «Сквозь зеркало», и с жаром шептала, глядя на Дилана: — У него не получится нарисовать нас на целлулоидной ленте, загнать в рамки. Мы выберемся наружу, выскочим. Сбежим.
Рейчел завела Дилана в отдел, забитый обойными рулонами. Ему предстояло выбрать замену зверям из джунглей, прятавшимся между пальмами, — этим картинкам из книжки для малышей, теперь совсем для него не подходящим. Дилан взглянул на образцы: с бархатистым покрытием, с нанесенными оранжевой флуоресцентной краской символами, с закатами Питера Макса, и в серебристую полоску, — «Пинтчик» хоть и был стар и консервативен, но обои в нем продавались замечательные, похожие на обертки конфет «Уэки Уэйферс» или «Биг Бадди». Дилан пришел в замешательство. Глазея на обои и не зная, на чем остановить выбор, он чувствовал дискомфорт. Но ему нравилось просто находиться в «Пинтчик», в этих желто-красных лабиринтах со стеклянными стенами.
— Я выгоню его из этой чертовой студии, так же как тебя — на улицу, к другим детям. Пусть ищет нормальную работу, а не торчит на вершине горы, как Мехер Баба…
Дилан замер в изумлении, заметив среди десятков образцов рулон своих джунглей. Джунглей, на которые он, засыпая, смотрел много лет — незамысловатых, неприглядных.
А в студии Авраама обоев вообще никогда не было.
Дилану захотелось найти обои, старые, как асфальт перед их домом, крепкие и навевающие печаль, как рисованные кадры отца. Он с удовольствием начертил бы на стене своей комнаты поле для скалли или вообще поселился бы в заброшенном доме. А может, здесь, в «Пинтчик».
Бруклин был похож на мать.
— Какая-то банда из Гованус Хаузис поймала после школы пятиклассника и отвела в парк. У них был нож, они долго подзадоривали друг друга, а потом отрезали мальчишке яйца. А он даже не закричал и не пытался сопротивляться. Очень скоро ты узнаешь, мой смышленый ребенок, что мир безумнее, чем законченный психопат. Беги, если не сумеешь пустить в ход кулаки, беги и кричи «Пожар» или «Убивают», стань более безумным, чем они, будь готов ко всему в любую минуту. Это мой тебе совет.
Они шли домой из «Пинтчик» по Берген, Рейчел продолжала говорить. Она ни разу не упомянула о Роберте Вулфолке, но Дилан, когда они подошли к углу Невинс и Берген, к тому месту, где мать надрала Роберту уши, вновь напрягся от ощущения стыда. Рейчел — тоже, и Дилан почувствовал это. Он знал, что не должен принимать за чистую монету все, что она сейчас ему говорила, что нужно обдумать эту болтовню и девяносто процентов потом забыть, разгадав загадку матери.
— Тот чернокожий красавец, что поселился по соседству с Изабеллой, — Барретт Руд-младший. Он певец, когда-то входил в состав «Дистинкшнс»; у него потрясающий голос, как у Сэма Кука. Однажды я их видела, они работали «на разогреве» у «Стоунз». Его сын — твой ровесник. Вы подружитесь, я знаю.
Это была очередная задумка Рейчел.
— Не хочешь обоев, тогда мы вообще их сорвем и покрасим стены краской или еще что-нибудь придумаем. Это ведь твоя комната. Я люблю тебя, Дилан, ты это знаешь. Бежим до дома. Наперегонки.
В этот бег Дилан вложил все свое недоумение, постаравшись как можно быстрее оставить Рейчел позади.
— Ладно, ладно, сдаюсь. Я совсем выдохлась. Ты носишься слишком быстро.
На углу Невинс и Дин Дилан затормозил, чтобы дождаться Рейчел, задрал голову, хватая ртом воздух. В этот момент ему показалось, что он видит на крыше школы № 38 какого-то человека. Незнакомец наклонился вперед и, скакнув к крышам домов с обветшалыми фасадами, исчез. Невероятная прыгучесть. Он походил на оборванца.
Дилан не спросил, видела ли человека Рейчел. Она в это мгновение закуривала сигарету.
— Ты у меня не только красивый и талантливый, ноги у тебя тоже что надо. Если бы это было неправдой, я бы не говорила, ты знаешь. Ты взрослеешь, мой мальчик.
Знаки отличия были своего рода тайнописью, отголосками неведомой жизни этого мальчика на другой планете. Мингус Руд по большому счету просто хвастался, но он, как и Дилан, смотрел на остальных отстранение, как чужой здесь.
— Плавание, стрельба, ориентирование, — перечислял он, поглаживая знаки большим пальцем — напоминания об окраинах Филадельфии, остатки рухнувшего мира.
Затем Мингус, оставив Дилана в пустынном, заросшем травой дворе, убежал переодеться в форму бойскаута, а спустя несколько минут оба пришли к выводу, что она уже ни на что не годится: рукава и штанины были слишком коротки, на желтом галстуке белело пятно, похожее на засохшие сопли. Он вновь исчез в доме и вышел в зелено-белом костюме хоккеиста, с металлически блестевшими, слегка изогнутыми буквами на спине — «Мингус Руд» — и с треснувшей клюшкой. Ручка клюшки была обмотана черной изолентой. Дилан безмолвно осмотрел наряд. Мингус опять убежал и вернулся в темно-красной футбольной форме и шлеме с надписью «МОГАУКИ МАНАЮНКА». Вместе они оттянули ворот футболки и рассмотрели наплечники, благодаря которым Мингус выглядел супергероем. От наплечников несло потом, гнилью, вызывающей легкое головокружение и воспоминания о каких-то былых днях. «А ловить сполдин ты умеешь? А закидывать мяч на крышу?» — с досадой размышлял Дилан. Сам он подобными талантами не отличался, и Мингусу вскоре предстояло об этом узнать.
Душа Дилана разрывалась между двумя желаниями: похвастаться Мингусу собственными достижениями в скалли, художествами на волшебном экране, умением неслышно спускаться по скрипучим ступеням — и оградить его от насмешек, воровства, непонимания. В голове Дилана уже звучало: «Эй, дай-ка посмотреть — ты что, не доверяешь мне?» Ему хотелось защитить их обоих, посоветовав новенькому никогда не выносить свои многочисленные и совершенно никчемные богатства на улицу, не показывать их другим.
Но Дилан молчал, путаясь в мыслях. Его так и подмывало сгрести яркие форменные одежды Мингуса в кучу и здесь, в защищенном высокой оградой внутреннем дворе, сжечь их на огромном костре, как тот, в котором Генри и Альберто палили однажды перед заброшенным домом старые газеты, собачье дерьмо и упавшие к концу лета с деревьев ветки. Дилан почти видел, как занимаются огнем трусы и футболки, как чернеют и расплавляются наплечники, как слова и буквы распадаются и умирают. На Дин-стрит знаки отличия никому не нужны. Но Дилан не заговорил об огне — прошел с Мингусом в дом и наблюдал, как тот убирает вещи в шкаф.
— Комиксы любишь? — спросил Мингус.
— Конечно, — ответил Дилан не вполне уверенно. И чуть не добавил: «Моя мама любит».
Мингус достал из нижнего ящика шкафа четыре комикса: «Сорвиголова» № 77, «Черная пантера» № 4, «Доктор Стрэндж» № 12 и «Невероятный Халк» № 115. Все они были безбожно замусолены, уголки загнуты, страницы надорваны. На обложке каждого темнели выведенные размашистым почерком слова «МИНГУС РУД». Мингус принялся зачитывать вслух некоторые из реплик — с выражением, стараясь заинтересовать Дилана. Атот настолько растрогался, что почувствовал непривычное тепло в груди. Ему захотелось прикоснуться к жестким на вид волосам Мингуса.
— А дальше знаешь? Доктор Стрэндж мог бы поймать Невероятного Халка, создав волшебную клетку, но словить Тора не может. Тор как бог, пока у него есть молот. Если он его потеряет, превратится в настоящего калеку.
— Кто такой Тор?
— А ты почитай. Знаешь, где можно купить комиксы?
— Ну да. — Дилану вспомнился Крофт и тот день у Изабеллы Вендль. Киоск, островок безопасности, Флэтбуш-авеню. «Фантастическая четверка».
«А Фантастическую четверку доктор Стрэндж смог бы поймать?» — подумалось ему.
— Ты когда-нибудь воровал комиксы?
— Нет.
— Это совсем нетрудно. В этом году ты ездил в лагерь?
— Нет. — «Ни в каком году», — чуть не ляпнул Дилан. Его взгляд упал на странный предмет на комоде с зеркалом, нечто вроде камертона.
— Это расческа, — сказал Мингус.
— М-м…
— Расческа, только для курчавых волос. Да оставь ты ее. Хочешь посмотреть «Золотой диск»?
Дилан кивнул, выпуская из руки необычную расческу. Мингус Руд был целым миром, взрывом сногсшибательных возможностей. Он задумался, какдолго сможет общаться с ним один на один.
Они направились наверх. Отец преподнес Мингусу отличный подарок: позволил занять весь нижний этаж. Две большие комнаты и просторный задний двор были в его распоряжении. Сам отец Мингуса жил наверху. Подобно Изабелле Вендль, Барретт Руд-младший спал возле обильно декорированного мраморного камина, под лепным голландским потолком и с занавешенными окнами — продолговатыми, как раз для заставленной старинной мебелью, пианино, этажерками и бог знает чем еще гостиной. Но в отличие от Изабеллы Барретт Руд-младший спал не на обычной кровати, а на странной штуковине: матрасе, наполненном водой, волнистом море, втиснутом в гладкие матерчатые берега. Чтобы показать, что внутри матраса действительно вода, Мингус надавил на него ладонями.
Как ни странно, «Золотые диски» оказались именно золотыми — пластинками на сорок пять оборотов, приклеенными к кусочку ткани и защищенными алюминиевыми рамками. Они не висели на стене, а стояли на каминной полке среди скомканных чеков, наполовину полных стаканов и смятых пачек «Кул». «НЕ МОГУ ТЕБЕ ПОМОЧЬ, УСПОКОЙСЯ. Б. Руд, А. Дегорн, М. Браун, САТЛ ДИСТИНКШНС, АТКО, ЗОЛОТОЙ ДИСК, 28 МАЯ 1970 г.» — красовалось на первой пластинке. И на второй — «ВСТРЕВОЖЕННАЯ СИНЬ. Б. Руд, САТЛ ДИСТИНКШНС, АТКО, ЗОЛОТОЙ ДИСК, 19 ФЕВРАЛЯ 1972 г.».
— Пойдем вниз, — сказал Мингус, и они ушли, оставив «Золотые диски». По лестнице Дилан шел впереди, ощущая странную скованность и крепко держась за поручень, оттого что сзади на него смотрел Мингус.
Они вернулись на задний двор и стали бросать камни в воздух. Большинство падало во двор пуэрториканцев. Развлекался в основном Мингус, Дилан наблюдал. Было двадцать девятое августа 1974 года. В воздухе пахло чем-то особенным, и казалось, над головой нависает чья-то рука. Со стороны Берген-стрит слышалось тарахтение фургона «Мистер Софти», наверняка вокруг него собралась, как обычно, толпа ребятни.
— Мой дед — священник, — сказал Мингус.
— Правда?
— Барретт Руд-старший. Отец начал петь в церковном хоре. Но теперь у деда нет церкви.
— Почему?
— Он в тюрьме.
— О!
— Наверное, ты догадался, что моя мать белая, — продолжал Мингус.
— Конечно.
— Белые женщины любят черных мужчин, слышал об этом?
— Хм, да.
— Только папа давно не разговаривает с этой лживой сучкой. — Мингус внезапно рассмеялся, будто удивившись собственным словам.
Дилан промолчал.
— Он заплатил за меня миллион долларов. Вот так. Целый миллион! Если не веришь, можешь спросить у отца.
— Верю.
— А вообще-то мне все равно, веришь ты или нет. Я говорю правду.
Дилан задумчиво всмотрелся в лицо Мингуса, в его несомненную темнокожесть. Ему захотелось прочесть Мингуса как книгу, узнать, не сможет ли он изменить не только его, Дилана, но и всю Дин-стрит. Мингус вдохнул ртом и высунул свернутый в трубочку кончик языка, собираясь бросить очередной камень. У него была темная кожа, но светлее, чем у настоящих афроамериканцев, нечто среднее между белой и черной. Его ладони по цвету почти не отличались от ладоней Дилана. Одет он был в вельветовые брюки. Возможно, он действительно говорил правду.
Мальчик за миллион долларов не вписывается в правила Дин-стрит, подумал Дилан. Как и само это слово «миллион».
Возможно, Мингус Руд чокнутый. Но Дилану было все равно.
Двумя днями позже он уже играл на улице: ловил на дороге мяч, прислонялся к припаркованной у обочины машине, пропуская проезжавший мимо автобус. Двигался он четко, ловко, безупречно. Возможно, там, откуда Мингус переехал, он был тем же, что Генри для Дин-стрит. Или просто обладал складом ума Генри — а эту особенность мгновенно угадывали и уважали повсюду. Дилан сидел на бетонной ограде с Эрлом и несколькими девочками, безмолвно наблюдая. Мингус умел приспосабливаться. В игру он влился в тот момент, когда Дилан на мгновение отвернулся.
Роберта Вулфолка поблизости не было. Улица кишела детьми, высыпавшими погулять в этот последний летний день. Две девочки крутили скакалку, еще три прыгали через нее — их коленки блестели, как крупные виноградины. В соседнем квартале дремала облицованная синей плиткой муниципальная школа № 38. Никто не смотрел в ее сторону, не вспоминал о ней.
— Парень Ди. Джон Диллинджер. Ди-Один. Одинокий Ди!
Дилан не понимал, что за слова выкрикивает Мингус, не догадывался, что это производные от его собственного имени.
— Дилан, ты что, оглох?
Право Генри командовать никогда не подвергалось сомнению, будто было частью его самого. Но у каждого капитана есть помощник, правая рука. Рано или поздно кому-то следовало занять этот место и на Дин-стрит. Дилан не раз наблюдал, как роль заместителя Генри пытается сыграть Альберто или Лонни, или даже Роберт Вулфолк, но заканчивались эти попытки полным провалом: например, испорченной игрой в панчбол и притворной хромотой. И вот теперь, в яркий день конца лета у Генри, задумавшего сыграть в стикбол, появился напарник, Мингус. Все произошло само собой.
Мингус взял в свою команду Дилана — не Альберто, не Лонни, не Эрла, никого другого.
— Он не умеет бить по мячу, — сказал Генри. Дилан не устраивал ни одного капитана, вечно только мешал игре.
— Я выбираю Диллинджера, — твердо ответил Мингус, натягивая бейсбольную перчатку команды «Филадельфия Филлис» — напоминание о груде костюмов, хранившихся в его шкафу. — А ты кого?
Начало этого последнего августовского дня походило на первые, будоражащие кровь кадры «Звездного пути» или «Миссия невыполнима», которые ты успел увидеть перед тем, как тебе велели выключить телевизор и отправляться спать. Эти кадры будут преследовать тебя, вновь и вновь прокручиваться перед глазами, когда уже погасят свет и прыгающее сердце наконец успокоится. Лето как будто не закончилось естественным образом, а было внезапно прервано, остановлено. Но появление Мингуса Руда сулило другое лето, продолжающее это, только что завершившееся, будто коридор за дверью, за которую невозможно заглянуть.
Как и рукоятка хоккейной клюшки, бита для стикбола была обмотана черной изолентой.
— Давай, Дил.
Дилан начал понимать, что прозвища Мингус придумывает ему для того, чтобы разграничить их отношения дома и на улице. Это были два разных мира. Дома и на улице. Дилан сознавал разницу. И не возражал.
Генри бросил мяч. Дилан взмахнул руками, словно показывая на что-то в воздухе вроде пчелы.
— Один, — объявил Мингус — капитан и судья.
— Один? — Генри усмехнулся. — Он даже не коснулся мяча.
— Ну и что, — ответил Мингус. — Ты бросил его слишком высоко. Мяч пролетел за пределами касания. А ты все правильно сделал, — сказал он Дилану и добавил шепотом: — Только не закрывай глаза.
Ты вырастал — у всех на глазах и в то же время скрытно, — становился неуклюжим и угловатым, выдергивал себе молочный зуб, сплевывал кровь, продолжал играть, заверял, что давно знаешь те слова, которые слышал впервые в жизни. Долгожданный миг наконец-то настал, и ты, размахнувшись и превозмогая страх, ударял по летящему мячу битой. Улица будто замирала. В то же время ты понимал, что по большому счету не произошло ничего необычного, и не ждал рукоплесканий.
Дилан, умудрившись запулить мяч между ног Альберто, пританцовывал на крышке канализационного люка — второй базе, — настраивался на следующий удар, готовился идти еще дальше.
Порой внутри у тебя все клокотало от волнения, и казалось, ты вот-вот напустишь в штаны. И это легло бы на тебя несмываемым пятном позора.
Тяжело дыша, в который раз за сегодня он снова бросил мяч. Жаль, игроков было всего пятеро, и защита, по сути, отсутствовала. А впрочем, это никого не волновало, сегодняшний день любой из игравших с удовольствием прожил бы снова. Страйк-аут. Трипл от фонарного столба — неправильно, но в сгустившейся темноте не все ли равно?
Завершения этого дня ты страшился, как требования отправляться в кровать, как болезни. Мать одного из мальчиков звала его домой уже полчаса, но на нее никто не обращал внимания.
Рейчел все еще не звала Дилана. Он подумал, не решили ли они с отцом опять повздорить. Но сейчас ему плевать хотелось на все их разборки, склоки и скандалы. Он мог всех послать теперь к черту.
Мингус был старше Дилана на каких-то четыре месяца, но благодаря этой ничтожной разнице пошел в школу на год раньше, и в Манаюнке, штат Пенсильвания, окончил перед переездом пятый класс. В новом учебном году он, как и Альберто, должен был пойти в шестой, в филиал средней школы № 293, что на Батлер-стрит, между Смит и Хойт, в криминальном районе Говануса.
— Дил-ликатес, — сказал Мингус Дилану, когда тот стоял в основной базе.
Средняя школа № 293 была как небесное тело, уводившее детей с орбиты Дин-стрит. Если бы Мингус родился на четыре месяца позже, быть может, он пошел бы сейчас учиться в один класс с Диланом, и тот, наверное, присматривал бы за ним, помогал.
Твой школьный класс был мостиком, окутанным туманом. Ты понятия не имел, в какой момент туман рассеется и можно будет сойти на берег — и кем ты тогда станешь. А пока твоя карьера и, по сути, вся жизнь ограничивались игрой в мяч.
Подачи вовсе не были настоящими подачами — лишь мечтами о них. Ты не помнил, кто последним выбыл в аут, кто будет следующим игроком нападения — если только очередь не доходила до вас обоих, Мингуса и Дилана. Гуса и Ди.
Еще один из мальчиков ушел домой. Генри, чтобы бросить мяч, вышел за пределы поля. Игра продолжалась. Ты несся с мячом на первую базу, отталкивал игрока нападения, порой задевал судью, не чувствуя под собой ног. Розовый сполдин давно превратился в черный — в кусочек ночи. Третью базу занял паренек пуэрториканец. Отрезки времени между аутами были как целое лето.
Муниципальная школа № 38 полыхала, охваченная огнем. Нет, не полыхала.
Если бы Мингуса Руда каким-то чудом можно было удержать в этом вечере, рядом с Диланом, в его горящих от боли, перепачканных руках, тогда лето продолжалось бы. Если бы. Если бы. Мечты, мечты… Лето на Дин-стрит длилось всего один день, и этот день закончился, давно стемнело. На часах башни Вильямсбургского банка красно-синим неоновым сиянием высвечивалось девять тридцать. Конечный счет миллион—ноль. Ребенок за миллион долларов.
Полыхала не твоя школа — ты сам.
«…и сейчас майор Эмберсон увлеченно размышлял о событиях всей своей жизни», — вспомнила Изабелла Вендль строчку из книжки. Она лежала на больничной кровати в «Колледж Хоспитал» на Генри-стрит, где камин ей заменял телевизор на полке чуть ли не под потолком, а вместо одиночества и бессонницы были толстые и злые медсестры с Ямайки. Ей предстояло умереть в Бруклин-Хайтс, а не в Бурум-Хилл. Не в больнице — в настоящей тюрьме. «И тут майор Эмберсон осознал, что все тревоги и радости, волновавшие его когда-то в жизни, все приобретения и потери…» И не в собственной постели под лепным потолком. Все из-за того проклятого удара веслом, согнувшего ее, засунувшего, как письмо в конверт, внутрь самой себя. Никто не читал это письмо целых пятьдесят два года. Она наблюдала за молодыми врачами, озадаченно глядящими на ее рентгеновские снимки: неужели вот это может располагаться здесь? Каким образом старуха Вендль помещалась внутри себя столько долгих лет?!
Все просто. Как король Артур, отождествлявший себя с Англией, Изабелла Вендль была Бурум-Хиллом, со всеми его противоречиями и несоответствиями. Она была банкой «Шлитц» в пакете из коричневой бумаги на лестничной площадке — где при выносе на улицу поворачивают гробы, — в доме девятнадцатого века. Она была тюрьмой, в густой тени которой баловались мальчишки, «…все тревоги и радости, волновавшие его когда-то в жизни, все приобретения и потери ничего не значили, потому что он понял…»
Изабеллу навестили сегодня двое. Естественно, Крофт, который всю неделю жил в ее доме, являлся в больницу каждый день и приносил пакетики с совершенно несъедобной полезной едой и книги — «Короли-временщики» и «Прислушиваясь к тайной гармонии», последние сочинения Поуэлла. Злобные медсестры метали в его сторону гневные взгляды, потому что он споласкивал судно Изабеллы в раковине и потому что засыпал их бессмысленными вопросами о ее здоровье. Крофт пообещал, что заберет с собой в Индиану рыжего кота. Изабелла желала коту счастья. Ей хотелось, чтобы он пробудил в Крофте совесть, стал для него духовной опорой. Изабелла не замечала, бреется ли Крофт или отпустил бороду — внимание рассеивала собственная раздражительность. Дом переходил по наследству Крофту. Племянник собирался продать его, и Изабелла не намеревалась вмешиваться в это. Она обнаружила, что не может читать Поуэлла — ничего не получалось, слова прыгали перед глазами, не выстраиваясь в предложения. Вместо чтения она смотрела по телевизору «Гонг-шоу». Один эпизод — какой-то комик с бумажным пакетом на голове — очень ей понравился: вот так-то, Энтони Поуэлл!
Второй посетитель, точнее посетительница, Рейчел Эбдус, тоже принесла книгу. Изабелла изумленно прочла ее название: «Женщина на краю времени». Это же надо было додуматься — Мардж Пирси! Изабелла улыбнулась, пошевелила кистью — как недавно научилась, — чувствуя слабость, истощение, готовясь к более сложному движению. Взяла книгу, уронила ее на пол и шепотом попросила Рейчел поднять и положить на тумбочку. Изабелле доставляло удовольствие разыгрывать умирающую, потому что она и впрямь умирала. «Дурочка, — хотелось ей сказать гостье, — я не читаю книг, написанных женщинами».
У Рейчел было заплаканное лицо. Наверняка опять поругалась со своим мужем-затворником. Изабелла догадалась, что она хочет что-то сказать ей, но решила воспользоваться положением умирающей и не допустить этот разговор. «Довольно с тебя и того, что вы унаследуете мою Дин-стрит, дорогая моя хиппи. Не приходи сюда, мечтая похоронить все свои горести в моем угасающем сердце».
Рейчел что-то говорила, но ее слова казались Изабелле такими же далекими, как узоры на луне.
— Наверное, мне пора, — сказала Рейчел.
— Да, — ответила Изабелла. — Так будет лучше. Ступайте.
Если бы Изабелла увидела заплаканную Рейчел Эбдус по телевизору, сразу же переключила бы канал. «Майор должен был хорошо продумать, как ему объявиться в незнакомой стране, где, быть может, никто даже не узнает в нем великолепного Эмберсона…»
Теперь она осталась одна — Рейчел ушла, Крофт уехал в свою Индиану. Бурум-Хилл оставался прежним, непокорным и порочным, — и чем бы он ни стал в будущем, рассчитывать на помощь Изабеллы Вендль уже не мог. Накажи его, забудь, прости. «Наверное, мы вышли из солнца, — думала Изабелла, злясь на себя за то, что мыслит цитатами в самом конце своей игры. — Вначале вообще ничего не было, кроме солнца». В последнем сне явившийся к ней пьяница Саймон Бурум увез ее на весельной лодке к тому самому берегу, к Вендль Хард. Весла он держал очень крепко. «В общем, кем бы мы ни были, мы, наверное, пришли с солнца…»
Дзынь!
Пятый класс был почти как четвертый, но что-то нарушилось. Никаких радикальных изменений не произошло. На уроках в школе № 38 ты до сих пор прозябал, казалось, уже самому зданию вот-вот сделается не по себе, и оно откажется функционировать. Те, кто раньше не умел читать, не умели и теперь, учителя на занятиях по пять раз объясняли одно и то же и не смотрели тебе в глаза, кое-кто из твоих одноклассников в очередной раз остался на второй год и походил на школьных уборщиков. Школа была клеткой, в которой росли дети, больше ничем. Ленч в тебя впихивали с неизменным упорством — рыбные котлеты и жидкий шоколад. Каждый вливал в себя за время учебы по меньшей мере две тысячи полупинтовых стаканчиков обогащенного витамином Д шоколадно-молочного напитка.
Чернокожих мальчиков-близнецов откуда-то с Уикофф звали Рональд и Дональд Макдональд. Невероятно. Братья подтверждали это, вновь и вновь пожимая плечами.
Китайские дети даже в уборную никогда не выходили — жили в настолько отличающемся от всего окружающего мире.
В доме никто не подходил к трезвонящему телефону.
Вся территория делилась на зоны. Школьный двор разбивался на секторы: черные мальчики, черные девочки, пуэрториканцы, баскетбол, гандбол, изгои. На бетонной ограде кто-то написал белой краской «РАЗНОЦВЕТН» и поставил рядом большую коробку в качестве мишени.
Брюс Ли приобрел бешеную популярность — потому что умер.
Девочки разговаривали на особом языке — сокращенными словами, — и разобрать их речь было сложнее, чем запомнить все, о чем рассказывали на занятиях. В школьном дворе царил привычный гул, сравнимый с не поддающимися расшифровке каракулями на партах.
Первые несколько раз слова «Эй, белый» казались какой-то ошибкой. Это было как раз в тот момент, когда ты только начинал по-особому воспринимать девочек — большинство мальчишек стеснялось этих перемен.
Нелепые кеды, смешные туфли, не та длина брюк. «Штаны-боюсь-воды».
А где вы видите воду? И над чем ржете, придурки?
У входа в школу и в углах двора собирались старшие ребята из школы № 293 или откуда-то еще. В прошлом году они тебя не замечали — ты считался младшеклассником. Теперь ты стал взрослее. В этих группках неизменно крутился и Роберт Вулфолк.
Даже стоя на месте, Роберт постоянно был в движении и походил на вывихнутую ногу; казалось, он никогда не выпрямится, будет вечно наклоняться над рулем маленького велосипеда, катящего в сторону Невинс. Роберт все время сверкал улыбкой и разговаривал так громко, что его голос растекался повсюду, огибая углы. Дилан видел в его взгляде то же, что везде: нечто не поддающееся расшифровке.
Ред-Хук, Форт Грин, Атлантик Терминалс.
Ты выстраивал ассоциации, сходившие за понимание. Никто ничего тебе не объяснял. Пятый класс был живописной абстракцией, мультипликационным кадром.
Телефон на кухне продолжал надрываться. Дилан сидел на крыльце, ожидая и наблюдая, день превращался в сумерки, холодало, пуэрториканцы у магазина качали головами, потирали замерзшие носы и расходились, оставляя старика Рамиреза одного. Рамирез и Дилан были похожи — каждый у своей двери, увлеченный наблюдением, — но даже не смотрели друг на друга. Дилан провожал взглядом спешившие в сторону Невинс машины, матерей, возвращавшихся с детьми из детского сада, считал автобусы, — как огромные буханки хлеба проплывавшие по дороге, останавливавшиеся перед светофором и продолжавшие путь. Во дворах никого не было, у заброшенного дома кто-то видел крысу. Брюс Ли и Изабелла Вендль умерли, Никсон гулял по пляжу. Никто не бегал, не играл, незнакомые ребята ходили по кварталу группками. Наступил сезон тишины, отдающей тупостью, молчания, похожего на то, когда учитель вызывает ученика и ждет ответа на заданный вопрос, но ответа нет, ведь всем известно, что этот парень даже имени своего не в состоянии произнести правильно.
Пусть на звонок ответит Авраам, если, конечно, услышит. Пусть сам скажет, что Рейчел здесь теперь нет.
Дилан ждал на крыльце каждый день до тех пор, пока Авраам не звал его на ужин. Мингус Руд занимался своими делами — делами шестиклассника, учащегося школы № 293, — и дружил с другими ребятами. Дилан обо всем этом догадывался, хотя старался не признаваться в этом самому себе. У Мингуса была коричневая вельветовая куртка с замшевым воротником. Он носил тетради и учебники под мышкой, а не в каком-то там портфеле, и небрежно бросал их прямо на крыльцо, выражая тем самым чуть меньше, чем полное пренебрежение, и чуть больше, чем собственное превосходство.
К комиксам Мингус относился почти как к живым существам, и, возможно, с помощью Дилана какую-то часть этой замершей жизни мог воскресить, подарив ей все свое внимание и глубокое уважение. Отчасти повторявшие друг друга истории были целым искусством, как скалли, со своими ритуалами. Дилан ужаснулся, узнав, что столько времени потратил даром, до сих пор не прикоснувшись к этому важнейшему пласту современной культуры. Например, Серебряного Серфера, если ты не познакомился с ним вовремя, уже невозможно было понять. Мингусу оставалось лишь качать головой. Объяснять кому-то эти трагичные и мистические вещи не возникало желания.
Новые комиксы привозили в киоски по вторникам. У Мингуса они лежали целыми охапками. Быть может, он их воровал — Дилан никогда не спрашивал. Некоторые комиксы выходили через месяц, другие — дважды в месяц. Ты ждал их с нетерпением, особенно толстенный ежегодник и специальные выпуски «Войн» или «Оригиналов». Из «Оригиналов» ты узнавал о супергероях и радиации, в ежегоднике и «Войнах» находил ответы на вопрос, не дававший тебе покоя: кто кого поймал? — и на время успокаивался. Халк и Железный Человек в конце каждого комикса торжественно клялись на целой странице или даже на двух, что в следующий раз все непременно уладят.
Девушку Человека-паука, Гвен, убил Гоблин, что совсем не было забавно. Вот почему Человек-паук всегда такой грустный.
Капитана Марвела воскресили для подтверждения прав на название компании, но никто не мог сказать, действительно ли он вписывается во вселенную Марвел. Комиксы «Ди Си» и «Марвел» отражали искореженную, расплющенную реальность — истории Бэтмена и Супермена, изуродованные телевидением, по сравнению с ними казались глупыми шутками.
А вообще-то Супермен в своем Бастионе Одиночества походил на Авраама в его студии на верхнем этаже, размышляющего ни о чем.
Болотное Чудовище было списано с просто Чудовища, или наоборот.
В некоторых сложностях разобраться удавалось с большим трудом. К примеру, в персонажах, нарисованных разными художниками. Приходилось всматриваться в них чуть ли не до боли в глазах, чтобы уловить связь. К тому же менее известные супергерои внешне напоминали знаменитых — Человека-Паука и Халка, — и все кошмарным образом перепутывалось. Эйнштейн, наверное, тронулся бы умом, если бы взялся объяснять, каким образом Фантастическая четверка помогала Нелюдям бороться с Людьми-кротами, если те, по определению самих же комиксов, не могли выйти за пределы Негативной зоны.
А Невероятный Халк с момента своего появления забыл все местоимения.
Дважды в неделю, на тускло освещенном крыльце, ни словом не поминая школу — предмет слишком тяжелый и чересчур мистический, — листая тонкие страницы и сильно сутулясь, Дилан и Мингус впитывали в себя продолжение историй, прочитывали все от корки до корки — даже надписи на обложках, списки обладателей авторских прав, рекламу игрушек «Си-Манки» и новинок «Макдоналдса». И вот, в тот миг, когда тебе уже казалось, что вы одни во всем мире, Дин-стрит оживала, и ты вспоминал, что Мингус знает здесь всех и каждого, кричит «Эй» миллиону других ребят, выходящих из магазина Рамиреза с «Ю-Ху» или «Пикси Стикс» в руке, или, как Альберто, со «Шлитц» и «Мальборо», купленных для брата и его подружки. Квартал, будто остров времени, школа, удаленная на тысячи миль, матери, зовущие детей домой, автобус с бликующими окнами, тучные дамы, возвращающиеся из офиса народного образования на Ливингстон-стрит. Марилла, прохаживающаяся туда-сюда, напевая «Порой ты, правда, ни во что меня не ставишь», сгущающиеся сумерки, уличные фонари, украшенные закинутыми на них кедами, Мингус, прикованный взглядом к «Лучшим комиксам Марвела», в которых Мистер Фантастика превращается в шар размером с бейсбольный мяч. Его лицо и посеребренные баки видны отчетливее, чем обычно, потому что в лицо ему вот-вот выстрелит из базуки сильный враг, робот Тумазума.
— Твоя мама так и не вернулась?
— Не-а.
— Хреново.
Глава 5
Через пять недель он решился продать обнаженных. Они изводили его, переговаривались друг с другом неразборчивым шепотом, показывали ему самого себя, как зеркала в комнате смеха, и вместе с надрывавшимся телефоном, заброшенным рабочим столом на кухне и до сих пор переполненными пепельницами превращали нижний этаж дома в лишенный мозга череп. Пустой череп с воспоминаниями, дежа вю. Она все не объявлялась, картины только об этом и шептались.
Эрлан Агопян, коллекционер-армянин, живший в Верхнем Ист-Сайде, впервые взглянул на его полотна два года назад. Желанием их увидеть он воспылал, посетив выставку на Принц-стрит, на которой по просьбе старого учителя Авраама экспонировалась одна из его картин. Агопян и делец с Принц-стрит явились на Дин и объявили, что хотят полюбоваться картинами и посетить студию художника. В студию Авраам их не повел, не желая выдавать секрет фильма, и неосмотрительно солгал, будто до сих пор пишет обнаженных. Но он давно бросил это занятие. Его большие кисти почти сгнили, не очищенные и не высушенные как следует в последний раз. В тот день Эрлан Агопян заявил, что готов купить все картины, лишив эту гостиную ее обнаженной неповторимости, и попросил Авраама назвать сумму, которую следует вписать в чек. Армянин точно подметил в Аврааме присущую ему неуверенность и не сомневался, что ему не откажут. Но он ошибся, Авраам не согласился продать даже одну картину, а Агопян на это очень рассчитывал. Делец с Принц-стрит сокрушенно и с осуждением качал своей золотоволосой головой с солнцезащитными очками на макушке. Может, стоило назвать какую-нибудь запредельную сумму, чтобы увидеть в этот момент выражение его лица?
Теперь, по прошествии двух лет, Эбдус напрямую связался с Агопяном, прекрасно понимая, что если армянин купит у него хоть одну картину без участия посредника — а о сделке тут же узнал бы весь Нью-Йорк, — все его прежние мостики на Сохо в Манхэттене мгновенно сгорят. Но Авраам и не нуждался больше в этих мостиках. Он повернулся к городу спиной и двинулся в другом направлении, в безлюдный район, страну мультяшного целлулоида.
Агопян, преследуя личные интересы, ни мгновения не колебался. По-видимому, он быстро вычислил логику капитуляции Авраама. Когда человек в ответ на твою просьбу продать целую комнату картин отказывается расстаться даже с одной из них, — переоценивая свои работы и по-детски недооценивая силу денег, — надо лишь терпеливо дождаться того момента, когда он осознает, что сглупил, и сам попросит тебя купить у него эту комнату. Так все и вышло.
Быть может, Эрлан Агопян всю жизнь мечтал обзавестись десятками картин с изображением обнаженной плоти. А может, приобретал такое количество произведений искусства каждую неделю. Или же он почувствовал, что Авраам-живописец умер, и понимал, что покупает мраморную надгробную плиту. Не исключалась и вероятность того, что Рейчел была теперь его любовницей и купалась в роскоши пентхауза на Парк-авеню, а картины Агопян покупал из желания закрепить эту тайную сделку своеобразной печатью — Авраам все равно ни о чем не догадался бы. Так или иначе, Агопян даже не подумал осматривать картины повторно: выписал чек и прислал на Дин-стрит грузовик.
Отношения Дилана с Мингусом выстраивались в короткие отрезки времени, оттеняющие все, что оставалось вне их. Мингус часто уходил сражаться с Людьми-кротами в компании шестиклассников из школы № 293, а Дилан, ученик пятого класса, часами просиживал в Негативной зоне. Впрочем, одно другому не мешало, в конце концов они были не Фантастической четверкой, а обыкновенными мальчишками. В интервалах между встречами в жизни того и другого происходило слишком много разных событий, и пытаться рассказать о них друг другу не имело смысла. И потом, Дилан чувствовал, что и у Мингуса есть собственный секретный мир, своя тяжелая ноша, невидимая для глаз окружающих. Поэтому они начинали разговор с того, на чем остановились в прошлый раз, делились тем, что интересовало обоих. Происходившие в них обоих изменения принимали как должное — то была негласная сделка, договор, согласно которому со своими проблемами каждый расправлялся сам.
Между тем случиться могло все что угодно, и, естественно, случалось. Однажды, например, в школьном дворе к Дилану обратился Роберт Вулфолк — повел сутулыми плечами и сказал:
— Эй, Дилан, поди-ка сюда.
«Поди-ка сюда». Будто Дилан сам был теперь бутылкой «Ю-Ху» или велосипедом, на котором можно укатить в другой квартал. Дилан сделал неуверенный шаг к Роберту, потом еще один, не зная, как отказать, и неожиданно очутился рядом с ним.
— Я видел, как твою мать выносили из дома голую, — лениво протянул Роберт.
— Что? — изумился Дилан.
— И укладывали в машину. Ее накрыли покрывалами, но они съехали в сторону. Она красовалась перед всей улицей, как шлюха.
Дилан оценил расстояние от того места, где они стояли, до ворот школьного двора, с отчаянием думая об игравшей на руку Вулфолку безлюдности ноябрьского дня.
— Это была не моя мама, — внезапно слетело с губ.
На безумные слова Роберта следовало отреагировать совсем не так.
— Она выскочила из дома, старик, голая, как ведьма. И не пытайся отовраться. Я видел, как ее засунули в полицейскую машину и куда-то повезли.
Дилан пришел в замешательство. Может, Роберт наблюдал что-то такое, чего сам Дилан не видел? Не принял же он картины за живого человека, обычный грузовик за полицейскую машину?
В нем вспыхнул страх. О чем бы ни говорил Роберт, он наверняка знал, что Рейчел исчезла и надирать ему уши теперь некому.
Он продолжал спокойным, участливым тоном:
— Небось упекли за решетку. Посадили за то, что она слишком громко орала и была чокнутой.
— Моя мама не выходила на улицу голой, — попытался защитить мать Дилан, чувствуя, что еще чуть-чуть и он напустит в штаны. — В машину грузили картины.
— Не было никаких картин. Она выперлась на улицу, ни капли не стесняясь. Спроси у кого угодно, если думаешь, что я гоню.
— Гонишь? — Дилана охватило страстное желание отвести Роберта к себе домой и показать пятна не выцветших обоев в тех местах, где висели обнаженные — исчезнувшие изображения исчезнувшей женщины.
— Не смей даже думать так. А не то я трахну тебя в твою белую задницу. Ну-ка, дай руку.
— Что?
— Руку. Покажу тебе фокус.
Роберт обхватил его запястье своими длинными пальцами и потянул вниз — Дилан наблюдал за происходящим будто со стороны, — потом резким движением дернул вверх, вывернув руку за спину. Дилан согнулся пополам, не в силах сопротивляться. Рюкзак съехал на затылок, и на асфальт посыпались учебники. В голову хлынула кровь, в глазах помутилось.
— Никому не позволяй хватать себя за руку, — назидательно сказал Роберт. — С заломленной за спину рукой ты себе не хозяин. Это мой тебе совет. А теперь собирай свое дерьмо и проваливай отсюда.
Ни о чем таком Дилан и Мингус друг другу не рассказывали. Сидя у освещенного зимним солнцем окна, выходившего на задний двор, слушая доносящиеся сверху звуки «Эверидж Уайт Бэнд» и шлепанье тапочек Барретта Руда-младшего по деревянному полу, они листали свежие выпуски «Люка Кейджа» и «Колдуна». Дилан не мог спросить Мингуса, что он видел в тот день: грузовик и картины или полицию, — о таких вещах у них не принято было заговаривать. Кроме того, Дилан ни с кем не желал обсуждать исчезновение Рейчел, давать этому название, под которым история вошла бы в анналы Дин-стрит. Если Мингус и видел недавний парад полотен с обнаженными, Дилан ничего не хотел об этом знать. К тому же он не имел представления, во что мог в конце концов вылиться страх, вызванный в Роберте Вулфолке побоями Рейчел, и чувствовал странную уверенность, что Мингус и Роберт не должны друг о друге знать. А если этим двоим и суждено когда-либо встретиться, Дилан не хотел выступать в роли посредника. И в том случае, если их пути уже пересеклись, Дилан предпочитал как можно дольше оставаться в неведении. Он не мог даже спросить Мингуса, правильно ли понял слово «гнать» — «врать». Вот так.
Они сидели молча, про себя читали комиксы и слушали доносившийся сверху ритм ударных инструментов.
Как-то в декабре, зайдя к Дилану, Мингус бросил на крыльцо папку из картона, обтянутого синей, протертой на уголках тканью. Дилан увидел, что вся поверхность папки, за исключением филадельфийской наклейки, покрыта чернильными каракулями — буквами, повторяющимися много раз, словно тот, кто рисовал их, непременно хотел добиться идеальных очертаний. Это напоминало надписи со стен школьного двора.
— Моя метка, — сказал Мингус, перехватывая блуждающий по каракулям взгляд Дилана. — Смотри. — Он достал лист бумаги, взял ручку близко к кончику, высунул вбок язык и вывел слово «ДОЗА» большими наклонными буквами. Потом маленькими, с едва различимыми «д» и «о», и «з», похожей на вертикальную черточку.
— И что это значит?
— У меня такая метка — тэг. ДОЗА. Я везде его пишу.
Это было модным поветрием. Любой мог придумать себе тэг. Дилан, разумеется, тоже. Никаких объяснений не требовалось. Короткий зимний день сам по себе был ответом на незаданный вопрос, напоминал о стоическом терпении. Вместе с Рейчел из дома ушла истерия, остался лишь надрывающийся телефон. День шумел, как морская раковина. Дилан смотрел телевизор, проверял почту, провожал взглядом уходящего в студию отца. Слушал пластинки Рейчел с записями Кэрли Саймона, Мириам Мейкбой, «Дилани энд Бонни». Сквозь зарешеченное окно школьного кабинета на втором этаже он наблюдал за уборщиками, нехотя бредущими по тонкому слою снега к мусорным контейнерам, тоже исписанным метками. Он думал, какое словечко выбрать ему самому, но в голове все путалось. Важнейшие события всегда происходили почему-то в отсутствие Дилана, поэтому принимать их за нечто, наполняющее его жизнь, было трудно. Примеров тому множество — кабинет № 222, интрижка отца Эдди, новая группировка подростков. Из всех этих происшествий складывалась повседневность, они были подводным течением, изнанкой жизни.
Дилан и Мингус никогда не обсуждали последние события. Они смотрели Суперкубок американского футбола, заключив тайное пари на пять долларов: Мингус утверждал, что победят «Питтсбург стилерс», Дилан болел за «Миннесота вайкингс» с их потрясающими шлемами. Вдвоем они крались на цыпочках на второй этаж, туда, где хранились «Золотые диски». Гостиная выглядела теперь по-другому: водяной матрас Барретт убрал, вместо него напротив огромного цветного телевизора поставил здоровенную софу и диван.
Барретт Руд-младший сидел в кресле будто на троне, в синих штанах и распахнутом шелковом халате, раскинув руки ладонями кверху и вытянув ноги. Черные с проседью волосы на коричневой груди напоминали недописанные буквы. Он перевел взгляд с экрана, на котором мелькали сценки предварительного шоу, прищурился и, задвигав толстыми губами — так что зашевелилась бородка, — посмотрел сквозь очки на Дилана.
— Это твой друг, да?
Мингус, проигнорировав вопрос, сел на диван.
— Как тебя зовут?
— Дилан.
— Дилан? Мне довелось встречаться с этим парнем, Бобом Диланом. За кого ты болеешь, Дилан?
— М-м?
— Как думаешь, кто сегодня выиграет?
— Он болеет за «Вайкингс», — отстраненно сказал Мингус. В присутствии отца, перед огромным мерцающим экраном он, казалось, впал в состояние полутранса.
— «Вайкингс» продуют, — заявил Барретт — настолько уверенно, что Дилан смутился. Но ведь они и пришли сюда для того, чтобы увидеть, кто выиграет, кто проиграет.
— А «Долфинс» ты знаешь? — спросил Барретт.
Дилан соврал, что знает.
— Летом семьдесят первого я с ними работал. Покажи-ка фотографию, Гус.
Мингус поднялся с дивана, направился в завешанную коврами отцовскую спальню и принес цветной снимок в рамке. Дилан увидел Барретта в футбольной форме с прижатым к груди мячом и мечтательным взглядом.
— Меркури Моррис пророчил мне блестящее будущее. Но ничего не вышло, приятель. Все из-за студии грамзаписи. Если бы не это, я когда-нибудь тоже участвовал бы в Суперкубке…
Голос Барретта становился тише, он уже не обращался ни к кому конкретно. Начавшаяся игра сузила реальность до размеров зеленого поля: все ушло, остались только бегающие, как заводные, футболисты и увлеченность Дилана. Этот матч был сплошной полосой неудач, совершенно неправдоподобных. Мингус ни словом не обмолвился о заключенном пари, лишь страстно умолял то одного, то другого игрока забросить мяч. Дилан взывал к провидению молча, даже когда крутили рекламу. «Я накупил бы кока-колы для всех на свете…» Барретт барабанил пальцами по диванному подлокотнику, отбивая ритм какой-то мелодии.
— Гус, дружище, достань-ка из холодильника кольт.
Желтая бутылка на сорок унций сразу запотела. После каждого глотка Барретт вытирал ладонь о синие штаны, вода мгновенно впитывалась в ткань, оставляя темные пятна.
— В перерыве возьмите десять долларов и купите чего-нибудь для бутербродов. Лучше у Багги, у нее всегда есть мой любимый шведский сыр. Терпеть не могу гадость, которую выдает за сыр старик Рамирез.
Несмотря на то, что он почти никогда не выходил на улицу, Багги и ее овчарка были ему известны. Имена всех живущих здесь знали, даже не вылезая из дома. Квартал составлял единое целое, это подтверждалось снова и снова. Дряхлые здания из бурого песчаника как будто все слышали, умели думать.
Все для всех здесь были просто «Эй».
Дилан и Мингус надели куртки и натянули на глаза шапки. Гулявший на Бонд-стрит ветер хлестал по ногам, пробирался под одежду. Руки они держали в карманах, но пальцы все равно посинели. Из-за ветра магазинная дверь сначала не желала открываться. Багги и ее овчарка сквозь заиндевевшее окно выглядели полупрозрачными привидениями, загадочными пришельцами.
Два мальчика, черный и белый, пришли за горчицей и сыром. Скорее всего Багги не знала, что по телевизору идет Суперкубок, наверное, даже понятия не имела о значении этого слова, и, услышав его, вполне могла решить, что это, например, какая-нибудь туалетная принадлежность.
Дилан и Мингус сварганили бутерброды, и все трое принялись жевать. Барретт наслаждался вкусом горячей горчицы, облизывал пальцы, бормотал что-то себе под нос и потягивал солодовый напиток, уже вторую бутылку. Третий период был похож на бесконечную выжженную пустыню, где время растянуто в вечность. А ведь где-то в эти самые минуты, наверное, терпели крушение самолеты, и Манхэттен мог расколоться пополам и уплыть в море. Бруклин был заснеженным островом. Вокруг него царила беспросветная мгла. Тебе и в голову не приходило, что Суперкубок может быть настолько жутким и безнадежным. Удар по мячу какого-нибудь увальня совершенно ничего не менял. Мингус немного попритих, усмиренный отцом, но не прекратил свои мольбы. Дилан присел на корточки перед каминной полкой и принялся рассматривать коллекцию пластинок, беря их по одной. «Мейн Ингридьент», Эстер Филлипс, Расаан Роланд Керк, трио «Янг Хоулт». Имена и названия в прорезях цветных конвертов — такой же неведомый, непонятный мир, как отдельный выпуск комиксов «Марвел».
— Тебе не интересна игра? — сказал Барретт с оттенком раздражения. Он снова прищурился, будто желая получше рассмотреть Дилана.
Белый мальчик в доме черных.
— А твоя мама знает, что ты у нас? — спросил Барретт.
— Его мама ушла от них, — ответил за Дилана Мингус.
— Ушла?
Дилан кивнул. Барретт задумался. Теперь понятно, почему мальчик так долго сидит здесь, в их доме, — наверное, к такому выводу он пришел. Но вдруг промелькнуло что-то еще. Дилан заметил в глазах Барретта под отяжелевшими веками искру нежности, и показалось, будто на него пролился мягкий свет фонарика.
— Мать ушла, а парень держится молодцом. — Барретт повторил эту фразу дважды. В первый раз — глухо, не очень четко. Во второй — нараспев, с интонацией похвалы и поддержки. — Ма-ать ушла-а, а парень держится молодцо-ом.
Дилан опять кивнул, не ответив.
Барретт все еще держал в руке желтую бутылку и время от времени поднимал ее, будто произнося в уме тост, потом делал глоток.
— Отлично. Ты молоток, Дилан. Оставь пластинки в покое, поглядишь на них в другой раз. Садись, досмотрим игру.
Быть может, Барретт чем-то напомнил ему Рейчел? Или просто с тех пор, как она исчезла, никто не произносил при нем слово «мать» таким заботливым тоном? Дилану показалось, что она вплыла в комнату — туманным облачком, прозрачной дымкой. Мингус ерзал на диване, избегая встречаться с Диланом взглядом — возможно, тоже почувствовал присутствие Рейчел или другой женщины, которая неощутимо прижалась к нему, движением воздуха погладила по голове. И тут же пропала, а объектив камеры вновь вернулся к футболу, бегающим игрокам, к долгому ожиданию и детским мольбам.
В конце игры Мингус вскинул кулак и прокричал:
— Я выиграл!
— Ты это о чем? — спросил его отец.
— Мы с Диланом поспорили.
— На что?
— На пять долларов.
— Никогда больше не поступай так со своими друзьями. Любой дурак знает, что «Вайкингс» ни за что не выиграют в Суперкубке. Иди сюда. Иди ко мне.
Мингус подошел к отцу, тот вытянул руку — отчего пола халата съехала в сторону, открыв на удивление большой сосок, — и потрепал сына по щеке. Этот жест сошел бы за ласку, если бы угрожающий голос Барретта и строгое выражение лица не говорили об обратном. Дилан наблюдал, как Мингус отшатнулся, чтобы избежать удара — уже настоящего. Но Барретт внезапно погрузился в задумчивость и рассеянно осмотрел свою руку, словно ища на ней что-то. А чуть погодя сказал:
— Даже если тебе очень нужны деньги, не кради их у друга. Не вставая, он взял с каминной полки какой-то сверток, достал из него двадцатидолларовую купюру и отдал Мингусу.
— Одевайся и проводи Дилана домой. А когда вернешься, причеши наконец свою лохматую башку, не заставляй меня напоминать тебе об одном и том же по десять раз.
Зимние дни были ледяной скованностью, тускло поблескивавшей меж берегов канала. Грязным снегом на улице, похожим на гниющие десны. Дома как будто кто-то опечатал, дети не выходили гулять. Все, кроме Генри, в одиночестве бросавшего мяч в небо. Альберто больше не общался с ним — сдружился с какой-то пуэрториканской компанией. Удивляло и поражало одиночество Генри, осознание того, насколько сильно его статус зависел от Альберто. Мингус выходил на улицу только после наступления темноты или же вообще не показывался на глаза по несколько недель кряду. Комиксы осточертели и были заброшены. Чем закончилась история Колдуна и Танатоса, ни Дилану, ни Мингусу уже не хотелось знать. Керби вернулся в «Марвел», и его «Джек Король» по-прежнему был популярен. Дилан представлял себе, как Керби приходит в лабораторию, чтобы вычистить из себя токсины Супермена.
Какой-то парень выпрыгнул с шестого этажа гостиницы на Невинс и напоролся на прутья металлической ограды. Верхушки прутьев пришлось отрезать, чтобы снять его оттуда и отвезти в бруклинскую больницу. Дети бегали глазеть на ограду до тех пор, пока к срезанным прутьям не приварили металлическую пластину. Если бы не этот парень, ты никогда в жизни не узнал бы, что этот дом на Невинс — гостиница. Но, как выяснилось, остальным было давно известно об этом. Как и Казенный дом на Атлантик, ты старательно обходил это здание стороной, повинуясь собственному расовому чутью — о котором ты даже не догадывался.
Дилан и Авраам засиделись вечером, собираясь посмотреть субботнее шоу, но через десять минут после начала Авраам заявил, что ничего не понимает, и принялся с раздражением разыскивать куда-то запропастившуюся пластинку Ленни Брюса. Время словно идет в обратном направлении — так сказал Авраам. Незначительные вещи приобретают важность, и становится смешно. Дилан верил словам отца.
Однажды он увидел, как Эрл бросает сполдин в высокий фасад заброшенного дома, сквозь стиснутые зубы цедя снова и снова:
— Я Чеви Чейз, а ты нет!
Эрл выглядел растерянным и несчастным, всеми заброшенным. Игра в мяч превратилась для всех ребят в воспоминание о прошлом. Если несколько мальчишек затевали что-нибудь, все смотрели на них, как на пуэрториканцев с их ящиками из-под молока — заблудившихся в давно минувшем, по привычке на что-то сетующих. Игры в мяч остались позади, ушли, как высокая температура или дурное настроение. Марилла и Ла-Ла пели, почти кричали: «Закрыла люк в крыше, взяла свой бриллиант. Напяливай парик, ты слышишь? Нам выпал трудный фант. Стыд, стыд, позо-о-ор и сты-ы-ыд! Не умеешь танцевать ты!»
Однажды в субботу в мартовскую оттепель Мингус зашел за Диланом, и они отправились через замусоренный парк, лежавший позади Бурум-Хилл, на Корт-стрит — зачем, Дилан понятия не имел. В парке на пять долларов, которые вытащил из кармана Мингус, они купили по хот-догу в вощеной бумаге. Половину своего Мингус обернул еще одним листом и засунул в карман — как запас. Сразу за памятником жертвам войны дорога сворачивала к убогой окраине Бруклина: автостоянкам, рядам мусорных баков, городским свалкам. От стоявших там домов из песчаника их отделяла мрачная автострада Бруклин-Куинс, вдали грохотали трамваи.
Мингус показывал путь. Они прошли под въездом на магистраль к каменной лестнице, ведущей на залитый солнцем мост через реку. С моста открывался вид на Манхэттен, напоминающий скелет динозавра. Доски моста были неровные, некоторые почти сгнили. Порой под ногами оставался лишь металлический остов, а под ним виднелась поблескивавшая, неспокойная вода. Здесь как будто шел жаркий спор или даже тянулась странная вражда с пространством.
Дилан и Мингус прошли две трети моста и остановились. На громадной башне, возвышавшейся над Манхэттеном, на невообразимой высоте красовались две живописные красно-бело-зелено-желтые надписи. «МОНО» и «ЛИ» — по сути, слоги, лишенные какого-либо смысла, как и «ДОЗА» Мингуса.
Дилан понял, для чего приятель притащил его сюда. Показать надписи, подчинившие себе мост, безмолвно заявлявшие, что и он — собственность Бруклина. Эти вызывающие «Моно» и «Ли» — неровные десятифутовые буквы — недалеко ушли от каракуль на стенах, значков, оставляемых повсюду. Тэги тоже были разновидностью скалли, как и супергерои «Марвел», тайным искусством. Мингус достал половинку хотдога и принялся есть. Они стояли, в немом восторге глядя на надписи, еще не зная, лишь смутно предчувствуя то, что их подстерегает в будущем. Машины, проносившиеся внизу, ни о чем не догадывались. Люди, сидящие в них, не были настоящими ньюйоркцами из-за своей фатальной слепоты и непонимания. А два мальчика на мосту, стоящие неподвижно, мчались вперед стремительнее машин.
Тысяча девятьсот семьдесят пятый.
Возвращаясь в тот весенний день домой, Дилан и Мингус изучали тэги, выведенные розовым и черным маркером на почтовых ящиках и фонарных столбах — «ДМД», «БТЭК», «ДАЙНИ», «ШРАМ 56», — бормотали себе под нос буквы и слоги и пытались расшифровать их.
Они жили вдвоем и порознь, в отрезках времени меж невысказанного. Один, шагая по улице, обходил стороной парней из соседнего квартала, прятал под капюшоном белое лицо; второй присоединялся после школы к чернокожим хулиганам, потом возвращался на Дин-стрит. Двое мальчишек, пятого и шестого класса, блуждающие по улицам, замкнутые в себе. Белый и черный, Капитан Америка и Фалькон, Железный Кулак и Люк Кейдж. И тот и другой возвращались из своих школ на одну и ту же улицу, в дома из бурого песчаника, к отцам, Аврааму Эбдусу и Барретту Руду-младшему, которые в мрачном молчании доставали для них завернутые в фольгу обеды — картофельное пюре с горохом и морковью и бифштекс. Обед в тишине или под голоса телевизора, Невинс-стрит — тропа необъявленной войны, очередной пожар в соседнем квартале, застрявший в окне на восемнадцатом этаже тлеющий матрас. Территории, улицы с домами из бурого песчаника, зажатые между тюрьмой и жилыми массивами Уикофф-Гарденс и Гованус Хаузис. Шлюхи на Пасифик и Невинс. Высыпающие из школьныхдворовстаршеклассники, черные девочки, уже фигуристее твоей мамы, Третья авеню — еще один бандитский район, пустырь, где изнасиловали ту девчонку. Гостиница на полпути. Все было на полпути. Ты выходил из своей школы на полпути, старался как можно незаметнее пересечь район на полпути и возвращался в дом на полпути, полупустой дом. Дилан и Мингус, словно герои мультика, жили будто в густом тумане, время от времени встречались, читали комиксы или рассматривали тэги, готовясь к грядущему, репетируя.
* * *
Кабинет его старого учителя ничуть не изменился, поэтому все, что произошло с тех пор, вдруг показалось сном, ошибкой. И возникло ощущение, точно он все еще в шестьдесят первом году, прогулял лекцию в колледже на Сто тридцать пятой улице ради занятия в Художественной студенческой лиге на Пятьдесят седьмой. Он вновь чувствовал себя простым парнем, который восхищенно глазеет по сторонам на Коламбус-авеню, в этом царстве знаменитостей, уверенный в том, что ему непременно попадется сам Де Куннинг, гордый своей недавно появившейся бородкой и тайно умоляющий Бога не возвращать его в прошлую жизнь. В те дни Авраам не был знаком с Бруклином, за исключением Кони-Айленда — страны чудес, где в семнадцать лет, напившись кока-колы, под скрипучим деревянным мостом он расстегнул первый в своей жизни лифчик — ее звали Саша Костер — и кончил прямо в трусы. Ему, связывавшему свое будущее с Макдугал и Бликер-стрит, тогда и в голову не могло прийти, что он женится на натурщице из Вильямсбурга, бросившей колледж Хантера, заядлой курильщице, любительнице марихуаны, сделавшейся хиппи в то время, когда о хиппи почти еще не слышали. И что будет один воспитывать сына, живя в пяти кварталах от канала Гованус. В тот самый миг, когда обнаженную грудь Саши Костер лизнул солоноватый ветер, Авраам невольно породнился с Бруклином.
Кабинет Перри Кандела ничуть не изменился. Сам учитель тоже остался прежним: выглядел убого, как и большинство гениев, носил вытянутый, с заплатами на локтях свитер, а прической напоминал психиатра с карикатуры в «Нью-Йоркере». Кандел перегнулся через стол, пожал Аврааму руку, показал на стул, сел и заговорил таким тоном, будто готовился к этой беседе полжизни, но ничего так и не придумал:
— Мыслители не мыслят, Авраам, и учителя не учат. Писатели тоже не пишут, а лезут на сцену, где играют сами с собой, подражая Гинсбергу и Мейлеру. Мы теряем целое поколение. Многие из молодых людей, с которыми я работаю, в один прекрасный день вдруг заявляют, что надумали заняться геодезией или разведением пчел, или сочинением хоралов на эсперанто. Чем-нибудь случайным. Традиции умирают. Все делается абы как. Даже быть просто мужчиной или просто женщиной стало неинтересно. Недавно я посмотрел кино и за три часа узнал только одно: что у Дэвида Боуи крошечный пенис. Он не умеет играть. Что же касается меня, я не ставлю перед собой заоблачных целей: всего лишь хочу, чтобы художники оставались художниками, хотя бы некоторые. Ты, Авраам, мое горькое разочарование.
— Вы сказали, есть какая-то работа, Перри. Не мучайте меня.
— Я делаю это от безысходности. Сбыв картины Агопяну, ты не просто их продал, а спрятал доказательства, закопал следы, как нагадивший кот. Ты стыдишься живописи, она тебя смущает. Удивлен? Думал, я ни о чем не знаю?
— О том, что меня бросила жена, вам тоже известно? — неожиданно спросил Авраам, глядя старому учителю прямо в глаза с желанием шокировать его, заткнуть ему рот. Ничего не вышло. Авраам оглушил только самого себя. Перри Кандел даже паузы не выдержал.
— С этой проблемой еще никому не удавалось справиться. Вся жизнь художника состоит из несчастных браков, если ему вообще удается их заключать. Но, но и еще раз но — он должен продолжать наносить мазки на полотна, только в этом случае ему представится возможность вступить в новый брак и опять его разрушить.
Унижаться упоминанием о сыне Авраам не стал.
— Если вы пригласили меня только для того, чтобы прочесть лекцию…
— Послушай, я хочу сделать тебе предложение. Примешь ты его или нет, решай сам. Речь идет о работе с кистью и краской, но это займет у тебя не слишком много времени, так что расслабься. Тебе не придется переступать через желание закопать свой талант.
— Спасибо за заботу.
— Не стоит. Один мой знакомый редактор, весьма сообразительный человек, которому я частенько проигрываю в покер, спросил, нет ли у меня на примете молодых художников, склонных одновременно и к образной, и к абстрактной живописи, притом не лишенных чувства цвета. Я сказал, что имеется парочка. Он издает научно-фантастические книжки в мягких обложках и хочет расширить круг читателей — ориентируется не только на студентов, но и на людей постарше. Бог его знает, что из этого выйдет. Ему нужен человек, не соприкасавшийся еще с коммерцией, высококачественный, как он выразился, художник. Признаться, когда я услышал это слово, у меня мурашки пошли по коже. Не хотел бы я, чтобы однажды так назвали и меня.
Наверняка не собиравшийся говорить так много, Перри Кандел сделал паузу — посмаковать, как дорогую сигару, сказанное. Затем назвал сумму и написал на обратной стороне розового бланка имя, номер телефона. В тот миг Авраам осознал, лучше, чем когда бы то ни было в жизни, что все на свете имеет свою цену.
Глава 6
Капюшон куртки, отороченный кроличьим мехом, завязан под подбородком, голова опущена — мальчик видит лишь носки своих кед «Конверс» и убегающий назад асфальт. Он идет по Атлантик-авеню к Флэтбуш и Четвертой, засунув руки в карманы, — пользуясь возможностью, пока на дворе зима, скрыть от всех всю свою белую кожу. Возле Четвертой он поднимает голову, смотрит направо и налево, чтобы проскочить сквозь поток машин к газетному киоску на треугольном островке безопасности. Если вы посмотрите на него сквозь ветровое стекло автомобиля или через запыленное окно кафе либо ломбарда, вам бросится в глаза его схожесть с кротом или крысой — голову он втягивает в плечи и едва заметно поводит носом, выглядывающим из-под капюшона, проверяя, не пахнет ли опасностью.
Мальчик-крот перебегает проезжую часть, останавливается у газетного киоска и оглядывается, возможно, опасаясь преследования. Затем, успокоившись, наклоняется. Перед ним — безразличный продавец, бородатый араб, окруженный со всех сторон выпусками «Пипл», «Диарио», «Амстердам ньюс», греющий руки над переносным обогревателем. Крот задирает штанину и засовывает пальцы в полосатый носок. У щиколотки — долларовая купюра и три монеты по двадцать пять центов. Сегодня вторник. Мальчик-крот достает доллар и одну из монет, подает их арабу и осторожно вытаскивает из холодных металлических стоек свежие комиксы. «Мститель» № 138 и «Команда» № 43 о Человеке-Пауке и Докторе Думе и три экземпляра первого выпуска «Омеги», уже сейчас достойного полки коллекционера, несколько месяцев рекламировавшегося в колонках «Марвел Буллпен Булитин». Продавец смотрит и небрежно кивает. Мальчик-крот расстегивает куртку, бережно засовывает комиксы за пояс брюк, проверяет, не видно ли их со стороны, не помнутся ли. Оставшиеся две монеты в двадцать пять центов перекладывает в карман куртки, чтобы сразу предъявить в случае нападения хулиганов. По этим улицам, не имея при себе ни гроша, ходят только идиоты.
Мальчик-крот, исполненный страха, раскачивающейся походкой направляется обратно, не слишком быстро, чтобы не выронить комиксы.
И ощущает себя в безопасности лишь на своем крыльце. «Мстителей» и «Команду» он откладывает в сторону, оставляя наименее интересное на потом. Два экземпляра «Омеги» кладет в полиэтиленовый пакет и убирает на верхнюю полку, в архив, а третий раскрывает и начинает читать.
Что в Омеге такого особенного? Это оказывается немой супергерой с другой планеты, подобие Черного Грома и Супермена. Комикс разочаровывает, не оправдывает ожиданий. Выясняется, что сам Омега играет в нем второстепенную роль на фоне другого персонажа, двенадцатилетнего мальчика, который каким-то необъяснимым образом делит с Омегой собственное сознание. Этот мальчик — несчастный сирота, учится в муниципальной средней школе в Адовой Кухне.
Быть может, гении в «Марвел Комикс» знали о том, что ты живешь в аду? Хотя не все ли равно? Ты и сам не отдавал себе в этом отчет. И не делил с бедным беспомощным мальчиком из «Омеги» собственное сознание — или просто не знал об этом.
Что тебе вообще до того мальчика? На улице его ведь никогда не били.
Шестой класс. Это был год подзатыльников, притеснений, постоянных тычков в бок и по лицу, летящего к сточной канаве рюкзака с учебниками, нескончаемых обшариваний карманов в поисках денег и проездного билета. Это случалось на Хойт-стрит, на Берген и в Уикофф, если Дилан по глупости туда забредал. И даже на Дин-стрит, совсем рядом с домом, на глазах у других безучастных домов из бурого песчаника, в тени равнодушной школы. Взрослые, учителя казались такими же далекими, как Манхэттен, слепыми, безразличными башнями. Дилан был крошечным жучком в лабиринте асфальтовых дорожек, белым мальчиком, неизвестно как сюда попавшим.
— Наподдай ему, эй, — слышалось откуда-то со стороны. Дилан был неодушевленным предметом, удобным для развлечения. — Наподдай этому белому.
Его прижимали к земле или к чьей-то ноге, потом пинками гнали прочь. Он шел дальше на подкашивающихся, заплетающихся ногах. Иногда к нему незаметно подходили сзади и давали подзатыльник, мгновение спустя он оказывался в кольце из трех-четырех парней — они пялились на него с пренебрежением и качали головами, молча презирая за его белую убогость. Все происходило неожиданно, как забава, развлечение.
Его отпускали, точно сыгравшего свою роль актера из уличного театра.
— Только не дуйся, парень. Мы просто пошутили. Ты ведь понимаешь, что никто не собирается тебя обижать, верно?
Они уходили — не уличные хулиганы, а довольные зрители, — оставляя его дрожать и задыхаться от боли в полном одиночестве. Если в присутствии обидчиков у Дилана начинали дрожать губы или на глаза наворачивались слезы, они словно разочаровывались, не ожидая от него такой слабонервности. Дилан не понимал, как должен играть отведенную ему роль. В таких случаях хулиганы поднимали его рюкзак с книжками или шапку и тыкали вещами ему в грудь, стараясь успокоить. В жестоких насмешках жил дух нежности. Оскорбитель и оскорбленный как будто состояли в тайном сговоре.
Тебе приходилось вновь и вновь признаваться врагам, что случившееся — сущий пустяк.
У Дилана текли слезы, а в холодное время и сопли. Однажды он даже напустил в штаны. Ему хотелось прокусить себе язык, до того было больно глотать обиду, унижение. Его враги гримасничали, закатывали глаза, не замечали его страданий.
— Мальчик умрет, если ты еще к нему прикоснешься.
— Да все с ним в порядке. Пойдем отсюда.
— Ты ведь никому не скажешь? Мы же просто балуемся. Можешь не бояться нас, приятель.
Дилан беззвучно кивал, беря себя в руки. Ждал, что его похвалят за пересиленное желание расплакаться, за выдержку.
— Ишь ты! А он не такой уж хлипкий для белого. Проваливай отсюда, и побыстрее.
«Белый парень» стало его именем. Он дорос до этого, переступил невидимую черту, стал заметен, как потерянные кем-то деньги. И уже привык отдавать за белую кожу то, что оказывалось в кармане, — доллар, пятьдесят центов.
— Белый парень, поди-ка сюда, есть разговор. — Голова склонена набок, руки в карманах. Один, два, три темнокожих подростка. Или целая группа, и тогда невозможно определить, от кого чего ждать. Глаза, закатываемые к небу, смех. Каждый раз как повторение предыдущего. Тоска и презрение.
Если Дилан не обращал на окрики внимания, продолжал идти своей дорогой, его окликали повторно.
— Эй ты, белый парень. Я с тобой разговариваю, черт возьми.
— В чем дело? Ты что, не слышишь?
Нет. Да.
— Или не хочешь разговаривать?
Безнадежно.
Заканчивалось всегда одним и тем же: Дилан подходил к задирам и выворачивал карманы. В любом случае. Подходил, мучимый позором, под смех и улюлюканье, не дожидаясь, пока кто-нибудь крикнет: «Сейчас получишь у меня, раз не хочешь разговаривать». Это был танец, в котором каждое па состояло из тычков. Назови меня белым парнем и получишь доллар. Я давно этому обучен.
— Поди-ка сюда, я ничего тебе не сделаю. Чего ты боишься, а? Черт! Думаешь, я тебя обижу?
Нет. Да.
Логика отсутствовала. Были только страх и обещания, заманивание в сети.
— Чего ты боишься? А может, ты расист, а?
Я?
Мы притесняем тебя, считая, что имеем на это право; а тебе кажется, что ты выше притеснений и мы должны понять это.
Твой страх заставляет нас доказывать, что ты не прав.
Ловушки подстерегали тебя на каждом углу, где бы ты ни появился. Пара злых мальчишек на твоем пути могли обернуться настоящей пыткой. Бывало, и в самом тихом на первый взгляд, залитом солнцем месте тебя поджидала настоящая катастрофа.
Два голоса сливались в странный хор. Парни разыгрывали этот спектакль друг перед другом, не перед ним. В каждом слове сквозило довольство — третий голос, ответы на вопросы, только испортил бы представление.
— Ты кого-то ищешь? Может, хочешь что-то спросить?
— Да успокойся ты, этот белый — нормальный парень. Не тронь его.
— А какого черта он на меня так вылупился? Может, ты чертов расист, а, парень? Если так, я намылю тебе твою белую физиономию.
— Брось, приятель, он нормальный парень. Правильно я говорю, а? У тебя, случайно, не найдется доллар в долг?
Вот она, суть этого спектакля, главный вопрос, заданный уже миллион раз, миллионом разных способов.
— На что ты пялишься, а?
— Черта лысого ты тут забыл, приятель?
— Хорош таращиться, белый парень, а то получишь.
Вот к чему готовил его Роберт Вулфолк. Он первым дал Дилану почувствовать, что такое позор, научил молчать, будто предвидел, что в будущем ему придется пользоваться этим умением постоянно. О Роберте напоминала каждая стычка — вспышками боли, извращенной логикой, бессмысленными вопросами, всегдашними уверениями, что не сделают ему ничего. И стыдом за свою белую кожу, виноватую во всем.
А на что, черт возьми, я пялюсь?Если мальчик-крот отрывал взгляд от асфальта, то с единственной целью: посмотреть, нет ли поблизости кого-нибудь из взрослых или знакомых старших ребят, которые смогли бы вызволить его из беды. Например, Мингуса, хотя Дилан не был уверен, хочет ли он предстать перед другом в таком виде. Трясущимся от страха, с горящими от ненависти щеками. Никакой я не расист, мой лучший друг — черный! Нет, ничего подобного он бы не сказал вслух. Никто никогда не говорил, кого считает своим лучшим другом. У Мингуса таких, наверное, был миллион — семиклассников, белых, черных. И потом, мальчик-крот никогда не отважился бы выдавить из себя слово «черный», равно как не сумел бы сказать: «На тебя я пялюсь, урод, что, не видишь?». Так или иначе, Мингуса никогда не оказывалось поблизости. Семи- и восьмиклассники собирались где-то на Корт-стрит, и Дилан, отделенный от них целым кварталом, миллионом лет и миллионом нерешительных шагов, терзался в одиночестве.
Авраам достал подгоревшие тосты и взял тонкую стопку открыток — осторожно, чуть не роняя их на пол и хмуря брови, словно прикоснулся к чему-то ветхому или сгнившему. Разложив открытки на обеденном столе, он внимательно изучил пальцы, проверяя, не остаюсь ли на них запаха или пятен. У него возникло ощущение, что открытки заражены каким-то злом и их можно избавить от пагубы, если протереть или, наоборот, чем-нибудь смазать — маслом или апельсиновым желе. Казалось, они так и просятся в помойное ведро. Но Авраам отдал их сыну.
— У тебя есть знакомые в Индиане?
Мальчик пришел завтракать уже с рюкзаком за спиной, как всегда, опаздывая. Отец и сын жили как два старика — уходили к своим будильникам, в спальни, и встречались только за завтраком. Дилан просыпался под радио, настроенное на новости. Позывные сигналы и слоган «Новости весь день» проникали сквозь стену в спальню Авраама будто из отягощенного головной болью сна. Дилан жил в тревожном мире, его нервная система, казалось, превратилась в какой-то оцепеневший механизм. Сев на стул — рюкзак уперся в спинку, — он посмотрел на открытки и залпом выпил сок из стакана.
— Первая пришла месяц назад, — сказал Авраам. — Та, на которой краб.
Авраам отметил для себя, что должен купить сыну новые ботинки. Дилан моментально превращал обувь черт знает во что, надевал и снимал, не развязывая шнурки, внутренние края подошв стирались из-за того, что он косолапил. Ортопедические ботинки так и не исправили его походку. Ему хотелось каждый день носить кеды, только кеды — они были у всех детей. Разговаривал он дерзко, и Авраам понимал, что эта дерзость порождена не чем иным, как унижением, желанием защититься, каждодневными испытаниями, школой. Авраам купил ему кеды, но настоял, чтобы Дилан продолжал носить коричневые ортопедические ботинки, которые выглядели как штиблеты пятидесятых. Два дня — кеды, три дня — ботинки, так они договорились.
Дилан молча просмотрел открытки.
— Тост подгорел. — Он взял открытку с изображением краба, покрутил в руке, прочел надпись на обороте, нахмурился и уставился на изображение — ярко-красного краба на желтокоричневом песке. Очки съехали на кончик носа, и он вернул их на место большим пальцем — ловким жестом, характерным для вечного беглеца. Ребенок таил в себе множество секретов.
— Дай-ка мне очки, — сказал Авраам.
Дилан без слов снял очки и протянул отцу. Авраам достал из выдвижного ящика маленькую отвертку и подтянул винтики, крепившие к оправе дужки. Очки были дрянь, хлипкий пластик. Авраам нахмурился, еще крепче затянул винты. Он вдруг пожалел, что не забрал подозрительные открытки в свою студию и не внес в них какие-нибудь исправления: не убрал отпечатанные на машинке буквы и не написал тонкими кисточками другой текст, менее загадочный, более наполненный смыслом, не покрасил огненно-красного краба в естественные зелено-коричневые тона. Неужели эти идиоты не знают, что краб становится красным только после варки?
Когда пять недель назад пришла первая открытка, Авраам изучал ее, наверное, целый час. Имя Дилана, адрес и послание были напечатаны на машинке. На марке красовалась копия «Любви» этого шарлатана Роберта Индианы, а текст, в котором отсутствовали заглавные буквы и знаки препинания, гласил:
краб боком бежит на запад он любит траву свежую душистую травку сны русалок из тихого океана будь молодцом когда-нибудь они приснятся и тебеПодписи не было. Марку погасили в Блумингтоне, штат Индиана, Аврааму это ни о чем не говорило. В последующие недели пришли еще три открытки. Вторая тоже из Блумингтона, по двум другим можно было судить о перемещении отправителя на запад — в Шайенн, штат Вайоминг, потом в Финикс, штат Аризона. На всех открытках была наклеена «Любовь», текст везде отпечатан, но последние две отличались от первых проставленной под безумным текстом подписью, тоже напечатанной: «Бегущий Краб». Авраам прочитывал послания Бегущего Краба в бешенстве, от которого глупые фразы начинали плясать перед глазами. Но как бы то ни было, присылали открытки не ему.
Он повторил свой вопрос, сознавая, что пытается силой вытянуть из Дилана ответ, но не в состоянии ничего с собой поделать:
— У тебя есть знакомые в Индиане?
Дилан не ответил. Молча собрал открытки, как колоду игральных карт, и сунул в рюкзак. Наверное, решил ознакомиться с посланиями позже, в одиночестве. На лице не было удивления.
— Мне следовало отдать их тебе сразу же. Впредь так и буду поступать. Если тебе опять пришлют открытку.
Дилан взглянул на него. Очки теперь сидели на месте.
— Уже прислали. Целых две. Я получил их в субботу.
Теперь уже Авраам ничего не ответил.
Выйдя из дома и удостоверившись, что отец не выглядывает из окна гостиной, Дилан, стоя на нижней ступеньке крыльца, снял рюкзак. В нем лежали кеды — темно-синие, с красно-белыми резиновыми полосками на толстых подошвах. Если нажать на полосы пальцем, они пружинили, будто новенький сполдин. Сегодня никто не пропоет ему «Бракованный, как твои ноги? Бракованный, смотри на дорогу!». Потому что в кедах Дилан не был бракованным. Он также снял очки и засунул в рюкзак, туда, где лежали шесть открыток от Бегущего Краба — две вытащенные им из почтового ящика и четыре полученные от отца. Три из них он еще не прочитал и собирался изучить попозже. Послания казались забавными, но не имели никакого отношения к его жизни и напоминали старые телешоу, «Остров Джиллиган» или «Мистер Эд», которые ты быстро забывал, но смотрел всегда, гордясь тем, что очень редко они вызывали у тебя смех или даже улыбку.
Переобувшись в кеды, Дилан и не подумал засунуть в рюкзак ботинки. С ними не следовало приближаться к школе. Он нашел для них место на клумбе под беспорядочно разросшимися цветами Рейчел, в специально вырытом углублении. До его возвращения из школы в ботинках поселялись жуки и скапливалась разная труха. Эти безбожно старомодные ботинки напоминали о гадком прошлом, и в земле им было самое место. Их называли «таракашками», потому что они и впрямь походили на коричневых тараканов. То, что Дилану до сих пор покупали лишь такие, усугубляло его незавидное положение. Было бы здорово, если бы ботинки сами обо всем догадались, отрастили бы крылья и улетели, подобно птицам, исчезли бы, как динозавры. Или превратились в черепах и уплыли в океан. Но ничего подобного не происходило, и Дилан прятал их в земле между цветами, за которыми никто теперь не ухаживал. Под защитой листьев туфли не видели солнечного света, и им так было лучше. Если бы Бегущий Краб написала на открытке свой адрес, Дилан отправил бы ей ботинки по почте. Пусть себе с разбегу прыгают в океан. Что до Дилана, он предпочитал кеды.
Весной, когда учеба почти подошла к концу, они вновь нашли друг друга. Все произошло само собой, словно вовсе и не было шести месяцев разлуки. Мингус носил куртку защитного цвета, хотя на улице уже стояла теплынь, и бряцал провалившейся через рваные карманы за подкладку всякой всячиной. Сзади на куртке красовался тэг «ДОЗА», окруженный звездами и направленными вниз стрелами. Дилан никак не откомментировал это. В тот день он забросил рюкзак на крыльцо дома Мингуса, и они вместе зашагали по Дин-стрит — теперь на удивление пустой, забывшей о сполдине и скалли. Ребята, с которыми раньше тебе доводилось играть, теперь вращались в каких-то компаниях или состояли в группировках. Показывались на улице только Марилла и Ла-Ла, но при встречах они будто не узнавали тебя или были слишком увлечены пением: «Мне восемнадцать, и у меня есть пистолет, палец ложится на спуск, я выстрелю, в этом сомнений нет…»
Дилан и Мингус молча направились в сторону Бруклин-Хайтс: оставили позади Дин, прошли Гованус Хаузис и Уикофф-Гарденс, обогнули Корт-стрит и школу № 293. Проскочив мимо Казенного дома, они вошли в Хайте со стороны Шермерхорн-стрит. На здешних тихих, затененных улочках, застроенных старинными домами, — Ремсен-стрит, Генри, — всегда царил мир и не устраивалось бандитских разборок. В особенности на Ремсен, похожей на парк-дендрарий, — с ее аккуратными домиками, уютно устроившимися в сени деревьев. Неярко освещенные потолки гостиных сияли сквозь занавешенные окна, как сливочное масло, металлические панели на дверях и ручки тускло поблескивали, будто карнавальные украшения, номера и название улицы казались вырезанными на серебряных и золотых пластинах. Каждое крыльцо выглядело как вход в замок. Это была гордость Бруклина, о такой жизни, как здесь, Бурум-Хилл мог только мечтать. Дилан все время смотрел по сторонам, но никого не видел.
Дойдя до Монтегю-стрит, они затерялись в толпе. Было три часа дня, учащиеся школ «Пэкер», «Френдз» и Сент-Энн возвращались домой. У «Бургер Кинг» и «Баскин Роббинс» собирались шумными компаниями дети — мальчишки и девчонки, все в рубашках «Лакосте» и вельветовых брюках, замшевых куртках, завязанных на поясе. Рюкзаки вместе с флейтами и кларнетами в кожаных футлярах лежали на асфальте. Парни увлеченно флиртовали с девочками, поэтому Мингус и Дилан прошли сквозь толпу никем незамеченные, будто два рентгеновских луча.
Неожиданно одна из светловолосых девочек с замысловатым поясом на талии шагнула в сторону и окликнула их. С широко распахнутыми от собственной смелости глазами она достала сигарету.
— Огонька не найдется?
Ее друзья разразились смехом, но Мингус, не обратив на них ни малейшего внимания, повел себя очень естественно. Достал откуда-то из подкладки ярко-синюю зажигалку, щелкнул, появился язычок пламени. Откуда девчонка узнала, что у него есть зажигалка? Дилан не мог этого понять. Девочка наклонила голову, прищурила глаза — взгляд теперь стал надменным — и убрала за ухо прядь волос, чтобы не вспыхнули от огня. Потом повернулась к ним спиной, и они, больше не нужные, продолжили путь.
Дети из Хайте не заводили знакомств с посторонними, довольствуясь общением друг с другом.
Гуляли в Хайте обычно на окраине парка, возвышавшегося над автострадой Бруклин-Куинс и верфью — надутой губой Бруклина. Старики и старушки, примостившись на пеньках, мирно клевали носами или неподвижно сидели на скамейках, зажав в руках газеты и глазея на скучные шпили Манхэттена — темные иглы на фоне изменчивого горизонта. За Манхэттеном простирался залив, над медленно скользившими по воде судами и похожей на игрушку статуей Свободы нависал желтый дым Джерси. Дилан и Мингус были как детективы — двигались по следу, читая на фонарных столбах, почтовых ящиках, боках запыленных грузовиков выведенные маркером или просто пальцем надписи.
«РОТО I», «БЕЛ I», «ДИЛ», «ОНС», «СУПЕР СТРАТ», «БТЭК».
— Операция нон-стоп, — переводил Мингус, разгадывая буквосочетания. Взгляд его затуманился. — Банда танцоров экстра-класса.
По сути, эти метки были как и все в жизни: наслоениями кодов, меняющихся или вообще исчезающих.
Рото, Бел и Дил — это парни из группировки «ДМД», шутники из Атлантик-Терминалс — жилого массива напротив Флэтбуш-авеню.
«Суперстрат» — название какой-то школы. Тэги могли казаться смешными, однако ты проникался к ним уважением.
Над некоторыми было приписано издевательское «ТОЙ», что означало «желторотик», «простофиля».
Надпиши «ТОЙ» над тэгом «ДМД» и получи по шее.
Мингус запустил руку в карман и выудил из подкладки «Эль Марко» — чудесный маркер, длинный стеклянный пузырек с завинчивающейся крышкой. Внутри него плескалась фиолетовая жидкость. Мингус отвинтил крышку и проставил метки в нескольких местах, надавливая на маркер с такой силой, что струи фиолетовых чернил, смачивавших толстый пишущий наконечник, потекли по руке, запачкав светлую ладонь и край рукава. Проведя мысленную аналогию с кисточками отца, зубцами спирографа и крышками для скалли, Дилан почувствовал приятное возбуждение.
«ДОЗА» Мингуса устремилась вверх по фонарному столбу. Рука его двигалась уверенно, почти автоматически.
Этот тэг был ответом, обращением к тем, кто мог его услышать, подобием лая собак, понимающих друг друга, не видя, из-за оград хозяйских домов. Ярко-фиолетовым ответом. Буквы волнующе пахли и немного растекались. Каждый раз, дописав последнюю «А», Мингус бросал «Эль Марко» в карман, хватал Дилана за локоть, и они торопливо уходили дальше — по диагонали, чтобы сбить со следа преследователей, которых скорее всего не существовало. Их дорога превращалась в зигзагообразную фразу, состоящую из одного слова «ДОЗА», выводимого в любом удобном месте.
На глазах у призрачной толпы мальчик-невидимка раздавал автографы всему миру.
Длинная аллея парка заканчивалась заброшенной детской площадкой с качелями и горкой. Мингус остановился у первых качелей и написал «ДОЗА» на металлической опоре: получилось особенно ярко, с каждой буквы потекли вниз струйки.
Он протянул «Эль Марко» Дилану. Фиолетовый, мажущий пальцы пузырек перекатился в ладони как спелый фрукт, как слива.
— Пиши, — сказал он. — Только быстрее.
— Что писать?
— Ты что, еще не придумал себе тэг? Ну так придумывай.
Вендльмашина, Хреноберт, Доза. Правильно написано в комиксах «Марвел»: мир состоит из секретных названий, тебе нужно лишь разыскать свое собственное.
Белый парень? Омега?
— Диллинджер, — сказал Дилан. Взгляд приклеился к «Эль Марко», но брать маркер у Мингуса он почему-то не торопился.
— Слишком много букв. Лучше Дилл или Ди-один.
На площадку вкатила поскрипывавшую коляску няня-филиппинка. Мингус опустил маркер в карман и наклонил голову.
— Уходим.
Ты бежал от высокой женщины с ребенком в коляске, охваченный необъяснимой паникой. А настоящая угроза пригвождала тебя к месту, превращала ноги в негнущиеся палки. Двигались только руки, извлекая из карманов деньги.
Мингус рванул к изгороди, окружавшей площадку, подтянулся и мигом очутился наверху. Дилан попытался последовать его примеру и повис, схватившись за верх ограды. Мингус потянул его за руку, Дилан вскарабкался. Они свалились на землю по другую сторону ограды, как мультяшные коты в мешке.
— Черт! Слезь с меня!
Дилан разыскал в траве упавшие очки, Мингус отряхнул куртку и брюки, будто Джеймс Браун, смахивающий с костюма воображаемые пылинки. Он улыбался, глаза блестели. В жестких курчавых волосах застрял обрывок зеленого листика.
— Вставай, сынок, мы на земле! — Забавляясь, Мингус называл его «сынком» — низким голосом, подражая не то Редду Фоксу, не то Фогорну Легорну.
Он протянул Дилану руку, помог подняться.
Было что-то особенное в этом физическом соприкосновении — вся накопившаяся в тебе тайная нежность как будто нашла выход. Она не имела ничего общего с сексуальностью и являлась естественной реакцией на смешную ситуацию. И была полезна. Как взаимные тычки — детям-итальянцам с Корт-стрит.
Дилан хотел было убрать лист из волос Мингуса, но не решился.
Они направились по дороге к безлюдному месту — склону, заросшему кустами и деревьями, которые здесь, в конце Бруклин-Куинс, буквально задыхались от выхлопных газов. Машинам, шумевшим внизу, не было до растительности никакого дела. Несчастный клочок земли покрывали сигаретные окурки, бутылки и старые шины. Еще один островок запустения, заброшенный дом, где правят тайные силы. Даже Хайтс окружала мусорка — это было привычно, без этого уже никуда.
Мингус и Дилан вновь занялись исследованием. Изучили шестифутовые буквы на каменной стене, поднимавшейся снизу почти на высоту парка. Буквы были тщательно вырисованы и наиболее эффектно смотрелись с дороги. Приятели направились в ту сторону, чтобы оценить искусство художника по достоинству. «МОНО» и «ЛИ»: таинственная парочка побывала и здесь.
Мингус прижался спиной к расписанной стене, вытащил синюю зажигалку и поднес пламя к курительной трубке — тоже извлеченной из-за подкладки куртки. Наклонив голову и сосредоточенно сощурив глаза, Мингус втянул в себя дым и плотно сжал губы. Из носа поплыли сизые струйки. Он кивнул и выдохнул.
— Травки хочешь?
— Не-а. — Дилан постарался произнести это слово непринужденно, так, будто с легкостью мог ответить и «да».
Внизу, на дороге ревели грузовики — плотная, движущаяся стена. На них тоже пестрели надписи, сделанные в других районах города, — послания, разносимые не имевшими о них понятия курьерами, словно вирус.
— Я взял траву у Барретта. Он хранит ее в морозилке.
Теперь Мингус называл отца Барретт. Для Дилана, возможно, наступал решающий момент, ему вдруг показалось, что где-то близко разгадка. Позже, оставшись один на один с собой, он шепотом повторит много-много раз: «Авраам, Авраам, Авраам…»
— А твой отец об этом знает? — спросил он.
Мингус покачал головой.
— У него этой штуки так много, что он ничего и не заметит.
Мингус опять щелкнул зажигалкой, и чашечка трубки осветилась оранжевым, а трава негромко затрещала. Дилан постарался скрыть свою зачарованность.
— Ты когда-нибудь пробовал курить травку?
— Конечно, — солгал Дилан.
— В этом нет ничего особенного.
— Знаю.
— Каждый кайфует по-своему — так говорит Барретт.
«Ка-аждый кайфует по-сво-оему», — прозвучало в голове Дилана музыкальным отголоском той фразы, нараспев произнесенной Барретом: «Ма-ать ушла-а, а парень держится молодцо-ом».
— Да я ничего и не говорю, сам часто курил, просто сейчас неохота.
— Часто? — осторожно переспросил Мингус.
— Ну да. Мать любила марихуану. — Едва слова слетели с губ, он понял, что предал Рейчел, выбросил ее, как старую крышку для скалли, которую совсем не жалко.
Подыскивая подходящие выражения, притворяясь безразличным, ты открывал для себя истины, которые давно знал. Все было сплошным каламбуром.
Бегущий Краб любит травку.
— А моя мать ушла от Барретта потому, что он курил марихуану, — сказал Мингус. Еще чуть-чуть, и он заговорил бы о своей личной трагедии, но внезапно умолк. Наверное, заводить речь о матери, даже о своей собственной, было ошибкой, которая могла безнадежно испортить остаток дня.
Ты с блеском все провалил. С губ слетела коротенькая фраза, и небо над головой застлал мрак. А вот слова «школа № 293», «белый» или «черный» ты никогда не позволял себе произнести вслух, считая это законом — может, зря.
Наверное, людям следовало бы изобрести еще один язык. На котором можно разговаривать, например, о таких вещах, как избиение Роберта Вулфолка Рейчел — о чем ты как будто и не помнил. С чем сталкивался вновь и вновь. И чувствовал себя припертым к стене.
Белый мальчик, шестиклассник, поеживающийся под злобными взглядами. Тяжкое бремя унижения.
Мама.
Мингус убрал трубку. Они поднялись в гору, перебрались через ограду и в хмуром молчании направились по Пьеррепонт домой. Дилан чувствовал, что теперь с удовольствием взял бы у Мингуса «Эль Марко», отвинтил крышку, выбрал бы среди миллиона слов свою метку-граффити и, пачкая пальцы фиолетовыми чернилами, вывел бы ее на всех столбах. Но Мингус больше не доставал «Эль Марко». Он шел, засунув руки в дырявые карманы, сжимая в кулаках их содержимое, чтобы не гремело при ходьбе.
Он шагал чуть впереди. В курчавых волосах все еще зеленел листик.
А вообще-то Дилан ничего не сумел бы придумать. Пока.
Наверное, Мингус ловил кайф и размышлял о чем-нибудь запредельном, о какой-нибудь Негативной зоне. Переживал очередную омерзительную стадию развития, как выразился бы Бен Гримм, более известный как Существо.
До возвращения сына из школы он решил не заглядывать в почтовый ящик, позволить мальчику вытащить открытку от Бегущего Краба, если она пришла, и спрятать у себя в комнате. Корреспонденция пролежала в ящике до самого обеда. Авраам, спускаясь из студии вниз, на кухню, чтобы выпить кофе и перекусить, сдерживал себя, не желая знать, лежит ли среди писем и других бумаг очередная открытка. Только после того, как Дилан принес содержимое почтового ящика, разбросал по полу и ушел к себе, Авраам взял счета, письма, объявления о выставках и все прочее, что пришло ему в этот день.
Вечером, когда Дилан пришел на кухню с намерением заняться здесь уроками, Авраам заметил в ящике небольшой пакет. Посылка от его нового работодателя. Авраам сразу догадался, что в пакете, и долго стоял с ним в руках, одурманенный гордостью и жгучей злобой, вглядываясь в желтую бумагу сквозь туман в глазах. Когда он наконец разорвал пакет, его окатило волной ненависти к себе, он ощутил неодолимое желание разорвать эту чертову книжку, даже не посмотрев на нее.
«Волнующий цирк» Р. Фреда Вандейна — первая книга, изданная в серии «Нью Белмонт Спешиалс», с мудреной характеристикой «Расплавляющая мозги фантастика для поколения „рок-н-ролл“». Художник Авраам Эбдус. На обложке — изображение планеты или луны, или мозга, раскрашенные в кричащие цвета биоморфные существа с внешностью, позаимствованной частью у Миро, Танги, Эрнста и у самого Питера Макса. Художественный отдел «Белмонт Букс» определенно переборщил с ярко-желтыми буквами, которые читатель должен был воспринять как надпись на экране электронно-вычислительной машины. Авраам вдруг пожалел, что не придумал себе какой-нибудь псевдоним для этой работы, что-нибудь вроде А. Зануда или «Убить идиота». Цвета, положенные на бумагу его собственной рукой, резали глаза.
Авраам отнес книгу на кухню, собираясь мимоходом положить ее на стол перед Диланом, но в порыве раздражения разжал пальцы немного раньше. Книга упала на пол и скользнула к ногам Дилана. Тот повел бровями, заглянул под стол.
— Что это? — спросил он.
— Моя первая изданная книга, — ответил Авраам, не в силах справиться с досадой.
Дилан молча поднял книжку и направился в гостиную. Авраам вытащил из холодильника упаковку замороженных бараньих стейков, положил в раковину, включил воду. Достал несколько луковиц и непонимающе уставился на них. Через несколько минут, не выдержав, вышел из кухни и заглянул в гостиную. Дилан сидел в углу дивана, склонясь над «Волнующим цирком», и даже головы не поднял. Он читал книги так, будто участвовал в какой-то тайной операции, — сосредоточенно хмуря брови, пропуская несущественные описания, видя лишь основное, разделяя содержание на голые факты и броскую чушь. Дилан не читал книги, а проглатывал.
Авраам вернулся на кухню. Порезал лук, положил мясо в сковороду. Когда ужин был на столе и Авраам уже собирался позвать сына, тот пришел сам, держа в руке кричаще яркую книжку.
— Неплохо, — сказал он. По интонации Авраам понял, что ему попадались и намного более ужасные книжки. Дилан вдруг наклонился и, издеваясь, положил книжку на то место, куда она отлетела, брошенная Авраамом. Затем кашлянул в кулак и сел ужинать.
Книга пролежала под столом, между ногами отца и сына все время, пока они ели. Поужинав, Дилан отправился смотреть по телевизору «Человек на шесть миллионов долларов», а Авраам поднял книгу, отнес в студию и положил на полку, заставленную баночками с краской. Вскоре у «Волнующего цирка» должна была появиться компания: Авраам успел оформить еще три книжки той же серии, а сейчас работал над четвертой. На столе у дальней стены лежал набросок картинки. Но сосредоточиться на ней он сейчас не смог бы.
Авраам взял тонкую кисточку, обмакнул в краску и устремил взгляд на кусок целлулоида с прерванной любимой работой. В цветовом плане развитие сюжета фильма подошло к мистическому моменту очищения души в аду. Мельчайшими черно-серыми черточками, мазками и затенениями он выделил небо нал, горизонтом — центральной линией кадра; ниже этой линии царили белый и серый. Картинка отличалась приглушенностью красок, как будто пала духом, потеряла надежду, узнав, какой ей вынесен приговор. Она знала, чем занимался теперь Авраам. Сначала от него потребовали обилия кроваво-красного, потом — коричневато-желтого…
«Нью Белмонт, Спешиалс» было адом. Авраам решил, что вложит в оформление этих книжек все самые низменные свои чувства. Это было вызвано необходимостью развлечься, заняться чем-то другим, а не только сотворением фильма и созерцанием в нем обнаженной правды, — фильму же это будет только на пользу, он станет чище. Рисование книжных обложек — от осознания этого у него невыносимо дрожали руки — кара за отказ от карьеры художника. Похоже на поднявшегося из фоба мертвеца. И в то же время это могло помочь усовершенствовать его незаконченный, скрываемый от всех фильм.
В этот летний день мальчик-крот, отважившись на привычный риск, появляется на улице один. Его доллар, свернутый в несколько раз, спрятан в ременной пряжке, а в кармане лежат две отвлекающие монеты по двадцать пять центов. Еще пятьдесят центов он запихнул в носок. Найдут так найдут. Все как обычно. Если не считать поселившегося в кармане брюк пишущего существа и волнительного покалывания в руках. Он завел собственный «Эль Марко», черный, как непроглядная ночь, еще ни разу не опробованный. Купил его в прошлую субботу на Кенел-стрит в «Перл Пейнт» вместе с набором бумаги для эскизов и длинной металлической коробкой цветных карандашей. Авраам ничего не сказал по этому поводу.
Суббота, пятое июня, еще нет и десяти утра. Шестой класс позади — как и филиал школы № 293. Год в черепашьем панцире, в неестественной позе, сплошная ошибка. Какой смысл переходить в другую школу, если проучишься в ней один-единственный год? А впрочем, это уже не имело никакого значения. Ты думал только о будущем, о седьмом классе в основном корпусе на Корт-стрит, в одной школе с Мингусом, который был на год старше. Там тебе должны были представиться отличные возможности. Наверное. Седьмой класс. Еще немного терпения. Скорее бы. Как глупо со стороны мальчика-крота, уже начинающего думать о девочках — белых девочках, как незабвенные Тея и Ана Солвер, — надеяться на избавление от унижения. Бедное создание без опоры под ногами!
Он готовился к принятию в компанию Мингуса. Мечтал заработать репутацию, сделать себе имя. В десять часов субботнего утра большинство школьников Дин-стрит еще сидели в пижамах перед черно-белым экраном, смотрели «Мерри Мелодис». В этот час о себе давал знать лишь химзавод на Берген, распространявший по всей округе жуткое зловоние. Даже пуэрториканцы еще не собрались у магазина Рамиреза. Автобус, залитый летним солнечным светом, ехал совершенно пустой. Это утро прекрасно подходило для объявления миру своего нового имени.
Но мальчик-крот передвигается с обычной осторожностью. Утро на дворе или ночь — какая разница? Он не знает, как объяснит наличие в кармане «Эль Марко», если столкнется с хулиганами. Эта штука все равно что украденный паспорт — вещь, до которой он еще не дорос.
Оглядываясь по сторонам, мальчик-крот шагает в сторону Невинс. На Пасифик-стрит, между Невинс и Третьей, находился небольшой парк. Даже не парк, а просто кусок земли, не засаженной деревьями, с глубокой песочницей, турникетом из покрытых толстым слоем лака брусьев, традиционными качелями и горкой. Детскую площадку покрывали квадраты черной резины, соединенные петлями, напоминавшие фрагменты паззла. Всюду было битое стекло, окурки, засохшие лужи мочи — немые свидетельства настоящей жизни парка. На горке, качелях, валявшихся урнах и трех кирпичных стенах, огораживавших территорию, пестрели нанесенные распылителем и маркером тэги. Если кто-нибудь, пусть даже обутый в кеды, отваживался войти в это царство хаоса или хотя бы приблизиться к нему, ему было по меньшей мере не по себе. Но мальчик-крот решает, что это его шанс, и, оглянувшись по сторонам, отваживается проникнуть сюда.
Достав «Эль Марко» из кармана брюк, он ищет свободное место. Не исписана в этом парке лишь нижняя сторона горки, у самой земли — залезть туда не то чтобы сложно, но почти невозможно. Мальчик-крот опускается на колени, втискивается в щель под горкой и открывает свой «Эль Марко». Свежие черные чернила пахнут одуряюще. Мальчик-крот знает, что сейчас напишет. Целых две недели он упражнялся, выводя заветные буквы — ручкой на школьной парте, маркером «Шарпи» на папке для бумаг, пальцем в воздухе.
Нет, ничего не получится.
Потому что именно сюда с крыши упадет сегодня летающий человек.
Первое, что замечает боковым зрением мальчик-крот, — чья-то черная тень у кирпичной стены, тень огромной птицы или крысы. Что-то падает, точнее, кто-то — человек. Тяжелое дыхание, шумный выдох, похожий на стон.
Мальчик вздрагивает, выпуская из руки «Эль Марко». Лежащий в тени под горкой, он лихорадочно соображает, сможет ли остаться незамеченным.
Нет, не сможет.
— Белый мальчик, — доносится до него. — Что ты тут делаешь?
Летающий человек огромен, он всего в нескольких шагах. Сидит на резиновом квадратике, прислонившись к стене спиной, согнув ноги в коленях, потирая обеими ладонями правую лодыжку. Темная кожа узловатых крепких рук и щиколоток — на нем нет носков, только красные стоптанные кеды — чешуйчатая, псориазная. Он в серых от грязи джинсах и рубашке, когда-то белой. Манжеты порваны, одна пуговица висит на нитке. За спиной у него накидка из простыни, завязанная узлом на шее, прямо как у мальчика из «Где прячется дикость», только в желтых пятнах. Естественно, ребенок-крот думает: кто-то на эту простыню помочился. И пахнет летающий человек мочой — сильнее, чем сам парк.
Человек опять издает стон, продолжая потирать лодыжку. На лице щетина и оспины — глубокие ямки. Нос сломан и смотрит вбок, белки глаз тоже желтые, и кажется, будто он странным образом помочился себе в глаза.
Дилан не произносит ни звука — молча таращит глаза. Летающий человек кивает на упавший «Эль Марко».
— Изгаживаешь стены каракулями? Я все видел.
— Ты упал сверху, — сказал Дилан.
— Не-ет, дружище, я прилетел сверху, — ответил летающий человек. — Вывихнул чертову ногу, мать ее так. Совсем разучился приземляться.
— А… как ты летаешь?
— Ну, конечно, не с помощью этой ерунды. — Летающий человек показывает на простыню, развязывает узел на шее, комкает ткань и бросает в сторону, на кучу битого стекла. — Из-за нее я только запутался, ногу повредил, черт. Только испортила все.
Дилан выбрался из-под горки и нерешительно приблизился к маркеру, откатившемуся по резиновым квадратам в сторону.
— Не бойся, поднимай. Мне эти ваши каракули без разницы. Плевать мне на них.
Дилан схватил маркер, завернул колпачок и убрал в карман. Летающий человек что-то бормотал самому себе.
— Эй, мальчик, у тебя не найдется доллара?
Дилан снова вытаращил глаза. Летающий человек обнажил в усмешке зубы — мелкие и редкие. Десны — коричнево-красные.
— Ты что, онемел, парень? Я спросил, нет ли у тебя доллара.
Мальчик-крот чувствует нечто схожее с облегчением. Дело принимает привычный оборот. Он машинально засовывает руку в карман, одновременно раздумывая, что же все-таки происходит, и вспоминая звук падения человека. Взгляд устремляется вверх, на крышу трехэтажного дома. Он прилетел оттуда?
Если бы не летающий человек, смотреть сегодня было бы не на что. В парке пусто, по Пасифик-стрит никто не идет в твою сторону с намерением поизмываться.
Летающий человек поднялся на ноги, Дилан протянул ему пятьдесят центов и тут же отшатнулся, подальше от нестерпимой вони.
Человек зажал монеты в руке и повернул серебряное кольцо на пальце, пристально глядя Дилану в глаза. В складках на шее у него что-то белое, как будто он купался в соленой воде.
— Когда-то я здорово летал, — сказал летающий человек.
— Я видел тебя, — почти шепотом ответил Дилан, внезапно все поняв.
— А теперь не могу, — гневно произнес летающий человек и облизнул губы. — Черт, как же их там… — Он пытался вспомнить какое-то слово. — Воздушные волны — они все время сбивают меня.
— Воздушные волны?
— Да. Теперь я не задерживаюсь в воздухе. Вот в чем беда, приятель. — Он посмотрел на блестящие монеты в руке — будто осколки зеркала на грязной дороге.
— И это все? Все, что у тебя для меня нашлось?
Дилан расстегнул ремень, достал доллар и, не разворачивая, бросил на грубую, всю в трещинах, ладонь летающего человека.
— Ха! Ты в самом деле видел, как я летал?
Он головой показал на далекие крыши Пасифик и Невинс, муниципальную школу № 38 и возвышающиеся за ней верхушки домов Уикофф. В светло-голубом небе кружили чайки, живущие на Кони-Айленд или Ред-Хук.
Дилан кивнул и направился прочь из парка.
Глава 7
Очередную открытку от Бегущего Краба снова проштемпелевали в Блумингтоне, штат Индиана, дата — шестнадцатое августа 1976 года. Это была черно-белая фотография Генри Миллера на пляже в Биг-Сур — голого, лишь с полотенцем на бедрах, улыбающегося, с дряблыми мышцами груди и выгоревшими бровями. Чуть в стороне стоит величественная черноволосая женщина в бикини и прозрачном платке. На камеру она и не глядит.
не позволяй себя дурачить ребенок с улиц бруклина никогда не сдается мечты о стикбольных триплах яичный крем и комиксы он воображает себя диком трейси она суперзвезда не просто венгра на раковине с любовью тихоокеанский крабОн смотрел на билеты так долго, будто хотел испепелить взглядом напечатанное на них имя этого ловкача. Какой-то придурок из «Артисте энд Репертори» прислал ему два билета на концерт паршивого Рея Чарльза в зале «Радио-сити». Очевидно решив, что он, Барретт Руд, примет за счастье возможность поглазеть на белых усыпанных блестками кошечек из «Рокеттс»[2] — с балкона! — и полюбоваться этим заносчивым джаз-козлом, стучащим по клавишам рояля и орущим «Боже, храни Америку».
Барретт Руд и выступать в «Радио-сити» никогда не имел желания, а уж торчать зрителем на балконе тем более.
Он раздвинул шторы в гостиной. Дин-стрит изнывала от жары и влажности. Раскаленный воздух будто распался на молекулы и был неподвижен, словно умер. Последние два часа тишину нарушали только звуки пуэрториканской музыки, доносившейся от магазина Рамиреза. Машины двигались по дороге как медузы, растворяясь в мертвой зыби воздуха.
На углу Берген и Невинс, в струе гидранта танцевали четверо темнокожих мальчишек, похожих на испуганных пауков.
Барретт Руд-младший положил билеты на зеркало, свернул в трубочку поднятую с пола долларовую купюру и вдохнул через нее кокаиновую дорожку, широко расставив ноги — если бы под ним лежал циферблат часов, большие пальцы показывали бы на десять и два. В последнее время он всегда так садился и наклонялся вперед, выгибая спину. В этом положении нюхать было особенно приятно — кокаин влетал в легкие, будто свежий ветерок.
К спасительной силе наркотиков прибегали многие потерпевшие неудачу музыканты. Нюхать кокаин было все равно что петь, с единственным отличием — участвовали в этом процессе совсем другие отделы живота и груди. И затягивал кокаин сильнее, чем музыка.
Не разгибаясь, Барретт снова посмотрел на билеты, настоящие и отраженные в зеркале, с невероятно черными буквами. Не исключено, что этот плевок в его душу — идея Кроуэлла Десмонда, так называемого импресарио Рея Чарльза. Когда-то Рей Чарльз не позволил «Сатл Дистинкшнс» принять участие в его концерте с песней, где были слова «Нечего донимать меня своим собачьим дерьмом». Об этом тогда не написали ни в одной газете. Мог ли Кроуэлл Десмонд, обосновавшийся в музыкальных кругах всего год назад, узнать об этом? Маловероятно. И потом, для такого хитро и ловко задуманного оскорбления Десмонду не хватило бы сообразительности.
Барретт глубоко вдохнул, так что струя кокаинового воздуха, казалось, достигла самого низа живота. Почувствовав прохладу даже членом, он содрогнулся всем своим липким от пота телом.
Ниггер, подумалось ему. Ниг-гер. Мажор и минор, большая септима и малая.
В голове зазвучали обрывки мелодий, перед глазами поплыли образы темнокожих музыкантов.
Нет, билеты на концерт Рея Чарльза были лишь отголоском прошлого, прозвучавшим независимо ни от кого, предсмертным содроганием коллектива, который никогда и не жил самостоятельно, но всегда перед кем-нибудь пресмыкался. Напоминание о периоде жизни, сотканном из чистых случайностей. Тупицы из отдела звукозаписи были уверены, что уломают его поехать в Монреаль, записать с немецким продюсером «Сильвер Конвеншн» какую-то дрянь в стиле диско. Наверное, хотели превратить его в Джонни Тейлора, произвести на свет еще одну группу мальчиков в блестящих костюмах из спандекса — кумиров сексуально озабоченных домохозяек.
Двигай попой, девушка-диско!
Выведите меня на улицу и трахните в мою бедную черную задницу.
Ниг-гер, это подобно дыханию.
Возможно, из него сделали бы неплохое нечто с фальцетом Куртиса Мейфилда.
Месяц назад льстивые агенты притащили ему роскошный четырехдорожечный магнитофон с запиской на кремовой с золотом бумаге: «Я никогда не забуду, Барри, как ты сказал, что я достал тебя, но сдаваться не собираюсь. Амет». А ведь этот умник с белой бородкой и знать его не желал, пока в один прекрасный день, войдя в персональный, обшитый рейками лифт, случайно не услышал звучавшую где-то в коридоре их версию «Мантовани Стрингз».
«Атлантик» обвела его, солиста «Дистинкшнс», вокруг пальца, не выплатила ему большую часть гонорара, оставила в дураках. И зачем он только связался с этим Андрэ Дегорном и этими бездарными, никому не известными подпевалами, зачем взялся записывать с ними последний альбом — «Сатл Дистинкшнс любят вас сильнее»? Именно тогда он и выбыл из игры. Теперь его заманивали в сети для записи сольного альбома, как родственнички, названивающие с прозрачными намеками. Вернись и осыпь нас «зелеными». Магнитофон он поставил внизу, во владениях Мингуса, не собираясь им пользоваться. То же самое следовало сделать и с билетами.
— Гус, дружище, поднимись-ка ко мне. Хочу кое-что тебе отдать, — крикнул он, выйдя к лестнице.
Мингус явился к нему в футболке и в трусах, с заспанными глазами — и это в час дня. Склонив набок голову, он взглянул на кокаин, белевший на залитом солнцем столике под зеркалом — зловещий призрак отцовского кайфа.
Мальчик таращился на порошок, будто видел его впервые.
— Что? — спросил Барретт. — Хочешь побалдеть? — Он махнул на порошок рукой, с особой остротой ощущая ее тяжесть — знамя из плоти, рассекшее влажный воздух.
Ниг-гер, ниг-гер, где твой пистолет? Слова подошли бы к какой-нибудь песне, например, для фильма о гомосексуалисте по вызову. А может, принести этот чертов магнитофон сюда? Записать сингл, который ударил бы им по мозгам и сразу вспорхнул бы на самую вершину национального хит-парада благодаря слову «ниггер», еще не звучавшему в радиоэфире.
Мингус смотрел на кокаин целую вечность, потом покачал головой.
Барретт рассмеялся.
— Только не говори, что сам ничем подобным не балуешься у меня за спиной. В этом нет ничего постыдного.
— Прекрати.
— Знаю, почему ты злишься. Думаешь, я не должен нюхать при тебе.
— Я ничего такого не говорил.
— А вообще-то какая разница? У меня есть два билета на концерт старины Рея Чарльза в «Радио-сити». Если есть желание, забирай.
— А сам что, не хочешь?
— Сегодня не хочу. Возьми какого-нибудь приятеля и поезжайте.
Мингус взял билеты. Барретт потер нос и нижнюю губу костяшкой пальца.
— Рей Чарльз — фигура, Гус. Часть культурного наследия Америки, наш современник. Когда будешь рассказывать о его концерте знакомым, не забывай упоминать, что я с ним лично встречался. Кстати, на балконах там отличные кондиционеры. Съезди, отдохни с приятелем. Подальше от этой чертовой жары. Позови Дилана. Или того долговязого мальчишку, гм, как его? А, Роберт. «Радио-сити» поразит его.
Он проговорил все это на одном дыхании, утомленно-напряженным голосом и, замолчав, закрыл глаза, а когда снова поднял веки, Мингус стоял на том же месте и смотрел на билеты.
— Ну так что?
— А у тебя на сегодня другие планы?
— Это имеет какое-то значение?
Барретт в самом деле намеревался куда-нибудь сходить, например, в кинотеатр «Даффилд», на Фултон-стрит, посмотреть «Бинго Лонг — путешествие „звезд“» и «Автомойку». Спрятать от жары свою задницу — в темном прохладном зале без окон, с исправно работающей системой кондиционирования. Только не в «Радио-сити», где будет выступать наряженный в смокинг Рей Чарльз.
— Тебе не нужны эти билеты?
Мингус пожал плечами, почесал бок, задрав футболку, и уставился на отца, о чем-то размышляя.
— Ну, подумай, подумай. Возьми билеты, позвони Дилану.
— А если я их продам? Не возражаешь?
Теперь уже Барретт воззрился на Мингуса.
— Не возражаю. — Его охватило беспричинная, невероятная досада. — Неужели тебе ни капли не хочется съездить на этот концерт, а, Гус? Разве тебе нужны деньги на пропитание? Ведь я кормлю тебя.
Его досада лишь раззадорила в сыне дух противоречия, Барретт сразу это почувствовал. Если отец не желает слушать Рея Чарльза, с какой стати я должен переться на этот концерт? На тебя давили повсюду, особенно в такие вот моменты. Бруклин был тропическим лесом, звуками маримбы, рассыпанными в желтом воздухе, или, как сейчас, грохотом фургона «Софта», делающего остановки на Берген, Бонд, Дин, Пасифик и притягивающего толпу разморенных жарой детей. Манхэттен же был совсем другим городом, удаленным от Бруклина на сотню миль.
Барретт и сам с удовольствием сбегал бы за вафельным рожком, заполненным холодной сладкой массой. С этой его слабостью была связана иная история.
Но он не пошел к фургону мороженщика. Сидел и мысленно повторял под воображаемые звуки маримбы и тарахтение «Софти»: «Ниг-г-г-ге-р-р-р, ниг-г-г-ге-р-р-р». Слово из песни, которая — вы понимаете — никогда не появится на свет, так и останется просто словом, поднятой ветром пылью. Ктому же магнитофон слишком далеко, а домыслы неправдоподобны — как рожок с мороженым, как Манхэттен.
Не мечтай о журавле в небе.
Почему от кокаина всегда тяжелеют веки? Странно, нелепо.
И отчего Мингус не мог ответить на элементарный вопрос?
Когда Барретт открыл глаза, понял, что прошло несколько часов. Он просидел в кресле целый день. Мингус давно ушел неизвестно куда, забрав билеты. Барретт проснулся окруженный теменью, приклеенный жарой к кожаному сиденью, с мокрыми от пота шеей и лицом. Занавеску на окне трепал бесполезный сквозняк, облепивший песчинками кокаина края зеркала и часть порошка наверняка смахнувший на пол.
Вчера ночью Барретт посыпал кокаином водяной матрас — будто накрыл простыню еще одной. Ему захотелось убелить порошком весь дом, чтобы он находился под рукой в любую секунду и можно было просто наклониться к стене или понюхать ковер. Или пригласить сюда женщину, как губкой собрать ею кокаин и кайфовать, вдыхая с нее порошок.
А завязать с музыкой надо было раньше, еще до отправки Барретта Руда-старшего на север, в тюрьму.
Давай же, оторви от кресла задницу, сполосни шею холодной водой и выйди, наконец, из этого проклятого дома. На дворе почти ночь.
«Даффилд» был грандиозным дворцом-развалиной в стиле арт деко, наглядным примером того, что происходит, если в здании театра не наводить порядок целых пятьдесят лет, только продавать билеты, черствое печенье, крошки которого приклеиваются к полу, и колу, постоянно проливаемую на обтянутые тканью сиденья. На четыре убогих кресла здесь приходилось одно более или менее приличное. Остальные выглядели так, будто неоднократно подвергались вооруженному нападению разъяренных банд. На стенах меж золотистых херувимов — давно потемневших и лишившихся носов — краснел рваный войлок. В зале царил неестественный мрак. Красные лампы над входами не горели, в воздухе, освещенном огромным прожектором, плавал сигаретный дым, медленно поднимаясь к массивной люстре на облупившемся потолке. Широкоформатные фильмы не умещались на экране — с чернеющими пулевыми отверстиями, надписями «Страйк» и «Бел II» — и частью уползали на рваные шторы по бокам.
Барретт купил билет, вошел в зал и устроился на свободном месте под балконом. «Бинго Лонг» давно начался, может, даже подходил к концу. В прохладном воздухе отвратительно пахло. Огромный зал был заполнен на две трети, сидевшие группками зрители курили, смеялись, переговаривались и изредка поглядывали на экран. Из самых дальних и темных уголков раздавались повизгивания и стоны. Какая-то женщина на балконе, судя по звукам, рожала двойню, и никому не было до нее дела. Барретт попробовал прочность кресла и откинулся на спинку. Перед входом в кинотеатр он купил бутылочку «Кольта», пронес ее в коричневом бумажном пакете, даже не пытаясь спрятать от билетера. Вырвавшийся газ произнес что-то вроде «шафффф», зрители на ближайших сиденьях, услышав этот звук, наверняка подумали: «А я, болван, не додумался купить».
«Бинго Лонг» оказался совершенной дрянью. Явно переборщили с диксилендовским джазом, с Билли Ди Уильямсом, очевидно, вообразившим себя Редфордом в «Афере», и с Джеймсом Эрлом Джоунсом. Фильм быстро подошел к концу. Началась «Автомойка», и все казалось замечательным — галдящие зрители, прохлада, «Кольт», который, по счастью, не успел закончиться к началу второго фильма. Большинство зрителей пришли сюда в основном из-за «Автомойки», но с ее началом нисколько не притихли.
Он увидел их в перерыве, когда зал озарился светом. Черная курчавая голова, а рядом светлая, рядов через двадцать от него, почти у самого экрана, откуда изображение кажется чересчур увеличенным. Узнать их было легко — по синим кедам, упертым в спинки передних сидений. Видимо, Мингус позвал Дилана, да, скорее всего. И потащил его к «Радиосити», чтобы продать билеты. Загнали, наверное, за бешеные деньги каким-нибудь выряженным белым. И вернулись в Бруклин, решив сходить в кино. Точно Мингус прочел днем мысли отца. Хотя телепатия здесь совсем ни при чем. Любой нормальный человек в Бруклине пошел бы сегодня в «Даффилд», даже тот, которому утром принесли два бесплатных билета на концерт Рея Чарльза. Какой дурак не воспользуется возможностью посидеть в прохладном темном зале, поглумиться над «Бинго Лонг» в волнительном ожидании «Автомойки» и побалдеть под музыку саундтрэка «Роуз Ройс»? Присутствие здесь Мингуса говорило о том, что со здравым смыслом у него полный порядок.
Да, да, именно так все и случалось: одна-единственная песня могла разрушить человеческую жизнь. На одинокого парня насылалось музыкальное проклятие, и он бывал раздавлен, как крошечный жук. Песня, та самая песня, прилетала из ниоткуда, находила его, завладевала всем его существом. Становилась его чертовой судьбой, привязывалась к нему крепко-накрепко. Попсовая мелодия, которую слышишь буквально повсюду.
Или делалась дорожкой, ведущей к разрушению, превращалась в фатальный лейтмотив жизни. Все сужалось до ритма ударных, звучания непреклонной бас-гитары и посредственного вокала — подобия монотонного ржания, разбавляемого сладострастными стонами. Им подыгрывала туба или валторна, или ритм-гитара, или труба — громкая порой до нелепости. Создавалось впечатление, что певец подошел к тебе вплотную и приставил пистолетное дуло к твоему виску. Как такое могло произойти? Кто разрешал крутить это по радио? Эту песню следовало запретить. В ней не звучали расистские акценты — ты ничего не понял бы, не стоило даже тратить время, чтобы разобраться, — но она была направлена против тебя.
«Да, они танцевали и пели, позабыв обо всем, но вот кто-то крикнул…»
Каждый раз, выходя на улицу, тебе вслед орали слова этой песни. Страшно было даже подумать о том, что тебя ждет в новом учебном году.
Седьмого сентября 1976 года, когда Дилан только-только пошел в седьмой класс школы № 293 на перекрестке Корт-стрит и Батлер, песня «Уайлд Черри» «Сыграй фанки» заняла верхнюю позицию в ритм-энд-блюзовых чартах. А две недели спустя взобралась на вершину хит-парада журнала «Биллборд». Гимн твоих страданий, песня номер один.
Пропой сквозь стиснутые зубы: «БЕЛЫЙ ПАРЕНЬ!»
Забудь о буги-вуги, играй фанки, пока не умрешь.
Впервые Дилан встретился с Артуром Ломбом, когда тот имитировал приступ боли в дальнем конце двора. Дилан, ступивший на крыльцо, услышал крик и повернулся. Увидеть Артура Ломба было все равно что заметить среди сотни летящих на землю листьев падающую птицу или вспышку света. Или летающего человека — в общем, все, что Дилан желал и не желал замечать. Это случилось в тот момент, когда прозвенел звонок на урок, учителя физкультуры, следившие за порядком у школы, а за ними и толпа учеников исчезли внутри здания, и двор превратился в территорию без законов, — словом, в один из тех ужасных мгновений хаоса, которые время от времени случаются везде, даже в школьных коридорах. Мальчик, корчившийся сейчас на земле, совершил ошибку. Он оказался слишком далеко от крыльца и попал в лапы обидчиков. Ошибка, о которой Дилан никогда не забывал.
Артур Ломб стоял на коленях, держась за грудь, и стонал. В опустевшем дворе отчетливо слышались его слова:
— Не могу дышать!
Он еще раз повторил это, задыхаясь.
— Не! — Пауза. — Могу! — Пауза. — Дышать!
Артур имитировал приступ астмы или что-то вроде этого. Его мотивы были ясны: он хотел убедить всех в том, что и так страдает. Кто будет продолжать мучить мальчишку, который уже плачет? Беспомощное, никчемное создание. На сопротивление или терпение его не хватало, и это в каком-то смысле отталкивало. А может, он обращался к тому, кто только собирался его обидеть, к воображаемому грозному лидеру, намеревавшемуся над ним поглумиться. Или его в самом деле терзал приступ? Кто мог сказать? Тебе оставалось единственное. Бросить ему: «В чем дело, белый парень? Я даже пальцем тебя не тронул». И уйти.
Дилан оценил стратегию бедолаги, ощущая холодный трепет узнавания и жгучий стыд. В какой-то миг ему показалось: это его двойник, сменщик, и он втайне порадовался тому, что внимание толпы темнокожих шутников на перемене было обращено не к нему.
С этого момента рыжеватые волосы и опущенные плечи Артура Ломба постоянно попадались ему в школьном дворе на большой перемене — в другое время они не виделись, учась в разных классах. Артур носил яркие полосатые рубашки и светло-коричневые туфли. Брюки часто были ему коротковаты. Однажды Дилан услышал, как две темнокожие девочки дразнят Артура стишком, которым его самого никто не донимал уже с четвертого класса: «Потопа нет, сухи дороги, а он боится вымочить ноги».
У Артура был огромный ярко-голубой рюкзак — еще один предмет насмешек. В нем свободно могли уместиться все школьные учебники или два здоровенных булыжника. Если бы Артур не горбился, рюкзак все равно пригибал бы его к земле. Он светился, как мишень, словно упрашивал подойти к его хозяину, рывком опрокинуть на пол и еще раз полюбоваться сценой приступа. До того как они впервые заговорили друг с другом, Дилан видел этот спектакль пять раз. Однажды даже наблюдал, как ребята шлепают извивающегося на полу Артура по рыжеволосой макушке и напевают ту песню. «Сыграй-ка чертову музыку, белый парень!» Два последних слова звучали протяжно, издевательски, будто их произносил кролик Баггз Банни — «беллллыйййййпаррррень!»
В школе было еще трое светлокожих — все девочки, которым приходилось сталкиваться с совсем другими, девчачьими проблемами. Одна училась вместе с Диланом — черноволосая итальянка, миниатюрная и замкнутая, затюканная одноклассницами, вступившими в период полового созревания. Взрослеющие пуэрториканки и афроамериканки злились на все и вся, нападали в своей ярости и на учителей, и друг на друга. Маленький рост итальянки шел ей на пользу: так легче оставаться в толпе черных незамеченной. Классная комната была островком тишины спокойствия в царстве коридорных криков и гвалта, и Дилан никогда не разговаривал с одноклассницей-итальянкой. Что до Артура Ломба, они сторонились друг друга намеренно, повинуясь какому-то тайному инстинкту, чтобы их не сочли заговорщиками из-за похожести. Дилан усердно придерживался этой тактики, даже не будучи полностью уверенным, что она единственно правильная. Но и при таком положении он постоянно чувствовал страх Артура, смешанный с его собственным. И не торопился сближаться с ним, почти не желал его знать.
Они впервые столкнулись и наконец заговорили в библиотеке, где проводилось несколько совместных уроков двух классов, из-за того что заболел кто-то из учителей. Расписание изменилось, но многие просто проигнорировали это. Большинство отправленных в библиотеку учеников вовсе не явились на занятия, сочтя такое совмещение за освобождение от уроков.
В библиотеке школы № 293 царила мрачная, но какая-то умиротворяющая атмосфера. Дилан сел у стены под рекламой «Героя с бутербродом» — книги, которой в библиотеке никогда не было, — и раскрыл второй выпуск комикса «Побег Логана». На перемене Артур Ломб дважды пытался заговорить с ним и прочитать название комикса, затем поджал губы, притворился, что рассматривает книги на ближайшей полупустой полке, и будто между прочим обронил:
— Этот тип, Джордж Перез, никогда не сможет нарисовать Фарру Фосетт.
Заявление не могло не привлечь внимание Дилана. Он поднял голову и молча посмотрел на Артура, обмирая от любопытства и прекрасно понимая, что знаться с этим парнем ему нежелательно, что порознь им будет гораздо спокойнее, чем вместе. Артур часто моргал и вблизи выглядел каким-то ветревоженным, отчего Дилану тоже вдруг захотелось надавать ему по шее. Казалось, парень тянется лицом к чему-то невидимому, при взгляде на него представлялась сжатая в кулак пятерня. Дилан подумал, не прячет ли Артур в боковом кармане своего здоровенного рюкзака очки.
Он убрал комиксы в папку. Этот выпуск он купил на Корт-стрит во время ленча, долго думал, стоит ли доставать его в школе, и в итоге поступил наперекор обычно побеждавшему здравому смыслу. Выпуск оказался паршивым — слишком похожим на фильм, пресным и нудным. Дилан перестал волноваться, решив, что если у него и отберут комиксы, то это не беда. Но он и представить не мог, что за свою неосторожность придется расплачиваться знакомством с собратом по расе. Артур Ломб быстро смекнул, что своей репликой пробудил в Дилане интерес, и продолжал гнуть ту же линию. Взглянув на папку, в которую отправились комиксы, он усмехнулся.
— Дочитал?
— Что?
— «Побег Логана».
«Какого черта тебе от меня надо?» — чуть не выкрикнул Дилан, пока не стало слишком поздно — пока стены его одиночества не рухнули и он не сошелся с другим белым мальчиком.
— Еще нет.
— А Фарра Фосетт — классная.
Дилан не ответил. Он понял, о чем толкует Артур, и это только огорчило его.
— «Побег» — вещь довольно неплохая. Я купил целых десять первых выпусков. — Артур говорил торопливым шепотом, сознавая, что находится в крайне щекотливом положении, и в то же время упорно пытаясь сделать Дилана своим приятелем. — Первые номера еыгодно покупать — потом можно продать и неплохо заработать. У меня всего по десять штук: десять «Омег», десять «Рэгменов», десять «Кобр», десять «2001». Они не слишком интересные, так себе. Знаешь магазин комиксов на Седьмой авеню? Там все здания новые, потому что на старые упал самолет. Слышал про это? Семьсот сорок седьмой. Хотели дотянуть до Проспект-парка, но не смогли. Честно-честно. А тот тип, владелец магазина комиксов, настоящий придурок. Однажды я стащил у него «Голубого Жука» № 1. Запросто. «Голубого Жука» издавал «Чарлтон». Ты слышал о «Чарлтон Комикс»? Они обанкротились. А первый выпуск — он и в Африке первый, интересный или не очень. «Фантастическую четверку» № 1 теперь можно загнать за четыреста долларов! А в «Голубом Жуке» главный герой супертупой. Его рисовал Д итко, создатель Человека-Паука. Дитко — полный бездарь. Все его комиксы похожи на мультики. Но первый выпуск все равно остается первым выпуском. Надо покупать их, запечатывать в пакеты и убирать на полку, я так всем советую. Ты кладешь первые выпуски в пакеты?
— Конечно, — ответил Дилан нехотя.
Он понял, о чем говорил Артур. Хуже того: почувствовал, что тот коснулся каких-то струн в его душе, показал, что у них много общего.
Они были просто обречены на дружбу.
Глава 8
Тремя неделями раньше Дилан стоял на крыльце в ожидании Мингуса.
Женщины волокли детей в детский сад при Женском христианском союзе или спешили к метро. Парочка геев с Пасифик-стрит выгуливала на поводках двух такс. Несколько темнокожих девочек пришли из соседнего квартала за Мариллой — они учились вместе в школе Сары Дж. Хейл на Третьей авеню. Ожидая подругу, девочки зашли за угол и там, в дыму одной на всю компанию сигареты, сильно расшумелись. Утренний свет, идущий от горизонта, туман над далеким Джерси, вонь химзавода, от которой чуть не пьянеешь, глядящая в сонное небо Вильямсбургская башня. Часы на двух ее видневшихся отсюда циферблатах показывали разное время. Но это не имело значения. В любом случае уже пора. Сегодня первый школьный день, день поворота на другую дорогу, возможно, самую важную в жизни. Погода, хотя лето и закончилось, даже в восемь часов утра была жаркой.
Не вписывался в общую картину первого осеннего утра лишь один-единственный человек. Квартал опустел, автобус, пыхтя, проехал мимо, в одном из дворов прогавкала собака. А Дилан все стоял на крыльце — в длинных брюках, с рюкзаком, новым тетрадным блоком, тупыми карандашами, спрятанными очками и «Эль Марко». Из-за перехода в новую школу он чувствовал себя очищенным от кожуры яблоком, начинающим размягчаться от жары. Собаки наверняка уже чуяли, а может, и кто-нибудь еще, распространявшийся в воздухе запах паники.
Если бы Дилан отправился на Корт-стрит вместе с Мингусом, если бы они переступили школьный порог вдвоем, бок о бок, все теперь было бы по-другому.
Он подошел к занавешенному окну на первом этаже и легонько постучал. Мингус попадал в дом через свой личный вход — но здесь не было звонка.
Ему следовало бы заранее обговорить с Мингусом сегодняшние планы. И почему эта мысль не пришла ему в голову вчера?
Не дождавшись ответа, он вернулся на крыльцо и позвонил. Потом еще раз, уже страшно нервничая, переминаясь с ноги на ногу и думая о том, что время безвозвратно уходит.
Паника завладела всем его существом, словно в помутнении он нажал на кнопку звонка в третий раз и долго не убирал палец.
Наконец дверь открылась.
Но на пороге стоял не Мингус, а Барретт. На нем был белый банный халат и больше ничего. Он уперся руками в косяк, сонно оглядел Дилана, моргнул, ослепленный ярким утренним светом, прикрыл ладонью, как козырьком, глаза. Казалось, он хочет отмахнуться от наступившего дня, как от неудачной идеи или едва не совершенной ошибки.
— Какого черта ты тут делаешь?
Дилан попятился, шагнул вниз на одну ступеньку.
— Никогда не звони в дверь в семь утра, слышишь?
— А Мингус…
— С Мингусом пообщаешься в вашей проклятой школе. — Барретт постепенно свирепел, голос его гремел, как молот по наковальне. — Проваливай.
Седьмой класс, когда ты наконец-то перешел в то здание, где учился твой друг, начался с открытия. Ты обнаружил, что Мингус никогда там не показывается. Казалось, он ходит в школу по какой-то другой Дин, на какую-то другую Корт-стрит и вообще учится в какой-то иной школе. Единственным доказательством обратного было изобилие меток «ДОЗА» вокруг школы № 293 — на столбах, почтовых ящиках и грузовиках, ездивших туда-сюда по округе. Каждый день они появлялись в новых местах. Дилан тайком проводил по надписям рукой, надеясь хоть приблизительно определить момент их нанесения по тому, насколько высохли чернила. Порой метка пачкала ему пальцы, и он понимал, что Мингус оставил ее совсем недавно, буквально несколько минут назад.
Целых три недели Мингус представлялся Дилану чем-то вроде летающего человека, слухом, которому не находилось подтверждения. Неуловимость Мингуса стала как будто тайной основой жизни Дилана, которая по большому счету не изменилась, если не считать многочисленных осложнений. Седьмой класс был расширенным шестым, трилогией «Властелин колец», продолжающей прошлогоднего «Хоббита». Предыстория наконец-то перешла в саму историю, в которой все зловещие предсказания стали претворяться в жизнь. Он был не для детского сознания, этот седьмой класс. На тебя давил с первого момента появления в школе один только вид учителей, даже взгляды охранников. Расслабиться в этом царстве расовой неразберихи не мог никто.
А люди здесь были разные, и все они казались персонажами мультфильма, рисованными творениями бездарного художника.
Самые заметные действующие лица отличались наибольшей злобой. Да, они были именно лицами. А ты, прячущий очки и опускающий голову, — мистером Магу. Чем меньше ты встречался с кем-нибудь взглядом, тем было лучше. В этом и состояла твоя главная задача.
Китайских детей, наверное, предупредили заранее, и они вообще исчезли.
Пуэрториканцы и доминиканцы искусно обходили все препоны. Они по-своему одевались, все больше разговаривали на испанском и умели таким образом устроиться в кабинете или в спортзале, что выпадали из поля зрения, присутствуя и одновременно отсутствуя.
Самые кошмарные стычки происходили между черными девочками.
Не было даже уверенности в том, кто именно учится в этой школе. На ее территории постоянно появлялись чужие. Бывало, пара темнокожих парней прижимали тебя к стенке и спрашивали:
— Ты итальянец или белый?
Ты знал наверняка лишь единственное: нельзя говорить, что итальянцы белые. Черные тоже чего-то опасались и постоянно оглядывались по сторонам на Корт-стрит, как и итальянцы, попадавшие на Смит-стрит. Все чего-то боялись, но уж точно не тебя. Итальянцы никогда не отвечали: я итальянец. Могли сказать лишь: а кто я, по-твоему, черт возьми? Или схватить спрашивающего сквозь штаны за член, гордо стиснуть зубы и раздуть ноздри.
А ты, ты даже на это не был способен. И мог разве что симулировать астму.
На следующий день после библиотечного разговора Дилана и Артура о «Голубом Жуке» объявился Мингус. Это произошло в три часа, когда школьные двери распахнулись и толпа учащихся высыпала на залитую октябрьским солнцем улицу, а владельцы магазинов вышли на тротуар, скрестив руки на груди, жуя жвачку или просто щуря глаза. Дилан всегда уходил из школы через двери на Батлер-стрит и мгновенно смешивался с толпой прохожих, которая подхватывала его и уносила до самого конца Корт-стрит, где он отделялся от людского потока и спокойно шел домой, одинокий белый мальчик.
Но сегодня его будто приклеило к асфальту у школьной ограды. На углу Корт и Батлер сидел на почтовом ящике Мингус Руд, наблюдая с невозмутимостью Будды за оравой ребятни. Казалось, он выше, чем на самом деле, и вообще прибыл с какой-то другой планеты, с головой уйдя в это умиротворенное наблюдение, незаметный ни для школьных охранников, ни для тинейджеров-итальянцев, бродящих по Корт-стрит. Дилан мгновенно понял, что Мингус не переступал порога школы с самого начала учебного года.
— Эй, Дилл-мен! — крикнул Мингус, смеясь. — А я тебя искал. Где ты был?
Он спрыгнул с почтового ящика и вытянул Дилана из толпы прохожих настолько легким и естественным жестом, будто каждый день забирал его из школы домой. Они пересекли Корт, направляясь на Коббл-Хилл. Дилан шагал торопливо, чтобы не отстать. Мингус повел его через Клинтон-стрит на Атлантик-авеню, и вскоре все мысли о школе № 293 вылетели из головы Дилана. Их взглядам открывались красочные виды: верфи под автострадой Бруклин-Куинс, широкая улица, бегущая вниз, к золотистой глади воды. Мингус знал сотню тайных троп, о которых Дилан в своем вечном остолбенении и понятия не имел.
— Я не видел тебя… — начал Дилан.
— Позови меня, и я приду, — пропел Мингус. — Дай мне знак, и я тебя найду. Я всегда где-то рядом. Здесь. — Он вложил пару смятых долларовых бумажек в кулак Дилана и кивнул на газетный магазинчик на углу Клинтон. — Купи мне пачку «Кул», Супер-Ди. — Он склонил голову набок. — А я побуду здесь.
— Кто мне продаст сигареты?
— Скажи, тебя прислала мама, наври, что она сама их все время покупает здесь. Тебе поверят, не бойся. Давай подержу твой рюкзак.
Дилан запретил себе смотреть на металлическую стойку с комиксами, когда вошел в прохладный сумрак магазина.
— Э… Пачку «Кул». Это для моей мамы.
Все прошло как по маслу, Мингус был прав. Услышав слово «мама», продавец-араб приподнял бровь и выложил на обитый линолеумом прилавок «Кул», лишь пробубнил что-то нечленораздельное.
Мингус сунул сигареты вместе со сдачей в карман своей знаменитой куртки, и они пошли назад по Клинтон в сторону парка на Эмити-стрит.
— Дилл-мен, Ди-Один, Диллинджер, — напевал Мингус. — Диггити дог, депьюти дог.
— Я нигде тебя не видел, — сказал Дилан, изо всех сил пытаясь не выдать голосом обиды.
— У тебя все в порядке? — спросил Мингус. — Проблем нет?
Дилан сразу понял, что он имеет в виду — творящееся в школе № 293, которая, казалось, к самому Мингусу уже не имела никакого отношения.
— Нет проблем? — повторил Мингус.
Они были вместе и одновременно порознь — Дилан отчетливо это понимал. Мингус всегда был недосягаем, загадочен, и коснуться его души — точнее, затаившейся в ней, но отчетливо осознаваемой грусти, безмолвно взывавшей к печали самого Дилана, — казалось невозможным.
— Никаких проблем. — Дилан пожал плечами.
— Для меня это важно, ты ведь мой лучший друг, Диллинджер.
Очевидно, это была подготовка к чему-то, какая-то репетиция. — чего именно, Дилан вскоре узнал. Едва войдя в парк, Мингус зашагал более размашисто, чем обычно, и поднял руку, здороваясь с тремя темнокожими тинейджерами, сидящими за шахматными столиками в вызывающих позах. Один из них привольно развалился на скамейке, и, взглянув на его длинные руки, Дилан почувствовал, как сжимается сердце. Он подошел к компании вместе с Мингусом, готовый принять как должное все, что бы ни случилось, даже новое появление в его жизни Роберта Вулфолка.
— Здорово. — Мингус лениво шлепал по протянутым ладоням, произнося при этом какие-то звуки, очевидно, имена парней с проглоченными окончаниями.
— Как дела, Гу? — спросил Роберт. «Гу» — сокращенное от «Гус». Означало ли это, что Роберт знаком с Барреттом Рудом-младшим?
В этот момент он узнал Дилана. Его передернуло, на лице отразилась дюжина эмоций, но он не сменил позы, даже рукой не пошевелил.
В парке было полно светлокожих детей, второклассников или третьеклассников из Сент-Энн и «Пэкер». Они носились туда-сюда мимо шахматных столиков — все в ярких одеждах, с резиновыми игрушками, водяными пистолетами и мячами. Живя в том самом мире, что и Дилан, Мингус и Роберт, они, наверное, тоже принимали героев Диснея за живых существ и приходили в гнев, видя колдунью, отравляющую яблоко ядом.
— Вот черт! — Роберт заулыбался. — Ты что, знаком с этим типом, Гу?
— Это мой друг, Ди-Один, — ответил Мингус. — Классный парень, живет на моей улице.
Роберт окинул Дилана долгим взглядом.
— Знаю я этого парня. Еще с тех пор, когда тебя вообще тут не было, Гу. — Он подмигнул Дилану. — Эй, дружище Дилан. Только не говори, что не узнал меня, — вижу, что узнал.
— Естественно, узнал.
— Черт! Я был знаком даже с его мамочкой, — продолжал Роберт.
— Правда? — произнес Мингус, чувствуя, что нужно закончить этот разговор. — Дилан мой друг.
Роберт рассмеялся.
— Ну и на здоровье. Друг так друг. Хочешь водить дружбу с белым парнем, пожалуйста, мне все равно.
Притворная доброжелательность сменилась безудержным весельем. Два других подростка фыркнули и хлопнули друг дружку по рукам, возбужденные словами «белый парень».
— Вот это да! — воскликнул один, изумленно качая головой, словно увидев какой-то трюк в кино — переворачивающуюся машину или летящего в пропасть человека.
Дилан стоял будто замороженный, со своим нелепым рюкзаком, в бесполезных здесь кедах, с безвольно повисшими руками, глядя на Мингуса и растерянно моргая.
Неваляшка качается, но никогда не падает.
— Так мы идем бомбить поезда или будем тут сидеть и трепаться до самого вечера? — спросил Роберт.
— Пошли, — негромко ответил Мингус.
— А зачем ты приволок сюда этого мальчика-колокольчика?
Внезапно перед ними встала какая-то женщина лет двадцати пяти — тридцати, возникла будто из-под земли. Дилан остолбенел: ему казалось, тесный мирок этой компании в окружении отдаленных автомобильных сигналов, птичьего щебета и детских криков недоступен для посторонних, дверь для них закрыта.
Женщина, наверное, приходилась мамашей одному из бегавших по парку детей. На ней была светло-голубая джинсовая куртка, очень идущая к ее белокурым волосам, брюки-клеш и очки в толстой оправе. Дилану ее лицо показалось знакомым. Быть может, они уже встречались когда-то — на какой-нибудь из вечеринок Рейчел. Ему ясно представилось, как эта блондинка размахивает рукой с зажатой в пальцах сигаретой, делает лирическое отступление от основной темы, разглагольствуя о сычуаньском перце или об Альтмане, раздражая мужчин, лишенных тем самым права быть в центре внимания. А впрочем, похожих женщин в Бруклине жило очень много, и подавляющее большинство из них никогда не знали Рейчел.
— Ты в порядке, мальчик?
Она обращалась к Дилану, ошибки быть не могло. На всех остальных, втом числе и Мингуса, она смотрела иначе, чем на него. Дилан почувствовал, что Роберт Вулфолк снова вспомнил сейчас о Рейчел, наверное, полагая, с того рокового надирания ушей, что все белые женщины похожи на нее.
И надо же было такому случиться именно сегодня, именно сейчас. Как часто Дилан молил Бога послать ему на выручку кого-нибудь из взрослых — учителя, знакомую Рейчел, — как страстно желал, чтобы в разгар очередного столкновения с хулиганами из-за угла Берген или Хойт появился спаситель, который прекратил бы издевательства простым вопросом:
— Ты в порядке, мальчик?
Только не сейчас. Проявление заботы о нем этой светлокожей женщиной грозило навеки заклеймить его «белым парнем». И это как раз в тот момент, когда Мингус пытался исправить положение!
Своим трехнедельным отсутствием — теперь Дилан понимал это — Мингус дал ему понять, что в новой школе он должен выживать самостоятельно. Этих недель Дилану вполне хватило, чтобы похоронить мечты об учебе в седьмом и восьмом классе под покровительством Мингуса. Он появился как раз в тот момент, когда до Дилана дошло наконец его мысленное послание: «На ручки я тебя взять не могу, сынок, это выше моих сил». И в качестве компенсации за невольно причиненные Дилану страдания повел его в Коббл-Хилл, парк на Эмити-стрит, чтобы свести с Робертом Вулфолком, безмолвно сигналя: «Чем смогу, помогу тебе. Я не бессердечный и не слепой, Дилан. Я все вижу и знаю».
— Мальчик! Ты в порядке?
Ощущая себя совершенно беспомощным, Дилан посмотрел женщине в глаза. Не было ни малейшей возможности сказать ей, что она права и одновременно чудовищно не права, равно как и прогнать ее к чертовой матери. Усугубляла положение красота женщины, исходящее от нее сияние, как от моделей в журналах Рейчел, сложенных в стопку в гостиной, презираемых Авраамом. Дилану хотелось защитить незнакомку от Роберта. Не следовало ей врываться к ним из другого мира — мира Коббл-Хилла с его детьми, посещающими частные школы, и сердобольными взрослыми. Произошло недоразумение. Дилан с удовольствием отправил бы ее к себе домой, попросив выманить из студии Авраама. Вот это было бы здорово.
Но ведь по большому счету Роберт Вулфолк ничего не значил в его жизни, лишь играл роль врага, вот и все. Самое страшное состояло втом, что женщина унизила его и перед Мингусом.
— Это мои друзья, — промямлил Дилан. Когда последнее слово слетело с губ, он понял, что провалил очередной экзамен. Выдавил из себя какую-то чушь, когда должен был сказать что-то вроде «Какого черта ты сюда приперлась?». Подобная фраза, произнесенная с должной интонацией, могла вернуть его и всех остальных в тот момент, когда Роберт еще не назвал его «белым парнем». Тогда он, возможно, пошел бы с ними кжелезной дороге или куда-нибудь еще, где можно «бомбить поезда». Что подразумевалось под этими словами, Дилан не понимал, очевидно, что-то дурное. Но он с огромным удовольствием отправился бы бомбить поезда, так, будто всегда этим занимался, а не услышал о подобном занятии впервые в жизни. И «Эль Марко» был у него с собой, на случай, если вдруг понадобится.
Никто не захотел бросить женщине: «Не лезь не в свое дело». Дилан, оторопело глядя на нее, на мгновение затерялся в мечтах. А когда очнулся, Роберта и его приятелей уже не было. Они ушли. Прочь из этого жизнерадостного парка, который, казалось, мог вынести все что угодно, только не их. Исчезли, будто в подтверждение подозрений этой женщины. Только Мингус остался. Он стоял в стороне и от столиков, за которыми перед этим сидели Роберт с дружками, и от Дилана.
— Может, проводить тебя домой? — спросила женщина. — Где ты живешь?
— Ладно, Дилан, увидимся позже, — сказал Мингус. Он не испугался, просто посчитал, что разубеждать белую женщину, уверенную в своей правоте, совершенно неинтересно. Дилан понял: его другие придал происшествию особого значения. — Будь здоров, Ди. — Он протянул Дилану пятерню, по которой следовало ударить. — Я найду тебя позже.
С этими словами он повернулся и зашагал к деревьям в дальнем конце парка, к Генри-стрит, Бруклин-Куинс, к верфям — и Дилан не мог сейчас пойти с ним туда. Мингус шел наигранно-нетвердой походкой, напоминавшей о чем-то забавном и глубоко прочувствованном — о Микки Риверсе или о «Странном Хэрольде». Он казался вырванным из какого-то другого времени, перенесенным в день сегодняшний, фигуркой из мультфильма или отголоском какой-то песни.
Это мой лучший друг, так и подмывало сказать Дилана женщине, смотревшей на него все пристальней, потому что он долго не отвечал. Наверное, она начинала думать, что ошиблась и этот мальчик испорчен дурной компанией, что он не стоит ее внимания.
А Дилан и хотел показаться ей таким — испорченным, запачканным черным цветом.
Расистка, гадина.
Где я живу? В сказке, мысленно ответил ей Дилан. В Уикофф-Гарденс, жилом массиве на перекрестке Невинс и Третьей, вот где. Слышали о таком? Там всегда пахнет жареным. Если желаете проводить меня, леди, пожалуйста.
Артур Ломб жил с матерью на Пасифик-стрит, между Хойт и Бонд, по соседству с больницей. В его районе пахло чем-то зловещим, дети не гуляли, автобусы не ездили, от вечной горы свежевыстиранного белья в больничном дворе в небо устремлялся белый столб пара, у магазина на углу тоже собирались пуэрториканцы, но до словоохотливости компании старика Рамиреза им было далеко. На Пасифик собирались мужчины, чтобы поиграть в домино. Все, что было на Пасифик, даже разгуливавший там серый кот, казалось очень печальным и каким-то потусторонним. Этот квартал мог по праву считаться бермудским треугольником Бурум-Хилл. Он был удален на равные расстояния от Говануса, от Казенного дома и от школы № 293. Впрочем, это не имело никакого значения. Несмотря ни на что, двор возле дома Артура казался Дилану в эти солнечные октябрьские дни настоящим оазисом спокойствия. Они выходили туда, никого не опасаясь, садились в тени и расставляли фигурки на шахматной доске.
— Физику в твоем классе тоже ведет Винегар, да? Сочувствую. Полный придурок. Замечал, как он поглаживает усы, когда разговаривает с пуэрториканскими девчонками, у которых уже большие сиськи? Меня от этого блевать тянет. Но приходится терпеть. С Винегаром надо дружить, от него зависит наша дальнейшая судьба. Я, по крайней мере, так считаю. Эй, не тронь этого слона. Сейчас тебя защищает только он. Сколько раз тебе повторять: выстраивай в оборону пешки.
Артур сидел, подогнув под себя ногу, как детсадовец. Разговаривая, он постоянно хмурил брови, складывал губы трубочкой и делал философские отступления. Произносил он свои монологи нараспев, искусно обходя те моменты, когда ты собирался попросить его заткнуться или даже подумывал надавать ему по шее, прервать наконец этот поток умозаключений, эту нескончаемую песнь зануды. Артур раньше учился в Сент-Энн, но после развода мать больше не могла платить за учебу сына в частной школе. Теперь он собирался перейти в какую-нибудь специализированную государственную школу — с академическими требованиями и вступительными экзаменами. Артур никогда не тосковал ни по частной школе, оставленной где-то в прошлом, ни по бывшим белокожим одноклассникам, которые, как догадывался Дилан, ненавидели его так же люто, как черные дети из школы № 293. Артур был олицетворением мрачной неотвратимости, солдатом, вечно бегущим к очередному окопу.
— Вот бы поступить в Стайвесант. Там главное — сдать математику и физику. Английский можно даже провалить. Кстати, недавно я не пошел на физкультуру. Знаешь Мальдонадо? Он сказал, что сломает мне руку, если поймает в раздевалке. Спортзал — это вообще самоубийство, честное слово. В этой школе я нигде не раздеваюсь, даже в туалет не хожу. Уж лучше перетерпеть.
Артур жил с матерью на верхнем этаже дома из бурого песчаника, окна его спальни выходили на задний двор. Комиксы, упакованные в полиэтилен, лежали ровными стопками на полках. Он относился к ним с мрачным презрением и всем своим видом выражал неодобрение, когда Дилан начинал листать какие-то старые выпуски. На изображениях грудастой Осы и Валькирии виднелись борозды от шариковой ручки — Артур обводил контуры, положив на страницу кальку. Срисованные картинки хранились, как секретное послание, в ящике стола.
Дилан однажды наткнулся на эти художества, когда Артур ушел на кухню за крекерами.
— Только бы сдать этот тест. От него зависит вся жизнь. Думаешь, это ерунда, но поймешь, что я прав, когда перейдешь в старшие классы. Если я не попаду в Стайвесант или хотя бы в Бронкс Сайенс, тогда пиши пропало. Лучших примут в Стайвесант, тех, кто послабее, — в Бронкс Сайенс, потом идет Бруклин Тех, Сара Дж. Хейл и Джон Джей — это вообще настоящие дыры. В Саре Дж. Хейл застрелился учитель, по телику говорили. Алгебра, геометрия, биология. Попроси Винегара дать тебе практическое задание, советую как другу. Пусть думает, что тебе интересны его уроки. Скажи, что хочешь принять участие в каком-нибудь научном проекте — просто так. Если он поймет, что ты мечтаешь попасть в Стайвесант, может, потом замолвит за тебя словечко. Короче, надо делать все, что в наших силах.
На тех же полках, где лежали комиксы, Артур хранил книги в мягких обложках «Жесткие ответы на глупые вопросы» Эла Джаффе и «Более светлая сторона» Дейва Бергера. Колкая ирония карикатуристов «Мэд Мэгэзин» прекрасно сочеталась со взглядами Артура на жизнь. Найди смешное в вещах, совсем не забавных. Упражняйся в сарказме, как в приемах карате. А в будущем, когда слушать тебя никто уже не захочет, будешь топить свой яростный смех в самом себе.
Из окон спальни Артура были видны запущенные, заросшие деревьями задние дворы домов на Атлантик-авеню, окна квартир над магазинами, часть Казенного дома, здания муниципальных учреждений в центре Бруклина и зубчатые верхушки Манхэттена. Артур рассматривал все это в бинокль. По вечерам, закончив очередную партию в шахматы, они развлекались по очереди, наблюдая не за чем-то конкретным, а за всем подряд. Сначала в тишине, потом под звуки радио, по которому транслировали в основном «Лети, как орел» или «Плетущий сны».
Но большую часть времени они проводили, сидя на крыльце и исследуя нежелание или неумение Пасифик-стрит признать свое соседство с Бонд или Хойт. А летом, бывало, ходили в Музей естественной истории в Верхнем Уэст-Сайде и рассматривали животных, убитых когда-то самим Теодором Рузвельтом, а затем превращенных в чучела и запаянных в стеклянные коробки. Дилан Эбдус, Артур Ломб, гомо сапиенс, Пасифик-стрит, 1976 год. Дни казались безмятежными, все шло своим чередом. Дилан совсем не думал ни о Мингусе, ни о Дин-стрит, просто наблюдал за прячущимся под припаркованной машиной серым котом, за ритмическими колебаниями столба больничного пара, почтальоном, читающим журналы на крыльце соседнего дома, и размышлял, как долго еще будет проигрывать в шахматы безжалостному жулику Артуру Ломбу.
А тот обеими руками растирал отсиженную ногу и продумывал следующий хитрый ход. В глазах, казалось, отражаются проносящиеся в мозгу мысли.
— Быть фанатом «Метс» не имеет смысла, если поразмыслить здраво. Многие смотрят только на очки и места, но «Янки» в любом случае — самая мощная команда в истории бейсбола, они буквально пропитаны соревновательным духом. Имена многих из них внесены в «Списки славы» Национального музея бейсбола. А «Метс» только тем и знамениты, что победили недавно. Вот парни вроде тебя и становятся их болельщиками. А у «Янки» просто уйма достижений.
— Хм-м.
— Ты, наверное, часто задумывался, почему я вечно ношу ботинки. У меня были кеды, но какие-то козлы стащили их, и, ты не поверишь, мне пришлось идти домой прямо в носках. Мама купила новые кеды, но я держу их дома. Я недавно узнал из верного источника, что скоро в моду войдут «Пумы». Если тебе это нужно, всегда носи то, что таскают другие. Но я не такой.
— Хм-м.
— Самый смешной фильм Мела Брукса — «Продюсеры», и, пожалуй, «Молодой Франкенштейн». Терри Гарр — просто классная. Мне даже жаль тех, кто еще не посмотрел «Продюсеров». Отец всегда водил меня на комедии. Лучшее из «Пантеры», наверное, «Возвращение». А у Вуди мой любимый фильм — «Все, что вы хотели знать о сексе».
Артур постоянно выдавал свое мнение по тому или иному поводу, как будто равнялся на каких-то никому не известных кумиров. Это угнетало Дилана, он был обречен выслушивать пижонскую трепотню Артура обо всем на свете. Дилан терпел, ведь и сам накапливал в себе много такого, о чем хотелось кому-нибудь рассказать. Выслушивая Артура, он будто заранее терпел наказание за свое будущее превращение в говорливого зануду.
— Развивай комбинацию пешками, а не то Халк разгромит тебя в пух и прах.
Время от времени в Артуре будто поднималась какая-то шторка, и Дилан мог взглянуть на кипевшую в нем ярость. Он считал, что достоин такого друга, здесь работал тот же механизм схожести, на основе которого вообще зародились их отношения. Дилан закрывал глаза на постоянное притворство Артура, чувствуя и внутри себя тлеющие угли злобы, сознавая и свою собственную неискренность.
— Как-то на днях я видел, ты разговаривал после занятий с тем парнем, Мингусом Рудом. Ой! Напряги мозги, а то опять продуешь. Никак не научишься рокироваться. А, да, так вот, я видел вас с Мингусом Рудом, с тем восьмиклассником. Как ты с ним познакомился? В школе его встретишь не часто. Наверное, интересно дружить с… гм… таким, как он.
Речь Артура донимала, как зарастающая новой кожей рана. В тот момент, когда он опустил слово «черный», многозначительно интонируя голос, кожа будто сильнее зачесалась. Дилану показалось, что в этой интонации выразился настоящий Артур Ломб, тот, что скрывался под толстой скорлупой. Козырная карта, которую он так долго и старательно прятал, вдруг стала видна всем, кто хотел ее увидеть.
— А откуда ты знаешь, как его зовут? — услышал Дилан свой голос. Он пытался сконцентрироваться на игре, ждал, что Артур, как обычно, проведет хвастливую рокировку, и готовился к этому. Поэтому и не заметил, как с губ слетел вопрос, выдававший его страстное желание не делиться ни с кем Мингусом. Общаясь с Артуром уже целый месяц, он потерял бдительность.
— О нем многие болтают, — беззаботно ответил Артур.
Дилан и представить себе не мог, чтобы кто-нибудь разболтался с Артуром Ломбом о Мингусе. Если кто-то и подходил на переменах к Артуру, то лишь с единственной целью — обшарить его карманы и вытащить мелочь. Дилан и сам избегал его в школе — встречался с ним только после занятий, и они вместе прокрадывались под защиту Пасифик. Дилан понимал, что своей отчужденностью в школе причиняет Артуру боль, сознавал и весь ужас его одиночества, глубину страданий.
Но кто же это наболтал ему о Мингусе?
— Я давно его знаю, — сказал Дилан, закрывая окошко души, пока не стало поздно. В ответ на рокировку Артура он сделал умышленно вялый ход конем, а сердце заколотилось быстрее. На конях Артур всегда спотыкался. Дилану понадобилось сыграть с ним тысячу партий, чтобы наконец увериться в этом.
— Как это — давно? — спросил Артур с оттенком иронии. Рассеянным движением выдвинув вперед пешку, он устремил взгляд мимо Дилана.
— Шах, — сказал тот.
Артур нахмурился и уставился на доску, не понимая, чем вызван столь неожиданный для него поворот.
— Где стоит эта пешка? Здесь или здесь? — спросил он.
— Что?
Артур показал на пешку, Дилан наклонился вперед. Вдруг раздался грохот, фигуры на доске повалились в кучу. Обреченный на поражение король Артура проскакал вниз по ступеням крыльца и покатился к калитке.
— Смотри, что я из-за тебя наделал.
— Долбанул по доске.
Артур развел руками: суди меня, если хочешь.
— А я чуть не выиграл.
— Это еще не известно.
— Послушай, ты все время обставляешь меня, неужели не пережил бы, если бы я выиграл один-единственный раз?
Артур задумчиво почесал подбородок.
— Признаться, я видел, что дело идет к пату. Но не очень-то радуйся, Дилан. Обставить меня ты все равно пока не можешь. Хотя играешь уже гораздо лучше. Поздравляю. Потихоньку улавливаешь, что к чему. Кстати, может, сходишь за королем? Нога у меня что-то затекла.
Два человека, два отца, надумали выбраться из своих берлог и съездить в Манхэттен, — оделись потеплее, на случай, если пойдет дождь, побрились, чтобы выглядеть более или менее прилично, затянули на шее галстуки и глянули на себя в зеркало, прежде чем выйти на улицу. Оба вздохнули, спускаясь в метро, представили, как смешаются с пестрой толпой на платформе, протиснутся в раздвижные двери вагона, устало возьмутся за поручень и поедут под грохот колес по своим делам. У одного в руке черная картонная папка с завязками, у другого ничего нет: его единственное достояние — голос, он везет его в собственной груди. Один из них выходит на Таймс-сквер, второй на Западной четвертой. Они снова ступают на асфальт и раздумывают об Абе Биме и о «Толл Шипе». Оба часто моргают, сознавая, в каких отшельников они превратились на Дин-стрит и как далеки теперь от Манхэттена, украденные Бруклином. Оба на миг увлекаются воспоминаниями о далеком прошлом, более здоровом, менее чувствительном, не замечая лиц прохожих на оживленных улицах. И тому и другому кажется, что лишь его одного, в отличие от всех вокруг, не принимают по ошибке за какого-то знакомого. «Ты! Где ты сейчас, в Городском колледже? Простите, вы не Чарльз… Гм… Как его?..» Не замечают его одного из миллиона людей, толпящихся каждый день на Манхэттене. Оба отмахиваются от этой гнетущей мысли, вспоминают о своем месте в мире, о планах, с которыми явились на Манхэттен. Два отца, приехавшие сюда не просто поболтаться в толпе, а по важным делам.
Один останавливается, выуживает из кармана пятьдесят центов и покупает ход-дог, вспоминая еще об одном забытом в Бруклине ритуале. Папку с образцами рисунков он берет под мышку, двумя руками разворачивает промасленную бумагу и проглатывает облитый горчицей ход-дог в четыре укуса, почти не жуя. Желудок доволен, но он вспоминает, что должен произвести впечатление, останавливается у киоска и покупает мятную жвачку, чтобы не пахло изо рта. Через сорок один квартал на юг второй отец, повинуясь тому же импульсу, останавливается в облаке ароматов и смотрит на аппетитные колбаски на решетке, даже касается ладонью живота. Но проходит мимо, ведь в студии звукозаписи его ждет заказанный в «Сильвии» обед — копченая грудинка с фасолью и рисом. По крайней мере, так ему сказали.
Оба они приближаются к известным, всеми уважаемым учреждениям и останавливаются. Косой дождь хлещет как из ведра, подгоняя задумавшихся. Оба глубоко вздыхают. Один пересекает фойе высотного здания на Сорок девятой улице, входит в лифт и едет на восемнадцатый этаж. Второй заглядывает в окошко, жмет на кнопку вызова звукозаписывающей студии «Электрическая леди».
Прийти сюда — значит признать, что ты еще жив.
Прийти сюда — значит признать, что ты еще к чему-то стремишься.
А может, ты просто стараешься ради сына.
Один отец подходит к столу секретаря и ждет художественного редактора. Это издательство массовой фантастической литературы, второе по величине в городе, не однодневка, как «Белмонт Букс» на Фэшн-дистрикт с шестью сотрудниками в рубашках, обляпанных китайскими закусками, — гонорары там приходилось ждать по три месяца. Нет, это приличное издательство с серьезной секретаршей, перед которой красуется ваза с карамельным печеньем и трехканальный телефон.
Второго вежливый парень уводит с забитой дорогими магазинами улицы в кирпичную цитадель. Он говорит, что остальные опаздывают, но беспокоиться не из-за чего, называет гостя по имени и утверждает, что был восхищен его записями. Подобные слова не часто слышишь от типов вроде него. Большинство прячется под маской «чего я только не повидал». Отлично, отлично. Он кивает, чувствуя себя препаршиво оттого, что пришел раньше всех.
Обоим приходится помучиться в ожидании. Но вот появляется художественный редактор в трикотажном жилете, с незажженной сигаретой в зубах — ухоженный всезнайка — и протягивает руку. В «Электрической леди» в это же время распахиваются двери и входит компания, высыпавшая из лимузина на дороге, все в очках а-ля Элтон Джон и боа. На басисте космический наряд — с подплечниками, диковинным ремнем, — он оделся так не потому, что собирается на съемку или выступление, а потому что все они так выряжаются, считая себя Джимми Хендриксом, Слаем Стоуном, Марвином и Мартианом, вместе взятыми. Он напоминает себе, что знаком с этими людьми, что сам из их мира, потому и приехал сюда, что все они — одного поля ягода. И что сегодня им предстоит подписать договор в «Мотауне».
Редактор дотрагивается до локтя своего посетителя и ведет к себе в кабинет со словами: «Очень рад с вами познакомиться, мистер Эбдус. Надеюсь, эта встреча станет началом долгого сотрудничества».
Он то и дело потирает руки и несет всякий вздор:
— Никак не мог заставить себя проснуться сегодня утром. Вы уж извините. Но теперь я наконец-то на месте. Уверен, вам понравится с нами работать. Вы заслуживали гораздо большего, еще когда начали сотрудничать с «Белмонт», мистер Эбдус. На вашу первую книгу все обратили внимание. Такие, как вы, никогда не остаются незамеченными, как отличники в средней школе. Откровенно говоря, я не понимаю, почему вы не связались с нами сразу. Только ни о чем не волнуйтесь. Мы можем не указывать в книгах ваше настоящее имя. Если хотите, придумайте какой-нибудь псевдоним. Но об этом давайте поговорим позже, сегодня не будем тратить время на пустяки.
Даже самому себе он не признается, что, придя сюда, сделал большой шаг в карьере. Сотрудничество с «Белмонт», как хотелось верить, объяснялось стремлением уважить Перри Кандела, желанием убедить старого учителя, что тот не напрасно тратил на него свое время. А еще работа с «Белмонт Букс» позволила ему в некотором смысле переосмыслить свою жизнь, прийти кое к каким выводам. Звонок же в это издательство, а тем более сегодняшняя встреча доказывали, что он стал настоящим оформителем книг, коммерческим художником. Его приняли здесь как нельзя лучше, а значит, несмотря на презрение, которое он испытывал к своим работам, их оценивали достаточно высоко. Выгодная работа соблазняла его всеобщей похвалой. Возвращаясь на лифте на первый этаж, он мог поклясться, что слышит хриплый хохот Перри.
Второй отец тоже кое в чем себе пока не признается. И хотя он завидует этим ребятам, похожим в своих нарядах на супергероев и других мультяшных персонажей, а какая-то часть его «я» задается вопросом: «Какого черта я всю жизнь давлю в себе такого же чудака, почему никогда не позволял себе дышать свободнее?» — вторая его часть тихо шепчет, что ни подпевать, ни подыгрывать кому бы то ни было он не должен. Фанк — душа, подсевшая на наркотики. По этой дороге никуда не придет ь. Фанк слаб, как и диско. Порнографическое диско — вот что такое фанк. Он должен создать гармоничный фон, но чувствует, что и фон ничего не изменит, и впервые в жизни с момента ухода из «Сатл Дистинкшнс» ощущает страшную тоску по сильным, будоражащим кровь голосам, по ровному звуковому полю, на котором рождалась его музыка и с которого он взлетал.
Чашку кофе? Весьма неплохой.
Эй, приятель, сейчас подадут обед. Косячка не желаешь?
Только скажи, чего ты хочешь, старик.
Отцы, отцы, почему вы такие хмурые? Вы выползли из своих нор, и вас тепло приняли. Улыбнитесь. Расслабьтесь. Сегодня мир радуется вам.
Глава 9
Окончательно проиграв, в один прекрасный день в конце зимы он приходит сюда, на пересечение Атлантик и Невинс, сворачивается клубком перед никогда не закрывающимся винно-водочным магазином и всегда закрытой слесарней и остается тут навсегда. Утопая в блевотине, моче и поту, в грязных штанах, он лежит здесь, как музейная мумия, — с закрытыми глазами, плотно сжатыми губами, борясь с простудой, заработанной неделю назад, когда только обосновался здесь. Он лежит, съежившись, как будто прячется от самого времени и от зимы, хотя она уже закончилась, его поза — воплощение боли, на всем его теле страдальческая гримаса. Плечи прикрывает подоткнутое другим концом под зад тонкое детское одеялко. Два угла его разорваны, оттуда торчит посеревшая от уличной грязи набивка. Одеяло подвязано под покрытым седой щетиной подбородком человека, и это делает его жалким подобием супергероя в плаще.
Летающий человек, приземлившийся на пороге своего предсказуемого будущего.
Он похож на мертвеца.
Как же это случилось? Бурум-Хилл Изабеллы Вендль был назван в «Нью-Йорк мэгэзин» от двенадцатого сентября 1971 года «самой непостижимой загадкой города». Она хотела заселить его приличными людьми, да, да, в этом нет ничего постыдного. Но откуда взялась здесь эта жертва алкоголизма? Почему на оборванца никто не обращает внимания — не дотронется до плеча, узнать, жив ли он, не вызовет полицию, в конце концов?
Неужели потому, что бедолага — черный?
А может, Атлантик-авеню между Невинс и Третьей — это не Бурум-Хилл? А например, Гованус или что-то еще. В любом случае заселение Бурум-Хилл приличными людьми проходит как-то странно, медленно и совсем не так, как того желала Изабелла Вендль. На Атлантик между Хойт и Бонд открылось несколько антикварных магазинчиков, на Пасифик, Дин и Берген поселились новые семьи. Уикофф ничуть не изменился, но об этом никто и не мечтал. Хиппи? До тех пор пока они не устроят у себя в подвале хранилище наркотиков, на них никто не станет жаловаться. Живут себе, как все остальные. Какой-то бородач-энтузиаст открыл на углу Берген и Хойт французский ресторан — возможно, несколько преждевременно, но вполне успешно. Даже на Стейт-стрит, что рядом с Шермерхорн, Казенным домом и тлетворным центром района, активно восстанавливают дома из песчаника.
Но многое осталось как прежде. Хотя с каждым днем в Бурум-Хилл поселяются новые белые семьи, и их уже много, на общем фоне они все еще остаются редкостью, мечта Изабеллы Вендль и по сей день не находит воплощения. Строители будущего — назовем их так — всего лишь группа призраков, время от времени показывающихся в этом гетто. Всего лишь план, набросок. Моргни, и их может внезапно не стать.
Гетто? Значит, так называется это место? Но все зависит от того, о какой именно улице в этой пестрой мозаике идет речь. Поднимитесь в воздух, как когда-то делал летающий человек. Взгляните. Вот широкий ров с промышленными отходами на Четвертой авеню, обшарпанные магазины автозапчастей, заброшенные, пестрящие каракулями склады, тротуары, усыпанные тут и там битым стеклом — следами разборок перед китайскими забегаловками, — винно-водочные магазины, киоски. Дальний конец Корт-стрит — старое поселение итальянцев, на улицах южнее Кэрролла верховодят мафиози, по старинке вооруженные бейсбольными битами и порезанными на полосы шинами. Пролегающая ниже извилистая Бруклин-Куинс образует некую ширму, границу Ред-Хук. Южная часть канала Гованус — пустырь, кладбище токсинов и обрывков резины. Химзавод «Улано» с узкими окнами-щелями занимает целый квартал и усердно выбрасывает в воздух невидимые яды, разрушая нервную систему людей и вызывая развитие мозговых опухолей. Жилые массивы — Уикофф-Гарденс и Гованус Хаузис — придерживаются собственных законов, криминал там процветает по-прежнему. Тюрьму до сих пор называют Казенным домом, эвфемизмом, к которому все привыкли. Так, значит, слово «гетто» можно применить ко всему здесь — Уикофф, Берген, Дин, Пасифик?
Назовите их «Самой непостижимой загадкой города».
На Невинс есть удивительные строения. Она начинается от Флэтбуш-авеню и тянется на юг мимо гостиницы, отдела транспортных средств, Шермерхорн-парка и детского сада, в котором собираются пьяницы, мутными взглядами встречающие и провожающие молоденьких мамаш. Всем известно — хотя об этом редко говорят, — что на Невинс-стрит не пытаются даже контролировать проституцию. Уже после одиннадцати вечера в тени школы № 38 появляется парочка женщин, зазывающих одиноких прохожих. На требования разгневанных жителей местные власти отвечают, что предпримут соответствующие меры, но этим все и ограничивается. Полицию ругают на чем свет стоит, риэлторы не знают, что делать. А копы, по-видимому, давно пометили этот район ярлыком «безнадежно».
Быть может, теперь вам понятно, почему спящего на углу Невинс и Атлантик бывшего летающего человека никто не тревожит. В тот момент, когда здесь появляются белый и черный мальчики, он лежит на прежнем месте. Да, эти ребята опять вдвоем — они то сходятся, то расходятся, удивительная парочка. Их дружба изумляет прохожих, напоминает об утопической символике — о чем-то таком, что выбрал бы для иллюстрации Норман Роуэл. У этих двоих странное выражение лица. Быть может, они под кайфом или чересчур озабочены проблемами «белые-черные», которые если еще не затянули их в трясину, то вот-вот затянут. Даже те, кто не замечает, как двое парнишек достают из карманов наполненные ярко-розовыми чернилами маркеры, сразу чувствуют: что-то здесь не так. Но ведь мы в Бруклине, где нет места непорочности. Наверное, если двое приятелей попались бы на глаза копам, те развели бы их по сторонам, так, на всякий случай.
Белый мальчик и черный играют: один сторожит, а второй ставит где-нибудь тэг. Все очень просто: белый давно прекратил придумывать себе метку и принял предложение черного друга — писать на столбах и стенах то же самое, что и он. ДОЗА, ДОЗА, ДОЗА. Прекрасный выход из положения для обоих. Темнокожему мальчику приятно, что его метка распространяется с удвоенной скоростью, укрепляя его авторитет среди любителей граффити. «ДОЗА» — тэг заметный, дерзкий, его не подвергнешь сомнению, как какой-нибудь «СЕ», которым его лишенный воображения автор расписал все окна трамваев, проезжающих по его району. Фанаты граффити соревнуются, как вирусы: кто быстрее заполнит мир самим собой.
А что же белый мальчик? Ему выпал шанс слить собственную индивидуальность с индивидуальностью черного друга, очиститься от безумия под названием «фанкибелыйпарень». Теперь он и его приятель Мингус — оба ДОЗА, не больше и не меньше. Сплоченная команда, единый фронт, торговая марка, общий секрет. Способность белого мальчика к черчению, отточенная спирографом и волшебным экраном, очень пригодились ему. Он выводит слово «ДОЗА» ровно, уверенно, почти машинально. Его тэги гораздо более отчетливы, чем метки черного мальчика. А может, у любого получилось бы так же, если бы он долго тренировался, готовясь к решающему моменту.
Маркер в руке темнокожего. Белый — на страже. Они на углу Атлантик и Невинс. Черный выводит «ДОЗА» на столбе светофора и на металлической двери слесарни. Его взгляд падает на скрюченную фигуру у обочины. Оба рассматривают лежащего. Пьянчуга, пришло бы им на ум, если бы возникла необходимость как-нибудь назвать этого человека, спящего или, быть может, умершего, — он попадался им на глаза и раньше. Но вдвоем они видят его впервые. А потому смотрят так, как не взглянули бы, находясь порознь.
Белый мальчик испытывает одни чувства, черный — другие. Белый видел этого пьянчугу в его лучшие времена, в небе, как бы смешно это ни звучало. Он понятия не имеет, знает ли об утраченных способностях пьянчуги его друг, Мингус, и не представляет, как ему рассказать об этом. Он стоит в немом изумлении, будто прирос к месту и чего-то смутно опасается.
Темнокожий мальчик поджал губу, его сердце сдавила боль: конечно, ведь пьянчуга черный, только такой и может валяться на углу. Само собой. Испанские алкоголики с Дин-стрит тоже набираются до чертиков на улице, но спать они плетутся домой, в свою постель. А утром переодеваются, берут деньги и начинают все по новой. Черный мальчик даже не хочет об этом задумываться.
— Знаешь, что я сейчас сделаю? — говорит он.
— Что? — спрашивает другой.
Темнокожий делает решительный шаг, и у белого перехватывает дыхание. Черный снимает с маркера колпачок. Поверхность синтетического одеяла на спине пьянчуги хоть и до невозможности грязная, но вполне подходит для рисования маркером. Мальчик склоняется над вонючим телом и ставит на нем тэг. Мгновение, дело сделано. Оба друга отскакивают в сторону.
На спине пьянчуги написано «ДОЗА».
— Смываемся!
— Он не двигается. О черт! Ты только посмотри!
— Бежим!
Вот и все, на сегодня с тэгами покончено. В любом случае ничего интересного друзьям уже не попадется. Они бегут вниз по Невинс, захлебываясь смехом, хмельные от осознания жестокости шутки и оттого, что открыли в себе новую, опасную черту: способность подойти к, возможно, мертвому человеку и поставить на его спине метку.
Они пришли с опозданием и вынуждены были занять места порознь, далеко друг от друга. Дилан сел впереди, во втором ряду лекционного зала. На этом настоял отец, устроившийся где-то сзади. Дилан понимал, что должен радоваться выпавшей возможности посмотреть на режиссера-экспериментатора Стэна Брэкхеджа. Авраам с уважением отзывался о нем, как о «великом, потрясающем человеке». Речь шла о рисованных фильмах. До сего дня Дилан был уверен, что такой фильм один на свете — тот, над которым корпел Авраам. И, естественно, не подозревал, что на лекцию по этой теме явится тьма народа.
Когда Брэкхедж говорил, Дилан слушал его с увлечением, хотя почти ничего не понимал. Режиссер был личностью харизматической, речь его звучала темпераментно, как выяснилось, именно он вернул Орсона Уэллса на телевидение. Подобно Уэллсу, Брэкхедж превозносил величие — и как отвлеченное понятие, и как проявление конкретного таланта, не считая нужным замечать установившийся в зале дух раболепного восхищения. Вся проблема заключалась в том, что говорил Брэкхедж далеко не все время. В основном он сидел на стуле, потягивал воду, часто моргал и изучал аудиторию — молчал, предоставляя возможность разглагольствовать и восхвалять его фильмы молодым коллегам. Те, в свою очередь, не могли скрыть (а может, не очень-то и хотели) собственную убежденность в том, что только они знают в кино толк. Дилану вскоре все наскучило, он «упарился», как выразилась бы Рейчел.
— Я воспринимаю работу как попытку очистить эстетические сферы, освободить кино от всех предшествующих влияний и идеологий, — в очередной раз заговорил Брэкхедж. Фраза пробежала по залу, нанизывая, как на нитку, умы слушателей, в том числе и Дилана. Он оглянулся на отца — тот сидел в напряжении, таращась на сцену с любовью и гневом. — Но при этом стараюсь создавать фильмы, понятные для всех, кто их смотрит, стремлюсь воскресить в зрителе способность сопереживать.
Освещенный люминесцентными лампами, с давно не ремонтированным потолком, лекционный зал на первом этаже «Купер Юнион» был заполнен до отказа. Дилан заметил, как мужчина на соседнем сиденье нервно мнет пластмассовый стаканчик и постукивает по полу ногой, видимо, сдерживаясь из последних сил. Быть может, он думал, что тоже должен находиться среди людей на сцене. Отовсюду слышался скрип сидений.
— Я верю в песню, — продолжал Брэкхедж. — Я использую песенное оформление в своем творчестве из личной потребности наслаждаться человеческим голосом, который связывает все живое на земле. Меня потрясает и гамма звуков, издаваемых волком, который воет на луну, и лай собаки в соседнем дворе. Я восхищен любым звучанием и стараюсь слиться с ним в одно целое.
Когда обстановка в зале накалилась до предела, а пластмассовый стаканчик превратился в лепешку на полу, сосед Дилана вскочил и прокричал, заглушая гул:
— А как насчет Оскара Фишингера? Ни один из вас не признает Фишингера!
Бросив свой вызов, человек задрожал всем телом, по-видимому, решив, что против него сейчас ополчится вся эта толпа, и приготовившись оказать сопротивление.
— Кажется, Фишингера никто не отвергает, — с сарказмом ответил один из сидящих на сцене. — На мой взгляд, обсуждать тут вообще нечего.
— Согласен, — прозвучал голос из зала. Голос Авраама Эбдуса. Он говорил гораздо спокойнее почитателя Фишингера, который так и не сел. Даже не поднялся со своего места в дальнем углу зала. — Упомянуть стоит, быть может, о Вальтере Руттмане.
На сцене промолчали, лишь Брэкхедж ответил Аврааму кивком. Униженный поклонник Фишингера упал на место.
В этот момент напряженную атмосферу аудитории пронзил еще один истошный крик:
— Черт с ним, с Руттманом. А как насчет Диснея?
Публика вздохнула с облегчением — никому не улыбалась перспектива выслушивать споры о Фишингере и Руттмане, о которых почти никто ничего не знал. Какое-то время все оживленно о чем-то переговаривались. Усмирил публику Брэкхедж, начав отвечать на вопросы. Враждебность мало-помалу рассеялась, те, кто был на сцене, на фоне величия Брэкхеджа как будто уравнялись со слушателями в зале. Публика простила Даже самого молодого из тех, кто был рядом с Брэкхеджем, теперь он по крайней мере молчал. Его простили все, за исключением Авраама. В конце встречи Брэкхеджа попросили спуститься в зал. Авраам разыскал в людском водовороте Дилана, взял за руку и повел к выходу. Дилан почувствовал, что отец пылает яростью, а когда они вышли на улицу и сели в поезд, его гнев стал почти осязаемым. Буря внутри Авраама как будто отрезала их от всех остальных пассажиров, которые закачались взад и вперед, когда поезд тронулся, — от всего города и мира.
Дилану передалось расстройство отца. Авраам хотел продемонстрировать сыну великолепие Брэкхеджа, своего тайного кумира, путеводную звезду, и собственную с ним схожесть — но совсем по-другому. Может, на встрече было слишком много людей? Хотя их в любом случае было бы много, если бы, кроме самого Авраама, Брэкхеджа и Дилана, в зале присутствовал еще хотя бы один человек.
А может, все сложилось бы иначе, не выкрикни тот болван имя Диснея, не преврати он серьезный разговор в глупую шутку.
На Бруклинском мосту им пришлось сделать пересадку и несколько минут ждать другой поезд. От Невинс до Дин-стрит они шли в мрачном молчании, мечтая поскорее оказаться дома и разойтись по своим комнатам. Но этому желанию помешал «помеченный» пьянчуга, до сих пор лежащий на углу Атлантик.
Поза бывшего летающего человека нисколько не изменилась, хотя теперь, как показалось Дилану, он был ближе к сточной канаве. Освещенная фонарем, на покрывавшем спину одеяле поблескивала «ДОЗА».
Авраам очнулся от своей хмурой задумчивости, оторвал взгляд от тротуара, посмотрел туда же, куда пялился Дилан, и застыл на месте.
— Что это?
— Что? — выпалил Дилан.
— Вот это. — Авраам показал на «ДОЗУ».
— Ничего.
— Что это значит?
— Понятия не имею, — беспомощно пробормотал Дилан.
— Нет имеешь, — ответил Авраам. — Я видел это слово у тебя на тетради. — Голос его возвысился. Ярость больше не могла удерживаться внутри отца. — Я видел. Вы с Мингусом пишете это повсюду. Думаешь, я ни о чем не догадываюсь? Считаешь меня идиотом?
Дилан будто онемел.
— Покажи-ка свои кеды.
Авраам вцепился в его плечо, будто когтями коршуна — с непостижимой силой. Свое неодобрение или нежность к сыну он выражал обычно при помощи звуков: громкими шагами, голосом, долетающим из студии до первого этажа. Авраам Эбдус был набором звуков, втиснутых в человеческое тело.
Они стояли посреди холодной ночи на углу Атлантик-авеню, связанные в одно целое хваткой Авраама. Вонючую фигуру на земле, пролежавшую здесь несколько недель и наконец-то кем-то замеченную, окружал ореол фонарного света. Авраам развернул сына и, сощурившись, стал разглядывать его кеды, словно ища на них доказательство причастности Дилана к убийству.
На них смотрели водители проезжавших мимо машин. Проститутка в дальнем конце улицы прошла к углу Пасифик и заговорила со стариком, выгуливавшим собаку, — просто так, от нечего делать. Весна вступала в свои права, женщина чувствовала это по запаху.
— А это что? — спросил Авраам, сильнее вдавливая пальцы в плечо Дилана. — То же самое ведь?
Отпираться не имело смысла. На толстых белых подошвах красовались миниатюрные тэги. Мягкая резина пропускала в себя пасту шариковой ручки, как сливочное масло — зубья вилки. Дилан сделал это открытие на одном из смертельно скучных уроков математики. Конечно, нанося на подошву кед тэги, он портил их, но остановиться не мог. По крайней мере в таком виде их никто бы даже не подумал спереть.
— Это Мингус написал, — услышал Дилан собственный голос.
Авраам разжал пальцы, и оба отшатнулись друг от друга. Физическое отвержение, настолько же неодолимое, как и связанность их перед этим.
— Посмотри на нас! — воскликнул Авраам, прижимая ладонь ко лбу.
Дилан не понял, к чему это относится. И молча ждал.
— Что это означает? — надрывно выпалил Авраам. — Я для этого тебя воспитывал? Чтобы ты так паскудно относился к человеческой жизни? Чем вы с Мингусом занимаетесь на улице, Дилан? Гоняете туда-сюда, как дикие животные? Откуда ты этого набрался?
— Я… — Произнести имя Мингуса во второй раз Дилан не смог.
— Может, все дело в этом ужасном месте. Здесь добро принимают за зло и наоборот. От этого ты со своими друзьями и сходишь с ума, поэтому и докатился до такой жестокости.
О Рейчел речи не было, но и Дилан, и Авраам прекрасно понимали, что говорить об этом районе — все равно что вспоминать о ней. Быть может, они и жили здесь до сих пор только ради нее, из желания сохранить ее дом. В этом разговоре они сами того не желая подошли к тому, о чем никогда не заводили речи: порочности Рейчел. Слово «животные» Авраам произнес с какой-то особой интонацией и теперь испытывал жгучий стыд.
— Мы живем в трудное время, — сказал Авраам, переходя на менее опасную тропинку, пытаясь отделаться от посетившей их обоих мысли. — Мир сошел с ума, этим все и объясняется.
Ответственность за человеческое тело на улице с надписью «ДОЗА» на спине нес Джеральд Форд или Аб Бим, а может, и сам иранский шах.
Кто-нибудь из здешних жителей, услышав слова «Иди к черту», вполне мог понять их буквально. Особенно люди с Невинс-стрит.
— Этот район погубит нас, и все по моей вине. Прости меня, Дилан. Мне следовало раньше подумать об этом. — Внезапно, почти автоматически, Авраам стал превращаться в себя обычного — во всем разочарованного, все презирающего. Возможно, его угнетали воспоминания о сегодняшней встрече в «Купер Юнион» или о Рейчел, или о чем-то еще, кто мог знать? Дилану от этого было не легче.
— Посмотри на нас, Боже! — простонал Авраам.
Единственный путь очищения от грехов начинался возле их ног.
— Он хоть жив?
— Не знаю, — ответил Дилан.
Авраам опустился на колени, осторожно положил руку на плечо человека, легонько потеребил его и попытался повернуть на бок. Дилан наблюдал за ним в немом ужасе.
— Вы… — нерешительно произнес Авраам. Какой вопрос уместно задать мертвецу? Вам удобно? Все в порядке? Авраам выкрутился, ограничившись коротким «Эй».
Невероятно, но человек на асфальте пошевелился, дернул руками и ногами и прохрипел:
— Какого черта?
Он покрутил головой и ударил в воздух локтем. Как бы долго он ни спал, проснувшись, вспомнил о каком-то конфликте, необходимости защищаться от кого-то или чего-то. В нос Аврааму шибанула вонь, он испуганно отдернул руку.
Они и не надеялись, что человек жив. И оба ужаснулись мысли, что разговаривали над спящим. Быть может, он даже слышал их.
— Все в порядке, приятель, — глухо произнес Авраам. Дилану показалось, отец решил, что человек на асфальте просто упал в обморок, а не врос в этот клочок земли, поселившись здесь. — Мы вызовем «скорую».
На улице появилась скучающая проститутка. Было тихо, машины почти не ездили, и зеленый свет светофора на перекрестке совершенно бессмысленно сменялся красным. Женщина раскачивающейся походкой перешла дорогу и обратилась к троице — мальчику, высокому, худому мужчине и грязному бродяге на земле.
— Развлечься не желаете?
Лучшие краски имеют замечательные названия: «прозрачная вода», «слива», «желтый Джона Дира», «фруктовое мороженое», «королевский пурпур». На них позарится даже слепой, если кто-нибудь прочтет ему эти названия. Краски — главное в создании объемных букв, украшенных заклепками и струйками крови, окруженных облаками звезд, зигзагообразными молниями или примостившимся сбоку, как церемониймейстер, котом Феликсом. Рисуются эти шедевры на стенках вагонов метро, на школьных заборах, оградах площадок для игры в гандбол, и уходит на все часов пять-шесть кропотливого труда посреди глухой ночи. Рисуют, распыляя краску из пульверизатора, двое ребят: наиболее талантливый берет на себя очертания и теневые эффекты, второй только заполняет контуры. Двое других парней обычно стоят на страже — в конце квартала или у входа в депо. Домой художники возвращаются в кошмарном виде, с головы до ног перепачканные краской. Бдительные родители сразу догадываются, в чем дело. Наркоманы не обращают на такие мелочи внимания.
Главное — подобрать нужные тона. То есть наведаться в «Маккрори».
Сегодня на Дин-стрит собирается артель: временная, быть может, на один раз. Ее возглавляет Мингус Руд. В составе команды Лонни, Альберто, Дилан и сам Мингус. У них есть план, намеченная схема действий, которая, как и само мероприятие, придумана Мингусом. Может, он узнал все эти секреты от других ребят, но это не имеет особого значения. Команда находит его план блестящим и со всем соглашается. Точнее, они в восторге от предложения Мингуса, опьянены, окрылены.
«Маккрори» — это универмаг на Фултон-стрит. Через квартал от него есть еще А&С — «Абрахам и Строс» — восьмиэтажный монолит в стиле арт деко, машина времени, встроенная в блистательную магазинную утопию. Там страшновато: попахивает Манхэттеном, разгуливают охранники — бывшие копы, — а лифтеры носят униформу. На седьмом этаже А&С — гастроном с длинными полками, полными шоколада, на восьмом — игрушки, паззлы и отдел, в котором продают коллекционные монеты и марки. А еще — музыкальный магазинчик, откуда еще ни одному мальчишке не удалось стащить пластинку. Уличные хулиганы А&С не трогают, быть может, удерживаемые воспоминаниями о том, как ходили сюда в детстве, садились на колени Санта Клауса. Атмосфера в А&С чересчур мечтательная.
В «Маккрори» провернуть дельце гораздо проще. «Маккрори» — это, по сути, подделка под «Вулворт». Тут пахнет попкорном, продают бижутерию, разложенную в витринах из оргстекла, есть фотобудка и закусочная. Дети заказывают там молочные коктейли на украденные здесь же деньги. На нижних этажах продают белье, детскую одежду и произведенные неизвестно кем паршивые кеды. Распродажи «Снова в школу» сменяются тыквами из гофрированной бумаги, те, в свою очередь, — нитями рождественских гирлянд, за которыми следуют валентинки, пасхальные штучки и летние акции. Над всем этим плавают записанные на пленку голоса. На первом этаже товары для дома. Вот сюда и направится команда Дин-стрит. У них все готово.
Как предусмотрено планом Мингуса, Дилан стоит, будто кого-то ожидая, в толпе снующих туда-сюда покупателей: большей частью темнокожих дам, волочащих за собой детей. Сегодня он надел очки и полосатую рубашку «Айзод», одолженную Мингусом, застегнул ее на все пуговицы, как самый настоящий тихоня-отличник. За плечами у него рюкзак, только набитый не учебниками, а мотками проволоки.
Лонни, Альберто и Мингус на первом этаже «Маккрори» переносят банки-распылители с места на место, ходят взад и вперед мимо указателей «НЕ ЗНАЕШЬ, ГДЕ ТО, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО, СПРОСИ» и полок с фотоальбомами. Все трое — два черных мальчика и один пуэрториканец — привлекают к себе внимание охраны «Маккрори». Это им и нужно: их задача — накалить атмосферу. Они довольны, что вновь попались на глаза охране, когда тащили «Крайлон» в проход между полками, но банки прячут осторожно, когда в их сторону никто не смотрит. Пару раз, когда в руках ничего нет, они даже разыгрывают хулиганские сценки, показывая друг другу жестами, будто намереваются запихнуть банку с краской за пазуху.
Им весело, их смешит эта игра — подготовка к ограблению магазина.
Пять минут спустя там же появляется Дилан, делающий вид, будто к тем троим не имеет никакого отношения. Щуря глаза, он осваивается на игровом поле, оглядывает ярко освещенный лабиринт проходов между полками, покупателей, охрану и своих приятелей. Вдыхает запах попкорна. Охрана, состоящая в основном из крепких ямайских женщин, как и следовало ожидать, по пятам следует за Мингусом, Лонни и Альберто, двигающимися в глубь отдела, к полкам с мусорными ведрами, граблями и метлами, где следить за ними гораздо сложнее. Дилан хмурится, поправляет очки и с невинным видом подходит к полкам, которые они выбрали вчера днем. Наступает самый ответственный момент. С замиранием сердца, отяжелевшими от страха пальцами Дилан достает банки «Крайлона», спрятанные Мингусом, Альберто и Лонни, и складывает в рюкзак: «мандарин», «хром» «морская волна».
Сегодня ты белый парень, годный для дела.
И пусть Мингус и впредь думает, как использовать вашу непохожесть для пользы.
Дилан устремляется к выходу. Банки в рюкзаке тихо постукивают друг о друга. Настоящее сокровище. Продолжая создавать уже совершенно бесполезную сумятицу, трое друзей Дилана внезапно расходятся в разные стороны. Мингуса, лучшего актера, ловят и обыскивают две охранницы. Альберто орет им от дверей: «Пошли на хрен!». Просто так, потому что ему ничего за это не будет.
На Фултон-стрит они собираются у автостоянки — все тяжело дышат, хотя бежали меньше полуквартала. Добыча быстро оценивается, перекладывается в карманы. Теперь пусть самые ловкие на свете охранники попробуют догнать их! Они устремляются вниз по Хойт-стрит, воображая, что удирают от погони, смеясь и крича:
— Что, бегать не умеете? Ноги не двигаются? Вот придурки!
Животные, говоришь, Авраам? Мы покажем тебе животных.
* * *
Молча они отправились в путь — через Флэтбуш по Сент-Феликс к больнице из красного кирпича, примыкавшей к парку Форт Грин. Субботний день в начале апреля, прогревающийся воздух, щебет неугомонных птиц и захмелевшие от солнца дети. Звуки сливаются в радостную песнь и стучатся в больничные окна. Но и весенняя свежесть, проникающая в распахнутые окна, не в силах уничтожить вонь в палатах для алкоголиков и наркоманов — запах пропитанных ядом и лекарствами тел, зловоние умерших. Никто не опасался, что через окна в больницу залетят птицы: убийственный смрад останавливал их не хуже стекла.
Дилан остался на пороге. К нему подошла медсестра с изумленно приподнятой бровью. Авраам приблизился к кровати. Руки лежащего на ней человека привязаны к металлическому каркасу, кисти свисают, крупные и беспомощные. Пальцы одной заскорузлой ноги смотрят в сторону, вторая повернута вовнутрь, как у танцора, колени закрывает простыня. Левая бровь и щека сошлись будто в подмигивании. Из капельницы в руку перетекает что-то зелено-желтое, на постели под ней — пятно того же цвета. Все расплескивалось, делалось кое-как. Представить себе, что этот человек летал когда-то по небу, было почти невозможно.
Авраам нахмурился, видя привязанные запястья и зеленую корочку на игле капельницы, задыхаясь от омерзительного запаха. За больным не ухаживали как следует. С ним следовало обращаться как с человеком, а не как с пьяницей или преступником. Он выжил в невообразимых условиях и уже потому заслуживал внимания. Медсестра с Ямайки стояла у двери и, насупившись, наблюдала. Всем своим видом она выражала несогласие с посетителем, явно решившим, что больница не заботится об этом пропащем как подобает. Но ведь он сам себя сгубил, как тысячи других людей, и хотя его привез в больницу светлокожий человек, пьянчуга обойдется и без нежной заботы.
— Он что-нибудь ест? — спросил наконец Авраам.
Медсестра закатила глаза.
— Если хочет, ест. Мы не кормим пациентов силой.
— Я бы хотел побеседовать с врачом, — безапелляционно заявил Авраам.
— Доктор приедет в четыре часа, сейчас его нет. — Она подошла к кровати, вынуждая Авраама посторониться, и принялась демонстративно поправлять капельницу. — Не нужен здесь доктор.
— Тогда отведите меня к вашему начальству.
Медсестра хмыкнула, ничего не ответила, вышла из палаты и повела Авраама по коридору. Ее белые тапочки громко шуршали по выложенному плиткой полу.
Дилан остался один на один с больным.
Авраам был для этого человека спасителем, но пьянчуга не сказал ему ничего, кроме парочки ругательств. С Диланом же он когда-то встречался и сейчас вспомнил об этом. Опухшие веки раскрылись.
— А-а, белый мальчик.
Неужели он сейчас снова попросит деньги? Но какая польза прикованному к кровати больному от пятидесяти центов или даже доллара? Дилан инстинктивно опустил руки в карманы. Денег там не было.
— Подойди поближе, дай взглянуть на тебя.
Дилан шагнул к кровати.
— Мы виделись раньше.
Это был не вопрос, но Дилан все равно кивнул.
— Хе, хе. Открой-ка вон тот ящик. — Продолжая как будто подмигивать, человек кивком показал на тумбочку у кровати, на которой здорово бы смотрелись цветы, если бы кто-нибудь вздумал их сюда принести. — Ага, этот самый. Открой!
Дилан потянул за ручку, боясь обнаружить в ящике шприц с наркотиком, который летающему человеку приспичило вогнать себе в вену.
В ящике лежал потрепанный бумажник из искусственной кожи, плоский, как обложка для проездного, водительские права, выданные Аарону К. Дойли в Колумбусе, штат Огайо, в 1952 году.
И серебряное кольцо, которое Дилан видел в парке на пальце у летающего человека.
— Да, да.
— Кольцо?
— Я сдаюсь, я выхожу из игры, дружище. Больше не могу бороться с воздушными волнами.
— Вы хотите…
— Возьми его.
Когда Авраам и медсестра бегом вернулись в палату, человек на кровати метался и вопил в предсмертной агонии или белой горячке, или бог знает в чем еще. Все его тело покрывал пот, кровать содрогалась. Из-за привязанных рук казалось, что он и грохочущая койка — одно страдающее существо. Игла капельницы выскочила из вены, и зелено-желтая жидкость забрызгала все вокруг. Мальчик прижимался к дальней стене, но не паниковал, а спокойно наблюдал. Медсестра фыркнула, демонстрируя, что ничуть не удивлена, что насмотрелась такого вдоволь. Авраам, ничего не добившийся разговором со старшей сестрой, потянул мальчика к выходу. Надо полагать, ребенок наказан в достаточной мере. Рев больного сводит с ума. Слышать это очень тяжело.
Дилан сжимал подарок в кулаке, руку засунул глубоко в карман брюк. Кольцо будто пульсирует в его вспотевших пальцах, словно волшебный талисман, словно напоминание о припадке, в котором бился человек на больничной койке.
— Что он говорил? — осторожно поинтересовался Авраам, когда они прошли несколько кварталов и больничная желтизна начала казаться страшным сном.
Дилан только пожал плечами. Летающий человек много чего говорил.
Но, может, Дилану это только послышалось? «Борись со злом!» Нет, именно так он и сказал.
Глава 10
Начало лета 1977 года: многие выросли, многие сроки истекли. Взять, к примеру, Барретта Руда-старшего. Приговоренный к десяти годам заключения, он отбыл шестилетний срок, за примерное поведение досрочно освободился и едет теперь на «Грейхаунде», сидя у окна, наряженный в зеленый костюм из гладкой блестящей ткани, в котором он был на суде. В запотевших окнах танцуют под рев автобусного двигателя отражения зданий. Из багажа у Барретта Руда-старшего только черный портфель, он поставил его на пол между ног. В портфеле документы и пара фотографий: на одной подросток Барретт-младший со своей тогда молодой, а ныне покойной матерью, на втором — улыбающийся пятиклассник Мингус в докторской шляпе с квадратным верхом и кисточкой. Фотографии вставлены в искусно сделанные из пачек «Мальборо» и «Парламента» рамки. Еще в портфеле лежит пара запонок, сложенный в трубочку галстук и Библия в кожаном с позолотой переплете. Встретить Барретта Руда-старшего должен Мингус. Они возьмут такси и поедут на Дин-стрит. Конечно, Мингус захочет сам понести дедов портфель, но Руд-старший откажет ему. Без обид, дорогой мой внук, священник Барретт Руд еще полон сил.
А теперь взглянем на Аарона К. Дойли, спустя неделю появляющегося на этой же автобусной станции в старом пиджаке Авраама, с билетом до Сиракуз в нагрудном кармане. Это тот самый пиджак, в котором Авраам ходил на последнюю выставку Франца Клайна, организованную еще при жизни художника. Аарону Дойли пиджак маловат и чуть не трещит по швам. В Сиракузах его встретит представитель Армии спасения, который поможет ему устроиться в приют — там платят семьдесят пять центов в день и предоставляют койку в обмен на письменное обещание записаться в Общество анонимных алкоголиков, где среди остальных обделенных и потрепанных жизнью Аарон Дойли будет единственным черным. Все это будет, если он решится-таки сесть в автобус до Сиракуз. Гляньте-ка на него. Достал билет и задумался, наверное, прикидывает, не сдать ли его, чтобы получить деньги и купить на них бутылочку «Кольта». Все очень просто. К счастью, мы заблуждаемся. Аарон Дойли находит в себе силы отказаться от соблазна, садится в автобус, еще не выехавший из темного гаража, и начинает рассеянно крутить указательным и большим пальцами правой руки воображаемое кольцо на левой. Он не помнит, где и при каких обстоятельствах потерял его, и уверен, что оно теперь никогда к нему не вернется. Но оставим Аарона Дойли, он больше не таинственный летающий человек, а невообразимо одинокий алкоголик с забавным именем, поднятый с асфальта, вымытый, возвращенный к жизни и теперь покидающий этот город.
Перепрыгнем еще на две недели вперед: теперь в автобус забирается Дилан Эбдус. На указателе маршрута написано «СЕНТ-ДЖОНСБЕРИ, ШТАТ ВЕРМОНТ». Отец кивает на прощание, глядя на сына сквозь тонированное стекло. В последние дни он жутко зол на свой город и изгоняет из него всех, кого хочет защитить: сначала вытянутого из пьянства Дойли, теперь собственного сына. Дилан отправляется на север, в Новую Англию, на отдых, организованный фондом Фреш Айр. Рейчел в пятидесятых подобным же образом проводила время и всегда оставалась довольна. А если ей нравилось, должно понравиться и Дилану. Она одобрила бы их решение, это понимают и отец, и сын, не могут не понимать. Вскоре Авраам поймет, что интуиция его не обманула — во время июльской аварии и вызванного ею разгула преступности, в день бандитского нападения на магазин пуэрториканцев, осколки окна которого будут еще долго устилать тротуар. Отключение электроэнергии и охота на Берковича окрасят это лето оттенками беды, но Дилана несчастья обойдут стороной, он проведет июль далеко от Нью-Йорка, в полном довольстве.
Но не будем торопить события. Дилан еще не в Вермонте, пока даже не думает о нем. Сегодня первое утро после окончания седьмого класса. Учебный год позади, как и весна. На некоторое время о школе № 293 можно напрочь забыть и не появляться на Смит-стрит целых три месяца.
Восьмой класс — как не подтвержденный еще слух, очередной пункт, вписанный в намеченный план, но за целое лето измениться может все что угодно, Дилан это по опыту знает. Он и Мингус, и даже Артур Ломб свободны и от уроков, и от необходимости играть заранее определенную роль прогульщика или жертвы, впереди у них целое лето и уйма времени на полезные дела. Кто знает, какими они станут к концу каникул? Сейчас это не волнует Дилана. Он свободен, легкомыслен, восторжен и думает лишь об отдыхе.
Сегодня, в первый день свободы, он назначает свидание самому себе. Авраама нет, и Дилан поднимается к нему в студию, открывает чердачный люк, взбирается по лестнице на крышу и идет по гудронному покрытию навстречу первому летнему утру.
Он никогда не боялся высоты, но, оказываясь на крыше дома, испытывает легкое головокружение. Но не в те моменты, когда смотрит вниз, на землю, а когда устремляет взгляд вдаль, в сторону Кони-Айленда. На башни Манхэттена глазеть даже легче. Они вызывают благоговейный трепет, заставляют почувствовать себя маленьким и ничтожным. А еще лучше — подойти к самому краю крыши, сесть на колени, вцепиться в каменный карниз, который поднимается примерно до щиколоток, и поглядеть на собственный двор: деревья, кирпичную груду, заросли сорняков и заляпанный грязью сполдин, отсюда кажущийся кусочком розовой плоти. И тогда невзрачная реальность вдруг подарит тебе надежду.
Неприятнее всего стоять к Манхэттену спиной и смотреть на противоположную часть города. Тогда кажется, что находишься где-нибудь в канзасской прерии и смотришь на горизонт. Перед тобой откроется вид на тысячи крыш — точно таких же, как та, на которой ты стоишь. Огромная флотилия паромов, бескрайняя шахматная доска, гладкость которой нарушается высотками Уикофф, рекламным плакатом одежды «Игл» и высокой платформой в районе канала Гованус. Манхэттен — россыпь горных пиков, а Бруклин — плоский бутерброд, который поклевывают голуби и чайки.
Необъятное небо, голуби и чайки — и ты, на крыше собственного дома, с кольцом летающего человека на пальце.
Дилан стоит у каменного карниза, близко к краю, ставит на него ногу, согнув колено. Ему видна вся Дин-стрит, верхушки недавно посаженных деревьев, крыши проезжающих мимо автобусов. Голова идет кругом, и он убирает с карниза ногу. Что толку торчать тут и пялиться вниз? Желание полетать остывает, мало-помалу уходит. Может, это ошибка. Человек с кольцом должен совершить свой первый полет в небывалом подъеме духа, а не трусить и, падая вниз, ломать себе шею — слишком долгие раздумья и головокружение ничем другим, конечно, не закончатся.
Закрой глаза, шагни вперед и узнай, наконец, что такое воздушные волны, если они вообще существуют. Заставь себя.
Хорошо, хорошо. Дилан отступает назад, собираясь сделать разбег. Пяти шагов, наверное, будет достаточно. Если бы кто-то наблюдал за ним со стороны, то решил бы, что он трусит, но это совсем не так. Ему нужно отскочить от крыши, будто на пружине, и полететь.
Но вдруг, словно получив шлепок по голове невидимой рукой с неба, он падает на колени, ужасаясь тому, что собрался сделать. Сжав руку с кольцом в кулак, обхватив ее второй ладонью, Дилан съеживается, содрогается и, даже не пытаясь сдержаться, надувает в штаны. Моча стекает к щиколоткам, впитывается носками, капает на размягченный теплый гудрон.
Наверное, все дело в кольце, что другое может заставить тебя так спокойно, почти осознанно помочиться в брюки?
Надо забыть о летающем человеке: броситься с крыши не так-то легко.
Автобус, не сумев объехать длинный белый лимузин перед домом Барретта Руда, остановился, гудя, как холодильник, преграждая путь машинам, едущим на Бонд-стрит. В автобусе только два пассажира, один из них всю дорогу клевал носом. Водитель нажал на гудок, и ленивую дремоту влажного дня пронзило звучное мычание. Но шофера в лимузине не оказалось. Он ушел в магазин Рамиреза купить бутылочку «Миллера» и бутерброд с ветчиной и сыром.
Всех, кто не торчал в этот момент у окна, разглядывая лимузин, не на шутку испугало странное гудение. Последний день июня обещал отметиться грандиозным представлением. Никто не ждал ничего такого, но они солгут, если скажут, что не загорелись страстным желанием увидеть продолжение инцидента. Мужчины на улице замерли с бутылками в руках, женщины перегнулись через подоконники, пылая любопытством.
Ла-Ла, заплетавшая Марилле косички у окна на первом этаже, начала сильнее дергать подругу за волосы, пока та не воскликнула:
— Черт! Что с тобой сегодня?
Белый мужчина в бейсболке с надписью «Ред Сокс», выгребавший сегодняшний урожай фантиков и бутылочных крышек из цветочных клумб в своем дворе, что-то пробормотал себе под нос.
Авраам Эбдус выводил серой краской очередную фигуру на целлулоиде и ничего не слышал.
Дилан тоже не видел лимузин. Он сидел в уединении под деревом на заднем дворе и с жадностью читал «Кокон разрастается» Семи Челлас — новую книгу из серии «Нью Белмонт Спешиалс», обложку которой рисовал Авраам.
Шофер лимузина вышел из магазина старика Рамиреза с наполовину развернутым бутербродом, увидел громадину автобуса посреди дороги и, сообразив, в чем дело, чуть не выронил бутылку с пивом. Застрявшие в пробке машины отреагировали на его появление продолжительным ревом гудков.
— Одну минутку, мои сладкие, одну минутку, — прокричал шофер лимузина, заводя двигатель и отъезжая к Невинс.
На улице снова воцарилось спокойствие. Зрителям уже стало казаться, что им просто померещилось, и они вернулись бы к обычным занятиям, если бы лимузин, объехав Бонд, не вернулся на прежнее место, к дому Барретта Руда. На этот раз шофер никуда не пошел — съел в машине бутерброд, ленивым движением выбросил за окно обертку и стал рассеянно смотреть в зеркало заднего вида, намереваясь спокойно поковыряться в зубах.
Лучи солнца, пробиваясь сквозь ветви деревьев, заливали белую крышу машины ярким светом.
Вскоре шофер задремал. Жизнь казалась прекрасной.
Наконец дверь дома Барретта Руда открылась, и зрителям почудилось, что перед ними распахнулась воскресная газета на страницах с карикатурами. Один за другим на крыльцо выплыли злодеи из «Бэтмена» и другие персонажи. Фанк-команду — певцов, гитаристов и всех прочих — сопровождали два заморыша. Музыканты заехали к Барретту Руду по пути в Фултон Молл; их вид потрясал воображение: розовато-лиловые перья, оправы очков в форме звезд, блестящие плащи с подплечниками, какие-то штуковины на головах, изображающие молнии, космические ботинки, каблуки в шесть дюймов, бородки, как у короля Тута, обилие вышивки.
Они высыпали из дома счастливые и шумные, оживленные гостеприимством и кокаином Барретта Руда, двигаясь жеманно, как группа шутов. Жителям Дин-стрит почудилось, будто они смотрят на сошедшее со стены уличное художество. Видение быстро исчезло: каждый из музыкантов хлопнул по ладони остановившегося на пороге Барретта Руда — одетого в халат и спортивные штаны — и устремился к калитке. Блистательная белая коробка лимузина проглотила весь этот хаос блеска, тонких тканей и кривляний, шофер протер глаза и повернул ключ зажигания. Машина тронулась, проехала до конца улицы и скрылась из виду.
Барретт Руд-младший некоторое время еще стоял на крыльце, хихикал, качал головой, потирал тыльной стороной ладони похолодевшие от кокаина нос и губы, продлевая удовольствие от всеобщего внимания. Никто из соседей, наверное, и не догадывался, что живет бок о бок со звездой. Эх, если бы они только знали! Жаль, что он пел в составе группы и его имя не звучало так же часто, как «ленч».
А впрочем, эти белые и пуэрториканцы, быть может, и песен-то их никогда не слышали, а его самого, вероятно, принимали за гангстера или сутенера, нагло заявившегося сюда и купившего дом, который он и не собирался ремонтировать.
Барретт стоял долго, уперев руки в бока, таращась в пространство перед собой, нутром ощущая заинтригованность всей улицы. Потом очнулся и вернулся в дом.
Только когда дверь за ним закрылась и Дин-стрит пришла в себя от промелькнувшего видения — лимузина, костюмов и певцов, — кто-нибудь из ротозеев наверняка заметил эту замершую в тени сбоку от дома фигуру. Старика с хмурым лицом, курчавой черно-белой бородой, в белой футболке и с золотой звездой Давида на цепочке — Барретта Руда-старшего.
До сих пор о приезде еще одного представителя семьи Рудов ходили лишь слухи. И вот Руд-старший впервые показался соседям на глаза. Наблюдение же за ними он вел давно. Сидел у облупившейся батареи на первом этаже и приглядывался ко всем, кто проходил по тротуару мимо дома: к Марилле и Ла-Ла, к мальчишкам с мячами, унаследовавшим от Генри заброшенный двор, к владельцам собак, выгуливающим своих питомцев и тайно сбрасывающим кучки дерьма в сточную канаву. Он наблюдал и за фанк-компанией, слышал взрывы их смеха, от которых чуть не обрушились потолки. А теперь сидел во дворе, показывая себя всей улице. Как и сын, он хотел сейчас, чтобы его увидели.
Научиться обставлять Артура Ломба в шахматы кольцо ничуть не помогло, в этом не было сомнений. В течение часа он трижды проиграл ему. Они сидели, ссутулившись, на залитом солнечным светом крыльце дома Артура, как две разморенные ящерицы на серой скале. Дилан мысленно умолял Артура сходить на кухню за томатным соком, бутербродами с индейкой и печеньем, которые его мама каждое утро перед уходом на работу заворачивала в бумагу и убирала в холодильник. Перерыв на ленч был хорошим поводом отвлечься от атакующих пешек и убийц-ладей, в любой момент готовых раздавить несчастных коней, сонных слонов и опрокинуть голого короля Дилана. Мама Артура, узнав о его приятеле, стала оставлять в холодильнике вдвое больше бутербродов. Стать постоянным сотрапезником мальчишки, у которого нет других друзей и чья мать об этом прекрасно знает, не составляло труда. Дилан догадывался, что мать Артура подкупает его бутербродами. Может, и сам Артур об этом догадывался, потому-то и клацал так омерзительно зубами во время еды. Казалось, он хочет перемолоть в муку дни наступившего лета, убить их как пешки на доске.
Его собственные пешки почти никогда не покидали доску и настойчиво атаковали фигуры Дилана. По завершении игры Артур вновь и вновь убеждал его начать следующую партию. Если в этот день играли «Янки» или «Метс», было поспокойнее. Все внимание Артура сосредотачивалось на Филе Риззуто или Линдси Нельсоне, «Метс» он обычно предрекал провал, а «Янки» подбадривал криками и восхвалял. В другие дни они слушали какую-нибудь из сорока любимых радиостанций Артура — осточертевшие «Вернемся к тому, с чего начали» или «Очарование дня».
— Классная песня, — объявлял Артур, когда в очередной раз слышал «Конвой». Почему она ему нравилась, он никогда не говорил. Наверное, считал, что Дилан воспринимает его слова как нечто безусловное, не требующее комментариев.
А Дилан ни о чем его не спрашивал, не желая попадаться на удочку, молча сидел и крутил вокруг пальца серебряное кольцо. Он как будто выстраивал вокруг себя стену, забывал обо всем на свете и летал в воображении.
Артур, пытаясь привлечь его внимание, повторял несколько раз:
— Алло! Алло! Есть кто дома?
Иногда для разнообразия они отправлялись на Флэтбуш за комиксами — «Фантастической четверкой», «Защитниками» и «Призрачным всадником». На прочитывание выпусков уходило пять минут, затем Артур укладывал их в пакеты, убирал на полку и снова расставлял на доске фигуры.
Однажды, вконец измучившись и едва не сходя с ума, Дилан в очередной раз опрокинул поверженного короля и неожиданно сказал:
— Пошли посмотрим, дома ли Мингус.
Артур вытаращился на него.
— Я не ослышался?
— Конечно, нет.
— Ты познакомишь меня с Мингусом Рудом?
Лицо его выражало изумление и одновременно торжество. Как будто, десять дней изводя Дилана утомительными партиями в шахматы, он стремился именно к этому результату.
— Почему бы и нет, — ответил Дилан.
— Я обеими руками «за».
Дилан пожал плечами, не желая показывать, что для него такой поступок — нечто запредельное. Он дал себе слово никогда не приводить Артура даже в окрестности Дин-стрит, по крайней мере тогда, когда их могли увидеть шатавшиеся по округе компании. Теперь он нарушал еще одну данную себе клятву. Но, если подумать, она ведь и не имела особого смысла. Белая кожа Артура не могла усугубить положение Дилана и не делала его еще более светлым.
А при виде пешек, снова возвращающихся на доску, он бы не выдержал и точно тронулся бы умом.
Мингус оказался дома. Сидел на боковом крыльце, наполовину скрытый в густой тени, мечтательно глядя на предмет в руках, будто на живое существо, нуждающееся в защите. Новенький, без единой царапины сполдин.
Когда они подошли к крыльцу, Мингус поднял голову, и Дилан мгновенно определил, что его друг опять заглянул в морозилку отца, угостился ее содержимым и теперь ловит кайф, наслаждаясь одиночеством. Глаза его неестественно блестели.
— Нашел, — объявил Мингус, показывая сполдин.
— Это Артур, — негромко произнес Дилан, стремясь поскорее оставить позади момент представления друг другу двух своих приятелей, знакомить которых он прежде и не собирался. — С Пасифик.
Мингус с преувеличенным интересом взглянул на Артура и протянул руку.
— Здорово, Артур! Как поживаешь?
— Нормально, — застенчиво пробормотал Артур.
— Па-си-фик, — протянул Мингус, с трудом шевеля языком, будто пробуя слоги на вкус. — А на Пасифик у тебя нет друзей, Артур?
— Там… Хм… Нет ребят моего возраста.
— Правда? — Мингус скорчил удивленную гримасу. — Кажется, я понимаю, о чем ты, м-да. Как ты думаешь, кто потерял этот мяч, а, Артур? Какой-нибудь маленький пацаненок?
— Скорее всего, — промямлил тот. Ему было неловко поддерживать этот разговор, он чувствовал себя не в своей тарелке в этом чужом дворе и выдавал глупые ответы.
— Сыграем? — предложил Мингус.
Артур беспомощно глянул на Дилана.
— Что скажешь, Ди-мен?
— Если бы еще вспомнить, как это делается, — небрежно бросил Дилан, показывая Артуру, насколько давно и крепко он дружит с Мингусом.
— Сейчас я такую подачу тебе покажу!
— Валяй.
Может, это лето как раз ждало тот момент, когда они вернутся к прежнему, чтобы окутать их, как мягким желе, светом и теплом. Квартал внезапно превратился в музей под открытым небом — в музей прошлого. Двор заброшенного дома принял их так радушно, словно давно мечтал опять стать полезным. Хорошо, что на них смотрел Артур, если бы не он, Дилан и Мингус так не старались бы. Им захотелось вдруг показать этому парню, что такое Дин-стрит, рассказать, с чего все начиналось. Если бы не Артур, Дилан и Мингус опять отправились бы расписывать ДОЗОЙ фонарные столбы или затеяли бы очередную секретную операцию.
И еще новенький сполдин. Розовый мяч тоже нес ответственность и смотрелся сейчас в руках Мингуса нерешенной проблемой, давней, снова занывшей раной.
Сначала их было трое. Мингус стоял на крыльце и, поворачиваясь то вправо, то влево, бросал мяч. Дилан перешел на другую сторону улицы. Артур встал посередине, надороге, под навесом из ветвей и играл в пределах поля, а когда проезжала редкая машина, отбегал к тротуару.
— Черт, вот это да! — крикнул Мингус безупречно поймавшему мяч Дилану и ответил на удачу товарища красивым броском к центру. — Помешай ему, Арти, Артур Фонзарелли, Фонзи, А-мен.
К игровому полю стали стекаться и другие ребята, выбираясь из дома или приходя оттуда, где болтались без дела, как будто притянутые магнитом, тайным зовом. Никто из них и не догадывался, что скучает по детству, пока не увидел Дилана и Мингуса посреди улицы, как будто вышедших из прошлого. Былые дни для всех незаметно превратились в историю, в светлую мечту. С Диланом и Мингусом играл никому не известный неуклюжий белый парень, то и дело вскрикивая, не успевая ловить точно брошенный Мингусом мяч.
Кто мог пройти мимо, не остановиться, не поглазеть на это?
— Король Артур, старик, ты опять промазал!
— Извини.
— На кой черт мне твои извинения? Мяч лови!
Мингус бросил сполдин, и тот, прочертив в воздухе дугу, пролетел высоко над припаркованными на противоположной стороне улицы машинами и устремился к полуразрушенному крыльцу дома. Дилан рванул назад, подпрыгнул, и прохладный резиновый мяч, только что лежавший в руках Мингуса, теперь у него в ладони. Небрежным броском Дилан послал его обратно. Мингус покрутил головой, сдержанно выражая восхищение, чтобы не переборщить.
Подошел вразвалочку Альберто, держа руки в карманах. Быстро оценив ситуацию, он встал позади Артура, не желая мешать, но надеясь, что и ему выпадет шанс поймать мяч. Потом к ним присоединились Лонни и двое младших испанских ребят, чьи имена все постоянно забывали. Мингус показал, куда кому встать, и продолжил игру.
У ограды дома Генри появились Марилла и Ла-Ла, старательно делающие вид, что им нет никакого дела до играющих парней.
Самого Генри, который теперь учился в Авиационной школе в Куинс, здесь давно не видели. Он был призраком, легендой игры в мяч, человеком, подарившим свое имя всем известному крыльцу.
Кого-нибудь из пятерых, ловивших мяч, следовало сделать игроком нападения. Но сегодняшние правила устанавливал Мингус. Артур и маленькие мальчишки вообще не знали толком, как играть, Альберто был доволен, Дилан, сообщник Мингуса, тоже со всем соглашался. Он знал, насколько упрямым делается его друг, когда испробует травки, не раз наблюдал за ним, рисующим в таком состоянии тэги или пытающимся что-то доказать. Сегодня Мингус намеревался играть до последнего, до тех пор, пока не сделает решающий бросок — то есть перекинет мяч через забор.
Артур бросал на приятеля безумные взгляды, толкаясь с младшими посреди дороги. Теперь уже Дилан был одним из старших ребят Дин-стрит. И чувствовал себя в сто раз увереннее, бросаясь к летящему мячу и хватая его обеими руками.
Марилла пела тонким голоском: «На вечеринках я просто стояла…»
Дилан подпрыгнул в тот момент, когда мяч летел у него над головой, вновь уверенно поймал и приземлился, довольный собой. Белый парень работал сегодня как машина для ловли мячей.
Ты летал.
«Боялась выйти, потанцевать…»
Артур выбил летящий близко к земле мяч куда-то в сторону и побежал за ним, остальным пришлось ждать.
— Эй, Мингус, — наигранно весело сказал Лонни. — К твоему отцу недавно приезжали «Фанк Моб».
— Понятия не имею, о чем ты, — ответил Мингус с бесстрастным видом.
— Ты должен был видеть их, старик. Они приехали на белом лимузине, перегородившем всю улицу. Разодетые как придурки.
— Ты какую траву сегодня курил, Лон?
— Только не говори, что не понимаешь, о чем речь, — вмешалась Марилла.
Накануне Дилан краем уха слышал, как Эрл и еще пара ребят болтали о каком-то лимузине и толпе музыкантов в нелепых нарядах.
— Я никого не видел, — заявил Мингус, довольный собой, увлеченный бессмысленностью отрицания очевидного факта.
— Врешь, — воскликнула Ла-Ла, качая головой.
Мингус вскинул руку, и сполдин взвился высоко над позолоченной солнцем листвой.
— Лови! — насмешливо крикнул Мингус.
Дилан рванул вперед, подпрыгнул, и мяч вновь влетел прямо ему в руки.
Словно кольцо и сполдин состояли в какой-то магической связи. А ты был посредником между ними.
— Черт! Мой приятель классно прыгает!
Дилан бросил мяч Мингусу, чувствуя на себе пораженные взгляды всех, кто был тут.
— Только посмотри на своего друга, король Артур. Вот как надо играть.
— Да, — кисло ответил Артур.
Марилла вскинула голову и опять запела, как-то зло растягивая слоги: «Хоть об э-э-этом только и мечта-а-ала — отдаться зву-у-укам, свободной ста-а-ать…»
К моменту появления Роберта Вулфолка Дилан с блеском предотвратил девять верных бросков мяча за забор и превратился почти в живую легенду, в волшебную охрану дальнего тротуара и воздушного пространства над ним. Никто уже не играл, кроме них двоих — обкуренного Мингуса и летучего Дилана.
Всех остальных будто выбросило на берег, они прыгали посередине как обезьяны, которым скармливают жалкие объедки с человеческого стола.
Марилла и Ла-Ла предпочли не заметить прошедшего мимо них Роберта. Прославиться на всю Дин-стрит стремительным исчезновением за углом у него теперь не получилось бы — вот что выражали они своим звучным, высокомерным пением: «Вы-ышла я в улицу и вижу: мне навстре-ечу шага-аешь ты…».
Вдохновленный, опьяненный, Дилан решил не бояться сегодня Роберта — ведь он был у себя в квартале, с кольцом Аарона Дойли на пальце. Тем более в присутствии Артура Ломба, всеми признанного слабака. Когда взгляд Роберта устремился на его приятеля, Дилану показалось, что мысли Вулфолка, собравшегося поиздеваться над Артуром, стали вдруг слышны всем, будто то был Уайл И. Койот с его идеей подменить Бегуна жареной курицей.
И еще ему показалось, что Роберт до сих пор продолжает воевать с Рейчел, не замечая, что ее давным-давно нет на Дин-стрит. Впрочем, это личные проблемы Роберта. Дилан же теперь, бывало, ни разу за целый день не вспоминал о Рейчел.
А сегодня вспомнил.
— Эй, Гус, приятель, дай-ка мне мяч на минуту, — сказал Роберт, чуть склоняя набок голову и поводя бровью. — Я верну, ты же знаешь.
Другой в подобной ситуации попросил бы принять его в игру. Роберт предпочитал ворваться в нее. Он был буквально пропитан запахом криминала, при каждом удобном случае пускал в ход свои дурные качества.
Мингус тоже склонил голову и изучающее уставился на Роберта, будто видел перед собой самого Мартиана. Остальные разбрелись в стороны, наполовину испуганные, наполовину разочарованные. Артур нахмурился и посмотрел на Дилана — своим обычным беспомощным взглядом. В любой миг он мог упасть на землю и разыграть очередной приступ астмы.
— Лови! — неожиданно крикнул Мингус, бросив мяч Роберту, и, очевидно, забыв о своем азарте нападающего. У него это здорово получалось — вспыхнуть и погаснуть, как спичка. — А я присоединюсь к моему другу Ди.
Дилан сдвинулся, и Мингус встал с ним на одну линию — два защитника пространства над головой. Свой первый бросок коварный Роберт сделал почти от самой земли. Мяч перелетел через дорогу на уровне глаз, ударился о припаркованную машину и отпрыгнул назад, едва не оторвав голову Артуру. Роберт и по сей день оставался мастером неожиданных рикошетов, как автомат для игры в пинбол, который много лет исправно глотал монеты.
— Меня уже ждет мама, Дилан, — угрюмо сказал Артур. Неуместность этой фразы выдавала его замешательство. Ну при чем здесь мама?
— Ага, — безразлично ответил Дилан.
— Ну, я пошел.
Наверное, Артур решил, что Дилан должен проводить его до дома или, по меньшей мере, выйти из игры, чтобы попрощаться.
— Пока.
— Эй, король Артур! — крикнул Мингус, забавляясь. — Здорово же тебя долбануло мячом.
— Было приятно познакомиться.
— Передавай привет Пасифик, дружище, и твоей маме.
Альберто и Роберт прыснули, а Мингус и Дилан сделали вид, что все нормально. Мингус так умел сказать «твоя мама», что всем становилось безумно весело.
Артур развернулся и зашагал прочь — побитая пешка. А Марилла пропела: «Свою прежнюю робость я ненавижу…»
Роберт подался вперед и внезапно согнулся, еще резче бросая сполдин.
Альберто прислонился к ближайшей машине, даже не думая ловить мяч, и повернул голову к Мингусу и Дилану, которые дружно вскинули руки.
Я иду осуществлять мечты…
Подпрыгнув вверх, Дилан увидел весь свой квартал и с легкостью задержался в воздухе, под самыми ветками, над дремлющими машинами. Мингус тоже устремился за мячом, но подпрыгнул не так высоко. Розовый сполдин коснулся ладони Дилана, будто притянутый некой силой. Отсюда, сверху, Дилан взглянул на Мариллу — песня ее звучала необычно протяжно: «ме-еч-чты-ы-ы» — и на Роберта, на макушке у которого виднелась не то чтобы плешь, но участок редких волос. Мяч пульсировал в ладони, будто дышал. Боковым зрением Дилан увидел бредущего домой Артура. Он не умел ловить мяч, и ничего не мог с собой поделать. Потом посмотрел на классные сиськи Ла-Ла и удивился, что сразу нашел для них точное определение, хотя впервые в жизни обратил внимание на сиськи. Вообще-то он теперь был должником Артура, ведь все случилось благодаря ему. Были ли по-настоящему нужны Дилану сестры Солвер? Или мог устроить свое счастье, свое будущее и без них, начиная прямо с этого дня? Может, жизнь и секс — все, что имело для человека значение, — существовали здесь, на Дин, всегда?
Он услышал, как рядом на землю шлепнулся Мингус, попытавшийся скопировать прыжок друга, но безуспешно. Ему ведь не помогало кольцо летающего человека, и он не мог взвиться так высоко.
Дилан почувствовал себя музыкальной нотой, прозвучавшей с опозданием, но звонко и чисто. Может, все они были частью песен — дети Дин-стрит. А Мингус оставался «Дозой». Хотя Дилан тоже распространял по улицам его метку, она всецело принадлежала его другу. Мингус брал у отца наркотики, и в этом не было ничего ужасного, даже наоборот. Роберт же на всех нагонял страх своим редким коварством, преступными замашками. Но он родился и вырос в криминальном районе, и это говорило само за себя. Артур Ломб, несчастный белый парень, попал сюда почти случайно. Он был неплох, только еще не знал об этом.
Что до Дилана, то теперь он владел кольцом. На Дин-стрит появился свой супергерой: не кто-то из музыкантов, что приезжали сюда на лимузине, а летающий мальчик. Ему следовало сшить себе особый костюм, забраться на крышу и начать бороться со злом, а уж потом как-нибудь раскрыть всем свою тайну. Но сегодня ему следовало помалкивать, несмотря на родившуюся в сердце любовь ко всем, кого он видел с высоты.
Марилла пропела под музыку ей одной слышного оркестра: «Я иду осуществлять мечты. У меня сегодня бал, любимый!»
Дилан мягко приземлился — долей секунды позже, чем Мингус, — держа в руке прохладный мяч. В какой-то момент, когда он висел в воздухе, все его тело покрылось испариной.
— Мальчик-кенгуру! — воскликнул Мингус. — Витаминов небось нажрался.
Ла-Ла ответила Марилле язвительным: «Я устала, любимый, я устала…».
Казалось, лето семьдесят седьмого года подходит к концу, хотя было только начало июля. Во двор школы № 38 собрался приехать и покрутить пластинки великий диджей Флауэрс со своей командой. Слух быстро разлетелся по округе. Сегодня был самый жаркий день, но никто не жаловался, не чувствовал усталости. Даже когда солнце раскрасило Манхэттен и гавань в оранжевые тона, всем, кто знал, что их ждет впереди, казалось: день еще даже не начался. Пиво, сколько его ни глотали, не утоляло жажду, не успокаивало. Прелюдией к основному мероприятию стал общий пикник на Берген. Жарили на решетке мясо, знакомились с соседями, парочка испанцев играла на барабанах, в общем, ничего особенного. Малыши носились как оголтелые — девочки и мальчики, испанцы, черные и белые — все вместе. Они купались в солнечном свете, участвовали в конкурсах, в которых выигрывали мячики и гномов с зелеными волосами, подставляли мордашки под кисть клоуна — чьей-то матери, весь день парившейся в парике и костюме. Дети бегали и верещали, пока, к четырем часам, не выдохлись и не начали капризничать. Старшие ребята ждали ночи, убивая время кто как мог: сидели на ступенях домов, рассматривали огромный баллон с гелием, которым наполняли воздушные шары, объедались паеллой по полтора доллара за порцию.
К шести во дворе школы № 38 появилась первая группа ребят, хотя Флауэрса никто не ждал до наступления темноты. Компания быстро разрасталась. Местные заводилы решают уже сейчас начать мероприятие, так сказать, разжечь аппетит. Муниципальная школа № 38 — территория группы «Флэмбойен», их прославленный диджей Стоун работает в подвале расположенного по соседству молодежного центра «Колони Саут Бруклин». Именно «Флэмбойен» пригласили Флауэрса, но это не означает, что от них все теперь в восторге. Двор школы № 38 служит местом сбора для совершенно разных компаний — из Уикофф-Гарденс, Атлантик Терминалс, ребят из Сары Дж. Хейл.
Являются и «Диско Инфорсеры», прослышавшие о приезде Флауэрса и тоже изъявившие желание принять участие в мероприятии. «Флэмбойен» обнаруживают, что окружены со всех сторон толпой народа, тогда как они намеревались порадовать Флауэрса только самими собой и, конечно, чем-нибудь «горяченьким». «Флэмбойен» ждут. Стоуна — если бы не Флауэрс, он был бы сегодня королем Бруклина. Конкурирующие группировки выставляют свои проигрыватели и усилители, при этом стараясь не демонстрировать их посторонним и изображая крайнее удивление, видя все то же самое у соседей. Это своего рода игра. Они прекрасно знают, что пластинки у всех, включая Флауэрса, примерно одни и те же.
Первыми выступают «Инфорсеры»[3] — группа черных парней. Название кажется забавным, но то, что они показывают, смеха не вызывает. «Инфорсеры» исполняют на роликовых коньках апрок.[4] Танцоры полуприседают, крутятся на одной пятке, хватают себя между ног и машут кулаками. Диджей из Ред-Хук зациклился на «Фэтбэкин» и «Мексиканце» Бейба Рута, но ставит и Элвина Кэша и «Реджистерс» — что-то незнакомое. Танцоры разворачиваются дугой по площадке, руки и ноги движутся в бешеном ритме, из-под роликовых колес вылетают россыпи искр.
Если посмотреть брейкеру в глаза, то можно увидеть, что он избегает встречаться с тобой взглядом, будто стесняется. Начать танцевать апрок не так-то просто. Гораздо легче стоять с недовольной гримасой, скрестив руки на груди, слегка покачивая головой, — тебе кажется, что и ты смог бы проделывать все это, и даже лучше.
Музыка гремит, разливаясь по Пасифик, Невинс и Третьей авеню, сообщая тем, кто не знает: у тридцать восьмой творится нечто грандиозное.
Следующие на очереди «Флэмбойен». Большинство зрителей рады, что «Инфорсеров» сменил Стоун. Он не просто танцует брейк-данс, он весь ему отдается. И если «Инфорсеры» сами заводят толпу выкриками, то у Стоуна есть для этого человек с микрофоном, который, судя по всему, считает себя его младшим братом. Зовут парня Эм-Си Рафф, он тощий и подогревает публику непрерывным речитативом.
Никто из «Флэмбойен» не танцует — брейк Стоуна и крики Раффа и без того превращают двор в подобие «Соул Трейн».[5] Их музыка — ничего особенного, «Рай прекрасен» и «Любовь — послание», но в весьма неожиданных обработках, которые поражают слушателей. Особенно оригинальна «Любовь — послание». Исполнители — «ЭмЭфЭсБи», запись студии «Филли Грув». Официально их название расшифровывается как «Мать, отец, сестра, брат», на самом же деле — «долбаные сукины дети». У каждой команды по четыре-пять двенадцатидюймовых пластинок — никто не возражает.
Спустя пару часов опять звучит «Любовь — послание», теперь версия Флауэрса, более захватывающая. От самого Флауэрса исходит какая-то магия. Он похож на переселенца из Ямайки или Вест-Индии, и как будто не намерен ни с кем соревноваться. Флауэрс — один из первооткрывателей брейкданса, из тех, кто доказал, что даже под песни с немудреной мелодией и так себе вокалом люди могут танцевать как безумные. Сегодня вечером Флауэрс вновь это доказывает. С Берген давно убрали все столики, там нечего больше делать. Три сотни подростков толпятся во дворе школы номер тридцать восемь, в центре танцуют брейкеры. Никто не намерен затевать драку, но каждый бдительно следит, чтобы ни на нем, ни на его девчонке не остановился чей-нибудь подозрительный взгляд. Здесь собрались конкурирующие группировки, а танец агрессивен и резок, и, казалось бы, без разборок не обойтись. Но все проходит мирно, и вряд ли жителям окрестных домов придется звать копов, которые отнимут ножи, покрутят перед толпой своими дубинками и разгонят всех еще до полуночи.
Выступление Флауэрса длится так долго, что эта ночь превращается в легенду. Джемсейшн-77, накануне масштабного отключения электроэнергии. Озаренный прожекторами школьный двор свяжется в памяти с ночью, проведенной со свечами, — она наступит неделю спустя. В памяти всех, кроме белого паренька, единственного светлокожего в огромной толпе, который пришел сюда с другом по имени Доза. Белый мальчик не увидит всеобщего мрака и беспорядков. Он проиграл последнюю партию в шахматы, съел оставленные миссис Ломб бутерброды с индейкой, а завтра сядет в автобус и отправится в Вермонт. Благодаря фонду Фреш Айр.
Сегодня Дилана никто не трогает. Черт его знает почему, наверное, потому что все и в самом деле настроены мирно. Дилан вбирает в себя все, что видит и слышит, даже кричит «Хо-о» и «Оу», отвечая вместе с толпой на призывы Флауэрса, хотя и навлекает на себя в эти моменты косые взгляды кое-кого из стоящих рядом. Но этим дело и ограничивается. Просто потому что он сегодня счастливчик или из-за кольца. Может, оно сделало его невидимым. Или черным.
Кто знает?
Черно-белая фотография Фиделя Кастро в бейсбольной форме.
если метс хотели бы общаться с коммунистами они поехали бы на кубу к этому парню а он вполне подходит для стадиона уполномоченный крабОткрытка выскользнула из пачки пригласительных билетов и меню китайских забегаловок, впихнутых в почтовый ящик. Приземлилась текстом вверх на ковре в прихожей. Авраам и бровью не повел, поднял открытку и положил ее на столик в гостиной, к предыдущим. Он надеялся, что ничего важного в этих посланиях не содержится, во всяком случае, такого, что не могло бы подождать до возвращения мальчика. Читать открытки Краба у него не было ни малейшего желания.
Глава 11
На поверхности озера показался рот рыбы — видимо, она решила подышать воздухом. Высокую траву на берегу и кроны деревьев серебрил утренний туман. Небольшая полусгнившая пристань, на которой сидел городской мальчик, почти касалась серо-зеленой воды. Рассмотреть похожую на игрушку рыбку и ярко-зеленые, как брокколи, растения под водой было легче, чем противоположный берег.
— Рыба в тумане, — сказал Базз, хулиганистый подросток из семьи Уиндл, в которой жил городской мальчик. — Смотри-ка, что я сейчас сделаю. Учись.
Базз постоянно демонстрировал городскому мальчику деревенские штучки, которые тот сам никогда бы не решился проделать, даже если бы ему заплатили. У шестнадцатилетнего Базза уже были усики, он общался с компанией прошедших Вьетнам парней. Они собирались у вроде бы исправного, но вечно стоявшего на одном месте «мустанга». Как-то раз городской мальчик увязался за Баззом и провел в кругу его приятелей целый день, пока не получил команду отправляться домой. Взрослые друзья Базза собирались на загаженной машинным маслом, поросшей сорняком дороге, где курили одну за другой сигареты, мочились в бутылки из-под «Пабст» и отпускали шуточки на непонятном мальчику сленге.
Выдернуть рыбу из озера и оглушить броском о мшистые доски пристани было глупо и жестоко. Мальчик не проявил ни капли интереса к тому, что с такой ловкостью проделал Базз. Столбики, поддерживающие пристань на берегу, скрывала трава. Мальчик, закутанный в чужой желтый плащ, повернулся лицом к полю за домом и ссутулился еще сильнее — олицетворение одиночества, лишенный Бруклина ребенок. Вермонт, 1977 год.
Впрочем, он видел здесь и хорошее отношение к рыбам. Хэзер, тринадцатилетняя дочь Уиндлов, была на год его старше. Мальчик постоянно чувствовал на себе ее взгляд. Скорее всего интерес к гостю разожгла в ней его странная манера разговаривать и стрижка «под горшок» — то и другое сильно отличало мальчика от Базза.
Хэзер была блондинкой, как и девочки Солвер. Она с легкостью гоняла на велосипеде и напоминала детей с картин Брейгеля или Де Чирико.
Сидя рядом с этой девочкой на пристани, ты мог поделиться с ней тем, о чем ни за что не отважился бы рассказать кому-нибудь в Бруклине.
Наверное, в такие моменты ты был счастлив.
Хэзер Уиндл шла по тропинке. Из своего желтого плаща она уже выросла, и он не закрывал ее ног. Ступая по мокрым камням, Хэзер покачивалась из стороны в сторону и ладонью с растопыренными пальцами шлепала на себе комаров.
С мальчиком из города она общалась как с братом.
— Привет, Дилан.
— Привет.
— Чем занимаешься?
— Ничем.
Хэзер остановилась у пристани, рассеянно взглянула на столбик, прячущийся в траве.
— Ты чем-то расстроен?
— С чего ты взяла?
— Не знаю. Просто ты выглядишь расстроенным.
Может, он и правда грустил. Хотя если бы ему позволили провести остаток месяца рядом с ней, здесь, на пристани, или в поле, в тумане, да где угодно, лишь бы не на загаженной маслом дороге и не заполненной машинами автостоянке, то все было бы замечательно. Дилан с удовольствием перенесся бы из мира Базза в реальность Хэзер. Ему хотелось, чтобы она позволила ему уткнуться носом в нежный пушок на ее щеках, вдыхать запах белокурых волос.
— Я ждал тебя, — услышал он собственный голос.
Хэзер ничего не ответила — молча шагнула на пристань и села рядом с ним на мокрые доски, возле испещренного дождевой рябью окна озера.
— Может, ты грустишь, потому что у тебя нет мамы? — спросила она наконец.
— Я вовсе не грущу.
— Но сюда приехал, наверное, именно поэтому?
Дилан пожал плечами.
— У многих детей, которых отправляет на отдых фонд Фреш Айр, есть мамы. — То же самое он объяснял накануне вечером какому-то забулдыге с повязкой на глазу, поэтому сейчас говорил с легкостью. — Главная их задача — отправить ребенка из города куда-нибудь на природу. Твои родители, наверное, тоже считают это правильным.
— Да, — ответила Хэзер. — У нас и в прошлом году отдыхал один мальчик, только черный.
— Мой лучший друг тоже черный, — сказал Дилан.
Хэзер на мгновение о чем-то задумалась и придвинулась к нему. Рукава их плащей соприкоснулись.
— А я ни разу не была в Нью-Йорке.
— Ни разу?
— Нет.
— Ты и представить себе не можешь, что это такое.
Хэзер напряглась от любопытства, и, почувствовав ее интерес, Дилан будто озарился изнутри.
Конечно, он грустил и ждал ее сочувствия.
Ему вдруг захотелось открыть ей свой секрет, показать то, что он привез из Нью-Йорка. Волшебное кольцо. И свой костюм.
— Знаешь, что такое граффити? — спросил он.
— Угу.
— А роспись вагонов?
— Нет. А что это?
— Это когда расписываешь вагон, пока он в стоит в депо.
Да, он определенно должен открыть ей свою тайну. Но прежде расскажет о Бруклине.
Мать Хэзер позвала их с чердака под скатом крыши, где они играли и шептались, и Дилана обжег внезапный стыд, потому что на главное он так и не отважился и потому что возникло неприятное чувство, будто его тайные желания проецируются на стене внизу, как кадры из фильма. Они сидели здесь, словно чердачные мыши, дети-невидимки. А услышав голос матери Хэзер, обменялись понимающе-недовольными взглядами и без слов направились к лестнице.
— Попытайся позвонить домой, — сказал Дилану отец Хэзер, сидевший на стуле перед телевизором. Окутанный мраком Нью-Йорк на голубом экране был освещен лишь язычками пламени.
Авраам ответил после четвертого гудка.
— У нас все в порядке, только какие-то ненормальные орут. Рамирез подкатил к магазину свой фургон, закрыл им окно, а сам стоит на улице с дубинкой. Я его вижу. По-моему, его ждет жестокое разочарование.
Дилан чуть было не спросил о Мингусе, но передумал.
— Здесь теплынь, очень хорошая погода. Я в студии, может, нарисую сейчас звезды или Рамиреза. Только не волнуйся.
— Ладно.
— С тобой все в порядке, Дилан?
— Конечно.
— Позови миссис Уиндл.
Дилан отдал ей трубку, повернулся к Хэзер и, демонстрируя осведомленность, сказал:
— Все нормально. У нас это постоянно бывает, только в новостях обычно не говорят.
На лице миссис Уиндл, положившей трубку, застыло изумленное выражение.
По телевизору подробности не передавали. Но, разговаривая с отцом, Дилан слышал в трубке звон стекла и крики людей. В ту ночь он долго лежал с открытыми глазами и видел перед собой горящий город.
Пока миссис Уиндл делала в супермаркете покупки, они втроем крутились возле газет и журналов. Базз всем своим видом показывал пренебрежение. Дилан и Хэзер сели у стойки с комиксами, и Дилан терпеливо принялся объяснять ей, в чем состоит тайна Нелюдей. Базз просмотрел журналы для автомобилистов, пролистал «Хай таймс» и неторопливо зашагал прочь.
Дилан обратил внимание на женщину в заляпанном синем переднике и вооруженную палкой, как Грязный Гарри «Лютером». Она явно следила за Баззом. Хэзер ничего не заметила. Дилан улыбнулся и вернулся к комиксам.
Будто черного парня ловят на воровстве.
Идя вслед за матерью к кассе, Базз разыгрывал перед всеми невинность: рассматривал жвачку на полке, перекидывался с другими бессмысленными фразами. Женщина с палкой и лысый директор с суровым лицом стояли у нерабочего кассового аппарата и ждали, когда Базз направится к выходу вместе со всем тем, что успел спрятать за поясом брюк и в рукавах. Миссис Уиндл и Хэзер удивились, когда директор остановил их.
— Сожалею, миссис Уиндл, — произнес он с печальной неотвратимостью в голосе. — Мы вынуждены вновь задержать Базза.
— О Базз! — простонала миссис Уиндл.
Базз саркастически скривил губы, переминаясь с ноги на ногу, — актер, участвующий в спектакле, отказаться от которого у него не хватает ума.
— Ну почему ты не общаешься со своими ровесниками? Неужели прошлое тебя ничему не учит?
Они прошли в небольшой кабинет без окон, где Базз послушно выложил на стол «Хот Род», «Пентхаус» и коробку патронов из отдела для охотников и рыбаков.
— Я ведь предупреждал тебя: если подобное повторится, мы вызовем шерифа.
— Скажи же что-нибудь! — потребовала мать Базза.
— Это мне надо было вызвать шерифа, после того, что со мной сделал Леонард, — пробурчал Базз. — А лучше вообще здесь больше не появляться!
— Ты прав, Базз, так было бы лучше. А Леонард ничего особенного тебе не сделал.
— Как это не сделал! — воскликнул Базз. — Он вцепился в меня, как бульдог, а вы ни слова ему не сказали!
— Разве Леонард вцепился в тебя без всякого повода?
— Подождите нас в машине, ребята, — сказала миссис Уиндл Дилану и Хэзер.
Домой ехали молча. Удрученный Базз на переднем сиденье смотрел в окно, высовываясь чуть ли не по пояс. Хэзер и Дилан сзади корчили друг другу рожи. В какой-то момент Дилан задрал рубашку, будто стриптизер, показывая заткнутые за пояс выпуск «Нелюдей» и две шоколадки «Нестле Кранч». Хэзер удивленно вытаращилась и прижала руку ко рту. Дома они сразу забрались на чердак и поделили шоколад, а Базз отправился выслушивать отцовские нотации.
Бруклинские методы в Вермонте срабатывали блестяще. Стянуть в супермаркете две шоколадки и комиксы, особенно когда все внимание служащих сосредоточено на другом воре, ничего не стоило.
Базз прикрыл Дилану задницу, как сказал бы Мингус.
Днем наступало время расслабленности. Ты бросал велосипед на траве или на гальке — в общем, там, где он тебе надоедал, — скидывал с себя футболку и шлёпки и плюхался в воду, потому что катался на велосипеде в надетых с самого утра плавках. Груди Хэзер были будто вложенные под ее топ сливы, и каждый раз имелась возможность взглянуть на ситуацию совершенно иначе. Ты смотрел на нее с разных сторон, накапливал информацию, сравнивал то, что видишь, с уже впихнутыми в тебя знаниями, как те, которые получаешь из рекламы.
По меньшей мере дважды в день Дилан повторял, что в августе ему исполняется тринадцать.
В те далекие времена — когда дом, озеро, поле, двор принадлежали только им двоим — казалось настолько естественным завалиться вместе на диван, оставляя на нем пятна от мокрых плавок и купальника. Полежать с минуту, тяжело дыша, потом внезапно разразиться диким хохотом, а мгновение спустя уже сидеть на стульях у стойки, размешивая фруктовый концентрат в холодной воде из-под крана. Или подняться с запотевшими стаканами на чердак, где в лучах солнца кружили психоделические стаи пыли.
Они лежали полуголые на клетчатом кроватном покрывале и сосали кусочки льда.
— Я уже губ не чувствую.
— Я тоже.
— Вот дотронься.
— Холодные!
— А теперь ты.
Преимущества загородного житья дарили им свободу удивляться всему и вся. В Нью-Йорке лед наверняка не доставил бы им столько радости.
— Поцелуй там же, где и я.
Пауза, попытка.
— Я ничего не чувствую.
— Поцелуй меня в губы.
Они потерли обледенелые губы о запястья, и первый поцелуй вышел легким прикосновением, птичьим клевком.
— У меня челюсть как будто онемела. — Громкий смех.
— Ладно, давай еще разок.
— Угу.
Хэзер закрыла глаза.
Дилан опять прикоснулся к ее губам своими и почувствовал пульсирующее волнение в плавках.
— Ты когда-нибудь пробовала веселящий газ? — спросил он, поддерживая возбужденную веселость.
— Не-е-е-е-а, — ответила Хэзер. — А Базз пробовал.
Базз. Синоним жестокости, презрения, городского равнодушия. Дилан и Хэзер были созданы для полей, озер и смутных воспоминаний о городе. К черту веселящий газ.
— Хочешь, я сделаю тебе массаж спины?
— Конечно.
— Переворачивайся.
Хэзер повиновалась, выполняя условия их негласного договора: в мире только они двое. Эльф и фея, нарушившие табу, немножко глупые — по собственному желанию.
Дилан принялся мять и пощипывать спину Хэзер, довольно ловко.
Ее груди, прижатые к кровати, превратились в белые лепешечки. Дилан с особым усердием помассировал ей ребра, а потом дотронулся до этих лепешечек и на мгновение замер, ощущая их упругость. Сомкнутые веки Хэзер дрогнули.
Когда его руки скользнули вниз и прикоснулись к эластичной ткани на бедрах, она пошевелилась и поднялась.
— Здесь нечем дышать.
Они вышли на улицу, взяли велосипеды и погнали вниз по гравийной дороге — двое детей, убивающих время, как могли подумать люди в проезжавших мимо машинах. Хэзер мчалась впереди, сверкая загорелыми коленями, Дилан — следом, жадно глотая ртом воздух и бесконечный вермонтский день.
Мистер Уиндл припарковал «рамблер» в дальней части автостоянки, чтобы сократить путь до «Блайнд Бак Инн». Базз прикинул, что отец не покинет бар, пока не закончатся оба фильма — «Звездные войны» и «Вечерний сеанс», — и что выйдет оттуда до смерти уставший, отдаст ключи ему, Баззу, и на обратном пути машину поведет именно он. Автостоянка — асфальтная площадка с растущими из трещин сорняками — была заполнена только на две трети.
Пространство в городе, как и время, уходило вперед. А здесь — куда-то вбок. Выход с автостоянки уводил в сторону, в густо росшие деревья.
Сумеречно-темные фигуры — люди, оставившие тут машину, — направлялись к выходу неспешно, перекидываясь репликами, шутками.
— Первый фильм я пропущу, — сказал Базз Дилану, не глядя на него.
Мистер Уиндл направился с приятелями в бар, а Базз великодушно купил Дилану кока-колы, забрал сдачу и склонился над автоматом для игры в пинбол — с таким сосредоточенным видом, будто вознамерился набрать неслыханное количество очков. А может, в его планы входил вовсе не пинбол, может, он просто собирался покурить марихуану. Поблизости крутились такие же, как он.
Базз уставился на игровое поле. В этот вечер оно было далеко не лучшим — небо на горизонте как будто в огромных розово-красных перьях.
— Если хочешь, садись с сестрой в заднем ряду.
Дилан тупо смотрел на него, сжимая в пальцах бумажные стаканчики с колой. Неделя поцелуев с Хэзер превратила его в мечтателя, неспособного угадать, серьезно ли говорит Базз или насмехается над ним. А может, он столь грубым образом благословлял их.
Дилан кивнул, и Базз улыбнулся.
— Готов поспорить: ты считаешь это временное освобождение от общества черномазых лучшим событием втвоей жизни, так?
Они сели в заднем ряду. Дилан заострял внимание Хэзер на самых интересных моментах фильма. Но здесь «Звездные войны», почему-то больше напоминавшие слайд-шоу, не производили такого впечатления, как в «Лоу-Астор-плаза» на Сорок пятой улице. Там Дилан посмотрел «Войны» четыре раза, два последних — один, без компании. Мальчик, восторженно глядящий на будто пульсирующие кадры, с волнением ожидающий любимые эпизоды, заученные наизусть фразы, готовый взлететь со своего сиденья и влиться в поток света от кинопроектора, самому стать этим проектором.
— В парсеках измеряется космическое расстояние, а не время, — продолжал бубнить Дилан, не в силах остановиться, хоть и сознавая, что превращается сейчас в Артура. — Это утверждение — ошибка, но, думаю, они специально так сделали. А Хэн Соло притворяется, будто…
— Дилан, — прошептала Хэзер.
— Что?
Она закрыла глаза. Дилан медленно окончил фразу, безуспешно пытаясь увязать слова с их слившимся воедино дыханием, близостью двух лиц. Как и в прохладном полумраке чердака, на залитом солнцем озере, ничто сейчас не мешало им, и счастье не нуждалось в словах.
Поверить в то, что нет запрета, было почти невозможно. Следовало наконец умолкнуть и поцеловать ее.
Он раскрыл глаза.
Машина Уиндлов неслась по дороге.
То один, то другой из четверых пассажиров прислонялись белыми, как луны, щеками к прохладным окнам.
Светлые волосы спутывались в жгуты, пока они плавали и целовались, стрекоза, присевшая на гладь воды, обдумывала какие-то личные проблемы. Внизу, в зеленой прохладе воды, плавали серебряные рыбы. Мальчику удалось уже потрогать девочку повсюду, занести в список ощущений из Негативной зоны массу нового. Дважды и ее пальцы прикоснулись к его пенису, отчего он чуть не утонул.
Завтра ему предстояло отправиться назад, в Бруклин.
— Возможно, отец переведет тебя в частную школу, — сказала Хэзер, и от ее дыхания поверхность озера между ними зарябилась. Она присела, окунаясь в воду по самый нос, голубые глаза с крошечными зрачками словно раздвоились, отразившись в зеркале озера.
— Откуда ты знаешь?
— Базз слышал, как мама разговаривала с твоим папой. Он говорит, что ты борешься с влиянием черных. — Хэзер повторила придуманную братом фразу.
— А Базз борется с влиянием великовозрастных идиотов, — ответил Дилан. — И, по-моему, проигрывает.
— Еще он говорит, что тебя били.
Дилан нырнул, уходя с головой в тень Негативной зоны. За несколько недель он научился открывать под водой глаза. Здесь они не болели, как в бассейне «Дуглас», что находился за Гованус Хаузис, — Дилан ходил туда пару раз с Мингусом. А еще в этом озере можно было не бояться, что напорешься на битое стекло. Интересно, как бы Базз стал оспаривать это?
Дилан медленно поплыл к светлой, как белый тюлень, Хэзер, купающейся в одних красных трусиках. Ее руки и ноги в изумрудно-желтой воде казались молочными. Она не прогнала его. Он обхватил ее рукой за талию, губами приник к животу, нащупал упругую грудь. Хэзер не ударила его, даже не попыталась вырваться, наверное, считая, что происходящее под водой навсегда останется тайной — его и ее тела.
Когда он вынырнул, хватая ртом воздух, они вышли на пристань и легли обсыхать. Закрыв рукой глаза от солнца, Дилан сказал:
— Я хочу кое-что тебе показать.
— Что?
— Это мой секрет. — Он решил, что сегодня непременно покажет ей кольцо и костюм. Это поможет опровергнуть бредовые высказывания Базза.
— Где этот секрет? — спросила Хэзер.
— Покатайся пока на велосипеде. Съезди за «Маунтин дью». Встретимся здесь же.
Хэзер бесхитростно кивнула, зачарованная.
Вбежав в свою комнату, Дилан надел на палец кольцо и достал костюм. Жутко боясь попасться кому-нибудь на глаза, он выскользнул из дома через кухню и помчался по полю.
А на пристани развернул костюм и взглянул на него впервые со дня отъезда из Нью-Йорка.
Как делать элементарные стежки, которыми он сшил отдельные части костюма, Дилану показал Авраам. Для чего ему понадобилось учиться этому, он не стал объяснять отцу. Костюм представлял собой накидку из старой простыни с изображением льва, прикрепленную углами к вороту небесно-голубой футболки — основной составляющей костюма. Дилан постарался, чтобы лев — вполне подходящий, таинственный знак — оказался в самом центре накидки. Рукава футболки он удлинил, пришив к ним часть штанин от брюк-клеш, оставленных матерью, как и многое другое. В ее шкаф заглядывал теперь только он. Новые рукава смотрелись первоклассно, а руки в них были как языки колокола. Практичностью костюм не отличался, но ведь это всего лишь образец. Экспонат. Перед футболки Дилан растянул на куске картона, разрисовал при помощи спирографа и украсил ржавыми булавками. Вышло не ахти как. Его эмблема была движущейся спиралью, расширяющейся по кругу дорогой атома, который должен тысячу раз пересечь все космическое пространство, чтобы накопить мощь. На футболке эта эмблема выглядела как кривой ноль.
Городской мальчик облачился в свой замысловатый костюм и, окруженный стаей мошкары, стал ждать.
Мгновение спустя натропинке показалась девочка, послышался глухой стук бьющих друг о друга зеленых бутылок, которые она прижимала к животу. Она легко покачивала головой, осторожно ступая по камням босыми ногами.
Девочка положила бутылки у основания пристани и замерла, устремив внимательный взгляд на мальчика.
— Ну и как тебе?
— Что это?
— А на что похоже?
Она, видимо, не догадалась.
Мальчик дернул накидку, мечтая, чтобы поднялся ветер. Воротник футболки натянулся, сдавив горло. Вот этого он не учел. Следовало пришить накидку к плечевым швам.
— Это настоящий я, — сказал мальчик.
Девочка ничего не ответила, даже не шелохнулась.
— Аэромен.
— Что это значит?
— Летающий человек. Дилан Эбдус — мой псевдоним.
Девочка сдвинула брови.
— Мне не нравится.
— Что именно?
— Выглядит странно.
— Костюм еще недоделан. Это только верхняя часть. Скоро будет и нижняя.
— Откуда ты все это взял?
— Сшил. — Он не упомянул ни о кольце, ни об Аароне К. Дойли.
Девочка легонько ткнула ногой бутылку ярко сияющего на солнце «Маунтин дью», на голую ступню упала зеленая тень.
— Ты не похож на себя.
— Но это я, — твердо повторил он. Ему страстно хотелось, чтобы она рассказала о костюме своему братцу и чтобы тот перестал наконец выдумывать разные гадости о Бруклине.
Девочка села, спрятав ступни в траве. Мальчик продолжал стоять, отчаянно выискивая в подруге хоть намек на то, что она сознает всю важность его откровения.
— Дилан.
— Что?
— Если бы ты остался здесь, тебе не пришлось бы переходить в частную школу.
Мальчик оцепенел. Ее слова казались настолько неважными и пустыми, что он не сразу нашелся с ответом.
— Я не останусь здесь, — сказал он наконец, наверное, с жестокостью в голосе.
Хэзер вскочила, как будто получив пощечину — с пунцовым возмущенным лицом.
— Сними это, — велела она. — Мне не нравится.
— Нет.
Хэзер развернулась и зашагала прочь по тропинке, оставив у пристани бутылки «Маунтин дью».
— А как же секрет? — крикнул Дилан. Внезапно налетел ветер, и накидка забилась, как флаг на стадионе.
— Мне все равно, — ответила Хэзер, не поворачивая головы.
— Я не показал тебе то, что хотел! — проорал Дилан, но Хэзер уже исчезла из виду.
Постояв несколько мгновений, Дилан шагнул к краю пристани, присел и развел в стороны руки, готовясь к тому, о чем думал несколько недель. Хэзер вполне могла наблюдать за ним с края поля. Только теперь это уже не имело значения. Ему и не хотелось прославиться здесь, в Вермонте, в этой глухомани, пригодной лишь для отдыха от города, восстановления сил перед возвращением в реальный мир. А в случае Дилана — для подготовки к собственному тринадцатилетию, к общению с городскими девочками, к борьбе с таким злом, о котором в Вермонте и представления не имели.
Дилан прыгнул. Как стрекоза, он летел над водой на расстоянии нескольких дюймов, и гладь озера нещадно слепила ему глаза. Следовало дотянуть до другого берега, чтобы спастись от этого режущего сияния.
Он покружил над высокой травой, спугнув стаю задремавших на краю озера водомерок, и еще дважды пролетел над водой. А приземляясь на пристани, посадил занозу в пятку. Края накидки были мокрые — настолько близко к воде он летел. Значит, нужно не летать без кед и обшить водонепроницаемой тканью края накидки.
Век живи, век учись.
Глава 12
Церковь была устроена в гараже на Декалб-авеню, его окружал низкий белый частокол. Гараж теснился между сварочной мастерской и магазином скобяных изделий. По субботам мастерская работала как в будние дни, там не обращали никакого внимания на проводимые по соседству службы. Ворота то и дело раздвигались, сварщики орудовали ацетиленовыми горелками, на бетонный пол летели снопы искр. Была в этом районе и автомастерская с приклеенным к окну календарем на 1967 год, и музыкальный магазин, витрину которого украшали пустые конверты из-под пластинок — очевидно, чтобы утаить от посторонних тот факт, что продавались здесь вовсе не пластинки. А еще располагалась тут забегаловка, декорированная плакатами тридцатых годов с рекламой кока-колы, на которых пестрели чьи-то давно забытые имена.
Церковь была сооружена из покрытых известью бетонных блоков и украшена дощечкой с надписью: «ХРАМ БОЖИЙ. МЫ ВСЕМ ОТКРЫТЫ» и золотой звездой Давида, но, несмотря на это, оставалась обычным гаражом с обшитыми фанерой дверьми. Внутри можно было увидеть спины и затылки людей, сидящих на пяти рядах складных стульев, и женщину с микрофоном у дальней стены. Августовское солнце безжалостно палило, все, кто собрался в церкви, изнывали от жары. Мужчины ослабили галстучные узлы, широко расставили ноги и закатали рукава. На цветастом платье женщины под мышками и на животе темнели пятна пота. Прохаживаясь туда-сюда вдоль стены, она ловко перекидывала шнур микрофона, чтобы не запутаться в нем ногами, обутыми в туфли на высоких каблуках, такие же цветастые, как и платье.
Двое мужчин, отец и сын, тоже изнуренные полуденной жарой, в костюмах и галстуках, вошли в церковь и заняли места в заднем ряду.
— Мы должны брать пример с пяти разумных дев, ожидающих Жениха, — говорила женщина, напрягая голос. — И пусть наши светильники всегда будут наполнены маслом, чтобы огонь не погас. Да будет.
— Да будет, — отозвались слушатели — кто шепотом, кто громким голосом.
— И когда явится Жених, он увидит наш огонь и увидит, что мы ждем Его, все в брачных одеждах, не запачканных ни единым пятнышком. Ни единым.
— Ни единым.
По завершении службы, когда немногочисленная паства покинула гараж, женщина приблизилась к тем двоим, что явились с опозданием, двум Барреттам Рудам, старшему и младшему. Они поднялись со своих мест.
— Добро пожаловать, — сказала женщина. — Паулетта Джиб.
— Отличная проповедь, сестра Джиб, — произнес Старший, делая глубокий поклон. Узел его галстука, несмотря на жару, был туго затянут.
Паулетта Джиб кивнула в ответ, и все трое вышли на яркий уличный свет. Женщина повернулась к младшему Руду.
— А вы тот самый певец? Из «Дистинкшнс»?
— Барретт Руд-младший, мэм. Но я больше не с ними.
— Я слышала, вы пели и в церкви?
— Да, в отцовской церкви. — Голос певца звучал почти кротко. Сегодняшняя длительная прогулка до церкви-гаража — это подарок Руду-старшему.
Однако Паулетта Джиб сосредоточила внимание именно на младшем Руде, искренне желавшем оставаться сегодня в тени отца.
— Ваше пение дарило людям успокоение, — сказала она.
Барретт склонил голову. За него ответил Старший:
— Мой сын не любит часто бывать в церкви, сестра.
Паулетта Ескинула бровь.
— Зачем же часто? Достаточно и одного раза в неделю — в священный день отдохновения. Ведь сегодня он появился в церкви.
— Я просто сопровождаю отца. Хотел показать ему ваш храм.
На тротуаре у гаража-церкви стоял кто-то из прихожан. Работники мастерской покрывали черным «Крайлоном» металлическую решетку. На асфальте под ней расплылись полосы краски.
— В любом случае вы пришли к нам, благодарение Господу.
Отец наконец-то собрался с духом и заговорил о том, о чем страстно хотел рассказать этой женщине:
— У меня когда-то был свой храм.
Внезапно омрачившийся взгляд Паулетты пронзил его насквозь, словно спрашивая: «Когда же это было? И сколько воды утекло с тех пор?»
В ответе ее, однако, не прозвучало и намека на то, что выразило лицо.
— Любовь строит храмы везде, где поселяется.
Барретту Руду-старшему оставалось лишь угрюмо добавить:
— Благодарение Господу.
Паулетта взяла младшего за руки и проникновенно посмотрела в его глаза.
— Вы согласитесь спеть в нашей церкви в следующее воскресенье? — Она произнесла это таким тоном, будто оказывала ему услугу, а не просила об одолжении.
Но с микрофоком в ее церкви хотел стоять перед паствой не младший, а старший Руд, переминавшийся сейчас с ноги на ногу.
— Не знаю, — сказал младший, не представляя, какой ответ хотел бы услышать от него отец, жалея, что Паулетта вообще заговорила об этом.
— Можете пока не отвечать. — Она похлопала его по руке. — Сердце подскажет вам, как правильно поступить, во сне подскажет. — Ее взгляд устремился на отца. — Надеюсь, и вас увижу на следующей неделе, мистер Руд. Ведь вы еще не обзавелись новым храмом.
— Гм.
Барретт Руд-старший, щурясь на солнце, отвернулся, скорчил гримасу, поправил манжеты, снял несуществующую пылинку с лацкана пиджака и бросил на землю. Искусный трюк ловкача-денди.
Паулетта напомнила и младшему, и старшему покойную мать и жену. Та тоже всегда окружала вниманием сына и почти не замечала отца.
Два маячивших перед церковью прихожанина наконец подошли к ним и протянули Руду-младшему чистый конверт с шариковой ручкой. Девушка в узорчатом платье с голыми смуглыми руками и, очевидно, ее младший брат — худышка в костюме светло-персикового цвета. Парнишка сильно смущался, и обратиться к знаменитости пришлось девушке. Ничего особенного, малость, о которой певца никто не просил вот уже два года: простой автограф.
— Эй, парень.
— В чем дело?
— Ни в чем. Чем занимаешься?
— А ты как думаешь? Тем же, чем и ты — пришел купить чернила.
— О'кей.
«Сэмюэль Андерберг Инкорпорейтед». Поставки розничным торговцам. Квадратная бледно-зеленая пятиэтажка в дальнем конце Флэтбуш, окруженная пустырем и молчаливыми складами, затененная башней Вильямсбургского банка. Это место — ноль во многих смыслах, напрочь убитый район. За Бруклинской музыкальной академией и железной дорогой Лонг-Айленда никто не живет, тут вообще нечего делать. Когда-то сюда планировали перевести Эббетс Филд, поэтому и уничтожили большую часть кирпичных построек. Но здесь не услышишь ни запаха пива, ни аромата жареного арахиса, потому что стадион так и не построили. Это место похоже на набросок огромной руки призрака, выложенный битым кирпичом. Подростки, которые знают все о преступных районах города, пожалуй, сравнили бы это место с Атлантик Терминалс.
На сиротских тротуарах мнутся подозрительные личности. Головы постоянно поворачиваются то вправо, то влево, взгляды бегают, задерживаясь лишь на стене одного из складов — сплошь покрытой граффити.
В центре этого мертвого острова, у зеленой пятиэтажки кипит таинственная жизнь. Владельцы «Сэмюэль Андерберг Инкорпорейтед» ничего об этой жизни не знают, их прибыль не связана с ней никоим образом. Они зарабатывают преимущественно на поставках тележек в магазины самообслуживания — вместо старых сломанных или украденных нищими. Ежедневно со склада грузовик увозит по дюжине тележек — развозит их в супермаркеты всего Бруклина. А еще Андерберг продает резиновые коврики и стеллажи для витрин. В общем, делает свой бизнес. И обеспечивает работой какое-то количество людей, в основном двоюродных братьев и сестер.
Только их бизнес и на треть не объясняет магической притягательности Андерберга для подростков. Весь секрет в паршивеньком выставочном зале, который демонстрирует, что необходимо супермаркету для превращения его в магазин-театр: пучки искусственной петрушки, которые раскладывают между кусками мяса в витринах-холодильниках, пластмассовая салями и роскошные головки сыра, придающие соблазнительность настоящим, яркие таблички в форме рыбок и поросят для деликатесов.
— Эй, парень, что пишешь? Э, да это же Страйк.
— Страйк? Где? — Никто не верит, что автор знаменитого тэга — обычный человек.
— Смотри-ка, он и вправду пишет «Страйк».
— Вот это да! Страйк!
— Попрошу его расписаться в моей тетради.
Выставочный зал Андерберга — единственное место в Бруклине, где совершенно свободно можно купить бутылочку «Гарви Формула ЭксТи-70 Вайолет» в восемь унций — промышленные чернила, в состав которых входят этанол, бутил и полиамидная смола. Чернила разработаны для нанесения цен на замороженное мясо в целлофановых упаковках. И незаменимы, если вы задумали что-нибудь написать на грязном стекле — окне вагона в метро. А еще «Гарви Вайолет» прекрасно подходят для создания самодельных маркеров, вот почему скромный Андерберг так популярен, а стены здания, где располагаются его склады, все время покрываются новыми тэгами. Их выводят соперники, которые, встречаясь здесь, становятся временными сообщниками.
Люди в маленьких шапочках — работники выставочного зала — давно поняли, чего им стоит опасаться, и спрятали бутылки с «Гарви Вайолет» за стойку, поэтому их можно только купить, украсть — никак. Сама стойка представляет собой витрину из толстого стекла, заполненную ножами, секачами и ножницами. Плати пять долларов девяносто девять центов и получай бутылку «Гарви Вайолет», иного способа нет, разве что вооруженное нападение на склад. Любителям граффити приходится здесь проявлять себя по-другому: тайно оставлять на демонстрационных стойках малюсенькие тэги и воровать искусственные фрукты.
Но чаще всего авторы меток приходят сюда с мрачным видом, по одному, бросают на стойку наличные и забирают покупку, а дерзость прячут до возвращения на улицу.
— Эй, приятель, ты слышал это? Он сказал: «Еврею нужен пакет».
— Не болтай ерунды.
— Клянусь, так и сказал. Я не вру.
У каждого из членов группировок с собой тетрадь в черной шероховатой обложке, исписанная своими и чужими тэгами, разрисованная цветными набросками, которые каждый мечтает однажды воспроизвести на стене вагона. Андерберг — это место, где показывают друг другу тетради и собирают автографы, хотя более юные и менее опытные фанаты граффити подвержены риску быть обсмеянными более старшими и матерыми.
С противоположного конца Флэтбуш-авеню, с Четвертой, с Пасифик-стрит, из Уикофф-Гарденс и Гованус Хаузис — группы подростков отовсюду идут и едут к Андербергу, собираются огромной толпой перед зданием, мешая служащим грузить в машину товар. Толпа шумит, сама похожая на картину на стене вагона.
Сегодня перед Андербергом появляются два белых парнишки, оба надеются остаться незамеченными в этом гомоне и неразберихе, — но это оказывается совсем не так просто. Один из них замирает с маркером в руке, едва начав писать на стене тэг.
— Проверь-ка этих белых парней, старик, они не внушают мне доверия.
— Эй, что ты там пишешь, белый парень?
Светлокожий мальчик не произносит ни слова, весь сжимаясь перед лицом угрозы, но с уверенностью дописывая свой тэг на свободном участке между более крупными надписями, нанесенными распылителем.
— Что он там нацарапал? Арт? А-Р-Т?
— У пацана такой тэг, старик. Наверное, он с приветом.
— Тебя что, Артуро зовут, а? На пуэрториканца что-то не похож.
— Да прекрати, оставь пацана в покое.
— Нет, мне интересно.
— Заткнись, тебе говорят.
— Да не трогаю я его, просто хочу понять, что он там написал. Ты с кем, Арт?
Вопрос риторический. Разве может белый мальчик входить в состав какой-то группировки? И какая уважающая себя группировка приняла бы в свои ряды белого? Особенно такого — маленького, похожего на хорька? Что уж говорить о двух белых парнях! Они прямо-таки уменьшились в размерах, стоя у стены Андерберга, съежились по привычке, выработанной в школе № 293.
Сердца белых мальчиков сжимаются сильнее, и едва не пускаются в ход симуляция приступа астмы и прочие способы самообороны. Но в этот момент из двери с только что приобретенной бутылкой «Гарви Вайолет» в руках выходит единственный человек, который может сойти за их группировку: Мингус Руд.
Он оценивает ситуацию настолько быстро, что начинает говорить, еще даже не успев выйти за порог Андерберга. Сунув «Гарви Вайолет» в карман брюк, он даже не смотрит на четверых черных парней, затягивающих петлю на шеях Артура и Дилана, и держится так, будто кроме этих двоих здесь вообще никого нет.
— Какого черта ты там делаешь, Арт-мен? Я ведь сказал, пацаны нас уже ждут. Хорош валять дурака, пошли.
Упоминание о пацанах действует магически. Петля ослабляется. Артур и Дилан покорно кивают и с опущенными головами идут за Мингусом.
Они уходят, и толпе приходится искать себе новый предмет насмешек.
Когда Флэтбуш остается позади, Артур воодушевленно подскакивает к Мингусу, Дилан же продолжает плестись сзади. Артур старательно подражает Мингусу, ссутуливается и начинает шагать так же размашисто, словом, превращается в куклу на веревочках.
— Старик, парни говорили о Страйке, можешь себе представить? Он был там, ставил свой тэг, только я лично его не видел. Может, они просто выдавали желаемое за действительное, черт их знает. Страйк, конечно, сила, но я больше хотел бы познакомиться с Зефиром, у него, на мой взгляд, самая оригинальная метка. Ну, ты понимаешь, о чем я.
Мингус что-то мычит в ответ, но Артуру и этого достаточно.
— Тот парень, который наседал на нас, хотел, чтобы мы в штаны наложили от страха, но если бы ты только видел его лицо, старик, оно как у несмышленыша, чес-слово. Вовремя ты появился, а то я, наверное, надавал бы ему по шее. Он должен тебе спасибо сказать.
Артур произносит слова нечетко, хотя обычно разговаривает совсем иначе, а Дилан удивляется, почему Мингус не стукнет ему по башке, требуя заткнуться. Но Мингус терпит и попугайную болтовню Артура, и его чудесное превращение в совсем другого человека, настолько же низкое, как пренебрежение к «Метс» и страстная любовь к «Янки».
— Я уверен, мы смогли бы с ними справиться, надавали бы им как следует, забрали бы их краску. Хотя вряд ли она у них есть, они же не особо богатые, если судить по стоптанным кедам.
— Потише. — Мингус, не поворачивая головы, берет Артура за рукав и притормаживает. Вынудить Артура заткнуться — задача почти невыполнимая, особенно когда он в таком ударе, но попытаться заставить его не скакать, наверное, можно.
Артур останавливается, а Мингус идет вперед, получая короткую передышку, чтобы заглянуть в самого себя, усмирить свое раздражение. Если он давно не курил травки, ему часто приходится проделывать это. Артур поворачивается к Дилану.
— Эй, как ты считаешь, мы могли бы им как следует врезать?
— Не эйкай мне, — отвечает Дилан.
Он пригнулся к крыльцу, прячась в тени заброшенного дома и прислушиваясь к звуку отдаленных сирен. Откуда-то с Бонд-стрит доносились смех и голоса, пронзая влажный сумрак и улетая ввысь. Ночь была жаркой, но он надел плащ — поверх костюма, примяв накидку, свой панцирь, и обмотав расклешенные рукава вокруг запястий. Тело покрывала испарина. Кольцо он спрятал, подобно долларовой купюре, в носке: страх быть кем-то пойманным и униженным никогда не покидал его. Начать, наверное, следовало с крыш, но забраться на свою собственную он мог только через студию Авраама, а сегодня вечером отец как раз рисовал там. Дилан заглянул туда и увидел его склонившимся над столом. Под тихие, едва различимые звуки джаза из радиоприемника — Роллинза или Долфи — Авраам выводил тоненькой кисточкой какие-то фигурки.
— Я ухожу.
— Так поздно?
— На часок.
— А может, лучше ляжешь спать?
— На один час.
Этот было перед самым восьмым классом.
С чего начать, Дилан не очень-то понимал.
Мингус и Артур расписывали брошенную на городской автосвалке у подножия Бруклинского моста полицейскую машину. Эту операцию планировалось осуществить в несколько заходов, в последние летние ночи. Дилан принимал участие в подготовительных мероприятиях: добыче «Крайлона» из «Маккрори» и создании цветных набросков, а на заключительном этапе вышел из игры. В последнее время его страшно утомляла эта связка Мингус — Артур, и он все чаще задумывался, не провоцирует ли своим присутствием развитие их отношений. Ему захотелось оставить этих двоих один на один, дать Мингусу возможность раскусить льстеца Артура, увидеть, что это за фрукт.
Автором рисунков все равно был Дилан, значит, он по праву мог считать себя причастным к появлению шедевров на стенах полицейской машины. Мингус был исполнителем, Дозой, а Дилан — его неизменным художественным руководителем.
В общем и целом, всех тинейджеров объединяла некая тайна.
В тринадцать лет ты оставлял все больше следов, придумывал себе новые и новые прозвища и все чаще настаивал на том, что свою простыню выстираешь сам.
Подобно непослушным колесикам спирографа, твоя извилистая тропинка постоянно уходила куда-то в сторону.
Для становления Аэроменом требовалось много смелости, только вот очень мешал этот плащ.
Куда в Гованусе податься новоиспеченному супермену, чтобы наткнуться на замышляемое преступление, которое он мог бы предотвратить? Дилан ежился на крыльце заброшенного дома, вслушиваясь в подвывание предосеннего ветра, носившего по улице обрывки смеха и голосов. Вокруг никого, за исключением парочки геев, выгуливающих собаку. На Дин, по всей вероятности, ничего не могло случиться. А на Невинс-стрит с ее проститутками, компанией Рамиреза на углу и постоянно ошивавшимися там парнями из Уикофф зла было слишком много. Равно как и на Смит-стрит. Дилану требовался короткий ночной эпизод, улица, женщина, кричащая, что у нее украли кошелек, словом, классическая сцена из «Человека-Паука», с которой в жизни он ни разу не сталкивался. Похоже, в Гованусе супергероя поджидает чересчур много сложностей.
Наверное, ему нужна высота.
Дилан спустился с крыльца, прошел до угла и зашагал по Бонд-стрит к станции метро Хойт-Шермерхорн, куда в столь поздний час он никогда не отважился бы пойти, если бы не изменились обстоятельства. А они изменились, и весьма серьезно. В плаще Дилан походил на самого себя и вовсе не напоминал Аэромена. И потом, Аэромен не ходит по земле, а летает. Значит, пока Дилан не спрыгнул с крыши, он остается обычным мальчиком в костюме и плаще. Кольцо лежало в носке. Белый мальчик на углу Бонд и Шермерхорн в одиннадцать вечера. Вокруг ни души. Автостоянки и баскетбольные площадки пустовали, здания муниципальных учреждений дремали во мраке, на широких улицах ни звука. Тишина удивляла. Оказывается, в местах, которых ты боялся как огня, никого нет, значит, твой страх был напрасным. Ты опасался, что там-то или там-то тебя прибьют, и никогда туда не ходил, и другие не ходили по той же причине, — так какой толк хулиганам от этих мест?
Ночная жизнь в этом районе бурлила под землей, в длинном, пропахшем мочой переходе метро. Вход располагался в самом центре квартала. Это была берлога нищих, спавших под застекленными рекламными плакатами — напоминанием о тех временах, когда Абрахам и Строс еще не сообразили, что рекламировать товары в переходах метро не имеет смысла. Вот тут-то пахло настоящей опасностью. Дилан вовремя смекнул, что в подземном переходе летающий человек не принесет пользы. И избежал ошибки, радуясь собственной предусмотрительности. Какое счастье, что он даже не заглянул в этот переход.
Быть может, ему все-таки отправиться на Смит?
Завтра начинался восьмой класс.
Аэромену хотелось убраться с улицы, пока не поздно, и в то же время услышать наконец крик о помощи.
Под ногами завибрировал асфальт, когда к платформе внизу подъехал очередной состав. Из перехода вышли и слились с ночью несколько одиноких фигур. Аэромен стоял у фонарного столба и наблюдал. Белая женщина бросила на него тревожный взгляд, осматриваясь вокруг. Она пошла в сторону Бонд, потом свернула на Стейт-стрит.
Обливаясь потом и сильно сутулясь, Аэромен побрел за ней.
Быть может, что-нибудь произойдет. Ее страх будто заворожил Дилана. Он видел, как напряжена женщина, и все больше возбуждался. Вот кому требуется защита Аэромена — пугливому созданию, идущему по темной улице, фонари которой укрыты густыми ветвями деревьев.
Идя за незнакомкой быстрыми, уверенным шагами, он достал из носка кольцо и надел на указательный палец левой руки. С утопавших во тьме крылец слышались голоса пьяниц — бессильных наблюдателей, неспособных помочь женщине.
Она была скромно одета, напугана, проклинала тот день, когда впервые услышала слово Бруклин, и тем более тот час, когда согласилась снять за весьма невысокую плату один из этих известных на весь Нью-Йорк домов.
Все соответствовало его запросам, за исключением единственного: женщину не преследовал злоумышленник. Только он сам, Аэромен.
Это его шаги так сильно пугали ее.
Операция по защите жертвы походила на яйцо с фермы, где нет петуха: была неполной, неплодотворной.
Когда женщина побежала, Аэромен, от огорчения замер посреди Стейт, давая ей уйти. Может, ему следовало взлететь, нагнать ее и извиниться? Нет, так он лишь сильнее напугает женщину.
Аэромен повстречал врага — самого Аэромена.
Он устало побрел по Смит-стрит. Неприметный в своем мешковатом плаще, с прижатыми к груди руками — правая поверх левой, на которой было кольцо, — и даже довольный тем, что больше ни на кого не нагоняет страх. Летняя ночь жила своей жизнью. Выходившие из пуэрториканских клубов мужчины присоединялись к игрокам в домино на тротуарах. У входа па станцию метро Берген толпились подростки из Гованус Хаузис — парни в спортивных шапочках и вечно чем-то недовольные девчонки, многие из которых учились с Аэроменом в одной школе. Школа. Она уже готовилась вновь загнать его в угол. Ему нестерпимо захотелось сейчас же наткнуться на какое-нибудь преступление, на нечто такое, что можно было предотвратить.
Мимо подростков из Гованус Хаузис он прошмыгнул тихо, как мышь, сознавая, что не может предложить им свою помощь.
Его начинал терзать голод. Боязливо оглянувшись по сторонам, он остановился и достал из другого носка доллар. Бумажка повлажнела от пота. Аэромен переложил ее в карман брюк и прижал к бедру, высушивая о ткань. Пиццерия на углу Берген и Смит тоже кишела старшими подростками. Однажды днем, по пути из школы к дому Артура они набрались храбрости и зашли сюда. Тогда их дружба только-только начиналась. Аэромен подумал вдруг, что в первый месяц нынешнего лета, во время безумного шахматного марафона чуть не порвал эту дружбу. Если бы это произошло, он больше не смог бы уплетать на ленч бутерброды с индейкой, которые готовила для них миссис Ломб. Нет, не стоило позволять себе грустить по прошлому. Артур был притворщиком, и Мингус вот-вот должен узнать об этом. В ушах Аэромена зазвучал голос Артура: «Джек Керби разучился рисовать, но первый выпуск, он и в Африке первый, надо покупать их, запечатывать в полиэтиленовые пакеты и класть на полку, я всем так советую». Аэромен вошел в пиццерию и положил на стойку свой влажный доллар.
Когда на место доллара легла сдача — две монеты в двадцать пять центов, их внезапно перехватила чья-то рука. Дилан повернул голову. Его деньги опускал в карман Роберт Вулфолк. Всем остальным у стойки было до лампочки: взаимоотношения подростков никого не волновали. Дилан, или Аэромен, тоже не особенно расстроился. Взяв лист прозрачной бумаги, он осторожно положил на него пиццу и посыпал ее чесночной солью. Желто-коричневые песчинки мгновенно растворились на жирной поверхности. Дилан вышел на людную улицу. Роберт следовал за ним. Он был не один, а с приятелем — таким же черным и сухощавым, только маленьким. Дилан видел его впервые.
— Не разевай рот, — сказал Роберт.
— Что?
— Отбери у него, — велел Роберт дружку, который был явно младше Дилана.
— Ты про что? — спросил мальчик, будто не понимая.
— Возьми пиццу.
К подобному Дилан давно привык; старший инструктирует младшего: «Отбери у него и проверь карманы», играя в Бэтмена и Робина.
Вот только пиццу у Дилана еще ни разу не пытались отобрать. Это что-то новенькое.
— Да ладно, — умолял ученик, не глядя на Дилана.
— Отбери, тебе говорят. Давай!
Дилан откусил от пиццы и, жуя с открытым ртом, чтобы остудить расплавленный сыр, посмотрел в глаза мальчишке. В них застыло смущение, и Дилан испытал странное удовольствие. Да, я твой первый белый парень. Полюбуйся на меня. У тебя их будет немало, на многих напустишь страху.
Он откусил еще.
— Я же сказал тебе, закрой рот, — крикнул Роберт. — Отбери пиццу, — повторно велел он дружку.
— А-а-а… Она уже покусана, — протянул тот с несчастным видом.
Роберт показал пальцем на пиццу.
— Сейчас же прекрати или получишь по шее!
Дилан проглотил и снова впился зубами в лепешку. Роберт стоял растерянный, упрямый дружок подставил его: если бы он сам сейчас отобрал у Дилана пиццу, то тем самым признал бы свое поражение. Пицца тем временем таяла на глазах. Оставались лишь принципы, кроме которых, быть может, больше ничего не существовало. Дилан сознавал, что играет в этом спектакле эпизодическую роль, что по большому счету ничего собой не представляет ни для Роберта, ни для его младшего товарища. Маленькому черному мальчишке сегодня предстояло серьезное испытание: вытерпеть немало насмешек и издевательств.
Он и сам это понимал. Стоял в угрюмом молчании, а Дилан спокойно доедал пиццу. Роберт отвернулся в сторону — резко, нервно.
Последний день лета мог довести до белого каления кого угодно.
— Когда-нибудь я все равно тебя прикончу, — сказал Роберт.
Дилан продолжал жевать, глядя на Роберта боковым зрением.
— Не прикидывайся, будто не знаешь, что так оно и будет.
Дилан пожал плечами, уверенный в том, что сегодня ночью Роберт его не прикончит.
— А что это с твоей спиной?
— Ничего, — ответил Дилан, поднося ко рту пиццу.
Роберт оглядел его внимательнее.
— Дай-ка посмотреть кольцо. На минутку.
— Это подарок, — сказал Дилан. — Моей мамы.
— Да пошел ты ко всем чертям со своей мамой! — Роберта передернуло, он крутнулся на месте, будто атакованный тучей невидимых насекомых. Смотреть кольцо, овеянное магией Рейчел, ему явно расхотелось.
— Надеешься, Гус вечно будет тебя защищать?
Надеюсь, Аэромен будет вечно меня защищать, подумал Дилан, проглатывая непрожеванные куски пиццы.
Только сегодня Аэромену не удалось полетать, и утешать себя было нечем.
Дилан доел пиццу, осталась только скругленная корочка, которую он держал возле рта, будто улыбку хэллоуинской тыквы.
Роберт внезапно ударил его по руке. Все трое проследили, как корка улетела к сточной канаве. Выпустив немного пара, Роберт взглянул на своего жалкого протеже, и они зашагали прочь. Но перед тем он ткнул в Дилана пальцем и что-то пробормотал. Совсем тихо, тот ничего не разобрал.
Обливаясь потом, Дилан зашагал по Смит-стрит, заполненной пуэрториканцами — в цветастых рубашках и шляпах с загнутыми кверху полями, — потом свернул на Дин и направился по затененному тротуару к дому, ощущая странное удовлетворение.
Аэромен не поднялся сегодня в воздух, целый вечер ходил с обернутыми вокруг запястий расклешенными рукавами, будто в коконе.
Но два произошедших события — в обоих осталась некая недоговоренность — загадочным образом слились воедино, превратившись в призрак остановленного преступления.
На Стейт-стрит испугалась сегодня женщина, а не Дилан. И это уже что-то значило, было как трещина во мраке ночи, из которой пролился свет. Аэромен непременно протиснется в эту трещину, просто еще не настало время.
Восьмой класс. Наконец-то ты в состоянии уловить тенденцию. Каждый день был как будто целым учебным годом, испытанием, которое следовало пройти до конца. Если ты выдерживал, то получал какое-то знание и мог применить его к чему угодно.
Авраам намазывал хлебные ломтики маслом, а Дилан сидел за столом и торопливо делал математику — домашнее задание, которое нужно было сдать через четверть часа.
Барретт Руд-старший курил на первом этаже утреннюю сигарету, поглаживал белую щетину и думал о наступившем дне.
Рамирез открыл магазин, мамаши волокли первоклашек в муниципальную школу № 38.
Генри второй год учился в Авиационной школе в Куинс, сильно вытянулся и превратился в молодого человека, который иногда появлялся в квартале и здоровался с младшими ребятами. Вспоминать о его драке с Робертом Вулфолком не имело смысла. Местные дети не знали здешней истории, она никого не интересовала.
Твоим новым открытием стала мастурбация — исключительное удовольствие, зависящее только от тебя самого. Возбудиться ты мог где угодно, даже по дороге из школы домой, опускал в карман руку и в предвкушении сжимал член.
Новый, еще недошитый костюм Аэромена должен был Стать гораздо более простым. Накидка — укороченная и легкая, прикрепленная к плечевым швам футболки, рукава — плотно облегающие запястья.
Аэромен шил его медленно, стежок за стежком, решив на этот раз не торопиться.
С приходом холодов Дилан и Артур поехали на метро на Кенел-стрит. Полакомившись яичным коктейлем в «Дейв Феймоус», они направились в магазин армейской одежды и на выпрошенные у миссис Ломб и Авраамаденьги купили себе по зеленой солдатской куртке, вроде той, что носил Мингус. С обилием карманов, петлями для ножей или какого-то другого снаряжения. Могло быть так, что эти куртки сняли с погибших во Вьетнаме парней, подобная вероятность не исключалась, хотя пулевых отверстий в них не было.
Вернувшись в метро, они остановились в переходе, высматривая, не продает ли кто-нибудь пластинки с альбомами «Битлз» «Пусть будет так» и «Эбби Роуд». Внимание Дилана привлекло знакомое название поверх фотографии четырех улыбающихся, гладко выбритых черных мужчин в костюмах персикового цвета и отделанных оборками рубашках; они сидели на стульях разной высоты перед голубой стеной фотостудии: «Обманчиво простые звуки. Сатл Дистинкшнс».
Дилан показал на фотографию Артуру.
— Вот отец Гуса.
Артур не проявил к пластинке особого интереса. Дилан купил ее и привез домой, хоть она была безбожно исцарапана и почти не годилась для прослушивания.
Целую неделю они ходили в школу в новеньких приобретениях. А потом на куртке Артура вдруг появились пятна, в манжеты въелся «Крайлон», в общем она превратилась в немое свидетельство его ночных похождений. Встретив взгляд друга, Артур самодовольно усмехнулся. Дилан ничего не сказал. В этот вечер он засунул свою куртку подальше в шкаф, пока ее не увидел Мингус.
Сам Мингус был теперь случайным проблеском, отголоском слухов. Он исчезал на несколько недель, потом они встречались, курили в его доме травку, отправлялись в «Рекс» на Корт-стрит и смотрели фильмы с участием Чарльза Бронсона — сидели несколько часов подряд, не произнося ни слова, кроме «ни хрена себе» и «вот черт».
Мингус то щедро сорил деньгами, то начинал шарить за подкладкой в поисках мелочи на марихуану.
Однажды при помощи ножовки Дилан распилил пару монет по двадцать пять центов, положил их в карман и пошел на улицу, надеясь развлечься. Когда с невинной улыбкой он вынул половинки и четвертинки монет и протянул их прицепившимся к нему парням из Гованус Хаузис, они растерянно закачали головами, будто жертва заговорила с ними по-китайски или выдвинула из макушки антенну.
Тебе казалось, что ты знаешь все затевавшиеся на улице игры как собственные пять пальцев, но они, бывало, трансформировались, будто оборотень.
Вернувшись однажды домой, Дилан увидел, что на кухонном столе перед Авраамом стоит какой-то предмет, обернутый бумагой и перевязанный веревкой. Отец разрезал веревку столовым ножом и принялся снимать один за другим слои упаковки, похожий в этот момент на Хамфри Богарта из «Мальтийского сокола». Дилан подумал, быть может, это от Рейчел, к примеру, статуэтка Бегущего Краба. Но вот из-под обертки показалась верхушка таинственного предмета: блестящий нос ракеты-носителя.
— Я честно заработал эту награду, — сказал Авраам. — Ее получил за меня Сидни.
Надпись на гладкой подставке ракеты-носителя все объясняла: «ПРЕМИЯ ХЬЮГО. ЛУЧШИЙ ХУДОЖНИК 1976 АВРААМ ЭБДУС».
— Я стал знаменитым, — мрачно произнес Авраам.
Дилан взял приз в руки и нахмурился.
— Может, пригодится тебе как стопор для двери?
Дилан подумал и кивнул.
— И не говори потом, что я никогда ничего тебе не дарю.
Глава 13
К середине февраля 1978 года эту песню крутили по «Радио Нью-Йорка» уже две недели. Она не была хитом, и в Р&Б-чарте занимала восемьдесят четвертое место, между «Серпантином огня» группы «Земля, ветер и огонь» и «Ффан», исполняемой «Кон Фанк Шан». Ее помечала жирная точка, означавшая, что песня топчется в самом хвосте. «Ты погладил свой мятый костюм?» в исполнении «Дуфус Фанкстронг» — сингл продолжительностью три минуты сорок секунд, выжимка из растянутой аж на восемнадцать минут неразберихи, которая заполняла вторую сторону дебютной пластинки, выпущенной «Уорнер бразерс». Диджей призывал слушателей звонить в студию и высказывать по поводу этой песни мнение: нравится или не нравится, стоящая вещь или дрянь, фанк это либо невесть что. Пара дюжин лестных отзывов, и сингл мог превратиться в настоящий хит. Все, кто обладал слухом, могли определить, что «Дуфус Фанкстронг» — это официально признанные неудачниками «Фанк Моб». Тем же, кто был лишен такового, хватало одного взгляда на оформленный Педро Беллом конверт пластинки. Люди со слухом подозрительно смотрели на имя вокалиста, чей голос звучал только в последние тридцать восемь секунд сингла; в перечне на конверте он значился как Пи-Брейн Рустер. Песни, которые этот парень пел под собственным именем — Барретт Руд-младший, — записанные довольно давно, но все еще популярные, занимали средние позиции того же хит-парада. Если кто-то и задумывался: «Неужели это певец из „Сатл Дистинкшнс“?» — то лишь на мгновение. Поверить, что парень с приятным лирическим тенором из «Дистинкшнс» согласился петь басовую партию в калеченой песне-однодневке, было затруднительно.
Песня умерла. Почему — никого не интересовало, никто ничего и не объяснял. Скажете, странно, что она вообще попала в хит-парад — с таким-то припевом: «Мне в задницу впиявились трусы»?! Наверное, вы правы. Назовите «Дуфус Фанкстронг» группой, чьей целью было просто выпустить альбом, которой на все наплевать. Гонорар был настолько крохотный, что Пи-Брейн Рустер даже не счел нужным консультироваться по поводу его получения с юристом. Песня звучала на радио несколько недель и исчезла, лишь в какой-то момент став предметом спора ценителей музыки, которые ругали ее или защищали. Никакой истории у нее, по сути, не было. Марилла и Ла-Ла ни разу не пропели бы ни одной строчки оттуда — ни просто так, ни когда прыгали через скакалку или заплетали косички, или дразнили парней. А это был самый строгий тест, определявший даже не качество песни, а наличие в ней чего-то такого, что цепляло бы.
Когда учитель Винегар велел ему остаться после урока, он решил, что физик каким-то образом разгадал его секрет и от лица сил гравитации собрался прочесть ему лекцию: «Молодой человек, люди не могут летать! Немедленно откажитесь от этой бредовой затеи!» Но Винегар всего лишь достал из ящика стола и отдал Дилану какое-то письмо, после чего уставился на ученика, теребя усы. В конверте лежало уведомление о зачислении Дилана в Стайвесант — его отобрали по результатам теста.
За окном мело, снежинки, похожие на древесные опилки, сугробом покрывали подоконник, налипали на решетку на окне. Задержавшись после занятий, Дилан упустил шанс влиться в общий поток и в безопасности толпы пройти по Смит. Теперь ему предстояло стать мишенью для тех, кто еще болтался у школы, и быть нещадно обстрелянным снежками.
— Ты единственный прошел, — сказал мистер Винегар. — А впрочем, пробовали только шестеро ребят из всей школы. Я решил лично сообщить тебе эту новость и сказать, что горжусь тобой.
Подергивание усов и растерянный взгляд противоречили напыщенной речи Винегара: по-видимому, он хотел лично вручить Дилану письмо, для того чтобы только увидеть выражение его лица. Лицо мальчишки, которому неожиданно удалось всплыть на поверхность океана потенциальных преступников, которыми были одноклассники Дилана и соответственно ученики Винегара, строившего карьеру неизвестно ради кого или чего. «Если бы я знал, что ты сумеешь это сделать, с удовольствием заметил бы тебя раньше».
Но Дилана не особенно заботило удивление Винегара.
— А что у моего друга Артура Ломба?
Винегар нахмурился.
— Я не имею права обсуждать с тобой результаты других учеников.
Это могло означать только одно. Дилану стало искренне жаль Артура, сердце сдавило сочувствием.
— Может, его примут хотя бы в Бронкс Сайенс? — предположил он.
Лицо Винегара исказила страдальческая гримаса.
— Некоторые люди… — Голос оборвался.
Дилан все понял: ни о Бронкс Сайенс, ни даже о Бруклин Тех говорить не имело смысла. Артур Ломб, умевший сто раз подряд обставить тебя в шахматы, скопировать чужую походку и манеру речи, превосходный артист-симулянт, не воспользовался собственным советом и банально провалил тест. Быть может, опять понадеялся на приступ астмы или страдал в тот день расстройством желудка, или возомнил себя крутым парнем. Только алгебре на все это наплевать. Гудини тоже однажды застрял в запертом сундуке.
По тону учителя Дилан понял, что Артур часто раздражал его своим хвастовством или умозаключениями.
— От дома мне гораздо ближе до Сары Хейл, — сказал Дилан во внезапном приступе мазохизма. Он произнес эти слова так, будто приносил дань памяти Артуру Ломбу, павшему солдату. — Все мои друзья учатся именно там.
— О чем ты говоришь?
— Я сдал этот тест, просто чтобы проверить себя. И в Стайвесант не хочу переходить.
Лицо Винегара перекосило. Школа Сары Дж. Хейл в списке самых неблагополучных стояла даже после двести девяносто третьей. Можно было прогулять целых два года, как Мингус Руд, и спокойно очутиться после этого в Саре Дж. Хейл. Слова Дилана были равносильны заявлению: «Думаю, я перейду сразу в бруклинскую тюрьму».
— Мне очень жаль, что ты упускаешь такую возможность…
«Ты же белый!» — хотел проорать Винегар.
«Человек может летать!» — рвалось из груди Дилана.
— Я уже принял решение, — сказал Дилан.
— Ведь ты же, как выяснилось, способный мальчик…
«И умею летать».
— Ладно, я поговорю с Авраамом. С отцом.
Если бы не эта капля жалости, Винегар, наверное, оторвал бы себе усы.
— Непременно поговори. Скажи, я с удовольствием встречусь с ним и отвечу на все его вопросы…
— Ладно.
Бруклин тонул в паутине ложного спокойствия, а школа будто оглохла. Дилану наскучило болтать с Винегаром, он уже готовился к предстоящей снежной атаке.
А здорово бы было спрыгнуть с заснеженной крыши — тогда на ней остались бы следы его подвига.
Аэромен, как и его предшественник, как вы уже, наверное, догадались, патриот своего района.
Для Рейчел дым марихуаны был причастием. Вдыхая его, она как будто освобождалась от грехов, купалась в объятиях небесных рук. Дилан со временем научился этому искусству, а поначалу только притворялся, что балдеет: брал в рот предлагаемый Мингусом косяк, причмокивал, при этом дым проникал не в легкие, а в голову, сдавливал ее будто жгутами. Потом он вообще ничего не чувствовал, только жжение в горле. И лишь на шестой или седьмой раз ему удалось втянуть в себя дым по-настоящему. Стены крохотной комнаты Мингуса сразу же раздвинулись, и Дилан действительно ощутил все то, что до этого лишь представлял себе.
Тогда-то к нему и пришла Рейчел — в эту самую комнату, с заткнутой полотенцем щелью внизу двери и открытым окном, впускавшим внутрь морозный воздух. Рейчел пряталась либо в самом Дилане, либо в наркотике и материализовалась при их взаимодействии. А может, Дилан до сих пор еще только знакомился с ней: узнавал ее, слушая записи «Модерн Джаз Квартета» и Нины Саймон, пробуя наркотики, оценивая вкусы матери.
Все открытки от Бегущего Краба он сохранял, их скопилось уже штук тридцать пять или сорок. Они лежали в строгой последовательности между книгой Хайнлайна «Чужой в чужой земле» и стопкой из шестнадцати книжек «Нью Белмонт Спешиалс», оформленных Авраамом — отец больше не сотрудничал с «Белмонт», — на книжной полке со статуэткой премии Хьюго. Дилан складывал открытки вместе с произведениями отцовского коммерческого искусства, не только чтобы позлить Авраама, если тот надумает в отсутствие сына залезть сюда, но и потому что чувствовал: так надо. Ему хотелось соединить эти вещи, превратить их в волшебную поэму «Авраам-Рейчел», слить в одно родительские творения, как ДНК при зачатии, как гены, отвечающие за цвет волос, разрез глаз.
Дилан намеревался как-нибудь перечитать все открытки Краба под кайфом, при помощи наркоты расшифровать их и, наконец, найти причины исчезновения Рейчел.
— Взгляни-ка, — сказал Мингус, выгнав дым из комнаты взмахом руки и закрыв окно. Холод его не страшил: он никогда не снимал свою запятнанную армейскую куртку, будто заскакивал домой лишь на минуту.
Он извлек из кармана семидюймовую пластинку и поставил на проигрыватель. Полилась песня из сериала «Спецназ», сопровождаемая жутким скрежетом. Мингус принялся выкрикивать призывы к воображаемой толпе, собравшейся в школьном дворе, — голосом мультипликационного героя, Баггза Банни из гетто.
Дилан одобрительно закивал.
— Ужас, правда?
— Это «Ритм Херитидж»? — спросил Дилан.
— Никто из диджеев не может достать эту запись. А я поднялся к Барретту и стырил пластинку из его коллекции. Послушаем еще?
— Ага.
— Молоток, мой приятель хочет послушать еще.
Мингус переставил иглу проигрывателя на «Скорпиона» Дениса Коффи и группы из Детройта и опять принялся заводить несуществующую толпу.
Наверное, он еще не был готов вынести проигрыватель в школьный двор, но у него имелись отличные записи — такие, о которых другие мальчишки в Бруклине не могли и мечтать.
Комната Мингуса изменилась. Плакатов с изображением Дейва Шульца из «Филадельфия флайерс», Меркури Морриса из «Майами долфинс» и «Джексон файв» — подарков Барретту Руду-младшему с настоящими автографами — теперь не было. Там, где они раньше виседи, виднелись только обрывки под шляпками гвоздиков. Остался лишь один плакат, весь в сгибах, поскольку был вкладышем в конверте с пластинкой, — снимок Бутси Коллинза и его группы, в кожаных костюмах и туфлях на высокой платформе. На этом плакате тоже имелся автограф. Бутси лично побывал в комнате Мингуса, когда навещал Барретта Руда-младшего, и поверх изображения своей гитары в форме сердца написал чернилами «Гарви Вайолет»: «С любовью, Бутси!». Позднее Мингус нарисовал на плакате серебряной краской из распылителя свой тэг. Теперь он ставил их здесь повсюду: ленился каждый раз тащиться ради этого на улицу или слишком часто бывал под кайфом. ДОЗА, ДОЗА, ДОЗА. Серебряные буквы тянулись вдоль стен, по потолку, даже по оконному стеклу. Красовалась надпись и на батарее — трехмерная загадка. Если ты смотрел на нее сбоку, ясно видел слово «АРТ». С другой стороны — ряд полосок, невнятный шифр.
Покинула комнату Мингуса и Фарра Фосетт — в красных трусиках, с напрягшимися сосками и кривой улыбкой. Она висела когда-то над его кроватью. На смену Фарре пришла стопка стянутых у Барретта Руда-младшего «Плейбой» и «Пентхаус» с вырванными разворотными фотографиями, торчащими из журналов, будто языки утомленных псов. Свои богатства и секреты Мингус прятал в весьма ненадежном тайнике — под кроватью.
— Ты так и не рассказал мне о той девчонке из Вермонта.
— О какой девчонке? — Дилан перелистывал «Защитников» № 48, рассматривал Валькирию в синей броне — лифчике из стали. Комиксы Мингуса были изорваны, а обложки покрыты тэгами, нарисованными черным «Эль Марко».
— Король Артур сказал, ты хвастался перед ним своими подвигами, так что не пытайся отовраться.
— Ничего я Артуру не говорил. Он все выдумал.
— Посмотрите-ка на этого скромника! Не дури меня, Димен. Сам ведь знаешь, что через минуту расколешься.
Дилан молчал меньше минуты.
— Ее зовут Хэзер.
— Так-так-так.
— Мы ходили с ней купаться.
— Артур рассказывал не только про купание.
Несмотря на невероятное количество прогулов, Мингус учился теперь в школе Сары Дж. Хейл. Подобно тени солнечных часов, он переместился в другую временную зону, перешел в следующую фазу. Изменилась его комната, фигура, рост, в нем прибавилось жесткости. Когда он шел своей размашистой походкой по Дин-стрит, то бормотал речитативы диджеев. У него была собственная стереосистема. Марихуану из морозилки он больше не воровал — покупал сам через дверное окошко дома на Берген. Комната была его убежищем. Несмотря на то, что первый этаж он делил теперь с Барреттом Рудом-старшим, спальня Мингуса считалась запретной территорией для всех, кто имел над ним какую-либо власть. Все комнаты этого дома превратились в крепости, представители трех поколений семьи Руд забаррикадировались в своих владениях, негласно противостоя друг другу. Мингус называл деда Старший и никогда не заходил в его комнату, которая, если заглянуть в нее через приоткрытую дверь, казалась совершенно пустой, словно Барретт Руд-старший позабыл, что люди обставляют свои жилища мебелью. Он сидел обычно у зарешеченного окна и смотрел на Дин-стрит, будто из тюремной камеры, и иногда зажигал свечи. Отца Мингус называл Младший.
В комнате его пахло вазелином и чем-то еще. Конверт из-под альбома «Огонь» группы «Огайо Плеерс» с изображением возбужденной девицы, зажимающей между ног шланг, был измазан чем-то липким и устряпан травкой и окурками. Конверт вызывал отвращение и в то же время завораживал, как зеленый листик в курчавых волосах, как остатки еды на подбородке соседа, которому не хочешь говорить об этом.
В комнатах Младшего наверху пахло чем-то другим, каким-то злом, крушением надежд, опаленной судьбой. Старший плавил свечи, непрерывно курил «Пэл Мэл», зажигая новую сигарету от предыдущей. Мингус и Дилан, заткнув щель под дверью, пыхали травой. А Младший в гостиной наверху, в которую никто больше не входил, вдыхал через стеклянную трубку кокаин.
— Ты, кажется, начал рассказывать про Хэзер.
— Ну, начал.
— Сколько ей лет?
— Тринадцать.
— Если девчонка старше — действуй решительнее.
— Я делал ей массаж спины.
— Супер. Но массажем дело не ограничилось, я знаю.
— Мы целовались на чердаке. — Произнося эти слова, Дилан чувствовал аромат вермонтского воздуха, слышал скрип деревянных ступеней, видел бледно-желтый свет. — Хэзер была в купальнике.
— Вот это уже интересно. Она большая для тринадцати лет или маленькая? — Мингус начертил в воздухе два полукруга.
Дилан подумал: «Апельсины», а сказал:
— Грейпфруты.
— Вот черт! — Мингус так воодушевился, что даже нахмурил брови. — Подожди-ка. — Он вскочил, поставил на проигрыватель пластинку Слая, прибавил громкость и снова плюхнулся на кровать, ударив ладонями себя по ногам.
— Ну, ну, рассказывай.
«Что-то шевельнулось в его мозгу», — протяжно, как в полусне, пел Слай.
— Я сейчас тебе покажу, — сказал Дилан. — Ложись на живот.
Мингус кивнул. Бал правил Дилан, и он не смел ему возражать, с нетерпением ожидая продолжения рассказа. Упав на живот, он покорно затих, чувствуя, что в эту минуту полностью зависит от друга.
Ладони Дилана легли на плечи Мингуса, на котором до сих пор была зеленая куртка.
— Представь, что ты — это она.
— Угу.
— Они выпирают с обеих сторон, и я просто дурею.
— Угу.
— Я не тороплюсь. Массирую ей спину, а потом хватаюсь прямо за них.
— Ничего себе.
— Она не говорит ни слова и не пытается меня остановить, представляешь?
— Хм.
— Я пробую залезть ей в трусы.
Мир никак не реагировал, вы прятались под маскировочной сетью, были Нелюдями. Комната Мингуса служила вам очередной Негативной зоной: пряталась под водой, под землей, оставив Дин-стрит где-то позади. Все началось в тот день, когда Мингус в форме бойскаута любовался своими знаками отличия, привезенными с другой планеты.
Ты носил внутри себя огонь, разрисовывал метками мосты и вагоны и мастурбировал в своей комнате.
Руки на заднице Мингуса не требовали объяснения, они не имели никакого отношения к гомосексуализму, были всего лишь историей, которую ты рассказывал: стопкой «Плейбоя» под кроватью, сиськами, окружавшими тебя со всех сторон, жаждой женского тела, перспективой, разделяемой со всеми остальными.
Ты лапал задницу Мингуса, потому что давно хотел узнать, какая она у этого афро, сгорал от любопытства, желая понять, как он расчесывает волосы своим странным гребнем-камертоном.
Но к черту телячьи нежности. Разговор был чисто мальчишечьим.
— Прикасаясь к ее заду, я возбуждался, как бешеный.
— Понятное дело.
— Но в себя она не хотела меня впускать.
— Офигеть можно.
— Во-во.
— Я бы ей сказал: эй, ну хоть на минуточку.
— Именно так я и говорил, — начал фантазировать Дилан, входя во вкус. — Она долго ломалась, а потом…
— Получилось?
Они лежали теперь бок о бок, как Дилан с Хэзер на залитом солнцем чердаке с запотевшими стаканами лимонада в руках. И тот и другой были под кайфом, валялись на смятых подушках и, засунув пятерню в карман штанов, онанировали, притворяясь, что не происходит ничего необычного. Дыхание Мингуса было хриплым и прерывистым, похожим на тихий храп.
Мингус протянул руку, перевернул пластинку и снова прибавил громкость. Фанк мощно разливался по комнате, совсем лишая их ума.
— Ну и чем все закончилось?
— У нас не было резинки, поэтому она сделала мне минет.
— Черт!
Некоторое время они молчали. Потом Мингус спросил негромко:
— Ты кончаешь белой или прозрачной?
— Белой. Хотя, бывает, и прозрачной.
Помолчали еще немного.
— Классно, наверное, когда он у девчонки во рту?
— Лучше не бывает, — уверенно солгал Дилан.
— Я слышал об этом.
— Вот бы и сейчас какая-нибудь кукла отсосала у меня.
Снова пауза. Потом Дилан предложил:
— Если хочешь, можешь вытащить его.
Пенис Мингуса был темно-розовый, как ладони, и подрагивал у него руке.
— Закрой глаза, — сказал Дилан.
— Ты серьезно?
— Руки за голову.
Произнеся эти слова, Дилан струхнул, но медленно сел и наклонил голову, ощущая запах спутанных лобковых волос Мингуса.
— Сделай это рукой, — сказал тот.
Когда распахнулась дверь, ладони обоих были измазаны вазелином, а брюки спущены до самого пола. Скрыть следы преступления они бы просто не успели, поэтому просто вытаращились на отца Мингуса, замершего в дверном проеме, — босого, в синих брюках-клеш и белой футболке. Барретт Руд-младший одевался как человек, никогда не покидающий дом, — обитатель пижамного царства второго этажа, в котором жил только он. Мингус и Дилан почувствовали себя кротами, прорывшими ход под страной «Плейбой» и упершимися в лопату, которая внезапно преградила им путь. Со спущенными штанами они тем не менее были одеты более основательно, чем младший: на Мингусе куртка, на Дилане свитер, на обоих кеды. Им надо было только натянуть на голые задницы брюки, и можно сразу идти прочь из дома — продолжать завоевывать улицу. Они подобрали штаны. Дилан уставился в пол.
— Убавь громкость, Гус.
Мингус повернул ручку, и музыка зазвучала так же тихо, как песни самого Младшего, доносившиеся со второго этажа.
Барретт изучил Мингуса и Дилана прищуренными заспанными глазами, медленно причмокнул и почесал подбородок длинным ногтем большого пальца. Пахло вазелином и гениталиями. Ноздри Барретта затрепетали. Он медлил, очевидно, ждал, когда зазвучит более подходящий ситуации такт — не записи, что крутилась наверху, а его личной, внутренней музыки. Наконец он заговорил, негромко, мелодично, небрежно:
— Занимайтесь тут, сукины дети, чем угодно. Но никогда больше не врубайте проигрыватель на полную катушку.
По его утомленному голосу они поняли, что об открытии, только что сделанном ими, Барретту давным-давно известно и что к их смятению и к этому захламленному любовному гнездышку он питает только отвращение. До их развлечений ему не было дела, его не удивило бы, наверное, даже если бы они ублажали друг дружку, нарядившись в яркие женские платья. Он взялся за дверную ручку.
— Твое счастье, Гус, что вместо меня не вошел сюда кто-нибудь другой. Врежь замок в эту чертову дверь.
Ничего больше не сказав, Барретт удалился.
Наверное, более доброжелательных слов Дилан не слышал за всю свою жизнь.
— Проклятие, — пробормотал Мингус, глядя на закрывшуюся дверь и испытывая что-то вроде раздражения.
Дилан смотрел на него в молчаливом ожидании, выпучив глаза.
— Не переживай, твоему отцу Младший ничего не скажет. Я ловил его самого за еще более идиотскими занятиями.
— Серьезно?
— Еще как.
На том все и закончилось, обоим стало казаться, что в комнату никто и не заглядывал. Мингус еще раз перевернул пластинку и вновь демонстративно прибавил громкость.
Десять минут спустя, когда они опять взялись друг за друга под песни Слая, Дилан пришел к ошеломляющему выводу: они вернулись к тому, с чего начали. У них опять появились секреты, которые теперь основывались на риске быть уличенными в гомосексуализме, секреты от Артура Ломба и Роберта Вулфолка, абсолютно от всех. Даже инцидент с Младшим мог сослужить им службу, крепче привязать друг к другу, подобно кусочку воска, запечатывающему конверт. Геями они, конечно, не были — просто друзья, познающие себя.
Дилан доверял Мингусу, обоих отличала непредсказуемость и неординарность. Собственная тайна уже отравляла Дилана, теперь он ясно это сознавал, но чувствовал, что беспокоиться не из-за чего. Нужно было просто открыть свой личный секрет Мингусу. Рассказать про кольцо. И показать костюм.
Одинокая фигура на тротуаре, белый паренек, нервно расхаживающий взад и вперед по Атлантик-авеню между Кортстрит и Бурум. Прохладная апрельская ночь, вторник, начало первого. Марионетка на сцене жизни, одинокий, маленький и беззащитный мальчик отбрасывает то короткую, то длинную тень, переходя из одной лужи фонарного света в другую. Что он тут делает? Ближе к Корт Атлантик изобилует арабскими лавками, в Бурум расположен знаменитый приют Святого Винсента для мальчиков. Напротив темнеет мрачный монолит из кирпича и стекла — бруклинский Казенный дом. Мальчик же бродит по отрезку Атлантик, где нет практически ничего, кроме четырехуровневой парковки и неработающей автозаправки «Мобил» в конце квартала.
Мальчик доходит до одного угла парковки, разворачивается и идет к другому, будто загнанный в невидимую клетку. Что он тут делает, понять невозможно, хотя об этом никто и не задумывается. Гулять в этом районе ночью отнюдь не безопасно. С мальчиком вот-вот приключится беда.
Так оно и выходит.
До угла и назад: поскорее бы все случилось.
Опасность приближается. Враг тот же, что и всегда: два темнокожих подростка, высокий и приземистый, на бритой голове у каждого повязка — в общем, вполне подходящие персонажи для ночной сцены. Парни идут вразвалочку навстречу бог знает каким приключениям в Фултон Молл, быть может, собираются попасть на последний сеанс в «Даффилд» либо в «Олби» или только что купили марихуаны на Миртл-авеню (известной так же под названием Мертвая) и намерены забить по косячку. В любом случае белый парень подворачивается им под руку как нельзя кстати — в первый момент они даже не верят, что им на крючок попалась рыбка, слишком уж необычна ситуация. В густой тени парковки можно вволю поиздеваться над жертвой, тем более что вокруг ни души. Белый парень сам виноват: нечего было торчать тут посреди ночи. Только бы не оказался хлюпиком и не разревелся в первую же секунду.
— Эй, иди-ка сюда, поговорим.
Белый мальчик лишь моргает в ответ. Этих парней он видит впервые, в школе никогда их не встречал. Но в любом случае сегодняшняя ночь должна запомниться этим двоим на всю жизнь.
— Я обратился к нему, ты слышал, старик?
— Может, он немой?
— Или ему не нравится цвет нашей кожи, черт возьми. Может, в этом проблема?
Тут-то на фоне томного ночного неба и появляется человек в накидке. Он приближается к краю крыши парковочного здания и, как можно подумать, вот-вот бросится камнем вниз, покончив жизнь самоубийством. Черный подросток в самодельном костюме, с кольцом на пальце тренировался несколько недель подряд, прыгая с крыш во внутренние дворы, а сегодня впервые вышел на улицу.
Беспокоиться нет причин. Все, что требуется для полета — самообладание, решительность, умение балансировать, чувствовать воздушные волны, — у подростка есть. Он атакует. Уже четвертый уровень парковки остался позади. Сжимая кулаки, он летит наискосок, потом резко сворачивает вбок, сталкивается с потенциальными обидчиками белого паренька, бьет их по плечам и головам кулаками, коленями, наконец, носками кед — и снова взлетает в небо. Безупречное и неслыханное нападение сверху. Ошарашенные жертвы, чертыхаясь и потирая ушибленные места, оседают на тротуар.
— Что это было, черт?
— Проклятие! Это не ты долбанул меня, старик?
— Я и пальцем к тебе не прикоснулся! Что ты несешь?
Летающий мальчик перекувыркивается в воздухе и опять устремляется вниз, задавая направление вытянутыми вперед кулаками. Его белая накидка, пришитая к длинным рукавам, разрисованным с помощью спирографа, колышется за спиной. На лице мальчика самодельная белая маска, завязанная на затылке шнурками, ветер треплет черные курчавые волосы.
— Эй, делаем ноги!
— Сматываемся!
Несколько секунд спустя обидчики белого мальчика уже несутся в сторону Берген, скорее всего домой, куда-нибудь в Гованус Хаузис. Подросток в костюме приземляется на тротуар, присоединяясь к белому другу, и орет что есть мочи стремительно удаляющимся теням:
— Валите отсюда, сукины дети! И никогда больше не связывайтесь с Астроменом.
— С Аэроменом, — поправляет его белый мальчик.
— Я и говорю — с Астроменом.
Глава 14
Кто-то покрыл здешние стены ярко-розовой блестящей краской — такой цвет стоит перед глазами, когда у вас раскалывается голова, и вы еще не успели принять болеутоляющую таблетку. На одной из этих кошмарных стен висел календарь — такие раздают в банках в качестве рекламы, отпечатанное на машинке расписание и уцелевшее годов с пятидесятых объявление с призывом вступить в общество анонимных алкоголиков. Больше ничего: ни плакатов с надписями вроде «ТЫ НЕ ОБЯЗАН СТАНОВИТЬСЯ ИДИОТОМ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ У НАС, НО ЭТО ПОМОГАЕТ», ни фотографий жен, детей или домашних животных. У стены стоял деревянный письменный стол, покрытый следами от кофейных чашек и царапинами от скрепок, за столом друг напротив друга сидели два человека. Вероятно, это здание когда-то было школой. На боковой перекладине стола красовались несколько торопливо нацарапанных перочинным ножом меток. Тот, кто ставил их, наверное, с очень серьезным видом слушал в этот момент учителя.
На столе между мужчинами лежала папка с документами.
На дворе стоял июль 1978 года. Оба собеседника были в галстуках. У белого мужчины лет тридцати он зелено-голубой и широкий, свободно завязанный вокруг воротничка светлой рубашки с короткими рукавами. У пожилого темнокожего — старомодный узкий, черного цвета, убранный под жилет серой в полоску тройки, приобретенной в магазине эконом-класса, костюма, подходящего для банкира, если бы не клоунски широкие лацканы. Жилет был застегнут на все пуговицы, и худощавый мужчина варился в своей тройке, как сосиска в оболочке. Окна кабинета не открывались, и ему приходилось то и дело промокать платком то лоб, то нос, то стянутую галстуком шею.
— Говорю же тебе, в этом доме творится бог знает что, — сказал Барретт Руд-старший.
— А почему это так сильно тебя волнует?
— Подобное не может не волновать священника.
— Равно как и девочки на Пасифик, которых ни за что не разгонишь, — ответил тот, что в зелено-голубом галстуке. — Послушай, Барри, не думай, что я ни о чем понятия не имею. Отчеты обо всем, что происходит вокруг, регулярно ложатся мне на стол.
Наверняка вы подумали: человек в белой рубашке слишком молод, чтобы так разговаривать со Старшим. Его голос звучал жестко, будто он не с посетителем разговаривал, а участвовал в уличной разборке. Причиной подобного обращения был отнюдь не пистолет в кобуре на щиколотке, открывавшийся взгляду, когда его владелец закидывал ногу на ногу, и не наручники, позвякивавшие на поясе. Его поведение свидетельствовало лишь об одном: он относился к типу людей, с удовольствием занимающихся своей работой. Человек с зоны назвал бы их «ковбоями». Подобно охотникам или тюремщикам, «ковбои» отличаются садистскими наклонностями и с удовольствием выполняют обязанности копа. Среди полицейских, наблюдающих за досрочно освобожденными из тюрьмы, честных и добрых можно по пальцам перечесть, в основном эту работу выполняют «ковбои». А для них высокомерие и грубость — обычное дело.
Те, кто не считал близость гостиницы и тюрьмы убедительным объяснением безобразиям, творившимся на Невинс между Флэтбуш и Стейт, винили во всех смертных грехах именно здешнего копа. Сам же он преспокойно сидел на третьем этаже здания на углу Шермерхорн-стрит, в кабинете через шесть комнат от приемной, примыкающем к надежно защищенной решетками импровизированной камере. Барретт Руд-старший явился сюда, как только приехал, чтобы отметиться, и теперь приходил каждую неделю — неизменно принаряженный и тщательно выбритый. Офицер не брал с него пример: рубашку никогда не заправлял в брюки, на щетину зачастую махал рукой и разбрасывал по столу смятые обертки от бутербродов.
— Ты меня неправильно понял, — сказал Барретт Руд-старший. — Про девочек я заговорил только потому, что хочу приобщить их к учению Христа.
— В час ночи держись со своим учением подальше от Пасифик, вот что я тебе советую. Подпись принес?
Руду-старшему надлежало каждую неделю приносить бумагу, подписанную Паулеттой Джиб, под наблюдением которой он выполнял кое-какие обязанности в храме на Миртл-стрит. Условно освобожденные заключенные были обязаны выполнять какую-либо работу, и Барретт Руд-старший решил трудиться в храме Господнем. Являясь в полицию, он чувствовал страшное унижение оттого, что должен регулярно предоставлять письменное подтверждение своих дел.
— На Пасифик я хожу гулять, — произнес он, внутренне лелея уязвленное самолюбие. — Мне приходится проводить в этом ужасном доме слишком много времени, я должен на что-то переключаться.
— Ходи гулять днем, а не ночью, корми уток в парке.
— Все ясно, тебе до меня нет дела.
— А что ты хочешь услышать, Барри? — Коп глянул на бумагу и вернул ее Старшему.
— Я должен уйти из этого дома: дьявол уже пробирается в мой мозг. Я не могу больше видеть, как мой сын превращается неизвестно в кого, днями напролет тунеядствуя.
— По условиям твоего освобождения ты должен жить в доме сына. — Офицер произнес это тоном, каким рассказывают простенький рецепт: стакан риса на два стакана воды. — Если хочешь, мы отправим твое дело назад, в Роли. И тебя вместе с ним. Твое пребывание в Нью-Йорке, где ночи напролет щеголяют девочки в коротких юбках, оговорено жесткими условиями, и ты знаешь об этом.
— В таком случае я хочу сделать официальное заявление: я не в состоянии должным образом реабилитироваться в окружении законченных наркоманов и фанк-музыки. Будь добр, запиши это.
— Ладно, Барри. Расскажи все по порядку.
— Мне больно произносить это вслух, но мой сын служит сатане. Можешь и это записать. Скоро мы начнем с ним драться или вообще друг друга прикончим. Я прошу переселить меня куда-нибудь, а ответственность возложить на тебя. Я бы и мальчика с собой забрал, но он уже почти мужчина и будет возражать. Каждую ночь я слышу сверху мычание и стоны, каждую ночь отчаянно молюсь.
— Нас волнует единственное: чтобы твоя жизнь снова не пошла под уклон. Остальное — не наша забота. Мне знакомы эти дела, но я не собираюсь вмешиваться. В Бога я не верю, а арестовать твоего сына не имею оснований.
— Я хотел бы снять комнату в «Таймс Плаза» и не мучиться больше в этом доме.
— А кто будет платить?
— Надеюсь, дьявол — чтобы я отцепился от него.
— В этом клоповнике не лучше, чем в тюрьме. Половина номеров заняты уголовниками, убивающими время между ходками.
Барретт Руд-старший напрягся, будто расстроившись из-за того, что его неправильно поняли.
— Я знаю одного человека оттуда, он приходит к нам в церковь. Создание почти безгрешное. Он просто не видит всей этой грязи.
— И кто же это? Любитель птиц из Алькатраса?
На лице Старшего отразилось презрение. Во взгляде за одно-единственное мгновение промелькнуло генетическое воспоминание, полученное по наследству от предков: о заунывных песнях на хлопковых полях, об изнывающих от жары рабах, кораблях из Африки. Офицер притворился, будто все понял, и обоим вдруг почудилось, что Старший приехал сюда на муле, и в кабинет ворвался оглушительный лай своры гончих, бегущих по болотистой местности за сбежавшим рабом.
Если в офицере, наблюдающем за досрочно освобожденными, все-таки жила искра сердечности, в эту секунду именно она дала о себе знать.
— Неужели у тебя с сыном все до такой степени безнадежно, Барри? Ты в самом деле с радостью переехал бы в эту дыру, в «Таймс Плаза»?
— Я видел у него женщин, лежащих на женщинах, и много других противоестественных вещей.
— Ладно, убедил. Я подумаю, чем тебе помочь.
— Родился в Вавилонии, очутился в Калифорнии…
— Мы рыцари.
— Давайте сходить с ума, устроим фестиваль зевоты.
— Притащи… нам… вон… тот… куст…
— Эй, пойдемте в «Блимпи», я есть хочу, сейчас помру от голода. Ай! За что?!
— Я же сказал, что ущипну тебя, если ты еще раз произнесешь слово «Блимпи».
— Чертов придурок!
— А все из-за этого «блин ты».
— Пойдем.
Идя по дороге из школы, они запели тонкими голосами «Баскетбол Джоунс».
Габриель Стерн и Тимоти Вэндертус говорили и пели наперебой, подражая знаменитостям: Стиву Мартину, Марта Фельдману, «Дево», Питону, Заппе, Споку. Габ Стерн знал наизусть песни Тома Лерера, Тим Вэндертус пел «Дикого и чокнутого парня» и имитировал Питера Селлерса. Компания образовалась через полторы недели после начала учебного года, в понедельник, примерно около трех дня. Габ и Тим догнали Дилана, когда он подходил к станции метро на Четырнадцатой улице, и купили ему и себе по чизбургеру. Потом все трое направились в «Сумасшедшего Эдди» и принялись играть в понг на новеньком автомате, преувеличенно бурно расстраиваясь после каждой неудачи.
— Придурок!
— Ты ответишь за это, клянусь, ответишь!
— Не чуешь, я испортил воздух? Специально для тебя!
Щеки Габа — широкоплечего, с кудрявыми темными волосами — сплошь покрывали прыщи. Тим был рыжеватым, худощавым, долговязым, ходил размашисто, напоминая чем-то бумажного змея на ветру. По сравнению с ними Дилан казался маленьким. Он нормально рос и вытягивался, но в компании с Тимом и Габом чувствовал себя ребенком, совсем неприметным. А вообще-то внешний вид в чем-то да подводил каждого. Это легко прощалось и никогда не обсуждалось.
Дилан втерся в союз Тима и Габа как третий лишний: арбитр, слушатель, аппендикс. Порой тот и другой сосредотачивали все внимание только на нем, будто он был в состоянии разрешить их вечный спор: кто из нас двоих более забавный, шумный, неотразимый? Дилан чувствовал, что должен подыгрывать обоим, ему казалось, что если он отдаст предпочтение или как-то выделит одного, то второй тут же упадет на асфальт и, шипя, умрет, подобно Злой ведьме с Запада. А бывало, Тим и Габ занимались больше друг другом, и Дилан мог просидеть целый вечер молча, пялясь в телевизор на «Тома и Джерри».
Иногда Тим и Габ затевали на тротуаре перед школой борьбу, отшвырнув к обочине рюкзаки, будто нокаутированных неприятелей. Враждебностью в этих схватках и не пахло, на борцов никто, кроме Дилана, не обращал внимания. Когда один или другой одерживал победу, то зажимал голову поверженного под мышкой или, заламывая его руку за спину, требовал произнести какое-нибудь идиотское слово.
— Скажи «фанта».
— Нет. А-а. «Доктор Пеппер»!
— Не «Доктор Пеппер», а фанта.
— Пробка!
— Фанта.
— «Мистер Пибб»! Нет. Черт. Да пошел ты! Пусти.
— Скажи, тогда пущу.
— Ладно, ладно, ладно. Фанта.
— Теперь «Спрайт».
— Нет. Никогда. Иди к черту.
В Стайвесанте собирались получившие нужное количество баллов ученики из всех пяти районов Нью-Йорка. Выряженные в «Лакосте» вестсайдовцы, знакомые друг с другом с детсадовских времен, оцепенелые черные гении из Южного Бронкса, слонявшиеся по коридорам в раздумьях «очнусь ли я когда-нибудь от шока?». Прилежные ботаники-пуэрториканцы из Стайвесант-таун, жившие прямо напротив школы и, несмотря на это, чувствовавшие себя рабами местных хулиганов, с которыми учились прежде. Исполнительные отличники-китайцы из разных эмигрантских районов — Гринпойнт, Саннисайд, — сразу по несколько человек из одной семьи: старшая сестра на переменах должна была следить за братом, чтобы тот не примкнул к «подозрительным элементам», бегавшим в Стайвесант-парк покурить и поиграть во фрисби.[6] В общем, народ подбирался со всех уголков города, некоторым несчастным приходилось ездить аж из Стейтен-Айленда и заводить будильник на пять или шесть утра.
Габриель Стерн и Тимоти Вэндертус жили в Рузвельт-Айленде, а познакомились три года назад, когда переехали туда с родителями. Рузвельт-Айленд был загадкой — там не ездили машины и не бегали собаки, бродил лишь призрак из развалин туберкулезного санатория, что возвышался когда-то на южном берегу. Все жители Рузвельт-Айленда словно принадлежали одной религиозной секте. В школу и домой Тим и Габ всегда ездили вместе, на трамвае мимо моста Пятьдесят девятой улицы. Их непоколебимая, неразрывная дружба крепчала с каждым днем — парочка чудаков, приезжавших в Манхэттен со своего далекого островка, разговаривавших на собственном языке, живших спокойно и счастливо.
Стайвесант был царством евреев, зануд, хиппи, китайцев, черных, пуэрториканцев, а главное — царством отличников-ботаников. Огромной семьей умников, сумевших пройти вступительный тест. Эти ручные зверьки учителей грызли карандаши, носили очки и уже ни от кого не прятались, не пытались, как Артур Ломб, утаить от окружающих свою жажду познаний. Воспоминания об Артуре нагоняли тоску. Учась в Сент-Энн, он был самим собой, а потом, попав на Дин-стрит, за каких-то полгода позабыл обо всех своих устремлениях. Некая непостижимая сила заставляла тех, кто только и мечтал об успешной сдаче теста, вкусив прелесть вольной жизни, превращаться в совершенно других людей — почитателей Джима Морриса и «Лед Зеппелин», разрисовывающих куртки и болтающихся по паркам.
Тимоти Вэндертус и Габриель Стерн не примыкали к «подозрительным элементам». Единственный урок, который они позволяли себе пропустить, была физкультура. Но хотя во время прогулов или на большой перемене, а иногда и после занятий эту парочку видели в парке, их не интересовали летающие тарелки. Они упорно носили короткие стрижки и не слушали ни Хендрикса, ни Морриса, ни «Зеппелин» — музыку слишком резкую и серьезную, чтобы глотать ее, не разжевывая. Томные девочки с блестящими волосами, постоянно обитавшие в парке, не обращали на Тима и Габа никакого внимания.
— Готов спорить, она посмотрела в твою сторону в тот момент, когда ты выдал голосом петуха. Так всегда и разговаривай.
Тим и Габ обсуждали все что угодно, ничуть не стесняясь девчонок, как будто тех и не было вокруг, — отплачивая тем самым за безразличие с их стороны.
— А мне показалось, она посмотрела на твои штаны. Проверь, не расстегнулась ли ширинка. А может, там засохло молоко?
— Да нет, просто я теперь ношу в трусах цуккини, это мой новый метод. Довольно эффективный, рекомендую. Абсолютно бесплатно, денег не предлагай. Сначала, конечно, прохладно, но он быстро нагревается.
Тим и Габ порой курили, порой нет. В любом случае они не вписывались в общую картину, были словно туристами, забавой для волосатиков, которые, в свою очередь, забавляли Тима и Габа. Над теми, кто не похож на других, смеялись все, но Тим и Габ двигались быстрее остальных — их мысли и действия были резкими, лихорадочными. В первые месяцы учебы в Стайвесанте они неосознанно надеялись, что их что-то или кто-то дополнит, или же наоборот, что-то или кто-то ждал, что они станут дополнением для него. Свою зашифрованную неудовлетворенность им приходилось усмирять и держать в стойле, как резвого жеребца.
— Открой дверь, приятель. Открой дверь. Открой дверь. Открой дверь.
Ты ждал, что-то предчувствуя.
А еще тебя захватили, волнуя, фильмы: вечерние сеансы в «Плейхаусе» на Восьмой улице и в «Вейверли» на Шестой авеню. «Заводной апельсин», «Розовые фламинго», «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Голова-ластик». За шесть недель ты просмотрел все эти фильмы, кроме самого пугающего — «Головы-ластика», — к которому еще не подготовился внутренне. Тебе приходилось прятать свой страх под благовидными предлогами. На самом деле никаких благовидных предлогов у тебя в жизни никогда не было, ты даже не знал, откуда взялось в твоей голове это выражение.
Один парень приходил в школу с набеленным лицом Тима Карри и покрытыми черным лаком ногтями. Все насмехались над ним и втайне трепетали.
Каждый день по дороге от остановки метро до школы ты проходил мимо «Канзас-Сити Макс», волшебного места, — хотя ты не вполне понимал, в чем состоит это волшебство.
В воздухе пахло чем-то новым, наверное, чем-то связанным с группой «Дево» и их «монголоидами» и «распухшими зудящими мозгами» — словом, с ироническим черным ходом, выводившим в звериный мир, с уходом в сторону от жуткого пути «напрямую» Джима Моррисона.
Любой школьник ломал голову над тем, как ему выглядеть посексуальнее. Пусть даже не перед девчонками, а перед самим собой, когда подходишь к зеркалу.
Манхэттену, по счастью, все было безразлично.
А что же Мингус и Аэромен?
Возвращаясь на Дин-стрит после общения с Тимом и Габом с их «Сумасшедшим Эдди», чизбургерами, «Блимпи» и парком Вашингтон-сквер, Дилан втискивался в привычный мир, будто беглец, приходящий каждую ночь в свою старую тюремную камеру, чтобы поесть. Квартал, как ему казалось, умер. Он сам его убил, оставив школу № 293 и перейдя в Стайвесант. Ушло все, не только Мингус. И Генри, и Альберто, и Лонни, и Эрл, и Марилла, и Ла-Ла словно покинули сцену или превратились в каких-то других, совершенно незнакомых ему людей. Бывало, он проходил на улице мимо кого-нибудь из бывших своих знакомых и замечал выросшие усы или округлившуюся грудь. Все вокруг были черными, он — белым, друг другу они не говорили ни слова.
Следующего поколения детей Дин-стрит он не видел, за исключением кучки грязнуль, в основном пуэрториканцев, которые понятия не имели, что их предшественники собирались когда-то во дворе Генри или у заброшенного дома, не знали даже имени Генри. Они сидели, как жуки, вдоль обочины тротуара и ничем не занимались. Как-то раз Дилан заметил, что один из них пытается начертить примитивное поле для скалли — не на ровном месте, а на потрескавшемся, выщербленном куске асфальта. Безнадежно. На ум пришла мысль о человеке, страдающем лучевой болезнью, который пытается создать чертеж колеса. В другой раз, когда Дилан проходил мимо детей-жуков, ему крикнули вслед: «Белый» — настолько несмело и таким тоненьким голоском, что он чуть не помер со смеху. Заброшенный дом больше не был заброшенным. На стене висел плакат «ЗОЛУШКА № 3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ БРУКЛИН ЮНИОН ГАЗ», и у здания появились глаза — скучные, безразличные окна в алюминиевых рамах. Островок чудес был уничтожен. Алкоголики еще несколько месяцев устраивались на крыльце этого дома, чтобы выпить, но со временем нашли себе местечко поспокойнее.
С Мингусом Дилан все же иногда виделся. Раз в несколько недель тот выходил на свое боковое крыльцо и сидел в полном одиночестве со стаканчиком пива в руке, напоминая тех самых переселившихся куда-то алкоголиков. После переезда Барретта Руда-старшего в гостиницу на Атлантик-авеню Мингус опять стал единственным владельцем заднего двора. С Диланом он здоровался, как и прежде — словно они виделись вчера или позавчера.
— Помнишь, я говорил тебе про ту запись? Я достал ее.
— Правда?
— Разумеется, Диллинджер, говорю же: достал. Пойдем послушаешь.
Встречались они всегда случайно, как дротики, наугад брошенные в настенный календарь — рулетку дней. Они шли в комнату Мингуса и курили травку. Тим и Габ, да и весь новый мир Дилана в эти мгновения куда-то исчезали, а Манхэттен вновь превращался в неизведанную планету, в туманное будущее.
И прихожая, и ванная на первом этаже дома Мингуса теперь пестрели тэгами, напоминая переход метро. В комнате Старшего — заброшенном святилище, где воняло запыленными свечами, — никто не обитал.
Мингус пристрастился к пиву — к «Кольту» и «Кобре». Дилан не пил, только курил марихуану.
Он знал, что Мингус до сих пор общается с Артуром Ломбом, видел на разбросанных по комнате листах бумаги метки «Арт», а иногда встречал и его самого. На Артуре лежало проклятие детскости: он до сих пор выглядел как ребенок лет одиннадцати-двенадцати, и ни «эй», ни хулиганская походка, ни замшевые кеды «Пума» не придавали ему ни капли солидности. После того как он завалил вступительный тест в Стайвесант, его мать попыталась провернуть какую-то аферу, чтобы устроить сына в Эдварда Р. Марроу — школу для белых в центре ирландско-итальянского района — и тем самым спасти его от необходимости переходить в Сару Дж. Хейл. Артур опустился, ходил в одежде, перепачканной «Крайлоном», волосы не мыл подолгу. Постоянно курил марихуану, отчего покрасневшие глаза часто казались стеклянными. Уличные замашки — это все, что осталось у Артура. Ужасно.
Возможность водить дружбу с Мингусом Дилан дарил теперь Артуру от чистого сердца: тот нуждался в Мингусе больше, чем сам Дилан когда бы то ни было. И потом, он сознавал, что отношения Мингуса с ним и с Артуром — две абсолютно разные вещи. Дилан и Мингус жили в царстве, где не было матерей, но зато имелось много тайн, оба были Аэроменами и делили друг с другом немало секретов. А у Артура наверняка даже лобковые волосы еще не выросли. К тому же Дилан и Мингус ходили в гости и знали отцов друг друга. Артур же — Дилан в этом не сомневался — никогда не осмелится пригласить Мингуса в свое бутербродное святилище.
Когда Мингусу не хватало доллара на марихуану, они с Диланом могли пошарить в поисках мелочи по кухне Эбдусов или даже подняться по скрипучим ступеням в студию Авраама. Мингус ждал приятеля за дверью, прислушиваясь к тихим звукам джаза, льющимся из радиоприемника, а Дилан просил у отца деньги. Авраам, догадываясь, что на лестнице кто-то затаился, часто спрашивал:
— Там Мингус?
— Ага.
— А почему он прячется? Пусть зайдет, поздороваемся.
В присутствии Авраама Мингус превращался в саму вежливость, называл Авраама «мистер Эбдус» и интересовался, как обстоят дела с фильмом. Авраам вздыхал и показывал какой-нибудь странный рисунок.
— Спроси у Сизифа, мой дорогой Мингус.
— У Кизифа? — Мингус молниеносно придумывал рифму к любому слову. С Авраамом они постоянно играли в эту игру: то один, то другой притворялся, что не расслышал какое-то слово.
— Кизиф, хм. А не все ли равно?
В то же время они никогда больше не поднимались к Барретту Руду-младшему. Лестницу словно забаррикадировали. Дилан догадывался, что Мингус теперь не ходит даже на кухню на втором этаже: он разогревал «Шеф Боярди» на плитке Старшего, а в мусорном ведре в ванной скапливалась гора оберток от «Слим-Джим». Когда же Мингус включал на полную мощь проигрыватель, Дилану казалось, что дверь вот-вот распахнется и нарисовавшийся на пороге Младший пропоет:
— Какого черта ты тут делаешь, Гус?
Он давно мечтал снова услышать его пение.
Но Младшего не тревожила теперь даже максимальная громкость, и в комнату никто не врывался. Они были здесь людьми-кротами, и могли рыть исследовательские ходы любой глубины.
«Фокси» в исполнении «Гет Офф» они слушали раз пятнадцать подряд, постепенно прибавляя звук, будто пытаясь убрать все препятствия и расстояния между собой и этой словно резиновой басовой партией, похожей на страницу «Плейбоя», которую хочется увеличить настолько, чтобы войти в нее.
На некоторые снимки в журналах они глядели до боли в глазах, а потом руками делали друг другу приятное, уже не придавая этому особого значения.
Кольцо и костюм хранились у Мингуса. Официальным Аэроменом был он. То и другое лежало на полке над дверью вместе с хоккейными наградами, укрытое за старым футбольным шлемом. Поэтому никто из редких гостей Мингуса, к примеру Артур, не мог видеть их. Летал ли Мингус один, без него, Дилан не знал и никогда не спрашивал об этом. Часто, проводя вечер в доме Рудов, он ни разу не прикасался к кольцу, даже не упоминал о нем — просто садился на кровать и между затяжками поглядывал на полку. Потом они шли на улицу или одаривали друг друга парой ученических ударов в стиле кунфу, или обкуренный Дилан просто возвращался домой — есть приготовленный Авраамом ужин. Наверное, Аэромен тоже был всего лишь персонажем, как герои «Омеги» и «Колдуна», или же лучшим другом, оживавшим для мести и вновь умиравшим. Или фигурой из «Золотого века», Человеком-бомбой либо Живой куклой, словом, отнюдь не супергероем, не тем, о ком становится известно всем.
Иногда Дилан говорил Аврааму, что поужинает у Мингуса, или наспех съедал отцовскую стряпню и вновь шел к Рудам. И тогда в определенный момент Мингус тоже устремлял взгляд на полку и спрашивал:
— Поборемся со злом?
— Угу.
— Ты уверен?
— Да.
Мингус улыбался.
— Я думал, ты так и не заговоришь об этом.
В ту осень Аэромен летал шесть или семь раз, принял участие в восьми или девяти происшествиях и в буквальном смысле спас жизнь трем человекам, предотвратив страшные преступления. На Стейт-стрит возле Хойт они остановили одного пуэрториканца, державшего нож у горла маленького китайца — тот судорожно вытаскивал из карманов мятые купюры. Мингус-Аэромен слетел с пожарной лестницы ближайшего здания и врезал пуэрториканцу ногами по горлу. Отлетевший в сторону нож схватил Дилан, который до того прятался в тени крыльца. Шокированные китаец и его притеснитель дали деру. Дилан поднял деньги, окликнул жертву, но тот даже голову не повернул. Переведя дух и радуясь случайным деньгам и оружию, они убрали костюм с маской в пакет и направились в ресторан «Стив» на Третьей авеню — утолить раздразненный адреналином и марихуаной аппетит и отпраздновать очередную победу. Официанты пристально следили за ними, решив, что мальчишки надумали набить живот и сбежать, но Мингус и Дилан не обращали на них внимания. У них были деньги — вполне достаточно, чтобы даже оставить чаевые.
На Смит-стрит, выкрикивая «вуу-вуу-вуу» из «ковбоев и индейцев»,[7] Аэромен распугал дерущихся у входа в клуб пьяниц. Но больше в ту долгую ночь им нечем было заняться, они прослонялись по улицам несколько часов, нанося метки на металлические двери.
На Третьей авеню как-то в середине холодного дождливого октября Аэромен разогнал грабителей, проникших в китайскую забегаловку. Те бросились врассыпную, уронив на пороге блюдо с оранжевым рисом. В другой раз Аэромен нарисовался в своем костюме перед людьми на скамейках парка в конце Хайтс Променад — людьми, которые в его защите вовсе не нуждались. На Пасифик-стрит недалеко от Корт Дилан и Аэромен нашли дом со свободным доступом к крыше. Иногда они забирались туда и, лежа на животе, наблюдали через карниз за жизнью чужого квартала.
За девочкой, тщетно звавшей подругу: «Мира! Мира», за мальчишками, бросавшими мяч в стену, за бабушками со сложенными на груди руками, выглядывавшими из окон. Наблюдали увлеченно, сосредоточенно.
Гулять по мосту после наступления темноты не рекомендовалось никому. Отправиться туда посреди ночи означало добровольно нарваться на неприятности. Для Дилана и Аэромена это как раз подходило. Дилан работал приманкой, стоя напротив украшенной уже изрядно поблекшими автографами Ли и Моно башни, а Аэромен в своем костюме ждал наверху, зависнув возле проводов. Внизу, на улицах, стояло позднее лето, наверху, в воздухе, начиналась зима, наступавшая с океана. К Дилану привязались буквально через нескольких минут, к чему он, собственно, и готовился. Когда два подростка вынырнули из темноты и заговорили с ним, ему стало смешно.
— Эй, белый парень, одолжи доллар.
Дилан с удовольствием сделал вид, будто лезет за деньгами в карман, позволяя улову зайти поглубже в сеть. Но Аэромен не появился ни через полминуты, ни через минуту.
— Какого черта ты там копаешься?
Парни занервничали. По-видимому, усмотрели в медлительности белого какой-то подвох и проследили за его взглядом, устремленным вверх, на провода над мостом. Все трое увидели человека в накидке, Мингуса, который пытался справиться с собственным телом и ветром, отнесшим его в сторону от линии электропередачи. В какой-то момент ему почти удалось это, но очередной порыв снова дернул его вбок, прибивая к воде. Перед глазами наблюдателей мелькнула накидка, маска, кеды «Пума», а затем он пропал из виду.
Его унес ветер.
Дилан резко развернулся к дощатой пешеходной дорожке и рванул прочь, следуя советам Рейчел: «Беги, мой мальчик, работай ногами, чтобы никто никогда тебя не догнал!» — впервые в жизни. У подножия моста он чуть не столкнулся с постовым копом, обогнул его, отдышался и продолжил бег, двигая руками и ногами как какой-нибудь механизм. Съезжавший с моста поток безликих машин устремлялся на Генри-стрит и Клинтон, теряясь меж дремлющих домов из бурого песчаника. Обратиться за помощью было не к кому. Мингус — Аэромен — разбился о воду, утонул вместе с серебряным кольцом. Дилан свернул на темную тропу, ведущую к воде под мостом, и побежал вниз, к заваленному мусором берегу, куда город выбрасывал разбитые полицейские машины и прочие свидетельства собственной беспомощности.
Мингус сидел на краю причала и, сгорбившись, выжимал накидку. На цементной плите под ним разрасталось темное водное пятно. Дилан, подбежав, молча уставился на него.
— Вот это да! — сказал Мингус.
— С тобой все в порядке?
— Я плавал, приятель. Хотя и понятия не имел, как это делается. — Он говорил изумленно, но спокойно и кивал на воду.
— Что ты имеешь в виду?
— Как рыба, Ди-мен.
— Думаешь, кольцо научило тебя плавать?
— Или летать под водой — не спрашивай, я не знаю. Но, черт возьми, я как будто был Акваменом.
Они побрели в сторону Дин. Запланированная на сегодня борьба со злом так и не состоялась, и в последующие дни они почему-то обходили мост стороной. Костюм Аэромена Мингус высушил, а потом закинул на полку на несколько недель, в течение которых оправлялся от падения и собирался с духом. Дилан не торопил его, размышляя о таинственной силе кольца. Каковы ее пределы? Почему Аарон К. Дойли отказался от всего этого? Дилан надевал кольцо на палец, наполнял ванну, опускал туда голову, пытался дышать, втягивал воду в легкие, кашлял, когда она обжигала ноздри.
«Рентгеновским» зрением кольцо не наделяло. Мингус и Дилан удостоверились в этом, проведя волнующий вечер в попытках рассмотреть, что находится под платьем у проституток на Пасифик и Невинс и у белых девочек в «Баскин Роббинс» на Монтегю, но так ничего и не увидев.
— Постой, постой, кое-что я все же рассмотрел.
— Теперь моя очередь.
— О черт! Она без трусов.
Последнюю операцию в тот год, когда Дилан начал учиться в Стайвесанте, они провернули во время сильного снегопада, через две недели после Дня благодарения. Дилан шел по Стейт-стрит, а Мингус следовал за ним, перепрыгивая с одной крыши на другую. С той поры, когда им удалось спасти китайца, побросавшего на тротуар деньги, они считали участок Стейт-стрит между Хойт и Бонд самым подходящим для борьбы со злом местом. От Дин и Берген его отделяло приличное расстояние, поэтому знакомые здесь практически не попадались, к тому же тут всегда было темно из-за разбитых фонарей. Сегодня, вероятнее всего, Дилана могли лишь обстрелять снежками. Так оно и вышло. Попавшийся навстречу подросток-пуэрториканец зачерпнул горсть снега с ветрового стекла припаркованной у обочины машины и, когда Дилан прошел мимо, бросил комок ему в спину.
Дилан резко развернулся.
— Какого черта тебе надо, сукин сын?
В этот момент слетевший с крыши Мингус запихнул пуэрториканцу за шиворот пригоршню снега. После этого они помчались прочь, Аэромен на ходу, прямо на морозе, стащил с себя костюм.
Днем Мингус, ночью Аэромен. Рассказывать кому-нибудь в Стайвесанте об их похождениях не было желания. Дилан даже не пробовал делиться впечатлениями с Тимом Вэндертусом и Габриелем Стерном. А несколько дней спустя приключения отступали на задний план, и Дилану начинало казаться, что Мингуса и Аэромена отделяет от него миллион миль, что они живут где-то в другом мире. Кроме того, как раз сейчас то, чего неосознанно ожидали Тим и Габ, наконец явилось к ним.
У него уже имелось всем известное название: панк. Панк был новым поветрием и поддерживался парнями из «Секс Пистолз», «Токинг Хедз», «Чип Трикс». Проникнуться их идеями, понять, что ты духовно связан с ними, — вот в чем состояла главная задача начинающего панка. Волосатики же панк не признавали, и уже одно это о многом говорило.
Однажды Тим явился в школу в ошейнике с шипами и показал Дилану и Габу, как он застегивается — на обычный замок. Габ неделю неуверенно над ним насмехался, а потом купил себе кожаную куртку с множеством застежек-молний и заклепок, от которой воняло почти так же, как от красок Авраама. Для придания куртке бывалого вида Габ хлопал ею по здоровенному булыжнику в парке. А она все равно выглядела новой. Быть может, сам Габ ей не соответствовал — со своими кудрями, падавшими на уши. Еще неделю спустя Габ и Тим сделали друг другу новые прически — маникюрными ножницами. Куртка Габа мгновенно преобразилась.
Теперь оба курили сигареты.
Габ украсил предплечье миниатюрной свастикой, сделанной при помощи бритвы.
— Знаете, что со мной сделают предки, если увидят это? — шептал он таким тоном, будто был захвачен в заложники сатанистами и те вынудили его сказать в телефонную трубку сумму выкупа.
Твое внимание неожиданно привлекли девочки с коротко подстриженными, выкрашенными в черный цвет волосами. Саркастические, бледные, плоскогрудые, они ворвались в твою жизнь новым ароматом, который раньше ты не замечал.
Хотя у некоторых вообще-то была грудь. Это не вписывалось в эстетические нормы панков, но в качестве исключения устраивало всех.
Дилан вдруг почувствовал, что стыдится пластинок Рейчел — ее «Блайнд Фейт» и «Криденс Клиэруотер Ривайвл». Он отнес их в пункт обмена записей и вернулся домой с «Дайте подлиннее веревку» Клэша.
Стив Мартин пел для детей.
Бояться теперь было практически нечего. Четырнадцатая улица и Первая авеню задыхались от зла и грязи, но народу там всегда толпилось предостаточно, так что к тебе почти не приставали. А может, ты просто вышел из возраста несчастной жертвы, хотя каких-то цензов в этом смысле не существовало и следовало все время оставаться начеку. Какую-то девочку, виолончелистку, твою ровесницу, в Гарлеме на Сто тридцать пятой улице столкнули с платформы метро; поездом ей оторвало руку, но в результате какой-то поразительной операции конечность удалось сохранить. Весть об этом происшествии повергла детей и родителей в шок. По счастью, ты не учился играть на виолончели и не ездил из Манхэттена в Гарлем: по крайней мере от подобного ты был застрахован.
Единственная возникшая проблема была связана с кожаной курткой. Курткой Габа. Какой-то пуэрториканец лет восемнадцати-девятнадцати — высокий, с усами и животиком, похожий на грушу, очевидно, считавший себя самого отдельной группировкой, — на Четырнадцатой улице между Второй и Третьей подкараулил момент, когда Габ в своей новой куртке отделится от сотни других учеников Стайвесанта, преградил ему путь и предложил «мирно побеседовать».
— Померимся силой?
— Чего? — Габ недоверчиво прищурился.
— По-моему, ты крепкий парень. Силой померимся? — Парень ткнул Габа в плечо. Тот обернулся на Тима и Дилана, отступивших назад.
И отчетливо произнес:
— А по-моему, я вовсе не крепкий.
— Ты куда-то входишь?
И опять ты сталкивался с системой кодов, на этот раз с панковской иронией — ненавистью к самому себе. Пуэрториканское население Земли о ней, наверное, еще и не слыхивало. На парне была джинсовая курка и никаких опознавательных знаков, за исключением привязанного к ремню брюк красного носового платка, который, возможно, что-то да означал. Габ опять оглянулся, но Дилан и Тим отошли еще дальше. Люди вокруг спешили по своим делам, разборка двух остановившихся посреди тротуара подростков никого не интересовала.
Ирония Габа улетучилась, и он промямлил:
— Я просто ношу ее, это ничего не значит.
Дилан сразу определил, что готовность Габа раболепствовать — это отзвук былых унижений в школьных дворах, вспоминать о которых у них было не принято. Голос Габа прозвучал почти как мольба Артура Ломба: «Не могу дышать».
— Не носи ее здесь, понял? А то она станет моей.
Оттого, что улица кишела людьми, не было никакого толку, и потому Габ чувствовал себя еще более униженным. Несмотря на подбадривания Тима, он до смерти боялся новой встречи с тем пуэрториканцем и несколько недель ходил по Четырнадцатой только в компании обоих друзей, но даже тогда двигался как обмороженный и постоянно оглядывался по сторонам, а куртку надевал со страхом — хоть это и шло вразрез с его панковской ориентацией.
И именно в тот день, когда они наконец оправились от встречи с пуэрториканцем, когда народу вокруг было видимо-невидимо, он опять, будто из-под земли, возник перед Габом и прижал его к обочине.
— Я ведь предупреждал тебя. Теперь мы точно померимся силой.
Лицо Габа сделалось красным, как помидор. Он тихо пролепетал:
— Я не хочу с тобой драться.
Спас Габа не Дилан и не Аэромен, а Тим — спокойно и даже красиво. Подошел к ним, извлек из внутреннего кармана куртки пачку «Мальборо» и показал пуэрториканцу.
— Куришь? — Он достал сигарету и засунул в рот. Пуэрториканец задумался, а Тим продолжал: — Оставь ты его в покое, старик. Мой приятель ничего никому не доказывает.
Обидчик взял сигарету и, не глядя на жертву, совсем другим, беззлобным тоном произнес:
— Пусть твой приятель больше не показывается мне на глаза в этой куртке.
— Хорошо, хорошо.
Впервые за все это время Дилан и скорее всего Габ тоже заметили, что Тим выше их и круче, вернее, что крутой из них троих только он. Ошейник с шипами Тим больше не носил, а безумная панковская стрижка очень ему шла, смотрелась совсем не так, как на кудрявой голове Габа. Когда они затевали борьбу перед школой, побеждал, если вспомнить, в основном только Тим, а «Спрайт» или «клитор» приходилось выкрикивать Габу. А вообще-то в последние несколько месяцев они почти не боролись. Тим теперь постоянно прогуливал занятия, уроки практически не делал, в то время как Габ и Дилан на подобное не отваживались. Как-то раз Тим появился в парке с подведенными тушью глазами и в шляпе как у Джеймса Дина. Но никто об этом даже не заговорил. В восемь утра перед занятиями Тим курил с хиппи травку, а Габ, раздражаясь, ждал его в сторонке, облаченный в свою куртку, которую сам не смог бы уберечь.
Быть может, Тим и Габ уже не особенно друг друга устраивали. В последнее время они мало разговаривали и не перекидывались шуточками, в школу приезжали зачастую порознь и не всегда уходили после занятий вместе, могли отправиться домой в разное время. Однажды на уроке алгебры учитель Кэплон указал на пустующее место Тима и спросил:
— Мистер Стерн, вы, случайно, не знаете, где пропадает ваш друг, мистер Вэндертус?
Габ ответил, подтверждая догадки Дилана:
— А почему вы у меня спрашиваете о нем?
На рождественских каникулах Габ и Дилан играли в «Сумасшедшем Эдди» одни, Тима с ними не было.
Мингус Руд, Артур Ломб, Габриель Стерн и Тим Вэндертус, и даже Аарон К. Дойли — все они без раздумий хотели бы превратиться в кого-то другого. У Дилана был особый талант сходиться с людьми, прячущими свое истинное «я» под масками, талант, постоянно в нем развивающийся. Быть может, он учился этому искусству у Рейчел — Бегущего Краба.
4/3/79 если смотреть из космоса он радиоактивен ноздри требуют бумажный платок если чихнешь они взорвутся бруклин женится на англии как бы сильно расплав активной зоны ни чесался не ковыряй слишком глубоко не то поранишь кожу инфракрасную как у меня расплавленный крабГлава 15
Оба подростка, наверное, думали, что их отцы никогда не выползают из своих убежищ, разве только чтобы сходить к Рамирезу или Багги, купить самое необходимое — туалетную бумагу, «Тропикану», нарезку по завышенной цене и прочее.
Оба, наверное, были уверены, что их отцы не представляют, что такое стоять на крыльце, не знают соседей и не умеют наслаждаться солнечным светом.
Оба они ошибались. И Авраам Эбдус, и Барретт Руд-младший знали Дин-стрит — такую, какой она была в одиннадцать утра.
Авраам проснулся несколько часов назад и уже выпроводил в школу молчаливого, измученного Дилана. Взяв недоеденный бутерброд и термос с кофе, он направился в студию — создавать при солнечном свете очередные кадры фильма. Этому занятию Авраам посвящал несколько утренних и ночных часов — время, когда ему работалось особенно легко, — днем же рисовал космические пейзажи, злых гремлинов, досаждающих пилотам, и все остальное, что от него требовалось. Обложки к книгам создавались фактически сами собой, Авраам в это время мог даже слегка вздремнуть. Сонливость притупляла его злобу и художественный вкус, в котором в это время суток он не нуждался. Но кадры фильма требовали сосредоточенности, обостренного кофеином внимания. С восьми тридцати до одиннадцати Авраам продлевал свой фильм на пять-шесть секунд, затем позволял себе передохнуть — разминал руки и ноги, спускался вниз, споласкивал термос и выходил из дома. Дин-стрит о чем-то размышляла в тишине: дети разошлись по детским садам и школам, взрослые где-то работали, а лентяи еще не поднялись с кроватей. На углу у магазина Рамиреза только-только появлялся первый завсегдатай или вообще никого не было. В конце улицы подметали тротуар. Барретт Руд-младший в это время как раз просыпался, обувал домашние тапочки и тоже выходил на крыльцо — взглянуть на наступивший день, глотнуть свежего воздуха, постоять на свету.
Точнее, первым делом после пробуждения Младший шел к стереоустановке — всю ночь таращившей красный глазок, — чтобы снова поставить ту песню, которая убаюкала его вечером. Поэтому, когда в пижаме или в халате он появлялся на крыльце, вслед ему уже лились звуки «Распространения человечества» Донни Хэтуэя или «Вдохновляющей информации» Шагги Оттиса. Проигрыватель работал на полную громкость, и по улице не тарахтел автобус, поэтому Авраам Эбдус, находившийся на расстоянии пяти домов от Руда-младшего, тоже слышал эти песни. Барретт пропах музыкой, она неизменно окружала его, как аромат парфюма. Естественно, Авраам не чувствовал этого запаха, но догадывался, что Руд насквозь пропитан музыкой.
Видеть Барретта в одиннадцать часов утра доставляло Аврааму радость — неизвестно почему. Это происходило раз в несколько дней, совершенно случайно. Тот и другой взирали на мир с высоты своих крылец, как два короля. В дни потеплее они проводили на улице больше времени, в мороз или дождь выходили только на минутку. Авраам старался придерживаться этой традиции вопреки всему и полагал, что Руд-младший рассуждает примерно так же. Но поговорить об этом с соседом он не мог; они лишь кивали друг другу или иногда махали рукой.
Старшего Руда Авраам давно не видел и иногда задумывался, куда тот подевался.
По затененной листвой улице проезжал автобус.
Новая фраза на потрескавшемся асфальте.
Карнизы — линия горизонта, двери — входы в ущелье.
Дин-стрит, естественно, влияла на его работу, по-другому и быть не могло. Авраам рисовал фасады домов из бурого песчаника, раскрашивал их черной краской и дополнял абстракциями. Его фильм, помимо всего прочего, был еще и архивом подсознательного, кладбищем тайных замыслов. Однажды Авраам даже испугался, узнав нарисованную на крыльце фигурку, окутанную серым светом. Странного человека, Барретта Руда-младшего, вышедшего подышать утренним воздухом. Он трудился над этими кадрами, составившими примерно минуту фильма, две недели, а потом вдруг устыдился их. Но не уничтожил фигурку, оставил стоять на крыльце. Человек подышал с минуту воздухом и вернулся в дом.
Фильм пожирал его дни и годы, но Авраам не возражал против этого. Он уже не мог вспомнить мотивов, побудивших его сделать ранние кадры именно такими, а не другими, сопоставить их с реальными событиями собственной жизни. Уотергейт, Эрлан Агопян, уход Рейчел. Фильм проплывал над рутиной — над чашками кофе, газетами, воспитанием сына. Все остальное вообще не имело значения — настроения, разные мелочи. Человек, переходящий из одного дня в другой на пути к высоким целям.
Авраам был уверен в том, что развенчал концепцию времени.
Именно поэтому, а не из страсти к смерти, он обожал читать газетные статьи о чьем-нибудь уходе из жизни. Быть может, только это и имело какое-то значение: смерть бесшумно закрывала всеми забытые счета и проливала свет на жизни, которые после похорон длились еще долгие десятилетия. Авраам прочитывал эти некрологи за завтраком и цитировал их сыну с преувеличенным воодушевлением, с напыщенным смаком:
— Жил в Мексике, был одним из телохранителей Троцкого, позднее работал редактором «Популярной механики» — ну разве не забавно, Дилан? Все эти жизни, такие яркие и противоречивые! Мы ничего о них не узнали бы, если бы они не оборвались! — Чем дольше Дилан молчал, тем сильнее Авраам раззадоривался. — Жан Ренуар, его отец был художником, ну, ты знаешь. Или вот еще, слушай: Эл Ходж! Он играл в «Зеленом Шершне» и в «Капитане Видео». Просто невероятно.
Сиджер, Стэффорд, Вишес. Фамилии выстраивались в длинную вереницу — как утренняя молитва.
— И что самое интересное, про всех этих людей пишут, будто они были гениями. Вот послушай…
В общем, Аврааму повезло, что сегодня утром сына еще не было за столом, когда он читал газету. Никто гениальный не умер. Вообще не оказалось ничего интересного. Глубоко разочарованный, Авраам перевернул последнюю страницу и увидел фотографию Мингуса Руда в нелепой рубашке и с какой-то тряпкой, пришитой к воротнику.
— Хм, хм… Ну и ну. На это тебе стоит взглянуть, Дилан.
Мальчик, жуя с открытым ртом, никак не отреагировал на эти слова.
Авраам свернул газету нужной статьей кверху и протянул сыну. Материал был подан небрежно, изобиловал неясностями и не шел ни в какое сравнение со статьями о смертях знаменитостей, но при этом содержал много занятного.
Человек в маске срывает операцию по захвату
Бруклин, шестнадцатое мая. Как сообщает полиция семьдесят восьмого округа, в понедельник вечером подростком в костюме супергероя сорвана тайная операция по захвату опасных преступников в Форт Грин.
Ряженый супермен — шестнадцатилетний Мингус Руд — пробрался на территорию жилого комплекса Уолт Уитмен, по-видимому, спрятался на дереве, и спустя некоторое время напал на детектива спецслужбы, заключавшего в этот момент сделку с известными наркодельцами, очевидно, приняв его за преступника. Попытка захвата торговцев наркотиками обернулась настоящей головной болью для детектива Морриса, которому потребовалась медицинская помощь, а кроме того, пришлось писать множество отчетов о произошедшем. Тщательная подготовка к операции по захвату закончилась ничем, не удалось арестовать никого из преступников.
Утешением для полиции стало лишь задержание мистера Руда, позднее отпущенного под ответственность отца. Облаченный в самодельную маску и накидку, мистер Руд назвался «Аэроменом» и отказался отвечать на вопросы без адвоката.
По сообщениям полиции, в последнее время зафиксировано несколько случаев столкновения граждан с человеком, одетым как супергерой…
И далее в том же духе.
Дилан густо покраснел.
— Можно я возьму ее?
— Конечно. — Авраам развел руками.
Мальчик засунул сложенную вчетверо газету в рюкзак и выскочил из-за стола так поспешно, что чуть не опрокинул стакан с соком и тарелку с недоеденным завтраком. Уши его горели как красные фонари.
— Пока! — крикнул он из прихожей.
Дверь громко хлопнула.
Вопросы? Естественно, у Авраама возникла уйма вопросов. Тебе что-нибудь об этом известно, сын? Может, поделишься со мной? Расскажешь, по крайней мере, где вы с Мингусом пропадаете днем и ночью?
Скажи, что же это такое — Бруклин? Не воплощение ли безумия?
Быть может, мы с тобой прокляты, мой дорогой любимый мальчик?
Нет, на эти вопросы никто не даст ответов.
Он сделал то, чего не делал никогда: пропустил первый урок в Стайвесант. Отправился на поиски Мингуса, с которым в последнее время встречался только случайно. Подозревая, что раньше десяти утра приятель не поднимается с постели, Дилан все же пошел к его школе и принялся заглядывать в окна классов. Будить Барретта, а тем более привлекать к себе внимание копов, школьных охранников или кого бы то ни было еще, до ужаса не хотелось — он чувствовал, что если войдет в школу, обязательно нарвется на какие-нибудь неприятности. Белый мальчик возле Сары Дж. Хейл, в девять утра, первый урок только начался. Не обнаружив там Мингуса, он отправился в Стайвесант и сидел, сгорая от нетерпения, на французском, физике и истории. Газета, извлеченная из рюкзака, вновь подтвердила невероятное: это все же случилось, Аэромена сцапали, быть может, даже не в первый раз. Утешало только то, что в статье не исказили его имя. На большой перемене Дилан вернулся в Бруклин, на проклятый клочок земли, принадлежащий Саре Дж. Хейл, обошел весь школьный двор и улицы вокруг в поисках Мингуса. В награду за старания судьба послала ему встречу с Робертом Вулфолком, — быть может, в глубине души, охваченной паникой, переполненной чувством вины, он сам желал этого.
Роберт в компании двух друзей сидел на крыльце одного из зданий на Пасифик-стрит, напротив школы. Все трое держали по стаканчику пива, в случае чего готовые быстро и ловко спрятать его в широком рукаве. Жизнь шла своим чередом — весна, солнечный день. Ни копов, ни охранников, ни группировок — никого вокруг. Только Роберт — нейтронная бомба из Гованус Хаузис — и его дружки.
Завидев давнего знакомого, Роберт озарился счастливой кривой улыбкой. Дилан представлял себе окрестности Сары Дж. Хейл совершенно иначе, похожими на парк близ Стайвесанта, кишащий прогульщиками. Но Пасифик-стрит оказалась пустыней из мультика. Дилан пересекал эту пустыню, приближаясь к кучке разбойников.
Он остановился на тротуаре. Роберт не двинулся с места. Казалось, всем троим не хочется браться за добровольно явившуюся к ним жертву. Как будто они решили сделать перерыв в своей карьере преступников. Их сегодняшнее поведение напоминало времяпрепровождение пьяниц с детсадовского крыльца на Невинс: они апатично наблюдали за течением жизни, пребывая в хмельной расслабленности, будто сидели на берегу озера.
Течение жизни могло быть и струйкой мочи, стекающей от крыльца к обочине. Но речь не об этом.
— Роберт, — позвал Дилан.
— М-м? — отозвался тот, устремляя на Дилана стеклянные глаза. Сегодня он был не против поговорить со своим врагом. «Мы на одной планете, и я даже признаю, что знаком с тобой».
— Ты Мингуса не видел?
Роберт наклонил голову назад и в сторону, будто Мохаммед Али, уходящий от удара. Быть может, он давил в себе приступ смеха, хотя на губах у него не появилось даже улыбки.
Один из его приятелей протянул ладонь, и Роберт шлепнул по ней рукой. Дилан стоял, как статуя, застыв во времени.
Несмотря на то, что он пробил сегодня скорлупу, в которой сидел все это время, торопить события побаивался.
— Ты не видел Мингуса? — Паника в нем росла с каждой минутой.
— Ищешь Аромена?
Роберт произнес это слово почти как «Уро-мена». Дилан не стал его поправлять.
Троица разразилась диким хохотом. Дружков Роберта скорчило, будто от жесткой щекотки, они схватились за животы, буквально лопаясь от веселья, и вновь по очереди хлопнули Роберта по ладони, хваля за удачную шпильку.
— Ох, черт! — сквозь смех выкрикнул один из них, качая головой и постепенно успокаиваясь.
— Гу не появлялся здесь сегодня. Такие, брат, дела, — сказал Роберт. — Хочешь, чтобы я ему передал что-нибудь?
— Да нет.
— Я скажу Гу все, что попросишь. Ты не доверяешь мне?
— Передай, что я его ищу.
— Лады. Ты его ищешь. Круто.
Дилан выдавил слова благодарности.
— Эй, Дилан, постой, а доллара в долг у тебя, случайно, не найдется?
Трое парней сидели на крыльце, не поднимаясь. Один допил пиво и отбросил стакан в сторону. Роберт разговаривал как будто со стеной, смотреть Дилану в глаза он считал, наверное, ниже своего достоинства.
— Я ничего тебе не сделаю, сам ведь понимаешь. Эти ребята не знают тебя, но я-то знаком с тобой сто лет, мы, можно сказать, вместе выросли. Ты же мне как младший брат.
Дружкам Роберта наверняка было глубоко плевать на Дилана. Хмельные от пива, они сейчас могли обидеть разве что кошку. Дилан в отчаянии достал из карманов деньги, расставаясь с ними почти без сожаления.
Он побрел в сторону Хайтс, не желая возвращаться на Дин часов до трех. Никто не усомнился бы, увидев в Бруклин-Хайтс белого мальчика со школьным рюкзаком, в том, что у него просто рано закончились занятия. В дальнем конце Променад он уселся на скамейку, чувствуя себя зажатым между небом и машинным ревом внизу, на загаженной выхлопными газами автостраде Бруклин-Куинс, расплющенным лепешкой. Глазея на залив, на лодки, медленно скользившие в направлении Стейтен-Айленда, на груженные мусором суда, направлявшиеся во Фреш-Киллз, на статую Свободы — он медленно успокаивался. Но каждая пролетавшая над головой чайка снова напоминала о Мингусе, о его падении под мост, о белой накидке.
Небо было заполнено Аэроменом. Но сам Аэромен отсутствовал.
Без кольца Дилан и не пытался летать по Бруклину. Он думал, они с Мингусом будут играть роль Аэромена по очереди — белый мальчик и черный, — чтобы придать образу еще больше таинственности, но летал, наряженный в костюм, только Мингус, а Дилан лишь прятался за припаркованными машинами или работал приманкой. Он разрезал одежду Рейчел, сшил костюм супергероя, раскрыл другу свой секрет, и вот Мингус, в костюме Аэромена, вляпался в историю с копами и наркоторговцами. Если, конечно, в газете написали правду.
Было в этой истории нечто такое, что не вписывалось в общую картину. Или то, о чем ты просто не желал знать.
Зачем Аэромену понадобилось ввязываться в дела наркоторговцев?
На Дилана, изучающего со своей скамейки остров, залив и небо, наткнулись двое черных парней. Если долго сидеть на одном месте, тебя обязательно найдут, к тебе слетятся, как мухи к меду. Впрочем, эти двое и в самом деле были мухами — слишком юными, пяти- или шестиклассниками, парочкой Робинов, только без Бэтмена. Если они забрели сюда после занятий, скорее всего из 293-й школы, значит, уже четвертый час.
Мальчишки подсели к нему с обеих сторон с намерением поцеплять.
— В чем дело, белый парень?
— Дружки оставили тебя одного?
— Не можешь найти дорогу домой? Заблудился?
— Ты что, плачешь, белый парень?
— Не хочет разговаривать.
— Тупой или чокнутый.
— Проверь-ка его карманы.
— Сам проверь.
Дилан поднял голову, и парни отодвинулись. Причинить ему какой-либо вред у них не хватило бы силенок. Способностями Аэромена Дилан сейчас не обладал, но был крупнее этих двоих. Он уже не крот — и даже больше чайки.
— О, о, о! Белый парень рассердился.
— Сейчас он схватит тебя, приятель, осторожнее!
— Да нет же, ему опять захотелось поплакать.
— Глупенький белый мальчик.
— Тупой.
— Тупо-о-ой.
— Или голубой.
На фоне этих насмешек издевки Роберта Вулфолка казались цветочками. Дилан не испытывал страха, поэтому чувствовал себя сейчас круглым идиотом. Он до чертиков от всего этого устал — от расового противоборства, постоянной войны. Белым парнем его называли, наверное, раз тысячу, ничего нового выдумать они не могли. А Манхэттен был настолько близко, что почти резал глаза. Если кольцо Аарона К. Дойли ушло от него навсегда, ему следовало забыть о пятиклашках, выбросить из головы чертовы загадки Мингуса, покончить с Бруклином и подготовиться к окончательному побегу.
Потеряв к белому парню интерес, мальчишки побрели прочь, возможно, на поиски другого белого — из «Пэкер» или Сент-Энн, — у которого можно отобрать доллар или даже два.
От пристани отчалила, гудя, баржа с трехцветным тэгом «Страйк» на боку — здорово парень поработал!
Дилан продолжал сидеть, а в голове крутились песни Клэша: «Я страшно устал от Америки» и «Джулия в команде наркоманов». Мингусу он ни разу эти записи не ставил, потому что стеснялся их там, на Дин-стрит. После Клэша зазвучала «Найду себе, найду город, в котором буду жить» в исполнении «Токинг Хедз». Дилан все сидел, всматриваясь в глаза небоскребов, а когда почувствовал, что жутко устал, солнце уже катилось к горизонту. Мосты и башни утопали в его оранжевом сиянии — медовом свете, тускневшем с каждой минутой. Дилан подумал, что сейчас охотно съел бы ужин, приготовленный Авраамом.
Вернувшись на Дин уже в темноте, он постучался к Мингусу.
Целый и невредимый, Мингус открыл ему дверь и посмотрел на приятеля осоловелыми от марихуаны глазами, ничуть не смутившись.
— Ди-мен. В чем дело?
— Где кольцо?
— У меня, все отлично, не переживай.
— Где? — Дилан огляделся по сторонам, боясь, что за нами откуда-нибудь наблюдают. Но вокруг никого не было, а Мингус его паранойю даже не заметил. Прошло два дня, никто уже ни о чем не помнил, Аэромен — Уромен — превратился в шутку, его имя упомянули пару раз в уличных разговорах и забыли.
— Я спрятал его.
— Полиция видела, как ты летаешь?
— Копы? Они уверены, что я спрыгнул с дерева.
— Как…
Мингус поднял руку: «Довольно. Не сейчас».
— Зайдешь? У меня король Артур.
На полке не оказалось ни костюма, ни кольца, лежал только похожий на шар для боулинга футбольный шлем с надписью «Могауки Манаюнка», теперь украшенный еще и метками «Арт» и «Доза». На проигрывателе стояла пластинка «Гет Офф». Музыка не играла, но, судя по скрипу иглы, вот-вот должна была зазвучать. Артур в своих грязных «Пумах» лежал боком на кровати и вытряхивал из пакетика марихуану. Вокруг него валялись шарики смятой бумаги — следы неудачных попыток. Увидев Дилана, он победно улыбнулся: «Добро пожаловать в мою берлогу. Ха-ха-ха-ха!»
Артур превратился в омерзительного гнома и выглядел еще более маленьким, утопая в широченной куртке с капюшоном и армейских штанах, в которые легко влезла бы целая дюжина таких тоненьких ножек. Увеличилась в размере только его одежда, он сам оставался прежним. Наконец забив косяк, Артур сунул его в рот, обильно обслюнявил, и только после того, как прикурил, заговорил с Диланом, очевидно, желая продемонстрировать ему свое умение делать это одновременно.
— Гуса поймали копы, слышал?
— Заткнись, Артур.
Артур протянул Дилану обслюнявленный косяк.
— Он поперся в одном белье на Миртл-авеню, забрался на дерево и спрыгнул оттуда на копа, прикинь. Если наглотаться ЛСД или обнюхаться кокаином, наверное, эта идея покажется занятной. Я однажды видел нечто подобное по телику. Какая-то девчонка залезла на дерево и стала грызть кору. Естественно, обкуренная.
— Слушай, я сейчас съезжу тебе по морде.
— Валяй, супергерой.
— Только потом не плачь.
— Не беспокойся. Как бы мне хотелось взглянуть на тебя в этом гейском костюмчике, Астромен.
Артур словно передвигал фигуры на шахматной доске — язвил с непоколебимой уверенностью. Слова лились монотонно и раздражающе. Мингус к этому, видимо, привык.
— Какими сверхсилами ты хотел бы обладать, Дилан? Силы нам всем необходимы, мы ведь супердрузья. Мне, например, не помешает научиться раздевать людей взглядом: посмотрел на кого-нибудь, и его одежда исчезла. Любой бандит, окажись он в такой дурацкой ситуации, страшно растерялся бы и удрал. Я называл бы себя Человек Фиговый Лист.
Мингус не смотрел Дилану в глаза, когда брал или передавал ему косяк. Он явно не хотел отвечать на вопросы: о полете в одиночку, о деле в Уолт Уитмен. Если ему приспичило накрыть наркодельцов, он мог бы отправиться куда-нибудь поближе — на Берген или Атлантик. Или даже на второй этаж собственного дома, в царство Руда-младшего, где подобные делишки проворачивались ежедневно, если не ежечасно.
Может, конечно, Аэромена выбили с его обычной орбиты опасения столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Включая Руда-младшего и Старшего.
— Эй, Ди-мен, настоятельно рекомендую послушать «Кинг Тим», которую поют «Фэтбэк», — сказал Мингус, закрывая тему своего недавнего приключения и сообщая, что жизнь продолжается. Это было потрясающее время — сам того не ожидая, ты мог открыть для себя новое музыкальное направление и сделать вместе с ним мощный скачок вперед в своем собственном мире. — Обалденная вещь. Слушай.
Мингус повернулся и ущипнул Артура за руку.
— Придурок! — проорал тот, потер руку, но даже не переменил позу — хихикающий, провонявший дымом карлик.
Аэромен умер, во всяком случае, завис над пропастью, отправленный на время в отставку. В том же самом виде ему вряд ли когда-нибудь предстоит теперь воскреснуть. Дилан был уверен, что костюм уничтожен или выброшен. А впрочем, костюм не имел особого значения. С накидкой из простыни и нарисованной эмблемой, он был чересчур личным, слишком уязвимым для насмешек жестокой улицы. Теперь Дилан сознавал это. Правильно сделал Аарон К. Дойли, что отказался от накидки, — Дилан не понял тогда его жеста. Теперь кольцо Дойли хранилось в тайнике, там ему самое место. Над загадкой кольца предстояло еще думать и думать, сейчас и в будущем. Костюм, может, и нелеп, как это ясно выразил Артур, но ни он, ни копы, ни «Нью-Йорк таймс» не имеют никакого отношения к кольцу.
Они курили, все больше погружаясь в дым, и в конце концов умолкли.
Может, был какой-то смысл в том, что все трое собрались в одной комнате, — хотя, конечно, лучше не задумываться об этом всерьез. А с другой стороны, странно, что это произошло только сейчас.
Хотя двоих из этой троицы все равно продолжали связывать их личные секреты, пусть и запрятанные где-то далеко, в непроницаемом взгляде Мингуса.
Дилан выдумывал истории и неплохо рисовал, Артур язвил и умничал, Мингус же был наделен мощной силой воли — повиновался лишь самому себе, как закону. Все, что его не устраивало, он жестко отвергал, сдвинутые брови одерживали верх над взрослыми, школами, полицией. Спорить было не о чем. Аэромен исчез, на время был вычеркнут из жизни.
Трое белых старшеклассников шагают по Западной Четвертой улице, направляясь домой к одному из них, на Хадсон, где в отсутствие его разведенной матери могут заниматься чем хотят. Все трое защищены от осенней непогоды черными мотоциклетными куртками — различными вариациями на тему «Брандо/Элвис/Рамонес», — со звездами и черепами. Все трое идут вразвалочку и разговаривают на странном языке — панковском жаргоне.
Ноябрь 1979 года. «Наслаждение рэппера» попало в сорок лучших песен. И завладело сердцами белых школьников из Стайвесанта, включая и эту троицу. Песня звучит в радиоэфире, на улицах, доносится из магазинов и проезжающих мимо автобусов — сенсация, пропустить которую невозможно.
Но для того чтобы слушать эту песню в любое время, требуется выложить наличные.
Двенадцатидюймовую пластинку в конверте «Шуга-Хилл Рекордз» трое белых школьников покупают вместе с записью Эно и Тома Робинсона. «Наслаждение рэппера» — сингл-новшество, последний писк. Делая покупку, парни ошеломлены и неожиданно для себя находят нашумевшую песню беспросветно глупой и убийственно смешной, заурядной.
Ненависть к себе изношена до дыр — предмет особой панковской гордости.
Если кто-то из этих троих и понимает, в чем тут суть, он ничего не скажет.
Поясним на примере: если бы на Сент-Марк-Плейс вместе с прочими панковскими атрибутами продавали футболки, на которых написано «ПОЖАЛУЙСТА, ДОСТАНЬ МЕНЯ», ты, естественно, купил бы себе такую.
Но домой из Манхэттена возвращался бы в глухо застегнутой куртке.
Оказываясь в безопасности квартиры, школьники откладывают все остальные записи и в радостном предвкушении ставят на проигрыватель пластинку со знаменитой песней. Они прослушивают ее раз десять, пытаясь уловить смысл монотонно произносимых рифмовок. «Не знаю, что там думаете вы, а меня так просто тошнит от этой мерзкой вонючей еды». Три белых мальчика заходятся хохотом.
— Курица… на вкус… как… дерево! — задыхаясь, смеется один.
Конверты разбросаны по полу. Любовник разведенной мамы оставил в холодильнике шесть бутылок «Хейнекена». Вот придурок! Разумеется, пиво очень скоро исчезает, равно как и содержимое коробки «Нилла Вейферс». «Наслаждение рэппера» звучит в пятнадцатый раз, панки дергаются в шутовских плясках, изображают, будто ходят по дивану на ходулях, немыслимыми зигзагами извиваются в брейк-дансе.
В песне есть строчки, высмеивающие Супермена. Рэппер называет себя «Биг Хэнк» и обращается якобы к Луис Лейн: «Да, ночи напролет он в небе балдеет, а потрястись до утра на вечеринке сумеет?» Отличный вопрос к Супермену, да и ко всем остальным летающим созданиям.
Но ты делал вид, что о полетах даже и не думаешь.
Трое белых парней начинают повторять особо понравившиеся слова, пытаясь имитировать интонации рэппера.
— Я все понимаю насчет еды, — говорит один, чуть не лопаясь от восторга. — Но мы все же друзья — я и ты!
Двое из этих безобидных розовощеких панка родились в Манхэттене и до поступления в Стайвесант учились в частных школах. Им кажется, что эта рэпперская песня создана исключительно для их веселья, они слушают ее как посторонние, как люди, свалившиеся с луны. Никогда прежде при них никто не говорил как рэппер, да и на черных они почти не обращают внимания, может быть, только на Жирного Альберта и Сэнфорда, когда случайно видят их на улице. А смешным «Наслаждение рэппера» и в целом чернокожих делает поразительное отсутствие в них иронии.
Эй, но ведь перед нами не расисты, которые считают черных слишком серьезными, как хиппи, наивными и непостижимыми, как комиксы. Эти мальчики — панки, а панки все поднимают на смех.
Отсутствие иронии как будто забавляет и третьего мальчика, панка из Говануса.
Клубок замысловатых барочных орнаментов — вот кто он такой. Создание, готовое в любой момент пройти тест на психологическую раздвоенность. Если прыгая в своих кедах на диванных подушках и шутовски двигая бедрами, он вспоминает наставления Мариллы (о том, как крутить обруч), свое страшное разочарование, потому что она оказалась не белой девочкой Солвер, и вину за это разочарование, а еще стыд за неуклюжесть собственного тела — вещи, совершенно не важные для панка, — то что это означает? Что смеясь над «Наслаждением рэппера», он не пытается кому-то мстить или злорадствовать, ведь во всем, что с ним было, нет ничьей вины. В любом случае ему сейчас весело. Дин-стрит — это совсем другая история, набор знаний, сейчас абсолютно бесполезных.
Ты почти оставил позади и Дин-стрит, и Аэромена.
Если у тебя пропало желание встречаться с человеком, который прикрывал твою задницу в двести девяносто третьей школе, на которого ты когда-то мечтал быть похожим и смотрел как на героя, если тебе уже не хочется разговаривать по телефону с мальчиком за миллион долларов — в твое отсутствие на звонки отвечает Авраам, — не значит ли это, что ты повзрослел?
Это вам не вечеринка, не дискотека и не скитания по улице без дела.
Это конец, конец семидесятых.
Глава 16
Барретт Руд-младший устроил сегодняшнее мероприятие лишь по единственному поводу, но гостям о нем ничего не сказал. Они и без объяснений с удовольствием налегли на мясо, сыр, оливки, яичный хлеб, на вишневый пирог и, разумеется, без стеснений угостились дурью. Эта толпа наркоманов — Гораций, Кроуэлл Десмонд, три девочки — никогда не искала повода для вечеринки. Когда Барретт объявил наконец, какой сегодня день, компания была уже теплой. Кто-то ответил ему кивком и рассеянной улыбкой, кто-то приподнял бокал. «Барри вроде что-то сказал. У кого-то день рождения? Это круто». Только одна из девочек, имени которой Барретт не помнил, спросила:
— И сколько ему стукнуло?
В самом начале, придя сюда с Горацием и остальными его подружками, она одарила хозяина робкой улыбкой. На ней было облегающее длинное платье с множеством пуговок на одном боку, туфли-лодочки с высокими каблуками и бряцающие серьги в ушах. Ноги росли почти от ушей, а ресницами она напоминала древних египтянок. Это был типичный образчик женщин Горация, но, наверное, из новеньких. Скорее всего Гораций позвонил ей сегодня по телефону и сказал: «Хочешь познакомиться с Барреттом Рудом-младшим? Певцом из „Дистинкшнс“? Надень что-нибудь этакое, детка». Вот она и натянула это платье, заранее предвкушая, сколько пуговок ему придется расстегивать.
Все говорило само за себя. Даже пело, если прислушаться.
Едва переступив порог, она начала суетиться: приглушила свет, полезла по ящикам в поисках свечи и все их обшарила бы, если бы Барри не сказал, что свечей нет. Тогда, сняв с плеч накидку, она бросила ее на лампу, и на потолке легла жуткая тень — разинутая зубастая пасть.
— Ты, случайно, не знакома с цыганами из «Флитвуд Мак», а, крошка?
Она опять улыбнулась, прошла к кухонной стойке, где Гораций рассыпал кокаин, изящно вдохнула дорожку порошка, прижав к носу палец с накрашенным ногтем.
Барретт не заострял на ней внимание. Поставил пластинку Стиви Вандера «Путешествие по таинственной жизни растений» и сам принялся оценивать качество кокаина. Другая девочка спросила у него о «Золотых дисках» на камине, и Барри ответил, что там должны были бы стоять еще четыре штуки. Его уже не злило это, все осталось в прошлом. Разговаривая о пластинках, он смотрел на молчаливую девицу, которая, в свою очередь, наблюдала за ним, хотя и делала вид, что ей все равно, — вела обычную игру. Торопиться не следовало, молчаливых всегда можно разговорить, если не спешить. Эта девочка неожиданно проявила интерес к его сыну, переводя разговор на тему инстинкта размножения.
Замечательно, крошка. На эту тему мы обязательно побеседуем вдвоем.
— Семнадцать. Представляете? Я совсем старик, — ответил Барретт.
Он сидел в своем кресле, обхватив руками затылок, широко расставив ноги. Девочки, устроившиеся на ковре, могли спокойно заглянуть ему в шорты, но его это ничуть не смущало. Пожалуйста, угощайтесь. Пришли сюда поглазеть на меня — любуйтесь. Я настоящий.
— А где же сам новорожденный? — проворковала одна из девиц.
Барретт взглянул в сторону лестницы.
— Позовите его.
За окном разразилась июньская гроза. Занавески колыхались, повеяло свежестью.
В ту ночь, в шестьдесят третьем, когда родился его сын, тоже шел дождь.
— Его зовут Мингус, — сказал Барретт.
Девица изумленно посмотрела на дверь — как будто Барри держал там сына под арестом.
— Весь первый этаж в распоряжении Мингуса, — объяснил он. — Я хотел позвать его сегодня, но он опять болтался на улице. Сукин сын почти не живет дома. Но от грозы, наверное, убежал. Или скоро убежит. — Блаженно прикрыв глаза, он пропел, имитируя шепелявость Эла Грина: — Не выношу дни, когда по стеклу дождь, меня уносит в прошлое, бросает в дрожь…
Девица набралась храбрости, подошла к двери и нерешительно, будто все еще не веря, позвала мальчика. Минуту спустя, словно собака, он поднялся к ним — в своей запятнанной армейской одежде, с нечесаными волосами, скрученными в жгуты — предшественники дредов. Девочки принялись рассматривать его, говоря «мм» и «хм», подзадоривая мужчин.
— Что? — спросил Мингус.
— Густофер, приятель, как поживаешь? — поинтересовался Кроуэлл Десмонд, подставляя Мингусу ладонь, по которой тот хлопнул с явной неохотой. — Почему я никогда тебя не вижу, дружище?
— Гус поднимается сюда, только если хочет стащить у меня пластинку или поживиться травкой, — сказал Барри. — Общаться с нами у него нет желания.
— Твой отец сказал, у тебя сегодня день рождения, — скептически произнесла девушка, похожая на цыганку.
Мингус кивнул.
— Что ты молчишь, будто воды в рот набрал? Представься девочкам.
Она протянула руку.
— Эланда.
— Э-э… Мингус.
— Эланда и Эмингус, — сказал Барри. — Да вы у нас близнецы.
Кроуэлл Десмонд, наполнявший кокаином стеклянную трубочку у раковины, заржал, как лошадь.
— Очень смешно, Барретт, — негромко проговорил Мингус.
— Прекрати называть меня Барретт. И взгляни на себя: опять ты в этом хипповско-вьетнамском дерьме. Вороват бы у меня шмотки, вместо пластинок.
Эланда села на софу, где уже устроились две другие девицы. А Мингус остался стоять посреди комнаты. Последняя песня на пластинке закончилась, и игла ушла на немую кольцевую дорожку возле наклейки в центре. В комнате воцарилась тишина, разбавляемая лишь тихим скрипом: вероятно, и до остальных гостей дошло наконец, у кого день рождения. Или это гроза заставила вдруг всех замереть. Барри чувствовал себя виноватым, хотя знал, что вряд ли уговорит Мингуса провести этот день в их компании. Мерзкие ощущения грызли душу.
Между ними была кровная связь, но никто, кроме него, не знал всех подробностей этой истории.
Никто не знал мать мальчика. Она оставалась неизвестным фактором.
Грязная армейская одежда скрывала стройную, уже не детскую, а мужскую фигуру Мингуса. Он косился на окно, вероятно, мечтая снова оказаться на улице. Когда Барретт в последний раз внимательно смотрел на него? Трудно сказать. По негласному обоюдному соглашению, неизвестно когда заключенному, они обычно вообще не глядели друг на друга. Барри не хотел задумываться, каким он сам видится сыну и этой девочке, Эланде, — с отросшими ногтями, брюшком и потолстевшей шеей. Если бы не кокаин, он вообще превратился бы в жирную свинью, в карикатуру Исаака Хайеса.
Надо было встать и встряхнуться, потанцевать хотя бы, а он все сидит, как приклеенный к креслу, как тысячефунтовая гора мяса.
Его вдруг опять наполнило то чувство жизни. Никакими другими словами он не мог это назвать.
— Ладно, Гус, это я так, шучу. Присядь. Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать день рождения, друзья. Десмонд, смени же наконец чертову пластинку.
Мингус в нерешительности топтался на месте.
— У тебя внизу друзья? Ну так веди их сюда.
— Нет, простоя…
— Он, Эланда, иногда забавляется с белыми мальчиками.
Барретт сказал это просто так, ничего особенного не имея в виду. Но комната замерла, и Младшего обволокла тишина. В воздухе пахло озоном, как обычно во время грозы. Барретту показалось, еготело наполнили свинцом. Надо было начать танцевать, но музыка не играла; внезапное чувство жизни разрасталось, а вместе с ним как будто увеличивался и он сам. Если бы эта девочка, Эланда, подошла к нему сейчас, то выглядела бы по сравнению с ним маленьким котенком. По телевизору однажды показывали, как рождается и устраивается в сумке детеныш кенгуру — размером с грецкий орех. Мать для него — целая планета. Такой планетой сейчас ощущал себя и Барретт. Чем дольше он сидел в кресле, тем огромнее становился.
Мингус стоял на прежнем месте, мрачно глядя на отца.
У раковины тем временем совершалось таинство. От доносившихся оттуда звуков веяло надеждой. Барретт ожил, возгорелся желанием спеть.
— Только не воображай себя Ричардом Прайором, Гораций. Неси трубку сюда. А ты, Десмонд, включи, в конце концов, музыку. Никакого от тебя толку, чертов подхалим. Я сочиню про тебя песню, честное слово. «Эй, никчемный лизоблюд, дай закурить, не то побью».
Вероятно, задетый за живое этой импровизацией, Десмонд сменил наконец пластинку: поставил «Для тебя» Принца.
Если бы Барретта не распирало во все стороны и он не ощущал себя огромной планетой, было бы гораздо лучше.
— Я когда-нибудь рассказывал тебе, Десмонд, как меня посещает это чувство? Когда мне кажется, что я гигант, а все вокруг лилипуты?
— Гм… — Десмонд, наверное, пришел в замешательство.
— Значит, все мы превратимся сейчас в гномов, — сказал Гораций. — И что в этом такого?
— Моя бывшая жена, мать вот этого молодого человека, твердила, что в такие моменты я становлюсь помпезным. Но это не так. Мне всего лишь начинает казаться, что подушечки моих пальцев отделяет от туловища тысяча миль.
— Ну и ну, — пробормотал Десмонд, опасаясь что-нибудь не так ляпнуть.
— Это как сумасшествие, — говорил Барретт, понимая, что правдоподобно описать свое состояние все равно не сможет. — Сумасшествие. Эй, Гораций, вручи же мальчику подарок.
— Что?
— Не прикидывайся, будто ты забыл. — Голос Барретта доносился как из склепа — так казалось ему самому.
Широко раскрыв глаза, Гораций вышел из-за кухонной стойки и достал из внутреннего кармана жилета маленький сверточек. Он все еще не мог поверить, что это подарок для мальчика. Ему казалось, Барри просто шутит. Отправляясь к нему на вечеринку, Гораций всегда запасался такими сверточками.
— Бери. Побалдей, останься хоть сегодня дома.
Мингус молча таращился.
— Возьми же, что стоишь, как истукан? Гораций делится с тобой кокаином.
Мингус взял сверточек, положил в боковой карман штанов и кивнул.
— С днем рождения. Ты теперь настоящий мужчина.
Внезапно Барретт, все глубже уходивший внутрь себя, понял: подарок неполный. Неудивительно, что Мингус не особенно обрадовался. Кокаина было недостаточно. Отцу следовало отдать сыну и девочку, Эланду. Сам он в любом случае не мог сегодня с ней поразвлечься, с такими-то отяжелевшими ногами и руками. Он раздавит ее в лепешку, а если она захочет сделать минет, то покажется ему уплывшей на тысячу миль, куда-то за горизонт. Сегодня стоило побаловать Мингуса.
— Гораций, какого черта ты там копаешься? Принесешь мне наконец трубку или нет? Сам я не в состоянии оторвать от кресла задницу. Эй, Эланда!
— Да? — удивленно отозвалась Эланда — явно не ожидала, что он обратится к ней по имени.
— Не хочешь взглянуть на жилище Гуса? — Барретт произнес эти слова легко — так, будто Эланда должна была знать, что за мысль пришла ему в голову. Все уставились на него в изумлении.
— Как это понимать? — спросила Эланда. Она не поднялась с софы, напротив, закинула ногу на ногу, словно защищая свое укромное место, и метнула беспокойный взгляд на дверь.
— Черт, Барретт! — произнес Мингус, негромко и точно с сожалением.
— Барри, спокойно, — сказал Гораций, как будто его слово имело здесь какой-то вес.
— Да я не имею в виду ничего такого, расслабьтесь, черт вас побери! Сколько тебе лет, Эланда? Если по возрасту ты больше подходишь Мингусу, почему бы вам вместе не спуститься вниз, покурить там, пообщаться? У него же сегодня день рождения.
— Она не может ко мне спуститься, — решительно сказал Мингус.
— Да подожди, Гус, пусть девочка сама решит. Что скажешь, детка? В каком году ты родилась? Дракона? Крысы?
— Ты мне нравишься, Мингус, — вдруг произнесла Эланда, не глядя на Барретта. В ее голосе были и эротические, и материнские нотки, и отзвуки прочих женских уловок, которыми она хотела укорить Барри, дать ему понять, что он упускает фантастическую возможность. Точнее, уже упустил, этот шанс ускользнул от него. — Давай не позволим твоему отцу окончательно испортить тебе день рождения. Если хочешь, я пойду и взгляну на твою комнату.
Мингус не удостоил ее внимания.
— Она не может идти ко мне, — повторил он.
— Это еще почему? — спросил Барри.
— Старший в своей комнате. Я слышал его шаги.
— В своей комнате?
— Ты ведь не забрал у него ключи.
Барри умолк и теперь уже полностью отдался своему чувству жизни. Превратился в планету, которую населяли тучи людей, мельтешащих перед глазами. Значит, папаша вернулся. Старый хрен! Наверное, чем-то не угодил сутенерам и дельцам, владевшим гостиницей «Таймс Плаза», — может, затащил к себе какую-нибудь шлюху и пытался обратить ее в веру или устроил с кем-нибудь разборку в коридоре — в общем, кому-то там стал мешать и тайком вернулся обратно. Мингус и Старший были похожи — невыносимые существа, отдалившиеся от Барретта, как его собственные руки и ноги. Гораций, Десмонд, сын, отец, девочка-кошечка, «Золотые диски» — все вдруг превратилось в унылую свинцовую тучу.
Что ему сейчас нужно, так это трубка с кокаином и глубокий вдох. Один, два, три, дюжина. Хотя и это не могло спасти его от сверхизбыточного веса, равно как и увеличить всех остальных до сопоставимых с ним размеров.
А на улице, над разогретым за день асфальтом, поднимались после дождя клубы пара.
Трубка, кокаин, и будь уверен, что «Фидлерс Три» не смогут снова приписать себе соавторство.
Название этого места — «Новая школа» — напоминало об учебе и профессорах, потому-то Авраам и допустил столь серьезную ошибку. Немаловажную роль сыграл в этом и голландец, коллекционирующий оригиналы книжных обложек, названивавший Аврааму до тех пор, пока тот не сдался. А еще, наверное, собственное нездоровое любопытство, желание взглянуть на таких же, как он: некоего Говарда Зингермана и Поля Пфлюга. Очевидно, его собственная фамилия — Эбдус — казалась окружающим такой же странной, необычной, как и у этих двух. Может быть, именно эта особенность и объединяла их троих на этом мероприятии. Скорее всего Авраамом овладело тщеславие. Да, да, наверняка дело в тщеславии. И в слове «поп-культура», которое так часто звучало из уст голландца. Авраам давно стал участником поп-культуры. Поэтому и хотел узнать, что же она в действительности представляет собой, а заодно взглянуть на Зингермана и Пфлюга. Что в этом плохого?
Вскоре Авраам узнал, что именно плохо: он попал в ловушку.
В аудитории «Новой школы» народу собралось совсем немного, меньше пятидесяти человек — в основном волосатые парни. Они явились сюда, чтобы встретиться исключительно с Пфлюгом. Этому парню было лет тридцать, длинные волосы он завязывал в хвост, как и большинство его поклонников, и походил на тяжелоатлета, несмотря на то, что носил бороду, как у старика, точнее, как у волшебника.
Пфлюг творил в той области, которая возникла позднее, чем искусство оформления научно-фантастических книг, но уже имела большую популярность. Работы Авраама, по сути, никакой популярностью вообще не пользовались, разве только у художественных редакторов, которые в течение нескольких лет устраивали на Авраама настоящую охоту и, если им не удавалось заманить его в свои сети, нанимали других людей, которые соглашались рисовать подделки под его творения. По счастью, эти времена уже миновали. Авраам продолжал сотрудничать с издательствами, но мода на психоделические художества прошла. Пфлюг был типичным представителем того искусства, которое явилось им на смену. Он создавал драконов, силачей из популярных фильмов, небеса с ватными облаками Максфилда Пэрриша,[8] варваров и гладиаторов, прорисовывал каждое перышко, каждую чешуйку, каждую прядь в прическах своих героев — все это в стиле фотореализма.
Как выяснилось, именно Пфлюг нарисовал афишу к одному из последних нашумевших фильмов. Этим-то и объяснялись похожесть и сам факт существования его поклонников. Все они с нетерпением ждали сейчас тот момент, когда им позволят облепить Пфлюга со всех сторон, чтобы он поставил на принесенных ими плакатах автограф. До искусства оформления книжных обложек никому не было дела.
За исключением голландца, который, собственно, и организовал это мероприятие. Хорошо уже то, что он приехал в Нью-Йорк из Амстердама. Его внимание сосредоточилось в основном на Зингермане. Голландец был даже моложе Пфлюга, чисто выбрит и аккуратно подстрижен. Беседуя с ним по телефону, Авраам представлял его более зрелым человеком. Разговаривал голландец спокойно и на редкость уважительно.
Зингерман был его кумиром.
Оригиналы работ этого художника он выкупал у владельцев уже не существующих издательств, художественных редакторов, присвоивших его творения, заказывал по каталогам, которые переходили от одного коллекционера к другому. По произведениям, обозначенным в этих каталогах, голландец писал монографию и мечтал получить благословение Зингермана. Вероятно, только ради встречи со своим идолом он и совершил это путешествие через океан, но, будучи человеком скромным, не отважился открыто в этом признаться и организовал в качестве маскировки конференцию «Скрытый мир оформительского искусства» с участием Зингермана, Пфлюга и Эбдуса.
Как художник Зингерман обладал некой целостностью, был пропитан реализмом Ашканской Школы[9] и близок по духу братьям Сойер или даже раннему Филиппу Густаву. Свои работы он наполнял атмосферой городской готики и изображал людей, раздираемых страстью, — женщин, с которых мужчины срывают одежду, и наоборот, — но запечатлевал и человеческую нежность, и даже грусть, писал и собачек, и ржавые консервные банки на улицах, и неприглядность трущоб, и плейбойских кроликов. Его женщины всегда были лишь чуточку красивыми. Лица, руки, выглядывающая из-под платья грудь — на этом он сосредотачивал основное внимание, все остальное терялось в полутонах. У Зингермана была индивидуальность, его работы заслуживали гораздо больше внимания, нежели вереница аутичных творений Пфлюга.
Образцы — книги, обернутые в полиэтилен, и две картины — голландец взял из своей коллекции.
Иллюстрации Зингермана на книжных обложках — он оформлял и романы Баулза, и Калишера, и откровенную чернуху — поражали глубиной и прочувствованностью. В семидесятых он разбавил свои излюбленные серо-коричневые тона более веселыми красками: на девушках появились нарядные бикини и узорчатые юбки.
Что за человек был Зингерман? Казалось, этому великану в костюме цвета пыли неудобно и неуютно сидеть за этим столом. Из-под отложных манжет торчали густые волосы, как будто под серым костюмом был еще один — обезьяны. Бледное лицо выглядело безжизненным. Вопреки висевшим здесь всюду запретам курить, Зингерман беспрестанно дымил, зажигая одну сигарету за другой, и потому все время кашлял. Вообразить себе зажатую в этих толстых пальцах кисть было почти невозможно, но в жизни случается много невероятного, как, например, и сама эта встреча.
Зингермана, по всей видимости, ни капли не интересовал Пфлюг, а голландец так и вовсе раздражал. Быть может, они казались ему чересчур молодыми. Когда Пфлюг принялся украшать автографами плакаты — щедро добавляя к каждому маленькую картинку, — Зингерман устроился поудобнее в кресле, предложил Аврааму сигарету и поведал философию своей жизни.
— Наслаждение девочками.
— Что, простите?
Голос его прозвучал грубо, резко, и Авраам подумал, что ему послышалось, что Зингерман просто кашлянул.
— Я развлекался с девочками, с каждой из них. — Он показал на книги, лежавшие на столе, и оригиналы, повешенные на стену. — С натурщицами. Они служили мне единственным утешением, только из-за них я много лет оставался в этом грязном бизнесе. А почему вы так долго крутитесь в нем, рисуя свои… Как это называется? Геодезические формы? Ума не приложу. Вам ведь некем утешиться. Это печально.
— Натурщицы? Вы спали с ними?
— Само собой. В постели, на диване, на ковре. Я брал их прямо в нарядах из леопардовых шкур, в костюмах русалок, увешанных искусственными клыками, даже не смывал краску С рук — трахал и трахал. Такова моя политика. Нанимаешь мальчика, девочку, придумываешь позу, щелкаешь «полароидом», мальчика отправляешь домой, подходишь к девочке, поправляешь что-нибудь в наряде, кладешь руку ей на задницу, и она твоя. И так все тридцать пять лет.
— Прямо как Пикассо, — ответил Авраам, не придумав ничего более умного.
— В противном случае я не смог бы так долго рисовать эти картинки, наверное, повесился бы. Когда я говорю об этом со своим другом Шрудером, ему кажется, что я шучу. А я вполне серьезен. У вас есть жена?
— Была.
— У всех у нас была. А они и понятия об этом не имеют. Кстати, что выдумаете об этом парне? Он тоже со своими спит? Или чересчур занят вырисовыванием волосков, перышек и бликов света на воде? Если бы у меня в студии появилась крошка с мечом и такой прической, я тут же придумал бы, чем с ней заняться. А этот… Взгляните-ка на его руки. По-моему, его больше интересуют мальчики.
— Или драконы.
— Или драконы. А как насчет вас? Вы спите со своими геодезическими формами? С Пикассо все понятно. Он спал с натурщицами и после этого смотрел на них совершенно другими глазами, изображал на полотне в довольно забавном виде. А вы? Вы одиноки?
Так вот в чем, оказывается, дело. Авраама пригласили сюда, чтобы он был мостиком между безумием Ашканской Школы и фотореалистическими драконами.
Нет, о фильме здесь говорить не стоит, даже вспоминать о нем сейчас не следует.
— Да, я одинок, — честно признался Авраам.
— Я так и понял — от вас просто разит одиночеством.
— Большая карьерная ошибка. Биоморфизм.
— Скажете тоже. Взгляните на мои художества. Живите. Коллекционируйте девочек.
— Попробую.
Зингерман понизил голос, чтобы сообщить самое важное.
— Послушайте, вы не расскажете об этом Шрудеру?
— О чем?
— Я ухожу. — Он показал на себя рукой с зажатой между пальцами сигарой.
— Простите?
— Все началось с легких — мне разрезали легкие. Хотя какая разница, с чего началось, мозга или с крови?
— Гм.
— У меня чертов рак. Но это ерунда, не жалейте меня. Угадайте, почему меня не стоит жалеть. У вас одна попытка.
— Девочки?
— Мужчине достаточно и хорошей сигары.
ужасный декабрь я не шучу малыш я не сплю положила розу у двери из дакоты я моржовый краб— Гораций, твою мать, где тебя носит?
Пауза.
— Э-э… А в чем дело, Барри?
— Ты настолько занят, что не находишь времени ответить на звонок ниггера?
— Прости, Барри, я как раз собирался тебе позвонить. А что случилось?
— Мне нужна твоя помощь.
Молчание.
— О чем ты?
— Ты телевизор когда-нибудь смотришь, Гораций?
— Разумеется, смотрю.
— Слышал, что стало с одним из битлов?
— Что? А, да, конечно.
— Мне нужно собрать кое-какие вещи. Только как ты меня вытащишь отсюда, Гораций? Вот в чем вопрос.
— Приятель, ты что, умом тронулся? Ты-то здесь при чем?
— Я видел того урода — прогуливался на прошлой неделе по Дин-стрит и пялился на мой дом. Если это был не он, значит, его брат. У этого белого скота есть список.
— Ты серьезно?
— А ты как будто не знаешь, что меня многие мечтают убрать. Убрать и заполучить мои записи. Я и Десмонду уже не доверяю, черт бы его побрал. У меня пять, если не десять вещей, которые сразу стали бы хитами, думаешь, об этом никто не знает? Меня окружают враги, Рацио. Они повсюду: на улице, в студии, даже у меня на первом этаже. Ты поможешь мне выбраться из этого дерьма, или нужно обратиться к кому-нибудь другому? Только ответь честно.
Пауза.
— Нет, Барри. По-моему, ты и так хорошо защищен.
— Наконец-то ты заговорил откровенно.
Глава 17
Сначала выступят «Миллер, Миллер, Миллер & Слоан», потом «Стейтли Уэйн Мэнор», потом «Спидис». Сегодня соревнуются команды старшеклассников из разных школ — «Мьюзик & Арт», Сити-Эз-Скул, Стайвесант, Бронкс Сайенс или Бауэри. Ходят ли «Спидис» в школу или давно ее бросили — это никого не волнует. На тротуаре перед Бауэри огромная толпа, никто не проверяет документы, самым младшим здесь двенадцать лет. Девочки сегодня потрясающие — в цветастых платьях, с помадой на губах и взрывными прическами. Они собираются группками у панковского клуба «СиБиДжиБи», руками в мурашках прикрывают от ветра сигареты. Девочки озаряют эту ночь, райские птички, способные свести с ума даже взрослых мужчин. Но таковых поблизости нет, за исключением нескольких обитателей ночлежки с помутненным от пьянства сознанием. 1983 год. Манхэттенской ночью правят шестнадцатилетние — сегодня им можно свободно курить травку и брать пиво в баре. Мальчики в джинсе и коже расхаживают по двое-трое, отпускают шутки в адрес девочек, рисуют на ладонях шариковыми ручками поддельные пропуска, заходят в «СиБиДжиБи» и пробиваются поближе к сцене. Или толпятся снаружи, передавая по кругу спрятанные в пакет бутылки с чем-то явно покрепче пива, пихая друг друга локтями в приступе неуемной веселости. Наконец кто-то приезжает и начинает доставать из багажника машины обклеенные стикерами усилители и гитары. Все с восхищением глазеют на перебинтованные пальцы одного из гитаристов. Он врезал рукой по машинному окну и разбил себе три костяшки — устроив скандал с какой-то девицей. Но сегодня все равно будет играть, наденет перчатки.
В одном из расположенных неподалеку зданий в кабину лифта входит человек, который живет здесь почти двадцать лет. Полицейский, возвращающийся домой. Его товарищ дежурит у Бауэри — следит за порядком и ждет свою смену. Кодовое название сегодняшней операции — «Бродяга».
Стены вокруг Бауэри покрыты граффити, символами анархии и следами каких-то букв, видимо, названий музыкальных групп — «Мыши», «Запах блевотины», что-то в этом роде.
Для школьников из Стайвесанта сегодня не обычная тусовка. Родители одного из них уехали на весь уикенд, и у подростков появились грандиозные планы — побаловаться ЛСД у него дома. Уикенд. Все самое интересное происходит на выходных, когда кажется, что жизнь наконец изменилась к лучшему, а школы вообще не существует. Естественно, ты можешь побалдеть и в любой другой день, во вторник, в среду, но эта дорожка слишком скользкая, если далеко пойдешь по ней, легко заблудишься и в конце концов вообще исчезнешь, как Тим Вэндертус.
Так что лучше просто притвориться, будто не помнишь о предстоящем утре понедельника, когда должен будешь прийти в спортзал — с «чугунной» головой и чертовски глупым видом.
«Миллер, Миллер, Миллер & Слоан» к выступлению почти готовы. Их гвоздь — выход барабанщика, который исполняет «Респект» Ареты Франклин. Этой песней заслушиваются даже ироничные белые парни из Верхнего Вест-Сайда — самые крутые панки на всем свете. Барабанщика несколько раз вызывают на бис.
Песня и в самом деле отличная. Она будет звучать в мозгу весь следующий день, если, конечно, ЛСД не сотрет в тебе воспоминания о чем бы то ни было.
«Стейтли Уэйн Мэнор» появятся перед публикой через пятнадцать минут.
Дилан стоит почти у самой сцены, хотя и слышал, как поют эти ребята — в зале для репетиций на Деланси, — наверное, раз сто. Габ Стерн играет в «Стейтли Уэйн Мэнор» на бас-гитаре. Выступать на сцене для него уже привычное дело, как, к примеру, для Сида Вишеса. Дилан знает их репертуар наизусть, рисует для них рекламные плакаты и выслушивает жалобы их подружек.
А иногда ходит с этими подружками гулять. И не исключено, что однажды окажется с кем-то из них в постели.
Подружки — нынешние и будущие — составляют значительную часть огромной толпы, уже упирающейся в бар позади. У трех выступающих сегодня групп, пожалуй, не найдется ни одного поклонника старше восемнадцати. Их фэны уверяют друг друга в том, что собственными глазами видели «Токинг Хедз» на сцене «СиБиДжиБи», — естественно, врут, ведь «Токинг Хедз» выступили здесь в последний раз, когда этим соплякам было лет по двенадцать-тринадцать. Можно было жить и взрослеть в этом городе, в котором творилась история, практически не видя ее. А «Токинг Хедз», между прочим, играют сейчас в теннис в клубе «Форест-Хиллз». Кто-нибудь хочет посмотреть? Поезжайте на метро в Куинс.
Ключ почти что ко всему: притвориться, что твой первый раз — отнюдь не первый.
Например, сеанс с ЛСД сегодня вечером.
Приятель Дилана Линус Миллберг выныривает из толпы со стаканом пива и кричит:
— Дороти — это Джон Леннон, Пугало — Пол Маккартни, Тин Вудман — Джордж Харрисон, а Лайон — Ринго.
— «Звездный путь». — Дилан перекрикивает кошмарную кантри, которую здесь запускают в перерывах между выступлениями музыкантов.
— Или так, — орет в ответ Линус. — Кирк — это Джон, Спок — Пол, Боунз — Джордж, Скотти — Ринго. Или Чехов после первого сезона. А вообще-то какая разница? Комбинация Скотти-Чехов — это Ринго. В запасе всегда или Джордж, или Ринго.
— А тебе не кажется, что Споку не хватает душевности, а Маккою мозгов, как Вудману и Пугалу? Говоришь, Дороти — это Кирк?
— Да нет, ты не врубаешься. Я просто провожу параллели. Битлы — образец, прототип, нечто вроде базовой структуры, понимаешь? Все остальное — их подобие, с этим ничего нельзя поделать.
— К каким там типам ты их отнес?
— Ответственный родитель, гениальный родитель, ребенок-гений, ребенок-клоун.
— А если сравнить с героями из «Звездных войн»?
— Люк — Пол, Хэн Соло — Джон, Чубакка — Джордж, а роботы — Ринго.
— А с «Вечерним Шоу»?
— М-м… Джонни Карсон — Пол, гость — Джон, Эд Макмахон — Ринго, а этот… Как его там… в общем — Джордж.
— Док Северинсон.
— Во-во. Как видишь, все вращается вокруг Джона, ну и Пола тоже. Вот почему Джон — это гость.
— А Северинсон тихий, но талантливый, как Вуки.
— Начинаешь улавливать суть.
На сегодняшней ЛСД-тусовке Дилан — казначей. В кармане лежат смятые долларовые купюры, сто девяносто баксов — он по обыкновению крепко сжимает их в руке. Глубоко укоренившаяся в нем привычка требует большего — свернуть деньги и засунуть в носок, но этому противостоит гордость. Задача покупки ЛСД возлагается именно на него и Линуса Миллберга по двум причинам: во-первых, у того дельца, гея с Девятой улицы, продающего наркоту школьникам Стайвесанта прямо на квартире, они постоянные клиенты, во-вторых, не играют в группе.
Линус Миллберг — вундеркинд-математик, учится в Стайвесанте второй год и общается со старшеклассниками, хотя когда-то был очень застенчив.
— Если мы пойдем прямо сейчас, то успеем послушать «Спидис», — говорит Линус.
— Да, да, еще минутку.
— За это время мы уже несколько раз могли бы сбегать туда и обратно.
— Идем, идем. Только сгоняй, купи мне стаканчик пива.
Линус кивает и исчезает в толпе.
Дилан не придает этому особого значения, но всегда доволен собачьей готовностью Линуса услужить ему — она помогает замаскировать собственное раболепство в компании парней из «Стейтли Уэйн Мэнор». В том, что он не входит в состав группы, много плюсов, но его тем не менее гложет зависть. Это чувство — причина ненависти к себе, презрения к собственной ненужности. «Стейтли Уэйн Мэнор» выступают в «СиБи» впервые в жизни. Дилан не спешит уходить — хочет погреться в лучах их славы.
Ты мог не стоять на сцене и все равно быть там.
Это походило на чувство, которое ты испытывал, глядя, как Генри забрасывает на крышу принесенный тобой из канавы мяч.
В близости к «Стейтли Уэйн Мэнор» не все так радужно: тебе постоянно приходится переживать за Джоша, который может появиться на сцене в пьяном виде, ты болеешь душой за Джузеппе — гитариста с разбитыми костяшками. Хотя музыка у «Стейтли Уэйн Мэнор» такая, что по струнам можно бить чем угодно — хоть ногами, головой.
— Гос пришла. Выглядит отпадно.
Линус вернулся с двумя стаканами пива.
— Там Гос, Эбдус, — повторяет он. — Может, подсуетишься?
Линус неспроста так настойчив: Лиза Госет, только что поступившая в Стайвесант, — одно из увлечений Дилана. Всем известно, что домой Лиза возвращается не позднее строго установленного часа, поэтому Дилану и впрямь следует сейчас подсуетиться, это его единственный шанс. О своем неравнодушии к светловолосой, молчаливой, не похожей на других Лизе Дилан поведал ей через цепь посредников, забавляясь и ужасаясь, что ввязывается в столь странную игру. Схема сработала идеально. Лиза, судя по всему, отвечает ему взаимностью — такую информацию он получил от компании девочек-сводниц.
Если он сумеет выманить Лизу из толпы, сегодня же поговорит с ней.
Из-под разорванных на коленях и сзади, ниже попки, джинсов Лизы выглядывают колготки-сеточка, она смотрится в них совсем ребенком, так и видишь ее пятиклассницей, прыгающей через скакалку в этих же колготах.
Тебе было шестнадцать, но ты все еще чувствовал в себе наклонности гея.
В последнее время ребята из «Стейтли Уэйн Мэнор» постоянно подшучивали над ним, упоминая имя Лизы, и их подружек это раздражало.
— У тебя смазливая физиономия, — говорил Линус, — у Джоша фигура что надо, Габ в бэнде, а я могу заболтать кого угодно. Если наши лучшие качества соединить в одном человеке, он перетрахал бы всех девчонок в школе.
— Заткнись.
— А ты не стой на месте, придумай что-нибудь.
— Пойди спроси у нее, не хочет ли она сходить с нами за наркотой.
У Линуса удивительное свойство: он делает все, о чем ни попросишь. Назвать его отчаянно смелым нельзя, просто он ловкий и проворный. Габ однажды велел ему взять прямо с прилавка в «Феймоус Рей» пиццу в коробке. Линус схватил ее, выскочил на улицу и мчался, не оглядываясь, до самого Вашингтон-сквер.
Дилан наблюдает за Лизой Госет и ее подругами, слушающими многословного Линуса. Тот указывает на дверь, потом на пропуск на своей ладони, объясняя, что обратно их впустят без проблем.
Лиза Госет кивает.
Аппаратура «Стейтли Уэйн Мэнор» на сцене, но сами парни показываться зрителям не торопятся: ведут себя как настоящий бэнд — сидят в гримерке и курят травку. Толпа гудит, выкрикивает шуточки. Когда Габ выйдет на сцену, то не увидит Дилана, и потом непременно спросит, где он пропадал. И тот ответит: «Госет ты, наверное, тоже нигде не нашел?»
А может, повезет и ему сегодня выпадет полная программа? Может, они покурят у дельца травки, и Лиза согласится нарушить свой график?
Он рад, что не даст Лизе возможности полюбоваться на «Стейтли Уэйн Мэнор» и даже не удивлен собственной ревностью. Если заглянуть в его сердечный каталог, можно увидеть там все проклятое многообразие человеческих чувств.
Они шагают по улице шеренгой — девочка-девочка-девочка, мальчик-мальчик. Дилан еще не решается открыто заговорить с Лизой. Но, черт возьми, ведь это он сам и Линус ведут девочек прочь из «СиБи»!
Они движутся по вечернему городу как веселый журчащий ручей. Остальные тинейджеры, прохожие, едущие мимо машины — все отступает на задний план, становится как будто невидимым.
— Мари — Джон, Лу — Пол, Маррэй — Джордж, Тед Бакстер — Ринго.
Линус может играть в эти сравнения бесконечно, но Дилан не собирается его останавливать — так по крайней мере поддерживается разговор.
— Молоток.
— Но я ведь ничего не придумываю, — отвечает Линус. — Просто классифицирую людей по основным группам, вот и все.
— Значит, если рассуждать по-твоему, «Стейтли Уэйн Мэнор» обречены — с битловской динамикой у них слабовато.
— Конечно. К сожалению, это очевидно.
— Эндрю считает себя Джоном, а Полом вообще никто не хочет быть.
— Они все считают себя Джонами, а на самом деле все четверо — Джорджи. Даже Ринго среди них нет.
— Думаешь, на Джона никто не тянет?
— Ну, разве только Джузеппе. Хотя какая разница? Если рядом нет всех объединяющего Пола, Джон — все равно что Джордж.
— Мне кажется, Джордж никому никогда не мешал: просто хотел, чтобы в каждом альбоме была хотя бы одна его песня, и спокойно играть на гитаре.
— Нет, нет, Джордж мечтал подчинить себе Джона, он по натуре такой.
Чубакка мечтал подчинить себе Хэна Соло? Впрочем, не будем цепляться к словам.
— Тогда нашим ребятам надо вообще разбежаться, — говорит Дилан.
— Несомненно.
— Когда вернемся, серьезно поговорим с ними.
Девочки прислушиваются.
— Что, «Стейтли Уэйн Мэнор» скоро распадутся? — спрашивает Лиза.
— Сегодня вечером, — шутит Дилан. Забавно, но подобная мысль посещает его впервые. До этой минуты он ни мгновения не сомневался в том, что его друзей ждет блестящее будущее и мировая известность, а сейчас, осознав вдруг, что это невозможно, чувствует, как его зависть и ревность превращаются в великодушие: «Стейтли Уэйн Мэнор» обречены, пусть же насладятся сегодня выступлением в «СиБиДжиБи». Черт, вообще-то хотелось бы, чтобы они протянули еще хотя бы месяц и стали «разогревающими» на концерте Джонни Тандера в «Рокси» накануне Хэллоуина.
Линус пытается объяснить девочкам суть битловской динамики, приводя самый запутанный из своих многочисленных примеров.
— …Скиппер — Пол, а Джиллиган — Джон, который хотел бы быть Ринго. Он как будто готов вступить в борьбу с мистером Хоуэллом, чтобы завоевать себе статус Ринго. А профессор — властолюбивый Джордж…
Одна из подруг Лизы спрашивает:
— А как насчет девочек?
— Девочки тут ни при чем, — нетерпеливо отвечает Линус и вдруг умолкает.
Дилан решает подключиться к разговору.
— Любая рок-группа требует определенной алхимии, — говорит он. — «Квадрофению» видели?
— Конечно.
— Вот такими и должны быть рок-певцы, как эти четверо из «Ху».
Лиза смотрит на него в недоумении. Очевидно, до сего момента «Квадрофения» проходила у нее под штампом «Кино, в котором играет Стинг». Две другие девочки отвечают на ироничное высказывание Дилана мрачным молчанием. Он огорчается.
— Лично мне нравятся группы, в которых всего один выдающийся музыкант. Например, «Двери», — говорит наконец Лиза.
Дилана будто ударяют хлыстом. Оказывается, Лиза уловила суть теории Линуса, несмотря на то, что он проиллюстрировал ее столь туманным примером — обратившись к «Острову Джиллигана». И тут же продемонстрировала свою сообразительность, а заодно и неприятие этой теории. Более того, оказывается, ей нравятся «Двери». И что еще ужаснее, — если только он правильно понял намек, — она считает кого-то из «Стейтли Уэйн Мэнор» выдающимся музыкантом?
Однако они почти у цели — на пересечении Девятой улицы и Второй авеню, и Дилану следует переключить общее внимание на себя — знатока криминального мира. Лиза высказывала желание посмотреть на наркоторговца.
— А вообще-то кто я такой, чтобы рассуждать об этих людях. Лиза, — говорит он небрежным тоном, будто случайно остановил на ней выбор, — пойдем со мной. Линус, подожди нас с девочками тут.
Линус все прекрасно понимает, пожимает плечами и прищуривается.
— Мы на стреме.
— А в чем дело? — спрашивает одна из подруг Лизы, внезапно пугаясь.
— Ни в чем, — торопливо отвечает Дилан, начиная нервничать.
— Может, вы не пойдете туда? — пищит испуганная девочка.
— Не переживай.
Это «уличную мудрость» здесь, в Манхэттене, Дилан всегда находил смешной и с трудом удерживался, чтобы не расхохотаться, когда его живущие в Вест-Сайде или Челси друзья переходили на другую сторону улицы, желая избежать встречи с компанией геев. Можно подумать, те могли причинить им какой-то вред. Ист-Виллидж слишком многолюдна, чтобы здесь таилась хоть какая-то опасность. И потом, тут на каждом углу торчат копы. Его друзья и понятия не имеют, что такое настоящий страх.
На крыльце дома, в котором живет продавец наркотиков, сидит черный парень в длинной куртке с капюшоном. В его позе нет ни капли беспокойства, находиться в чужом районе ему, очевидно, совсем не страшно.
По Девятой подозрительно медленно шагают еще двое, в натянутых на глаза бейсболках и широких штанах. Дилану становится не по себе, хотя бояться совершенно нечего. Надо просто действовать.
— Мы ненадолго, минут на пять. Можете прогуляться пока к Сент-Марк.
— М-м… Дилан, — произносит Лиза, когда они поднимаются на второй этаж и звонят в дверь.
— Что?
— Мне показалось, квартира внизу не заперта.
— Что ты имеешь в виду?
— Похоже, туда кто-то вломился.
— Расслабься. Линус разнервничался, и тебе просто передалась его паника.
Дилану нравится бывать в квартире Тома, только запах кошачьей мочи раздражает. Быть может, этот гей напоминает ему кого-то из знакомых Рейчел, которых он видел за столом на кухне, когда приходилдомой из школы. Курит Том также, как Рейчел; не по-тинейджерски, прячась, тушуясь и приглушая голос — подобная манера Дилана просто выводит из себя, — а величественно, закинув ногу на ногу, не прерывая разговор, жестикулируя рукой с сигаретой, даже не замечая, как дым проникает в легкие. Том постоянно носит короткие спортивные шорты, выставляя на обозрение чересчур волосатые ноги, но общаться с ним приятно. Пару раз Дилан даже приходил к нему просто так — слушал его записи, болтал с другими клиентами. Ни разу за все это время он не видел, чтобы Том кого-нибудь домогался, хотя, по слухам, он именно так и ведет себя.
Сегодня Дилан смотрит на жилище Тома другими глазами и сожалеет, что притащил сюда Лизу. Взгляд падает на грязный ковер, линялые занавески, немытые стаканы из-под кока-колы, плакат «Стримерс». Сам Том похож сегодня на вареного рака — почему-то он вдруг сделался красным с головы до ног. Дилану не терпится поскорее получить товар и уйти, но торопить Тома не следует.
— Слышал когда-нибудь эту песню? — спрашивает Том.
Из проигрывателя несется: «Красивые девочки, ду, ду-ду, ду, ду-ду-ду, ду, ду-ду, ду, ду-ду-ду, ду, ду-ду». Дилан слышал нечто подобное. Перед глазами возникают расплывчатые образы Мариллы и Ла-Ла. Он неуверенно кивает, и Том воспринимает это как «Никогда».
— Лу Рид. Как же быстро все забывается.
— А, точно, — говорит Дилан. В его представлении Л у Рид заплутал где-то в Бермудском треугольнике. Вместе с «Мотт Зе Хупл» и «Нью-Йорк Доллз», прозвучавшими между рок-музыкой шестидесятых, диско и панком, который пришел и уничтожил все. Пристрастие Тома к этому умершему направлению можно объяснить тем, что он гей. И музыку слушает соответствующую. Только бы не заразиться от него.
— Надеюсь, ты не собираешься проглотить все это вдвоем с невестой.
— Не собираемся.
Серый кот Тома по кличке Мэн забрался на колени к Лизе. Она склонилась над ним и принялась ворковать. Ее как будто здесь нет — целиком отдалась общению с Мэном.
— Черт! Наверное, я зря сказал про невесту. Вечно я что-нибудь ляпну. Звонят. Пойду открою.
Не надо, хочет сказать Дилан, но не раскрывает рта.
Слышится звук срывающейся дверной цепочки, Том, пятясь, возвращается в комнату, за ним следом врываются те двое в бейсболках и третий, в капюшоне.
— Сядь, урод! — орет один из них. — Сядь, я тебе говорю!
Том на негнущихся ногах подходит к дивану и садится между Диланом и Лизой, касаясь их обоих голыми бедрами.
— Черт, черт, черт, — скулит он.
— Заткнись! — рявкает один из тех, что в бейсболках.
Все внимание приковывает к себе парень в капюшоне, наблюдатель, мимо которого несколько минут назад прошли Дилан и Лиза.
У него в руке пистолет. Он размахивает им. Пистолет маленький, черный и выглядит серьезно. Троица на диване неотрывно смотрит на оружие, на него же устремлены взгляды черных подростков, даже того, кто держит пистолет. Глазеет на ствол и кот. Кажется, будто и сама комната вытаращила на эту штуку свои невидимые глаза.
Парень с пистолетом явно главарь. Он высокий, и как-то странно двигается. Этот афро, чей кадык похож на сгиб локтя, не кто-то из тысяч незнакомых тебе черных, а тот самый, которого ты знаешь с детства.
— Роберт? — изумленно восклицает Дилан.
— Вот черт, — бормочет один из тех, что в бейсболках.
Роберт Вулфолк так же ошарашенно смотрит из-под капюшона на Дилана. Это чистая случайность. Будто какие-то неведомые силы решили сыграть с этими двумя злую шутку.
— Ты его знаешь? — спрашивает Том.
— Кто этот белый? — интересуется один из троицы.
Лиза склонилась над комком меха и дрожит от страха.
Роберт качает головой. Его удивление прошло. Он разочарован и кипит от ярости.
— Считай, что тебе повезло, сукин сын, — говорит он тихо.
— Убирайтесь ко всем чертям.
— Заткнись, гомик, я не с тобой разговариваю. Ну, что у тебя найдется для меня сегодня, а, Дилан?
Роберт с привычной дружеской фамильярностью обшаривает карманы Дилана и извлекает оттуда двадцатки, десятки и пятерки — будто забирает обратно свои собственные деньги. И Роберт, и Дилан попали сюда хоть и с разными целями, но из одного района, из Бруклина, а значит, все, что происходит, принимается как должное.
Ни разу не ударив Дилана и даже намеком не упомянув о Рейчел, Роберт засовывает пистолет за пояс брюк, указывает дружкам на дверь и сам выходит. Наверное, он забыл, что когда-то обещал прикончить Дилана. Или, как в «Колеснице богов», просто продолжает подчиняться какому-то божеству. Какому именно, он и сам не знает.
Последнее, что слышит Дилан: «Кто этот белый парень, Роберт?» и «Заткнись, ниггер». Незваные гости уходят.
Дилан в растерянности смотрит на Тома.
— Вали отсюда.
— Но…
— Ты их сюда привел? Убирайся.
Дилан прикасается к плечу Лизы, но она с размаху бьет по его руке, невольно прогоняя и Мэна. Неужели кот может описаться от страха при виде направленного на него оружия? Запах мочи, во всяком случае, ощущается теперь где-то совсем рядом, а на джинсах Лизы темнеет пятно.
О-хо-хо.
Выходя на улицу, Дилан боится, что столкнется здесь с Робертом, что эта безумная история еще будет продолжаться. Он напряжен, как натянутая до предела струна. Но Роберта не видно. Навстречу Дилану шагает Линус с завернутой в бумагу пиццей.
— У вас что, проблемы?
Дилан поворачивается к Лизе, чтобы взглядом попросить: «Ничего не рассказывай», но она плачет, пробегает мимо Линуса, закрывая руками пятно на джинсах, хочет поскорее найти утешение у подруг. Ей не следовало оставлять их, вообще соглашаться на это сомнительное предприятие, а может, даже переводиться из Далтона в Стайвесант, выполняя желание родителей, этих старых скряг. Дилан смотрит по сторонам, почти с надеждой, но Роберта нигде не видно, и парней в бейсболках тоже. Другого выхода нет: придется во всем сознаться, хотя это невозможно, невообразимо.
Бруклин лишил возможности познать сегодня прелести психоделии три десятка панков.
Бруклин преследует тебя повсюду, и никто не сможет понять этого — только догадаются, что ты проклят, обречен, и что общаться с тобой небезопасно.
Бруклин помочился на твою белокожую судьбу.
Ты готов зубами вырвать это чертово пятно с джинсов Лизы, лишь бы она простила тебя — но она не простит.
Может, попросить Лизу и Линуса объяснить произошедшее всем остальным при помощи битловской динамики? Джордж Харрисон из Гованус Хаузис погубил сегодня жизнь Пола Маккартни с Дин-стрит. Пусть расскажут и обо всем остальном — о Мингусе, об Артуре Ломбе и Аэромене. И тогда, быть может, Дилану простят и две сотни баксов, которые у него отобрали, и провалившуюся ЛСД-вечеринку. Хотя нет, если он поделится с кем-то своей мрачной историей, то лишь растравит в душе давние раны, которые потом уже не затянутся. К тому же, если взглянуть на вещи трезво, никто ведь не захочет вытягивать его из этого дерьма.
Четырехдорожечный магнитофон хранился в надежном месте: в ломбарде на пересечении Четвертой и Атлантик-авеню, причем не на витрине, а на полке за стойкой. Его владелец не сомневался, что магнитофон вернется к нему: кто мог купить его в этих районах? А записи лежали под половицами, накрытыми водяным матрасом. Там же спрятаны и трубка, наручники, пистолет, остатки наркотиков, уже непригодные для курения или нюханья.
Порой он начинал сомневаться, что записал все композиции, которые звучали у него в голове, а бывало, проникался твердой уверенностью, что спит на денежных мешках Скруджа Макдака, на музыкальном золоте.
В любом случае, если бы в дом пробрался грабитель, ничего не нашел бы — не важно, через окно бы он влез или вошел в дверь, а может, он уже бывал здесь, на первом этаже, тайный агент, человек-крот. Грабителю пришлось бы попотеть, чтобы взять крепость Барретта, второй этаж. В крайнем же случае из всего содержимого тайника нужно будет спасти одну-единственную пластинку на сорок пять оборотов. Записи на магнитных лентах хозяина дома не волнуют. А на семидюймовый сингл вообще наплевать.
Гостиница «Тайме Плаза» располагалась на пути к ломбарду, туда-то Барретт и заглянул по дороге домой с намерением потратить только что полученные деньги. В холле гостиницы постоянно совершались разнообразные сделки. Он вошел и осмотрелся по сторонам, боясь столкнуться здесь со Старшим.
— Эй, красавчик! А я тебя знаю.
— Не-е, ошибаешься. Ты не можешь меня знать, но это дело поправимое.
— Еще как могу. Я знакома с твоим отцом и с сыном. Никогда тебя здесь не видела, но знаю.
— Послушай, крошка. Я часто здесь появляюсь. Ты меня с кем-то путаешь.
— Ты певец.
— Нуда.
— Если бы ты приходил сюда раньше, я обязательно узнала бы тебя, потому что общаюсь с твоим отцом. Он религиозный человек. И все рассказал мне о тебе.
— Интересно, что?
— М-м… Хм… Нет, я не хочу об этом говорить.
— Может, он и мне о тебе рассказывал?
— Вряд ли.
— Послушай, детка, ты, случайно, не знаешь тех парней с Тринидада, которые все время здесь ошиваются?
— Может, и знаю.
— Я сразу понял, что ты со всеми тут знакома, потому и спросил, — певуче протянул Барретт, понизив голос на одну октаву.
1981 год. Никто еще не слышал слова «крэк». И еще долго не услышат, по меньшей мере года два-три. А тот наркотик, что завезли недавно в Штаты из Ямайки, с Тринидада, с Наветренных и Подветренных островов, называют пока по-разному: бейс-рок, грэвел, роксанне. Вскоре, когда ему подберут подходящее имя, его Колумбийско-Голливудско-Нью-Йоркско-Карибско-Майамская история забудется. Крэк станут считать смертоносным метеоритом, прилетевшим с неизвестной планеты, из гетто под названием Криптонит. В этот переходный период многие еще будут путаться, утверждать, к примеру, что бейс-рок и фрибейс — совершенно разные вещи, а Барретт Руд-младший, хоть и будет везде повторять: «Черт возьми, старик, я, можно сказать, свидетель его появления на свет, я и ребята из Филли практически изобрели этот самый фрибейс!» — не захочет возражать.
Но речь не о химии, не о семантике и не об авторских правах. В любом случае это изобретение Барретта Руда-младшего далеко не первое из тех, за которые он не получил ни похвал, ни гонорара. Сейчас самое главное — выяснить, как называет эту штуку заговорившая с ним женщина и может ли она помочь раздобыть ее.
— Возьмешь меня с собой на вечеринку, крошка?
Вечеринка! Слова прозвучали как «Сезам, откройся!».
— Конечно, возьму. Только покажи, в какую сторону идти.
Порой тебе казалось, что ты превратился в гостя из будущего — когда шел по своему району.
Тротуар вдоль дороги ничуть не изменился. Но хотя ты никогда не взлетал выше, чем в тех незабвенных прыжках за сполдином, твое сознание парило сейчас где-то в заоблачных далях, как выпущенный на волю воздушный шарик, и некогда наизусть заученные трещины под ногами ты уже не узнавал.
В почтовом ящике лежали образцы заявлений для поступления в Йельский университет, о котором было глупо и мечтать, Калифорнийский университет в Беркли, лучший вариант, по мнению Авраама, но не для Дилана, и в Кэмден, — заведение с несколько сомнительной репутацией и при этом единственное место, где он действительно хотел бы учиться. Если мальчик из Говануса замахивается на один из самых дорогих в Америке колледжей, значит, этот ребенок из Бурум-Хилл. Ну или из Бруклин-Хайтс.
Бегущий Краб с ее безумной страстью кубогой нищете могла катиться к чертовой матери.
В любом случае последнюю открытку от нее ты получил черт знает когда.
Чтобы стать студентом одного из престижных колледжей Америки, ты был вынужден работать после уроков весь последний учебный год, а потом еще и целое лето. Но даже добавив к заработанному сэкономленные школьные стипендии и карманные деньги, ты не набрал нужной суммы — тринадцать тысяч долларов за обучение в колледже. За недостающим пришлось обращаться к отцу. Авраам, когда Дилан назвал ему эту цифру, медленно осел на стул и перевел дыхание.
Большие запросы — большие затраты.
Он надевал красный передник и продавал на Монтегю мороженое девочкам из Сент-Энн, с которыми мечтал совсем скоро оказаться в стенах одного колледжа. Не плюй в их вафельные стаканчики за то, что они воротят от тебя нос: сияющему рассвету всегда предшествует непроглядная тьма.
В зимние месяцы посетителей почти не было, в основном мамаши, приходившие, чтобы купить своему чаду на день рождения целую гору мороженого. Дилан постоянно простужался, лакомясь во время уборки остатками, и домой еле плелся — по Генри-стрит до самой Эмити, потом через Корт и Смит. Дин-стрит для него была теперь просто дорогой, он ходил по ней, опустив голову, не желая быть замеченным людьми из прошлого.
Но однажды какой-то долговязый пуэрториканец все же узнал его и окликнул:
— Эй, Дилан!
Он поднял голову и увидел не то Альберто, не то Дейви. Кое-кто, казалось, никогда не уходил из квартала. И не уйдет.
Объяснить им, что не следует с тобой здороваться, потому что ты больше не живешь здесь, ушел в другом направлении, естественно, невозможно. Гораздо проще сказать: «Привет, Альберто! Как дела?» Натянуто улыбнуться или даже хлопнуть бывшего приятеля по ладони.
В последнее время Дилан почти никогда никого не встречал здесь, каждый вечер словно телепортируясь к себе домой. Его расписание было составлено так, что он проходил по этим улицам в тот момент, когда они пустовали.
Однажды за завтраком Авраам сказал:
— Я видел твоего друга Мингуса.
— М-м…
— Он постоянно спрашивает, где ты, удивляется, что ты пропал куда-то.
Все дело было в том, что потребности Мингуса теперь пугали Дилана. Наркотики, темная грязная комната — сейчас все это казалось ему чем-то невозможным, навсегда оставленным позади. Когда его начинала мучить совесть за столь усердное невнимание к лучшему другу — а случалось это почти каждый день, — он напоминал себе, что у Мингуса осталось кольцо.
Подарок Аарона К. Дойли служил своего рода печатью, удостоверявшей то, о чем Дилан больше не отваживался размышлять.
— Мне показалось, Мингус плохо выглядит, — продолжал Авраам. — Когда я поинтересовался, все ли у него в порядке, он только рассмеялся и попросил у меня доллар.
— Ты дал?
— Конечно.
— Значит, и ты попался.
— Что-что?
— Да так, ничего.
Каждый понедельник по дороге домой Дилан клал заработанные за неделю деньги в банк «Индепенденс Сейвингс» на пересечении Корт и Атлантик. В его книжке значилась уже сумма в две тысячи долларов — результат нескольких месяцев наполнения стаканчиков мороженым с разными добавками. К концу лета эта цифра обещала увеличиться вдвое. В этот февральский день, ежась от холода, он шел вдоль облепленного почерневшим снегом тротуарного бордюра по Атлантик — в расстегнутой куртке, как обычно без шапки, с покрасневшими на ветру ушами.
Проходя мимо Смит-стрит, он заметил человека на автозаправке «Шелл» — тот показывал куда-то вверх в направлении Бруклинской тюрьмы с раскрытым ртом и совершенной растерянностью на лице.
Неужели он не знает, что Супермена и тому подобных людей не существует?
А может, это снова Бадди Джейкобсен, убийца своей подружки, дрессировщик лошадей из Лонг-Айленда, — удирает из тюрьмы на связанных простынях? Два года назад весть о побеге Джейкобсена приковала к Бруклинской тюрьме всеобщее внимание. Пятичасовые новости не пропускал, наверное, ни один человек во всей округе. Изабелла Вендль не пережила бы подобного: побег преступника мог в одночасье распугать всех, кого она с таким трудом заманивала в Бурум-Хилл.
Дилан глянул на здание тюрьмы.
На его стене на высоте десятого этажа красовался самый огромный в истории человечества тэг. Буквы были выведены неровно, и это неудивительно, ведь наносили их, очевидно, распылителем из зависшего в воздухе вертолета, никак иначе. Так ведь? Так? Но даже кривые буквы поражали, превращали художества Моно и Ли на башне перед мостом в жалких карликов и заставляли любого мгновенно задаться вопросом: «Как, черт возьми, они это проделали?»
ДОЗА
Это был крик, требование, то, что нельзя оспорить. Угрюмая тюрьма, на которую никто никогда не смотрел, и краска, какой были покрыты стены всех общественных уборных в городе, — две вещи, обычно не обращающие на себя ни малейшего внимания, — объединились и теперь всем бросались в глаза. Пусть хоть и на один только день.
(Надпись исчезла с тюремной стены лишь через десять дней. Не так-то просто вычистить фасад двадцатишестиэтажного здания. Но и после того как меры наконец были приняты, на выдраенном бетоне остались призрачные следы букв.)
Дилан ошарашенно смотрел на тэг, испытывая в этот момент глубокое чувство вины, стремясь понять, вычислить, что упустил он в своем прежнем мире. Силясь прочесть зашифрованное в четырех буквах сообщение. Гадая, сообщение ли это.
Или просто тэг.
Кто-то кого-то предал, кто и кого — неведомо.
Кто-то умеет летать — но не ты.
Глава 18
Это случилось жарким июльским днем, за шесть недель до отъезда Дилана в колледж. Оторвав взгляд от строчек «Степного волка» Гессе, он поднял голову и увидел прислонившегося к прилавку его кафе Артура Ломба. Тот громко пыхтел, отлепляя от живота пропитанную потом белую футболку, подставлял красное лицо под прохладную струю кондиционера. В небольшом зале кафе больше никого не было: только они двое. Дилан был в перепачканном шоколадом халате поверх рубашки с коротким рукавом и в очках. «Оставайся в свете», его пластинка, заглушаемая гудением холодильников, была едва слышна. Наконец Артур повернулся к нему. Он выглядел таким же хилым, как прежде, штанины болтались на ногах, будто знамена, за ухом белела сигарета. Глаза были красные, маленькие, с морщинами вокруг, как у зародыша какого-нибудь животного. Увидев его, Дилан не особенно удивился: парень из Говануса мог легко забрести в Бруклин-Хайтс.
Он снял очки, отложил книгу в помятой обложке.
— Эй, Ди, дай-ка мне попробовать вот этого.
Дилан зачерпнул мороженое и протянул чашку Артуру. Тот кивнул на книгу.
— Зачем ты это читаешь?
— Почему бы и не почитать?
— Эти парни пишут чушь собачью. Эй, я слышал, ты собираешься поступать в колледж?
— От кого слышал?
— Уже и не помню. Наверное, твой отец разговаривал с Барри.
— Да, собираюсь в Вермонт.
— Круто. А я планирую пойти в Бруклинский колледж. Хожу на занятия в Марроу, даже сейчас, сдаю кое-какие хвосты.
Значит, Артур окончил все-таки школу, Дин-стрит не смогла затушить в нем огонь любознательности. Или же мать заставила его образумиться.
— А у тебя тут здорово, старик, — сказал Артур. — В жаркие дни деньги небось лопатой гребешь, а?
— Это тебе не такси. Мой заработок не зависит от количества проданного.
— На учебу зарабатываешь?
Призрачные пальцы крепко сжались вокруг воображаемой банковской книжки.
— Я заговорил об этом потому, что у меня к тебе есть одно предложение, — произнес Артур тоном прожженного дельца. — Я подумал, сначала встречусь с тобой, а уж потом пойду в магазин комиксов на Западной третьей. Я решил распрощаться со своей коллекцией. С первыми выпусками. И вспомнил про тебя.
— Почему?
— Ну, не знаю. Ты всегда говорил, что «Людей Икс», например, будешь покупать всю жизнь, до тех пор пока Крис Клэрмонт не перестанет их писать. Я считаю тебя серьезным коллекционером.
С Артуром Дилана многое связывало, этот парень был как запах, который никак не удается с себя смыть. И ведь он был прав, Дилан до сих пор питал слабость к «Людям Икс»: естественно, покупал их не каждый месяц, но иногда, а порой прочитывал прямо у стойки в табачном магазине на Четырнадцатой. Часто он занимался этим от нечего делать и с неохотой, так же, как встречался со своей подружкой, Эмми Сэффрич, с которой, кроме секса, его ничего не связывало. Месяцы между окончанием школы и началом учебы в колледже протекали в унылой неопределенности: ты уже предвкушал совершенно иную жизни, но она еще не наступила, и тебе приходилось по-прежнему жить с отцом, как маленькому. Появление в кафе Артура с его предложением прекрасно вписывалось в эту неопределенность.
— Но почему ты вдруг захотел продать свои первые выпуски?
— Гм. Черт. Деньги понадобились. — Артур имел весьма беспечный вид. — Вот я и подумал — самое время расстаться с коллекцией.
— Верно, верно, — ответил Дилан, притворяясь, будто обдумывает слова Артура.
— Сейчас на этом наверняка уже можно неплохо заработать. Все выпуски в отличном, ну или почти отличном состоянии.
— Угу.
У Дилана возник план, порожденный исключительно любопытством — а вовсе не желанием узнать что-либо о Мингусе или о кольце и не чувством вины, возникшем при виде «ДОЗЫ» на тюремной стене. Скорее всего Дилану просто захотелось в последний раз побывать у Артура дома, взглянуть на его комнату и, может, даже на маму. Только и всего. Он уезжал в Вермонт и чувствовал себя в безопасности, его уже почти не было здесь. Почему бы не попрощаться с тем, что оставалось позади?
— Когда к тебе можно прийти и посмотреть коллекцию? — спросил он с деланной невозмутимостью.
— Сегодня вечером.
Дилану показалось, Артур не верит своему счастью. Его предложение было выстрелом наугад, может, даже шуткой. Как при заключении любой блестящей сделки, обе стороны сейчас думали, что ловко одурачивают другую.
— Я освобождаюсь в одиннадцать, — сказал Дилан. — Будь дома.
Этот дом нисколько не изменился, будто провел все эти годы во вневременной капсуле: тот же ковер, то же пианино, те же кошки из черепахового панциря. Миссис Ломб, в футболке и без лифчика, слушала радио. С Диланом она поздоровалась с жалостной признательностью, видимо, удивляясь, что он до сих пор общается с ее сыном. «Какой ты великодушный, Дилан, — так и сквозило в каждом ее движении, — позволяешь мне надеяться, что ты и мой сын-балбес — люди одного уровня». Артур ушел в свою комнату и закрыл за собой дверь.
— Собираешься поступать в колледж?
— В Кэмден.
— Замечательно, Дилан. Я очень за тебя рада. Какой ты стал взрослый, просто не верится!
Дилану было омерзительно сознавать, что он, как и прежде, флиртует с мамой Артура — теперь, когда научился оценивать девчонок и женщин. Хуже того, ему хотелось переспать с ней.
— Я… гм… зашел посмотреть кое-какие вещи Артура.
— Хорошо, что ты опять заглянул к нам.
Коллекция лежала в шкафу Артура под грудой мятых трусов, маек и стопкой порножурналов, в основном «Плеерс» и «Хастлер». Артур ничуть не смущался тем, что из них выглядывали вырванные страницы с голыми афро. Может, он и себя уже представлял черным? Дилан не хотел над этим задумываться. Артур достал из шкафа пластмассовые коробки, где, упакованные в полиэтилен, хранились комиксы, перенес их на середину комнаты, сложил на пол, а сам растянулся на кровати и закурил «Кул».
— Отличная вещь.
Дилан присел на ковре, усыпанном марихуаной и сожженными спичками, и принялся рассматривать содержимое коробок. Ему показалось, его переместили во времени, вернули к бутербродам с индейкой и шахматному позору, но он отмахнулся от этого чувства. Комиксы действительно сохранились в отличном состоянии. Артур с поразительным упорством берег свои многообещающие первые выпуски: по пять—десять штук «Питера Паркера», «Кобры», «Мистера Машины», «Новы». Не напрасно ли он старался?
— Ты хочешь все это продать?
— Ага.
— И… гм… Какова твоя цена?
— Пять сотен.
— Ты что, сдурел?
— Ладно, четыре.
— Я даже не собираюсь с тобой торговаться, пока ты не положишь сюда «Омеги» и «Говардов». И не добавишь «Людей Икс» № 97. Это не они, случайно, лежат под тобой? — Дилан заметил полиэтиленовые упаковки под кроватью.
Вогнать Артура в краску было невозможно.
— Они-они. Четыре сотни за все — вместе с «Омегами» и «Говардами», с чем угодно.
— Сто.
— Считаешь меня идиотом?
— Сто пятьдесят.
— Ну ты и гад. Когда отдашь деньги?
— Они у меня с собой. Только помоги дотащить все это до дома.
Они достали комиксы из-под кровати, взяли по коробке и направились к выходу. Когда начинало пахнуть деньгами, Артур становился неосмотрительным и особенно хвастливым. Этим-то и собирался воспользоваться Дилан, чтобы выведать, не для Мингуса ли Артур добывает деньги. Отсчитывая полторы сотни двадцатками, он поинтересовался:
— А зачем тебе понадобилось бабло?
— Мы с Гусом и Робертом собираемся купить у знакомых Барри гидрохлорид кетамина. Загоним его подороже, а потом наладим свой бизнес.
— Хотите заняться кокаином?
Артур ткнул его локтем в бок.
— Нет, возьмем пример с тебя, будем торговать шоколадной крошкой.
— Короче, вам нужны сейчас наличные.
— Ага.
— А Мингус не собирается продавать свои комиксы? — спросил Дилан.
— Шутишь? Они у него в кошмарном состоянии.
Из комиксов самого Артура были вырезаны все изображения женских грудей и рекламные объявления «Си-Манки» — картинки с огромными воздушными шарами. Дилан знал об этом, но ничего не стал говорить.
— Да, на его комиксы и взглянуть страшно, но некоторые из них я все равно с удовольствием бы купил.
Пусть Артур думает, что он спятил, или как угодно еще объясняет его интерес к комиксам — истинных причин, побудивших Дилана притвориться заинтересованным в этом хламе, он все равно не вычислит. Хотя все мысли Артура крутились сейчас вокруг долларов, так что беспокоиться в любом случае не о чем.
— Если твое предложение его заинтересует, он, пожалуй, согласится.
Дилан понял намек.
— Надо бы мне снять кое-какую сумму со счета.
— Отличная мысль. Тогда и поговоришь с Гусом.
— Скажи ему, что у меня виды на его комиксы.
— Конечно.
До колледжа оставалось шесть недель.
Две коробки с первыми выпусками поселились на новом месте — в недрах шкафа Дилана. Он лежал на кровати, полный презрения к самому себе, и утешался мыслью о побеге, настолько уже близком, почти осязаемом. Может быть, вы подумали, что трясина Бруклина едва опять не засосала Дилана, но это не так. Ему лишь хотелось покончить кое с какими делами перед тем, как исчезнуть с Дин-стрит. Шесть недель: он составлял план, подобно Артуру все больше увлекаясь своей идеей и в то же время сознавая ее незначительность и неважность — это был лишь прощальный взмах руки.
Он провалился в сон, убаюканный мыслями о миссис Ломб.
Артур, войдя в роль посредника, устроил их встречу на следующий же день, в пятницу. Разговаривая с Диланом по телефону, он изъяснялся подчеркнуто туманно и запутанно, будто был на сто процентов уверен, что без его помощи Дилану и Мингусу не договориться.
— Мы встретим тебя на крыльце и вместе пойдем в дом. Не вздумай колотить в дверь, а то разбудишь Старшего, проблем тогда не оберешься.
— Я знаю, какой у Мингуса дед, Артур.
— Ты не знаешь, во что он превратился в последнее время.
— Это точно.
— Поэтому я и предупреждаю тебя.
Они ждали Дилана на крыльце в оговоренное время. Мингус встретил его объятиями и шутливым ударом в бок.
— Диллинджер, где ты пропадал все это время? Черт! Ты только взгляни на него: повзрослел, вытянулся!
Дилан подумал, что непременно тоже обнял бы Мингуса, если бы они встретились без свидетелей. В присутствии Артура он чувствовал себя несколько скованно, будто замороженный. Каким бы крутым панком ни считали Дилана на Манхэттене, Артур смотрел на него только как на мороженщика в испачканном шоколадом халате, как на белого парня. Поэтому, в инстинктивной попытке защититься, Дилан отстранился от Мингуса. Впрочем, в свете предстоящей сделки только так и следовало себя вести. Сейчас он собирался выкупить у Мингуса комиксы, позднее — кое-что еще.
Сантименты нужно было отложить до следующего визита — без Артура.
— Насколько я понял, вам сейчас требуются наличные, — сказал Дилан.
— Верно, верно, Ди-мен. Хочешь заняться бизнесом вместе с нами? — Мингус будто не замечал, что им открыто пренебрегают.
— Я могу купить у тебя комиксы.
Комната Мингуса превратилась в пещеру, в ней царил мрак. Если его комиксы пребывали в ужасном состоянии, то явно не потому, что долго пролежали на солнце и выцвели. Дилан не удивился бы, увидев, что они наполовину сгнили. Полка над дверью была теперь сломана и пустовала. Обильно разукрашенные краской из распылителя стены и потолок Дилан даже не стал рассматривать. Его внимание привлекло какое-то движение. Кто-то зашевелился в густой тени в углу, принял сидячее положение. Роберт Вулфолк. Сделка в присутствии всех заинтересованных сторон, так это называется. Роберт поздоровался с Диланом едва заметным кивком. Дилан ответил тем же. Закрыв дверь, Мингус прибавил громкость проигрывателя — звучало что-то ритмичное, вроде фанка. Артур насыпал на осколок зеркала кокаин, бритвочкой сделал дорожку, вдохнул ее через скрученный в трубочку доллар и предложил угоститься Дилану.
Тот покачал головой.
— Отличное качество.
— Нет, спасибо.
Артур передал долларовую трубочку Роберту.
— Ты ведь знаком с Робертом, да? — насмешливо спросил Артур.
— Конечно. Однажды он украл у меня велик. — Дилан не упомянул ни о Рейчел, ни о пицце, ни о нападении в Ист-Виллидж, лишь напомнил Мингусу и Артуру, что был непосредственным участником истории этого квартала. Роберт ничего не ответил. Дилан не сомневался в том, что, встретившись взглядами в квартире торговца наркотиками, а может, и гораздо раньше, во время одного из многочисленных столкновений во дворе школы № 38, они заключили своего рода сделку: договорились молчать. Роберт не мог сейчас возразить Дилану, потому что, несмотря на все свои пороки, не любил врать — гнать.
— Это было очень давно, — с саркастическим великодушием добавил Дилан. — Как жизнь, Роберт?
— Хм, — промычал тот, втягивая в ноздрю дорожку кокаина.
Мингус извлек из шкафа комиксы и опустил всю стопку на пол. Судя по всему, к ним никто не прикасался уже несколько лет.
— Я никогда не складывал их в пакеты, — извиняющимся тоном произнес Мингус, раскрывая один из выпусков «Фантастической четверки» и погружаясь в воспоминания. — Черт возьми, когда-то я даже свое имя писал на обложках.
Мингус разговаривал сам с собой. Его приятелей комиксы сейчас не интересовали.
— Предлагаю тебе за них сто пятьдесят баксов, — сказал Дилан, не глядя на Мингуса и косясь в сторону Артура, увлеченно орудовавшего бритвой.
Роберт откинулся на спинку своего низкого стула, по-прежнему прячась в тени.
Мингус нахмурился, делая вид, что думает, и явно смущаясь нелепостью идиотской сделки.
— По рукам.
Дилан бросил деньги на зеркало, демонстрируя всем троим, как мало для него значат эти бумажки. Он хотел показать им, представителям Говануса, что Дилан Эбдус здесь больше не живет.
Роберт достал откуда-то бумагу и завернул в нее деньги.
— Я захватил рюкзак, — сказал Дилан. — Дотащу их домой сам.
Мингус кивнул, сраженный его деловитостью.
— Ладно.
Повернувшись к троице спиной, Дилан принялся укладывать расписанные маркером, замусоленные комиксы в рюкзак. Сидеть на полу, на коленях было невыносимо. В приступе ярости он схватил одну из расчесок-камертонов Мингуса и тоже сунул ее в рюкзак. Перед глазами еще стоял тот момент, когда деньги падали из его руки на зеркало. Нет, в его планы входило далеко не только это, сделка с комиксами представлялась ему лишь забавой, шуткой. Всю жизнь он был для своих ровесников в Гованусе отбросом, предметом насмешек, но вот наконец настали другие времена. Теперь Дилан мог позволить себе обзавестись хоть целой коллекцией сполдинов для забрасывания их на крышу. Или носков, с долларовыми купюрами внутри.
— Проводи меня, — сказал он, поднимаясь.
— Конечно.
Они прокрались мимо склепа Старшего. У самого выхода Дилан прошептал:
— Позвони мне завтра. Когда Ломба и Вулфолка не будет поблизости.
Ломб и Вулфолк. Прямо как Абрахам и Строс, или Джекил и Хайд, знакомые с детства сочетания. Дилан едва не засмеялся.
Мингус широко распахнул свои покрасневшие глаза, но Дилан ушел, ничего не объяснив. В Гованусе повсюду витали тайны, а в тебе постоянно сидел страх. Дилану приходилось выживать на Дин-стрит уже в те времена, когда Мингус Руд еще играл в футбол в Филадельфии, а Артур Ломб учился в частной школе. Только Роберт был здесь всегда. Но он, как бы ни измывался над Диланом, бить его никогда не отваживался — благодаря Рейчел. А эти два собирателя комиксов, похоже, намеревались остаться игроками на всю жизнь. Что ж, Дилан готов им подыграть. Они наверняка поняли, что именно он хотел продемонстрировать им своим сегодняшним визитом: тон в игре задает тот, у кого имеется толстая банковская книжка.
* * *
В одиннадцать утра, когда жара сжимала день в немилосердных тисках, Авраам чуть было не испортил все, войдя в комнату Дилана и застав его за пересчитыванием денег.
— О господи, — сказал он.
Дилан засунул купюры в карман желтых шортов, которые были вполне под стать бетонным городским джунглям.
— Сколько? — спросил Авраам.
— Триста долларов, — солгал Дилан.
— Почему ты не положил их в банк?
— Это тебя не касается.
Авраам пал духом и стал придумывать какой-нибудь жесткий ответ — в такие моменты Дилану всегда становилось жаль отца.
— Мне кажется, касается, Дилан. Зачем тебе понадобились деньги?
— Хочу одолжить их Мингусу, — неуверенно произнес Дилан, не желая становиться оголтелым лжецом.
— Для чего Мингусу триста долларов?
— Не знаю. — Он направился к двери.
— Дилан!
— Не обращайся со мной как с ребенком, Авраам, — потребовал сын. — Я же сказал: к концу лета деньги на учебу у меня будут. Лето еще не закончилось.
Лето не закончилось: оно раскололось. Машины вдавливали в мягкий, как карамель, асфальт крышки от «Ю-Ху», «Райнголд», «Манхэттен Спешиал». На углу Невинс люди в машинах спешно поднимали стекла: кто-то включил гидрант, струя воды била прямо на дорогу. К полудню в домах раскрывались все окна и двери: изможденные жильцы мечтали вдохнуть хоть глоток свежего воздуха. Напрасно. Воздух был мертв.
Дилан, обливаясь потом, шел к дому Мингуса с пятью сотнями в кармане — уверенный в себе и невозмутимый.
Ни Артура, ни Роберта среди измученных жарой и влажностью людей, ползших по тротуарам Дин с черепашьей скоростью, он не увидел, не заметил вообще никого из знакомых.
Как обычно по воскресеньям, Старший ушел в церковь на Миртл-авеню, и Мингус был один на всем первом этаже с распахнутыми дверьми и окнами.
Дилан вошел в комнату. Играла музыка.
Мингус в трусах и затасканной майке лежал на кровати, сбросив с себя простыню и уткнувшись подбородком в сложенную вдвое подушку, — дремал под включенный на полную громкость фанк. Очевидно, он уже пытался сегодня подняться, и даже неоднократно, но опять падал в постель, не находя себе никакого занятия. Или все еще приходил в себя после бурно проведенной ночи, а то и нескольких ночей. Кокаинового осколка зеркала не было видно, и сама комната, залитая солнечным светом, уже не казалась зловещей. Мингус кулаками потер глаза, точно маленький ребенок.
— Привет, Ди.
— Привет.
— Значит, мой дружок захотел заняться с нами бизнесом.
— Может быть.
Мингус свесил с кровати ноги, показал Дилану на стул и причмокнул.
— Мастер Диллинджер кое в чем сомневается, — высокопарно произнес он. — И должен уяснить некоторые детали. Его железное правило: он должен уяснить.
Дилан молчал.
— Да улыбнись же ты наконец, Ди-мен! В чем дело? Боишься, что тебя начнет доставать Роберт? Положись на меня, старик.
— Я ни капли не боюсь Роберта.
— Вот и отлично. Я и не говорил, что ты его боишься.
Дилану не терпелось перейти к делу.
— Сколько денег вам не хватает?
— Вопрос не в этом. Скажи, сколько ты можешь внести?
— Две сотни.
— Две сотни. — Мингус задумался. — Хорошо. Никаких проблем. — Он был настороже, словно чувствуя какой-то подвох. — Значит, решено. Двести долларов, и ты в игре.
— У меня есть одно условие.
— Условие?
— Верни мне кольцо.
— Ах, черт! — Мингус прижал к лицу ладони и, качая головой, рассмеялся. — Он является сюда, треплется о том о сем, а на самом деле хочет только одного: получить назад свое кольцо.
— Оно еще у тебя?
— Вот, оказывается, в чем дело. Вовсе не в комиксах и бизнесе, не в каком угодно другом дерьме.
Мингус опять засмеялся, с такой горечью, будто Дилан хотел выкупить у него их дружбу вместе со всеми секретами, Аэроменом, мостом и теми многочисленными вещами, которым не было названия. Как будто повесил ценник: $200 — на шесть или семь лет их знакомства, пожелал отделаться от всех этих лет при помощи денег, заработанных продажей мороженого.
Может, так оно и было.
Упершись руками в голые колени, Мингус рывком поднялся с кровати, без слов вышел в коридор, прошлепал к туалету и помочился, не закрывая двери.
— Да, оно еще у меня, — сказал он, вернувшись. — Ты же знаешь, что я отдам его тебе, как только ты попросишь.
— Я прошу сейчас.
— А платить ты уже не собираешься?
Наконец-то Мингус разозлился. Осознание этого доставило Дилану пугающее наслаждение.
— Спасибо, что сохранил его, — сказал он невозмутимо. — А заплатить я даже рад.
— Чудесно.
— Кому еще известно о кольце? — спросил Дилан. Он мечтал задать Мингусу этот вопрос все то время, пока учился в Стайвесанте. И вот долгожданный момент настал.
Мингус отвернулся.
— Ты показывал его Артуру?
— Нет.
Конечно, нет. Какой дурак сделал бы это?
— Роберту?
Молчание.
— Придурок! Ты рассказал о нем Роберту.
— Он был со мной, когда я набросился на копа в Уолт Уитмен, — ответил Мингус. — Мне пришлось отдать ему кольцо, чтобы его не отобрали в полиции.
— Он пробовал?..
Мингус пожал плечами.
— Роберт ведь такой же, как ты.
— Что это значит?
— Это значит, он пробовал.
Конечно. А ведь кольцо вовсе не было бездушным инструментом. Аарон Дойли летал пьяным, Дилан — обмирая от страха, за исключением того раза, на озере в Вермонте, когда его никто не видел. Значит, кольцо приспособилось и к внутреннему хаосу Роберта Вулфолка.
— Даже не рассказывай мне об этом. Наверняка он летал вкривь и вкось.
Мингус промолчал. У него вошло уже в привычку защищать своих друзей — Дилана, Артура, Роберта — перед другими. То есть молчать, не говорить о них ничего.
Дилан встал со стула и положил двести долларов на грязную простыню. Мингус нахмурился.
— Надеешься так легко отделаться? — ледяным тоном спросил он.
Дилан не сразу понял его.
— А что еще тебе нужно?
Мингус едва заметно улыбнулся.
— Покажи-ка, не осталось ли чего-нибудь у тебя в карманах.
Это была реплика из списка стандартных издевательских фраз. «Иди-ка сюда», «дай-ка на минутку», «я отдам, не собираюсь я тебя обижать». Общепринятый метод показать свое превосходство над белым парнем — метод, которым Мингус никогда не пользовался. Теперь он изменил своим правилам, наконец ткнул пальцем в их различие.
Впервые в жизни Дилан понял, насколько бережно относился к нему все эти годы Мингус. При мысли о трех оставшихся в кармане сотнях к лицу хлынула кровь. Кольцо не наделяло владельца «рентгеновским» зрением, но это не означало, что такого зрения не существует.
Тонкие струйки пота текли ему на глаза.
— Ладно. — Мингус рывком открыл ящик стола и сбросил две сотни Дилана в кучу лежавших там купюр. Он не стал задвигать ящик, выражая тем совершенное безразличие или провоцируя Дилана тайком забрать свои честно заработанные двести баксов.
Состояния в Гованусе сколачивали лишь самые предприимчивые.
Изабелла Вендль возгордилась бы. Она всегда советовала Дилану убирать каждый лишний доллар в копилку и посмотреть потом, что из этого получится.
— Кольцо наверху, — сказал Мингус.
— Наверху?
— В тайнике Барретта. Не пялься на меня, оно там в безопасности. Барретт в любом случае хочет с тобой увидеться. Я сказал, что ты придешь. Он все время спрашивает, почему ты теперь не появляешься у нас. — Мингус не удержался и еще глубже всадил в Дилана нож: — Здесь тебя больше ничто не интересует?
Они поднялись наверх.
«Золотых дисков» на каминной полке в комнате Барретта уже не было, но других изменений не произошло, просто все выглядело теперь обветшалым и запущенным. Барретт был у кухонной стойки, от которой отвалилось несколько плиток, и наливал «Тропикану» в треснувший стакан. На краях рукавов и на подоле халата Барретта болталась бахрома из ниток, под мышками темнели пятна. Халаттеперь болтался на нем — Барри похудел. У него по-прежнему была бородка и расширяющиеся книзу баки, но выглядели они не так аккуратно, как прежде, и наполовину поседели; длинные ногти на руках и ногах пожелтели и стали похожи на когти, веки покрылись морщинами и обвисли.
В спальне работал кондиционер. Музыка не играла. Тишину нарушали лишь редкие звуки, доносившиеся с мертвой улицы.
— А, Дилан!
Дилан стоял, будто язык проглотив. О том, что и его отец когда-нибудь тоже состарится, он не желал даже думать.
— Давно ты к нам не заглядывал. Тебя и не узнать, совсем взрослый стал. Ты только посмотри на него, а?
— Привет, Барри, — выдавил наконец Дилан.
— Рад тебя видеть, дружище, очень рад. С твоим отцом мы постоянно встречаемся, а с тобой вот никогда. Ну и денек сегодня. Холодного сока хотите?
— Я нет, — ответил Мингус.
— Нет, спасибо, — сказал Дилан.
— Зря. В соке много витаминов. Садитесь же, а то мне как-то неловко. Вы выглядите как два кота перед боем.
— Мне надо кое-что забрать в твоей комнате, — сказал Мингус.
— Забирай. В чем проблема? Садись, Дилан. Все-таки выпей сока со льдом. В такую жару это просто спасение. Видел, как играли недавно «Янки»? Рон Гайдри — лучший в мире.
Мингус прошел в спальню, а Дилан опустился на диван перед кофейным столиком. Во всей гостиной лишь этот столик, чья поверхность помутнела от белого порошка, не покрывали царапины и трещины. Тут же лежала пластиковая соломинка.
Барретт перехватил взгляд Дилана, приклеенный к горке кокаина.
— Не стесняйся.
— Нет, спасибо.
— Не благодари меня, дружище, просто угощайся.
— В самом деле, Ди, — сказал вернувшийся из спальни Мингус.
— Я же говорю — нет.
— Может, еще скажешь, что вообще не знаешь о наркотиках?
— Оставь его, Гус. Не хочет, значит, не хочет. Дилан — парень серьезный, собирается учиться в колледже, черт побери! Как же быстро бежит время, а, Гус? Малыш Дилан уже почти студент. И правильно делает, что отказывается от кокаина. Ему надо держать себя в руках.
Когда он закончил свою тираду, Мингус плюхнулся на диван рядом с Диланом, разжал кулак и положил кольцо Аарона К. Дойли на краешек стола.
Барретт поставил перед ними два стакана апельсинового сока с кусочками льда, будто пузатыми рыбками, на дне.
— Что это? — спросил Младший.
— Я хранил эту штуку Дилана в твоем тайнике. Он заберет ее с собой в Вермонт, где девочки купаются голышом, а на автозаправках работают негры.
— О! — Это все, что мог сказать Младший. Он сел в свое кресло, и полы его халата разошлись, открывая на обозрение шорты и исхудавшую грудь.
Барретт, крепкий, здоровый мужчина, за несколько лет превратился в старика.
Дилан взял кольцо, положил в карман и почти машинально поднес пальцы, коснувшиеся поверхности столика, к носу.
— Правильно, дружище, — сказал Младший. — В такую жару не грех и охладиться.
— Смотри-ка, его, оказывается, тянет к этому. — Мингус улыбнулся.
Теперь, когда кольцо лежало у него в кармане, Дилан вдруг отчетливо услышал внутри себя песенку, которую напевал все лето: «Дилан почти исчез, Дилан почти исчез». Ему вспомнилось железное правило, которого он всегда придерживался: не увлекайся, только пробуй — и захотелось, чтобы перед расставанием Мингус открыл ему еще одну тайну, познакомил с неведомой страной. В конце концов он уже глотал ЛСД, пробовал метаквалон в боулинг-клубе и псилоцибин на Джоунс Бич. Почему же сейчас он ломается? Артура поблизости не было, и опасаться, что тебя поднимут на смех, не имело смысла. Нужно лишь, как обычно, притвориться, что это у тебя не в первый раз.
Дилан взял соломинку, поднес к ноздре, подражая приятелям, которые не раз проделывали это в его присутствии, и вдохнул кокаин.
Мингус тоже втянул в себя дорожку порошка. А за ним и Барретт.
Потом все трое вдохнули еще по одной дорожке, и еще.
Так Дилан наконец попробовал кокаин — в обычный летний день на Дин-стрит. По сути, не произошло ничего особенного. Ему лишь стало казаться, что он окунулся в свою вторую жизнь — ту, в которой он никогда не переставал приходить сюда, в этот дом. Наркотик разлился по нему, унося в иллюзорный мир, сжигая все сомнения.
Утомленное жарой, покрытое потом, как стакан с ледяной водой, тело вдруг стало холодеть изнутри.
Музыка зазвучала на редкость волшебно, когда Барретт включил проигрыватель и поставил «Позволь пойти с тобой на вечеринку» Банни Сиглера. Апельсиновый сок легко смыл какую-то вязкую слизь, внезапно облепившую горло.
— Нравится? — спросил Младший, и его лицо расплылось в улыбке.
— Да, — признался Дилан.
— Отличный кокаин, верно? — спросил Мингус. Он смягчился, голос звучал не так жестко, как будто все, о чем он мечтал сегодня, это чтобы его лучший друг понюхал с ним кокаин.
— Да, — согласился Дилан.
Может, у тебя еще оставался шанс получить прощение. Или же ты смотрел на жизнь чересчур мрачно, тогда как все складывалось вполне успешно. В кармане у тебя лежало кольцо. Ты получал удовольствие вместе с Мингусом и Барреттом, а через каких-то несколько недель должен был отправиться в самый дорогой колледж страны. Одно другому не мешало, и, значит, ты напрасно беспокоился.
Жизнь замечательна, подумал Дилан, и в этот момент в комнату вошел Барретт Руд-старший. Все четверо замерли.
Несмотря на адскую жару, Старший был в костюме. На галстуке поблескивал золотой зажим, в петлях манжет — запонки, из кармана торчал белый платок.
От него пахло цветами — розами.
Мингус как раз склонился над кокаином. Увидев Старшего, он отложил соломинку и потер пальцем нос.
— Так вот чем вы тут занимаетесь, когда меня нет дома, — дребезжащим голосом проговорил Старший. — Приучаете к пороку соседских детей!
— Ступай вниз, старина, — спокойно ответил Младший, не глядя на отца.
— Вы навлечете на этот дом беду, безумствуя тут вместе с белыми.
От этих слов Дилану стало вдруг смешно. Мингус ткнул его локтем в бок.
— А почему ты так рано вернулся? — спросил Младший. — Сестра Паулетта выставила тебя за то, что ты опять ущипнул цветочницу?
— Прости, Господи, моего извращенного сына, его погрязшую во зле душу.
Руд-младший встал с кресла, запахнул халат и прошел мимо отца к раковине.
— Я родился извращенным, старина. Это передалось мне по наследству. Зачем ты так вырядился? Хоть бы галстук ослабил, жара невозможная. Если хочешь, присоединяйся к нам.
— Я благодарю Господа за то, что до этих черных дней не дожила твоя мать.
Младший повернул голову и тихо спросил:
— Благодаришь Бога? Я правильно расслышал? За то, что мама не дожила до этих дней?
— Да.
— И что же Бог тебе на это отвечает?
— Иди к себе, дед, помолись за нас, — негромко произнес Мингус.
— Я молюсь каждую ночь и каждый день, — ответил Старший. — Все дни, под боком у грешников. И только раз в неделю выхожу из своего заточения, чтобы рассказать другим о творящихся здесь безобразиях.
— Иди, — взмолился Мингус.
— Мне хочется кричать об этом на всю округу.
Младший развернулся, схватил отца за лацканы пиджака, тряханул и прижал спиной к стене — все произошло настолько быстро, что Дилан и моргнуть не успел. Оба — и старший, и младший — одновременно издали звук, похожий на протяжный вздох. Спустя несколько мгновений Старшего уже не было в комнате, а Младший вернулся к раковине.
Дилан потупил взгляд, смущаясь, что стал свидетелем этой сцены. Мингус покачал головой и снова взял соломинку.
Биение сердца ощущалось по всему телу: наверное, из-за наркотика.
Музыка продолжала играть, и всем на миг показалось, ничего такого не произошло. Но в следующее мгновение, когда комнату вновь наполнил аромат роз и опять появился Старший, у них возникло ощущение, что он и не исчезал, а секунда затишья им лишь пригрезилась. Однако Старший все же уходил, спускался вниз: об этом свидетельствовало то, что он держал сейчас в руках. В одной — пачка двадцаток, он тут же швырнул их на пол, в другой — пистолет.
Банни Сиглер продолжал петь, ни о чем и не подозревая.
— Поднимать руку на отца — страшный грех, — произнес Барретт Руд-старший. — Об этом говорится в Священном Писании. В свои черные дела ты вмешиваешь и детей, я нашел этому доказательство! У мальчика в комнате полно твоих грязных денег. Ты совершенно потерял стыд, и мне придется кое-чему научить тебя, сынок.
— У Мингуса есть личные деньги, — ответил Младший, спокойно глядя на пистолет.
— Ты должен ответить за то, что учишь детей греху, и за то, что поднял на отца руку.
— Убери пушку, старина.
— Я тебе не старина, а отец, ясно? Пушку я не уберу, она поможет мне вправить тебе мозги.
— Но ты давно-о превратился в старину-у, признай же это. — Это была последняя из пропетых Барреттом строчек, которые довелось слышать Дилану.
Мингус вскочил с дивана и рванул к спальне отца, но на пороге остановился, повернул голову и прокричал:
— Уходи, Дилан!
Он и сейчас о нем заботился.
Позже Дилан не мог вспомнить, как поднялся с дивана, прошел к лестнице, спустился и отправился к себе. Какая-то часть его сознания навеки осталась в этой гостиной — пульсация где-то позади глазных яблок, пистолет, остановившийся на пороге спальни Мингус. Дилан еще долго потом слышал музыку и чувствовал жжение в носу, раздумывал, куда подевались «Золотые диски», и видел обезумевшие глаза Барретта Руда-младшего. Поэтому и не помнил, как покинул в тот день дом Рудов. Он ушел, как только услышал крик Мингуса. Целый и невредимый, с кольцом в кармане, за которое заплатил деньги, как и планировал. Покачиваясь, он шел по улице к своему дому — и в этот момент прозвучал выстрел.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Аннотация
ЕЩЕ РАЗ «ВСТРЕВОЖЕННАЯ СИНЬ»
Барретт Руд-младший и «Дистинкшнс»
Автор Д. Эбдус
Сложно сказать, какую роль играет в нашей жизни певец. Определяя и исследуя процесс дезинтеграции и другие разрушительные аспекты афроамериканской жизни, он выполняет объединяющую функцию… Чувство идентичности обусловливает не только отношения между исполнителем и публикой… но и отношения между звуками, порождаемыми музыкантом, то есть саму музыкальную технику…
Кристофер Смолл «Музыка универсального языка»Многие не осознают всю важность обращения музыканта к публике и ответа слушателей. Потому что большинство современных песен создаются для того, чтобы просто петь их. Но слушателю требуется гораздо большее. Он должен реагировать, высказывать свое мнение, отвечать: сплетнями (например: «Она действительно с ним встречается?») или одобрительными возгласами («Блеск!» «Еще!»)… Мне бы хотелось привести в систему все хиты последних тридцати лет. Я уверен, что процентов восемьдесят из них тем или иным образом оказали значительное влияние на развитие человечества. И готов поспорить, что к мнению публики прислушивалось менее тридцати процентов авторов хитов…
Брайан Эно «Год с опухшим аппендиксом»Голоса в памяти, исполненные тоски, чьи — ты не можешь ответить. Песня в радиоэфире — ты заучил ее когда-то и вдруг осознал, что она слащава, приторна, тошнотворна. А может, в ней говорилось о том, чего ты просто не сумел, не был готов понять. В любом случае для тебя эта песня умирает. Но проходит лет пятнадцать, и неожиданно твое сердце подсказывает тебе, что ты изменился. Это случается в тот момент, когда та же самая песня застает тебя врасплох, приходя из радио в автомобиле с предложением перешнуровать потертые кроссовки твоей жизни. Заинтригованный, ты прислушиваешься, тебя разбирает любопытство. Но диджей не называет имени исполнителя. Или это происходит в кинотеатре — ты смотришь фильм, в котором звучит эта песня. А в конце его бегаешь глазами по титрам, но они проплывают слишком быстро.
Песня вновь уходит от тебя. Или застревает в памяти обрывком, бессмысленной фразой. Почему в далекой юности эта песня казалась тебе горько-сладкой? Ну да, конечно. Ты не обращал тогда внимания ни на ее вокальную гармонию, ни на голос солирующего исполнителя, ни на поразительную технику гитарной игры — все настолько удивительное, завораживающее. Ты не можешь вспомнить контекст, пространство, в котором эта песня жила много лет назад. Кроме того, ты не имел тогда возможности купить запись и слушать ее дома. Ну и бог с ней. В конце концов ты ведь не потерял ничего важного. А эта песня — обитающая в мире всегдашней неопределенности — нуждалась в тебе еще меньше, чем ты в ней.
Правильно?
За пантеоном самых одаренных вокалистов-мужчин — в него входят Сэм Кук, Отис Реддинг, Марвин Гэй и Эл Грин (сами добавьте к этому списку имена тех, кого считаете достойными) — прячется другой пантеон, пантеон-тень. В нем числятся музыканты, не добившиеся широкой известности. Я разделил бы их на две категории. К первой отнесу тех, кому просто не хватило упорства или не повезло, — скажем, Говарда Тейта и Джеймса Гарра, а еще, пожалуй, Oy Ви Райта. Это певцы, поработавшие с несколькими фирмами грамзаписи, выпустившие одну приличную пластинку и исчезнувшие, куда-то уплывшие. Если судить их по силе воли, твердости характера — они неудачники, безвольные люди. Ко второй группе я отношу тех певцов, чьи имена затерялись в лучах славы коллективов, в которых они выступали. Это Бен И Кинг из «Дрифтере», Дэвид Раффин из «Темптейшнс», Леви Стаббз из «Фор Топе», Филипп Уинн из «Спиннерс»: поклонники считают их талантливейшими вокалистами, но вспоминают о них, только когда слышат.
Барретт Руд-младший — одна из наиболее необычных фигур в истории поп-музыки. Излишне говорить — читая эти строки, поставьте диск с записью Руда, — но я все равно скажу: это один из величайших солистов в истории музыки — не просто лучший из тех, от кого отвернулась фортуна. Барретт Руд-младший родился в 1938 году в Роли, штат Северная Каролина, в семье странствующего проповедника-пятидесятника (который позже угодит в тюрьму). Мать мальчика умерла, не дожив до тридцати (от сердечного приступа, как сказал Руд, давая интервью журналисту из «Кэш Бокс»). Музыкальный путь вокалиста начался с пения в хоре отцовской церкви. Когда будущему певцу было десять лет, его родителя лишили права быть пастором, а через год арестовали. Руд, оставшийся на попечении тетки, спустя несколько лет бросил школу, переехал в Мемфис, устроился на работу дворником, потом водителем школьного автобуса, потом — на короткое время — ночным диджеем одной из местных радиостанций. Там он и встретил Джени Куарш, белую девушку, дочь владельца станции, которая работала там секретаршей. Очень скоро они поженились. У них родился сын. А может, все было совсем по-другому.
В 1967 году, в возрасте двадцати девяти лет, Руд записал пару синглов в студии Вилли Митчелла «Хай Рекорде». Как он вышел на эту студию, никто уже не помнит, сам Руд всегда утверждал, что его зять не имел к этому никакого отношения. В 1967 году Митчелл начал работать с певцом Oy Ви Райтом — в новом направлении, в котором позднее достиг столь оглушительного успеха с Элом Грином. Наверное, если бы Руд опередил Эла Грина, то совершил бы настоящий переворот в поп-музыке. Но этого не произошло. Уравновешенный Митчелл отказался работать с эксцентриком Рудом еще до начала его карьеры, объявив чересчур упрямым.
Этим музыкальная карьера Руда могла и закончиться — несколькими записанными синглами. Но в феврале 1968 года гитарист Марв Браун, который год назад записывался в «Хай Рекорде», рассказал о певце в Филадельфии музыкантам группы, называвшейся тогда «Фор Дистинкшнс». Их продюсером был Андрэ Дегорн. У Дегорна имелось несколько песен, которые он с помощью хорошего, слаженного коллектива и ведущего вокалиста намеревался сделать настоящими хитами. «Дистинкшнс» были подходящей командой, но им не хватало ведущего солиста.
Музыкантам помог Браун, рассказав, что знает отличного певца, парня, который собирается переехать из Мемфиса в Роли. Руд хотел вернуться с женой и ребенком к тетке, так как в Мемфисе постоянно бедствовал. В Филадельфии десятки певцов искали работу, но «Дистинкшнс» решили позвонить именно ему, человеку, которого порекомендовал Браун. Руд купил билет на автобус и приехал в Филадельфию на прослушивание. Никому еще не известный в свои тридцать лет, он был в шоу-бизнесе темной лошадкой. Его принял в свои объятия мир, искалеченный безумствами, капризами, мир, в котором люди внезапно исчезали — из студии и со сцены. Страшный крест для американца шестидесятых, обремененного личными проблемами и несчастливым межрасовым браком. Карьера Руда длилась всего десятилетие; к концу семидесятых его заставили замолчать наркотики и семейная драма.
В тот момент, когда он вошел в филадельфийскую студию, сама судьба зачислила его в певцы второй категории: таинственный, завораживающий голос Руда должен был затеряться в спетом коллективе. Но именно в «Дистинкшнс» Руд нашел тот контекст, в котором смог высказать все, что хотел, осуществилась заветная мечта любого человека — иметь в этой жизни какое-то признание. Пусть ненадолго. Сам Руд считал, что провел эти десять лет в тюрьме, но мы с ним не согласимся. Нам следует лишь благодарить судьбу за его выстраданное, стесненное рамками искусство.
Кто же были те люди, которых я называю «контекстом» и «рамками» Барретта Руда-младшего? Четверо черных друзей, выросших на промышленной окраине Инкстера, штат Мичиган (там же, где и «Марвелеттс»), «Дистинкшнс» занялись музыкой в эпоху Джонни Эйса и Джеки Робинсона. Джеймс Мейси, Денис Лонгхэм, Рудольф Байсикл и Альфред Мэддокс, прежде чем стать музыкальной группой, играли в составе школьной бейсбольной команды «Крайслеры Дирборна-Инкстера», которая в 1958 году победила на незначительных соревнованиях в штате. Джимми Мейси, бывший защитник, имел густой бас, Руди Байсикл — необычный тенор, служивший еще одним подтверждением того, что поп-культура — явление более загадочное, чем все тайны научной фантастики, а Фред Мэддокс и Денни Лонгхэм пели баритоном. Первоначальное название «Кристонс» по предложению Лонгхэма они позднее заменили другим: «Фор Дистинкшнс», продолжая выступать на школьных вечеринках, ярмарках и играть в бейсбол.
В мае 1961 года «Фор Дистинкшнс» приняли участие в конкурсе, который спонсировала знаменитая студия грамзаписи «Толлхэт» Джерри Балтвуда, — и победили. Кто помог музыкантам записать в «Толлхэт» в июне того же года пластинку с четырьмя песнями? По всей вероятности, написали их сами «Дистинкшнс», а Балтвуд нашел заслуживающими внимания. В эту первую пластинку вошли и жалостливая «Привет», и «Бэйби на луне» — композиция в стиле «Файв Ройалз». Ни одна из песен не попала в хит-парады — ни в земные, ни в лунные.
В 1965 году студию «Толлхэт» купил «Мотаун», и «Дистинкшнс» столкнулись с массой проблем. Оказавшись на четвертом или пятом месте в очереди после «Фор Топс», «Темптейшнс» и ряда других претендентов на запись, они были вынуждены работать подпевалами и мальчиками на побегушках — отвечать на телефонные звонки, работать курьерами, встречать в аэропорту знаменитостей. Денни Лонгхэм даже научился делать прически и заслужил как-то раз похвалу Марты Ривз. Подобие успеха пришло к «Дистинкшнс» после участия в записи пластинки «Я не слишком гордый, могу и попросить» «Темптейшнс», ведомой в ту пору продюсером Норманном Уитфилдом. Одноименная песня в короткие сроки взобралась на вершину хит-парада «Топ-10». Легкий, как воздух, фальцет Руди Байсикла затенен в ней голосами ведущих певцов, но в композиции на второй стороне пластинки звучит более отчетливо. Участие «Дистинкшнс» в записи «Вниз по холму» на первый взгляд может показаться выполнением ими обязательств перед фирмой Берри Горди, на самом же деле это — потерянный шанс группы «хит-мэйкеров» «Холланд — Дозьер — Холланд». До настоящего успеха и до того момента, когда Дегорн прибавит слово «Сатл» к названию группы, оставалось три года. Но все записи, сделанные в «Мотаун» до появления в коллективе Руда, доказывают, что «Дистинкшнс» и тогда уже были «сатл» — искусными, утонченными, умевшими легко и ненавязчиво подать результат долгой, кропотливой работы.
Из книги «„Мотаун“ и американская культура» Джералда Эрни: «Три главных коллектива фирмы начального периода — „Супримс“, „Темптейшнс“ и „Мираклс“ — сложились во время учебы их участников в школе… Они не пели в церкви… В многочисленных статьях о них почти не упоминается о влиянии на музыкантов церковных песнопений…» Верно. Когда же к «Дистинкшнс» присоединился Барретт Руд-младший, в северной команде из Детройта появился более жесткий, воспитанный церковью «южный» солист — их пение превратилось в соул. Это столкновение жесткости с изящностью, необузданного сладострастия и сожаления ритм-энд-блюза с отшлифованной поп-музыкой — перекресток, на котором страдание и одиночество сцепляются с новыми возможностями гармонии и стремления к совершенствованию.
Возьмем, к примеру, песню «Вот идет моя крошка» «Дрифтере», записанную в 1959 году, как раз в тот момент, когда в ритм-энд-блюзе произошел сдвиг к другому музыкальному направлению — к соулу. Ведущий вокалист «Дрифтере» Бен И Кинг поет сдержанно, его диапазон ограничен латиноамериканским ритмом и подражанием классике. В тот время песня повергла в шок не только фирму грамзаписи, которая едва не отказалась записывать ее, но озадачила даже своего создателя, Джерри Либера, заявившего: «Когда я услышал „Крошку“ по радио, мне показалось, ее крутят в одно и то же время сразу две радиостанции». Та же история повторилась и в надрывных балладах Джеймса Брауна — «Сбитый с толку» и «Этот мужской, мужской, мужской мир», — и в елейных сочинениях любителей постонать, Джеки Уилсона и Соломона Берка.
Но главное не в том, что структура композиций пятидесятых годов не соответствовала свободолюбивым соул-голосам, которые только-только обнаружили свою силу. А в том, что студии, записывавшие соул шестидесятых — «Мотаун», «Ви-Джей» и «Стэкс», — создали особый язык, загонявший такие голоса в неприемлемые для них, стесняющие рамки. Кульминации эта драма достигла при вокальном смешении в группах «Соул Стеррерс», «Файв Ройалз» и многих других, когда голоса их соул-исполнителей, втиснутые в клетку отголосков, буквально задребезжали, зазвучали нелепо на фоне музыкального сопровождения.
Вот в какое время приходилось работать «Дистинкшнс». Филадельфийские студии, на которых они делали свои знаменитые записи, практиковали наиболее гладкие стили гармонизации. Продюсеры Том Белл и команда Гэмбл—Хафф подняли это ограничение ведущего солиста на более высокий уровень, поэтому такие певцы, как Тедди Пендеграсс и Эдди Леверт, были вынуждены прибегать к немыслимым ухищрениям не только для того, чтобы выкрикнуть, прорычать или воззвать к слушателю из тисков, которые держали их, но даже просто спеть более эмоционально.
Искусством расставлять силки Дегорн и «Дистинкшнс» овладели в совершенстве, Руд же научился с блеском эти ловушки обходить. Весной 1968 года группа сделала запись в «Филли Грув» — набросок своего первого хита «Иди сюда и люби меня». Голоса музыкантов здесь свивают гнездо для вступающего позднее вокала Руда, который звучит сначала еле слышно, а потом стремительно взлетает ввысь. В тот же период была создана и не вышедшая в свет «Так называемые друзья».
Группа приступила к записи полного альбома. Руд, которому первое время приходилось ночевать у Марва Брауна, наконец купил дом и вызвал к себе жену с ребенком, до сих пор остававшихся в Северной Каролине. Дебютный альбом под названием «Вы слышали „Дистинкшнс“?» состоял из теплых, трогательных песен о любви — стопроцентных хитов Дегорна. Его аранжировка «Иди сюда и люби меня», приправленная колокольным звоном, открыла песне путь к хит-парадам: в Р&Б она заняла первое место, в поп-чарте восьмое. Когда музыкантам начали названивать промоутеры, те уже были наготове. Им оставалось лишь получиться танцевать.
На это у них ушло не так уж много времени. А по завершении учебы «Атлантик Рекорде» перекупила их договор с предыдущей фирмой, и группа приступила к записи своего шедевра «Обманчиво простые звуки „Сатл Дистинкшнс“. Классическая „Не в силах тебе помочь. Успокойся“ была создана совместными усилиями Дегорна, Руда и Брауна. „Счастливый разговор“ и „Дождь в солнечный день“, тоже вошедшие в хитпарады, летом семидесятого года звучали на всех радиостанциях. Альбом был выдержан в одной тональности и отражал настрой коллектива в лучшую их пору. Дейв Марш в „Сердце рока и соула“ высказался о них так: „Чистой воды дежа вю, заставляет тосковать о соуле с латиноамериканскими нотами, которого, по сути, никогда не существовало“. Наверное, было тогда уже понятно, что настрой „Дистинкшнс“ вот-вот переменится, окрасится в более мрачные тона, но при этом легко верилось и в нескончаемость счастливого лета и в то, что выйдет еще сотня „Обманчиво простых звуков“. Однако он остался единственным подобным альбомом „Дистинкшнс“.
Осенью 1971 года, позаимствовав немного из „Иди вперед“ Куртиса Мейфилда, немного из „Что происходит?“ Марвина Гэя, „Дистинкшнс“ записали свой социально ориентированный альбом „В твоем районе“. На конверте пластинки поместили фотографию певцов, греющих руки у костра на городском пустыре. В продажу пластинка поступила перед Рождеством — „Атлантик Рекордс“ поторопилась, боясь, что, если промедлит, публика потеряет к „Дистинкшнс“ интерес. Но ожидаемого успеха не последовало — „Район“ не вписался в предрождественскую суету. „Новичок наносит удар“ (эта песня заняла восемнадцатую позицию в Р&Б, а в поп-чарт вообще не попала), „Джейн во вторник“ и „Кирпичи во дворе“ написал и великолепно исполнил Руд, но альбом ожидал провал. Единственная песня Дегорна, „Глупая девчонка (Любовь — это детская игра)“, в сомнительном соседстве с „Я лучше поборюсь, чем изменю себе“, „100 Пруф (Век соула)“, „Только реальность“ Марвина Гэя и Тамми Террелла и других композиций в стиле Мэдисон-авеню, стала более или менее популярной, заняв одиннадцатое место в Р&Б и шестнадцатое в поп-чарте.
В последующей работе — альбоме „Никто и его брат“ — Руд, утверждая себя на позиции основного создателя песен, не пошел на попятную, напротив, развил депрессивность „Района“, дополнил ее более глубокими, лично пережитыми чувствами. „Встревоженная синь“ в октябре 1972 года взлетела на вершины обоих хит-парадов. Если вы уверены, что знаете все записанные на этой пластинке песни чуть ли не наизусть, послушайте ее еще раз. Этот альбом гораздо лучше, чем вам казалось, со временем он становится все более правдивым, все глубже проникает в душу с каждым уходящим годом, это самое яркое и зрелое из всего, что известно в истории поп-музыки, отражение внутренней опустошенности и противоречивости человека. Композиции „Рассказ Лизы“, „Если бы ты сохранила ключи“ и „Настолько глуп“ — борьба соавторов Руда и Дегорна, темпераментного рудовского вокала и дегорновских прилизанных форматов, смягчаемая слаженными голосами Мэддокса, Лонгхэма, Мейси и Байсикла. Когда Руд парит, они, угадывая момент его приземления, подстилают соломки, когда спотыкается — подхватывают его с обеих сторон, когда, наконец, устает и ложится спать, они укрывают его одеялом. В хит-парад попала только „Встревоженная синь“, но для того, чтобы альбом занял в музыкальной среде достойное место и стал бестселлером, этого было достаточно.
Когда Руд вышел из состава „Дистинкшнс“, песня еще звучала в хит-парадах. Последний альбом „Дистинкшнс“ любят вас сильнее» Дегорн дописывал уже без вокалиста, используя репетиционные записи Руда. Хотя песня «Портрет дурака» в июне 1973 года на короткое время попала в Р&Б, альбом не прошел без особого успеха. «Атлантик» разорвали отношения с «Дистинкшнс», и они распрощались с Дегорном, который уже нашел себе какую-то диско-звезду. Группа перешла на работу в клубах — не желая разваливать «Дистинкшнс» и решив не марать имя группы записями без Руда. Далеко не у всех хватает мудрости уйти так красиво.
Что же касается исчезновения незаменимого, чудаковатого и всеми любимого Руда — это никого не удивило. Легенды о его студийных стычках с Дегорном до сих пор поражают воображение. Но Дегорн и в последующие годы создал множество хитов, тогда как Барретт Руд-младший, можно сказать, потерял опору. Поп-музыка черных уходила в эти годы в сторону нового направления. Кто-то из соул-певцов сумел к этим переменам приспособиться, к примеру, Джонни Тейлор с его «Диско леди», а кто-то зашел в тупик. На фоне этой острой потребности публики в музыке-диско последний всплеск классического соула — песни «Спиннерс», «Манхэттенс», «Блю Ноутс» «Дельфоникс», «Стайлистикс» и «Сатл Дистинкшнс» — звучит лишь более пикантно.
Сложно сказать, что изменилось в записях Стиви Вандера в тот момент, когда он начал использовать в своих композициях такое многообразие инструментов, но его музыка перестала быть соулом и превратилась в поп-фанк. Вандер довел его почти до совершенства. Замечательно звучат и песни Эла Грина конца семидесятых, но после того, как он расстался с Вилли Митчеллом и группой музыкантов студии «Хай», его записи лишились разнообразия. А с Марвином Гэем произошло обратное: когда он занялся самостоятельной работой, лишь сильнее увлекся экспериментированием. Гэй — певец комплексного соула, он остается верен этому направлению, отдает ему всего себя.
Мог ли Барретт Руд-младший, подобно Гэю, продолжить карьеру самостоятельно? Вероятно. Он попытался. Но потерпел неудачу. Руд никогда не был уверен в себе как в авторе песен. Во времена «Дистинкшнс» все свои композиции, за исключением двух-трех, он написал совместно с Дегорном или Брауном. Покупатели пластинок и радиоведущие знали его голос, но не знали по имени. В 1972 году на пару с Марвом Брауном, согласившимся быть его аранжировщиком, Руд записал альбом «Сам по себе» — несколько мечтательно-любовных вещей, искренних как дневниковые записи. В создании двух песен — «Полет орла» и «Медленно шагая» — приняли участие и «Дистинкшнс». «Медленно шагая» благополучно разместилась на двенадцатой позиции хит-парада Р&Б, но это не помогло альбому завоевать любовь слушателей.
Мы нередко охладеваем к бейсболистам, переходящим в другие команды, к детским писателям, когда внезапно становимся взрослыми, к музыкантам, вышедшим из состава любимой группы и запевшим самостоятельно. Руду же казалось, что период его работы с «Дистинкшнс» был подготовительным этапом, детством, что он повзрослеет с началом сольной карьеры. Неприятие публикой композиции «Сам по себе» ударило по его самолюбию. Он развелся с Джени Куарш и переехал в Нью-Йорк. Последний альбом «Возьми, детка» Руд, распрощавшийся с «Атлантик» и даже с Марвом Брауном, записывает на студиях Сильвии Робинсон в Нью-Джерси, — позднее она стала крестной матерью группы «Шуга-Хилл». Скопившееся в певце негодование вылилось в песни, которые почти невозможно слушать. «Любовник женщин» и «Небрежность» лишь мелькнули в хитпарадах. А в песне «Мальчик плачет», посвященной проблеме опекунства, ясно прозвучали спорящие голоса двух или даже трех «я» Руда — «я»-неудачников.
Его последний сингл «Кто мне звонит?», выпущенный в 1975 году, — параноидальное признание поражения. Под тревожную музыку в стиле фанк, разбавленную телефонными звонками, певец гадает, кто ему звонит. «Не брат, брат даже номер мой не знает, — поет Руд и задумывается. Затем продолжает: — А может, кто-то просто ошибся? Какая-нибудь одинокая девочка? Или это мой агент? Или коварный соблазнитель?» Руд перебирает множество немыслимых вариантов, а в самом конце, когда звук уже затихает, с болью в голосе задается вопросом: «Или это мой старик-отец все же надумал мне позвонить?» В свете последующих событий эта фраза будоражит воображение.
В последний раз Руд появился в звукозаписывающей студии в 1978 году, когда согласился помочь группе «Дуфус Фанкстронг» в создании двадцатиминутного сингла «Ты погладил свой мятый костюм?». В хит-параде он прозвучал, но не задержался там. Голос Руда никогда раньше не был таким мощным — в этой примитивнейшей песне его ничто не стесняло, — и никогда не пел настолько бессмысленно. Конец его карьеры выглядит еще более странно. Приблизительно в 1977–1979 годах Руд втайне от всех сделал еще две записи — «Улыбка вокруг сигареты» и «Дождливые зубы» — странные композиции, исполненные с ленивой протяжностью Слая Стоуна. В тот период Руда уже затянул кокаин.
Я обещал, что расскажу вам историю, а любая история имеет свое логическое завершение. Андрэ Дегорн продолжил работать в шоу-бизнесе в Филадельфии и позднее в Лос-Анджелесе, создал немало хитов, звучавших в разные годы в программах танцевальной музыки. Теперь он персональный менеджер группы в Лос-Анджелесе. Руди Байсикл и Альфред Мэддокс и по сей день дружат, оба живут с семьями в Дирборне, штат Мичиган. Байсикл пишет воспоминания о выступлениях в многочисленных казино Виндзора, Онтарио, а Мэддокс работает в музее «Мотаун». Денни Лонгхэм вплотную занялся освоением парикмахерских хитростей и в 1977 году, когда «Дистинкшнс» мирно разошлись, открыл собственный салон. У него делал прически весь район, пока в 1985 году в возрасте сорока четырех лет он не умер от пневмонии. Джеймс Мейси в 1977 году поехал вслед за Андрэ Дегорном в Лос-Анджелес и долгие годы записывался в разных студиях. Двадцать пятого сентября 1988 года в возрасте сорока семи лет он был убит в Калвер-Сити вместе с двумя партнерами. Их машину, остановившуюся перед светофором, обстреляли неизвестные. Марву Брауну больше не удалось найти настолько талантливый музыкальный коллектив, как тот, с которым ему посчастливилось работать с шестьдесят восьмого года. Несколько месяцев он сотрудничал с «Сигмой», потом исчез, а в 1994 году покончил самоубийством — повесился в ночлежке в Паттерсоне, штат Нью-Джерси. Ему было пятьдесят четыре года.
Барретт Руд-младший, получив право воспитывать сына, поселился в Бруклине, где постепенно превратился в наркомана-отшельника. Его отец, освободившийся в 1977 году из тюрьмы, приехал к сыну; у них сложились крайне сложные взаимоотношения. Гедонизм Руда и консервативные взгляды его отца-проповедника — безумное морализаторство, нездоровое восприятие музыки, почитание священного дня отдыха — составили взрывоопасную смесь. (Удивительно, но и Марвин Гэй, и Филипп Уинн, и Барретт Руд-младший — все они в смысле воспитания были странными черными евреями.) Шестнадцатого августа 1981 года во время очередного семейного скандала Барретт Руд-старший появился в комнате, где находились его сын и внук, с пистолетом в руке. Собирался ли он нажать на спуск — неизвестно. Его внук тоже достал оружие и застрелил деда. Молодого человека, которому на тот момент исполнилось восемнадцать, судили как совершеннолетнего за непреднамеренное убийство. Сам Руд никак не пострадал, но этот выстрел окончательно поставил на его карьере крест. Быть может, благодаря этому, певец жив до сих пор.
Вот и вся история. Я поведал ее, чтобы показать, насколько важен в песне смысл. Все музыкальные композиции, о которых я упомянул, о чем-нибудь рассказывают — о красоте, о вдохновении, о страдании, — голосами из гетто, с городских окраин, из церквей и со школьных дворов, голосами ликующими и печальными, а порой исполненными настолько глубокого чувства, что песня не умещается в рамках поп-музыки. Эти голоса побуждают подпевать им, танцевать, они могут вызвать в тебе желание кого-то полюбить, против чего-то взбунтоваться, о чем-то задуматься или просто на время отвлекают от телевизора. Но голоса Барретта Руда-младшего и «Дистинкшнс» никуда не уносят тебя, разве что в твой собственный район. На ту улицу, где ты живешь. К тому, что осталось позади.
Но ведь именно в этом ты и нуждаешься, нуждался все время. Правильно поется в песне: порой мы все становимся встревоженной синью.
* * *
Диск 1:1–2: «Фор Дистинкшнс», синглы, «Толлхэт» 1961 г.: «Привет», «Бэйби на луне». 3–4: «Фор Дистинкшнс», сингл, «Тамла» 1961 г.: «Я не очень гордый, могу и попросить»; вторая сторона — «Вниз по холму». 5–8: синглы, БРМ, «Хай Рекорде» 1967 г.: «Поставь на свой стол» (Р&Б № 49), «Любовь ко времени», «Правило трех», «Я видел свет». 9—10: записи 1968 г.: «Иди сюда и люби меня», «Так называемые друзья». 11–14: из альбома «Вы слышали „Дистинкшнс?“», «Филли Грув» 1969 г.: «Иди сюда и люби меня» (Р&Б № 1, поп-чарт № 8), «Глазами очевидца», «Сердце и пять пальцев», «Один и одинок». 15–19: из альбома «Обманчиво простые звуки „Сатл Дистинкшнс“, „Атко“ 1970 г.: „Не в силах тебе помочь. Успокойся“ (Р&Б № 1, поп-чарт № 2), „Гораздо больше“, „Дождь в солнечный день“ (Р&Б № 7, поп-чарт № 88), „Счастливый разговор“ (Р&Б № 20, поп-чарт № 34), „Когда ты перевернешь пластинку“.
Диск 2:1–4: из альбома „Дистинкшнс“ „В твоем районе“, Атко 1971 г.: „Новичок наносит удар“, (Р&Б № 18), „Глупая девчонка (Любовь — это детская игра)“ (Р&Б № 11, поп-чарт № 16), „Джейн во вторник“, „Кирпичи во дворе“. 5–9: из альбома „Никто и его брат“, Атко 1972 г.: „Встревоженная синь“ (Р&Б № 1, поп-чарт № 1), „Обнаруживая“, „Настолько глуп“, „Если бы ты сохранила ключи“, „Рассказ Лизы“. 10: из альбома „Дистинкшнс“ любят вас сильнее», Атко 1973 г.: «Портрет дурака» (Р&Б № 18). 11–13: из альбома «Сам по себе» (Руд — соло), Атко 1972 г.: «Медленно шагая» (Р&Б № 12, поп-чарт № 48), «Это главнее», «Полет орла». 14–16: из альбома «Возьми, детка» (Руд — соло), Атко 1973 г.: «Небрежность» (Р&Б № 24), «Любовник женщин», «Мальчик плачет». 17–18: Руд — соло, сингл, «Фэнтези» 1975 г.: «Кто мне звонит?» (Р&Б № 63); вторая сторона: «Заточенный в комнате». 19: «Касабланка» 1978 г.: Руд — приглашенный вокалист, «Дуфус Фанкстронг» «Ты погладил свой мятый костюм?» (Р&Б № 84, поп-чарт № 100). 20–21: Руд: «Улыбка вокруг сигареты», «Дождливые зубы».
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Арестанты
Глава 1
Диван на мансарде — я называл ее своим офисом — обычно завален бумагой, рекламными вкладышами из конвертов с промоушн-дисками, разорванным полиэтиленом и картонными коробками. Сегодня же, в семь часов сентябрьского утра, залитый солнцем бабьего лета диван был очищен и от упаковок, и от рекламы. На нем лежала лишь сумка с двадцатью четырьмя конвертами для дисков и сидела, с лениво-изящной небрежностью раскинув ноги, Эбигейл Пондерс в старой футболке с изображением «Мит Паппетс» (моей) и мужских трусах «Кельвин Кляйн» (не моих, купила сама). В девять тридцать в Лос-Анджелес со мной должна была оказаться в самолете только сумка. Плейер, наушники и смену белья я уже упаковал в небольшой дорожный рюкзак. Он ждал меня у выхода.
Эбби редко появлялась в моем офисе. Признаться, сегодня ее присутствие действовало мне на нервы. Я планировал выскользнуть излома, пока она спит в комнате внизу. Но Эбби проснулась и пришла наверх. Белые трусы-шорты словно сияли в лучах солнца на фоне ее кожи и диванного покрывала. Она напоминала картинку с конверта старой пластинки, выпущенной «Блю Ноутс», — только «Мит Паппетс» сюда, естественно, не вписывалась, — сидела подбоченившись, с приоткрытыми губами, склоненной набок головой и припухшими от сна веками. Если бы я захотел войти в эту картинку, мне следовало превратиться в нахмуренного Майлза Дейвиса. Или по крайней мере в Чета Бейкера. Все существо Эбби служило мне немым упреком. Я с удовольствием встречался с черными девушками и любил Эбби, но не был джазовым трубачом.
Я подошел к полкам, достал из футляра с самыми ценными записями диск Рона Сексмита и положил на диван рядом с сумкой.
Эбби зевнула.
— А почему ты едешь с ночевкой? — спросила она с наигранной беспечностью, словно позабыв о том, что вчера вечером мы смотрели друг на друга волком. Между нами шла необъявленная война, мои с ней отношения зашли в тупик. Предоставленным шансом следовало воспользоваться: я был сильно привязан к Эбби, хотя и не знал, как с ней ладить.
— Я ведь сказал тебе: встречаюсь с приятелем.
— Собрался на свидание?
— На встречу со старым другом, Эбби, — не вполне уверенно повторил я свою ложь.
Я достал из футляра диск Билла Уизерса «Стилл Билл» и тоже бросил его на диван, не поворачивая головы.
— Ах да, старый друг, разговор за ужином. Я совсем забыла. Оп-па! — Послышался грохот падающего на пол диска. — Я задела его. — Эбби засмеялась.
Я поднял скачущий по половицам диск и положил в сумку.
— Мне хочется поболтать с тобой.
— Я опоздаю на самолет.
— Они улетают каждый час.
— Верно, но в тринадцать ноль-ноль я должен быть в «Дримуоркс». Не пытайся все испортить, Эбби, и не трахай мне мозги.
— Я не собираюсь никого трахать, не беспокойся, Дилан.
— Эбби! — Я насупил брови.
— Даже тебя. Так что не ревнуй меня к самому себе — нет оснований.
— Возвращайся в кровать, — предложил я.
Эбби зевнула и потянулась, уперев руки в бедра и прижав локти к бокам.
— Хотя, если бы мы трахались почаще, может, все складывалось бы иначе.
— У кого?
— Трахаются обычно только двое.
Я бросил на диван диск Брайана Эно «Еще один зеленый мир».
Эбби засунула руку под трусы.
— Когда ты заснул вчера, я сама себя удовлетворила.
— Разговаривают об онанизме тоже по меньшей мере двое, Эбби, но от этого оно не превращается в занятие сексом. — Мы с Эбби все время так общались. Под аккомпанемент подшучиваний с отвратительным привкусом дежа вю я продолжал просматривать диски.
— Сказать, о ком я думала, когда кончала? О, как это было здорово!
— Он закатывал глаза в твоем воображении?
— Что?
— Да так, ничего.
— Я скажу, если ты ответишь, к кому летишь.
— Значит, я должен назвать имя реального человека, а ты — того, о ком просто думала. Считаешь, это справедливо?
— Мой человек тоже реальный.
Ничего не ответив, я достал еще парочку дисков — Свомпа Догга и Эдита Фроста.
— Я воображала, будто меня лапает д'Сюр. Представляешь, Дилан? Раньше я никогда о д'Сюре не мечтала, ни на минутку не задумывалась о нем как о мужчине. Потом он достал свой член — преогромный!
— Неудивительно.
Я и в самом деле не удивился. Ни появлению д'Сюра в эротической фантазии Эбби, ни тому, что она вообразила, будто его пенис невероятных размеров. Д'Сюр был не только ее научным руководителем и рок-критиком, и даже не только рок-музыкантом. Профессора различных отделений магистратуры были настоящими звездами, обожаемыми всем городом. Когда ты заходил в университетскую забегаловку и заставал там кого-нибудь из них — сейчас в лучах славы купались Эвитал Рэмпарт, Ставрос Петц, Куки Гроссман и Гай д'Сюр, — сидящим за столиком над чашкой кофе, твой желудок подпрыгивал к самому горлу. На этих людей в Беркли смотрели как на богов. Их нечитабельные талмуды стояли во всех книжных магазинах на передних полках.
Эбигейл Пондерс была единственным ребенком семейной парочки дантистов из Пало-Альто — достойных борцов за лучшую жизнь среднего класса. Их самой заветной мечтой было получение дочерью ученой степени. Диссертация Эбби называлась «Образ темнокожей певицы в парижском отображении афро-американской культуры. От Джозефин Бейкер до Грейс Джоунс». Два года назад она занялась поисками журналиста в Беркли, который интервьюировал Нину Саймон. В 1989 году с Ниной Саймон от лица «Мьюзишн Мэгэзин», робея и краснея, беседовал я. Эбби без труда разыскала меня. В тот вечер после делового разговора я заманил ее к себе послушать записи Саймон и, выждав некоторое время, предложил вина.
Три месяца спустя мы перевезли вещи Эбби в мой маленький дом.
— Теперь твоя очередь, — сказала она. — С кем ты намереваешься встретиться в Лос-Анджелесе? И сколько заплатишь за номер в отеле, который тебе явно не по карману?
— Отель не в Лос-Анджелесе, а в Анахайме, и платить я вообще не собираюсь, — произнес я, наполовину выдавая свой секрет.
— Тебе что, заплатят за секс? Кто? Персонаж Диснея?
— Поднапряги мозги, Эбби. Подумай, кто в этой жизни готов платить за тебя, лишь бы встретиться с тобой.
Эбби притихла, немного смущенная. Я воспользовался своим преимуществом.
— Ты мечтаешь о лягушачьих руках своего д'Сюра только потому, что до сих пор не отдала ему содержание.
— Пошел он на фиг.
— А может, ты не зря о нем вспомнила и займешься наконец диссертацией?
— Я и так ею занимаюсь.
— М-да? Ладно. Извини.
Эбби откинулась на спинку дивана и положила ногу на ногу.
— А что твоему отцу понадобилось в Анахайме, Дилан?
— У него там дела.
— Какие?
— Он почетный гость «Запретного конвента».
— Что еще за «Запретный конвент»?
— Скоро узнаю.
Пауза.
— Это связано с его фильмом? — Эбби спросила об этом как можно мягче. Смеяться над неоконченным трудом всей жизни Авраама запрещалось.
Я покачал головой.
— Нет, с научной фантастикой. Ему присудили какую-то премию.
— Мне казалось, твоему отцу эти премии до лампочки.
— Наверное, Франческа убедила его поехать. — Новая подруга моего отца, Франческа Кассини, умела вытащить Авраама из дома.
— А почему ты не сказал, что твой отец приедет?
— Сюда он не приедет. Мы встречаемся с ним там.
Мы разговаривали натянуто и недружелюбно — все из-за сексуальных провокаций Эбби. Их немые отзвуки летали теперь по комнате, как дым одинокой сигареты.
Я достал диск Эстер Филлипс «Черноглазый блюз» и положил в сумку. Автобус, на котором я собирался добраться до аэропорта, должен был прийти через полчаса.
Эбби зажала в пальцах короткий завиток, спадавший ей на глаза. Мне вспомнился козленок, чешущий маленькие рожки о забор, — картина, которую я наблюдал в Вермонте тысячу лет назад. Почувствовав мой взгляд, Эбби потупилась и посмотрела на свои голые колени. Губы шевельнулись, но она ничего не сказала. По какому-то особому запаху в воздухе я почувствовал, что ей доставляет удовольствие томить меня.
— С тобой что-то не так.
— Не так?
— По-моему, последнее время ты опять в депрессии.
Эбби резко вскинула голову.
— Никогда не произноси это слово.
— Но я же волнуюсь за тебя.
Она вскочила с дивана и зашагала к лестнице, на ходу снимая футболку. Я лишь на миг увидел ее спину, затем Эбби исчезла из виду. Минуту спустя в ванной зашумела вода. Сегодня у Эбби был семинар, второй в новом семестре. Все лето она должна была работать над диссертацией, а я — над сценарием. Вместо этого мы занимались сексом и устраивали скандалы, которые нередко заканчивались тем, что мы объявляли друг другу бойкот и запирались каждый в своей комнате. Теперь Эбби предстояло почти что с пустыми руками идти к руководителю, а я летел в Лос-Анджелес без сценария, намереваясь оправдаться какой-нибудь выдумкой.
Мой редактор в «Лос-Анджелес уикли» устроил мне встречу с человеком из «Дримуоркс». За последние два года работы внештатником мой долг по кредитам вырос до тридцати тысяч долларов. Все это время я сотрудничал в основном с фирмой звукозаписи «Ремнант Рекордс» в Марине. Общение с седеющим антрепренером-битником — владельцем «Ремнант» Роудсом Блемнером — надоело мне до чертиков. Поэтому сегодняшнюю встречу я рассматривал как ключ к свободе.
Наверное, я ненадолго уплыл в свои мысли, потому что, когда повернул голову, увидел Эбби, уже одетую. На ней были джинсы, черный топ без рукавов и незашнурованные сапожки на высоких каблуках, в которых она была выше меня. Она втирала в руки крем и поедала меня злобным взглядом.
— Если я поделилась однажды с тобой своими проблемами, то вовсе не для того, чтобы ты напоминал мне о них при каждом удобном случае, — сказала она. — Когда-то я была в депрессии, это точно. Но никогда больше не произноси при мне это слово, понял?
— Верно, ты поделилась со мной своими проблемами. Ведь мы близки с тобой и хорошо друг друга знаем.
— Неужели? А по-моему, ты не знаешь даже самого себя.
— Что ты имеешь в виду?
— Почему ты не рассказал мне о приезде отца? Почему хотел утаить это от меня?
Я смотрел на нее, не понимая.
— Это ты в депрессии, Дилан. Только прячешь этот факт от самого себя. Ты отказываешься взглянуть правде в глаза. Подумай об этом.
— Интересная теория, — пробормотал я.
— Да пошел ты к черту, Дилан! Никакая это не теория, и ничего здесь нет интересного. Ты так старательно переживаешь за меня и за всех остальных, за Сэма Кука, например, что на себя самого даже не обращаешь внимания.
— Что ты хочешь, Эбби?
— Чтобы ты подпустил меня к себе, Дилан. Ты прячешься от меня даже тогда, когда некуда прятаться.
— А по-моему, если не хочешь испортить жизнь ближнему своим дурным настроением, вести себя следует именно так, как я.
— Ах вот оно что! Значит, это всего лишь настроение?
— Да что с тобой, Эбби? То ты мастурбацией занимаешься, то устраиваешь сцены. Я ничего не понимаю.
— Значит, ты просто не желаешь портить мне жизнь своим дурным настроением? И считаешь, что я должна быть от этого счастлива, ютясь с тобой в этой каморке? — Она махнула рукой, показывая на два шкафа, заполненных дисками, — по семь сотен штук в каждом. — Это стена твоих настроений, стена депрессии, мистер Беспристрастие. — Она шлепнула по полке ладонью, и диски задребезжали.
— Ого! Ты выдвигаешь против меня обвинение. — Я не имел в виду ничего особенного, просто защищался.
— Значит, по-твоему, я выдвигаю против тебя обвинение и страдаю от депрессии. Нет, Дилан, ты живешь в фантазиях Кафки. Я ни в чем тебя не обвиняю. Но я знаю, за кого ты меня принимаешь. Я для тебя — воплощение всего того дерьма, которое ты не позволяешь себе сформулировать. Живой экспонат в коллекции Эбдуса «Несчастные черные люди».
— Перестань.
— Давай-ка посмотрим. Куртис Мейфилд «Мы — люди темнее ночной синевы» — явно что-то депрессивное. — Она бросила диск на пол. — Глейдис Найт, страдание, печаль. Джонни Адаме, тоска. Ван Моррисон, депрессивнее не бывает. Люсинда Уильяме, «Предложи ей прозак».[10] Марвин Гэй умер. Джонни Эйс тоже. — Зачитывая имена певцов, Эбби доставала диски и бросала их себе под ноги. — Литл Вилли Джон, Эстер и Джимми Скотт — все умерли, бедняжки. А это еще что? «Свалка»? Ты слушаешь музыку с таким названием? Просто не верится. Сил Джонсон «Это потому, что я черный?» Это потому, что ты неудачник, Сил. Джиллиан Уэлч. Мама дорогая! «Гоу-Битвинс»? «Пятеро слепых из Алабамы» — без комментариев. Эл Грин. А знаешь, я думала, его песни довольно веселые, пока ты не объяснил мне, насколько они трагические, черт бы их побрал. И пока не рассказал о том, что его подружка застрелилась, потому что пребывала в депрессии. Брайан Вильсон. Чокнутый. Том Верлен, мрачнее некуда. По-моему, даже ты не сможешь слушать этот диск. Энн Пиблз «Ненавижу дождь». Харольд Мелвин и «Блю Ноутс», бред. «Утопая в море любви» — что это за вещь? Грустная или веселая? Дэвид Раффин, а, знаю, он наркоман. Донни Хэтэуэй… Умер?
— Умер.
— «Бар-Кейс» — звучит довольно весело, но почему-то вызывает дрожь. Такое ощущение, будто диск вибрирует. А кто они такие, эти «Бар-Кейс»?
— Летели на самолете вместе с Отисом Реддингом.
— Капут-Кейс! — Эбби швырнула диск, и он, ударившись о стену, упал на диванную подушку вместе с пластмассовыми осколками коробки.
— Хватит, Эбби. — Я с мольбой протянул руки. — Сдаюсь. Мир. — Мои идущие вразнос мозги подсказали: «Спрайт! Мистер Пибб! Клитор!».
Эбби успокоилась, и мы уставились на пластмассово-зеркальную груду у ее ног.
— Я слушаю и веселую музыку, — сказал я, молча принимая обвинения Эбби.
— Например?
— «Сексапильная штучка» — наверное, одна из моих любимых песен. Мне нравятся многие вещи из эпохи диско.
— Дурацкий пример!
— Почему?
— Миллион стонущих и ноющих певцов, десять миллионов депрессивных песен и несколько штук веселых — они напоминают тебе о тех временах, когда тринадцатилетним подростком ты получал по шее. Ты живешь в прошлом, Дилан. Меня тошнит от твоих секретов. Кстати, Авраам хоть раз спросил, приеду ли я вместе с тобой?
У меня запылали щеки. Я ничего не ответил.
— Все это — полное дерьмо. А там что за ерунда?
На верхней полке шкафа, над дисками, лежали вещи, которые я никогда никому не показывал: кольцо Аарона К. Дойли, расческа Мингуса, пара сережек Рейчел и маленький самодельный альбомчик с черно-белыми фотографиями, подписанный «Д. от Э.».
Эбби шагнула к шкафу. Пластмассовые обломки захрустели под ее сапогами.
— И кто же подарил тебе это сокровище? Эмили? Элизабет? Ну же, Дилан, рассказывай, раз уж не сумел хорошенько спрятать свои богатства.
— Прекрати.
— Ты что, когда-то был женат? А я и понятия об этом не имею.
Я взял кольцо и положил в карман.
— Это вещи из моего детства. — Я немного схитрил. Э. была женой одного моего однокашника и подарила мне этот альбом в знак того, что между нами ничего не произошло, хотя и могло бы.
Комиксы Мингуса вперемешку с моими собственными тоже лежали в шкафу.
Эбби схватила расческу для афро.
— Черные девочки делали тебе подарки еще в детстве? А я и не знала.
— Эта вещь принадлежала не девочке.
— Не девочке! — Эбби швырнула расческу на диван. — Столь оригинальным способом ты даешь мне понять, что я буду крепче спать, если не узнаю эту историю? Не Отису ли Реддингу принадлежала эта расческа? И не из обломков ли самолета ты ее выкопал? А может, ею пользовались «Бар-Кейс»? Смешно, но точно этого уже не установишь.
Мое терпение лопнуло.
— Я, кажется, догадываюсь. Ты набросилась на меня потому, что чувствуешь себя недостаточно черной. Потому что выросла, катаясь на пони по городской окраине.
— Нет, я набросилась на тебя потому что, по-твоему, все наши проблемы происходят оттуда, где мы выросли. Ты только задумайся, Дилан. Что было у тебя в прошлом? Твое детство — будто какое-то святилище, ты живешь только в нем, не здесь, не со мной. Думаешь, я об этом не догадываюсь?
— Ничего особенного со мной не было в прошлом.
— Предположим, — саркастически отозвалась Эбби. — Почему же ты так помешан на своем детстве?
— Потому что… — Я действительно хотел ответить — не просто заткнуть ей рот. Но не знал, что сказать.
— Потому что?
— Детство… — Я говорил медленно, тщательно подбирая слова. — Детство — это единственный период моей жизни, когда… хм… В общем, меня не угнетало мое детство.
Не угнетало или не грызло?
Мы одарили друг друга долгими взглядами.
— Хорошо. Спасибо, — сказала Эбби.
— Спасибо?
— Ты только что объяснил мне, кто я для тебя, — произнесла она печально, больше не пытаясь что-то доказать мне. — Я ведь поднялась сюда после первой же ночи в этом доме и тогда еще увидела расческу.
— Это всего лишь вещь. Мне нравится, как она выглядит.
Эбби пропустила мои слова мимо ушей.
— Я сразу сказала себе: Эбби, этот человек берет тебя в свою коллекцию лишь потому, что у тебя темная кожа. Мне нравилось быть твоим ниггером, Дилан.
Это слово полыхнуло между нами, запрещая мне говорить что бы то ни было. Мне показалось, оно вырисовалось в воздухе кричаще яркими красками, вроде кадра из мультфильма или граффити, украшенного молниями и звездами. Мне понравилось, как оно выглядит — точно так же, как нравилась расческа. Многие слова обесцениваются, когда школьники с разным цветом кожи повсюду их пишут или когда любовники постоянно нашептывают их друг другу. Слово «ниггер», хоть и звучало между нами не впервые, оставалось редкостью и вызывало у нас обоих глубокое отвращение, служа сигналом тревоги.
— Но попасть в чью-то коллекцию из-за своих настроений я никогда не хотела. Тебя привлекла моя депрессия, ты ухаживал за ней, как за любимым кактусом. Я стала для тебя бездомным котом, которого хочется накормить и пожалеть. Об этом я даже не догадалась.
Эбби разговаривала с собой. А опомнившись, пришла в ужас.
— Убери мусор, — сказала она, направляясь к лестнице.
Я услышал гудок автобуса и решил, что порядок наведу потом и что пяти-шести дисков, которые я успел положить в сумку, вполне достаточно. Сил Джонсон «Это потому что я черный?» лежал на самом верху сваленных в кучу дисков и пластмассовых коробок. Я взял его и тоже положил в сумку.
Эбби, поставив ногу на стул, зашнуровывала у кухонного стола свой высоченный сапог. Она постоянно меняла украшения в проколах на теле. Наверное, вы скажете, что для будущего магистра она одевалась весьма странно, и я бы согласился с вами, если бы не знал, во что наряжаются все ее друзья. Видимо, Эбби хотела исчезнуть из дома раньше меня, чтобы ее слово было последним в нашем разговоре, но она не могла уйти, не зашнуровав сапоги.
Я схватил рюкзак, ожидавший меня у двери. Лицо Эбби, когда она повернулась, выражало страдание. С улицы послышался еще один гудок.
— Удачного дня, — пожелала Эбби.
— Спасибо. Я позвоню…
— Меня не будет.
— Ладно. И… Эбби?
— Что?
— И тебе удачного дня. — Не знаю, действительно ли я желал ей в тот момент удачи, и если да, то в чем. Неужели я хотел, чтобы она благополучно мне изменила? Но простились мы именно так. И я ушел.
Глава 2
На дворе стоял сентябрь 1999 года, сезон страха: через три месяца, с наступлением нового тысячелетия, в компьютерных системах должен был произойти сбой, и затянувшееся веселье конца двадцатого века грозило резко оборваться. Зато в это же самое время появилась новая радиостанция «Джеммин Оулдис» — переформатированная лос-анджелесская «МЕГА100». В тот момент, когда я говорил таксисту, что мне нужно к студии «Юниверсал», и мы отъезжали от аэропорта, звучала «Почему бы нам не быть друзьями?» группы «Уор». Казалось, стройные пальмы по обе стороны серой дороги страдают от жажды.
В Сан-Франциско «Джеммин Оулдис» тоже ловилась. И во всех остальных городах. На людей моего поколения время от времени находила охота посентиментальничать под звуки песен, занимавших в пору нашей юности первые места хитпарадов. Диско, если задуматься, не настолько ужасно, и, может быть, подростками мы все же тайно восхищались им. В нынешние дни танцевальные хиты «Кул энд зэ Гэнг» и «Гэп Бэнд», которые мы когда-то упорно не принимали, игнорируя их пульсирующий в нас ритм, звучали по всей стране на свадьбах и в кафе во время ленча. А баллады «Oy Джейс», «Манхэттенс» и Бэрри Уайта, которые мы не выносили, в компании с мартини считались незаменимыми для любой более или менее серьезной игры в обольщение. Если смотреть на мое взросление с точки зрения музыкальных радиостанций, то я двигался к совершеннолетию в эпоху утопии, не принимавшей во внимание расовых различий. Но эту эпоху безжалостно прогнал хип-хоп — прогнал или посадил под замок. Нынешняя музыка особого воздействия на меня не оказывала. Я сидел на заднем сиденье такси, которым управлял водитель Николас М. Броли, направляясь сквозь позолоченный солнцем смог на встречу с Джаредом Ортманом из «Дримуоркс».
— Вам нравится эта песня? — спросил я у седеющего затылка М. Броли.
— Довольно неплохая.
— А «Сатл Дистинкшнс» вы когда-нибудь слышали?
— Еще бы! Самая что ни на есть настоящая музыка.
Дежурный на посту охраны у главных ворот «Юниверсал» проверил, действительно ли меня ожидают, и махнул Броли рукой, разрешая въехать на студийную территорию, заставленную джипами, застроенную безоконными ангарами и кирпичными сооружениями, которые выглядели так, будто их только что построили. Здание «Дримуоркс», удаленное от главных ворот на милю, возвышалось за окруженной деревьями автостоянкой, въезжать на которую разрешалось только по особым пропускам. На меня пропуска никто не оформил, поэтому Броли остановился у внутренних ворот.
— Визитка у вас есть? — спросил я. — Мне надо будет выехать отсюда через… Скажем, через час.
Броли достал визитную карточку и написал на обороте номер.
— Позвоните мне на сотовый.
Когда я пересекал затененную автостоянку, мне навстречу попался очень прилично одетый человек, направляющийся к проходу между эвкалиптами. Он держал в руках статуэтку «Оскара» — за основание и за плечи — и смотрелся так, будто искал, кому ее вручить. Я подумал, может, это его служебная обязанность — бродить туда-сюда с золотой наградной фигуркой, напоминая посетителям о том, где они находятся?
Я вошел в здание, меня провели наверх, там я назвал свое имя симпатичной девице с мобильным телефонным устройством на голове. Она дала мне бутылку с водой и проводила по коридору в диванно-журнальное царство. Я снял свой скромный рюкзачок, подтянул штанины брюк, опустился на один из диванов и положил ногу на ногу, стараясь не казаться оробевшим при виде самодовольных улыбок на фотографиях в рамах. Время шло, телефоны трезвонили, ковры тихо вздыхали, кто-то шептался за поворотом коридора.
— Дилан?
— Да?
Я отложил «Мужской журнал» и пожал руку парню в костюме с идеально отглаженными стрелками на брюках.
— Вы пишете о музыке, так?
— Верно.
— Я Майк. Приятно познакомиться. Джаред разговаривает сейчас по телефону.
Мы прошли в небольшой офис Майка — куда перед беседой с Джаредом, наверное, попадали все посетители. Ты должен был показаться дюжине ненужных тебе людей, прежде чем предстать перед тем, с кем хотел встретиться. Но возможность обращаться к этим парням просто по имени ободряла.
— Майк? — послышалось из аппарата внутренней связи.
— Да?
— Я готов принять Дилана.
Майк дал мне «добро», подняв оба указательных пальца, кивнул на дверь соседней комнаты и подмигнул, желая удачи.
Офис Джареда оказался огромным и напомнил мне кабинет психиатра: в нем не было ни плакатов на стенах, ни чего угодно другого, что могло бы вызвать в человеке раздражение. Из окна сквозь резиновые листья цветов-деревьев в горшках лился солнечный свет и падал на ковер неровными пятнами. Джаред поднялся из-за стола. Он был без пиджака, светловолосый, плотный, уверенный, по-видимому, фанат тренировок в спортзале. Но на поле для игры в мяч я стопроцентно обставил бы его.
Разговор с Джаредом Ортманом обещал стать прелюдией к беседе с самим Джеффенбергом. Тысяча, а может, и миллион писателей о подобной встрече только мечтают. Я надеялся, что не провалю это ответственное мероприятие своей съежившейся за последние годы самооценкой и мыслями о долгах.
— Идемте сюда. — Джаред провел меня к двухместному диванчику у противоположной стены — приватной зоне.
Я опустил на пол рюкзак, и он скукожился, как скульптура Клаеса Олденберга, теряющая свое величие в офисной обстановке. Я пожалел, что не положил плейер и смену белья во что-нибудь похожее на портфель. Мы сели, закинули ногу на ногу и улыбнулись друг другу.
Джаред внезапно нахмурился.
— Вода у вас есть? Они дали вам воды?
— Да, но я оставил ее в коридоре.
— Желаете чего-нибудь? Прохладительного? — Казалось, Джаред готов достать напитки откуда угодно, хоть из камня выжать.
— Нет, спасибо.
— Итак. — Он улыбнулся, насупился, развел руками. Несколько мгновений мы изучали друг друга, стараясь сохранять атмосферу доброжелательности. И я, и Джаред были примерно одного возраста, но, казалось, прилетели на эту встречу с противоположных концов вселенной. Мои черные джинсы смотрелись грязным пятном или лужей блевотины в его кремово-персиковом царстве.
— Я друг Рандольфа, — напомнил я. — Из «Уикли».
— У-гу-у, — протянул Джаред задумчиво. — А кто такой Рандольф?
— Рандольф Тредуэлл? «Уикли»?
Джаред кивнул.
— А, да, припоминаю.
— Это он… гм… э-э… устроил нашу встречу.
— Хорошо, хорошо. А-а… Для чего вы хотели встретиться со мной?
— Простите? — Его слова сразили меня наповал, как если бы он спросил что-нибудь вроде: «Почему я работаю здесь? Вы можете мне объяснить?»
— Одну минутку, — произнес Джаред, поднимаясь с диванчика. — Майк, — позвал он, нажав кнопку у себя на столе.
— Да?
— По какому вопросу со мной собирается побеседовать мистер Эбдус?
— Он пишет о музыке.
— О музыке?
— Ты что, не помнишь? У него сценарий фильма.
— А-а-а. — Джаред повернул голову и одарил меня лучезарной улыбкой. Сценарий! Какая приятная неожиданность. — А кто такой Рэнди Тредмилл или как его там? — спросил он затем у Майка.
— Это тот парень, с которым ты разговаривал о мистере Эбдусе. — Щелчок, мелодичная трель. — На корабле.
— А-а-а. Да, да, вспомнил. — Джаред снова нажал на кнопку. Я сообразил, по каким правилам они тут работают. Майк запоминал за Джареда все те вещи, которые когда-то, продвигаясь по карьерной лестнице, удерживал в памяти за кого-то еще сам Джаред. В один прекрасный день и у Майка должен был появиться кто-то, кому предстояло впитывать в себя всю информацию вместо него.
Джаред вернулся на диванчик и с довольным видом указал на меня пальцем.
— У вас сценарий, — мягко произнес он.
— Да.
— Любопытно. — Я видел, что о моем сценарии ему неизвестно ровным счетом ничего, и мог запросто соврать, что работаю над комедией о начинающем виброфонисте, принятом в «Бостон-Попс», или над триллером, где главный герой может убивать ультразвуковым свистом, в общем, рассказать любую чушь, над которой мог бы трудиться «пишущий о музыке».
— Я закрываю глаза, — проговорил Джаред. — Это значит — внимательно вас слушаю.
Я посмотрел на его смуглые веки, безукоризненный письменный стол и одинаковые, как близнецы, резиновые цветы-деревья.
— Итак, ваш сценарий?.. — произнес Джаред особым тоном, ясно давая понять, что хотя он внимательно меня слушает, это вовсе не говорит об отсутствии у него других дел.
— Мой сценарий основан на реальных событиях.
— Так.
— В Теннесси…
— Теннесси? — Джаред открыл глаза.
— Да.
— И что же случилось в Теннесси?
Я начал с главного.
— В пятидесятые годы в Теннесси существовала музыкальная группа «Арестанты». Они называли себя так, потому что действительно сидели, но это не помешало им сделать карьеру. Записывались ребята в «Сан Рекордс», в той же студии звукозаписи, которая открыла Элвиса Пресли. Название моего сценарий такое же — «Арестанты».
— Вам известно, что мои родители родом из Теннесси? — спросил Джаред таким тоном, будто речь шла не об американском штате, а о Крыме или Марсе. — Или это просто совпадение?
— Я не знал о ваших родителях.
— Понятно. Удивительно. Как, вы говорите, называется ваш сценарий?
— «Арестанты».
— Хорошо. Расскажите все по порядку.
— Конечно. — Мне посоветовали дать ему описание каждой сцены. — Начинается фильм с происходящего в тюрьме. Главный герой, Джонни Брэгг, пишет и поет песни. В заключении он провел много лет, попав за решетку шестнадцатилетним мальчишкой по сфабрикованному обвинению. Так вот, Джонни Брэгг и его приятель прохаживаются в дождливый день по тюремному двору. Один говорит другому: «Чем, интересно, занимаются сейчас девочки?» Джонни Брэгг затягивает печальную песню «Гуляя по дождю». Она-то и становится их первым хитом. Наверное, под эту музыку фильм и должен начаться.
— Это кое о чем мне напоминает.
— Наверное, о другой песне? «Пою в дождь»?
— Точно. Ее написал тот же парень?
— Нет, совсем другой.
— Итак, вы говорите, главного героя сажают в тюрьму по сфабрикованному обвинению. По какому именно?
— Речь о шести изнасилованиях. Виновного ждет заключение на девяносто девять лет без возможности досрочного освобождения.
— Ого!
— Джонни Брэгга, самонадеянного симпатичного парнишку, подставляют копы. Вешают на него несколько нераскрытых преступлений.
— Брэд Питт, Мэтью Макконахи.
— Ах да, я совсем забыл: они черные.
— Все музыканты — черные?
— Да.
— Ладно. — Джаред махнул рукой, неохотно прогоняя мысль о Брэде Питте. — Черные так черные. Как же ему удается выйти на волю?
— Никак. Точнее, потом он действительно освободится, но не в тот момент. Свою группу Джонни создает в тюрьме. «Арестанты». В том-то и вся соль, они сидят за решеткой. Их вывозят в студию звукозаписи и на концерты.
— Не совсем понимаю. Вывозят?
— Именно. «Арестанты» становятся настолько популярны, что губернатор штата не знает, как ему быть: освободить их или все-таки в назидание остальным держать в тюрьме. В конце концов всем ребятам из группы выходит помилование, но Брэгг остается в заключении. В невероятной истории этих музыкантов масса поразительных взлетов и падений.
— Вы смеетесь?
— Смеюсь?
— Мы не делаем фильмы о поразительных взлетах и падениях.
— Что, простите?
— Вы как будто шутите, честное слово.
Меня охватило неодолимое желание задушить Джареда.
— Если бы вы позволили мне закончить свой рассказ, уверен, сценарий заинтересовал бы вас.
— Дилан, он нам не подходит.
— Но… Я очень хочу, чтобы вы выслушали меня до конца.
— А вы мне нравитесь, мистер.
Я подождал, не добавит ли Джаред к этой фразе еще что-нибудь, затем сказал:
— Спасибо.
— У вас пять минут. — Джаред растопырил пальцы, показывая — «пять», откинулся на спинку дивана и вновь закрыл глаза.
— «Арестанты» — одно из наиболее ярких событий в истории поп-музыки, оставшихся неизвестным широкой публике, — сказал я. Продолжать рассказ получалось с трудом, но у меня не было выбора. — Пятидесятые годы, пятеро черных парней за решеткой, некоторых упекли на целый век, другие отбывают более короткие сроки, все пятеро — жертвы предрассудков и несправедливости Юга при Джиме Кроу. Пятеро заключенных создают группу из любви к музыке. Они поют настолько замечательно, что им устраивают прослушивание. Начальник тюрьмы выписывает всем пятерым особые пропуска, по которым те могут выйти за пределы тюрьмы, чтобы поехать в «Сан». 1953 год — время, когда возле той же звукозаписывающей студии крутится чудаковатый парень по имени Элвис Пресли. Но главный герой фильма не он, а Джонни Брэгг — ведущий солист «Арестантов». Когда ему было шестнадцать лет, его подружка в приступе ревности навела на Джонни копов, заявив, будто он ее изнасиловал. Полицейские повесили на него еще шесть преступлений, которые они не могли раскрыть. Целых шесть! Джонни Брэгга приговорили к шестистам годам заключения. — Почти всю информацию я взял из аннотации Колина Эскотта к компакт-диску «Арестантов», а кое-что выдумал, просиживая в размышлениях над вырезками из старых газет. Этого было вполне достаточно. Я все больше увлекался сценарием, все чаще и чаще возвращался к нему мыслями. — Рано утром по дороге в «Сан Рекордс» Брэгг выглядывает из окна автобуса, видит пустующий кинотеатр для автомобилистов и говорит: «Вы только посмотрите на это жуткое кладбище». Ему двадцать шесть, он просидел в тюрьме уже десять лет.
— Кошмар, — задумчиво заметил Джаред.
— И вот их записывают. Они создают сингл, на двух сторонах. Элвис Пресли в этот момент тоже на студии, совсем молодой. Они с Брэггом становятся друзьями. Между прочим, в действительности все так и было. Какого-нибудь актера эпизодическая роль Пресли могла бы просто осчастливить. Как Вэла Килмера, сыгравшего в «Таинственном поезде».
— Не смотрел.
— Не много потеряли. «Таинственный поезд» — фильм так себе. Но вернемся к «Арестантам». В общем, они записывают сингл и отправляются назад в тюрьму. Казалось бы, на этом история могла бы и закончиться, так? Могла бы, если бы песня «Гуляя по дождю» не превратилась в хит. Настоящий хит. Люди постоянно названивают в радиостудии, чтобы поставили эту песню еще и еще раз. А «Арестанты» ни о чем не подозревают, потому что у них в камерах нет радио. До тех пор, пока к ним не начинают приходить письма от совершенно незнакомых людей. Ребята становятся звездами, и это приводит начальство тюрьмы в полную растерянность. Они звонят губернатору, спрашивают совета, пытаются придумать, как быть.
Джаред кивнул, как мне показалось, одобрительно и чуть подался вперед, очевидно, представляя себе на ролях второго плана белых актеров — Джина Хэкмана, Мартина Ландау, Джеффри Раша.
— Начальство выбирает либеральный путь решения проблемы и объявляет «Арестантов» исключительным примером перерождения преступников. С этого момента парни получают право ездить на радиостудии для участия в записи музыкальных передач, давать концерты, продолжать записываться в «Сан». Публика требует освобождения своих кумиров, а сами «Арестанты» записывают песню, восхваляющую губернатора — «Фрэнк Клемент, человек всесильный», — прося помилования. Но мысль об освобождении музыкантов не всем приходится по душе. Те парни, которые упрятали Брэгга за решетку, само собой, не в восторге от этой идеи. Обстановка накаляется перед выборами, на которых губернатор мечтает одержать победу. Вопросы расового притеснения встают в этот период особенно остро.
— Я вспомнил о ККК.
— Да, конечно. Причем в пятидесятые годы в Теннесси куклуксклановцы действовали, уже не прячась под капюшонами. — В эти подробности, может, и не стоило вдаваться. Но я во что бы то ни стало хотел добиться своего, а некоторые факты могли сыграть мне на руку. Я страстно желал, чтобы Голливуд меня услышал. — Итак, на губернатора давят со всех сторон, он подает парням надежду, одобряет их творчество и подумывает о том, чтобы даровать им свободу — упоминает о них в своих радиовыступлениях, естественно, преследуя при этом и личные интересы. Его оппонент-республиканец тем временем работает в противоположном направлении: пытается убедить общественность втом, что освобождение «Арестантов» станет катастрофой. «Добропорядочные граждане Теннесси надеются, что не все находящиеся в тюрьме убийцы запоют в один прекрасный день», — с такими речами он обращается к избирателям.
— М-да. Что ж, мне нравится.
— Позвольте, я опишу вам одну сцену, по-моему, она главная в фильме. На концертах «Арестантов», разумеется, фотографировали. Они выходили на сцену — которую наверняка окружал конвой, — выступали и сразу же ехали назад в тюрьму. А у ребят жены, семьи — но общаться с кем бы то ни было они не имели права. Жаль, что я не захватил с собой эти фотографии, Джаред, если бы вы взглянули на них, сразу многое поняли бы. — Я старался изо всех сил, делая «Арестантов» все более реальными, описывая их пот, боль, любовь, вызывая их к жизни в этом кабинете, равно как и в скучающем мозгу Джареда. Мне страстно захотелось, чтобы они втиснулись в этот мирок, в котором ничто не задерживалось, я вдруг ощутил, что едва ли не создан для подобных миссий. — Их концерты напоминали выступление «Битлз» на стадионе «Ши». Или концерты Элвиса. Плачущие, рвущиеся вперед женщины. Не толпа девочек-подростков, а матери этих ребят, бабушки, тети, любимые с детьми на руках. Они сходят с ума, разрывают в клочья носовые платки, падают в обморок, а «Арестанты» поют. Их музыка настолько потрясающая, что сердца поклонников бьются, будто птицы в клетках. На выступлениях присутствует и та девица, что подставила Джонни Брэгга. Она стоит в толпе неистовствующих женщин и жалеет, что так обошлась с ним, она до сих пор в него влюблена.
— О господи.
— Это еще не все. Когда волна плача и стонов захлестывает публику, «Арестанты» тоже теряют контроль над собой. Они хотят продолжить петь, но не могут. От матерей и всех остальных женщин их отделяет совсем небольшое расстояние. Они тоже начинают плакать, опираются друг о друга, сжимая микрофоны, или опускаются на стулья. Любая попытка приблизиться к родным тут же пресекается охраной. Это как «Герника», Джаред. Такие кадры никогда не сотрутся из памяти.
— Я почти вижу это. — Мне показалось, Джаред потрясен вырисовавшейся перед его глазами картиной и собственным воображением.
— Не сомневаюсь. На чем мы остановились? А, да. Губернатор. Его заваливают письмами, ему уже кажется, что он скачет верхом на тигре, и зверь вот-вот сожрет наездника. Короче говоря, губернатор принимает решение освободить кое-кого из «Арестантов». Его оппоненты беснуются, но он поступает, как задумал, следуя совету своего хитроумного помощника. Тот говорит, что Джонни Брэгга нужно оставить в тюрьме. Брэгг отбывает немыслимо большой срок, пишет песни и выступает в роли ведущего вокалиста, он гений. Если группу расколоть таким образом, ее история скорее всего сразу же закончится.
— О нет!
— Это ужасно, но так оно и было. На волю выпустили четверых «Арестантов» — всех, кроме одного. Люди ждут, что и Брэгга скоро освободят, мечтают услышать его новые песни. Но счастливый конец — всегда редкость. Противники губернатора изводят его разного рода обвинениями, и дабы выдать себя за борца с криминалом, он в очередном обращении к избирателям подчеркивает, что намеренно оставил Брэгга за решеткой. Начальство тюрьмы моментально лишает певца всех привилегий. Его музыкальная карьера практически растоптана.
— Вот это да!
Действительно, вот это да. И откуда я только взял все это? Моим сценарием уже заинтересовался бы, наверное, сам Оливер Стоун.
— Но Брэгг не прекращает заниматься музыкой и создает новую группу «Мэригоулдз». Время идет, вытягивая из Брэгга жизнь. В пятьдесят шестом году Джонни Рэй выпускает пластинку «Гуляя по дождю», и Брэгг получает чек на четырнадцать тысяч долларов. Таких денег он никогда в жизни не видел. Потратить их на что-то нет возможности. «Мэригоулдз» записывают несколько песен на студии «Экселло Рекордс», но хитами не становится ни одна из них.
— Что это за название такое — «Мэригоулдз»?
— Это была пора цветочного бума. «Мэригоулдз» — бархатцы, «Клоуверз» — клевер, «Поузиз» — маленькие букетики. А несколько лет спустя в моду вошли жуки.
— Ага.
— Брэгга отпускают на свободу лишь в пятьдесят девятом — через шесть лет после выхода в радиоэфир первого хита «Арестантов». А спустя год его снова подставляют — обвиняют в ограблении и попытке убийства, хотя на самом деле он украл всего-то два с половиной доллара. Ужасно. Клевещут на него опять же белые женщины, заявляют, будто он хотел на них напасть. Брэгг притягивает к себе подобного рода обвинения, как магнит. Но речь идет о типичном расовом противостоянии. Просто этот парень ходит с чересчур независимым видом — белые не могут этого вынести. Его опять упекают за решетку — по-другому полиция поступить не в состоянии.
— Не знаю, понравится ли вам эта идея, но мне в роли Брэгга представляется Дензел Вашингтон.
— Слушайте дальше: в шестидесятом году Элвис Пресли возвращается домой после службы в армии и по пути заезжает в тюрьму повидаться с Брэггом. Только вообразите себе: тот самый восемнадцатилетний мальчишка, который бродил по «Сан Рекордс», прислушиваясь к музыке «Арестантов», теперь считается самым популярным певцом на всей планете. Он помнит Брэгга и до сих пор дорожит его дружбой. Заключенный афроамериканец и Король. Об этом становится известно прессе, но огласка имеет значение лишь для Элвиса. О Брэгге никто уже не говорит, «Арестантов» вспоминают с трудом. Элвис предлагает ему нанять опытного адвоката, но Брэгг говорит, что сам все уладит. Письменных подтверждений этого разговора нет, но Брэгг добивается встречи с начальником тюрьмы и заявляет, что, если его не отпустят на свободу максимум через девять месяцев, он подаст апелляцию в Верховный суд США.
Я сделал паузу.
— И?..
— Его продержали в заключении еще семь лет.
— Немыслимо.
— В шестидесятые Брэгг вновь создает группу под названием «Арестанты», принимая в нее и белого музыканта. Наступает эпоха интеграции. Остальным заключенным это приходится не по душе, и на светлокожего музыканта нападают во время прогулки во дворе. Выйдя на свободу, Брэгг женится на белой женщине. Копы останавливают его, когда он просто идет с женой по улице.
— Подождите, хорошо? Остановитесь. Больше ничего не говорите.
Я видел, что Джаред приходит во все большее волнение. Он вскочил с дивана и с выкаченными глазами пошел к столу.
— Что-то не так?
— Все в порядке, Дилан. Просто… Кому еще известны эти сведения?
— Вы первый, кому я выдаю их. — Я давно решил, что на подобный вопрос отвечу именно так. Еще раз повторять, что история «Арестантов» жаждет быть услышанной тридцать с лишним лет, не имело смысла. Я ничего не выдумал. Быть может, в каком-нибудь офисе другой автор перелистывал сейчас страницы произведения, основанного на этих же событиях.
Я набрался смелости и спросил:
— Вам понравилось?
— О чем вы говорите, Дилан! Ваш рассказ просто сногсшибателен. Только мне надо кое о чем подумать, не возражаете? Надо подумать. Сегодня пятница, да?
— Гм, да.
— Так. Это значит, что до понедельника я никого не смогу разыскать.
— Не совсем вас понимаю.
— Куда вы планируете направиться после нашей встречи?
Я решил, что не должен рассказывать Джареду о «Запретном конвенте».
— В отель.
— Это вы так шутите?
— Даже и не пытаюсь.
— Понимаете, какая-то часть моего «я» очень не хочет выпускать вас из этого офиса, пока мы не решим, как нам быть, пока я не получу от вас согласие встретиться со мной еще раз, гм… скажем, дня через четыре. Салфетку?
— Да, пожалуйста. — Рассказывая о несчастьях Джонни Брэгга, я прослезился. Интересно, многие ли из посетителей Джареда приходили в столь же сильное волнение? Не исключено, что все.
Джаред поставил коробку с салфетками на диван, вернулся к столу и наклонился к микрофону внутренней связи.
— Майк.
— Да?
— Майк, я только что услышал нечто грандиозное. Не зря я все время твержу: предсказать, что произойдет с нами завтра, просто невозможно. К тебе в офис входит знакомый какого-то твоего случайного знакомого, писатель по имени Дилан, и предлагает фантастический материал.
— Невероятно, — ответил Майк.
— Действительно невероятно.
— Здорово.
— Майк, мы должны немедленно найти агента для мистера Эбдуса.
— Будет сделано.
Джаред посмотрел на меня.
— Я тороплю события, Дилан, но имейте в виду: на заработанные на вашей истории деньги мы с вами обеспечим наших детей.
— Хорошо бы. — Я высморкался.
— Если я не сделаю этот фильм, просто удавлюсь.
— Насколько я понимаю, вы собираетесь им заняться?
— Вы все правильно понимаете, черт побери. — Джаред ликовал и по вполне понятным причинам. На горизонте обрисовались знаменательные события, и в самом центре их развития должен был оказаться именно он. — Я хотел бы получить от вас готовый сценарий.
— На бумаге я зафиксировал эту историю лишь частично, — солгал я.
— Но ведь я как-то должен рассказать о ней другим. Я не могу пойти к ним с пустыми руками. Нам нужно, чтобы все, вами рассказанное, было записано.
— Мне потребуется на это какое-то время.
— Может, вы вообще не приступали еще к написанию?
— Угадали.
— Плохо, Дилан, очень, очень плохо. Мне нужен этот сценарий прямо сейчас.
Система внутренней связи щелкнула.
— Джаред?
— Что?
— Я не нашел агента.
— Майк, я десять раз повторял тебе брать у людей контактные телефоны!
— Я и сам могу об этом позаботиться, — сказал я полушепотом, защищая Майка.
Джаред повернулся ко мне.
— Мы не в игры здесь играем, — сказал он.
— Я тоже. Давайте я сначала свяжусь со своим личным агентом, а? — Никакого агента у меня не было, более того, я не имел ни малейшего представления, где его искать. — Правда, он еще ничего не знает про этот сценарий.
— Если вы полагаете, что я выпущу вас отсюда со сценарием в голове, вы просто ненормальный. И не смотрите на меня так, Дилан. Это моя картина, у меня на подобные вещи чутье.
— Замечательно, — сказал я, вскидывая руки в попытке утихомирить безумие Джареда. — Мы оба сильно взволнованы. Просто скажите, что мне следует сделать.
— Позвоните своему агенту прямо отсюда.
— Что?
Джаред тоже поднял руки.
— Садитесь за мой стол. Обещаю, что не стану подслушивать — выйду в коридор. — Он сделал несколько шагов к двери. — Садитесь и звоните.
— Но я…
— Мой кабинет полностью в вашем распоряжении, дружище. Идите же. Садитесь за стол.
У меня не было выбора. Я прошел к столу и уселся в кресло. Джаред закрыл за собой дверь, но перед тем ткнул в меня пальцем и сказал:
— Передайте ему, я буду удерживать вас в заложниках, пока не получу гарантии.
— Ладно.
Когда он исчез, я набрал свой домашний номер и, естественно, нарвался на автоответчик. Эбби ушла в университет. Я нажал на рычаг, не оставив сообщения, достал записную книжку и позвонил Рандольфу Тредуэллу из «Уикли». К счастью, он был на месте.
— Спасай меня, — сказал я.
— Ты был на встрече?
— Я до сих пор на встрече. Он вышел из кабинета, чтобы я позвонил своему агенту, а у меня нет никакого агента. Я сижу за его столом.
— Очень интересно, — бесстрастным тоном произнес Рандольф.
— У Джареда всегда так… гм… скачет настроение?
— Я почти не знаю его. А что?
— По-моему, он вбил себе в голову, что нам обоим стоит завести детей. Чтобы засыпать их баксами.
— Таков большой бизнес, — невозмутимо проговорил Рандольф. — Если все складывается удачно, денег бывает целое море. Постарайся не упустить этот шанс.
— Спасибо за совет.
— Заедешь после встречи ко мне? Долго ты собираешься пробыть в Лос-Анджелесе?
— Я встречаюсь с отцом в Анахайме.
— В Анахайме? Что он там забыл?
В дверном проеме показалась голова Джареда.
— Мне пора, — сказал я Рандольфу и положил трубку.
— Чем все закончилось?
— Прощу прощения?
— Я пытался кратко пересказать сценарий Майку — про черных ребят, про тюрьму, про Элвиса. И не могу вспомнить, говорили вы, чем все закончилось, или нет.
— По-моему… нет, — осторожно ответил я.
— И?..
— Гм… Полагаю, Джонни Брэгг попадал в тюрьму и выходил на волю еще пару раз. Но музыку не бросал. Хотя хитов у него больше не получалось.
— А «Арестанты»?
— Они, наверное, умерли.
— Может, придумаем «великое возрождение»?
Я пожал плечами — почему бы и нет? Я и так уже сильно переврал историю Джонни Брэгга. Возрождение ничего не добавило бы. Даже великое.
— И что насчет Элвиса? Его роль в фильме очень важна. Особенно тот момент, когда он приезжает в тюрьму. Вы даже заплакали, когда об этом рассказывали. Помните?
Может, Элвису следовало вмазать начальнику тюрьмы по физиономии, а потом лично освободить Брэгга? Или пусть их обоих, Брэгга и Пресли, закуют в кандалы и отправят куданибудь на каменоломни. Там их совместное пение зазвучало бы просто изумительно.
— Окончание этой истории не особенно интересное, — сказал я. — Она просто продолжается. Но место действия для финальной сцены мы с вами наверняка могли бы придумать исключительное. Может, это будут тюремные ворота. Джонни Брэгг проходит через них в последний раз. Свободный человек.
— Окончание должно быть обнадеживающим.
— Так и сделаем.
— Атех парней, которые на самом деле все это совершили, поймали?
— Что совершили?
— Ну, убивали всех этих женщин.
— Об убитых женщинах я не сказал ни слова. А что касается изнасилований… Нет, никаких громких раскрытий преступлений и разоблачений в фильме не должно быть. Брэгг просто становится старым, поэтому его оставляют в покое.
— Сколько ему лет?
Я задумался.
— Не исключено, что он еще не умер.
Когда девять лет назад Колин Эскот писал аннотацию к диску, Джонни Брэгг был еще жив и давал интервью. Его байки и составили половину моего рассказа. Я несколько лет мечтал съездить в Мемфис и лично с ним побеседовать, но постоянно откладывал это дело, работая над другими проектами, за которые получал деньги от контор, подобных «Дримуоркс». По крайней мере так я себя оправдывал.
— Не умер?
— Вероятно.
— Вероятно?
Да! Не умер! Вероятно! — захотелось мне проорать.
— Ему сейчас семьдесят с лишним.
— А точных данных у вас нет?
— Я все выясню.
— Это серьезная проблема, Дилан. — Джаред провел по волосам рукой и нахмурился, непонятно о чем тревожась. — Можно мне вернуться за стол?
— Так как мы договоримся? — спросил я, пустив его в кресло.
Продолжая хмуриться, Джаред сел, положил ногу на ногу, потер пальцами переносицу, затем подбородок. Казалось, он трезвеет после попойки или остывает от оргазма, или приходит в себя, покурив крэк. Я задумался, как часто с ним случается подобное.
— Вы пришли ко мне и поведали историю еще живого человека, — произнес Джаред с чувством глубокого сожаления. — Для ее экранизации нам потребуется приобрести права, заключить соответствующие договора. Мы можем столкнуться с массой проблем.
— А вдруг Брэгг мечтает, чтобы о нем все узнали? — предположил я.
— Да, это не исключено. Но меня смущает окончание, Дилан. Что-то в нем не то.
Он сказал об этом так, будто только что просмотрел уже отснятый и смонтированный фильм и остался недоволен. Будто нам сейчас следовало лишь довести дело до конца и понести неизбежные убытки.
— Все слишком неконкретно: он выходит на свободу, опять возвращается в тюрьму, его группа так и не возрождается. И потом, я думал, та женщина появится еще в каком-нибудь эпизоде — которая плакала в толпе.
Ужасно, но я почувствовал, что Джаред прав.
— Может, закончить фильм пораньше? Например, после первого освобождения Брэгга?
— Сомневаюсь, что это изменит что-либо.
— Ну ладно, — пробормотал я беспомощно.
— Слушайте, я никому не стану рассказывать об этом сценарии, пока мы его не причешем, не сделаем из него конфетку, идеальное попадание мяча в корзину. Давайте вместе подумаем, как нам быть с концовкой, договорились? Я понесу этот сценарий к руководству только тогда, когда он станет безукоризненным.
— Понимаю.
— Вы поговорили со своим агентом?
— Э-э… гм… Он сказал примерно то же, что и вы.
— Неудивительно. Агенты разбираются в подобных вещах.
— И… — Я совсем растерялся. — Что же дальше?
— Все зависит от ваших дальнейших действий. Они определят судьбу сценария.
— Гм… Хорошо.
— Я верю в вас, мистер Эбдус.
— Спасибо.
— По сути, нет ничего страшного в том, что осуществление нашего плана ненадолго отложится. Всему свое время.
— Да.
— Вы на машине? Я бы хотел заняться своими делами.
— Мне надо позвонить…
— Конечно, конечно, но, пожалуйста, от Майка.
Я вышел в соседнюю комнату, протянул Майку визитку Николаса Броли и попросил набрать номер.
— Джаред потрясен, — прошептал Майк, округлив глаза.
— Надеюсь, он скоро придет в норму.
Я прождал на автостоянке с рюкзаком в руке минут, наверное, пятнадцать, пока не подъехал Николас Броли. Человека с «Оскаром» я больше не видел. Радио в такси было настроено все на ту же волну, и, когда я сел на заднее сиденье, зазвучала ненавистная мне с детства песня «Уайлд Черри» «Сыграй фанки». Но нынешний тридцатипятилетний рок-критик давно знал то, о чем тринадцатилетний подросток — жалкая жертва притиснений во дворе школой № 293 — и понятия не имел: «Уайлд Черри» были группой белых парней. Песня, ставшая настоящим обвинительным актом всего моего подросткового существования, оказалась не чем иным, как печальной пародией рок-певцов со Среднего Запада на самих же себя. Догадавшись об этом однажды, я не раз задавался потом вопросом: было бы мне легче тогда, в тринадцать лет, если бы я знал историю этой песни с самого начала? Быть может, нет. Ведь даже с опозданием открывшуюся мне истину я не воспринял как утешение: с меня точно сорвали украденную или взятую взаймы одежду, лишив возможности сострадать самому себе. Хотя сострадать не было причин. Смешно.
Глава 3
Авраам и Франческа стояли в фойе отеля «Марриотт», неподвижные как статуи. Вокруг них толпился народ: облаченные в бесформенные темные одежды люди, похожие на путешественников, занятых получением багажа. Все куда-то шли, то тут, то там собирались группки из четырех-пяти человек, люди обнимались, разворачивали смятые программки или передавали друг другу какие-то мелочи, что-то вроде значков или ленточек. Кто-то на ходу поглощал бутерброды, облизывая жирные пальцы. Многие были в очках и шляпах, кое-кто натянул футболки с надписями «СВЕРХЧЕЛОВЕК, ПРИНЕСИ СЕБЯ В ЖЕРТВУ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ» или «КОГДА-ТО Я БЫЛ МИЛЛИОНЕРОМ, НО МАМА ВЫБРОСИЛА МОЮ КОЛЛЕКЦИЮ КОМИКСОВ». Криво висящие на стенах и стеклянных дверях объявления сообщали, где проводится то или иное мероприятие. Отдельные оживленные голоса тонули во всеобщем гуле, безумном смехе и громких возгласах — так кричат, встречаясь после долгой разлуки. На ламинированных бэйджах, прикрепленных к груди каждого, значилось имя и занятие. Это и был тот самый «Запретный конвент-7». Мне оставалось лишь выяснить, что конкретно он собой представляет, хотя, с другой стороны, может, и не стоило ломать над этим голову.
Первой меня увидела Франческа.
— А вот и Дилан! — крикнула она. Авраам кивнул, и они стали пробираться ко мне. Я прибавил шагу, чтобы им не толкаться в толпе.
— Ты опоздал! — воскликнула Франческа. — Еще немного, и мы пропустим самое главное.
Я пообещал, что приеду в три, а было почти четыре. Николас Броли покачал головой, когда я сказал, куда меня следует отвезти.
— Лучше бы вы взяли машину напрокат, — ответил он. Когда мы добрались до окраины Голливуда, я понял, в чем дело: на счетчике высвечивалось уже сто четырнадцать долларов.
Однако, входя в отель, в котором собрались фантасты, я подумал вдруг, что на фоне моего невероятного перемещения из офиса Джареда Ортмана на «Запретный конвент» деньги, отданные Броли, — это обыденная чепуха.
— Дилан, — сказал отец. Мы обнялись, и я услышал, как из его груди вырвался вздох. Потом я наклонился к Франческе, не успев сообразить, какую часть физиономии подставить ей для поцелуя. Она чмокнула меня куда-то между носом и верхней губой, наградив свекольно-багровыми усами. Я стер их пальцем.
— Простите, что опоздал.
Бэйдж Франчески был без лишних украшений, на отцовском болталась пурпурная ленточка с надписью «ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ».
— Авраама ждут в зеленой комнате, — сообщила Франческа.
— Показывай, куда идти, — ответил я.
— Это весь твой багаж? — спросил Авраам, разочарованно глядя на мой рюкзак. — Надеюсь, ты останешься на ночь?
— Конечно.
— Номер для тебя уже есть, — сказала Франческа. — Зелмо обо всем позаботился. — Она раскрыла сумочку и принялась что-то искать. Мы направились в сторону коридора. — Вот, возьми. Этот ключ от мини-бара в номере. Что-то вроде кредитной карты.
— Сегодня напьюсь, — пошутил я, беря ключ.
— У тебя не будет на это времени, — ответила Франческа. — Зелмо Свифт из оргкомитета пригласил нас на ужин. — Она сделала большие глаза, давая понять, насколько огромная честь нам оказана.
— Он знает, что ты тоже будешь, — добавил Авраам. — И не возражает.
— Не глупи, дорогой, — сказала Франческа. — Ты почетный гость, естественно, имеешь право пригласить и свою семью.
— Я должен был предупредить, ведь ему нужно знать, сколько человек соберется на ужин. — Авраам повернулся ко мне. — Если все пойдет как задумано, мы пообщаемся с довольно интересными людьми. Я намерен воспользоваться этим шансом. Тебя устраивает такой план действий?
— Устраивает ли его план? — переспросила Франческа. — Конечно, еще как!
После того как я уехал учиться в Вермонт, отец четырнадцать лет прожил на Дин-стрит в одиночестве. За все это время в его жизни практически ничего не изменилось: он продолжал рисовать картинки для книжных обложек, чтобы обеспечивать себя, и тратил все свободное время, все остававшиеся силы на создание своего эпического, бесконечного фильма, который никому не показывал. В 1989 году Авраам наконец понял, что жить в одиночестве в трехэтажном доме нелепо, и, превратив одну из комнат на верхнем этаже в небольшую кухоньку, нижний он сдал молодому семейству. В студии все оставалось как прежде — он, подобно монаху, запирался в ней и отдавал всего себя кисточкам, краскам и целлулоиду. Соседское окружение на Дин-стрит мало-помалу сменилось людьми во всех смыслах более порядочными — наконец-то дали плоды усилия Изабеллы Вендль. Но для Авраама это означало лишь возможность повысить арендную плату, хотя он никогда не выяснял цены на сдаваемое внаем жилье и договаривался об оплате с квартиросъемщиками исключительно в устной форме.
После ухода Рейчел у него не было других женщин. Если он и знал, каким образом устраивается личная жизнь, то применить свои знания на практике не умел или не хотел. До тех пор пока в один прекрасный день его не заприметила Франческа Кассини — пятидесятивосьмилетняя секретарша из издательства «Баллантайн Букс». Человек с неуклюжей походкой, с черной картонной папкой, в которой он приносил свои работы, одетый в скромный костюм, сохранившийся со времен Художественной студенческой лиги, с остатками краски на пальцах и саркастическим взглядом на жизнь, он приглянулся недавно овдовевшей женщине из Бэй-Ридж. Франческа Кассини, несмотря на свое эмигрантское имя, всю жизнь прожила в окружении нью-йоркских евреев послевоенного поколения, потому и разговаривала в их манере и без труда узнавала их собратьев среди тысяч других жителей города. Ее муж-еврей, умерший за шесть месяцев до того, был преуспевающим бухгалтером и — по моим представлениям — любил столбики цифр так же исступленно, как мой отец — свой до сих пор не завершенный фильм. Знаменитый творец книжных обложек, предмет тайных коридорных подшучиваний наконец-то попал в ловушку. Франческа заявила о себе в полный голос. Она просто прилепилась к нему. Однажды зимой я приехал к отцу в гости и обнаружил, что она живет в нашем доме на Дин-стрит. Я не возражал. Франческа в некотором смысле даже осчастливила отца: заставила на собственном контрастном фоне разглядеть самого себя.
Зеленая комната располагалась в небольшом конференц-зале на первом этаже. У входа дежурил волонтер, в обязанности которого входило не пускать посторонних. Франческа, задыхаясь, объяснила ему, что мы — сопровождающие лица почетного гостя, и нам позволили войти в святилище. На столе посередине комнаты стояли кофейник, чайник и пластмассовое блюдо с кубиками чеддера и крекерами. Рядом с коробкой, наполненной пустыми бэйджами и пластмассовыми прищепками для них, сидели еще два волонтера. Франческа потребовала «пропуск» для сына Авраама Эбдуса и через минуту прикрепила бэйдж к карману моей рубашки.
Я не вполне понимал, зачем мы сюда явились. Отец в растерянности стоял посреди комнаты, а Франческа отошла в сторону.
— Мистер Эбдус? — обратился к Аврааму один из волонтеров.
— Да?
— Участники вашей творческой встречи поднялись наверх. Она уже должна была начаться.
— Без него? — встревожилась Франческа.
— В зале Небраски. Западном.
Мы торопливо вышли и направились к широкой центральной лестнице.
— Я ведь говорил, надо сразу подниматься наверх, — сказал Авраам Франческе.
— А Зелмо говорил — увидимся в зеленой комнате.
Авраам лишь покачал головой.
Люди передвигались по отелю как будто без всякой цели, а затем вдруг куда-то устремлялись, прибавляя шаг. Если кто-то оказывался на чьем-нибудь пути, на него смотрели с укоризной и что-то бормотали под нос, очевидно, ожидая слов извинения. Через это неспокойное человеческое море мы наконец пробрались к Западному залу Небраски. На двери красовалась табличка, не требующая комментариев: «Творческий путь Авраама Эбдуса». Я подумал, наверное, никаких объяснений и впрямь не требуется, по крайней мере до конца этого мероприятия.
Мы вошли и очутились в самом конце просторного зала. У противоположной стены за столом с запотевшими графинами ледяной воды сидели четыре человека. Стол был накрыт красно-коричневым полотном, гармонировавшим по цвету с обивкой стен и складных стульев, поставленных в несколько рядов. В зале сидело человек пятьдесят—шестьдесят — сосредоточенных, закинувших ногу на ногу, почесывающих висок или покашливающих, теребящих в руках программки.
— Как замечательно, что почетный Авраам наконец осчастливил нас своим появлением, — с добродушным сарказмом сказал в микрофон один из сидящих за столом.
Публика отреагировала на его слова смехом и аплодисментами.
— Поднимись к ним, — подсказала отцу Франческа.
Мы с ней сели на свободные места в переднем ряду. В волнении она схватила меня за руку.
Остряк, сообщивший аудитории о нашем появлении, был лысеющим типом лет шестидесяти в кричаще ярком синем галстуке. Он назвался Сидни Блумлайном. Когда-то этот человек занимал должность художественного редактора в «Баллантайн». Открыл Авраама не Блумлайн, но именно он был главным работодателем и покровителем отца на протяжении первого, решающего, десятилетия его творчества.
— Кроме того, я выступал и в роли его защитника, — продолжал Блумлайн. — И с гордостью могу заявить, что благодаря мне дюжину, а то и две дюжины раз его творения были спасены от грубого редакторского вмешательства. А еще я уговорил Авраама не отказываться от первой премии «Хьюго». — Публика благодушно рассмеялась. — Признаюсь откровенно, для меня все это — большая честь.
Представились и остальные сидящие за столом. Бадди Грин, часто моргающий человек в очках с толстыми линзами, лет восемнадцати-девятнадцати — редактор сетевого журнала «Коллекция Эбдуса», посвященного работам моего отца. Я пару раз натыкался на этот сайт, когда вбивал в поле поиска собственную фамилию, ища в сети свои статьи. Третьим был Р. Фред Вандейн, крошечный морщинистый человек с вандейковской бородкой и в очках безумного ученого, автор двадцати восьми фантастических романов, в том числе «Волнующего цирка» — первой книги, для которой отец оформил обложку. Четвертым представился Поль Пфлюг, еще один художник лет пятидесяти, похожий на байкера. Его полные ноги обтягивали кожаные штаны, длинные светлые волосы были собраны сзади в хвост, а глаза скрывали солнечные очки с большими стеклами. Пфлюг сидел сбоку, между ним и Вандейном оставался свободный стул.
Рассказы и шуточки всех этих людей не представляли для меня особого интереса, поэтому большую часть времени я изучал отца и следил за его реакцией на происходящее. Не помню, чтобы когда-либо прежде я видел Авраама на сцене, в центре всеобщего внимания. Мне казалось, ему жутко неловко, как будто его выставили перед толпой голым, — наверное, именно из-за своей стеснительности он всю жизнь избегал подобных мероприятий. Грин был многословен, когда противно-плаксивым голосом провозглашал Эбдуса преемником таких иллюстраторов научно-фантастических книг, как Верджил Финлэй и Ричард Пауэрс, — мне эти имена абсолютно ни о чем не говорили, но Аврааму, хоть и тушевавшемуся, речи Грина, по всей вероятности, доставили удовольствие. Вандейн выступал с чувством уязвленного самолюбия — наверное, он с большим удовольствием поразглагольствовал бы на встрече «Творческий путь Вандеи на». Говорил о глубокомысленном и оригинальном видении Авраамом сюрреалистической природы его, вандейновского, мира. Когда очередь дошла до Пфлюга, тот мрачно вспомнил о том, как встречался с моим отцом в самом начале его карьеры, похвалил серьезность Авраама, его уважение к традициям и поблагодарил за то, что в один прекрасный день он помог ему, Пфлюгу, начать двигаться в своем творчестве по совсем иному пути.
Авраам не произносил ни слова, только кивал, когда очередной приглашенный брал в руки микрофон. Ясно чувствовалось, что к Пфлюгу и Вандейну он питает неприязнь. Пфлюга, казалось, не выносит никто из сидящих за столом. Странно, что его вообще пригласили на встречу.
— Эту историю я рассказывал уже неоднократно, — сказал Бадди Грин. — Но повторю и теперь. Как-то раз я занялся поисками оригиналов первых семнадцати работ Авраама Эбдуса, созданных для книг «Белмонт Спешиалс». Их не оказалось ни у известных коллекционеров, ни у начинающих. Я обзвонил всех сотрудников «Белмонт» и, ничего не добившись, решил, что меня просто-напросто дурачат. Неожиданно мне в голову пришла идея позвонить самому Аврааму и спросить об этих исчезнувших оригиналах. Он ответил, что уничтожил их, причем таким тоном, будто речь шла о чем-то несущественном. Ему казалось, эти оригиналы никому больше не нужны.
Авраам обвел взглядом аудиторию — разыскивая меня, как я предположил. Интересно, как он воспринял эти слова — «первые семнадцать работ».
— Верно, — подтвердил Сидни Блумлайн с благодушием покровителя. — Авраам систематически выбрасывал свои оригиналы, и вначале, и когда перешел из «Белмонт» к нам.
По рядам слушателей прокатилась волна ахов и охов.
— Твой отец уважает только этого человека, — прошептала мне Франческа. — Больше никого. Даже Зелмо.
— Зелмо?
— Он в оргкомитете, влиятельный юрист. Я имею в виду, никого из тех, кто приехал на этот «Конвент». А с Зелмо ты познакомишься за ужином.
— Угу.
Микрофон опять передали Блумлайну — единственному, по словам Франчески, другу Авраама из всех, кто присутствовал здесь. Как ведущий этой творческой встречи Блумлайн взвалил на себя нелегкую задачу — попытаться разговорить этого молчуна, заставить наконец Авраама Эбдуса примириться со своими почитателями, повернуться к ним лицом.
— Авраам радует нас своими работами вот уже два десятка лет, именно так — радует. Все созданные им иллюстрации исключительны. Сегодня мне хотелось бы раскрыть его секрет: к созданию книжных обложек он пришел почти случайно. Основное занятие Авраама никак не связано с научной фантастикой, в этом его существенное отличие от большинства профессионалов, собравшихся на нашем конвенте, мастеров, съезжающихся на любую подобную встречу. Авраам не из тех, кто пришел в мир фантастики как все мы: увлекшись ею в юности после прочтения рассказа в популярном журнале.
Пфлюг ухмыльнулся. Вандейн наполнил стакан водой из графина. Аудитория притихла. Никто не переговаривался и не издавал одобрительных возгласов.
— Но не будем тешить себя глупыми иллюзиями: Авраам Эбдус пришел в фантастику вовсе не для того, чтобы повысить ее уровень. Он занялся иллюстрированием фантастических книг на благо своего основного дела. Вероятно, кое-кому из вас известно, а может, об этом знают даже многие: Авраам Эбдус — создатель фильма, экспериментатор, который подходит к своей работе крайне серьезно и посвящает ей всего себя. Вот так он проводит практически все свободное от создания книжных обложек время. Его фильм не научно-фантастический. Однако, будучи истинным художником, обладая способностью рассмотреть глубинный смысл фантастики, он неосознанно все-таки повысил ее уровень. Его творения отличают красота и непостижимость. Таков наш Авраам.
Я понял, насколько хорошо Сидни Блумлайн знает моего отца. Своим выступлением он попытался связать невидимой нитью Авраама и тех, кто пришел сюда увидеть его, постарался убедить отца в том, что эти люди заслуживают права быть принятыми им. Но я не был уверен, хочется мне, чтобы его план сработал.
— Насколько я помню, Авраам, это твой пятый или шестой конвент, так?
Отец ссутулился, будто намеревался ответить плечами. Но все же наклонился к микрофону и произнес:
— Я не считал.
— По-моему, впервые мне удалось вытянуть тебя на «Лунакон» в Нью-Йорке, в начале восьмидесятых. Ты приехал туда в весьма дурном расположении духа.
— Я не любитель подобных мероприятий, — нехотя признался Авраам.
В зале раздались смешки.
— Может, ты наконец раскроешь публике и другой твой секрет? Скажешь, что книги, которые иллюстрируешь, прочитываешь крайне редко, если вообще никогда?
Аудитория ахнула.
— Я никогда их не читаю, — ответил Авраам. — И отнюдь не извиняюсь сейчас за это. Возьмем, к примеру, первую книгу мистера Вандейна. Как, простите, она называлась?
— «Волнующий цирк», — процедил Р. Фред Вандейн сквозь стиснутые зубы — почти без гласных.
— Ах да. «Волнующий цирк». Меня это название задевало, царапало. Оно казалось мне — я прошу прощения — каким-то отталкивающим. Передо мной ставят задачу: изобразить на бумаге иные миры. И я изображаю их. Если мои иллюстрации совпадают с содержанием книги, это чистая случайность.
Я прочел когда-то «Волнующий цирк», и сейчас мне вспомнилась куча роботов, обитающих в полом астероиде.
На выручку скукожившемуся Вандейну пришел Блумлайн, поспешив сменить тему:
— Авраам настолько эрудирован и обладает таким редким природным чутьем, что за какую бы работу он ни взялся, выполняет ее блестяще. В нашей области этот человек — комета, которую мы ухитрились затянуть на свою орбиту. Попутчик — как Стенли Кубрик или Станислав Лем. Он презирает наш лексикон, невольно обновляя его по велению души.
— Я вынужден перебить тебя, Сидни, потому что ты переоцениваешь мои заслуги. — Авраам сильно разволновался. — Ты ставишь меня в один ряд с такими людьми, как Кубрик, Лем, а мистер Грин, дай бог ему здоровья, сравнил с Финлэем, с которым я, к сожалению, ни разу в жизни не встречался. Позвольте мне назвать несколько других имен. Эрнст, Танги, Матта, Кандинский. Возможно, ранние Поллок и Ротко. Единственная моя заслуга — это получение образования в сфере современной живописи, точнее, современной в пятидесятые годы. Я всего лишь уяснил для себя и прочувствовал, что такое поздний сюрреализм и зарождавшийся тогда абстрактный экспрессионизм. В тот период властвовали они. Каждый мазок, который я наношу сейчас кистью на бумагу, — производное от них, фактически цитата. К космосу все это не имеет никакого отношения. Ни малейшего. Если бы вы ходили в музеи, а не сидели в скорлупе быта, то поняли бы, что чествуете сейчас второсортного вора.
— Почему же ты все-таки занялся поп-артом? — спросил Блумлайн.
— Ради бога, Сидни! Когда я начал иллюстрировать книжные обложки, ничего, кроме поп-арта, уже не существовало.
Блумлайн и Эбдус теперь словно разыгрывали эстрадное представление, остальные же сидящие за столом, казалось, попали туда по ошибке. Публика все принимала молча.
— Несмотря ни на что, ты здесь, Авраам, среди нас. «Лунакон» не пришелся тебе по вкусу, но ты продолжал оформлять книги, делиться с нами своим талантом. Сегодня ты — наш почетный гость.
— Насколько я понимаю, ты ждешь от меня объяснения. Оно тебе вряд ли понравится. Признаюсь честно, если бы я обладал более твердым характером, то не приехал бы на нынешний конвент. Но меня соблазнила перспектива быть восхваленным, поэтому я приехал. О том, что я работаю над фильмом, вряд ли кому-то еще известно. Точнее, не известно никому. Вы все слишком добры ко мне, чересчур добры. Я благодарен вам. А объяснение — оно даже не одно, их несколько. Например, такое: моей подруге, Франческе, захотелось куда-нибудь съездить.
— Но ты хотя бы чувствуешь себя здесь своим человеком, пусть даже с недостатками, которые видишь только ты?
Авраам пожал плечами.
— Здесь собрался богемный полусвет. В области так называемого экспериментального кино тоже проводятся встречи и конференции, но я никогда на них не езжу. Некоторым людям кажется, что такие мероприятия помогают им профессионально расти. Однако работа, настоящая работа, естественно, идет вдали от всех этих сборищ. Подобные встречи — по сути, случайности, и далеко не всегда счастливые. Меня искренне удивляет, что вы собрались сегодня здесь, чтобы чествовать человека, который ничего особенного собой не представляет. Мне хотелось бы вывести вас из состояния очарованности, в котором вы пребываете, но я не уверен, что смогу с этим справиться.
Публика одобрительно засмеялась и захлопала в ладоши. Я услышал, как женщина, сидящая рядом, восхищенно прошептала:
— Он всегда такой.
— Мне даже немного стыдно, — сказал отец.
Все зааплодировали с удвоенной силой. Бадди Грин вскочил со своего места и хлопал стоя. Лишь Пфлюг не разделял общего восторга и ерзал на стуле.
— Я растратил свою жизнь впустую.
Это была последняя фраза отца, которую я услышал, — все остальные его слова утонули в море бурных оваций. Авраам страдал, находясь в центре внимания. Внимания богемного полусвета, так он назвал людей, которые сейчас его окружали. Они воспринимали отца как прирученного ересиарха, известного пессимиста. То, как он выставлял напоказ собственную несостоятельность, лишь заводило толпу, мне показалось, они все даже ждали этого ключевого момента. Мирясь с презрением к ним их кумира, как собака — с необходимостью терпеть поводок, эти люди, по-видимому, считали, что просто обладают хорошим чувством юмора и умеют посмеяться над самими собой, собственными недостатками.
Но несмотря ни на что, во взгляде Авраама я уловил проблески ответной любви, скрыть ее он был не в силах. Мне вспомнились слова моего тезки из «Колоколов свободы»: «Они звонят по страдающим, неизлечимым, несправедливо обвиненным, обиженным, легкоранимым, по каждому несчастному на всей земле». Естественно, я не раз бывал на сборищах рок-критиков, диджеев университетского радио, ездил на музыкальный марафон, организованный «Колледж Мьюзик Джорнал», на конференции и просто тусовки, где кого-то точно так же восхваляли и возносили, как сейчас — моего отца. Только одеты там люди были по-другому. Сейчас мне представился целый мир, сплетенный из таких вот встреч и разного рода «конов», где ощущение собственной неполноценности и ненависть к себе легко превращаются в свою противоположность.
Творческая встреча приблизилась к концу. К столу подошел и сел рядом с Сидни Блумлайном еще какой-то человек. Призывая к тишине, он постучал пальцем по микрофону. Одет этот тип был так же странно, как все вокруг, но по-особому странно. Его рубашка в светло-голубую полоску с белоснежным воротничком, красный галстук-бабочка, аккуратные усики и прилизанные волосы — все в нем напоминало облик сенатора-республиканца, занявшего столь высокий пост благодаря ловко провернутой избирательной кампании. У него был чрезвычайно громкий голос.
— Мне впервые выдается шанс лично поприветствовать всех собравшихся на конвенте, — прогремел он. — С чего бы мне начать? Наверное, с радостного известия, о котором по своей скромности мистер Эбдус не упомянул сам. Завтра в десять часов утра нам предоставляется счастливая возможность частично увидеть его фильм. Всех приглашаю завтра в зал Вайоминга. Не упустите этот шанс!
— Вот этот, — прошептала Франческа, теребя меня за руку. — Он от твоего отца просто без ума.
Это ты от него без ума, подумал я, но промолчал. От тебя исходят невидимые лучи, поэтому ты везде и во всем видишь свою любовь к отцу.
Окутанный облаком парфюма и эмоций Франчески, я рассматривал человека в галстуке-бабочке, продолжавшего громко говорить в микрофон, и размышлял о том, почему она вдруг так разволновалась.
— Перед вами, дамы и господа, еще один большой друг и помощник нашего уважаемого почетного гостя!
Вот при каких обстоятельствах я впервые увидел Зелмо из оргкомитета — человека, о котором так много говорила Франческа.
Глава 4
Ресторан «Бонджорно» был ужасен, но, наверное, и не догадывался об этом. Клиентам все здесь преподносилось с агрессивной напыщенностью, будто вам самим не хватало сообразительности и без подсказок вы не оценили бы по достоинству ни чесночный хлеб, ни индивидуальные вазочки для оливковых косточек, ни накрахмаленные салфетки в бокалах, ни отчетливое произношение официанта, зачитавшего для вас многочисленные названия фирменных блюд. Зелмо Свифт взялся лично заказывать вина: обратился к каждому из присутствующих и удостоверился, что выбрал именно то, чего желает гость.
— Этот ужин дарю вам лично я, а не «Запретный конвент», — подчеркнул он. — Все остальные пусть довольствуются кошмарной гостиничной едой. Уж я-то знаю, чем там могут накормить, потому всегда стараюсь хотя бы раз сводить своих друзей в заведение поприличнее.
— Очень мило, — сказал я, чтобы хоть как-то отреагировать.
За столом Зелмо говорил так же оглушительно. Его голос звучал, как раскаты грома, потрясая всех присутствующих. При этом Зелмо мастерски умел оборвать речь, когда кто-нибудь подзадоривал его обычными «Шутишь?» или «Ну, ты даешь!». В такие моменты его лицо, да и весь облик говорили о том, как хочется ему продолжить свой спич.
— Ужин и дружеская беседа! — провозгласил он. — Вот она, настоящая жизнь. А в отеле остались одни мумии. Да благословит их Господь.
«Не ты ли предводитель этих мумий?» — мелькнуло у меня в мыслях. Однако я понимал, что наш ужин при свечах задуман только для того, чтобы подчеркнуть заслугу Зелмо в организации конвента.
— Я выбрал этот ресторан, в частности, еще и потому, что подумал: мадам Кассини непременно оценит по достоинству лучшую на всем калифорнийском юге итальянскую кухню.
В глазах Франчески, сидевшей справа от Зелмо, блеснули шаловливые огоньки. Я нисколько не сомневался в том, что итальянское происхождение позволяет ей лишь проводить различие между несколькими видами пиццы в пиццериях на окраине Бруклина. Был уверен также и в том, что этот ресторан далеко не лучший на калифорнийском юге. А может, даже и в Анахайме.
Одеяние Зелмо и манера держаться искусно маскировали его возраст. По всей вероятности, ему, как мне или Джареду Ортману, было лет тридцать — тридцать пять. Во второй уже раз за этот бесконечный день я пришел к выводу, что своим поведением и внешним видом сильно отличаюсь от своих всеми уважаемых ровесников — представителей других профессий. Я больше походил не на взрослого, состоявшегося человека, а на служащего автозаправки или вообще бомжа. По неряшливости моей одежды нетрудно было догадаться, что я вырос совсем не в той среде, в которой воспитываются Джареды и Зелмо, а допотопные очки в металлической оправе красноречиво говорили о том, что на контактные линзы у меня просто не хватает денег. В Лос-Анджелесе моя непрезентабельность напоминала о себе на каждом углу. В Беркли же, до сих пор нежившемся в мечтательности шестидесятых, я никогда не задумывался о своей наружности.
Принесли вино, и Зелмо тут же его попробовал.
— Превосходно! Вам точно должно понравиться, — обратился он ко мне. Очевидно, с надеждой молча просидеть весь ужин в качестве просто сына почетного гостя надо было распрощаться. Я должен был поддерживать светскую беседу с этим говоруном.
Отец сидел слева от меня, от Зелмо его отделяла Франческа. Между мной и хозяином вечера расположилась его подруга Лесли Каннингем. В своем сером костюме она очень походила на актрису, игравшую в одном телешоу девушку — начинающего юриста и, как позднее объявил Зелмо, действительно была начинающим юристом — работала в его фирме. Я не утруждал себя гаданиями о том, что скрывается под этим идеально сидящем на ней серым костюмом; подружка Зелмо меня не интересовала. Я подумал, что в Беркли на такую даже не посмотрел бы. Она выглядела как обыкновенная банковская служащая или офис-менеджер — была типичной тривиально-модной калифорнийской блондинкой. Меня абсолютно не волновала ее связь с Зелмо, я не думал сейчас ни о том, что самое прекрасное в жизни достается даром, ни об отношениях между мужчиной и женщиной.
Дамы по обе стороны от Зелмо беспрестанно о чем-то болтали, разбавляя своим щебетом его громогласные выступления. Отец сидел в мрачном молчании. Наверное, мы были с ним одного поля ягода, с той лишь разницей, что он заработал этот ужин двумя десятками лет работы. От меня ожидали по меньшей мере выражения восторга и благодарности. Авраам подобным никого не жаловал — и это, как я выяснил на сегодняшней творческой встрече, была его торговая марка.
Сомелье повторно наполнил наши бокалы. Я уже собрался пригубить вино, но Зелмо потребовал:
— Тост!
— За тебя! — воскликнула Франческа. — И за твою щедрость!
Зелмо покачал головой.
— Я сам хочу сказать тост. Когда я предложил Аврааму приехать на «Запретный кон» в качестве почетного гостя, естественно, рассчитывал, что он проявит себя здесь так же ярко, как и в работе. Но никак не мог предположить, что с ним приедет настолько красивая, восхитительная женщина! Франческа и Авраам, ваша история трогает меня до глубины души. Пускай поздно, но вы все-таки нашли друг друга в этой жизни. — К тому моменту, когда Зелмо поднял бокал, его голос звучал уже как рев: — За человеческое сердце, требующее любви!
Люди за соседними столиками повернулись в нашу сторону, не понимая, в чем дело.
Мы чокнулись, выпили, официант принес блюдо с жареными кальмарами, а эти двое, в чью честь был произнесен тост, приглушенными голосами начали о чем-то спорить. Зелмо обнял за плечи Лесли и чуть наклонился, обращаясь ко мне:
— Расскажите, каково было взрослеть в доме нашего великого Авраама.
Наверное, на моем лице отразилось нечто ужасное, потому что Зелмо тут же сказал:
— Если не хотите, можете не говорить. Я прекрасно знаю, что характер у Авраама не сахар. Но только во мраке и страданиях рождается все великое. Жаль, что мало кому об этом известно. Из собравшихся в отеле, наверное, никому. — Он рассмеялся. — Вот Лесли, к примеру, еще не знает, почему год за годом я упорно организую эти конвенты. Сама она ни за что сюда не приехала бы.
— Я не люблю фантастику, — сказала Лесли, защищаясь.
— А я рос, любя ее, моя дорогая. Всю без исключения. «Звездные войны», «Звездный путь» — я их просто обожал. Может, Аврааму мое откровение и не по душе, но я говорю правду. Позднее у меня начал развиваться вкус. Вот так все и происходит, Лес, — благодаря развитию. Как в фильме. Во всех великих людях, имеющих отношение к научной фантастике, я обнаруживаю ту же несносность характера, ту же жесткость, которая привела меня сюда. Только вот никто не платит вашему отцу шесть тысяч баксов в год, верно?
— Верно, — согласился я просто для поддержания разговора.
— Я возгорелся желанием что-нибудь подарить этим людям. И создал «Запретный конвент». Он — мое детище. Ему уже семь лет. Думаете, мне интересно общаться с другими организаторами? Да они все терпеть меня не могут, но я им нужен. Лично я на этих сборищах получаю удовольствие только от таких вот ужинов. — Всеми возможными способами он убеждал меня в том, что презирает свое детище.
— А почему именно «Запретный»? — спросил я.
— Может, вы мне не поверите, но наш «кон» — один из лучших. Большинство талантов обнаруживается именно здесь. Что до вашего отца, он здесь как бисер перед свиньями.
— Да нет, я спросил о названии. Что тут запретное?
— Непостижимые силы, все тайное, скрытое. Различные редкости, табу, вещи невиданные и неслыханные. Ускользающая или позабытая мудрость. Благоприобретенные пристрастия, например, к икре, к виски с солодом.
— Понимаю.
— А еще в этом названии намек на «Запретную планету» — лучший, на мой взгляд, фантастический фильм. По-моему, многие сразу же улавливают эту связь.
— Ага.
— Я долго придумывал это название. Кстати, вы полагаете, Фред Вандейн ездит на конвенты лет двадцать? Ничего подобного. Он на одних бэйджах разорился бы, не говоря уж о билетах на самолет. В этот раз я уломал его приехать, поскольку знал: Авраам признается, что не прочел ни одной книги Вандейна.
— Неприятный был момент, — сказал я.
Зелмо махнул рукой.
— Такому человеку, как ваш отец, позволительно абсолютно все.
Я не стал возражать, но никак не мог одобрить идею преднамеренного публичного оскорбления Вандейна.
— А вы чем занимаетесь? — полюбопытствовала Лесли, заполняя наконец-то возникшую паузу.
Зелмо и на этот раз не смолчал.
— Дилан писатель, — сообщил он с гордостью. — Журналист.
— Я пишу о музыке, — сказал я. — В последнее время в основном для «Ремнант Рекордс».
Я долго смотрел в голубые изумленные глаза Лесли. Было бы лучше, если бы мы с ней разговорились в каком-нибудь баре для одиноких сердец в последний день нашей жизни, а не здесь, на этом идиотском ужине.
— «Ремнант» выпускает диски со старыми записями. Я занимаюсь составлением подборок и пишу к ним аннотации.
— Например? — спросил Зелмо, взмахнув рукой с бокалом, будто отвечая на предложение угостить всех за свой счет. Я почувствовал, что он опять хочет произнести речь.
— Одна из таких подборок — возможно, вы ее видели, — «Фальцет-шкатулка». Туда вошли довольно неплохие вещи. На четырех дисках сделаны записи исполнителей соула — Смоки Робинсона, Куртиса Мейфилда, Эдди Холмана. Есть и весьма неожиданные композиции. Ван Моррисона. Принца.
— Мы не видели эти диски, — сказал Зелмо за себя и за Лесли. — А еще о каких-нибудь расскажите.
— Некоторые подборки составлены довольно необычным способом, — продолжал я. — «Ремнант» любят оригинальничать. Например, один из наших дисков называется «Твои так называемые друзья». Во всех записанных на нем песнях есть эта фраза.
— Я не понимаю, — честно призналась Лесли.
— Эти слова стали чуть ли не фразеологизмом — «так называемые друзья». Или даже «ты и твои так называемые друзья». У Элвиса они есть в «Туфлях на высоких каблуках», у Глейдис Найт в «Приди, взгляни на меня», у Альберта Кинга в «Не сжигай мост» и так далее. Эти слова — как вирус, разносящий определенную идею или чувство… — Я замолчал, внезапно охваченный приступом робости.
Подали главные блюда.
— Я хочу продолжить этот разговор, — предупредил Зелмо, ткнув в мою сторону пальцем.
И тут же принялся увлеченно расспрашивать дам о том, довольны ли они принесенным заказом, поэтому на время забыл обо мне. Я повернулся к отцу. Перед ним стояла такая же, как у меня, тарелка со спагетти и мясными шариками. Неужели, повинуясь одному и тому же инстинкту, мы оба выбрали из огромного списка блюд самые скромные? Используя выдавшуюся наконец возможность поговорить, отец спросил:
— Как тебе здесь? Нравится?
— Разумеется. А тебе?
Авраам лишь повел бровями.
— Пока не забыл: я кое-что привез для тебя. Прочти. — Он достал из внутреннего кармана пиджака сложенный втрое лист бумаги и незаметно для остальных сунул его мне в руку. Я развернул лист на коленях. Это была ксерокопия вырезки из «Арт-форума» — статьи Уилларда Амато «Эпически медленное продвижение вперед: тайное путешествие американского титана». Я начал читать:
«Поверители вы, что наиболее талантливый из современных американских художников-абстракционистов не прикасался к холсту с 1972 года? Что в последний раз он экспонировал свои работы в 1967 году, вместе с еще одним художником, на выставке, о которой почти никто не слышал тогда? Что усердный создатель самого авангардистского фильма нашего времени никогда не увидит результат своих титанических трудов на экранах? Или что последняя монументальная работа в стиле модерн создается тайно, в немыслимой обстановке, в ту пору, когда модернистов почти не осталось? Если хотите удостовериться, что все вышеперечисленное — правда, отправляйтесь в маленькую студию в Бруклине, в Бурум-Хилл, туда, где…»
— Потом, — взмолился Авраам. — Оставь это себе. У меня есть еще.
Вот так-то. И это — всеми забытый человек, почти никто? Я отлично знал, что Авраам еще полон энергии, но статья сильно меня удивила. Я положил листок в карман.
— Как поживает Эбби?
— Нормально.
— Жаль, что ее нет здесь.
Я неожиданно посмотрел на компанию за нашим столиком совсем иначе: две пары и один брошенный мужчина. Я и представления не имел, где и с кем проводит этот вечер Эбби.
— У нее началась учеба, — сказал я, чувствуя, что как будто защищаюсь, и не в силах отделаться от этого ощущения.
Франческа, услышав, о чем мы говорим, провозгласила:
— Как бы мне хотелось снова увидеть ее, Дилан! Чудесная девушка!
Лесли и Зелмо заинтересовались.
— Эбби — афроамериканка, — пояснила Франческа, широко распахнутыми глазами выражая изумление на сей счет. С Эбби она встречалась всего раз — мы заехали тогда в Нью-Йорк по пути на музыкальную конференцию в Монреале. — Если бы ты только видела ее! — Франческа смотрела на Лесли. — Потрясающая кожа!
Своим восторгом она свела разговор на нет. Я занялся макаронами и телятиной.
— Она еще учится? — спросил Зелмо, глядя на меня с наигранным удивлением. Да, моя черная подруга еще не вполне состоявшийся человек. Если угодно, считай, что взрослые блондинки-юристы достойны лишь тех, у кого есть галстук-бабочка, контактные линзы и возможность оставлять в ресторане чаевые. Дилан Эбдус до всего этого пока не дорос.
— В аспирантуре, — ответил я. — Эбби дописывает диссертацию.
— Замечательно, — сказал Зелмо, видимо, мысленно поздравляя всех представителей и представительниц черной расы за столь неслыханное достижение одной из них.
Зелмо собирал под своим крылом бедных несчастных деятелей искусства. Они были его стадом, он заботился о нем, как мог. Тарелка мясных шариков, приглашение на «Запретный конвент». Черные же сами по себе являли целое искусство.
— Дорогой, — обратилась к Аврааму Франческа. — Расскажи Дилану об отце его друга.
— М-м?
— О том несчастном человеке с нашей улицы. Ты говорил, Дилану важно об этом знать.
Авраам кивнул.
— Твой старый друг, Мингус. Ты помнишь его отца, Барри? Нашего соседа?
Барретта Руда-младшего, уточнил я про себя. Ход мыслей Франчески был до умиления прост: Дилан неравнодушен к афроамериканцам — и это плавно перетекало в «того несчастного человека». Я решил выслушать отца как можно более невозмутимо, хотя оттого, что он так долго медлил, мне хотелось заорать. Нашего соседа! Это у мистера Роджерса соседи — вокруг нас же был целый квартал. Я, можно сказать, вырос в том доме, так и подмывало меня объявить им. Кроме того, мною написана биография этого человека в аннотации кдискам «Дистинкшнс». Но я промолчал. Напоминание о моем частом посещении дома Рудов Авраам воспринял бы как упрек, а о выпуске записей «Дистинкшнс» я ни разу не упоминал в наших с ним телефонных разговорах, выслать же ему эти диски так и не собрался.
Я даже не допускал сейчас вероятность смерти Барретта Руда-младшего — о подобном мне было бы уже известно. Позвонили бы из «Роллинг Стоун» и попросили написать статью — слов эдак в четыреста.
— У него отказали почки, — сказал Авраам. — Ужасно. Приезжала «скорая». Его подключили к аппарату «искусственная почка».
Зелмо Свифт не мог принять участие в нашей слишком личной беседе, поэтому подбросил Лесли и Франческе другую тему для разговора, предоставляя нам с отцом возможность на время забыть о них.
— Он несколько недель подряд просидел в своем доме в полном одиночестве, почти умирая. Никто из соседей ни о чем и не подозревал. Барри живет на Дин-стрит очень давно, а с момента того выстрела крайне редко показывается на улице.
Мы никогда не обсуждали событие, которое он назвал «моментом того выстрела» — ни в те две недели, что оставались до моего отъезда в колледж, ни позднее. Мингус и Барретт, давая показания в полиции, ни разу не упомянули меня. Насколько мне было известно, о моем присутствии в их доме в тот день знали только они двое.
В тысячный раз я вспомнил сейчас горки белого порошка — неудивительно, что у Барретта отказали почки. Чем это грозило закончиться? Я начал придумывать те четыре сотни слов.
— Но свершилось почти что чудо. Они разыскали Мингуса. В какой-то из тюрем на севере. По особому распоряжению суда его временно отпустили, он приехал в больницу к отцу и отдал ему почку.
— Что?!
— Проводить операцию имело смысл только в этом случае — донором для Барри мог стать лишь Мингус. Он спас отцу жизнь и вернулся в тюрьму.
Я схватил бокал, поднял его, мысленно произнес тост и допил вино. Мой мозг воспламенился, как только я услышал эту ошеломительную новость, а горло сжалось, так что от большого глотка бургундского я чуть не задохнулся.
— Значит, Мингус опять за решеткой, — заключил я.
— Ты думал, он уже на свободе?
— Артур сказал, его отпустили — я разговаривал с ним лет десять назад. Признаться, я вообще не знаю, что именно я думал на этот счет.
— Барри — чудесный человек, — сказала Франческа, улучив момент для присоединения к нашему разговору. — Тихий, спокойный. И, по-моему, глубоко несчастный.
— Ты с ним знакома? — спросил я. Должно быть, знакома, мелькнуло у меня в мыслях. А впрочем, какая разница? Стекла моих очков как будто запотели.
Франческа кивнула на Авраама.
— Иногда мы с твоим отцом носим ему еду. Суп, курицу — все, чем можем поделиться. А его как будто вообще не волнуют вопросы пропитания. Порой он подолгу сидит на крыльце. Даже в дождь. Другие наши соседи вообще о нем не вспоминают. Никто не общается с ним, кроме твоего отца.
— Извините, — сказал я, поднимаясь и бросая салфетку на стул. Мне нужно было сходить в уборную, пока я не омочил слезами мясные шарики в своей тарелке. Демонстрировать перед юристом, обожающим виски с солодом и «Запретную планету», еще одну слабую свою сторону у меня не было ни малейшего желания. Я предпочитал, чтобы мои слезы остались для него тайными, скрытыми, невиданными и неслыханными, чтобы не попали в зал «Жалость» музея Зелмо наряду с унижением Р. Фреда Вандейна.
Мингус спас своему отцу жизнь, согласившись на эту операцию. Время от времени, примерно раз в десятилетие, я был вынужден в который раз признать, что Дин-стрит до сих пор жива. И что Мингус Руд — реально существующий человек, а не плод моего воображения. С минуту я сгорал со стыда, потом запихнул мысли о Мингусе в тот угол моей души, где они жили всегда, независимо от того, думал я о Мингусе или нет, — к воспоминаниям о миллионе других людей с искалеченными судьбами.
Я сполоснул стекла очков, высморкался и вернулся за стол, где провел остаток вечера, не заостряя внимания ни на Франческе, ни на отце, хотя только ради них двоих и приехал в Анахайм. Я пил дорогой коньяк, желая захмелеть, и занимал Лесли Каннингем своим обаянием и остротами. Наверное, я даже заинтересовал бы ее, если бы главным участником нашей с ней беседы то и дело не оказывался Зелмо Свифт. Способа заставить его закрыть рот я не мог придумать.
Когда мы поднялись из-за стола и отец направился в уборную, Зелмо отвел меня в сторону.
— Надеюсь, вы будете завтра на показе фильма Авраама?
— Естественно.
— Для вашего отца это очень важно.
Задушить человека в галстуке-бабочке, наверное, не так-то просто. Быть может, эти штуки и изобрели в качестве защитного средства.
— Постараюсь вести себя прилично.
Зелмо нахмурился, как будто мгновение назад был полностью уверен в том, что я не испорчу завтрашнее мероприятие, а теперь вдруг усомнился в этом.
— Когда вы уезжаете?
— Сразу после фильма.
— Полетите на самолете? Из Лос-Анджелеса?
— Нет. Из Диснейленда. — От этой шуточки во рту стало кисло — она напомнила о шпильке Эбби, воткнутой в меня сегодня утром.
— Я отвезу вас, если не возражаете.
Наверное, я выпил больше, чем следовало, потому что уловил в его словах какой-то подвох.
— Нет, спасибо, — сердито ответил я. — Я вызову такси.
— Зачем же тратить деньги на такси? Я подвезу вас, а заодно и поговорим.
Ко мне подскочила Франческа.
— Соглашайся, Дилан, — прошептала она.
— Поговорим о чем? — спросил я.
— Тш-ш, — прошипела Франческа.
Я лежал в нижнем белье на двуспальной кровати в номере отеля и, переключая телеканалы, рассеянно смотрел то на спаривающихся крокодилов, то на Ленни Кравица. Дважды я набирал свой домашний номер в Беркли, и оба раза выслушивал свои же слова на автоответчике. В конце концов я достал ксерокопию статьи из «Артфорума» и заставил себя сосредоточиться на ней.
«…Эбдус возражает, когда его труд сравнивают с „Исправлением“ Томаса Бернхарда, и отвергает любую концептуальную либо философскую трактовку своего драгоценного материала, „живописной“ природы его исследования. Все в работе Эбдуса отталкивается от физических свойств краски, целлулоида и излучаемого проектором света. Я бы сравнил этот труд с медитативным (если не самозабвенным) творческим путешествием композитора-модерниста Конлона Нэнкэрроу, который за годы изгнания в Мексике освоил уникальные возможности игры на фортепиано, скрупулезно разработал исключительный метод извлечения из инструмента совершенно новых звуков. На написание пяти- или десятиминутной композиции у Нэнкэрроу уходило по два-три года. Рисованный фильм Авраама Эбдуса создается так же медленно…»
Я был искренне рад за отца, но думать сейчас о его успехах просто не мог. Мое сердце трепыхалось в груди как безумное. Когда я закрывал глаза, мне начинало казаться, что со мной рядом Мингус Руд — лежит на второй кровати или принимает в ванной душ. Мне представлялся персонаж из триллера — человек, у которого бандиты, торгующие человеческими органами, вырезали почку. А потом вдруг — несмотря на приглушенные звуки, доносившиеся из соседнего номера, и на близкое присутствие отца, от которого меня отделяли всего лишь несколько этажей, — возникло ощущение, что моя комната движется в открытом космосе. Роскошный саркофаг с кабельным телевидением. Я вскочил с кровати, надумав заглянуть в мини-бар.
Все, что лежало у меня в карманах, я высыпал на комод с зеркалом. Карточка-ключ от номера и ключ от мини-бара, несколько смятых купюр и кольцо Аарона К. Дойли. Сегодня утром я спрятал его в карман от Эбби, чтобы не пришлось объяснять, откуда оно взялось.
Я задумался, до сих пор ли кольцо обладает таинственной силой и как она проявится теперь. Погруженный в размышления, я натянул джинсы, положил карточку-ключ в карман, надел на палец кольцо, босиком пересек комнату, раскрыл дверь и, моргая от яркого света в коридоре, остановился на пороге.
Я не видел ни своих рук, ни ног, но, может, это потому, что все еще пребывал во власти алкоголя. Пройдя к лифту, я нажал кнопку вызова, а когда кабина с зеркальными стенками раскрылась передо мной, вошел в нее — все это я помню точно. Кроме меня, в лифте никого не было. Я прижал руки к зеркалу и принялся дышать на него — там, где лежали ладони, стекло оставалось сухим, не затуманенным, но самих рук я по-прежнему не видел. То было проявление волшебной силы — моей силы, ведь кольцо надел я.
Я ехал наверх, как мне показалось, несколько часов, надеясь, что никого не встречу в коридоре. Но там оказалось полным-полно участников конвента, о чем-то оживленно болтающих. Народ толпился и в баре. Я вошел туда, ловко уворачиваясь от столкновений. В опытного человека-невидимку я превратился много лет назад и до сих пор не утратил ничего из приобретенных в ту пору навыков.
Захмелевшие люди, тем или иным образом связанные с научной фантастикой, сидя за круглыми столиками, человек десять—пятнадцать за каждым, о чем-то шумно спорили, громко смеялись и то и дело поднимали бокалы. Кое-кто наверняка планировал с кем-нибудь сегодня спариться, как те крокодилы из телепередачи. Я радовался, что меня никто не видит. Центр бара пустовал. Я приблизился к стойке и уронил на пол стоявший на краю стакан с растаявшим льдом, чтобы отвлечь внимание бармена. Тот с ворчанием принялся убирать осколки. Я же тем временем схватил со стойки заполненную на треть бутылку «Мейкерс Марк». Прижал ее к груди, и она тоже стала невидимой. Я осторожно вышел в холл и увидел Поля Пфлюга, зажатого на диване между двумя почти что одинаковыми женщинами в обтягивающих платьях из кожи и высоких сапогах, как у Эбби. Я поднял бутылку-невидимку, будто произнося тост, и отправился к себе в номер, прочь от веселящихся фантастов.
Десять утра — для меня это чересчур рано. Хорошо еще, что в зале было темно. Отец сильно волновался, даже злился, суетясь возле проектора. Он заявил, что крутить фильм будет сам, и два волонтера, которые принесли проектор, покорно отошли в сторону. Я сидел рядом с Франческой в первом ряду, не в силах заставить себя не думать о том, что собралось всего пятнадцать—двадцать человек — хотя в зале легко уместилась бы и сотня зрителей. Публика терпеливо ждала, более терпеливо, чем я. Кто-то потягивал через соломинку апельсиновый сок из картонных упаковок, другие что-то жевали. Зелмо пока не было.
Перед моими глазами с опухшими веками уже шел фильм — фильм похмелья. Проснувшись, я едва успел принять душ, выскочить из номера и отыскать зал Вайоминга. Что меня утешало, так это мысль о кофе с рогаликами в самолете и о болеутоляющем в сумке Франчески. Дорожный рюкзак был снова упакован и стоял сейчас под моим сиденьем, а кольцо Аарона Дойли вернулось в карман. Бутылку из-под «Мейкерс Марк» я спрятал в мини-баре — открыть его оказалось не так-то просто, пришлось даже ударить по дверце кулаком.
— Я покажу вам два эпизода, — сказал отец, не считая нужным произносить вступительную речь. — Над первым я работал с 1979-го по 1981 год, он длится двадцать одну минуту. Второй создан совсем недавно, в девяносто восьмом году, его продолжительность, насколько я помню, десять минут. По окончании я готов ответить на ваши вопросы и выслушать замечания.
Никто не возражал. Только мы с Франческой знали, что сейчас увидим. По зрительным рядам с немногочисленными, наиболее преданными поклонниками Эбдуса пробежала волна легкого возбуждения. Так всегда бывает перед началом фильма — даже если его показывают в десять утра в гостинице «Марриотт». Никто пока ни о чем не подозревал.
Я переживал за судьбу фильма. Как же иначе? Я сосуществовал с ним дольше, чем кто бы то ни было, если, конечно, не принимать в расчет отца. В детстве я относился к этому фильму, как к какому-то немому божеству-калеке, за которым ухаживали на верхнем этаже дома, точно за сумасшедшим родственником. Я прекрасно знал, что представляет собой эпизод, созданный в семьдесят девятом — восемьдесят первом годах. А четыре года назад даже видел его в «Пасифик Филм Аркив» в Беркли: один раз вместе с другими зрителями и дважды во время предварительных просмотров. Это были любимые фрагменты Авраама. Залитый светом невидимой луны пейзаж, линия горизонта, рассекающая экран на две половины, земля ярче неба — только Авраам отверг бы эти слова «пейзаж», «горизонт», «земля». Тем не менее: небо серо-черное, земля светло-серая. Когда смотришь на эти кадры, возникает ощущение, что перед тобой тысяча поздних работ Ротко, выстроенных в строгой последовательности. Целых два года, с семьдесят девятого по восемьдесят первый, Авраам рисовал только эту жестокую борьбу серого и черного. Поверхность земли плавно поднималась и опускалась, как океанские волны. Чернота порой стекала сверху и быстро пробегала по нижней части кадров, земля и небо в эти моменты являли собой застывший танец. Лишь один-единственный раз небосклон осветился красно-желтым проблеском — будто выглянувшим из-за черноты солнцем. Озарился и снова потемнел. Быть может, и собственный мрак Авраама в ту неделю, много лет назад, озарился мимолетным сиянием? Я твердо знал, что никогда не задам ему этот вопрос.
В создание двадцатиминутного эпизода внес свою лепту и я — нарисовав как-то раз один кадр. В тот день, вернувшись из школы, я не застал Авраама дома, наверное, он ушел в магазин. Теперь мне сложно вспомнить все подробности этого события, но я могу оживить в памяти чувства, которые тогда испытал: на меня в тот момент напало острое желание подняться в отцовскую студию и нарисовать кадр. Тонкие кисточки были мокрыми, значит, Авраам ушел совсем недавно. На целлулоидном фрагменте в рамке он еще ничего не успел нарисовать. Чтобы скрыть свое вмешательство, мне нужно было всего лишь переместить пленку на один кадр вперед. Потрясающий шанс. Тем не менее, окуная кисточку в краску и поднося ее к целлулоиду, я дрожал от страха. Меня пугала власть — не отца, а та, которую на время присвоил себе я.
Нарисовав черно-серую картинку, я, вспотевший от напряжения, спешно удрал из студии. Целую неделю я в ужасе ожидал, что буду наказан, но этого не случилось. Увидел отец мое художество или нет, я до сих пор не знал. Он вполне мог обнаружить поддельный кадр и ни слова мне не сказать, независимо от того, оставил ли он этот фрагмент в пленке или немедленно вырезал его. Сейчас я тешил себя мыслью, что мой рисунок все-таки вошел в фильм. Единственный из всей этой грандиозной работы кадр, длящийся долю секунды, — мой.
Я попросил у Франчески болеутоляющее, отчаянно стараясь не обращать внимания на ярость, с которой мой обезвоженный мозг давил на глазные яблоки. Тишину в зале нарушал только стрекот проектора и шелестение вентилятора. Сосредоточить внимание на фильме у меня не получалось: во-первых, из-за похмелья, во-вторых, оттого что сзади стоял Авраам, наблюдая за нами через пустые ряды. Я спиной чувствовал, что он расстроен. Наконец на экране мелькнул красно-желтый проблеск. Вскоре эпизод подошел к концу.
— Вот так твой отец мучает людей, которые его любят, — прошептала Франческа. — Окружает их мраком.
Я не ответил. В тот момент, когда создавались эти кадры, я на месте отца нарисовал бы их еще более темными красками.
Второй отрывок потряс меня. Отец изобрел некий зеленый треугольник с тупыми углами, который усердно пытался, но никак не мог упасть боком на призрачно-размазанный горизонт.
Треугольник занимал примерно четверть кадра. Он дрожал, наклонялся, почти что целовался с землей и опять вскакивал. Это движение рождало иллюзию: два шага вперед, два шага назад. Так и хотелось поддержать треугольник, как-то приободрить его. Упорный, трепыхающийся, вновь и вновь терпящий неудачу.
Я пришел в невероятное волнение: забыл о зале, в котором сидел, и о своей раскалывавшейся голове, будто сам превратился в тщетное усилие треугольника, в отголосок этой странной трагедии. Франческа достала из сумки салфетку и протянула мне. Арестанты, треугольники. В последние дни я стал слезливым слабаком. Вскоре все закончилось, и зажегся свет. Никто не хлопал — наверное, все позабыли, как это делается, или же, просмотрев этот фильм, уверились, что их ладони, как бы они ни старались, никогда не коснутся друг друга.
В том, что аплодировать мы все же не разучились, нас убедил вышедший к экрану и захлопавший первым Зелмо Свифт. Он подал пример. Отец подошел к нему и под наши дружные аплодисменты сел перед микрофоном. Впрочем, в этом не было особой необходимости: фильм просмотрело так мало людей, что никакой оживленной дискуссии состояться не могло. Публика задала отцу лишь несколько вопросов: робких либо бессмысленных. Он ответил на них очень вежливо.
— А звук вы никогда не планировали добавить?
— Музыку или слова?
— Гм… Музыку. Тогда можно было бы воспринимать не только зрительно, но и на слух.
— Конечно. Да, тогда мы слушали бы еще и музыку. — Авраам выдержал паузу. — Над этим стоит подумать.
Кто-то спросил, как изменился фильм со времени создания второго эпизода. Что он представляет собой сейчас?
— Словами это почти невозможно описать. Думаю, я ушел далеко от второго эпизода. Хотя последний фрагмент вы могли бы найти немного схожим с тем, что видели сейчас.
— Треугольник… — Именно это больше всего интересовало спрашивающего. — Этот треугольник все же опустится? Упадет?
— А-а. — Авраам помолчал. — Зеленый? Нет. Он продолжит борьбу. С ним не произойдет почти ничего нового.
Воцарилась тишина.
— А когда-нибудь он все же… — раздалось откуда-то справа. Этот вопрос волновал каждого в зале. Несостоявшееся падение разбило много сердец, не только мое.
— Я противник догадок и колебаний, — сказал Авраам. — Считаю, мы должны бороться с ними изо дня в день. Главное — в борьбе, а не в затянувшихся раздумьях. И в понимании.
Зелмо, все это время хранивший молчание, наконец не выдержал и забрал у Авраама микрофон.
— Иными словами, мои дорогие, ждите продолжения. Авраам Эбдус еще не сказал последнего слова. И это замечательно.
Да, фильм не закончился, но Зелмо Свифт, Зелмо Великий Ценитель, в отличие от собравшихся в этом зале обывателей, видел смысл не только в приземлении. Так-то.
На этом волшебство закончилось. Почитатели творчества отца встали с мест и, извлекая из карманов смятые программки, потянулись к выходу. Быть может, в каком-то другом зале отеля в это же самое время выступал на собственной творческой встрече Р. Фред Вандейн, и у них был еще шанс успеть на нее. Авраам поспешил к проектору, не желая доверять перемотку фильма волонтерам, а я вновь очутился в окружении Франчески и Зелмо.
— Смотрите не опоздайте на самолет, — весело воскликнул Зелмо.
— У меня еще уйма времени.
— Да, но моя машина уже ждет нас внизу. Так что…
— Лучше подстрахуйся, дорогой, — сказала Франческа.
В голове у меня стоял туман, и я не мог сопротивляться. Зелмо был прирожденным мучителем, а Франческа обладала даром изводить своей любовью, и, объединив усилия, будто следуя какому-то тайному, действующему мне на нервы плану, эти двое с легкостью отняли у меня лишние полчаса общения с отцом. Завтра он улетал в Нью-Йорк, и я понятия не имел, когда мы снова встретимся. А впрочем, нам все равно не удалось бы здесь пообщаться: мешали Франческа, Зелмо и мое похмелье. Я закинул на спину рюкзак.
— Сын.
— Папа.
— Очень рад, что мы повидались. Это… — Авраам махнул рукой. — Ужасно.
— Последний эпизод просто потрясающий.
Отец закрыл глаза.
— Спасибо.
Мы вновь обнялись — две птицы, севшие на одну и ту же ветку, чуть коснувшиеся друг друга перьями. Я принял с утра душ, но из всех пор снова просочился запах спиртного. Мне стало интересно, подумает ли отец, что я приехал сюда, переживая серьезный кризис. И я тут же начал размышлять, не так ли это на самом деле.
Авраам и Франческа проводили нас до лимузина с тонированными стеклами и личным шофером. Зелмо Свифт и я сели на заднее сиденье.
Диснейленд, когда я взглянул на него из окна машины, стремительно мчащейся по серой автостраде, показался мне затонувшим кораблем в промышленном море.
— Я вам не нравлюсь, — объявил Зелмо, не обращая внимания на шофера. Я прижимался к дверце, так что между ним и мной оставалось значительное пространство плюшево-кожаного сиденья. Наверное, ему казалось, что я вот-вот выпрыгну из окна.
— Что мне вам ответить? — Я нуждался в стакане апельсинового сока, чистке зубов, переливании крови, «кровавой Мэри», в Эбигейл Пондерс, в Лесли Каннингем, в ком-нибудь, кто заботился бы обо мне, в том, чтобы каждый день совершалось чудо, — я согласился бы сейчас на что угодно, лишь бы избежать откровенного разговора с Зелмо Свифтом. Мне хотелось найти невидимую кнопку и выключить его голос.
— Ничего не отвечайте. Я делаю это только из уважения к вашему отцу и Франческе. — Зелмо извлек из кармана пиджака какой-то конверт и положил его рядом с моей рукой.
— Что это?
— Случайность. Вы все поймете, когда прочтете. Для своих гостей я готов вывернуться наизнанку, Дилан. Понятия не имею, что вы подумали о «Запретном конвенте», но знайте: каждому его участнику я стараюсь преподнести какой-нибудь подарок. Я часто устраиваю мероприятия с названием вроде «Вся ваша жизнь, Авраам Эбдус!». Там и сообщаю своим друзьям что-нибудь для них важное и весьма неожиданное, например, связанное с их прошлым.
Я достал из конверта листок. На нем было два абзаца печатного текста. Юридическая заумь, пронизанная полнейшим безразличием ко всему. Подпись отсутствовала.
Эбдус, Рейчел Абрамович, подлог, причастность к преступному сговору, Оуэнсвилл, штат Вирджиния, 18.10.78, приговор с отсрочкой исполнения. Арест и предъявление обвинительного акта, Лексингтон, штат Кентукки, 09.05.79, участие в вооруженном ограблении; побег, местонахождение не установлено; ордер от 22.07.79.
И:
Эбдус, Рейчел А. последний установленный адрес: 2/75, № 1 Руэрел Рут 8, Блумингтон, штат Индиана, 44605.
— Надеюсь, вы не подумали, что я раздобыл эту информацию умышленно. В поисковом отделе моей фирмы работают исключительные специалисты. Они нашли эти сведения без моего ведома.
— Почему? — спросил я, имея в виду: «Почему я узнаю об этом от тебя? Почему в твоем лимузине, Зелмо?»
Он понял меня правильно.
— Авраам велел мне уничтожить эту бумагу. Она его не заинтересовала. А потом я один на один побеседовал с Франческой.
— Значит, пожелания Франчески для вас имеют больше значения, чем слова моего отца?
— Она хотела как лучше, Дилан. По ее мнению, вы имеете право знать об этом. — Он говорил очень громко, будто выступал в зале суда. — Не сердитесь на нее. Войти в чужую семью и разобраться, что тебе здесь позволено, что нет, — очень непросто.
Я еще раз посмотрел на листок, чувствуя на себе взгляд Зелмо. Мне хотелось обрушиться на него всей своей яростью, но я сидел не двигаясь. «Какого черта ты на меня пялишься?» — повторял я мысленно, раздираемый желанием съездить ему по морде.
Но я и пальцем его не тронул. Белый мальчик-молчун.
— Забудьте об этом, если хотите, — сказал Зелмо. — А я постараюсь уничтожить все следы.
— Делайте что вашей душе угодно. Только больше не дергайте Авраама.
— Не беспокойтесь.
Я положил листок в конверт и засунул в рюкзак. Остаток пути мы ехали ни о чем не разговаривая, и Зелмо это молчание, как ни странно, не напрягало. Я подумал, всегда ли то, что он считает своим великодушием, так скупо вознаграждается.
А с другой стороны, вряд ли стоило винить его. Только и всего-то: люди из поискового отдела его фирмы знали о моей жизни больше, чем я сам.
Уничтожить следы. Я никогда не занимался ничем подобным. Меня окружали воспоминания — слепого человека, который дожил до тридцати пяти лет, воображая себя невидимкой.
Глава 5
Если мужчине хоть раз в жизни довелось вернуться в опустевший дом — с комнатами, где все свидетельствует о поспешных сборах и отъезде, — он поймет, что испытал в тот вечер я. Наверное, любой бедолага, оказавшись в таком положении, начинает утешаться самобичеванием, мечтает о самоуничтожении. Я по крайней мере решил поступить именно так. Сначала, правда, пару часов подремал — и все это время мне казалось, что я слышу сквозь сон торопливые шаги разгневанной Эбби. Когда за окном сгустились сумерки, я поднялся с кровати, поменял футболку, сполоснул лицо, вышел из дома и направился по вечерней прохладе в соседний квартал. Для того чтобы осуществить план саморазрушения, требовалось лишь попасть в нужное место.
Старый, обклеенный плакатами блюз-фолк-клуб на Сан-Пабло-авеню назывался «Шейман Бригадун». Чернокожие музыканты в темных костюмах, узких галстуках и фетровых шляпах, видимо, хранившихся в свободное от выступлений время на болванках, тридцать с лишним лет выходили на малюсенькую сцену этого заведения и развлекали выряженных в береты, пончо или дашики[11] белых клиентов. Меня как журналиста, пишущего о музыке и долгие годы лично знакомого с владельцем клуба, пускали в «Шейман» бесплатно. Минимальный заказ — пару стаканов выпивки — я делал тут постоянно, а устраивался обычно за одним из столиков у самой сцены, где мог пофлиртовать с аппетитной молоденькой официанткой — широколицей, зеленоглазой девицей по имени Катя, которая, как мне казалось, перебралась в Беркли откуда-нибудь из Серфервилла.
Родилась Катя в конце семидесятых. Своей беспечной улыбкой, умением легко шутить и крутить бедрами она походила на киноактрису. Вначале я пожирал ее взглядом, однако Катя представлялась мне всего лишь обезличенным воплощением сексуальности, невинным развлечением. В ее провоцирующем кокетстве я видел только неотъемлемую составляющую работы официантки и, естественно, просьбу оставить ей чаевые.
Как не раз уже со мной случалось в жизни, мое внимание на одной женщине заостряла другая.
— Ты определенно неравнодушен к этой девчонке. А она к тебе, — сказала Эбби, когда в прошлом мае мы возвращались с концерта Сюззи Рош.
— Она улыбается как Дрю Берримор, — ответил я, не отрицая ее правоты.
— У нее сиськи как у Дрю Берримор, — подхватила Эбби, ущипнув меня за руку. Мы весело рассмеялись над моим самообманом. Это был последний раз, когда мы с Эбби вместе сидели в «Шейман».
Вскоре после этого я узнал фамилию Кати и кое-какие факты ее биографии. Выглядела Катя Перли лет на девятнадцать, на самом же деле ей был двадцать один год. Несмотря на характерную внешность, родилась она вовсе не на побережье, а в Валла-Валла, штат Вашингтон. Катя писала и исполняла песни, и в один прекрасный день собиралась выйти на сцену заведения, в котором работала официанткой. Она жила среди хиппи в Эмервилле вместе с двумя другими официантками «Шейман», переехавшими на юг одновременно с ней. Они не были музыкальной группой, просто дружили. Узнав все это, я притворился, будто сразу же выбросил информацию из головы. Мое любопытство чуть не разрушило давно сложившиеся между нами беззаботно-игривые отношения, но когда я пришел сюда в следующий раз, все вернулось на круги своя. В этом привычном тоне мы и продолжали до сих пор общаться.
На сцене играло трио музыкантов из Кении — один парень на ксилофоне, второй на бонго, третий подпевал им без слов. Их мелодии были весьма заунывными. Я подумал, не задержали ли часть их группы в аэропорту Найроби. У самой сцены были свободные столики, но я сел за самый дальний в той части зала, которую обслуживала Катя.
— Привет, красавчик! — сказала она, кладя передо мной меню.
— Катя, Катя, Катя.
— В чем дело?
— Ни в чем. Я просто повторяю твое имя. Звучит как тяжелое дыхание.
— Может, и так, если дышать как собака в жару. Пить будешь?
Катя принесла мне стакан скотча, а я сделал вид, будто с удовольствием слушаю игру музыкантов. Когда она проплывала мимо, я отпускал шуточки о Валла-Валла, надеясь, что, когда подойдет время перерыва, она подсядет ко мне. Как только моя задумка осуществилась, я спросил:
— Чем планируешь заняться после работы?
— Кто, я? — Это было все, чего я хотел сейчас, — услышать по ее голосу, что она приятно удивлена. Когда два человека вдруг возгораются опасно-опрометчивым желанием соединиться, проще простого заставить друг друга улыбнуться.
— Ты. Ты и твои так называемые друзья.
Катя бросила на меня косой взгляд.
— А лошадь, на которой я приезжаю на работу?
— Лошадь в первую очередь.
— Ты что, задумал пригласить меня на вечеринку, Дилан?
— Хочу послушать, как ты играешь на гитаре.
Чувствовалось, что Катя колеблется, боясь попасться в ловушку. Не собираюсь я заманивать тебя в капкан, ни сегодня, ни когда бы то ни было, подумалось мне.
— Я работаю до половины второго, — сказала Катя.
Увидев мое пожатие плеч, она начала понимать, что я не шучу.
— Иногда и позже — если кто-то из посетителей засиживается, — произнесла она деланно безразличным тоном. — Если хочешь, приходи.
Слушать кенийцев у меня не было ни малейшего желания. Я решил прогуляться, вышел на улицу и направился к пристани. Вдоль берега бродили влюбленные парочки. Мне стало интересно, влюблен ли в кого-нибудь я сам.
Пройдясь по соседним кварталам, я вернулся к «Шейман» и, как велела Катя, зашел со двора, попав на кухню. Из магнитофона на полке раздавались звуки рэпа — песня «Фогорн Дегорн» в исполнении «Диджитал Андеграунд», включавшая в себя несколько кусочков из «Мятого костюма» незабвенных «Дуфус Фанкстронг». Когда начался очередной из этих кусочков, я прислушался и уловил тенор Барретта Руда-младшего. В кухне горел свет, а в темном зале, видном через раскрытые двери, стулья были уже подняты на столы. Катя и одна из ее подруг считали чаевые, монотонно произнося суммы вслух, будто молясь. Третья девица орудовала кухонным ножом, делая дорожки кокаина на стойке.
— Дирдри, — представилась она, протягивая мне сложенную в трубочку долларовую купюру и заправляя за ухо прядь выбившихся волос.
— Дилан. Спасибо.
— Вы с Катей?.. — Возможность определить, в каких мы с Катей отношениях, она предоставила мне.
— До сих пор мы с ней общались только здесь.
— Замечательно.
По поведению Дирдри я догадался, что подцепить кого-нибудь на ночь этим девочкам ничего не стоит. По-видимому, она сразу же дала мне какое-то прозвище, что-нибудь вроде «Немного странный парень гораздо старше нас». Беркли жил по тем же законам, что и Гованус или Голливуд, или «Запретный конвент», или любая другая закрытая для посторонних зона, где я когда-либо появлялся. Границы между этими зонами до поры до времени не видны, а потом вдруг бросаются в глаза, как эта ярко освещенная кухня с выходом во двор, на которой три женщины считают деньги. Объединяются зоны — у меня, например, все происходило именно так — при помощи алкоголя или марихуаны, или кокаина, снадобий, стирающих границы. Кокаинчика не желаете, мистер Странный Парень Гораздо Старше? С превеликим удовольствием. Разве я мог отказаться от любимого наркотика Барретта Руда-младшего после такого уикенда? Именно затем я и пришел сюда, хотя до настоящего момента не знал об этом. Не то чтобы я не хотел Катю. Я до одури желал ее. Но чувствовал сейчас, что если проведу ночь с ней, то должен буду пересмотреть отношение к собственному существованию, расстаться с иллюзией умения владеть собой. Впрочем, я был к этому готов.
— Ты в самом деле пишешь для «Роллинг Стоун»?
— Писал.
— С кем ты встречался?
— М-м?
— У Шерил Кроу, например, брал интервью? — Дирдри разговаривала со мной без тени смущения.
— Нет.
— А у R.E.M.?
— А с R.E.M. однажды встречался — во время их выступления в «Оклендском колизее». — Как я мог признаться, что беседовал на том концерте лишь с «Ди Бис», работавшими на разогреве публики?
— Расскажи о них.
— Майкл Стайп, вернувшись со сцены, присосался к кислородному баллону.
— Ничего себе!
Мы вышли на улицу. Катя села за руль своего «форд-фалкона», Дирдри с ней рядом, а мы с Джейн — третьей девочкой, самой юной, — на заднее сиденье, положив посередине пакет со спиртным из «Шейман». Машина резко тронулась с места и помчалась в Эмервилл, а Джейн принялась засыпать меня вопросами. Скорость и девочки — это сочетание плюс виды ночных улиц, казалось мне сейчас настолько же привычными, как Фрэнк Синатра и Джин Келли в «Поднять якоря». Наверное, все дело было в алкоголе и кокаине. И в возбуждении иного рода. На кухне Катя ни разу не заговорила со мной, только маняще улыбнулась, беря из моей, руки свернутый в трубочку доллар. Она почти не замечала меня и сейчас, в машине, отдав в распоряжение любопытной Джейн. Мы с Катей как будто молча говорили друг другу, что сделали шаг вперед и оба заслужили эту ночь. Кокетство и заигрывания были нам теперь ни к чему.
Машина остановилась возле викторианского трехэтажного здания с башенками на крыше, поросшим сорняками двором и низкой белой оградой вокруг. Сквозь некоторые окна дома, наполовину занавешенные простынями, были видны горящие голые лампочки. На белых стенах комнат пестрели плакаты. Это и было поселение хиппи, где жили Катя и ее подруги. В угловых квартирах с обеих сторон дома свет не горел. Две из припаркованных у обочины машин выглядели так, будто на них никто никогда не ездит, а в одной, похоже, кто-то жил. Присмотревшись, я разглядел на самом верху черного человека в белой футболке, с бутылкой и бумажным стаканчиком в руках. Он окинул безразличным взглядом остановившийся у калитки «фалкон».
— С Мэттом не хотите поздороваться? — спросила Джейн, когда Катя заглушила мотор.
— Джейн таким образом говорит «до свидания», — пояснила с переднего сиденья Дирдри. — Когда они с Мэттом встречаются, сразу идут трахаться.
— Заткнись! — Джейн шлепнула Дирдри по макушке.
— А что, разве не так? Я ведь правду говорю.
На крыльце Катя опять мне улыбнулась, будто поддерживала человека, находящегося в состоянии транса.
— Поднимайся с нами, — сказала она. — Моя комната на втором этаже. Сам все увидишь.
Джейн и Мэтт жили в мансарде, туда можно было забраться с лестничной площадки третьего этажа. Джейн позвала Мэтта, но он не стал спускаться вниз, только высунулся из окна. Несмотря на густую бороду, парню тоже было лет восемнадцать.
— Привет, — сказал он.
— Дилан знаком с R.E.M., — сообщила ему Джейн. — Это Катин друг.
— Здорово, — ответил Мэтт в ожидании — если верить Дирдри — возможности потрахаться.
— Ну ладно, пока, — сказала мне Джейн, немного смущаясь — впервые за все это время. Взбежав по крутым расшатанным ступеням, она напомнила мне в этот момент белку.
Я тоже поднялся и остановился на втором этаже, освещенном синей лампочкой. В спертом воздухе пахло стираным бельем, табачным дымом и прокисшим пивом; где-то играла музыка. У меня оставался последний шанс — выбраться отсюда, взять такси и вернуться на Сан-Пабло, но не сделал этого.
Две комнаты Кати с окнами-эркерами, лепным потолком и паркетным полом могли бы быть роскошными залами, если бы это здание стояло где угодно, только не в Эмервилле. На потолке желтели пятна от воды, в паркете темнели огромные щели. Хозяин дома, наверное, даже радовался, что до сих пор находит квартиросъемщиков, потому и не обращал внимания на их странности, например, привычку освещать комнаты не люстрами, а рождественскими гирляндами. Футляр с гитарой Кати стоял в первой комнате у стены рядом с музыкальным центром. В шкафу без полок и дверей горой была навалена одежда. Во второй, меньшей комнате не было ничего, кроме накрытого покрывалом матраса. Даже плакаты не висели на стенах.
Дирдри, когда я вошел, сидела на полу, опять занявшись кокаином. Катя стояла у окна-эркера и разговаривала по телефону. Ее слова заглушала музыка — звучала запись Бека. У стены на матрасе сидела, подогнув под себя ноги, странная парочка: парень-афро с усиками и женщина явно старше его с короткими, выкрашенными в черный волосами. Разговаривала она с сильным немецким акцентом. На матерчатом раскладном стуле полулежал подросток, видимо, мексиканец, лет пятнадцати-шестнадцати, в широченных штанах фаната хип-хопа и c синей повязкой на голове. Дирдри меня им не представила. Соблазнительная и молчаливая, она походила на героиню из фильма Уорхола. Роландо и Дуня, парочка на матрасе, сами назвали свои имена и дружелюбно улыбнулись. Подросток на раскладном стуле, протянув мне руку, тоже что-то сказал: Марта или Марди, или Марли — я не расслышал.
Впрочем, эта неопределенность совсем не волновала меня в эту бесконечную ночь, проведенную у Кати. Сама она продолжала уделять мне минимум внимания. Я был не с ней — во всех смыслах. Дирдри, Роландо, Дуня и я разговаривали, вдыхали кокаин. Наверное-Марти отказался составить нам компанию, скорчив по-детски презрительную гримасу, как домашний кот, гордый собой, пренебрегающий хозяевами. Парень сидел молча, а когда доиграла последняя песня Бека, поднялся, взял из скромной коллекции Кати диск N.W.A. «Из Комптона», поставил его и прибавил громкость. Нам, продолжавшим разговор, пришлось напрячь голоса. Задав какой-то невинный вопрос, я невольно вынудил всерьез разговориться и без того словоохотливую Дуню. Как оказалось, она была немецкой еврейкой, с детства жившей то в Германии, то в какой-то сельскохозяйственной коммуне Израиля. Дуня отнюдь не воспринимала свою жизнь как урок или набор символов, рассказывала о ней с легкостью. Я слушал, удивляясь, что приперся вслед за официанткой, с которой давно заигрывал, в этот гетто-дом в Эмервилле, что сижу по-турецки на полу, пьяный и нанюхавшийся кокаина, в свете рождественской гирлянды и слушаю рассказ о том, как шестнадцатилетняя немка потеряла девственность где-то на залитом лунным сиянием футбольном поле, спутавшись с эмигрировавшим из России инженером. В это же самое время здесь, в Калифорнии, где-то чем-то занималась Эбби, а мой отец в Анахайме вернулся в свой номер после банкета.
Сделав пару телефонных звонков, Катя вышла из комнаты. Вернулась она спустя полчаса с упаковкой из шести банок «Короны» и с пухлощеким парнем, назвавшимся Питером. Ему было лет двадцать с небольшим, он держался скромно и походил на гея. Катя вдохнула дорожку кокаина и предложила угоститься Питеру, но тот отказался, махнув рукой, и открыл банку пива. Наверное, он был знаком с присутствующими в комнате, во всяком случае, свободно заговорил с Дирдри и Роландо, объяснив, что поссорился с соседом по комнате и сегодня туда не вернется. Дуня тем временем продолжала рассказывать мне о временах, проведенных в кибуце, — однообразных и благополучных. Катя впервые с момента моего появления здесь обратилась ко мне, предложив пива. Я взял банку и сделал глоток — как раз то, в чем нуждалось мое занемевшее от кокаина горло. Пиво оказалось крепким и сладким. Наверное-Марти в углу возле музыкального центра принялся застенчиво танцевать брейк. В его сторону никто не смотрел. Было три часа утра.
Я отвернулся от Дуни и всех остальных, устремив взгляд на Катю. Мне показалось, она чем-то расстроена и сосредоточена, как будто все еще находится на работе.
— Сыграй на гитаре, — попросил я.
— Что именно?
— Что-нибудь свое.
Мы поднялись с пола и перешли к окну. Улица, озаренная сиянием одинокого фонаря, хранила мертвое спокойствие, бесстрастие нищеты. Свет не горел ни в одном окне, даже в жилой машине. Катя попросила Наверное-Марти убавить громкость. Тот покрутил колесико музыкального центра и снова уселся на раскладной стул. Все остальные — Дирдри, Питер, Дуня и Роландо, не глядя на нас, продолжали болтать. Роландо массировал плечи Дуни, которая разговаривала теперь с закрытыми глазами. Питер, видимо, передумав, все же вдохнул дорожку кокаина. Порошка оставалось мало. Дирдри доведенными до автоматизма движениями разделяла его на полоски. Катя достала гитару и принялась настраивать.
Петь она начала внезапно. Сильным, потрясающим голосом — песню с жесткими словами:
Психоделические победы, Мрак и тоска, хочу уколоться. Сигарета последняя, привкус беды. Я люблю тебя, бейб, но признаться придется: Лишь подсев на иглу, я забыла себя, Взорвала все мосты и влюбилась в тебя. Последнее, что я запомнила, Твой жалкий взгляд: прости, забудь. Ты мне не нужен, я опомнилась, Но пожелай меня вернуть. Лишь подсев на иглу, я забыла себя, Взорвала все мосты и влюбилась в тебя.Паузы в песне заполнял пульсирующий хип-хоп Наверное-Марти. Разговор на полу прекратился. Закончив, некоторое время Катя снова настраивала гитару, потом запела незамысловатый блюз. Некоторые строки она пропускала, просто мурлыча, но припев выводила отчетливо:
Не пытайся уколоть меня словами, Я одна, я потеряла все. Мне бы только позвонить сегодня маме. Мне бы только позвонить сегодня маме…— Это из нового, — сказала она, обрывая песню.
Питер, всхлипывая, поднялся с пола, закрыл лицо руками и вышел из комнаты. К моему великому огорчению, Катя отложила гитару и направилась за ним в коридор. Дуня тоже вскочила и выбежала.
Наверное-Марти снова прибавил громкость.
Роландо принялся массировать плечи Дирдри, а я пытался подавить свой внезапный приступ негодования. Дирдри нанюхалась кокаина и напоминала сейчас истощенного енота, но я, как ни стыдно в этом сознаваться, страшно желал прикоснуться к ней, да и к любой из этих женщин. Потому и злился, наблюдая за Роландо, у которого было такое право. Взяв еще одну банку пива, я прошел к двери и выглянул в коридор, но никого не увидел. Из-за дверей других комнат тоже лились звуки музыки — весьма посредственные мелодии. Я вернулся в комнату.
— Эй.
Голос подал Наверное-Марти. Я уже привык не замечать его — так делали все, кто был тут.
Наверное-Марти выключил музыку.
— Хочешь послушать, какое дерьмо сочинил я?
— Конечно, — ответил я: у меня не было выбора.
— Подожди, мне надо настроиться.
— Ладно.
Я прислонился к стене рядом с музыкальным центром. В тишине отчетливо слышалось дыхание Дирдри, которой Роландо растирал лопатки. Наверное-Марти склонил набок голову, выставил вперед одну ногу и немного согнул ее в колене, как Элвис на сцене. Слова полились из него непрерывным рэп-потоком — своим высоким голосом он произносил их подчеркнуто небрежно, но при этом особенно выделял «п» и «д».
Послушай-ка, ты, да, да, ты. Я Эм-Пес, меня не прет от этой простоты…— Подожди, подожди, я начну с начала. — Наверное-Марти умоляюще вытянул руки, как будто я каким-то образом дал ему понять, что мне не нравится. Вновь настроившись, он смущенно закрыл глаза и опять запел-заговорил, принимая то одну, то другую позу.
Послушай-ка, ты, да, да, ты. Я Эм-Пес, меня не прет от этой простоты. Знаешь ведь, как все порой случается, Когда заряжен мой ствол, Кто-то с жизнью прощается. Я такой, да, крутой — яи мой кореш Раф. Не попадайся нам на глаза, тогда и не будет пиф-паф. Смеяться тут не над чем, меня достал Эмервилл. Если ты падаешь, значит, я тебя пристрелил.— Ну, как тебе? — спросил Наверное-Марти с наигранной дерзостью.
— Спой-ка еще разок, — сказал я.
Наверное-Марти принял исходную позу, ни секунды не колеблясь. Второй раз он пропел свое творение увереннее, отчетливее и агрессивнее, а может, с пародийной агрессией. С каждым мгновением он казался мне все более и более юным, несмотря на «пиф-паф».
Уже лет пятнадцать—двадцать я терпеть не мог рэпперов — как белых, так и черных — за их претенциозность, за козыряние своим знанием уличной жизни, действительным или мнимым, за то, что они выставляли его напоказ, будто цепляли на грудь значок, в то время как я держал это знание при себе. Я бессмысленно злился на них за то, что они недотягивают на диджея Стоуна или команду «Флэмбойен» со двора школы № 38, за то, что поют о вещах неправдоподобных и не имеют понятия о том, кто такие, например, «Файв Ройалз», за то, что не знают всего того, о чем было известно мне. Но Эм-Пес с его застенчивостью и до ужаса банальными стихами не вызвал во мне ни капли раздражения. Может, Катя сказала бы, что все дело в наркотиках, но этот парень даже запал мне в душу. Я понял, что мира без рэпа он просто не представляет и что, сочиняя эту песню, не кривил душой. Мне стало вдруг чертовски стыдно за свои былые резкие суждения. Тяга этого парня к рэп-рифмам напоминала необъяснимое желание научиться забрасывать на крышу сполдин.
Вернулась Катя и, когда Эм-Пес закончил выступление, воскликнула:
— Здорово. Сам сочинил?
— Да. Я и один мой друг.
— Молодцы.
— Эти слова только у меня в голове, — сказал Наверное-Марти, страстно желая, чтобы его слушали. — Мы не записали их на бумагу.
Катя взяла меня за руку. Что-то изменилось. Я совершил нечто такое, что пришлось ей по душе, вероятно, она оценила мою заинтересованность выступлением Наверное-Марти. Похоже, именно этого мы с ней ждали всю ночь, как будто прорвало невидимую запруду или спали оковы с Катиного желания узнать меня ближе. Или, быть может, что-то произошло во мне самом. Я сейчас купался не в кокаиновой прохладе, а в теплой любовной реке, словно принял экстази — наркотик, эффект которого я лишь воображал себе, нередко с возмущением, как то, которое испытал несколько минут назад, еще только начав слушать речитатив Наверное-Марти.
Мы с Катей вернулись кокну, без гитары. Наверное-Марти поставил другой диск. Шоу закончилось.
— Что с Питером? — спросил я шепотом.
— Он влюблен, — ответила Катя. Ее тон говорил о том, что она считает это состояние редкостным и преходящим, а к страдающим этим недугом относится скептически и с сочувствием. — Дуня укладывает его спать.
— Замечательно, — произнес я, удивляясь самому себе. Впрочем, то, о чем сообщила Катя, и впрямь показалось мне замечательным.
Она, видимо, восприняла мои слова как намек.
— Скоро я их всех отсюда попрошу.
Я кивнул в сторону соседней комнаты, вспомнив про матрас.
— Может, просто исчезнем? А остальные пусть продолжают веселиться.
— Нет. Там постель не для этого.
— Не для чего?
— Чего угодно. На ней спит только моя сестренка.
— Какая еще сестренка? — спросил я удивленно.
— Она живет в Вашингтоне с нашими приемными родителями. Иногда я привожу ее сюда на выходные. Ей всего четырнадцать. Мне бы хотелось перевести ее в какую-нибудь здешнюю школу.
— Думаешь, удастся? Если она такая юная, родители наверняка ее не отпустят.
— Тут ей было бы лучше.
На этом разговор закончился. Я попивал пиво, пока Катя выпроваживала остальных. Роландо до последнего растирал спину Дирдри, свесившей голову между согнутыми коленями, — будто пытаясь ладонями вытянуть из ее тела озноб кокаиновой ночи. Когда все трое наконец ушли, Катя, ничуть не смущаясь того, что должно было последовать, поставила диск Ван Моррисона «Астральные недели». Я испытывал чувство благодарности и в то же время некоторый страх — наверное, оттого, что звучал острый, как скальпель, дебютный альбом Моррисона. Я ощущал себя почти таким же обнаженным, как эти песни.
Наконец-то мы были одни. Катя прикурила косяк от своей сигареты, протянула его мне, заперла дверь, и мы направились к матрасу.
— Итак, зачем ты сюда пришел, Дилан?
По-моему, это очевидно, подумал я, но вслух ничего не сказал.
— Как же твоя подруга?
— Эбби?
— Если так зовут ту темнокожую красавицу, то да, Эбби. Я иногда вижу ее на Телеграф-авеню.
— Правда?
— Там несколько книжных и другие магазины. Она меня не узнает.
— Эбби вечно куда-нибудь торопится, — сказал я, и перед глазами, будто кадр из клипа «Сентрал Лайн» «Попадая в солнечный свет», возник образ Эбби, шагающей по людной Телеграф-авеню мимо попрошаек в кожаных одеждах за несколько сотен баксов. Но, несмотря на этот образ, предрассветная темень Эмервилла, Ван Моррисон и божественный запах секса, приправленный дымом марихуаны, все сильнее затягивали меня в свои сети.
— Мне всегда кажется, что она рассержена, — произнесла Катя. — Ты, конечно, ответишь, что это не мое дело. И будешь прав.
— Ничего подобного я не собираюсь говорить, — ответил я, пораженный и обрадованный ее словами. — Эбби, может, и в самом деле такая. Иногда трудно определить, какой у человека характер, даже когда сближаешься с ним.
— Не понимаю.
— Это как в твоей песне. Порой все становится ясно лишь в какой-то определенный момент, которого следует дождаться. — Я был безмерно благодарен Кате за то, что она назвала Эбби рассерженной. Мне хотелось приласкать ее, щедро одарить прелестями оргазма за объяснение моей непутевой жизни этим мимоходным замечанием.
Несколько лет тому назад я прочел одну книгу — триллер, персонажи которого занимались саморазрушением, ввязываясь в любовные интрижки. Одна из героинь, морально принижавшая себя и своих сексуальных партнеров, считала, будто она опасна для других, потому что хлебнула в жизни немало горя. Страдание заставляет людей вновь и вновь совершать преступление — в этом, насколько я понял, заключалась главная идея книги. Эта героиня была сиротой или в детстве стала жертвой насилия — я уже не помнил, что именно с ней произошло, — поэтому и не сходилась с людьми, которым посчастливилось миновать все жизненные трагедии. Книга не была чем-то особенным, но увлекала — я не мог не дочитать ее, хоть она с самого начала раздражала меня несформулированным утверждением, что счастливчикам не следует и на порог пускать людей, на чью долю выпала масса страданий. Что неудачник непременно попытается отравить жизнь баловня судьбы, просто не сумеет устоять перед таким соблазном. Когда я читал это, в моем окружении не было ни одного счастливчика. Впрочем, я никогда не встречал их — ни прежде, ни теперь.
Совершенно неожиданно Катя Перли показалась мне живым опровержением той книги, опровержением, в котором до этой минуты я не нуждался — или не знал, что нуждаюсь. Я прочел тот дешевый дрянной роман на одном дыхании потому, что испугался собственного жизненного опыта, решил, что и я опасен для нормальных людей. Катя доказала: это полный бред. Направляясь в ее логово, я думал, что иду за падшим ангелом, собираясь заняться саморазрушением. Оказалось, Катя не падший, а, наоборот, светлый ангел. Доказательством тому служили Наверное-Марти, Питер и постель ее сестренки. А главное — мое собственное присутствие здесь. Катя протянула мне руку именно в тот момент, когда я остро нуждался в этом.
Просто Катя была настолько же светла, насколько и несчастна. И все понимала. Я же действительно представлял собой опасность — не потому, что много страдал, а потому что отвергал свою прошлую жизнь. И оттого не сделал чего-то, что должен был. Катя заботилась о сестре и о Наверное-Марти, Мингус отдал свою почку, а Авраам и Франческа носили Барретту Руду-младшему суп и курятину. Я представил, как исхудавший Барри достает из судка куриную ножку и выдавливает на нее горчицу. В то время как другие творили добро, мы с Эбби вели ожесточенную борьбу друг с другом, пытаясь выяснить, кто из нас двоих пребывает в депрессии. Прячась от былого страдания, я заморозил свою жизнь. Я потерялся в уловках и в перепалках, оставив родной порог за три тысячи миль. У Кати была кровать для сестры из Валла-Валла, а у меня только «Фальцет-шкатулка» и «Твои так называемые друзья».
Десять месяцев назад я отправил Роудсу Блемнеру из «Ремнант» аннотацию к дискам «Сатл Дистинкшнс». Он не звонил мне, чтобы подтвердить получение, целых две недели. Я не выдержал и сам позвонил.
— Ты получил мою аннотацию?
— Конечно.
— Что-то не так?
— Все так. Я передал ее в художественный отдел. Диск будет выпущен в соответствии с планом.
— Ко мне есть какие-нибудь претензии?
— Это не лучшая из твоих работ, Дилан. — Роудс развил в себе умение быть убийственно прямолинейным, как его кумиры — Билл Грэхэм, Р. Крамб и прочие. — Признаюсь, я разочарован. Ты ведь так настаивал на выпуске дисков «Дистинкшнс». Я надеялся, ты отнесешься к этой работе серьезнее.
— А на мой взгляд, это лучшее из всего, что я написал.
— Я так и подумал, что ты скажешь это. Аннотация изобилует глубокими мыслями, наверное, поэтому ты и решил, что прекрасно справился с задачей. Но я увидел в ней и кучу разного дерьма, начиная с цитат в самом начале, этих размышлений Брайана Эно. Я убрал их.
— Да пошел ты, Роудс. Верни мне аннотацию.
— Я уже написал одобрение. Ты за нее, может, еще и «Грэмми» получишь. В номинации «Лучшие пустые разглагольствования».
Я попытался защититься:
— Я хотел описать ситуацию…
— И пошел по неверному пути. Когда читаешь это, создается впечатление, будто ты целый год сидел в какой-то каморке, слушал только «Дистинкшнс», а потом решил написать историю черной музыки. Так и кажется, что ты от чего-то упорно уходил. Быть может, от результатов какого-то собственного исследования. И потом, на кой черт ты цитируешь «Кэш Бокс»? Подобные штучки обожают британцы: написать о ныне живущем музыканте и привести цитату из выпущенного аж в семьдесят четвертом году журнала.
Я сидел на матрасе, как будто выдернутый из времени, перебивая кокаин марихуаной и рукой начиная исследовать колено официантки, — при этом вспоминал придирки Роудса Блемнера и прочие подобные неприятности, которые мирно соседствовали на одной из полок моей памяти. Я не смог предложить Джареду Ортману достойный вариант окончания фильма, и это означало для меня почти то же самое, что и стишки Эм-Пса, пустая комната Катиной сестры, зеленый треугольник отца — я был вынужден останавливаться в движении, не завершив начатое. Я жил не так, как следовало. Меня побеждали служащие поискового отдела Зелмо Свифта, укорял суп Франчески. «Певец до сих пор жив», написал я в своей аннотации, хоть и не до конца верил в это. Певец и его сын, с одной парой почек на двоих.
Мы с Катей разговаривали и целовались, а мысли в моей голове сменяли одна другую с бешеной скоростью. Потом все исчезло. Я и официантка заигрывали друг с другом несколько месяцев и наконец добрались до решающего момента. На покрывале поверх матраса, в свете уличного фонаря, под стоны Ван Моррисона, одурманенные наркотой, мы порывисто прижались друг к другу. Наши горячие руки скользнули к поясам джинсов, с наших губ слетел вздох. Расстегнулись пуговицы, молнии. У Кати была нежная, блестящая, словно резиновая, кожа, когда я прикасался к ней, мне казалось, она сплошь покрыта кокаиновой пылью. Создавалось впечатление, что я ласкаю диковинное марципановое животное. От пупка к лобку на Катином животе тянулась изящная полоска золотистых волос.
Я остановился в тот момент, когда обычно делаю паузу. Меланхолия у самого входа, человек, замерший в размышлениях. Я подумал: «На этом можно и закончить. Довольно. Так будет лучше». Мне всегда кажется, что полезнее притормозить, чем окунаться с головой в неизведанное.
— Я кое-что возьму, — прошептала Катя. — Минутку.
— Хорошо, — ответил я.
Мои блондинки всегда были как Лесли Каннингем, они шагали по жизни, не ведая страданий, или, по крайней мере, производили такое впечатление. Невозмутимые богини, взирающие на меня с подозрением. Хэзер Уиндл, девочки Солвер, упаковавшие вещи и навеки укатившие прочь на своих роликовых коньках. Теперь моей блондинкой была Катя Перли. Наконец-то одна из них отдалась мне — полностью, не торгуясь. Только она была другой: более реальной, пронизанной страданием. Обычным, быстро блекнущим божеством, последним из множества. Моя молоденькая официантка не казалась мне плодом воображения. Впрочем, и все остальные тоже. Даже девочки Солвер, как бы давно я ни видел их.
Я обладал своей блондинкой. Но мой член внутри нее быстро обмяк — наверное, из-за наркоты и потому, что я не чувствовал ее в презервативе, который она принесла. Тогда Катя Перли обошлась со мной невообразимо великодушно. В свете уже зарождавшегося дня, наполнившем комнату, под звуки оживавшей улицы, в окружении людей, спящих в соседних комнатах этого дома, похожего на космический корабль, Катя сама себя довела до оргазма. Сделала то, о чем я мечтал. Ее лицо и шея покраснели, виски озарились розовым сиянием. Она предложила мне поласкать ее роскошную грудь, сводя меня с ума своим воркующим голосом.
Я проснулся потный и осмотрел полупустую комнату. Нас с Катей заливал яркий солнечный свет, мы уже не обнимались — лежали по краям широкого матраса, сбив смятую простыню к ногам. Катя приоткрыла глаза и сказала, что я могу остаться, но мне хотелось уйти. Я оделся, вышел из дома и направился по Сан-Пабло-авеню домой. Было десять утра. Я не пожелал остаться у Кати Перли, потому что просто не мог находиться рядом с ней. Равно как и с Эбигейл Пондерс. Да и вообще оставаться в Калифорнии. Ведь здесь не Дин-стрит и не Гованус — а я собирался направиться именно туда. В то место, которому когда-то принадлежал. Я позвонил в авиакомпанию, заказал билет на самолет, принял душ и лег спать. Проснувшись во второй раз, упаковал вещи и положил в карман кольцо.
Глава 6
Я почти не помню, что со мной происходило в период между выстрелом Мингуса и моим отъездом в Вермонт, в колледж. Трагедия, естественно, тут же превратилась в общественное достояние Дин-стрит, а о том, что я был ее непосредственным свидетелем, никто из посторонних так и не узнал. Поэтому мои личные воспоминания вскоре перемешались с разнообразными слухами, ходившими по кварталу. Я не особенно сочувствовал арестованному Мингусу и с беспощадным равнодушием ждал возможности поскорее удрать, покинуть место преступления и забыть о нем. Убийство Руда-старшего как будто стало завершением той пирамиды причин, по которым я жаждал уехать из Бруклина. Мингуса я теперь боялся. Он убил человека из пистолета. Раньше я не сталкивался ни с чем подобным. Шел 1981 год, эпоха ножей, бейсбольных бит и самодельных нунчаков: огнестрельное оружие в разборках еще почти не применялось. При мне неоднократно размахивали пистолетом, пугая противника, но в ход не пускали.
Вермонт подействовал на меня как противоядие. С того лета, когда я отдыхал там тринадцатилетним подростком, мне довелось побывать в Вермонте всего лишь раз, семь месяцев назад, в конце января — я ездил на собеседование в Кэмден. Зеленые вермонтские холмы укрывали тогда снежные шапки — поразительно белые, — а ветер был такой сильный, что с легкостью проникал под куртку. Тем не менее я повсюду чувствовал присутствие Хэзер Уиндл и ощущал дыхание того лета. На автобусной станции в Кэмден-тауне я купил коробку сладкого печенья, сделанного в форме кленовых листиков. Вспомнив, как меня учила Хэзер, я положил одно на язык, чтобы оно растаяло, и в тот момент у меня произошла самая сильная и самая невинная за последние четыре года эрекция.
А впрочем, Вермонт колледжа не походил на Вермонт Хэзер Уиндл. Хэзер в Кэмдене выглядела бы местной жительницей, одной из тех девочек, что приходили в бары, куда выбирались также и студенты, покидая территорию своего огороженного заповедника — безмятежного студенческого городка. Это засаженное сочной травой убежище было похоже на заведение для релаксации: нервным городским обитателям здесь позволялось играть во что бы они ни пожелали. Наряженные в кожу, меха и батик, студенты Кэмдена — а вместе с ними и я, ставший одним из них, — жили в сельскохозяйственном районе Новой Англии. Обшитые белыми досками общежития, кривые яблони с несъедобными плодами, невысокие каменные ограды, поросшие лишайником, убегавшие извилистой змеей в глубь леса, мимо старинных кладбищ с могилами людей, умерших в восемнадцатом веке — таков был облик студенческого обиталища. Колледж славился своим экспериментальным отделением искусств, созданным еще в двадцатых годах, мастерами современного танца и студенческими браками. А также тем, что здесь учились капризные детки богатых родителей — постоянные клиенты частных психологов, готовящиеся ради сохранения семейных традиций вслед за старшими братьями и сестрами поступать в Гарвард или Йельский университет, отдыхающие на курортах Средиземноморья, проводящие лето в Восточном Хэмптоне и оттягивающиеся в VIP-залах «Студио 54».
Я подобных вещей не понимал и почти не знал, что такое классовые различия. Равнодушие к деньгам привил мне отец с его художественным аристократизмом и, как ни парадоксально, Рейчел со своей радикально-демократической гордостью: меня воспитывали монах и хиппи, оба намеренно выводящие себя за рамки классовой иерархии. Если наша семья не могла позволить себе какие-то роскошества, то на этом не заострялось ни малейшего внимания, причуды высшего общества казапись нам глупыми и пустыми. Однако у меня всегда были карманные деньги — не меньше, если не больше, чем у любого другого ребенка в Бруклине. Правда, все же не так много, как у моих одноклассников из Стайвесанта, живших на Манхэттене. То есть я занимал некую среднюю позицию. Да, конечно, так оно и было. Я относился к среднему классу.
Большинство студентов Кэмдена в муниципальных школах никогда не учились. А я даже не приближался к частным — ни к бруклинской «Френдз», ни к «Пэкер», ни к Сент-Энн. В первые недели учебы в Кэмдене меня познакомили с несколькими бывшими учениками этих школ, в основном из Бруклин-Хайтс, — с ребятами «тоже из Бруклина», как их представили. Ни одного из них я прежде не встречал. Когда они узнавали, что я учился в тридцать восьмой, а потом в двести девяносто третьей школе, сразу начинали считать меня придурком, а мое пребывание в Кэмдене, среди них, — аномалией. Я и мои новые знакомые смотрели друг на друга будто на жителей Зазеркалья.
Так уж распорядилась судьба: меня поселили вместе с парнем, тоже не избалованным деньгами. Мэтью Шраффт приехал из города Кин, штат Нью-Гэмпшир, — местечка, подобного Кэмдену, только, разумеется, без знаменитого колледжа. До шестого класса Мэтью учился в школах Манхэттена, но потом благосостояние его семьи резко ухудшилось: отец оставил работу младшего продюсера в «Си-Би-Эс Ньюс», решив переехать в маленький городок и заняться писательским трудом. Потому-то Мэтью так сильно походил на местных жителей Кэмдена. Мы подружились, и тот факт, что мой сосед и товарищ ничем от меня не отличается, нередко служил мне утешением. Нас часто видели в столовой по другую сторону стойки — в белых передниках, ставящих тарелки с сосисками и яйцами на подносы своих же однокашников. Это занятие ради денег было наименее благородным и наиболее бросающимся в глаза, и те студенты, которые подрабатывали тайком от других, могли позволить себе, стоя в очереди за едой, посочувствовать мне и Мэтью.
Нам досталось весьма неожиданное для первокурсников жилье: лучшие комнаты в «Освальд Хаус». «Освальд» считался самым шумным и хулиганским среди восьми общежитий. В каждом из них была центральная «квартира»: апартаменты со смежными комнатами, камином и отдельной ванной. В этих гнездышках обычно поселяли аспирантов или приглашенных профессоров, но в «Освальде» не рекомендовалось появляться человеку, желающему хотя бы ночью отдохнуть в тишине. Пол в нашей гостиной постоянно вонял пивом, на ковре чернели следы от сигарет, двери пестрели порнографическими картинками и граффити, которые по-панковски обильно украшали шипы. «Освальд Хаус» напоминал пиратский корабль, держащий курс на райский сад. В конце лета выставленные на подоконники динамики почти круглосуточно изрыгали музыку, а на траве вокруг здания отдыхали студенты. До нас в этой центральной квартире общежития обитали два волосатых хулигана. Заменив их парочкой стриженых новоиспеченных студентов, администрация полагала, что провела операцию по пересадке «Освальду» сердца — очевидно, нам с Мэтью надлежало мало-помалу урезонить все общежитие. С тайно возложенной на нас миссией мы так и не справились, однако, узнав о нашем въезде в эту квартиру, жильцы «Освальда» несколько пали духом.
В своем стесненном положении мы с Мэтью компенсировали наши лишения музыкой. «Дево», команда, к творчеству которой в школе я не питал ни малейшего интереса, в колледже стала знаком нашего отличия — не только от компаний хиппи, но и от шикарных панков, слушавших Боуи, получавших по подписке «Интервью» и отдыхавших на каникулах в Париже. «Дево» пели в духе «Токинг Хедз», но настроены были более жестко. Любовью к «Дево» мы подчеркивали свое неприятие деления людей на классы. Это слово превратилось у нас в ярлычок, который мы цепляли на кое-какие вещи.
Ясным сентябрьским днем в первую неделю пребывания в Кэмдене, еще не свыкшиеся с мыслью, что мы распрощались со средней школой, и практически никого не зная в колледже, я и Мэтью отправились на беседу с Ричардом Бродо, новым ректором Кэмдена. Нам сразу показалось, что он так же напуган этим учреждением, как и мы. Подобно отцу Мэтью, он оставил корпоративную работу, решив заняться чем-то более настоящим, — в его речи, обращенной к нам, проскользнуло желание оправдаться. Бродо определили на эту должность в надежде, что он наведет в колледже порядок после ухода его харизматического и чересчур толерантного к студентам предшественника. На первую встречу с Бродо явились только мы — легковерные первокурсники.
— Я расскажу вам одну историю, — сказал Бродо. — Мальчишкой я обожал пиццу, и когда отец брал меня с собой в пиццерию, постоянно просил купить мне сразу две штуки. Мы садились за столик, я с жадностью принимался за первую пиццу, а глазами уже поедал вторую, в то время как отец просто за мной наблюдал. Я даже не успевал почувствовать вкус того, что я ем. Однажды отец сказал мне: «Сын, когда ты ешь первую пиццу, не смотри на вторую. Не берись за нее, пока не разделался с первой». Год назад я вдруг вспомнил эти слова: взглянул на свою жизнь и понял, что смотрю именно на вторую пиццу.
Лично ко мне эта притча не имела отношения, но, услышав ее, я не мог не вспомнить о Роберте Вулфолке и его младшем дружке, когда они пытались отобрать у меня пиццу на Смит-стрит. Я задумался, известно ли Ричарду Бродо о проблеме единственной пиццы, и решил, что нет.
По окончании беседы с Бродо мы с Мэтью побрели к себе. Полоска земли позади дальнего ряда общежитий, не засеянная травой, называлась «Край света». Там студенты из нашего «Освальда» как раз открывали новую пивную бочку. Мы с Мэтью встали в очередь, решив купить по кружечке пенного пивка. На зеленые холмы вдали ложились предзакатные тени.
— Ну и что он нам пытался втолковать? — спросил Мэтью.
— Когда ешь первую пиццу, подумай, не заришься ли ты на вторую?
— Что-то вроде того. В любом случае я страшно проголодался.
У нас появилась шутка: когда мы стали уже позволять себе опаздывать с утра на занятия, то называли это «поеданием первой пиццы». Как выяснилось позже, вторую мне не суждено было попробовать здесь, в Кэмдене.
В первую же неделю учебы мы побывали на знаменитой пятничной вечеринке: администрация, не желая выпускать своих подопечных на уикенд в город, снабжала студентов пивом и пластиковыми стаканчиками. В одиннадцать вечера мы уже дергались под звуки «Супер Фрик» Рика Джеймса в толпе из трех сотен студентов. Происходило это в «Фиш Хаус», другом хулиганском общежитии, чуть менее знаменитом, чем наше. Тогда-то, глядя на танцующих под фанк ровесников, я впервые возгорелся желанием понять это странное явление: легкое, спокойное восприятие белыми людьми запутанных межрасовых отношений — тогда как мне эти отношения всю жизнь не давали покоя. Все, кто окружал меня, ни на секунду о них не задумывались, для них имела значение лишь музыка, под которую так здорово танцуется. За Риком Джеймсом последовал Дэвид Боуи, затем «ОуЭмДи», а после — Арета Франклин. Я всей душой отдался танцу, на время обретя свободу.
Спустя пару часов мы с Мэтью привели на «Край света» двух девчонок. Лысую полоску земли окутывала чуть разбавленная туманом тьма. Эйми Данст и Мойра Хогарт учились, как и мы, на первом курсе и тоже жили вместе. В волосах у них блестел лак, на веках лежали густые тени. Мы начали разговор еще в общежитии, точнее, пытались начать. Вечеринка дала трещину: повсюду народ корчился от рвотных спазмов. Тогда мы взяли по стаканчику грейпфрутового сока с виски и вышли в темноту, наполненную пением птиц.
Эйми жила в Лайме, штат Коннектикут, а Мойра в Палатине, пригороде Чикаго. Как постепенно выяснялось, настоящих городских жителей в Кэмдене вообще не было. Если кто-то говорил, что приехал из Лос-Анджелеса, Чикаго или Нью-Йорка, это означало — из Бербанка, Палатина или Маунт-Киско.
Увлекшись заигрыванием, я похвастался, что отлично знаю порядки и правила городской жизни.
— На тебя когда-нибудь нападали грабители? — спросила Эйми.
Как и все, кто когда-либо задавал мне этот вопрос, она подразумевала столкновение на темной улице — мрачные бандиты, угрожающие пистолетом, обыскивающие жертву. Очевидно, вспоминая при этом «Жажду смерти» или «Коджака». Последним, кто обобрал меня, был Роберт Вулфолк. В квартире наркодилера. Я понятия не имел, как можно красиво рассказать об этом кому-то.
— Со мной случалось нечто поинтереснее, — неожиданно для себя выпалил я.
— Что?
— Если хочешь, покажу.
Девчонки переглянулись и хихикнули, а Мэтью уставился на меня в недоумении.
— Ну, не знаю, — протянула наконец Эйми, неуверенно отступив на шаг.
— Ладно, не буду.
— Покажи мне, — смело сказала Мойра.
— Ты уверена?
— Ага.
— Больно не будет, можешь не бояться. Но стакан лучше поставь на землю. — Мы оба опустили стаканчики. Быстро выпрямившись, я почувствовал легкое головокружение. Вермонтский воздух был как прохладительный напиток — что-нибудь легкое после виски и пива.
— Эй, какого черта ты на меня пялишься?
Все трое вздрогнули, испуганные моей внезапной репликой. На «Краю света» мы были одни. Никто не мог помешать мне разыгрывать спектакль.
Я не сводил глаз с Мойры. Остальные для меня в тот момент не существовали.
— Я с тобой разговариваю, красотка. Какого черта ты на меня вылупилась, а?
— Прекрати, — попросила Эйми. Мойра молча смотрела мне в глаза, напуганно, но и дерзко.
— Эй, я ведь не собираюсь тебя обижать. Все в порядке. Поди-ка сюда на минуту. — Я показал на землю перед собой. — Ты что, боишься меня? Я ничего тебе не сделаю. Просто хочу поговорить.
Мое пьяное «я» демонстрировало блестящее знание нужных слов и интонаций. А ведь я никогда не произносил их вслух.
Мойра шагнула ко мне, принимая вызов. Наверное, на этом мне следовало остановиться, но кураж требовал, чтобы я доиграл спектакль до конца. Внутри меня кипела настойчивая ярость, которую я никогда прежде не выпускал наружу.
— Да ведь мы с тобой почти друзья, а? Ты мне нравишься, красавица. — Я положил руку на плечи Мойры и притянул ее к себе. — А доллара в долг у тебя не найдется?
— Ничего ему не давай! — крикнул Мэтью, поняв, что я всего лишь шучу. Но я был вполне серьезен.
— Нет, — ответила Мойра.
Как можно более осторожно обхватив запястье, я завел ей руку за спину — поймал в ловушку, в какую тысячу раз попадался сам. Мойра согнулась, едва не касаясь головой моей груди.
— А ты уверена? Дай-ка я на минутку загляну в твои карманы.
Я обшарил передние карманы ее вельветовых брюк и вытащил несколько купюр. Мойра страдальчески изогнулась. Мне стало жаль ее, и я разжал руку. Жертва отпрыгнула к подруге.
Я поднял руку со смятыми бумажками.
— Я в долг беру, можешь не сомневаться. Сама ведь понимаешь, я не хотел тебя обидеть.
Мойра рванула вперед и со всей силы толкнула меня. Я почувствовал, в каком она бешенстве, — мне было прекрасно знакомо это ощущение. Мы вместе повалились в траву, хмельные, взбудораженные. Получалось, что, унижая Мойру, я подцепил ее. В воздухе одуряюще запахло сексом, как на танцполе в «Фиш Хаус». Соблазн витал в Кэмдене повсюду, и вот мы с Мойрой попались в его сети. В школе, в старших классах, я никогда не осмеливался поцеловать девочку, предварительно не заговорив ей зубы. Здесь властвовали другие законы. Когда Мойра схватила купюры, я взял ее за руку, и мы вместе засунули деньги в карман ее брюк, катаясь по росистой траве и отчаянно целуя друг друга в губы, волосы, уши. Мэтью и Эйми ушли, растворились в темноте.
Одной вещи я никогда не смог бы объяснить Мойре — что сексуальную составляющую унижения я познал давным-давно, задолго до сегодняшней разыгранной сценки.
Мы провели ту ночь в квартире девушек, а Мэтью и Эйми воспользовались нашей в «Освальде». Целых две недели после этого я и Мойра считались влюбленной парочкой — вечность по меркам Кэмдена, где репетиции взрослой жизни из-за ограниченного пространства и времени ужимались до предела. За один-единственный выходной ты мог закрутить и к ночи уже оборвать настоящий роман, а раны от расставания залечить уже к следующей пятничной вечеринке. Позже, до самого Хэллоуина мы с Мойрой вообще не общались. А потом вдруг, в День благодарения столкнувшись у одного из общежитий, снова разговорились, начали шептать друг другу на ухо, смеяться, быстро снова очутились в одной постели и стали проводить вдвоем ночи напролет. Все подумали, что мы опять вместе, но в действительности и я, и она спали в это время и с другими. К концу семестра между нами вспыхнула очередная ссора, и наш роман опять завершился. Так и продолжалось: ты вновь и вновь сближался с одними и теми же симпатичными девчонками. Потерь практически не было.
Унижение Мойры на «Краю света» составило основу моего грандиозного плана: окончательно отделаться от Бруклина. Я чувствовал, что мне чего-то не хватает. В Кэмдене со своей короткой стрижкой, в свитере и сапогах как у ребят из «Квадрофении» — в Стайвесанте все это считалось стильным — я выглядел весьма ординарно на фоне остальных студентов. Однако мои великие познания в области уличной жизни никто не ставил под сомнение. Никому, кроме меня, законы улицы, по сути, не были известны. В Кэмдене я заслужил уважение, представляясь всем ходячим артефактом городского гетто. Я притворялся, будто понятия не имею, что такое «Баджа» и «Аспен», будто фамилии моих однокурсников — Вестингауз или Трюдо — не говорят мне ровным счетом ни о чем. Я курил «Кул», носил бейсболку «Кэнгол», звал приятелей «Эй», что особенно забавляло двух старшекурсников, Раньона Кента и Би Прюдома, которые тоже жили в «Освальде» и продавали наркотики. Они даже дали мне прозвище «Эй-эй». Словом, я сотворил из себя карикатуру на Мингуса. И этой новой роли прекрасно соответствовала моя ненависть к самому себе и к однокашникам. Я стал популярным.
У меня здорово получалось издеваться над богатенькими, но определенную черту я никогда не переступал. Я «разводил» их на деньги, хитростью заставляя заплатить то за мой ужин, то за стрижку, или купить мне пачку «Кул». Я льстил им — одновременно раздражая, — разглагольствуя о том, что впереди у них — и позади тоже — безоблачная жизнь, в которой совсем не нужно задумываться о деньгах. Деньгах, на которые покупались их «BMW» и наряды «от-кутюр», поздние завтраки и ужины в «Ле Шеваль». А впрочем, в сельском Вермонте покупать на перечисляемые студентам-богачам деньги было нечего. Абсолютно нечего. Кроме наркотиков. Наркота, кстати говоря, тоже помогла мне заслужить всеобщее уважение.
Кэмден бесплатно предоставлял нам пиво, кинофильмы, противозачаточные средства и психотерапию. И кое-что еще — вещи, которым не было точного названия, например, занятия нетрадиционной музыкой, проводимые доброжелательным седоволосым профессором, доктором Шакти. Все знали, что на экзамене он никого не завалит, независимо от того, сколько у тебя прогулов. Бесплатно выдавались нам и некоторые книги или кассеты. Само собой, родители студентов только посмеялись бы, услышав, что здесь столько «бесплатного»: ведь стоимость абсолютно всего включалась в непомерную и тем знаменитую на всю страну плату за обучение. Кэмден был прославлен и привилегирован, поэтому многие забывали о том, что некоторые из учащихся совсем небогаты. Считалось, что все мы плывем на корабле в каютах первого класса — на тех, кто драил палубу, никто не заострял внимания.
Наркотиками администрация, естественно, не снабжала нас, но закрывала глаза на процветание в стенах колледжа наркомании, а мы принимали это за дополнительную привилегию. Дельцы вроде Раньона и Би проворачивали свои операции совершенно спокойно. Во дворах общежитий студенты открыто курили травку, а на знаменитых вечеринках в «Пелт Хаус» все угощались пуншем с ЛСД, сварганенным в «специализированной лаборатории». Во время просмотров «Головы-ластика», «Человека, упавшего на Землю» и других фильмов в небольшом зрительном зале плавали облака дыма. Дверь в комнату во время кокаинового сеанса было принято закрывать, но зеркала после этого возвращали на стену лишь немногие, а кое-кто и вовсе не убирал, словно используя в качестве кофейных столиков. Совсем как Барретт Руд-младший.
Я нюхал кокаин только за чужой счет — специально так делал. Днем, когда нам следовало находиться на занятиях или в лаборатории, мы с Мэтью, Раньоном и Би играли в баскетбол на пустынной площадке за футбольным полем — спортивностью Кэмден не отличался. Раньона и Би забавляли мои уловки и хитрости: я обучился им еще в детстве, но тогда не смел применять на практике. Мы с Мэтью стали для этих двух парней приемышами, талисманами. Все четверо мы носили солнцезащитные очки, играли с некоторой небрежностью, а в перерывах курили в тени сосен. То, что я не платил за наркоту, Раньона и Би либо раздражало, либо, наоборот, умиляло, в зависимости от настроения, на которое мне было плевать. По вечерам я постоянно торчал у них, а когда кто-нибудь из студентов заходил чего-нибудь купить, то неизменно принимал участие в опробовании. Но однажды я все-таки заплатил — перепечатав на машинке статью Раньона об «Эз Ай Лей Дайинг» и исправив тьму грамматических ошибок. Наверное, он на то и рассчитывал. Когда я принес ему готовую работу, мы вместе подкрепились дурью.
Три или четыре раза в ту осень, накурившись или наглотавшись наркотиков с утра пораньше и покинув компанию, с которой оттягивался — Мойру или Мэтью, или старшекурсников, — не в силах бороться с охватившими меня странными желаниями, я уходил в лес и поднимался в воздух. Костюма у меня не было, да я уже и не считал себя Аэроменом. Я просто летал, расходуя избыток энергии на захватывающее дух маневрирование между ветками деревьев. Может, именно потому, что я не претендовал теперь на звание Аэромена, у меня снова получалось летать. В Бруклине я никогда на это не отваживался — если не считать подпрыгиваний за сполдином. Наверное, мне мешала трусость — осознание того, что я не наделен столь необходимыми Аэромену качествами. Героизмом, умением вызволять кого-то из беды. Здесь же некого было спасать, разве что нас самих от себя же — но об этом я, восемнадцатилетний студент, и не помышлял. Просто отправлялся за футбольное поле и баскетбольную площадку, поднимался на холм и взлетал — без определенной цели. Взлетал и оглядывал сверху наш студенческий городок, остановившиеся башенные часы, пытаясь поверить в собственную удачу, в свое невероятное, сводившее меня с ума бегство с Дин-стрит. Я всматривался в холмы, твердя себе, что они реальны, касался на лету веток деревьев, будто присваивая их себе. Не знаю, помогали мне эти прогулки или нет. Я никогда не был уверен в том, что умею наслаждаться свободой — настоящей, не той, которая окрыляет тебя под воздействием наркоты или какой-нибудь песни. Кстати говоря, песня, если слушать ее два или больше раз подряд, очень редко звучит одинаково. И все-таки белый порошок, запах ментола, ветер с ароматом сосен — в те дни, когда я летал, мне казалось, мои ноздри выворачиваются наизнанку и я могу обонять свой собственный, пропитанный мятной свежестью мозг.
В один из этих дней, уже приземлившись, на обратном пути я наткнулся на Джуни Элтек. Джуни была стройной хиппи из «Освальда», которую частенько в поздние часы заставали в комнате Би. Мы подозревали, что Би с ней спит, но тот никогда в этом не сознавался. Раньон называл ее «Аспект». В тот день Джуни в одиночестве гуляла по лесу. По выражению ее лица я понял, что она видела меня в воздухе.
— Чем ты здесь занимаешься? — ошеломленно спросила Джуни.
— Тренирую летные навыки.
— О!
— Круто?
— Еще бы!
Пристрастие к кокаину, сленг и полеты — все, что представлялось мне раньше опасным, — здесь даже не пахли угрозой. И неудивительно. Кэмден для того и был создан: чтобы все чувствовали себя здесь уверенно и ничего не боялись. Вот в таком я пребывал состоянии, когда однажды поздним вечером в начале декабря мне позвонил Артур Ломб.
Глава 7
Артур говорил торопливо. За несколько месяцев до ареста Мингуса и осуждения его на десять лет тюрьмы Руд, Ломб и Вулфолк завязали странное предпринимательское партнерство. Вылилась эта затея в нечто еще более непостижимое: сотрудничество Артура и Роберта. В общем, эти двое взяли деньги, которые я заплатил им за комиксы и кольцо, где-то наскребли недостающую часть суммы, купили гидрохлорид кетамина и благополучно его перепродали, в том числе и Барретту — я сразу об этом догадался. На выручку они купили новую партию товара, решив повторить операцию. Но Роберту вдруг понадобились деньги, и он в сопровождении каких-то дружков из Гованус Хаузис явился к Артуру и потребовал свою долю. Мать Артура перепугалась и позвонила в полицию. Роберт озверел и пообещал, что убьет Артура, если тот в назначенный срок не принесет ему требуемую сумму. Артур теперь боялся показываться на улице: черные приятели Роберта отлично запомнили его белое лицо и знали, что он должен Роберту деньги. Барретт же еще перед Днем благодарения уехал в Филадельфию к какому-то врачу и до сих пор не вернулся…
Я остановил Артура. Признаться, я был рад, что меня не касаются все эти новости Дин-стрит.
— Мингуса больше нет, защищать тебя некому, — произнес я с чувством глубокого удовлетворения.
В ответ из трубки донеслось лишь тяжелое дыхание Артура, и я уловил в этой неподдельной панике призрачное напоминание о притворных приступах астмы.
— Купи билет на «Грейхаунд», — сказал я. — За пару дней мы продадим твой товар, можешь не сомневаться. Вернешься в Бруклин с нужной суммой.
Уговаривать Артура не пришлось. На следующий день, во вторник, любуясь устилающим землю первым снегом, я стоял на автобусной станции в Кэмден-тауне. Подъехавший автобус начертил на девственно ровном снежном покрове две глубокие полосы и со вздохом остановился. Водитель выскочил из кабины и направился к багажному отсеку. Артур, приехавший без багажа, вышел из автобуса и, дыша в приставленные ко рту ладони, двинулся ко мне. Одет он был в легкую не по сезону короткую куртку. На плече висела спортивная сумка «Адидас».
— Ты здесь учишься? — спросил он в замешательстве.
— Это город. До колледжа отсюда три мили.
Артур посмотрел на меня недоуменно.
— Не волнуйся. Запросто туда доберемся, — хвастливо сказал я. Так у нас было заведено: старшекурсники или аспиранты на машине, а порой и кто-нибудь из профессоров, по особому стилю одежды безошибочно узнавали тебя среди местных жителей, останавливались, забирали и везли по узким улочкам умирающего индустриального центра, по трассе 9А, проложенной среди леса, до самого колледжа. Мне хотелось произвести на Артура впечатление. Я взял его сумку, и мы зашагали мимо закусочной «Данкин доунатс» к серой мокрой дороге.
Нас подобрал в городе сам Ричард Бродо, директор колледжа. Быть может, он приезжал сюда полакомиться пиццей. Я представил Артура, назвав его другом, приехавшим навестить меня из Нью-Йорка. Бродо сдержанно поприветствовал Артура и тут же напомнил мне, что посетители, остающиеся в студенческом общежитии на ночь, обязаны зарегистрироваться. Кроме того, они не имеют права находиться на территории городка более трех суток. Я заверил его, что мы не нарушим правила. С того дня, когда Бродо рассказывал нам о двух пиццах из его детства, он заметно постарел — так мне показалось. Неужели три месяца в Кэмдене для ректора были столь же насыщенными, как и у меня? — задался я вопросом. Признаться честно, мне стало жаль Бродо. То, что он предложил подвезти нас, служило доказательством его тщетного желания завоевать доверие студентов, найти наконец свое место в царстве бессистемности — место, которое до сих пор ему не удалось отыскать.
Дворники сбивали снег к краям ветрового стекла.
— Ты тоже учишься в колледже, Артур? — поинтересовался Бродо.
— Э-э… Гм… Я собираюсь в Бруклинский колледж. Только… гм… мне надо сдать еще парочку зачетов. В общем, я решил поступать в следующем году.
Его не вполне внятное объяснение заставило Бродо переменить тему разговора. Он улыбнулся и заметил:
— Для вермонтской зимы ты оделся не очень подходяще.
— Не-а, нормально, — ответил Артур. — Сэр.
Бродо довез нас до самого «Освальда», хотя кто угодно другой высадил бы возле будки охраны. Мне вдруг нестерпимо захотелось пригласить его в гости, и я задумался, бывал ли он хоть раз в студенческих общежитиях. Наверное, нет. Вот бы Мэтью удивился. Назвал бы мой порыв «Дево». Я не боялся, что Бродо увидит у нас наркотики или украденное имущество городка — мы никогда не забывали об осторожности. Но в последний момент я все же отказался от своей безумной затеи.
— Желаю приятно провести время, Артур. Может, надумаешь поступить в следующем году в наш колледж.
— Гм… Да, было бы здорово. Спасибо.
Буквально за два дня Артур Ломб прославился на весь Кэмден. Своими широченными джинсами, толстыми шнурками, несвязной речью, постоянными упоминаниями рэпа и граффити, а также неподдельным изумлением, в которое его привело наше обиталище, Артур поразил моих новых друзей и стал живым доказательством того, что все мои рассказы о Бруклине — не пустая болтовня. Как ни смешно, но Артур ошеломил студентов своей реальностью. Когда он заявлял, что должен пересчитать деньги, прежде чем отдать им наркоту — я, Артур и Мэтью убили все утро на раскладывание порошка по бумажным пакетикам, — мои однокашники снова и снова убеждались в его «уличной закалке». Наконец-то в городке появился настоящий наркоделец. Артур чувствовал, что привлек к себе общее внимание, и, как мог, этим пользовался. Так что было сложно определить, кто над кем смеется.
На третий день пребывания Артура в городке Раньон и Би отвезли нас в город. В хозяйственном магазине мы стащили по банке «Крайлона» и «Красного дьявола». Вечером того же дня мы вчетвером разрисовали боковые стены «Освальда», потом местную пивную, а заодно и здание отделения искусств. Мы с Артуром украсили Кэмден «истинно» бруклинским граффити, воспроизвели на стенах тэги «ДМД» и «БТЭК» — группировок, парни из которых когда-то подписывали слово «той» над нашими собственными метками. Здесь все эти буквы ровным счетом ничего не значили, хотя если бы мы вывели их на какой-нибудь стене в Бруклине, то вскоре познакомились бы с реанимацией в «Колледж Хоспитал». Раньон и Би несколько раз написали большими буквами «КОРОЛЬ ФЕЛИКС» — слова из какой-то их личной шутки. А затем, увидев, как ловко мы с Артуром орудуем распылителем, отказались от этого занятия.
Наверное, Артуру казалось, что он попал на съемки «Субботнего шоу» под названием «Наркоделец-самурай» или «Нанюхавшиеся кокаина в Вермонте». Я старался вести себя так, словно полностью адаптировался к местной жизни и нахожу нынешние условия своего существования привычными и естественными. При этом страстно желал, чтобы Артур усвоил одну вещь: Дилан Эбдус был на Дин-стрит подобием принца в нищенских одеждах, лишь выжидающего возможность занять свой трон. Естественно, я не хотел даже упоминать о произошедшем между Мингусом, Барреттом-младшим и Старшим. И отказывался признаваться самому себе в том, насколько долго я знаком с Артуром. Я даже об Аврааме ни разу не завел речь, только хвастливо заявил, что отцу почти ничего не известно о том, как я здесь живу. А ведь именно он внес большую часть платы за мое обучение. Но в тот момент это казалось мне незначительным.
В пятницу утром мы ужаснулись при виде своих художеств. Ярко-красные, наспех выведенные на пасторально-белых стенах буквы в свете солнца смотрелись шокирующе. Создавалось впечатление, что мы с Артуром, будто лунатики, вставшие с постели, отобразили в этом псевдоискусстве свои городские кошмары. В столовой только и говорили о том, кто мог это сделать, а Раньон и Би шепотом заверяли меня, что бояться нам нечего.
Мы лишь по-новому оформили нашу детскую площадку, только и всего.
По правилам, мне следовало уже сегодня посадить Артура на автобус и отправить обратно в Нью-Йорк, но я плевать хотел на все установления. Я жаждал показать ему пятничную вечеринку — в тот день она проводилась в «Крамбли Хаус». По городку гуляли слухи, будто я устроил у себя в квартире распродажу дури по сниженным ценам, а у Артура уже набралась сумма, которую требовал Роберт Вулфолк. Но мы желали устроить себе еще одну грандиозную ночь — и заодно употребить остатки наркоты.
Квартира была в нашем полном распоряжении. Мэтью в последнее время ночевал у подруги-второкурсницы, которая жила за пределами городка, в северной части Кэмдена, поэтому Артур расположился в комнате Мэтью. Я спал в гостиной, где, кроме кровати, стоял еще диван и был устроен камин. В тот день мы бесцельно слонялись по квартире, освещенной бледным декабрьским солнцем, приходя в себя после минувшей ночи и готовясь к следующей. Артур не выносил записи «Дево», «Уайр» и «Резиденте», которыми мы заслушивались в эту пору, поэтому залез в фонотеку Мэтью и выбрал альбом «Дженезис». В конце концов мы завалились подремать, я — на свою кровать, Артур на диван. Болтать нам было, по сути, не о чем. За нас говорила истерически-завораживающая музыка.
Внезапно раздался громкий стук в дверь. Оказалось, это не покупатель, а уборщица — женщина, имени которой я не знал, хоть и видел ее уже в сотый раз. Бледная, полная, согбенная — я смотрел на эту тетку как на старую каргу, хоть и было ей максимум лет сорок. В обязанности уборщицы входила чистка туалетов, поэтому мы всегда без слов впускали ее. Едва заметно кивнув Артуру, она удалилась в комнату Мэтью, к которой примыкала ванная. Я перевернул пластинку и вновь завалился на кровать.
Уборщица была из армии «серых» местных жителей — владельцев частных домов и земельных участков. Их отличали бесцветность и готовность раболепствовать, они усердно выполняли свою работу и обращались со студентами настолько почтительно, что были почти незаметны. Мы знали имена некоторых из них — людей в возрасте, отдавших Кэмдену по двадцать—тридцать лет, переживших несколько поколений не только студентов, но и профессоров и превратившихся в своего рода талисманы колледжа. Точнее, знали из прозвища — Скрампи, Рыжий. Их постоянно видели с газонокосилкой или снегоочистителем. Уборщицы же туалетов практически ни с кем не общались. Раньон называл этих служащих «людишками», а однажды даже поднял бутылку с пивом и сказал:
— Хотел бы я когда-нибудь сердечно поблагодарить людишек, в особенности того из них, который в субботу, пока я кайфовал, убрал мою блевотину из коридора.
«Дженезис» не успели доиграть до конца, когда в дверь вновь постучали. На сей раз Карен Ротенберг и Эвклид Барнс. С ними дружила Мойра, впрочем, и я, наверное, тоже. Теперь эти двое стали еще и моими клиентами — они уже приходили к нам за наркотой в эти дни. Высоченный Эвклид учился на предпоследнем курсе. Темные длинные волосы, которые он никогда не затягивал в хвост, постоянно лезли ему в глаза. Это был безобидный апатичный гей, вечно роптавший на судьбу за то, что в колледже не может найти себе сексуального партнера. Карен выступала в роли его защитницы — темноволосая упитанная девица с готическим макияжем и утомленным выражением лица. Вечно крутясь возле Эвклида, она производила впечатление человека, который оберегает себя от своих же тайных желаний. Однажды, несколько недель назад — по меркам Кэмдена, это целая вечность — мне пришлось отразить двойное нападение Карен и Эвклида. Теперь оба сосредоточили внимание на Артуре — безумном детище Бруклина.
Эвклид снял куртку, бросил ее на стул, достал пачку сигарет и принялся вертеть в руках.
— Что слушаете? — полюбопытствовал он.
— «Дженезис», — ответил я.
— Чушь. На «Дженезис» ни капли не похоже. Убавь громкость.
— Где Мойра? — спросила Карен.
— Понятия не имею.
— Она сказала, встретимся у вас.
— Впервые слышу.
Карен плюхнулась на диван у ног Артура, выдергивая его из дремы. Было похоже, что эта парочка подцепит его быстрее, чем я ожидал.
— Я почти на мели, — сознался Эвклид, закуривая сигарету. — Предки что-то долго не перечисляют деньги. — Он вытащил четыре двадцатки и бросил их на столик. — Это все, что у меня осталось.
— Да и у нас уже почти ничего нет, — сказал я. Артур, потирая глаза, принял сидячее положение.
Эвклид недовольно нахмурился.
— А я думал, к вам теперь постоянно можно обращаться.
Он перевел взгляд на Артура — сопровождение наркотиков, прибывших из Нью-Йорка в Кэмден. Я вдруг сообразил, что наш бизнес не должен вот так просто закончиться. К своему посредничеству я относился как к забаве, к несерьезному подражанию деятельности Раньона и Би. Но, быть может, и Раньон с Би смотрели когда-то на свои первые сделки с иронией.
— Ужасная музыка. Какие-то мелодии троллей.
— Что еще за мелодии троллей? — спросил Артур.
— Музыка, которую слушают тролли, — ответил Эвклид, качая головой, что означало: если ты не понимаешь, о чем речь, это трудно объяснить. — Я сразу сказал, что Дилан и Мэтью под влиянием «Освальда» изменятся, но не думал, что это произойдет так быстро.
— Эта общага — рассадник троллей, — согласился я.
— О-ой! Пожа-алуйста, поставьте вот эту, — протяжно, как ребенок, взмолилась Карен, достав из стопки пластинку «Психоделик Ферс».
— Черт, я терпеть это дерьмо не могу, — полусонно пробормотал Артур, и мы трое рассмеялись.
— Сама поставь, — сказал я. Карен поменяла пластинку и прибавила звук. Ричард Батлер зарычал песню «Да, влюбиться». Под эти звуки растворилась дверь, в комнату без стука вошла Мойра и присоединилась к нам. Артур, высыпав на кусок стального листа порошок, принялся разделять его на дорожки. За четыре дня Артур освоился с местными порядками. По его представлениям, продавец не должен принимать наркоту вместе с клиентами, но здесь эти правила не имели значения.
Я был счастлив видеть Мойру. Компания Артура, Раньона и Би успела мне поднадоесть, я скучал по Мойре. Меня радовало и то, что она пригласила ко мне Карен с Эвклидом и что вошла без стука. Признаться, когда Мойра села рядом со мной под рев гитар, при котором разговаривать не имело смысла, я подумал, что, может, даже люблю ее и что хотел бы стать для нее чем-то большим, чем просто партнер по сексу. В постель мы затащили друг друга двумя днями позже, после отъезда Артура, совершив очередную ошибку, которая дорого мне обошлась. Но тогда я просто сидел и улыбался, надеясь, что Мойра разделяет мои чувства.
Мы все стали нюхать кокаин Артура. Когда он выразил по этому поводу недовольство, я закрыл ему рот, заплатив за часть порошка деньгами, которые достались мне как посреднику. Если честно, каждым своим жестом я старался досадить Артуру. Внешне относясь к нему как к закадычному другу, я лишь маскировал свои истинные чувства. Пока мы нюхали кокаин, Карен и Эвклид засыпали Артура вопросами: «Почему ты никогда не завязываешь шнурки? Удобно ли ходить в таких джинсах? Не пытался ли кто-нибудь когда-нибудь подергать тебя за штанины?» Когда Артур посмотрел на меня с мольбой о помощи, я отвернулся, обнял Мойру и засмеялся. Любуйся, Артур: У меня есть девочки и друзья, и веселье, посмотри, какой я крутой. Если бы ты только знал, насколько замечательная у меня будет жизнь, то никогда бы не променял меня на Мингуса. А он никогда не променял бы меня на тебя. Мы с Артуром словно до сих пор играли в шахматы, два жалких зануды на крыльце Пасифик-стрит. Я наконец сразил его ферзя, но позволял ему продолжать игру, хоть и знал наверняка, что он проиграет. Через пару дней я собирался отправить Артура назад, к Роберту Вулфолку. Но сначала хотел показать ему все, что он потерял, — все, что я выиграл.
Было пять часов. В столовой уже выстроилась в очередь первая волна студентов. До вечеринки в «Крамбли» оставалась еще уйма времени, но на дворе уже сгустились сумерки, мы ловили кайф под надрывную музыку. У нас полным ходом шла собственная вечеринка. Тащиться на ужин было неохота. Если бы мы проголодались, Карен могла свозить нас в город — пять человек легко разместились бы в ее «тойоте». Я знал, что скоро к нам подтянутся и другие: кто за наркотиками, кто просто так. И что вот-вот вернется Мэтью со своей подружкой — ужасно скучной, заражавшей и Мэтью своим постоянным унынием. Знал, что потом мы всей толпой поднимемся к Раньону и Би, а затем будем пить безвкусные напитки, смотреть на своих друзей и врагов, танцевать в «Крамбли», непохожие на себя и все же остающиеся прежними. В какой-то момент Эвклид пристанет к Артуру, позоря и себя, и его. Попытки утешить парня превратятся в настоящую драму, которая не завершится до самого рассвета. Все понимали, что вечер пройдет именно так, и никто не мог ничего изменить — в этом-то и состояла вся прелесть. Распорядок пятничного вечера был вырезан в камне.
Уборщица вышла из соседней комнаты, прижимая к себе желтое ведро со всем остальным внутри него, будто защищалась. Наверное, прислушиваясь в уборной к звукам из нашей комнаты, она дрожала от страха и молила бога поскорее отправить нас на ужин. Но время шло, мы никуда не уходили, поэтому ей ничего не оставалось, как собраться с духом и покинуть свое убежище. Ей предстояло пройти мимо нас пятерых, сидящих на кровати и диване, обогнуть кучу пластинок, которые Карен разбросала по полу. Уборщица прошмыгнула к двери с проворностью и безропотностью жертвы. Мне показалось, она даже пробормотала «Простите», быть может, мысленно. Был ли ей понятен смысл нашего разговора о наркоте или нет, не знаю, но во всяком случае в ее кроличьих глазах — она прятала их, торопливо шагая к выходу, — я увидел страх.
Когда дверь за ней закрылась, мы, все пятеро, купающиеся в звуках безумной музыки, умолкли как по команде.
Из руки Карен выпал свернутый в трубочку доллар. В ошеломлении она прижала ко рту ладонь.
— Что. Это. Было.
— Черт! — воскликнул Артур.
— Я совсем забыл, что она здесь, — пробормотал я, не обращаясь ни к кому конкретно. Мысли замелькали в голове с бешеной скоростью. Я допустил чудовищную ошибку.
— Думаете, она видела? — спросила Карен, расширяя свои как будто птичьи, накрашенные черным глаза.
— Конечно, видела, — ответила Мойра. — Или тебе так не кажется?
Мы поняли, что нас застукали, но еще не знали, что за этим последует. Несколько лет назад — Мойре наверняка была известна эта знаменитая кэмденская история — одного студента, распространявшего наркотики, заботливо предупредили о том, что к нему собирается наведаться полиция Вермонта. Кто-то из сочувствующих однокурсников посоветовал ему закрыть квартиру и на выходные исчезнуть из городка. Кэмден старательно оберегал своих студентов от нежелательных стычек с законом, очевидно, считая, что талантливым эксцентричным деткам не под силу вписаться в жесткие рамки взрослого мира. И что в тягостные учебные годы они имеют право жить как хотят. Такова была негласная установка нашего учебного царства, раскинувшегося посреди леса.
Итак, одна из «людишек» узнала, что в моей квартире в «Освальде» коллективно нюхают кокаин. Чем это мне грозило? Вероятно, ничем. Уборщица могла никому ничего не сказать.
Или вообще не понять, что именно она видела. Главное, я не продавал в этот момент наркотики. Наверное, следовало сделать вид, что не произошло ничего сверхъестественного — просто забавная нелепость. В голове у меня зазвучал голос Раньона, уговаривающего взглянуть на ситуацию именно так. Я попытался заставить себя не вспоминать слова, которые мы произносили — которые она могла слышать.
— Кошмар, — сказал Эвклид, нарушая затянувшееся молчание. — Уборщица, запертая в ванной, будто сексуальная рабыня. Неужели вы думали, что мы о ней не узнаем?
— Определенно она не моя сексуальная рабыня, — ответил я.
— Даже и не пытайся откреститься теперь, — продолжил дразнить меня Эвклид. — Ты и Артур, вы оба грязные животные. Хорошо еще, что мы пришли, и бедняжке удалось сбежать. А кормить ее вы собирались? И угощать наркотиками?
— Само собой, старик, — ответил Артур, забавляясь шуткой. — Платить в жизни приходится за все.
— Я так и подумал, — произнес Эвклид.
— А хорошо, что она свалила, — сказала Карен. — Я захотела по-маленькому.
— Представляю, как ты напугала бы ее.
— Сходи посмотри, не развела ли там эта рабыня костер, — велел Эвклид. — Может, ей пришло в голову подать дымовой сигнал своим подругам.
— И проверь, не сожрала ли она мыло, — добавил Артур.
Страсти улеглись, и наша теплая компания продолжила отдыхать. Когда появился Мэтью, мы вновь вернулись к недавней сцене, наперебой рассказывая ему сильно приукрашенные подробности: женщина промчалась мимо нас с пугающей скоростью, Карен чуть не надула в штаны, Артур подумал, что это агент ФБР по борьбе с наркотиками, и чуть не проглотил все, что оставалось. В десять вечера, ужиная в «Ле Шеваль» — спасибо кредитной карточке мамы Карен Ротенберг, — мы все еще смеялись, вспоминая про уборщицу. На следующий день я поведал эту историю Раньону. Тот, как я и предполагал, посоветовал не придавать особого значения случившемуся. Вскоре все забылось.
Спустя две недели никто из нас уже не вспоминал и о визите Артура Ломба — слишком много событий происходило с нами каждый день. Мы с Мойрой пережили наш третий роман, разбившийся о чудовищное взаимное непонимание, и с помощью друзей преодолели душевную боль, описать которую были бы не в состоянии. Подобно самому студенческому городку, окутанному сумерками и холодом, мы съежились, замороженные зимой, поэтому подходивший к концу семестр казался нам чем-то второстепенным. Главное, что всех интересовало, — где провести каникулы. В Стимбоате? На Мастике? Лично я собирался обратно на Дин-стрит, но не особенно над этим задумывался. Мои мысли витали вокруг дней грядущих. С кем мне удастся переспать в следующем семестре? Я уже наметил себе несколько девочек, на которых в самом начале почему-то не обратил внимания. А впрочем, прошедший семестр уже как будто омертвел, а вместе с тем умерли и все его ошибки и радости.
Вот в таком настроении я явился в последний учебный день на встречу с куратором, Томом Суиденом. Этот человек был еще и моим преподавателем по курсу искусства скульптуры — типичный кэмденский ваятель. Неприветливый, неразговорчивый, завзятый курильщик, в неизменно пролетарской одежде — рабочих ботинках и заляпанных гипсом джинсах. Он чем-то напоминал парня из рекламы «Мальборо». Мы недолюбливали друг друга: меня раздражала его деланная страсть к бедности и фальшивая неграмотность, его — моя ложная неординарность и напускная искушенность. Тем не менее, мысленно разделяя преподавателей на тех, кто более близок студентам, и консервативных властолюбцев, я относил Суидена к числу «своих». Не знаю почему, возможно, потому, что был уже опьянен колледжем.
Суиден ждал меня в своем кошмарном кабинете в одном из зданий отделения искусств, окруженный переполненными пепельницами и кипами бумаг. Когда я явился — с десятиминутным опозданием, — он, сдвинув брови, изучал мои оценочные листы. Значит, теперь ему было известно, что социологию я провалил, а по английскому не сдал последнюю контрольную.
— Неважные ваши дела, — произнес Суиден, складывая в стопку листы.
— За английский можно не волноваться, — сказал я, словно находился на переговорах о купле-продаже. — Работа наполовину готова.
На самом деле я даже не притрагивался к ней.
Заляпанными пальцами Суиден почесал щетинистый подбородок. Подобно Брандо, он играл роль ниже собственного уровня, и это причиняло ему боль. Он не умел спонтанно облечь свои глубокие мысли в банальные слова, поэтому лишь хмурился.
— К концу семестра я еще больше увлекся скульптурой, — сказал я, прибегая к лести.
— Да, но… — Суиден замолчал, предоставляя нам обоим возможность по своему усмотрению додумать начатую фразу.
— А нетрадиционную музыку я сдал, — сообщил я.
— Доктору Шакти?
— Но это не основной ваш предмет. Я прав?
Как будто Суиден не знал, что провалить нетрадиционную музыку было невозможно.
— Вас что-нибудь… — Он то и дело поглядывал на дверь. — Вас, Дилан, что-нибудь не устраивало в первом семестре?
— Нет. Просто, наверное, это был период адаптации. После каникул я постараюсь сконцентрироваться. На занятиях и на остальном… Меня все устраивает.
Суиден опять почесал подбородок. По-видимому, взвешивая мои слова и оценивая, можно ли на этом завершить беседу. Раздался стук в дверь.
— Да-да, войдите. — В голосе Суидена я уловил нотки раздражения, но не удивления.
На пороге стоял Ричард Бродо, ректор.
— Я просмотрел эти документы, — произнес он, показывая Суидену папку с какими-то бумагами. Суиден что-то проворчал, кивнув на стол. Бродо добавил папку к остальным кипам.
— Ричард… Гм… Это Дилан Эбдус, — с явной неохотой сказал Суиден. — Мы как раз беседуем.
Бродо пожал мою руку и пристально посмотрел мне в глаза.
— Ага, — ответил он. — Мы совсем недавно виделись.
— Точно, — согласился я. — Здравствуйте.
— Я вас подвез, правильно? Еще шел снег.
— Да.
— Как поживает ваш друг?
— Хорошо, наверное. Хорошо.
— Что ж, не буду вам мешать, — деловитым тоном произнес Бродо. — Документы просмотрите, когда сможете. Это не срочно.
— Ладно. — Суиден скорчил гримасу.
Бродо ничуть нам не помешал. После его ухода Суиден почти ничего больше мне не сказал. Только пожелал хороших каникул и удачи в написании контрольной. Закуривая сигарету, добавил еще: «Всего вам доброго». По-видимому, только для этого он меня и вызывал.
Письмо пришло спустя чуть меньше недели. В Бруклин. На имя моего отца. Авраам отдал его мне за завтраком, в распечатанном конверте, сдержанно произнеся лишь:
— Это, насколько я понимаю, тебе.
Письмо пришло накануне. Очевидно, Авраам читал его и перечитывал весь день и вечер, прежде чем решился отдать мне.
Оно было напечатано на тисненой кэмденской бумаге и заверено подписью Ричарда Бродо. В нем сообщалось, что за неоднократное нарушение установленных в Кэмдене правил — поселение у себя на длительный срок гостя, хранение и употребление наркотиков, — меня отчисляют из колледжа до окончания учебного года, то есть до того момента, когда мое дело будет разобрано на студенческом совете. Отчисление производилось и по другой причине: к концу первого семестра я не набрал академического минимума баллов. По истечении определенного срока меня обещали пригласить на экзамены для повторного поступления в колледж.
Выходило, что легенда о студенте из «Фиш Хаус», которому посоветовали на время прикрыть нарколавочку, основывалась на реальных событиях. Кэмден и впрямь умел защитить себя от столкновений с полицией. А также от меня и Артура Ломба. Избегая встречаться взглядом с Авраамом, я засунул письмо в карман джинсов. Отец продолжал завтрак, а потом вдруг в порыве зачитал мне газетное объявление о смерти Луи Арагона, французского поэта, простившегося с жизнью в возрасте восьмидесяти пяти лет. Теперь я мог делать что хотел — я был свободен. Закинув за спину рюкзак с недоделанными контрольными и подарками для друзей из Стайвесанта, я вышел из дома и направился к трамвайной остановке на Невинс. Дин-стрит ничуть не изменилась. О том, что я куда-то уезжал, напоминало лишь письмо в кармане.
Глава 8
Продолжилась моя учеба в Калифорнийском университете в Беркли. На большом расстоянии от дома, что согревало мне душу. Вермонт для жителей солнечного побережья Калифорнии — всего лишь северный штату черта на куличках. Здесь никого не интересует, где именно он находится. Тех баллов, что я заработал в Кэмдене, было слишком мало, чтобы заводить речь о переводе, поэтому я начал обучение с нуля, вновь поступив на первый курс. Университет оказался прямой противоположностью Кэмдена, этой теплицы, окруженной соснами, — он был азиатско-мексиканско-черно-белым студенческим морем в прибрежном городе. На занятиях в Кэмдене студенты рассаживались по десять-двенадцать человек за длинными дубовыми столами и принимались о чем-то спорить, подшучивать друг над другом и пижонить. Здесь же мы в основном делали записи, слушая бормотание профессора, стоявшего у микрофона на возвышении возле дальней стены. Наши руки двигались как манипуляторы рассаженных в несколько рядов роботов. Впервые в жизни я понял, как это — учиться.
Лучшим, что было в студенческом городке, мне казалась локальная радиостанция KALX. Ее диджеям предоставлялась полная свобода, они могли работать в любом направлении, поэтому в итоге всегда получалась грандиозная мешанина. Некоторые диджеи оставались на радиостанции и после выпуска из университета — им делали поблажку, отдавая дань основательности KALX: ее ведущие жили большой семьей, у каждого из них было прозвище, по которому и различались отдельные радиопрограммы. Я особенно любил «Маршал Стэкс», «Оповещающий Сигнал», «Командир Крис» и «Секс для тинейджеров». Харизматические, язвительные, ставшие для тебя почти родными диджей наполняли своими голосами дни и ночи в Беркли, где сезоны почти не отличались один от другого. В моей комнате на одиннадцатом этаже уродливой высотки-общежития, из окон которой была видна обсаженная пальмами дорога к заливу, диджей служили мне единственной компанией.
Располагалась радиостанция на Боудич-стрит, в маленьком белом здании из шлакобетона. Название было выведено над дверью синими буквами. KALX напоминала мне айсберг: большая ее часть — студии и аппаратные — находилась под землей, в подвальном помещении, наверху же располагался лишь офис, заставленный письменными столами с телефонами, и приемная с диванами из магазина эконом-класса. Дырки, тут и там прожженные в диванах сигаретами, сверкали набивкой. Я отправился в KALX при первой же возможности, вызвавшись посидеть на телефоне во время кампании по сбору средств на развитие станции. Моя смена начиналась в немыслимую рань, и диджей, когда я предстал перед ним, вытаращился на меня как на идиота. Потом он объяснил мне, что слушатель, жертвующий более двадцати пяти долларов, имеет право прийти в студию и получить фирменную футболку; а тому, кто перечислял на счет KALX свыше пятидесяти баксов, я должен был вручить одну из завалявшихся в студии пластинок. За время моей смены в студию звонили человек пятнадцать—двадцать. Я разговаривал с ними, прислушиваясь к доносившемуся снизу голосу диджея, который неохотно рассказывал в эфире о проводимой KALX кампании. В подвальное помещение мне пока не было доступа.
Позднее я спросил, не могу ли тоже стать диджеем, и меня включили в список кандидатов. Я продолжал работать волонтером, ожидая, когда до меня дойдет очередь. Запастись терпением следовало как минимум на год. Лишь по прошествии этого времени тебе могла выпасть возможность выходить в эфир хотя бы в ночные часы. Тренировали начинающих опытные диджей — те, кому ты внушал доверие. Подходить к работе надлежало крайне серьезно, в противном случае о ней можно было и не мечтать. Коллектив KALX, в соответствии с давними традициями Беркли, почти полностью состоял из волонтеров, однако не отличался ни местным ханжеством, ни мистицизмом, и жил в духе стоически-панковского изнеможения. Шел март 1983 года. В ноябре—декабре я планировал стать ведущим радиошоу, которое проходило по четвергам с двух до шести утра. Этой работой я и занимался три следующих года. Мизер, по стандартам KALX. Но в моей новой взрослой жизни это был весьма важный и продолжительный период.
Я назвался Бегущим Крабом. Если, отправляясь в Беркли, я лишь мимолетно подумал о том, что подражаю Рейчел в ее побеге на запад, то теперь зло шутил над самим собой, надеясь, что однажды она меня услышит. Наверное, ей стало бы интересно, что за двойник у нее появился. В начале каждого шоу я ставил «Причины быть веселым» Иана Дьюри, объявив эту песню своим гимном. Вскоре моей горькой самоиронии суждено было отправиться на свалку — а вслед за ней и списку предпочитаемых мною музыкальных записей. Мое шоу не пользовалось успехом. Я думал, у меня невероятное множество любимых песен, но, как выяснилось, буквально за несколько эфиров я прокрутил большинство из них по два-три раза, и это не понравилось администрации. А мне казалось, я произвожу на публику впечатление, щеголяя своей индивидуальностью, как в Кэмдене, когда мы с Мэтью слушали «Дево».
Одинокие предрассветные часы представлялись либо пустотой, либо зеркальным отражением. Я разговаривал или ни с кем, или с самим собой. Итак, я начал с начала — продвигаясь вперед на ощупь и делая все новые и новые открытия. Перед каждым шоу я приносил из провонявшей плесенью студийной фонотеки всеми забытые пластинки и обнаруживал среди них такие, которые сам никогда не мог достать. Особенно меня заинтересовали — я позволил себе признаться в этом — ду-воп,[12] ритм-энд-блюз и соул. Записи, сделанные на студиях «Стэкс», «Мотаун», а также «Хай», «Экселло», «Кинг», «Кент» и других, — Отиса Реддинга, Глейдиса Найта, Мэксина Брауна и Сила Джонсона. А еще я увлекся музыкой групп. Гармонично спетых коллективов. Я полюбил «Сатл Дистинкшнс».
И превратился в винилового наркомана: выискивал теперь в музыкальных магазинах редкие старые пластинки, которые прослушивал потом с особым вниманием. Несколько лет спустя все эти записи появились на компакт-дисках, а тогда приходилось довольствоваться поцарапанными скрипучими пластинками. Я читал аннотации Чарли Джиллета, Питера Гурланика, Грега Шоу, и мои личные соображения перемешивались с их высказываниями, которые со временем превращались в мои собственные мысли, — потому что я ставил, и ставил, и ставил записи. Я научился в нужный момент закрывать рот и пускать музыку. В промежутках между песнями я не высказывался от себя лично по поводу только что прозвучавшего, а зачитывал строчки из аннотаций на конвертах. Например, Ричарда Робинсона к пластинке Говарда Тейта «Бери, пока можешь»:
«Да, Говард — это „черный андеграунд“, признавали белые люди. В его музыке — душевное волнение соула, которого не замечаешь, если не прислушиваешься к песне сердцем. Таково все творчество Говарда: в нем бесстрастность самой земли, медленное движение от зарождающегося дня до сгущающихся сумерек».
Разве можно высказаться более красиво? По-моему, не имело смысла даже пробовать. Я зачитывал куски из аннотаций и ставил музыку — целую сторону пластинки. Вот так, в подвальной студии KALX я сделал для себя еще одно открытие: все время мира было моим. Я понял, что если человек верит в свое призвание, то готов отдать делу всего себя. Я почувствовал, что стал в чем-то похож на Авраама: подобно отцу, наносившему краску на целлулоидную ленту, я выстраивал тропинки в ночи, ставя двух — трехминутные композиции.
Общаться в студии было практически не с кем. Коллективные сборища здесь никогда не устраивались. Ты виделся только с теми людьми, которые сменяли тебя в эфире, и то мимоходом. Но я все же сдружился с компанией диджеев, в том числе и бывших, которые собирались, чтобы вместе поиграть в софтбол. Они именовали себя «Лигой людей». Мы встречались по воскресеньям на так называемой площадке глухой школы и, разделяясь на команды независимо от половой принадлежности, начинали игру без счета, но непременно с обилием пива и разных копченостей. Десять лет тренировок со сполдином и палкой от метлы сделали из меня неплохого бейсболиста, хоть и отличавшегося одним-единственным умением: бросать мяч. Остальные диджеи подшучивали над моей предсказуемостью.
Объяснить им, на какой узкой площадке я играл в бейсбол на Дин-стрит, что первая и третья базы располагались у нас на проезжей части, а второй служил канализационный люк на противоположной стороне улицы, было невозможно. Игра в Бруклине порой заканчивалась забрасыванием мяча в чье-нибудь окно. Все мои новые приятели родились и выросли в Калифорнии — и в детстве им не приходилось играть на дороге перед домами. Как-то раз, задумав произвести впечатление на одну девчонку из «Лиги людей», я в один день забил целых три контрольных мяча. То воскресенье могло бы стать самым счастливым в моей жизни. Если бы за моими бросками наблюдал и Мингус Руд.
Успехов в игре с «Лигой людей» я добивался без помощи кольца Аарона К. Дойли. Оно теперь лежало на полке в моем шкафу. О своей роли самого несчастного на свете супергероя я мало-помалу позабыл. Теперь я был калифорнийцем. Встречался с калифорнийскими девушками, жил в калифорнийском доме. Бросив учебу, потому что она больше не представляла для меня ни малейшего интереса, я начал работать музыкальным критиком в приложении к газете KALX «Аламеда Харбинджер». О кольце и Аэромене я вспомнил лишь через три года. После того как вновь испытал унижение.
С Люсиндой Хэкке мы поехали на концерт Джонатана Ричмана в Окленде. На втором курсе Люсинда перевелась в Беркли из Сент-Джона в Аннаполисе и стала поклонницей KALX. В этот ветреный мартовский вечер было наше третье свидание. После концерта мы сели в почти пустой автобус — на предпоследний ряд сидений — и поехали в Беркли. Быть может, мне захотелось доказать Люсинде или самому себе, что я нисколько не боюсь третьего пассажира автобуса — сутулого чернокожего парня в углу, — поэтому я и решил сесть прямо перед ним. На мне была шерстяная шапка, полосатый шарф и очки в черной оправе, как у Бадди Холли или Элвиса Костелло, — знак того, что я неравнодушен к рок-музыке. Но этому парню я наверняка казался карикатурной жертвой: Вуди Алленом, забравшимся в его автобус. Он подошел и локтем поднял мой подбородок, давая понять, что может прибегнуть к мерам и пожестче.
— Эй, ты. Это твоя подруга?
Люсинда моргнула. Мне показалось, окна автобуса окрасились в черный цвет. Водителю в кабине не было до нас дела. У меня запылали щеки.
— Доллара у тебя, случайно, не найдется? В долг?
Сценарий Восточного побережья ничем не отличался от уличной драматургии Западного. Или, может, этот тип что-то прочел на моем затылке. Я взял Люсинду за руку и увел к кабине. Мы сели прямо за водителем, но он даже не посмотрел на нас.
— Что ты собираешься делать? — шепотом спросила Люсинда.
Я шикнул, прося ее замолчать.
— Ты что, не можешь ответить на простой вопрос? — крикнул парень сзади. — Я с тобой разговариваю, слышишь, ты?
Вскоре он вышел через заднюю дверь, на прощание долбанув рукой по стенке азтобуса. Мы продолжили путь молча: я и водитель — сгорая со стыда, Люсинда ни жива ни мертва от страха. В ее глазах горело непонимание. Почему я злился на нее? Все произошло точно так же, как в последний раз во дворе школы № 293. Поразительно. Задаваясь массой вопросов, я знал, что никогда на них не отвечу.
С того дня я ни разу не звонил Люсинде. И никогда не надевал те очки.
Костюма Аэромена больше не было. Он гнил в полиции, в каком-нибудь пакете для вещественных доказательств или давно сгорел на свалке. Какая разница? Теперь я надумал создать нечто менее броское, поэтому отказался от плаща Супермена и решил остановиться на варианте с маской, на неком подобии Зеленого Шершня. Мне захотелось отобразить в новом костюме недавно возникшую во мне страсть к кино сороковых и пятидесятых, свои впечатления от нарядов марвеловских персонажей, которые в моем воображении смешались с безумными одеяниями ребят из «Кисе» и «Ти Рекс», и при этом позаимствовать некоторые элементы формы «Хьюстон Астрос». Наши накидки — Мингуса, Аарона Дойли, моя — все равно не помогали в полете. Я принялся ходить по магазинам Беркли в поисках подходящего костюма с неширокими лацканами на пиджаке, из коричневой или зеленой блестящей ткани — в общем, чего-то экстравагантного, запоминающегося и достойного высоких устремлений Аэромена. А потом я внезапно обнаружил, что мои поиски бессмысленны: Аэромена больше не существовало, поэтому наряды не требовались. Возможности кольца со времени моих полетов в лесах Кэмдена круто изменились.
Я узнал об этом однажды вечером, на абсолютно трезвую голову, забравшись на высокий холм, с которого были видны крыши роскошных домов на берегу, зеленые поля за студенческим городком, в том числе и «площадка глухой школы» па окраине равнины, простиравшейся до самого океана. Я ушел за город, чтобы собраться с духом, воскресить в памяти прежние полеты — не городские, а лесные и озерные. Я решил, что полечу вниз с холма и приземлюсь, быть может, прямо на «площадке глухой школы». Бороться за справедливость я в этот день не собирался — еще не обзавелся костюмом и не наметил никакого плана. Мне хотелось просто потренироваться.
Как только я надел кольцо на палец, сразу почувствовал разницу. Вокруг не сгустился, как прежде, воздух. Зато рука стала прозрачной. И все остальные части тела. Спотыкаясь, я побрел вниз по каменистой тропе, вертя головой в надежде увидеть хоть кусочек себя. Но пока кольцо сидело на пальце, я оставался невидимкой. Я мог пнуть ногой комок земли, кашлянуть или что-нибудь выкрикнуть — я слышал свой голос и кашель, — лизнуть палец и почувствовать, как на ветру испаряется слюна. Но я не видел себя.
Понятия не имею, что произошло с кольцом. То ли на него подействовал калифорнийский климат, а это значило, что оно находится в непосредственной зависимости от географического положения и меняет свойства при перемещении с востока на запад. То ли дело было в возрасте — возрасте кольца, не моем, ведь летал же, пусть и не ахти как, Аарон Дойли, которому в ту пору явно перевалило за пятьдесят. В конце концов я связал чудесное преображение кольца с личными качествами владельца. Когда в двенадцатилетнем возрасте я заполучил эту штуку, то счел, что она наделяет способностью летать всех потенциальных супергероев — даже если кому-то из них перед взлетом надо подпрыгнуть или проплыть на волшебном пузыре, или проехать на воздушной подушке. Я был уверен, что заполучил ключ к полету. В Беркли я понял, что ошибался. Возможность становиться незаметным — вот что отличало супергероев от обычных людей. Ведь вы никогда не видели этих ребят?
Если бы кольцо сохранило свои прежние свойства, то я, наверное, ни за что бы не связался с Оклендом — полетал бы над холмами и опять надолго убрал кольцо на полку. В тот момент во мне шевелился страх и кипела ярость из-за того, что меня унизили в присутствии Люсинды Хэкке. Полет, наверное, утешил бы меня. Но перемена в кольце сообщала о том, что Аэромен повзрослел. Невидимость гораздо больше подходила человеку, борющемуся со злом в условиях города. Я находился на пороге чего-то важного.
Я остановился, опьяненный своей невидимостью. Какая-то птаха, кажется, воробей, очевидно, решив передохнуть на склоне холма, устремилась вниз и врезалась мне в висок. Мы оба упали. Я приземлился на колени и ладони, почему-то ожидая новых ударов. Взгляд упал на лежавшую в пыли ошарашенную птицу. Я подумал, она умерла, но птаха шевельнула лапками и крыльями, поднялась и склонила набок голову. Я снял кольцо, посмотрел на свои ободранные ладони, прикоснулся к виску и обнаружил, что истекаю кровью.
Птица пристально смотрела на меня. Казалось, она не особенно удивлена, что я стал видимым. О моем существовании ей было уже известно. Потом, отлетев на безопасное расстояние, она снова принялась изучать меня. А затем внезапно развернулась — не то струхнув, не то уяснив для себя что-то, не то окончательно запутавшись, — и мы оба отправились своей дорогой. По земле, не по воздуху.
Глава 9
Первые компакт-диски, сменившие на полках в музыкальных магазинах пластинки, выпускали в широких коробках, похожих на конверты. Чтобы узнать, диск перед тобой или пластинка, нужно было прочесть надпись на упаковке. Рик Рубин ввел в рэп гитары, а «Эм-Ти-Ви» пригласили рэпперов на телевидение. «Ран Ди-Эм-Си» записали совместно с «Аэросмит» песню «Шагай этим путем». Пели, конечно, «Аэросмит», ведь рэпперы не умеют этого делать. Кокаин породил отпрыска — черные подсели на крэк, лучший продукт, предлагаемый на рынке, со времен… появления ЛСД? Или аятоллы Хомейни?
В Беркли, в пору правления Рейгана, ученики начальной школы Малколма Икс проводили перерыв на ленч в Хошимин-Парк.
В тот год я занялся осуществлением грандиозного проекта «Аннотации к альбомам», который так и не завершил. Мне хотелось, чтобы эту подборку выпустили в квадратном пластиночном конверте — их так обожают коллекционеры, в том числе и я. В него я мечтал поместить набор вкладышей — оригинальные аннотации, лучшие в истории современной музыки. Написанные Сэмюэлем Чартерсом, Нэтом Хентоффом, Ральфом Глисоном, Эндрю Луг Олдхэмом, а также самими музыкантами: Джоном Фэйхи, Дональдом Фейгеном, Биллом Эвансом. Я страстно желал включить в подборку отзыв Поля Нельсона об альбоме «Живи» группы «Вельветс», записанном в шестьдесят девятом — семидесятом годах, Грейла Маркуса о «Подпольных записях», Лестера Бэнгса о «Годз», Джо Струммера о Ли Дорси, Криса Кристофферсона о Стиве Гудмане, Дилана об Эрике фон Шмидте, Джеймса Болдуина о Джеймсе Брауне, Лероя Джоунса о Колтрейне, Хуберта Хамфри о Томми Джеймсе. Психиатра Чарльза Мингуса о «Черном святом и грешной леди». Кое-что из раскопанных мною восхвалений я зачитывал в эфире KALX, к примеру Дини Паркера, такими словами отметившего творчество Альберта Кинга:
«Если обстоятельства сжали вас в тисках или предал лучший друг, или почти не осталось денег, и вы уже на грани, найдите время и послушайте Альберта Кинга — он сумеет вам помочь. Или купите его запись просто из любопытства. Вот увидите: он коснется вашей души… Ставьте же пластинку на проигрыватель, опускайте на нее иглу… И утоните в блюзе…»
Мысль о том, что музыки как таковой в «Аннотациях к сборникам» не будет и что это может разочаровать покупателя, ни разу меня не посетила. Даже не знаю почему, возможно, я был просто ослеплен идеей соединить в одном сборнике отзывы о своих любимых композициях, изложенные на бумаге. Люди нередко вводят в заблуждение самих себя. Мне было двадцать три года, я искренне верил, что меломаны остро нуждаются в «Аннотациях к сборникам». А еще считал, что распространение крэка — настоящая эпидемия, и Аэромен просто обязан уничтожить основные точки его продажи в Окленде и Эмервилле.
Я направился в то место, которого больше всего боялся. В бар «Босунс Локер» на Шэттак-авеню близ Шестидесятой улицы — заведение, где выпивку можно было брать в долг, а белым показываться не рекомендовалось. На тротуаре перед баром постоянно толпились черные парни. Когда я смотрел на них из окна автобуса, проезжая мимо, неизменно вспоминал бруклинские Уикофф-Гарденс и Гованус Хаузис. Еще одной острой проблемой того времени считались перестрелки из машин на неспокойных окраинах Ричмонда и Эль Серрито, но у меня, переселенца из Нью-Йорка, до сих пор не было водительских прав, а прилежащие к Беркли города казались мне невообразимо далекими. И потом, я и представить не мог, каким образом человек-невидимка может прекратить автомобильную перестрелку, для этого ему по крайней мере понадобилась бы прозрачная машина. Поэтому я и отправился туда, куда мог добраться пешком, — в жуткий бар на Шэттак.
В семь часов вечера во вторник я вошел в «Босунс Локер», сжимая кольцо рукой в кармане. Я знал, что ко мне незамедлительно привяжутся, — в тот момент ни в чем другом я не был уверен настолько твердо. Разве только в том, что худшего мне удастся избежать — при помощи кольца. Однако оно предназначалось для других целей. Аэромен горел желанием защитить кого-нибудь. Наверное, в глубине души мне хотелось спасти Руда — Мингуса или Барретта-младшего, — людей, которых я покинул. Или Рейчел. Мингус ведь тоже от меня отказался, так уж складывалась моя жизнь. Я бросал тех, кому переставал быть нужен. С этой путаницей в голове я и вошел в «Босунс Локер». Потому-то задуманная мной операция прошла настолько по-идиотски.
Четверо черных — все, кто там был, — сразу же повернулись в мою сторону. Бармен с расширяющимися книзу баками, настолько огромный, что и сам защитил бы себя от кого угодно, два игрока лет пятидесяти за дальним бильярдным столом, и мальчик, или мужчина, — примерно моего возраста, а себя я считал уже мужчиной, — сидящий на высоком табурете у стойки. На парне была бейсболка «Кэнгол», желто-коричневый жилет с замшевым передом, поверх жилета — куртка. Все молчали, во всяком случае, я не слышал голосов за звучащей из динамиков песней Тедди Пендеграсса.
— Чего желаете?
— «Энкор Стим», пожалуйста.
— Есть только «Бад», «Миллер» и «Хейнекен».
— Тогда… Гм… «Хейнекен».
Парень у стойки пристально смотрел на меня. Получив свое пиво, я взглянул на него в ответ, поднял бутылку, словно произнося тост, и лишь после этого сделал глоток. Нас отделяли друг от друга пять свободных табуреток. Парень отвернулся к окну и задвигал головой — в такт музыке.
Я продолжил игру.
— Послушай…
— Эй, ты, не доставай меня.
— Я только хотел спросить…
— А я говорю, не доставай меня.
— Может…
— Отстань, я тебе сказал.
Я направился к одному из столиков и сел там. Минуту спустя парень подошел ко мне.
— Че ты хотел?
— Где можно купить наркоту? — спросил я.
Мой собеседник наморщил нос.
— Че именно?
Мне почудилось, что от него пахнуло крэком. Наркотиком, который «Ньюсуик» и «Шестьдесят минут» называли в те дни «средневековой чумой».
— Фрибейс. Мне бы хотелось купить бейс-рок, — сказал я.
— Да пошел ты на хрен! Думаешь, я знаю, где продают эту дрянь?
— Извини.
— Ищешь проблем на свою задницу?
Да, именно это я и искал. За тем и пришел сюда. Парень как будто прочел мои мысли.
— Нет, — ответил я.
— Тогда не притащился бы в этот бар. — Он неожиданно улыбнулся. — Послушай, приятель, бей-рок и фрибей — это совершенно разные вещи. — Несмотря на то, что парень проглатывал окончания, неправильно называя фрибейс и бейс-рок, он искренне желал, чтобы я понял его.
— Извини, — сказал я.
Парень оглянулся, проверяя, не смотрит ли на нас кто-нибудь, и подставил мне ладонь. Я хлопнул по ней.
— Как тебя зовут?
— Ди, — ответил я.
Парень снова посмотрел по сторонам. Бармен занимался своими делами, два других посетителя были слишком увлечены игрой.
— А меня можешь звать просто ОДДД.
ОДДД. Просто Од было бы лучше.
— Значит, ты нормальный пацан?
— Само собой. — Я задумался, не принял ли он меня за копа, и если так, то почему прямо об этом не спросит.
— Побалдеть, говоришь, хочешь?
— Деньги у меня есть.
Парень наклонился ко мне.
— Не в деньгах дело. Хочешь словить с ОДДД кайф, просто скажи.
— Понял.
— Лады. — Мы пожали друг другу руку. Я чувствовал, что ОДДД каждые несколько секунд подавляет в себе желание оглянуться на дверь — с такой частотой делать это не получалось. Бармен тем временем стал бросать на нас косые взгляды. Я представил, как в его голове крутится вопрос: «На кой черт ОДДД связался с этим белым?» Мне казалось, что все, кто приходит в этот бар, завсегдатаи здесь. И что они смотрят на меня как на копа. Однако как выяснилось позже — я прочитал об этом в «Окленд Трибьюн», — до сегодняшнего вечера бармен никогда не видел ОДДД и ни секунды не думал, что я коп. На полицейского я, по всей вероятности, не тянул.
ОДДД повел меня мимо бильярдных столов и игроков, которые по-прежнему не удостаивали нас внимания, в уборную. Вдоль стены там шли стальные писсуары. Пол с дренажным отверстием посередине понижался к центру, на выбеленных стенах чернели надписи. Дверей в кабинках не было, но мы все равно вошли в одну из них, встали друг напротив друга, прислонившись к перегородкам. Воняло аммиаком, больше ничем. Но когда ОДДД распахнул куртку и достал из внутреннего кармана стеклянную трубку, мне в нос ударил запах пота. Я задумался о том, как давно он принимал ванну и вообще был дома. Лишь потом я догадался, что это был запах страха.
Через несколько мгновений все перебила едкая вонь крэка, подожженного в стеклянной трубке. Я понаблюдал за ОДДД и попытался воспроизвести его действия. Мне никогда не доводилось попробовать курить кокаин, я только видел, как это делает Барретт Руд-младший. Кажется, ОДДД понял, что для меня это первый раз, и обрадовался. Это как будто придавало ему храбрости. Он показал мне, что такое «пеббл» и «твиг». Мы попробовали всего понемногу, и пару раз я даже почувствовал, как меня обдает упоительно прохладной волной. Но это ощущение быстро проходило, смаковать его было невозможным. Потом ОДДД продемонстрировал мне «биг рок» и попросил показать деньги. Я достал сорок баксов. ОДДД не взял их, сказав, что они пригодятся нам там, куда мы сейчас отправимся, если, конечно, я захочу оттянуться по полной. Я чувствовал: ему очень хочется, чтобы я согласился, и размышлял, в какой момент мне надо будет стать невидимым.
Когда мы вернулись в зал, увидели ярко накрашенных женщин. Одна из них обратилась к ОДДД:
— Эй, красавчик, куда торопишься?
— Закрой рот, сучка.
Бармен покачал головой, но я и ОДДД уже шли к двери. Плевать нам было на то, что он о нас подумал. Повернув за угол, мы зашагали по тонущему во мраке жилому району. Мне всегда казалось, что бедные кварталы Окленда ничем не отличаются от богатых — на окраинах те же газоны, те же дороги, и ни души вокруг. Только по автомобилям я видел, где нахожусь: припаркованным у обочин раздолбанным «кадиллакам» с проржавевшими крышами и крыльями другого цвета.
ОДДД шел впереди, я следом за ним. Создавалось впечатление, будто им движет некая сила, как будто он все еще горит, воспламененный «биг роком». Примерно в центре квартала мой провожатый остановился. Я сжал в кармане кольцо. ОДДД кивнул на выкрашенный розовой краской гараж, гармонировавший по цвету с жилым домом слева. Из гаража доносились звуки тяжелой музыки, под широкой дверью желтела полоска света.
— Готов?
— Конечно.
Мы пошли к боковому входу. ОДДД постучал в дверь, и она открылась, натягивая цепочку. На нас уставились чьи-то глаза.
— Эй, это я.
— Кто «я»? ОДДД? — Голос шел из глубины гаража.
— Да хватит вам, открывайте дверь.
— А кто это с тобой? — спросил тот, что смотрел на нас.
— Эй, пусти ОДДД! — крикнул голос изнутри.
Дверь закрылась, затем широко распахнулась. Мы вошли в гараж. В желтом свете единственной лампочки на раскладных стульях сидели вокруг электрообогревателя несколько человек. Очевидно, ОДДД никак не ожидал увидеть здесь этих четверых, по крайней мере одного из них. В то мгновение, когда ОДДД увидел того типа, встречаться с которым ему не хотелось, он резко повернулся, но было слишком поздно. Дверь за нами закрыли на замок.
Парень поднялся со стула, улыбнулся и протянул руку. ОДДД не взял ее, даже не взглянул ему в лицо. Вместо этого он наклонился к другому парню и с нотками заискивания в голосе сказал:
— Ты что, специально позвал сюда Хорто на? Чтобы мне насолить? Так не поступают, брат.
— Хортон рассказал нам, как ты обворовал его, ОДДД. — Именно этот голос мы слышали снаружи. — Так тоже не поступают.
— И ты поверил этому придурку?
Хортон наконец опустил руку.
— Себя ты, значит, придурком не считаешь?
— Сам-то ты зачем сюда приперся? Решил еще чего-нибудь стянуть? И что это с тобой за привидение?
Терпение ОДДД лопнуло. Я сразу понял это по исказившей его лицо гримасе. Из того же внутреннего кармана куртки, где лежала стеклянная трубка, он неожиданно достал пистолет. Небольшой, такой же старый, как ржавые машины у обочин. Наверное, ОДДД приобрел его в том же «Секонд-хенде», где и жилетку с замшевым передом, если, конечно, в этих магазинах продают оружие. Он выстрелил, едва достав ствол. Гипсокартонный потолок содрогнулся, металлические ножки раскладных стульев брякнули. Мне показалось, у меня лопнули барабанные перепонки, но уши продолжали слышать, болезненно воспринимая поток грохочущей музыки. После первого выстрела каждый из парней успел выкрикнуть «твою мать», после второго все остальные звуки заглушил рев Хортона. Он схватился за колено, и его пальцы мгновенно обагрились кровью. Будто ребенок, участвующий в детской игре, Хортон застонал:
— Попался, я попался!
Я надел кольцо и стал невидимкой. Никто Не заметил моего исчезновения. ОДДД стоял будто замороженный, удивляясьтому, что сотворил с коленом Хортона, и лишь покачивал рукой, в которой сжимал пистолет. Кто-то монотонно повторял: «Черт, черт, черт». Я подошел к ОДДД и в порыве несвойственной мне храбрости ударил ему в пах коленом, выхватил пистолет. ОДДД согнулся пополам, и его мгновенно вырвало — как будто он и явился сюда специально для этого.
На мгновение оружие утонуло в моей невидимости. Патронник сильно нагрелся от выстрела — эта штука вообще была очень примитивной, едва ли не кусок металла, напичканный порохом. Мне обожгло руку, я разжал пальцы и выронил пистолет. Как оказалось, в нем еще оставались патроны. Третий выстрел раздался в момент соприкосновения пистолета с полом, а четвертый — когда он отскочил и упал в густую блевотину ОДДД. Последняя пуля угодила ему в шею. Он отшатнулся, хватаясь за горло, точно так же, как Хортон — за колено, хватил ртом воздух и скорчился в судороге. Губы задвигались, но слов я не услышал.
Я выскочил из гаража и помчался прочь. Несясь по Шэттак мимо машин с сиренами, я налетел на полную черную женщину, неожиданно возникшую у меня на пути, и больно ударился лицом о ее плечо. Виной этому была, естественно, моя невидимость. Женщина шарахнулась в сторону, а я споткнулся и чуть не упал, но, быстро придя в себя, поспешно снял кольцо с пальца. Увидев меня, женщина яростно сжала в кулак руку с перстнем и еще раз приложила меня по лицу.
— Смотри, куда прешь.
Я лишь стиснул зубы, прижал к ушибленному глазу ладонь и побежал дальше. Кольцо я на ходу положил в карман. Тот воробей на холме ясно дал мне понять: природа — во всяком случае в лице птиц и женщин — ненавидит невидимок. Я с опозданием внял его предостережению.
Ортан Джамаал Джонас Джексон остался жив. О том, что его состояние и здоровье Хортона Кэнтрелла — их доставили в реанимацию «Херрик Хоспитал» — не внушает опасений, написали на следующий день в «Окленд Трибьюн». Называлась статья «ДВОЕ РАНЕНЫХ НА СЕВЕРЕ ОКЛЕНДА». В ней упоминалось и о том, что полиция разыскивает белокожего бандита, выстрелившего из пистолета и сбежавшего с места преступления. Оба пострадавших с копами имели дело не впервые, и того и другого уже не раз задерживали, а Кэнтрелл был даже условно осужден за хранение наркотиков. Но сейчас их ни в чем не обвиняли — о том, что начался вчерашний инцидент с разборки между Кэнтреллом и Джексоном, в статье не было ни строчки. По-видимому, на общественность эта история не произвела особого впечатления. К происшествиям, причиной которых становились наркотики и оружие, все давно привыкли.
Тем не менее в четверг газетчики опять вспомнили об этом событии, напечатав новую статью на первой странице. «ТАИНСТВЕННЫЙ СТРЕЛЯВШИЙ — ГОРОДСКОЙ МСТИТЕЛЬ» — так она называлась. Как выяснилось, придя в чувство, пострадавшие ответили на вопросы полиции. Дополнив их рассказ показаниями Кеннета и Дори Хэммондов — владельцев розового дома и гаража, копы выдали историю журналистам, а те незамедлительно опубликовали ее. Статья сообщала, что какой-то белый парень, увидев в баре «Босунс Локер» Ортана Джексона, дальнего родственника и близкого друга Хэммондов, увязался за ним, явился в гараж и без предупреждения открыл огонь. Бармен подтвердил, что белый вел себя странно, нервничал и первым заговорил с ОДДД. Тот, в свою очередь, заявил, что с самого начала понял: парень искал на свою голову проблем. Попытался разыграть перед ним наркомана и стал выведывать, где обитают местные дельцы. По словам ОДДД, это был просто дурачок, задумавший поиграть в борца с наркоманией. В конце статьи журналист Вэнс Крисмес назвал меня «Оклендским Бернардом Гетцом». Впрочем, если бы эта фраза не родилась в его голове, он не был бы настоящим газетчиком. Гетца, кстати, тогда еще не поймали.
Я долго бродил в ту ночь по зданию KALX, а когда подошло время, начал свое шоу, отдав дань уважения Бобби «Блю» Бленду, материал о котором тщательно готовил несколько недель. Жуткий фиолетовый синяк под глазом я честно объяснял всем, кто спрашивал, столкновением на Шэттак-авеню, естественно, не упоминая о своей невидимости. По счастью, в гараже Хэммондов у меня еще не было этого яркого опознавательного знака. После шоу я купил свежие пятничные газеты, внимательно просмотрел их и, не найдя ни единого упоминания о том, что произошло во вторник, свернулся на кровати калачиком и проспал до темноты.
Затишье длилось до субботы, когда в приложении к «Трибьюн» появилась новой статья Вэнса Крисмеса «САМОСУД МСТИТЕЛЯ В ОКЛЕНДЕ — ПОВТОРЕНИЕ „ПОДВИГА“ БЕРНАРДА ГЕТЦА ИЗ НЬЮ-ЙОРКА». Начиналась статья с психологического анализа поступка Гетца, белого человека, который выстрелами из пистолета ранил четверых черных, попытавшихся ограбить его в нью-йоркском метро. Об этом происшествии начинали уже забывать, но Крисмес воскресил его в памяти людей, сравнив с недавней историей в Окленде. Он предоставил читателям даже словесный портрет Мстителя, основываясь на показаниях бармена и ОДДД. Что делали в гараже Хэммонды и Хортон Кэнтрелл (четвертого парня там как будто вообще не было), его ничуть не интересовало. Создавалось впечатление, что эта троица просто сидела и ждала ОДДД, а вместе с ним и нападения, совершенного сумасшедшим линчевателем. Тому обстоятельству, что началась эта история в «Босунс Локер», Крисмес придал особое значение. «Знал ли Мститель, что именно в этом баре Хьюи Ньютон и Бобби Сил написали черновой вариант манифеста „Черных пантер“?» (Я понятия об этом не имел.) Дальше Крисмес разглагольствовал о наихудших временах, переживаемых «черным» радикализмом, о процветании бандитизма и наркомании и о том, что прошла та пора, когда черная община гордилась «Пантерами». «Неужели в произошедших переменах виноваты белые паникеры вроде Гетца и Мстителя?» — спрашивал Крисмес в конце статьи. И ответил: «Возможно».
Редакцией «Окленд Трибьюн» владел чернокожий, мэром Окленда тоже был черный. В понедельник я позвонил в газету из здания «Союза студентов Калифорнии» и попросил соединить меня с Вэнсом Крисмесом, журналистом, помешанном на «Пантерах». Я ожидал, что он тоже черный. Имя у Крисмеса было, на мой взгляд, афро-американское. Но он оказался белым, я определил это по голосу.
— Вы исказили в своей статье факты, — заявил я.
— Хм-м… Как вас понимать? — Крисмес, очевидно, что-то жевал.
— Стрелял Ортан Джексон.
Это не особенно впечатлило Крисмеса.
— В самого себя?
— Пушка упала на пол.
— Что ж… Гм… А вы кто, простите?
— Я не могу назвать своего имени.
Крисмес несколько секунд молчал.
— И откуда вам известны такие подробности?
— Из достоверного источника.
— Вы думаете, я вам поверю? — В голосе Крисмеса не прозвучало ни капли враждебности. Вопрос был задан совершенно искренне.
— Пистолет упал в блевотину, — сказал я. Об этом не упоминалось ни в одной из статей. — Почитайте отчеты полицейских.
— Подождете меня — я на минутку отлучусь?
— Нет. Дайте мне свой прямой номер. Я перезвоню.
Крисмес попросил связаться с ним не через одну, а через десять минут. Я повесил трубку, купил в магазине йогурт, разыскал другую телефонную будку и набрал номер.
— Слушаю, — ответил Крисмес.
— Они — наркодельцы. — Мне казалось, я участвую в фильме: эксперты из полиции устанавливают мое местонахождение, и здание, в котором я нахожусь, вот-вот окружат. Но я хотел успеть сказать ему все, что должен был. Может быть, я только внушил себе, что не преследую никаких других целей.
— Разумеется, — спокойно ответил Крисмес. — Они всем известные наркодельцы, вы правы. Вопрос в том, кто вы?
— Я всего лишь пытался помочь. ОДДД связан с распространением крэка, по-моему, он даже ворует его у тех парней. Скорее всего он решил открыть стрельбу, еще когда мы стояли за дверью гаража.
— Говорите, вы пытались помочь?
— Помочь накрыть эту точку, — выпалил я раздраженно.
— Перестреляв всех, кто там был?
— Я ни в кого не стрелял. Ни разу не нажал на курок.
— Прямо как Бэтмен.
— Что?
— Это Бэтмен постоянно заявляет, что он ни в кого никогда не стрелял.
Я ничего не ответил и попытался нарисовать в воображении портрет Вэнса Крисмеса, но у меня ничего не вышло. Наверное, и он в этот момент гадал, как выгляжу я. Рядом с ним кто-то шептал и, видимо, что-то записывал — я слышал едва уловимый скрип карандаша.
Нет, ответил я мысленно на вопрос Крисмеса. Бэтмен — творение «Ди Си». Я же предпочитаю «Марвел».
— Насколько я понимаю, вы не хотели, чтобы все случилось так, как случилось. — Крисмес не пытался выразить мне сочувствие. Казалось, ему доставляет удовольствие неверно истолковывать недавние события. — Для этого вы и позвонили — чтобы внести в дело ясность.
— Разумеется.
— Значит, вы вовсе не питаете ненависть к черным?
В этот момент во мне чуть не заговорило страстное желание отомстить за «Сыграй фанки» и чувство одиночества, породившее когда-то Аэромена и сейчас вернувшее его к жизни. Но я ограничился лишь кратким:
— Нет.
— Тогда вообще странно, что вы ввязались в эту историю, вы так не считаете?
Я почувствовал, что Крисмес относится ко мне снисходительно.
— Сложно объяснить, чего именно я пытаюсь добиться, — сказал я. — Но в этот вторник моя операция провалилась.
— У вас были лучшие времена?
— Естественно.
— И каких же успехов вам удалось достичь?
Вэнс Крисмес стал напоминать мне компьютерную программу, имитирующую психолога: он был готов плыть за мной в любом направлении.
— Если моя операция заканчивается успешно, люди, подобные вам, никогда о ней не узнают, — ответил я. — Меня радует сама возможность кому-то помочь.
— Вы сторонитесь прессы?
— В большинстве случаев — да.
— Что ж… Значит, мне повезло, — сказал Крисмес. — Я стал исключением из правила.
— Не называйте меня Мстителем.
— Как же вас называть?
— Аэроменом.
— А-Р-Р-О…
— Нет, не так. — Я произнес слово «Аэромен» по буквам.
— Когда вы планируете провернуть свою очередную… м-м… операцию?
— Я прихожу на помощь тогда, когда в этом нуждаются.
— Ясно. М-м… Да, да, конечно. Послушайте, вы как-то по-особенному выглядите? Я о том, гм… Поймет ли человек, что вы явились ему помочь?
— Нет.
— А вы не из тех, кто хорошо известен в районе залива? Как, например, Кларк Кент или Брюс Уэйн?
— Нет.
— Вы уверены, что мы не знакомы? Смешно, но, видите ли, у меня такое ощущение, что я уже где-то слышал ваш голос.
Мое сердце заколотилось часто и громко. Неужели Вэнс Крисмес относится к немногочисленному отряду ночных слушателей KALX? Я опять попытался представить себе этого старательного разоблачителя расистов, поклонника Бэтмена. Сколько ему лет? Почувствовав, что не смогу больше выдавить из себя ни слова, я повесил трубку. И без того я рассказал слишком много, чересчур долго разговаривал с Крисмесом. Но здание «Союза студентов Калифорнии» не окружили полицейские. Это означало, что бояться мне нечего.
Сенсационная статья Крисмеса появилась в «Трибьюн» в следующий вторник. Нельзя сказать, что он сильно переврал мои слова, но приправил их щедрой горстью абсолютного бреда. «Я ПРИХОЖУ НА ПОМОЩЬ ТОГДА, КОГДА В НЕЙ НУЖДАЮТСЯ». «МСТИТЕЛЬ ГОТОВИТСЯ К ОЧЕРЕДНОЙ ОПЕРАЦИИ». Крисмес обращался к жителям города, призывая их быть предельно бдительными и опасаться столкновения с разгуливающим на свободе безумцем. По его словам, я хвастливо признался ему, будто давно уже занимаюсь подобным тому, что совершил неделю назад, и моя операция провалилась впервые. Я заявил, что не питаю к черным ненависти, — неудивительно. Меня «радует сама возможность» творить свои дела. Я обвинил Джексона и Кэнтрелла в наркоторговле, несмотря на то, что перед приходом в гараж сам вместе с Джексоном курил крэк в уборной «Босунс Локер» — об этом Крисмес не упоминал ни в одной из предыдущих статей. Слово «Аэромен» в газете не появилось — пожалуй, это единственное, что не получилось бы извратить. Быть может, таким образом он дразнил меня, ведь наверняка понял, что я страстно желаю заявить о себе как об Аэромене и позвоню ему еще раз с требованием внести коррективы. Он был почти прав.
К среде на статьи Крисмеса откликнулась вся округа. «Игзэминер» сравнил Мстителя с Трэвисом Биклом. «…Не приходило ли этим двоим в голову сфотографироваться вместе? Интересно…» Я просматривал газеты, читая о себе все, что находил. Пока не устал и не плюнул на это бесполезное занятие.
Крисмес не забыл слово «Аэромен». Напротив, запомнил и проделал поистине впечатляющую работу. Неделю спустя, когда я уже начинал верить в то, что нашумевшая история осталась в прошлом, на первой странице «Трибьюн» появились снимки Мингуса Руда, сделанные полицией в день его ареста после того выстрела. Мингус был запечатлен таким, каким я видел его в последний раз. «МСТИТЕЛЬ ЗНАКОМ С УБИЙЦЕЙ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА?» — стояло вверху страницы.
Из статьи я узнал, что Мингус все еще сидит в тюрьме — в Элмайре. Рассмотреть вопрос о вероятности его досрочного освобождения собирались лишь через три месяца. Так что он не имел ни малейшей возможности побывать в «Босунс Локер». Тем не менее информация о нашем знакомстве по каким-то таинственным каналам все же попала к Крисмесу. Слова «Аэромен» в статье не было. Крисмес предложил публике головоломку, за отгадку которой «Трибьюн» сулила вознаграждение в тысячу долларов: какова связь между событием, произошедшим шесть лет назад в жилом комплексе Уолт Уитмен в Бруклине и недавним чудовищным нападением на Шестидесятой улице, между этим черным парнем с печальной физиономией и нашим неуловимым белым маньяком, прохлаждающимся на свободе? Неужели Руда арестовали вместо Мстителя?
Крисмес рассчитывал, что на удочку попадусь именно я, но мне плевать хотелось на их вознаграждение. Поэтому я опять убрал кольцо подальше. Со дня приключения в «Босунс Локер» до того утра, когда его обнаружила среди остальных моих памятных вещиц Эбигейл Пондерс, я ни разу к нему не прикасался.
Глава 10
Артур Ломб попросил меня о встрече в ресторане «Берлин» на Смит. Эта улица, изобиловавшая когда-то дешевыми клубами, забегаловками, торговыми точками с запыленной пластиковой мебелью и допотопными кассовыми аппаратами, превратилась теперь в царство роскошных ресторанов и бутиков. Авраам неоднократно пытался объяснить мне, что убогая Смит-стрит теперь как яркая игрушка, но я не верил ему, пока не попал туда и не увидел чудесные перемены собственными глазами. Смит стала настолько шикарной, что я едва узнал ее, главным образом по пуэрториканцам и доминиканцам, по-прежнему там обитавшим. Бедолаги на своей собственной территории стали вдруг беженцами. Они, как и раньше, сидели на ящиках из-под молока, что-то пили из бумажных стаканов и маячили в раскрытых окнах своих квартир. И старательно делали вид, что заселение квартала богатыми белыми для них отнюдь не стихийное бедствие.
Когда я вошел в «Берлин», Артура не увидел. Было одиннадцать утра — ресторан пустовал. Буквально все в этом зале, размещавшемся в вековом здании, говорило о недавнем ремонте. Потолок покрыли жестяными листами, полы — светлым деревом, зачищенные до кирпичей и тщательно обработанные стены — лаком.
Официант курил за дальней стойкой, но, увидев меня, быстро затушил сигарету и фальшиво улыбнулся. Он был высокий, сутуловатый и показался мне мрачным типом. Проводив меня к одному из столиков у окна, официант предложил мне меню. Я до сих пор не вполне пришел в себя от вечеринки у Кати Перли, на которой отвел душу два дня назад, и от вчерашнего ужина, приготовленного Франческой Кассини. Когда официант вернулся, я заказал кофе со взбитыми сливками и повнимательнее всмотрелся в парня. Волосы, посеребрившиеся у висков, он теперь коротко стриг. Эвклид Барнс.
Он ушел к стойке, приготовил кофе, а когда поставил чашку на столик, заметил мой пристальный взгляд.
— Мы знакомы?
— Дилан Эбдус.
Эвклид моргнул.
— Мы вместе учились, — добавил я.
— В Кэмдене?
— Точно.
— Вот уж не думал, что еще когда-нибудь встретимся.
Я не стал говорить, что он работает теперь в моем родном районе, в месте, где я вырос. А впрочем, за последние почти двадцать лет я навещал Бурум-Хилл всего-то три или четыре раза. Наверное, эти улицы больше не считались моими.
— Поддерживаешь отношения с кем-нибудь? — поинтересовался я. Мне было немного не по себе. Оттого что я сидел в этом роскошном ресторане через квартал от школы № 293 и оттого что встретил Эвклида, который сварил мне кофе.
— Даже не знаю, что ответить. Иногда кое с кем вижусь, знаешь ведь, как в жизни бывает.
— Конечно, — сказал я, хотя и не очень-то знал, как в жизни бывает. С людьми, с которыми мы общались в Кэмдене, я ни разу не виделся за все прошедшие годы. С Мойрой Хогарт к концу того единственного моего семестра я перестал даже разговаривать.
— Можно присесть? — спросил Эвклид.
— Разумеется.
— Не возражаешь, если я закурю?
— Не-а.
На Эвклиде был черный свитер с высоким воротом — слишком теплый для нынешнего сентября, который на обоих побережьях выдался в этом году необычайно жарким. Эвклид оттянул воротник, и я увидел дряблую кожу на шее. Но несмотря на это и на сеть морщин вокруг глаз, он сохранил былое свое печальное очарование, а потому выглядел весьма привлекательно. В короткой щетине над верхней губой белела седина, впрочем, как и у меня, если я долго не брился.
Эта встреча всколыхнула во мне волну бесполезных воспоминаний, перехлестнувшую другую волну, ту, что родилась, когда я шел от дома Авраама к этому ресторану. Но самую ошеломительную бурю чувств вызвала в душе, естественно, Дин-стрит. Затем я, собственно, и приехал сюда. А на встречу с Эвклидом никак не рассчитывал.
Закурив, он изучающе стал смотреть на меня.
— Что произошло?
Я понял, о чем он.
— Я бросил учебу.
— У меня такое ощущение, будто я помню тебя и в то же время не помню.
— У меня такое же ощущение, — ответил я. А если честно, особенно глубоких чувств я сейчас не испытывал. Кэмден в моей жизни был отдельным эпизодом, окном во времени. Эвклид проучился там четыре года и продолжал до сих пор видеться с людьми, с которыми водил дружбу в студенческую пору. Наше общение с ним было случайным и мимолетным.
— Я поступил в Беркли. И остался в Калифорнии. Сюда приехал в гости к отцу.
— Чем сейчас занимаешься?
Я чуть не проболтался, что работаю над сценарием для «Дримуоркс».
— Я журналист. Пишу в основном о музыке.
— Молодчина.
— А ты? Просто работаешь здесь или это твое заведение?
— Зачем становиться владельцем ресторана, если умеешь обслуживать столики?
— Тоже верно.
— Раньше я работал в «Балтазаре», но кое-кому вдруг показалось, что я утратил прежнюю привлекательность, и мне пришлось уйти.
— Живешь где-то поблизости?
— Да. Черт! Я уже давно не могу позволить себе платить за жилье в Манхэттене. А Бурум-Хилл уже еле терплю.
Понятное дело. Я видел, как богатство принимается студентами Кэмдена за нечто неизменное, само собой разумеющееся. И знал, что это всего лишь стиль жизни, который не хочется менять даже тогда, когда деньги уходят. Я вспомнил, что родители Эвклида всегда пополняли его счет с большим опозданием.
— Смит-стрит теперь шикарная улица, — заметил я, продолжая притворяться, что не особенно знаком с этими местами.
— Я ее ненавижу, слишком много тут всего новомодного. Буквально за каких-то шесть месяцев ее окончательно испортили. В одном путеводителе для туристов из Германии она называется теперь «Новым Вильямсбургом».
— Значит, ты приверженец старых порядков?
— Я и сам уже старый, спасибо, что напомнил.
— А ресторан выглядит так, будто его открыли только вчера.
— Наш ресторан — сплошная бутафория, — сказал Эвклид. Заказов не было, поэтому шеф-повар вышел из кухни и занял за стойкой место Эвклида, которого, кажется, ничуть не волновало, что его слова могут услышать. — Хозяину этого заведения принадлежит весь квартал, — объяснил он. — Жирная свинья. В этом районе все его презирают.
По тону Эвклида я понял, что «все в этом районе» — это владельцы других заведений, рискнувшие начать бизнес в этой части Бруклина.
— А ты что здесь забыл?
— Жду приятеля. Он опаздывает.
Быть может, Эвклид что-то заметил в выражении моего лица, потому что неожиданно вспомнил, откуда я родом.
— А ведь ты из Бруклина, верно?
— Именно. — Мне стало немного обидно, но я понимал, что Эвклид ни в чем не виноват. Мои оскорбленные собственнические чувства были глупостью. Ходя по этим улицам, я всему придавал слишком большое значение: видел едва заметные тэги «ДМД» и «БТЭК», нанесенные на стены двадцать лет назад, смотрел на произошедшие в Бурум-Хилл перемены глазами Рейчел, выступавшей против «заселения приличными людьми». По сути, в глубине души я тоже был против этого. Я бродил по этим улицам, сверяясь с невидимой картой унижений и издевок, отмечая флажками места, где в меня бросали яйцами, где хотели отнять пиццу, — по дорогам своих страданий. Но вообразить, что былые детские переживания покажутся значимыми тем всезнайкам, которые заселили теперь эти улицы, было то же самое, что обнаружить в песне «Сыграй фанки», услышанной в такси, некое завуалированное послание лично тебе. Нет. Изабелла Вендль давно умерла, и о ней все забыли, а Рейчел исчезла. Реальным был теперь Бурум-Хилл Эвклида Барнса, вот что мне следовало уяснить. Тот факт, что сквозь внешний лоск я повсюду видел Гованус, не имел значения, никого не интересовал.
— Как поживает Карен Ротенберг? — спросил я, переводя разговор в нейтральное русло.
Эвклид посмотрел на меня удивленно.
— Вернулась в Миннеаполис и перестала мне звонить. У нее теперь свой магазин шляп, работает на заказ. На Ладлоу-стрит. Если бы ты только видел эти шляпки! Полный кошмар. Но Дэшилл Маркс… Помнишь Дэшилла?
Я соврал, что помню.
— В «Нью-Йорк мэгэзин» он внес магазин Карен в список наиболее прибыльных. Так что все тип-топ.
Эвклиду явно доставляло удовольствие вспоминать о прошлом. Он зажег следующую сигарету от окурка предыдущей и продолжил рассказывать о бывших однокашниках — настолько увлеченно, словно окончил Кэмден только вчера. Я узнал, что Джуни Элтек, какое-то время работавшая клип-мейкером, участвовала в создании роликов «Сайпрес Хилл» и Редмана, что Би Прюдома на каком-то лыжном курорте под Хельсинки зарезала любовница, что Мойра Хогарт стала актрисой, и какой-то сенатор со Среднего Запада однажды высказался о ней крайне неодобрительно.
Неожиданно Эвклид вскочил с места, потушил сигарету и стал размахивать рукой, разгоняя дым. На пороге ресторана возник Артур Ломб, и в этот момент я понял, почему из многочисленных кафе и ресторанов Смит-стрит он выбрал именно «Берлин». Ему всегда было свойственно приуменьшать свои достижения и в то же время кичиться ими. Не то чтобы что он действительно превратился в жирную свинью, но изрядно пополнел. Эвклид видел в нем лишь ненавистного работодателя — а не моего старого друга, который много лет назад приезжал в Вермонт с партией наркотиков.
Схватив со стола пепельницу, Эвклид зашагал к стойке. Я только сейчас осознал, во что превратили ранимого принца-гомосексуалиста, которого я побаивался в Кэмдене, десять или пятнадцать лет обслуживания столиков. В колледже Эвклид не претендовал на любовь и симпатию окружающих, добивался только одного — чтобы его пожалели. А я никогда — до сегодняшнего дня — не питал к нему жалости.
Упитанный, бородатый Артур проводил Эвклида сердитым взглядом, смахнул реальный и воображаемый пепел со столика и опустился на стул.
— Есть хочешь? Я плачу.
— Я догадался, что это твой ресторан.
— Верно. Я вбухал в него кучу денег. Так что, если угощу тебя, не обеднею.
— Нет, спасибо. У меня на сегодня много планов.
На Дин-стрит я оставил машину, взятую напрокат. В ней была магнитола, что радовало меня.
Я пригласил Артура съездить в Уотертаунскую тюрьму к Мингусу. Он отказался, сообщив, что навещал Мингуса совсем недавно, вместо этого предложил сходить в гости к Младшему. На этом наша встреча должна была закончиться. Отмахнувшись от мыслей об Эвклиде, я с нетерпением поднялся с места.
— Кофе за мой счет, парни, — крикнул Артур своим служащим.
Мы с Артуром вышли на Смит — улицу, по утверждению Эвклида, полностью принадлежащую теперь Артуру. Я осмотрел витрины парикмахерской, лавки, торгующей ароматическими светильниками и этническими украшениями, маленьких уютных бистро, цены в которых, видимо, непосредственно соотносились с ценами «Берлина», оглядел окна квартир на верхних этажах. Названия всех здешних заведений были аккуратно выведены вручную на узеньких вывесках или прямо на стеклах занавешенных окон. Все они соответствовали местным историческим названиям: Бруклин, Пьеррепонт, Шермерхорн и даже Гованус — слово, которое Изабелла Вендль так усердно пыталась предать забвению.
— Какого черта ты трепался с моим официантом-гомиком?
На Артуре была бейсболка с надписью «Янки». Я до сих пор не мог простить ему предательский уход из армии болельщиков «Метс» в двенадцатилетнем возрасте. Мне казалось, что благодаря тому же свойству своего характера позднее он с такой легкостью принял законы чернокожих и превратился в друга Мингуса Руда. А мне не позволило следовать за Мингусом по таинственным уличным тропам то же самое чувство, что заставляло быть преданным неудачникам «Метс».
Некая разновидность аутизма, неспособность подражать окружающим — вот что помешало мне стать таким же бруклинцем, как Артур. Я был вынужден уходить в чтение книг, затем променять Бруклин на Манхэттен и в конце концов вообще уехать. Словом, тот факт, что Артур до сих пор здесь жил и владел теперь значительной частью Смит-стрит, не особенно меня удивил. Жирная свинья.
Я решил не трепать Артуру нервы, воскрешая в его памяти тот эпизод, когда будущий официант-гомик пытался приласкать тогда еще тощую Артурову задницу на лестничной площадке в общежитии Кэмдена. Ломб и Барнс могли в конце концов вспомнить эту пикантную подробность и без моей помощи. Хранить ту или иную информацию в секрете от Артура всегда было легко. О кольце, например, я за всю свою жизнь не сказал ему ни слова.
— Он сообщил, что тебе принадлежит весь квартал, — сказал я.
— Всего пять зданий. Если верить этим мерзавцам, так я вообще Дон Корлеоне.
Я подумал, имеет ли для Артура значение, что его нынешние владения находятся в двух шагах от нашей старой школы. Быть может, только тот, кто уехал отсюда и вернулся через много лет — как я, — мог настолько остро ощущать ее близость и тяжесть былого. Мы шли сейчас будто прежние шестиклассники, которых дома у Артура ждут шахматы и бутерброды. Когда-то, в незапамятные времена, я и он были самыми жалкими созданиями на планете.
Накануне вечером Франческа Кассини организовала для меня экскурсию по моей же собственной жизни.
— Представляю себе: вы двое в этом огромном доме! — то и дело восклицала она.
А меня так и подмывало ответить: «Не надо представлять».
Собрав все имевшиеся в доме фотографии, Франческа поместила их в альбом — логическое продолжение другого альбома, который заполнила Рейчел. На тех старых снимках я сидел на коленях матери, а Авраам — молодой, каким я никогда его не знал, — стоял перед своими картинами, проданными или потерянными еще до появления на свет меня и первого кадра его фильма. Франческа же собрала в своем альбоме мои школьные фотографии — эти вымученные улыбки, — и несколько снимков, сделанных во время каникул в Вермонте. На них мы с Хэзер, с мокрыми после купания волосами, торчащими в стороны, будто рожки. На последних страницах разместились фотографии Авраама и Франчески, сделанные во время их путешествия по Италии. Авраам запечатлен на террасе отеля, на ресторанном балконе и на фоне виноградных лоз. Замечательное продолжение предыдущей истории — «вы двое в огромном доме».
Но самым интересным, что появилось здесь с моего последнего посещения, были новые картины — штук десять, развешанных на стенах в коридоре и вдоль лестницы. Отец написал их на плотной бумаге, той же, что шла для рисунков на обложки, но по стилю они ничуть не напоминали иллюстрации к книгам, походили скорее на те давние сфотографированные картины. Это были небольшие портреты: результаты детального изучения лица Франчески. Отец не пытался подать ее в более выгодном свете, но и не заострял внимания на недостатках. Меня поразило, что он не стремился изобразить Франческу по-разному. Некоторые портреты были почти одинаковыми, и в этом смысле напоминали кадры фильма. По крайней мере их роднил с фильмом дух постоянства и терпеливости. Портреты как будто сообщали: «В этом доме произошли и не произошли перемены».
Вчера мне так и не удалось побеседовать о картинах с отцом, не выдалось возможности. Франческу слишком взволновало мое появление, и угомонить ее никак не удавалось. Авраам первым ушел спать. Франческа еще немного пощебетала и наконец выдохлась. Я позвонил к себе домой и прослушал оставленные на автоответчике сообщения. Эбби до сих пор не давала о себе знать.
Франческа никогда не просыпалась рано. Разбудить меня перед встречей с Артуром я попросил отца. Мы вместе выпили по чашке кофе, но я так и не вспомнил, что собирался поговорить с ним о портретах. Сказал лишь, что они произвели на меня глубокое впечатление.
— Спасибо.
— Не планируешь организовать выставку?
— Не задумывался об этом.
— Над фильмом все продолжаешь работать?
Авраам метнул в меня строгий взгляд Бастера Китона.
— Разумеется, Дилан. Каждый день.
Заброшенный дом давно не был заброшенным. Мне пришлось отсчитать нужное количество крылец от дома Генри, чтобы найти то самое, у которого мы собирались в далеком детстве. Швы кирпичной кладки были теперь повсюду на Дин-стрит зализаны, оконные рамы и ступени заменены новыми, ограды отремонтированы и покрашены — квартал выглядел так, будто здесь собрались снимать кино об идеальной жизни, поэтому замаскировали нищету, придав улицам вид уютной старомодности. Даже тротуары были теперь гладкими и аккуратными — кое-где их просто выровняли, а на самых разбитых участках положили бетонные плиты.
Я задумчиво разглядывал карнизы, размышляя о том, сколько гниющих сполдинов до сих пор засоряют канализацию, и в этот момент меня окликнул Артур. Оказалось, я прошел мимо него, не заметив. Он остановился возле калитки дома Генри, по крайней мере бывшего дома Генри, и говорил с какой-то черной женщиной. Как и Артур, она была теперь отнюдь не худая, но я узнал в ней Мариллу. Косы, длиннее, чем прежде, лежали кольцами на макушке.
— Дилана помнишь?
— О чем ты говоришь, Арти! Я познакомилась с ним намного раньше, чем с тобой.
Громкие слова о давней дружбе рвались из нас будто клятвы. Если бы Марилла первой не произнесла эту фразу, возможно, нечто подобное сказал бы я. В этом смысле разговоры при встречах почти не отличаются от писательства. Я постоянно «удобряю» свои тексты такими строками: «Если вы когда-нибудь слышали песню Литла Вилли Джона „Лихорадка“, даже не думайте приобретать ее в другом исполнении». Я во всем предпочитаю оригиналы — наверное, к этому приучила меня Дин-стрит.
— Ты теперь зрелый мужчина, Дилан. Откуда приехал?
— Живу в Калифорнии, — ответил я.
— Ла-Ла тоже. Ты с ней не встречался?
— Нет, — сказал я, пытаясь не выдать голосом бушевавшие во мне чувства. — Ла-Ла в Калифорнии мне не попадалась. — Захотелось даже пошутить: «Ла-Ла в Ла-Лапландии», — но я решил, не стоит.
— Нет?
— Калифорния огромная.
— Надо бы когда-нибудь и мне взглянуть на нее.
Марилла, казалось, ничуть не удивлена нашей встрече — лишь тому обстоятельству, что меня не было так долго. Очевидно, она никогда не покидала этот район. Я старался делать вид, что воспринимаю встречу с ней как нечто само собой разумеющееся и отнюдь не поражен тем, что спустя многие годы она узнала меня. Пытаясь замаскировать ошеломление, я что-то рассказывал о Беркли, о Вермонте, об офисе Джареда Ортмана, «Запретном конвенте», еще о чем-то. Но что меня поражало сильнее всего — мое личное неприятие этих мест. Я стоял перед домом Генри, болтал с Артуром и Мариллой и притворялся, будто не происходит ничего необычного.
— А Генри тоже до сих пор живет здесь? — спросил я хриплым голосом.
— Появляется время от времени, — ответила Марилла. — Если бы ты только видел, как эти белые люди таращатся на нас на нашей же собственной улице! Иногда даже вызывают копов, а ведь Генри сам — чертова полиция.
— Новые жильцы Дин не понимают, что такое вечеринка на крыльце, — извиняющимся тоном произнес Артур.
— Генри — коп? — переспросил я.
— Альберто коп. А Генри — помощник окружного прокурора, — задумчиво протянул Артур. — Все обитатели этих улиц теперь либо в полиции, либо за решеткой. За исключением вас двоих.
— Нет, за решеткой, к сожалению, не все, — сказала Марилла. — Кое-кого еще я с удовольствием бы туда упекла.
Артур рассмеялся.
— Ладно, Марилла, мы собрались в гости к Руду.
— К Руду? Черт! От него бы я избавилась в первую очередь.
Глава художественного отдела «Ремнант» для оформления коробки дисков «Встревоженная синь» выбрал довольно старую фотографию из архива Майкла Окса. Я увидел ее впервые, когда получил авторский экземпляр. На снимке был Барретт Руд-младший перед микрофоном в студии «Стигма». Остальные певцы «Дистинкшнс» стояли полукругом позади и смотрели на Руда с явным восхищением. Вероятно, их совместная работа тогда лишь начиналась и «Дистинкшнс» искренне радовались, что приобрели такую жемчужину.
Интересно, смог бы догадаться посторонний, что Барретт Руд-младший, запечатленный на фотографии — парень лет тридцати, с широким волевым лицом, короткой стрижкой и аккуратными ногтями, в туго завязанном галстуке и белоснежной рубашке, буквально излучающий уверенность в себе и звериное свободолюбие, — и тот съежившийся, морщинистый старик с усами Фу Манчу и желтыми длинными ногтями, которому я подарил набор дисков, один и тот же человек? Естественно, Барри не мог выглядеть теперь так же потрясающе, как парень на коробке из-под дисков, — никто бы не смог. Но время изменило его настолько, что, не будь я знаком с Мингусом и Старшим, то и сам, наверное, не узнал бы сейчас открывшего нам дверь старика. Певец на фотографии был похож на восемнадцатилетнего Мингуса — в его лучшие дни. А человек, принявший в подарок диски и пожавший мне руку, царапая ладонь своими когтями… У меня в голове родилась строчка — хотя мне было совсем не до шуток: «Младший превратился в Старшего». У Барри на шее даже висела теперь отцовская звезда Давида. Когда он наклонил голову, чтобы рассмотреть коробку, мне захотелось выхватить ее и выбросить на улицу. Но было поздно.
— Аннотацию написал я.
— Что?
— Внутри буклет, краткая история твоего творческого пути. Я ее написал. Надеюсь, тебе понравится. — Только сейчас, впервые я вдруг представил себе, что мою писанину начинает читать сам Барретт Руд-младший. И подумал, что некоторых строчек ему лучше не видеть. Но опять же — поздно.
— Мне уже нравится, дорогой, — ответил Барри, удивленный моему появлению не больше, чем Марилла. Он провел нас в свою комнату и положил коробку с дисками на диван. Этот дом практически не изменился, лишь пришел в совершенный упадок — уже лет двадцать ему никто не уделял внимания. Я даже готов был поспорить, что пластинки до сих пор лежат там, где я видел их в последний раз — в общей куче перед проигрывателем. Многие без конвертов.
— Вспомни, Артур, мои слова, — сказал Барри, косясь на телеэкран, — показывали шоу «Судья Джуди». Телевизор был новый, и я решил, что сейчас Барри уделяет ему гораздо больше внимания, чем проигрывателю. — Я всегда говорил, что мы будем гордиться нашим Ди.
— Ага, — ответил Артур. — А, Барри, я тебе тоже кое-что принес. — Он пошарил по карманам, нашел пачку «Кул» и положил ее Барри на колени. — Кстати, эта строчка — «Курение опасно для вашего здоровья» — никто и не догадывается, что это я их придумал.
— Вы оба ребята талантливые, что тут скажешь.
— Естественно, они изменили текст, выбросили самые проникновенные строки, — подхватил я.
— Это их привилегия, так ведь, Артур?
— Угу.
— Всегда нужно помнить об их привилегиях.
— Точно.
Барри положил сигареты к дискам, протянул руку и потрепал Артура по затылку. Разговаривая, он продолжал следить за телевизионным шоу.
— Может, послушаем диски? — спросил я, чувствуя себя по-дурацки. — Отличные записи.
По всей вероятности, Барретту от продаж должна была перепасть какая-то сумма. Добавка к былым гонорарам, благодаря которым он давно уже мог сидеть дома и ничем не заниматься. Быть может, я ошибся, решив, что ему будет приятно увидеть эти диски. Наверное, они порадовали бы Барретта прежнего, затерявшегося где-то году в семьдесят пятом, или того парня с фотографии. Они предназначены для людей, которым было бы не под силу достучаться до Барретта нынешнего. Как и мне.
— Мне хорошо известно, что это за записи.
— Да, но…
— Я послушаю их как-нибудь в другой раз, дружище, — медленно произнес Барри. — Плейера у меня все равно нет.
Мне оставалось лишь кивнуть.
— Кстати, эта Фран, подруга твоего старика… — Сменив тему, он вновь заговорил ласково. — Замечательная женщина. Присматривает за мной, представляешь?
— Да, они рассказывали об этом.
— Ему крупно повезло. И как это он нашел ее!
Все так считали — Барри, Зелмо. А я лишь надеялся, что Авраам разделяет их мнение. Мне вдруг вспомнилось, о чем я хотел вчера расспросить отца. Не являются ли эти новые картины выражением желания заглянуть за пределы нынешней твоей жизни? Жизни с этой женщиной, занявшей рядом с тобой так долго пустовавшее место? Ты все еще присматриваешься к Франческе, изучаешь ее? Или она сама попросила написать ее портреты, взглянуть на нее повнимательнее?
Последовала долгая пауза, заполняемая лишь телевизионным вздором. Я опять перенесся мыслями к взятой напрокат машине и к тому долгому пути, который я намеревался начать сегодня. Мое сердце принадлежало Дин-стрит, но я приехал сюда, чтобы увидеться с Мингусом.
Барретт впервые почти за двадцать лет внимательно смотрел на меня, возможно, пытаясь угадать мои мысли. Невидимая оболочка, которой он окутал себя в тот момент, когда взял в руки коробку с дисками и взглянул на свою фотографию, наконец-то исчезла.
— Почему тебе захотелось навестить старого выдохшегося певца, Дилан? — Эти слова — «старого выдохшегося певца» — он произнес с былой мелодичностью, и я почувствовал, как у меня сводит болью скулы.
— Я просто захотел подарить тебе эти записи, — ответил я, избегая слова «диски».
— Ты подарил их мне, — сказал Барри чуть отстраненно.
— А еще мы собираемся навестить Мингуса. То есть я собираюсь.
— Хм. — Лицо его помрачнело. Он скорчил гримасу, реагируя на происходящее в «Судье Джуди», возможно, ему не понравился приговор.
— Если хочешь что-нибудь ему передать…
Барри махнул совей когтистой рукой. Мингус слишком далеко, говорил этот жест — так мне показалось. Настоящей была Дин-стрит, Франческа и Артур — только их и стоило считать реальными. Одна приносила суп, другой сигареты. И судья Джуди тоже заслуживала внимания, потому что все время маячила на экране телевизора. А я явился сюда, предлагая переключить внимание на совсем иное, вспомнить о шестьдесят седьмом годе и об Уотертауне — вещах слишком расплывчатых и далеких, чересчур неинтересных.
— Ты ведь знаешь, по утрам я всегда смотрю эти шоу, — сказал Барри, обращаясь к Артуру. — По правде говоря, я еще не вполне проснулся. Приходите вечером, устроим гулянку.
— Но Дилана вечером не будет. Он хотел просто поздороваться.
— Передай мальчику, я смотрю утренние шоу.
Артур проводил меня до машины и извинился.
— Мне надо было предупредить тебя: не следовало упоминать при нем о Мингусе. Его это просто с ума сводит.
— А что Мингус ему такого сделал?
— Слишком долго объяснять.
Я положил сумку в багажник машины и попрощался с Авраамом и Франческой, пообещав, что, вернувшись с севера, проведу с ними перед отъездом в Калифорнию целый день. Я был готов снова покинуть Нью-Йорк.
— Возьми вот это, — сказал Артур, достав из кармана незапечатанный конверте наличными. — Отдать деньги им в руки тебе не разрешат. Попроси положить по сотне на счет каждого. Это им на сигареты и все остальное.
— Им? — переспросил я.
— Помнишь, когда мы разговаривали с Мариллой, я сказал, половина местных в тюрьме?
— Конечно.
— Роберт Вулфолк тоже сидит. В Уотертауне, там же, где и Мингус.
Глава 11
Я был здесь новичком, чувствовал себя таким же неискушенным, как в тот день, когда явился во владения Джареда Ортмана. Среди мамаш, бабуль и невозмутимых парней, приехавших навестить друзей, среди черных и пуэрториканцев — я единственный не имел понятия, как следует вести себя, когда приходишь повидаться с заключенным. О том, что остальные посетители — люди опытные, я догадался еще на парковке, за пределами ограды из колючей проволоки. Такси с железнодорожной станции и автовокзала Уотерхауса, рейсовый автобус из Нью-Йорка — приехавшие родственники арестантов чего-то ждали у входа. Водитель моего такси, тоже выйдя на улицу, закурил. Спустя какое-то время толпа выстроилась в очередь у длинной алюминиевой будки на бетонных блоках — и стала медленно двигаться, входя на территорию тюрьмы. Вчера я выехал из Нью-Йорка в дождь. Моросило и вечером, когда я добрался до Уотертауна, и сегодня утром. Переночевав в номере одной из гостиниц, я позавтракал сосисками в тесте. И сейчас тоже серо-зеленые тучи плыли над тюрьмой, отражаясь в лужах под ногами. Из всей очереди только я один смотрел на небо. В будке трое охранников — сотрудников исправительного учреждения, как они назывались, — проверяли документы, заполняли какие-то бланки, рассказывали, куда идти, спрашивали, кем посетитель приходится заключенному, к которому приехал, знакомили с правилами поведения. Все, кроме меня, знали номер своего арестанта. Мне было известно лишь имя, поэтому капитану со скучающей физиономией пришлось раскрыть толстую папку с бумагами и продиктовать мне ряд цифр. Здесь же, на пропускном пункте имелась уборная, которую следовало посетить во избежание неприятностей — в самой тюрьме это удобство посторонним не предоставлялось. Все посетители устремлялись туда, очевидно, зная по опыту, что в противном случае им придется туго. Я последовал их примеру. Настолько же популярным оказался и единственный — платный — телефон, которым все жаждали воспользоваться. Я подумал, не позвонить ли домой, Эбби, но очередь была слишком длинной.
Самое утомительное последовало дальше. Никто не возмущался, наверное, давно привыкнув к местным порядкам. Нам пришлось стоять и ждать сначала в одном изолированном помещении, потом в другом, пока вся толпа не прошла должную проверку. После пропускного пункта нас повели по бетонной дороге, покрытой желто-оранжевыми флуоресцентными полосами. Я не мог отделаться от ощущения, что вот-вот получу пулю в затылок — за нами наблюдали с высоких башен. После некоторого ожидания мы направились в так называемую «А/Б дверь» — металлическую клетку, в которой если открывалась дверь «А», другая — «Б» — была непременно заперта. После проверки в кабинете со множеством окошек, расположенном в центре клетки, раздался пугающе громкий звонок. Загрохотали металлические засовы, задняя дверь закрылась, а передняя растворилась, и нам позволили выйти из клетки.
Теперь мы были внутри. Тюрьма представляла собой не одно отдельное здание, как я себе воображал, — не каменный Горменгаст и не железный Детстар. Это был ряд сооружений, окруженных забором с воротами, рвами и колючей проволокой — безрадостная ферма для людского скота. Офицеры в серой форме открыли двери, и мы вошли в здание, внутренний вид которого напомнил мне скучное казенное учреждение, школу или больничную приемную эпохи шестидесятых, выложенную мятно-зеленой плиткой и обшитую потертыми деревянными досками. Мы зашагали по коридорам, стены которых казались мне временными, наспех сооруженными, хоть они стояли уже долгие годы.
Позже я узнал, что каждого заключенного выводили в комнату для свиданий отдельно от остальных и заблаговременно, поэтому офицерам не имело смысла торопиться с проверкой посетителей. Тюрьма — царство упраздненного времени. Здесь оно ни для кого не представляет никакой ценности. А посетители арестантов — не клиенты, которых нужно ублажать. Я вздрогнул, когда назвали мою фамилию, потому что все время, пока ждал, был слишком увлечен рассматриванием окружающего. Стен, пожелтевших табличек: «Сержантам оставаться на постах до прибытия следующей смены» или «Посетительницам не появляться в здании тюрьмы в юбках более чем на два дюйма выше колен и с голым животом». Объявлений транспортной и других служб, длинных списков, напечатанных мелким шрифтом: «Зубная паста $1.39, кетчуп 1 пакет 19 центов, расческа 19 центов, тушенка куриная 1 банка $1.79, бобы консервированные 1 банка 89 центов, растворимый кофе 1 банка $1.59, ореховая паста $1.39, кондиционер $1.29, сетка для волос 29 центов, булочка 25 центов, шоколадная булочка 30 центов» и такдалее. Список ужасал хаотичностью, бессистемностью.
— Эбдус.
— Я.
— Снимайте ремень и обувь, содержимое карманов выкладывайте в коробку.
Я сделал неуверенный шаг вперед. Мне единственному требовались объяснения.
— В коробку.
Я выгреб все, что лежало в карманах, снял обувь и ремень.
— Ручку выбросьте.
Я пожал плечами.
— Вон туда.
Я бросил шариковую ручку в зеленое стальное ведро для мусора. Пока я возился со своим хламом, остальных посетителей уже начали проверять металлоискателем.
— Что это за кольцо?
— Обручальное.
— Почему оно не на пальце у вас?
— Гм… Это кольцо моей матери. Я всегда ношу его с собой. — Только не требуйте, чтобы я его надел, взмолился я мысленно. Женщина-офицер прищурила глаза, насупилась и тут заметила нечто еще более интересное.
— А это что такое?
— Где?
Она указала на бледно-оранжевую затычку для ушей, которую вместе с мелочью, ключами от машины и кольцом я положил в коробку.
— Затычка, — сказал я.
— Для чего?
Я попытался взглянуть на затычку, отдаленно напоминавшую игрушку из секс-шопа, глазами охранницы.
— Для полета на самолете.
Женщина внимательнее всмотрелась в затычку. Мне вдруг подумалось, что эта штука очень похожа на атрибут наркомана.
— Для полета на самолете?
— Нужно вставить их в уши, и тогда не будет слышно рева двигателей. Можно даже поспать.
— Почему она одна?
— Вторую я, наверное, потерял.
— Хм…
Никогда не думал, что ушная затычка может вызвать у кого-то столько подозрений. Продолжая хмуриться, тюремщица отодвинула коробку с моим имуществом к дальнему краю перегородки.
— Протяните правую руку.
Вдавив в штемпельную подушечку печать, женщина поставила на моих пальцах какой-то невидимый знак и придвинула мне коробку.
— Можете забрать свои вещи.
Засовывая ноги в ботинки, я начал было складывать мелочь в карманы.
— Не здесь.
— Что?
— Вы мешаете мне работать. Возьмите коробку и идите вон туда, к скамейке.
Спустя некоторое время пятерых из нас вызвали и посветили на руки лучом сканирующего устройства — секунду на них был виден розоватый символ. Ключи в огромной связке на поясе сопровождающего офицера поражали разнообразием. Некоторые выглядели современными, как ключ зажигания от машины, другие походили на средневековые. Когда нашу группу повели по коридору, я уяснил еще одну тонкость: идти нужно было медленно — дверь, остававшуюся позади, офицер закрывал на замок, догонял нас и лишь тогда открывал следующую.
Все, кто шел вместе со мной, давно усвоили, как следует себя вести. Продвигаясь в глубь этого жуткого здания, мы сами как будто превращались в заключенных. Наконец нас привели в помещение, где уже сидел Мингус Руд и другие заключенные, — в длинную комнату для свиданий, пропахшую известью, выложенную бледно-голубой плиткой и разделенную посередине перегородкой из органического стекла. Общаться мы могли только по телефону.
Поначалу Мингус говорил за нас двоих — я не мог найти слов.
— Ди-мен. Просто не верится, что это ты. Черт, вот это да!
Я кивнул в ответ.
— Только посмотри на него. Совсем взрослый!
Все это время Мингус представлялся мне реальным только наполовину, неким полумифом. И вот он сидел передо мной, человек из крови и плоти. Накачанный, с болезненно-желтыми белками глаз, с дурацкими усами Фу Манчу, прямо как у его отца, в грязной красной куртке, со сломанным зубом — я заметил это, когда он широко улыбнулся, — со шрамом, пересекавшим бровь. Тем не менее выглядел Мингус неплохо, точнее, за прошедшие годы он мало изменился. Я считал его похожим на Барретта с фотографии, украсившей «Встревоженную синь», но теперь, несмотря на усы, я видел в нем человека, ничем не напоминающего отца. Мингус был и оставался Мингусом, самим собой, — отвергнутым идолом моей юности, моим другом и любовником. Сидя напротив него, я сознавал, что в некотором смысле он превратился во взрослого мужчину задолго до нашей последней встречи и рокового выстрела. Чего не скажешь обо мне самом. Мне не хотелось даже вспоминать того мальчишку, которого я видел в зеркале, когда приехал в Кэмден и поселился в «Освальде». Перепуганного ребенка, страстно желавшего произвести на окружающих впечатление своей панковской прической, притворявшегося уличным невеждой.
— Я глазам своим не верю, старик. Где ты был?
Мингус вел себя так, будто мы продолжили прерванный разговор, будто я все еще тот запуганный школьник с Дин-стрит. Словно все эти годы я учился на Манхэттене, и в последние несколько месяцев наши дороги просто-напросто не пересекались.
Итак, где же я был?
— В Калифорнии, — ответил я.
— А, да. Я слышал, ты теперь в тех краях. Хотелось бы и мне когда-нибудь туда съездить. Золотой штат! Черт возьми! — Как и Марилле, Мингусу не доводилось бывать в Калифорнии. — Диллинджер уехал на запад, поселился в Золотом штате. И как бы хорошо ему там ни жилось, о своих корнях он не забывает. Возвращается в родные места и навещает старых знакомых.
Мингус как будто сочинял роман — растворял мое смущение в теплых интонациях рассказчика. Я слушал его болтовню с радостью, ощущая себя человеком, которому преподнесли подарок. Ни я, ни Мингус даже в мыслях не имели задумываться о том, на каком основании возрождается наша дружба. Она не потерпела бы никаких формулировок. Я чувствовал, как сквозь толстую стеклянную перегородку меня согревает его улыбка, его присутствие, и, почему-то вспомнив о том дне, когда мы ходили любоваться с моста на огромные тэги, думал, что Мингус всегда обладал этой удивительной особенностью.
— Артур не смог приехать, — сказал я, словно пытаясь оправдать приятеля. — Но прислал денег.
— Артур заботится обо мне, — кивнул Мингус. Нет, он вовсе не хотел уколоть меня, просто подчинялся желанию согреть и Артура теплом своей благодарности. — Знаю, я не раз его подводил. Но мой кореш никогда обо мне не забывает.
— Я постоянно спрашиваю у него о тебе, — солгал я. В действительности все эти годы мы с Артуром не поддерживали отношения. О Мингусе я давным-давно ничего не слышал — пока Франческа и Авраам не завели о нем речь в Анахайме, за ужином с Зелмо Свифтом.
— Мой братишка тоже сумел устроиться в жизни, — сказал Мингус, освобождая меня от необходимости врать. — Стал толстым и счастливым.
— Да уж, растолстел.
Дыхание Мингуса стало громче — видимо, его душил смех.
— По последним сведениям, наш мальчик надумал заняться фигурой и начал подыскивать себе подходящую жену.
Последовало тягостное молчание. Нам давно перевалило за тридцать, но ни один из нас до сих пор не обзавелся семьей. У Мингуса, разумеется, была на то уважительная причина. А я растратил свою жизнь впустую непонятно почему. Упоминать сейчас об Эбби я не мог: рассказ получился бы сбивчивым и лишь вызвал бы приступ жалости к самому себе. К тому же мне казалось, что между Дин-стрит и моей жизнью в Беркли зияет такая огромная пропасть, над которой при всем желании не выстроить мост.
Вокруг нас разговаривали с посетителями другие заключенные, кто-то всхлипывал, двое офицеров, дежуривших у двери, тоже о чем-то толковали.
— Я видел Младшего.
— Ходил к нему?
— Да, вчера. С Артуром.
— Мой старик, — с некоторой застенчивостью произнес Мингус. — Все сидит в своем убежище.
— Было приятно с ним повидаться, — сказал к.
— Наверное, он обрадовался.
Я не нашелся, что ответить, поэтому разговор вновь прервался. Мингус больше не пытался развлечь меня своей болтовней, его словоохотливость как будто иссякла. Я со стыдом сознавал, что мне не о чем говорить.
Мингус погладил свои длинные усы, провел пальцами по подбородку. На поверхности стекла с его стороны белели капельки слюны — свидетельства его напускного восторга, от которого теперь не осталось и следа. Я заглянул в его слезящиеся глаза и понял, что передо мной совсем чужой человек. Я не смел спросить у него, кем он стал — что произошло с ним тогда, в восемнадцать лет, какая причина снова привела его в тюрьму после освобождения, имела ли для него какое-то значение жизнь в промежутке между отсидками. Я не знал и как рассказать о себе — о том, в кого сам превратился, и о том, что несмотря ни на что, помню абсолютно все.
— Артур сказал, Роберт тоже в тюрьме. — Я презирал себя за наигранную беспечность, с которой произнес это слово — «тюрьма». Сердце громко билось.
— Много парней из нашего детства теперь в тюрьме, — ответил Мингус. Может, он хотел устыдить меня — я не был в этом уверен. — Дональд, Герберт, вся их компания.
Я не знал ни Дональда, ни Герберта. И Мингусу об этом, вероятно, было известно.
— Вы с Робертом видитесь? — Из меня так и сыпались идиотские реплики. Я ничего не мог с собой поделать.
— Я заботился о Роберте, пока мог. — Прозвучало это холодно, Мингус отвел в сторону взгляд. — Наш Роберт сам нарвался на неприятности. Вот и попал в камеру особого режима.
— Хм…
— Я ведь говорил ему! Нет — этот придурок не захотел меня слушать.
Желая смягчить его гнев, я сказал:
— Артур прислал деньги для вас обоих.
— Положи мою долю на его счет. Он сумеет ею воспользоваться.
— Серьезно?
— А то. Эти сукины дети достали меня, честное слово. Забрали у меня марки.
— Марки?
— Для писем. Почтовые марки.
— Почему?
— У меня было марок на тридцать баксов — в Оберне. Когда я попал сюда, думал, мне отдадут их… — Мингус принялся многословно рассказывать об ошибке, допущенной тюремной службой. Согласно правилам, заключенным запрещалось иметь при себе марки. Они напоминали купюры и могли использоваться ими как деньги. Мингус пожелал, чтобы сумму, на которую были куплены эти марки, перечислили на его счет. Но их просто поместили к остальным вещам, которые он получил бы при освобождении. Мингус писал жалобы, но ничего не добился. Эта история в духе «тюремных баек» напомнила мне о книгах Кафки. В этом мире постоянных лишений заключенные делают фетиши из самых ничтожных вещей. У меня заболела голова. Мне нестерпимо захотелось заорать: «Да забудь ты про эти чертовы марки! Я куплю тебе новые, если хочешь!» Но Мингус видел в этом проблему, требующую срочного решения, поэтому продолжал возмущаться. Разве могло сравниться то, что наболело на душе, с какими-то тридцатью долларами? Но в тюрьме разговоры велись лишь об одном — как облегчить тяжесть, накапливавшуюся часами, днями, годами. Я старался сдерживаться, слушая нескончаемый монолог Мингуса.
— Кстати, я привез тебе кое-что еще, — сказал я, когда он сделал паузу, чтобы перевести дух.
Мингус нахмурился в замешательстве.
Я сунул руку в карман и достал кольцо.
— Берег его для тебя. — Я придвинул кольцо к стеклу, будто знак дарования Мингусу монаршьей милости.
— Убери, — сказал он, дополнив ответ быстрым резким жестом. — Его все равно отберут.
Все еще не решаясь сообщить самое главное, я накрыл кольцо ладонью.
— Я для этого и приехал к тебе. Вернее… Нет, ну, разумеется, и для того, чтобы повидаться с тобой. В общем, кольцо твое.
— Оно никогда не было моим.
— Значит, стало сегодня.
— Черт!
Мингус помрачнел и напрягся, как будто я потребовал вспомнить что-то такое, чего он не желал воскрешать в памяти.
— Как можно тебе его передать? — «Если бы я знал, что между нами будет эта чертова стена, то испек бы тебе пирог», — подумал я.
— В этом нет необходимости.
— С его помощью ты сможешь выбраться отсюда, — произнес я едва слышно.
Мингус рассмеялся — искренне и с горечью.
— С его помощью никто не сможет даже проникнуть сюда.
Оставшееся время мы просто болтали. Мингус спросил, как поживает мой отец, и я рассказал, с какими почестями Авраама встречали в Анахайме. Потом я все-таки упомянул про Эбби, опустив подробности вроде цвета ее кожи, а Мингус опять вспомнил о марках. В последние минуты перед расставанием он задавал вопросы и не слушал моих ответов. Между нами как будто выросла невидимая стена. На выходе у меня снова проверили наличие штампа «свободный человек». Я положил обе сотни на счет Роберта Вулфолка, как и обещал Мингусу.
Глава 12
Невидимый, в сумеречном свете, я рассмотрел то, чего не увидел, когда пересекал этот двор впервые.
Латексную перчатку, наполовину вывернутую наизнанку, лежащую на бетонной плите, тщательно очищенной от листвы и грязи.
Вывеску на заборе, нарисованную отруки: «НЕ КОРМИТЬ КОШЕК».
Деревья прямо у ограды из колючей проволоки. Недосягаемые холмы вдалеке. Бледный диск луны, выплывший еще до заката.
Когда я вернулся на территорию Уотертаунской тюрьмы, трудно было сказать, день еще или уже ночь. Скорее нечто промежуточное — час, когда на постах менялась охрана.
Я полчаса пролежал на кровати в гостиничном номере, переключая телеканалы и глядя то на играющих «Метс», то на Фарру Фосетт и Чарльза Гродина в «Ожоге», то на Тедди Пендеграсса, пока в моей голове не прозвучали опять слова Мингуса, оглушив меня: «С его помощью никто не может даже проникнуть сюда». В первый раз я воспринял их несерьезно, а ведь они говорили о том, от чего я постоянно убегал, что играло в моей жизни главную роль. Не о Калифорнии, а о Бруклине. Не о колледже в Кэмдене, а о школе № 293. Не о «Токинг Хедз», а об Эле Грине. Не о выходе, а о входе (вспомните Тимоти Лири, шестьдесят седьмой год). Выход подразумевал вход (вспомните альбом «Гоу Битвинз», записанный в восемьдесят четвертом). Вход в царство музыки, конечно. А мне предстояло проникнуть в тюрьму. Первый пропуск, который выписали на мое имя в соответствии с правилами, позволил мне побывать там в роли гостя, почти туриста. Теперь я должен был войти в тюрьму в обход правил и тем самым заслужить право подарить Мингусу свободу, доказать ему, что иногда и невозможное возможно. Я собирался предоставить Аэромену шанс спасти самого себя, а теперь понял, что ошибался. Воспользоваться кольцом должен был я.
У меня как будто резко подскочила температура, стены комнаты зашатались, и я почувствовал себя Реем Милландом из «Потерянного уикенда». Внутренности словно расплавились, меня прошиб пот. Я лежал неподвижно, продолжая давить пальцем на кнопки пульта в надежде найти какую-нибудь передачу, которая отвлекла бы меня. Бесполезно. В конце концов я соскочил с кровати, ополоснул лицо и шею и минут пять простоял у зеркала, пытаясь пристальным взглядом отговорить себя от безумной затеи. Затем я собрал свои вещи и выписался из гостиницы.
Я подъехал к торговому центру на окраине города и оставил машину на стоянке среди множества других автомобилей.
Вспомнив о металлоискателях, я снял ремень и часы, спрятал их под сиденьем, а бумажник засунул в бардачок, решив, что деньги и документы тоже не стоит брать с собой. Ключ от машины я снял с брелка и положил в ботинок, как шестиклассник, прячущий доллар, чтобы не отняли. Затем я надел на палец кольцо Аарона Дойли и невидимый вышел из машины. До тюрьмы я добирался пешком — по обочине идеально вычищенной дороги с вывесками «ОПАСАЙТЕСЬ СЛУЧАЙНЫХ ПОПУТЧИКОВ».
Автостоянка для служащих тюрьмы располагалась непосредственно за пропускным пунктом, через который я прошел сегодня утром. Сейчас на территорию въезжала на своих машинах вечерняя смена, охранники не слишком дотошно проверяли их: смотрели на жетоны и заглядывали в сумки с завтраками. Я без проблем вошел в ворота вслед за очередным автомобилем — в сумерках любой бы, наверное, справился с этой задачей. Машина заняла место среди других. Ее водителем оказался невысокий тип, похожий на грушу, с баками Элвиса, в шерстяном костюме. Перед входом в здание тюрьмы он остановился, сделал последнюю глубокую затяжку, бросил бычок на гравий, загасил его ногой и открыл дверь. Я вошел вместе с ним, стараясь ступать беззвучно. В какой-то момент я чуть пошатнулся, тут же подумав о неуклюжести невидимок, лишенных возможности видеть самих себя, и ощутил приступ паники. Но быстро собрался с духом и, подражая размашистой походке мистера Груши, последовал за ним.
У офицеров была своя «А/Б дверь». Здесь мне пришлось несладко — дверью «Б» меня чуть не пришибли, и, уворачиваясь от удара, я ударил ботинком Грушу по ноге, сзади под коленом, едва не сыграв с ним шутку, которая в нашей школе называлась «спущенная шина». Груша резко развернулся. Я прижался к двери, закрыв рукой рот. Он посмотрел направо и налево, ничего не увидел и зашагал дальше. Я выдохнул. Тюрьма тихо гудела, доносились отзвуки отдаленного лязга и грохота. Этого было достаточно, чтобы никто не слышал вздохов невидимки.
Я поспешил за своим ни о чем не подозревающем провожатым. Он вышел в освещенный бледной луной двор, и вскоре мы очутились в низеньком здании с множеством кабинетов, окна которых не были защищены решетками. Камер с заключенными здесь, по всей вероятности, не было. Утром этого здания я не видел. Груша свернул направо, к двери с надписью «КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ», и я понял, что пора с ним распрощаться. Было бы глупо надеяться, что, переодевшись, Груша отправится прямиком в камеру Мингуса.
Я решил обследовать кабинеты. В отличие от помещений для посетителей здешний воздух не пропах страхом. Если бы я не знал, где нахожусь, мог бы подумать, что это совершенно безопасное место — нечто вроде управления транспортных средств. В первом кабинете у стола с кофеваркой офицер заигрывал с коллегой-женщиной, которая хоть и была подстрижена под мальчика и одета в форму, выглядела весьма соблазнительно. Пара служащих, то и дело зевая от усталости, корпели над какими-то бумагами, двое других прилипли к экрану крошечного телевизора, наблюдая за игрой «Метс», начало которой я краем глаза видел в гостинице. На зеленых стенах висели фотографии чьих-то детей, вырезанные из газет карикатуры и календари. Лет десять назад здесь, вероятно, были и снимки красоток из журналов, но сейчас тут работали женщины и подобные вольности исключались. Может быть, теперь мужчины прятали вырванные страницы в камерах хранения.
Я стоял, прислонившись к стене, когда в кабинет вразвалочку вошел Груша, в серой форме с обилием кнопок, с дубинкой и связкой ключей на поясе.
— Эй, Стеймос! — воскликнул офицер, тот, что у стола с кофеваркой.
— Здорово! — ответил Груша-Стеймос. — Чем занимаешься?
Все служащие в офисе были белыми. Но и их общение не обходилось без «Эй».
— Жду тебя, — ответил офицер у кофеварки. Его собеседница, на лице которой появилось недовольное выражение, отошла в сторону. — Метцгер отправляет нас двоих в шизо. С днем измождения!
— Где мой торт с мороженым? — убито пробормотал Стеймос.
— Никакого мороженого.
— Боже всемогущий! Помоги мне пережить этот чертов день.
— Я позабочусь о тебе, мой сладкий.
Стеймос и его приятель покинули кабинет, очевидно, с ужасом думая о том, что ждало их в загадочном шизо.
— Сохраняйте мужество, — не поднимая головы, пожелал им один из офицеров, возившихся с бумагами.
Я решил не идти за Стеймосом. Он не внушал мне доверия. Следовало выбрать нового провожатого и запастись терпением, чтобы в нужный момент быстро прижаться к стене, стоять там сколько потребуется, усмиряя трепещущее сердце, не позволяя громкому вздоху слететь с губ, а затем суметь проскочить в открытую дверь. Но прежде я должен был установить местонахождение Мингуса в этом мрачном тюремном городе, где улицы не имели названий — по крайней мере на них не было указателей.
Его координаты, вероятно, можно было найти в бумагах, хранившихся в этих кабинетах, или в той папке на пропускном пункте, из которой охранник прочитал мне номер Мингуса. Я стал ходить по комнате, заглядывать в документы через плечо работавших с ними офицеров и даже листать досье на столах, когда никто не видел. Но так ничего и не выяснил. Одна из тетрадей содержала сведения, не поддающиеся расшифровке: «4:00 охрана/4:25 с-т Мортин здание Г/6:30 заключенный Легман, Дуглас 86Б5978 запрос по д. РЛХ» и так далее. На другом столе я обнаружил журнал с перечнем служащих тюрьмы и итоговой подписью «Количество превышает норму».
Наконец мой взгляд упал на стопку папок, обозначенных именами и номерами заключенных, — они лежали на низкой полке в стороне от письменных столов. Уголки торчащих из папок бумаг трепал ветер, проникавший через раскрытое окно. Я решил, что раз уж нельзя извлечь из невидимости никакой другой пользы, то хотя бы устрою здесь кавардак, подчиняясь детскому желанию, которое вынужден был душить в себе всю жизнь. Хорошо, что ветер усилился — это могло послужить объяснением разгрому. Я подошел к полке и смахнул папки на пол.
— Мать твою, — пробормотал офицер, сидевший ближе всех к полке.
Женщина с мальчишеской стрижкой изумленно посмотрела на бардак.
— Подними, Суини, — сказал один из тех, что пялились в телевизор.
— Сам подними.
— Я собираюсь уходить. Кстати, тебе следовало унести отсюда эти бумаги еще на прошлой неделе.
— Не мне, а Заретти.
— Да, но упали они из-за тебя. Закрой наконец окно, а то мы все свалимся с гриппом.
К моему удивлению, Суини послушалась его. Подойдя к полке, она наклонилась — ее серая форменная куртка задралась на спине, и из-под брюк выглянула полоска цветастых трусиков — и принялась быстро собирать с пола папки, не давая мне возможности прочесть написанные на них фамилии. Я едва удержался от соблазна схватить последние несколько штук и попрыгать с ними, изображая взбесившийся ветер. Этой мертвой зоне не помешала бы хорошая встряска. Суини что-то ворчала себе под нос. Болельщик «Метс» не обращал на нее внимания. Оживленный голос комментатора заглушал гудение вентилятора. Когда Суини собрала все папки и вышла из кабинета, я последовал за ней — за цветастыми трусиками, единственным ярким пятном в этом мраке.
Суини привела меня в комнату с несколькими шкафами и большим деревянным письменным столом, на котором стоял телефон и лежали фотографии, вырезанные из газет. Быть может, это был кабинет тюремного смотрителя, если таковые вообще существуют. Помню, как сильно я удивился, узнав в тринадцатилетнем возрасте, что в маленьких вермонтских поселениях есть шерифы, — они представлялись мне тогда настолько же нереальными, как рыцари или пещерные люди. Тюремный смотритель ассоциировался у меня с Пенни Брюсом или с речитативами Слика Рика. В общем, скорее всего это был кабинет какого-нибудь старшего офицера. Суини включила свет и начала раскладывать папки по ящикам в шкафу, помеченным буквами в алфавитном порядке. Я понял, что попал именно туда, куда нужно. Хотя в данный момент меня это не очень интересовало. Я подошел к Суини — ближе, чем следовало, — на время забывая о том, что я в тюрьме. Суини была невысокой, но я почти любил ее. За то, что она — женщина в этом созданном и охраняемом мужчинами аду, за то, что я видел в ней Лондон и слышал Францию.
Ничего подобного я никогда не испытывал. Мне еще не доводилось исследовать сексуальные преимущества невидимости — я не приходил прозрачным в стриптиз-клубы, не заглядывал в чужие окна. Жажда распутства обуяла меня как раз в тот момент, когда я собрался навсегда отказаться от кольца и его таинственных возможностей. Я едва не прижался к Суини, опьяненный ароматом ее волос. Она напевала «Билив» Шер и пускала газы, но меня это не отталкивало. Я уговаривал ее мысленно: «Только не бойся меня, Суини, не кричи. Позволь прозрачным рукам человека-невидимки проникнуть под твою мужицкую форму…». Мой член стоял, едва не касаясь обтянутого серой тканью зада Суини, сейчас я был возбужден сильнее, чем когда остался наедине со сладкой Катей Перли. Эта безумная страсть как будто давала мне последнюю возможность отказаться от своей затеи, которую я уже осуществил наполовину, она как будто выталкивала меня в совсем иную жизнь — изобилующую женщинами и глупостями, со своими проблемами, которые, по сути, не такие уж проблемные и неприятные, как настоящие трудности. И пусть катится к черту эта гнетущая мужская тяга к подвигам! Это идиотское стремление пробраться на территорию, огороженную колючей проволокой, чтобы разрешить загадки из прошлой жизни! «Пропади она пропадом эта тюрьма, давай трахнемся, Суини! Позволь мне хотя бы на время вытянуть тебя из этого дерьма!»
Суини выдвинула ящик, обозначенный буквами Р-С-Т, и мне сразу же бросилось в глаза: «Руд, Мингус Райт, 62Г7634». Возбуждение как рукой сняло. Секунду назад я был в двух шагах от катастрофы, чуть не прикоснулся к Суини своим отвердевшим членом. А теперь пятился к окну, позволяя ей закончить работу. Она продолжала весело напевать, даже не подозревая о том, что всего минуту назад она вызывала в ком-то бешеное желание. Перед уходом она щелкнула выключателем, но света фонарей во дворе было вполне достаточно, чтобы найти нужный ящик и достать папку.
Я сел за стол и раскрыл ее.
В папке было пятнадцать, а может, двадцать страниц. Первая — самая важная — датировалась семьдесят восьмым годом. Мингус поступил в тот год в школу Сары Дж. Хейл, а я еще учился в 293-й.
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Результаты проведенных тестов свидетельствуют о высоком уровне интеллектуального развития мальчика. Вербальные способности значительно преобладают над практическими навыками преодоления трудностей. Уровень концентрации внимания ниже возрастной нормы — вероятно, как результат расстроенных чувств, напряжения и внутренней дисгармонии. Недоверчив, склонен относиться к жизни с настороженностью, эмоционально сдержан, раним…»
«ДЕТСТВО: Родился в срок. Осложненные роды; появившись на свет, выбил ногой инструмент из руки акушера…»
«Мингус не понимает, что с ним происходило. Ему кажется, его неприятности начались еще в детском саду…»
«Свои проблемы увязывает с хулиганскими элементами в школе и на улице. Затрудняется объяснить, чем занимается в свободное время…»
* * *
«РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА: Пройти тест согласился с готовностью. Однако в ходе проверки проявлял недовольство, граничащее с безразличием и даже пренебрежением… Показатели колеблются от ниже среднего до высшего, за исключением задания „Механическое переписывание текста“, оцененного „ниже нормы“, что, вероятно, не соответствует действительности, поскольку он мог делать это умышленно небрежно…»
«Склонен к замкнутости и предчувствию дурного (например, карточка V: замаскировавшаяся бабочка на дереве, карточка III: два человека готовят колдовской отвар, карточка IV: летящий на зрителя дракон)… Что свидетельствует о страхе и порой подозрительности в отношении личного жизненного опыта и окружающей действительности…»
«Для обычной манеры поведения характерны сарказм и склонность к словесным перепалкам с людьми, имеющими над ним власть…»
Передо мной вставал совсем другой Мингус, таким я его не знал. Казалось, перед встречами с психиатром у него неизменно портилось настроение. А ведь в этот самый период он с легкостью управлял моей жизнью, там, на Дин-стрит. Я отложил верхние листы, перейдя к «послужному списку» — записям об арестах и судимостях. Первые пять или шесть задержаний произошли еще в школьную пору — из-за граффити. До принятия Эдом Кочем особых законов о граффити, полицейским приходилось выдумывать, какую причину задержания указать в протоколе.
«02/03/78: Хулиганство, причинение вреда чужому имуществу.
14/04/78: Хулиганство, причинение вреда чужому имуществу.
27/09/79: Хулиганство, владение воровскими инструментами».
И так далее. Воровскими инструментами, по всей вероятности, окрестили металлорежущие приспособления, при помощи которых Мингус проникал в депо метро. Ни о нападении на полицейского в Уолт Уитмен, ни о костюме я не нашел ни единого упоминания. В ту ночь Мингуса отпустили под ответственность отца. Все его подростковые преступления были связаны с граффити. Смешно: в ту пору Мингус мог спокойно курить травку и нюхать кокаин у себя дома, а как только выходил на улицу, сразу попадался в лапы копам.
Ему прощали мелкие прегрешения.
«16/08/81: Убийство 2, хранение оружия».
И приговор:
«23/10/81: Признан виновным в совершении уголовного преступления: непредумышленного убийства».
Эхо убийства Старшего отобразилось в «послужном списке» Мингуса шестилетним молчанием. Перечень его арестов продолжился с 1987 года. К этому моменту улица уже пережила революцию крэка.
«23/11/87: Хранение запрещенного вещества (стимулятора)»
Далее шел перечень подобных же преступлений, напечатанный ленивым секретарем, обожающим аббревиатуры:
«03/10/88: ХЗВ (стимулятора), мисдиминор.[13] 12/02/89: ХЗВ (стим.) мисдим.
03/06/89: ХЗВ (стим.) мисдим.».
Затем — результат вступившего в силу дополнения к уголовному кодексу:
«08/08/89: Владение предметами нанесения граффити».
И:
«05/04/90: Кража 1».
Раз за разом Мингус попадал за решетку до суда и проводил там больше положенного срока. За период между отсидкой в Элмайре и нынешним заключением Мингус ни разу не выезжал за пределы города, его никогда не отправляли на север. В каком-нибудь другом штате или Городе ему, может быть, прощали бы его проступки. А выживал он скорее всего благодаря своим исключительным «вербальным способностям» — своему знаменитому дару убеждать. Так или иначе, предупреждений ему делали предостаточно:
«05/08/92: ХЗВ (стим.) мисдим.
01/30/94: ХЗВ (стим.) мисдим., владение преступными инструментами».
Я читал этот список правонарушений, и мне казалось, я наблюдаю за крушением поезда или обвалом в горах.
«11/08/94: Хранение стимулятора, попытка продажи. Хранение оружия».
И:
«Обвинение в совершении уголовного преступления, от 4 лет до пожизненного».
На этом список заканчивался. Создавалось впечатление, что сначала долго Мингуса покусывали, а распробовав, решили загрызть насмерть.
Дальше шли документы, содержащие подробности его нынешнего заключения: бумаги, обрекавшие его на жизнь в тюрьме строгого режима — сначала в Обернской, потом в этой, Уотертаунской, куда он был переведен по личной просьбе. Я лишь позднее осознал, что Мингус плыл против течения: большинство заключенных стремилось на юг, куда родным и знакомым легче добраться.
Далее следовал список незначительных преступлений, совершенных Мингусом уже в тюрьме, — его составляли дежурные офицеры. Я долго и с изумлением всматривался в неразборчивые записи:
«Заключенный отказался выйти из камеры во время досмотра.
Запрещенные предметы: маркер.
Заключенный готовит суп с помощью нагревательного прибора.
Лишняя газета.
Заключенный улегся днем на койку и заявил, что он Супермен.
Запрещенные предметы: трубка».
Вот такая аннотация ко всему существованию Мингуса. Я заучил наизусть номер его камеры и блока, вернул папку на место. Но прежде чем продолжить свою призрачную прогулку по тюремным владениям, вновь сел за стол, словно притянутый стоявшим там телефоном. Быть может, во мне говорила еще не остывшая страсть к Суини или какое-то другое обманчивое чувство, но я вдруг нестерпимо захотел поговорить с Эбби.
Уже привыкнув к тому, что у меня дома никого нет, и настроившись на очередное разочарование, я очень удивился, когда вместо автоответчика услышал голос Эбби.
— Эбби?
— Да.
— Ты дома.
— Гм… Я у тебя дома, — поправила меня Эбби.
— А какая разница?
— Разница в том, что тебя здесь нет. — Она немного помолчала. — Все наслаждаешься Диснейлендом?
— Диснейленд. Н-нет! Я совсем не там.
Мне вдруг пришло в голову, что, когда я названивал домой, разыскивая Эбби, она, наверное, тоже звонила в Калифорнию, ища меня. Так же безрезультатно.
— Я не в Анахайме, — сказал я. — Вернулся в Бруклин.
— Заболел твой отец?
В первую секунду я пришел в замешательство, но быстро сообразил, что Эбби высказала самую безобидную из догадок, а версии поинтереснее приберегла на потом.
— Нет… Нет, — ответил я.
— Значит, ты отправился брать интервью у печального Айрона Джона? Ты где сейчас? В лесу? Играешь на барабане?
— Не совсем.
— Может, ты разыскиваешь того типа, которому принадлежала расческа для афро?
— Что-то в этом роде.
— А почему ты шепчешь?
— Если честно, я сейчас не могу с тобой разговаривать, — сказал я. — Я не ожидал, что ты ответишь. — Мне хотелось добавить: «Я звонил много раз», но как раз в этот момент мимо двери со стеклом проплывал дежурный офицер. Если бы кто-то услышал мое бормотание и вошел сюда, то увидел бы повисшую в воздухе трубку.
— Точнее, в данный момент тебе просто неохота со мной разговаривать, я правильно понимаю, Дилан?
— Прости.
Эбби задумалась, очевидно, ища объяснение моему молчанию.
— Ты в каком-то жутком месте, угадала? — Ее голос прозвучал несколько мягче. — А наш сверхсерьезный разговор тебя просто достал.
— Я в жутком месте, — ответил я. Ее предположение стопроцентно совпадало с действительностью.
— Я тебе верю.
— Спасибо, — тихо произнес я.
— Когда выберешься оттуда, перезвонишь мне?
— Да.
— Ладно. Наверное, я смогу подождать.
— Спасибо, — повторил я.
— Я остаюсь здесь. Звони в любое время. — Теперь Эбби говорила со мной как с ребенком.
— Эбби…
— Да?
Мне захотелось что-нибудь сказать ей напоследок — хоть даже ерунду. Но я как дурак молчал, пока не вспомнил о том, чем давно мечтал с ней поделиться, — о таких вещах мы с удовольствием болтали в наши лучшие дни.
— Помнишь, я всегда удивлялся, что «Фор Топс» столько лет остаются вместе и не принимают новых вокалистов, хотя обычно все группы рано или поздно распадаются?
— Да?
— Представляешь, я выяснил, в чем их секрет. Это невероятно. «Фор Топс» не распались, потому что все четверо ходят в одну синагогу. Они евреи. В некотором смысле это очень трогательно, согласна?
— Ты позвонил, чтобы сообщить мне эту новость? Чтобы сказать: «Фор Топс» евреи?
— Э-э…
— А о себе, насколько я помню, ты всегда говорил: то, что я еврей, практически ничего не значит.
— Гм… Да, конечно… И все же… Мне кажется, история «Фор Топм» удивительна.
— Хм-м… По-моему, это твое изумление — отголосок увлеченности черными. М-м? А у этих ребят наверняка имеется парочка подружек — черных евреек, где-нибудь в Краун-Хайтс. Удачных поисков, брат по крови.
Эбби положила трубку. Впрочем, разговор завершился далеко не худшим образом.
Мне ничего не оставалось, как продолжить выполнять миссию, с которой я сюда явился. Заняться поисками, как сказала Эбби. Поисками Мингуса.
Глава 13
Он никогда не желал быть ни королем улицы, ни лидером какой-нибудь группировки. Он хотел быть только Дозой. Его не интересовало ни точное количество нанесенных им меток, не увлекало хвастовство или разграничение сфер влияния. В сделки с группировками ему, разумеется, приходилось вступать — в конце концов он примкнул к БТЭК, — но только ради того, чтобы получить право свободно заниматься собственным искусством. Времена Моно, Ли и Суперстрата — легендарных героев, показавших улице, что такое «тэг» или «троу-ап», или «топ-ту-боттом», а в первую очередь — что вообще представляет собой граффити, искусство, родившееся из надписей на стенах уборных, — времена этих людей прошли. Миллион подростков расписывали город тэгами, не зная их истории. Наверное, этим ребятам казалось, что люди всегда так жили: ели, спали, смотрели телевизор, вступали в группировки и оставляли на стенах и столбах свои тэги.
Независимо действовали лишь те, кто имел склонность к одиночеству. Дозу нравилось смотреть, как возникает линия, как краска из распылителя лижет, словно языком, камень или стекло. Линия и лижущий язык — выражение ошеломления, придаваемое лицу города тэгом. Топ-ту-боттом — роспись, украшающая стену вагона снизу доверху. Да черт побери! Пусть мир превратился в мрачную тюрьму, но у Дозы были продолжатели! Граффити никогда не пользовалось бешеной популярностью, многим просто хотелось в это верить. Как в случае с Джеки Уилсоном, Сэмом Куком, Отисом Реддингом и Барреттом Рудом-младшим — настоящие таланты составляли исключение, собираясь в созвездия.
Быть может, Барри об этом не догадывался, но именно любовь Дозы к своему искусству сблизила их, отца и сына.
Кокаин тоже сыграл в этом большую роль — Барри, очевидно, именно так и считал. Между прочим, это он открыл его для Дозы.
На изучение наркотика уходило немало времени — ты мог умереть, так и не поняв, что именно кокаин хотел рассказать тебе.
Барри и Дилан понятия не имели о том, что казались ему слишком похожими друг на друга. Он ощущал вес их радужных надежд, возлагаемых на него, Дозу, и на целый мир. Барри и Диллинджер витали в облаках, а потому отличались нерешительностью. Слабостью. Ему хотелось защитить их от сокрушительных ударов, хотя порой он склонялся к мысли, что это неосуществимо. Они не хотели знать о тех вещах, о которых было известно Мингусу — ведь он смотрел на них раскрытыми глазами. Он осознанно оставил Дилана без своего покровительства в 293-й школе. Не потому что просто захотел этого, а потому что твердо знал, как тяжко придется его другу, — знал и не имел возможности что-либо изменить. Иногда его так и тянуло прийти к Аврааму и прокричать: «Отправь же наконец своего сына во „Френдз“! Забери его из этого ада!»
А полеты? Он делал это, потому что не желал разочаровывать Дилана.
Черная пантера, Люк Кейдж, Астромен. Как же. Можно подумать, Гованус нуждался в черном супергерое.
Доза читал в комиксах между строк — Дилан никогда этого не умел, — поэтому знал, что оба они всего лишь довесок к общей картине и никаких шансов у них нет.
С половиной парней, которых они пытались проучить с помощью кольца — любителей отнять деньги у белого, — Доза был знаком.
Барри и Дилан — они оба застряли в романтике Дин-стрит. Доза смотрел на свой квартал как на маленький остров в городском море — взглядом летающего человека. Он знал, что такое Невинс и Хойт и куда они ведут. Никто, за исключением, быть может, Мариллы, не догадывался о том, сколько раз Доза защищал свой квартал от молодчиков из Уикофф-Гарденс и Гованус Хаузис, от дружков Роберта Вулфолка и им подобных. О том, что он оберегал детей Дин-стрит, в том числе Альберто и Лонни, даже гордеца Генри, следил, чтобы их не избили, не отобрали у них скейтборд или велосипед. О том, что спасал дома из бурого песчаника на Берген и Третьей от нападения разбойных банд — те следили за восстановительными работами новых жильцов, чтобы подгадать удобный момент и наведаться к ним в их отсутствие. Продавая этим парням травку, Доза отговаривал их от подобных действий. «Какого черта вы там найдете? Думаете, белые хранят дома бабки? Да они же все хиппи! Скоро вообще уберутся отсюда».
Может, новым жильцам так и следовало сделать — убраться подальше. Здесь ведь был не Парк Слоуп.
И почему Доза с таким рвением за них заступался?
Многие из поселившихся в этих домах белых — не Эбдусы, конечно, а Изабелла Вендль, Дэвид Апфилд, Роты — вообще избегали встречаться глазами с ним или с Младшим, как будто они заняли на улице чужое место. Усатый Апфилд в своей бейсболке «Ред Сокс», каждый день выходя во двор убирать мусор, метал испепеляющие взгляды в сторону пуэрториканцев перед магазином Рамиреза, словно мог заставить их таким образом не бросать в его клумбы бутылочные крышки и упаковки из-под чипсов.
Быть может, все беды Дозы были вызваны переездом из Филадельфии. Вынужденным отказом от формы бойскаута и футбольной экипировки. Ему пришлось забыть о прошлом и все начать сначала.
Младший мог целыми днями просиживать дома и любоваться на свои «Золотые диски». А ты, ты заставлял себя выходить на улицу и шагать по серым тротуарам прочь с Дин-стрит.
Иногда он с самого утра отправлялся на Монтегю, проходил сквозь толпу школьников из Хайте, спешивших на первый урок в Сент-Энн и «Пэкер», и сворачивал в сторону моста, чтобы в одиночестве покурить травки. Вдали от учителей и школьных охранников, Дилана, Артура, Роберта. Вдали от звонков на урок, команды «Флэмбойен», «Свирепых убийц» из Ред-Хук, которые хотели, чтобы он присоединился к ним, «Томагавков» из Атлантик Терминале. Все уходило, рассеивалось, как дым в воздухе. Он сидел у подножия Бруклинского моста на городской свалке, глядя на проржавевшие крылья полицейских автомобилей, разбитые счетчики такси, скелеты других машин, с торчащими в зажигании ключами, словно эти развалюхи еще надеялись встать в строй. Уходило все. Младший. Старший. Мингус.
В каком-то смысле Старший был таким же, как Доза. И, несмотря на свою фанатичность, замечал все вокруг.
Несколько раз Доза следил за Старшим, когда тот отправлялся на встречу с офицером, наблюдающим за досрочно освобожденными. И тайно провожал его до книжного магазина на Ливингстон-стрит, где Старший подолгу изучал картинки из порножурналов, лежавших на полке между гороскопами и сборниками тестов для государственных служащих. Свои вылазки в этот книжный Старший прекратил лишь после того, как старый еврей велел ему или что-нибудь купить, или проваливать.
Однажды Старший ущипнул Дозу за руку, столкнувшись с ним в прихожей, и сказал:
— Иногда мне кажется, ты ходишь за мной по пятам, сынок. Надеюсь, ты хоть что-нибудь наматываешь себе на ус.
Из того дня, когда произошло убийство, Доза помнил лишь собственное чувство безграничного стыда и страстное желание, чтобы белый парень ничего этого не видел.
Если он возвращался мыслями к тому моменту, то жалел лишь об одном: что не разделался со Старшим под покровом ночи, наслав на него стаю шлюх, или не всадил в его вампирское сердце серебряную пулю.
Не стоил старик того, чтобы стрелять в него. Если бы у Дозы был скальпель, он просто отрезал бы Старшего от Младшего. Но в тот день им завладело желание защитить отца. Вот как нужно было объяснить это копам.
Споффорд.
Барри не было ни в момент предъявления Дозе обвинения, ни на слушании дела в суде. Он сбежал, уехал вместе с гробом Старшего в Северную Каролину, оставив Дин-стрит, свою комнату с залитым кровью полом и осевшим на диванных подушках кокаиновым порошком. Никто не хлопотал об освобождении Дозы, не собирался вносить за него залог. А как же Артур Ломб? Ему ведь предстояло развивать их бизнес. С кем? С перепуганной матерью?
Никто не знал, что Дозе уже исполнилось восемнадцать. Сначала его отвезли в Бронкс и поместили в «Споффорд Джувенайл» вместе с тринадцатилетними распространителями героина, четырнадцатилетними трансвеститами и несовершеннолетними растлителями малолетних. Сидела здесь и парочка убийц, которые еще не достигли половой зрелости. Оба лишили жизни таких же детей, какими были сами. А Доза уже брился и, кроме того, застрелил взрослого человека. Мальчишки приняли его как главного. Через десять дней из Филадельфии прислали копию его свидетельства о рождении, и ошибку тут же исправили. Дозу перевезли в тюрьму на острове Райкер.
Но если время от времени он и вспоминает об августе восемьдесят первого, то думает только о Споффорде: о двенадцатилетнем соседе по койке из Бед-Стай, который слышал голоса и постоянно твердил: «У меня в башке Баггз Банни». Этот мальчишка похитил третьеклассницу со двора школы № 38, отвез ее на конечную остановку Лонг-Айленд Рейл-роуд, разделся, снял одежду с жертвы и заставил ее есть его фекалии, а теперь сходил с ума от тоски по маме. Никто не издевался над ним, имитируя болтовню Баггза Банни, — голоса являлись ему, быть может, по безмолвной просьбе тех, кто его окружал.
Райкер.
Доза уже не помнит, каково было его первое впечатление в этом месте. Подчинение себе острова Райкер — вот одно из главных достижений его жизни. Он заставил себя не подавать виду, что ему страшно. Здание номер шесть. Его обитатели объяты тревогой, вызванной появлением нового арестанта. Доза всегда и везде — человек с большим опытом.
Нет ничего ужаснее напуганных убийц, пытающихся доказать, будто они жесткие и непоколебимые. Если ты знаешь, что такое здание номер шесть на Райкере, непременно попросишься в любую тюрьму на севере. Люди на севере более уверены в себе и спокойны — большинство уже знает, сколько им предстоит отсидеть, и воспринимает это как нечто неминуемое, психов же, которых только-только сцапали, гораздо меньше. Здание номер шесть переполнено парнями с улицы, намеренно ожесточившимися перед тем ужасом, с которым, как они думают, им предстоит столкнуться. Поэтому Райкер гораздо страшнее любой тюрьмы в северных районах. Лучше с самого начала притвориться крайне жестоким и бывалым, еще когда только входишь в ворота. Так все и делают — приходя в неохраняемую столовую, разыгрывают перед окружающими свирепость. Пузырь — застекленный пост тюремщиков — далеко от пищеблока, поэтому здесь идеальное место для подобных демонстраций.
Молодые гораздо более опасны, чем люди зрелые.
Страх растягивает ожидание суда на целую вечность. Каждый, кто попадает в здание номер шесть, заявляет, что на этот раз потребует, чтобы его дело слушалось в суде присяжных, клянется, что больше никогда не станет подавать апелляцию. Заверяет, что в следующий раз ни за что не попадется. И — как бы то ни было, я невиновен! Через шесть месяцев, наполненных отчаянными попытками не попасться под горячую руку какому-нибудь соседу-убийце, назначенный судом защитник намекает клиенту, что может кое-что устроить. Условное заключение или от года до пяти в тюрьме на севере штата. Подзащитный соглашается — только чтобы не «от десяти до пожизненного».
Ничто не помогает системе лучше, чем система, выходящая из-под контроля.
Заняв на острове выгодное во всех отношениях положение, Доза увидел все, что здесь творится, — будто заглянул в механизм часов.
Когда за решетку попадали психи, они требовали предоставить им лучшее спальное место, но их отовсюду гнали. Вонючие, тощие, они никогда не могли найти для себя места и никого ни в чем не убеждали. Более взрослые тертые калачи и даже парни помоложе — все говорили психам одно и то же: «Твою мать, недоделок! Чем от тебя несет? Иди вон туда, придурок, и не торчи здесь».
И психу приходится брать одеяло и отправляться в тот угол, где спят покрытые коростой изгои. Растоптанные, опустившиеся люди со слезящимися от бесконечного раболепства глазами.
Только-только попадая в тюрьму, ты в некотором смысле превращаешься в героя Хорэйшио Алджера. Вспоминаешь о своей внешности. В последнее время на уход за собой ты не тратил ни минуты: не мылся, не причесывался, утешался наркотой и ревущей рок-музыкой. И вот внезапно оказываешься перед зеркалом. У всех, кто тебя окружает, свои принципы, своя идеология: у адвоката, мусульман, картежников, доносчиков, членов известных на весь штат группировок. И каждый твердит об уважении. Всех что-то ограничивает, все состоят в какой-нибудь команде, несмотря на то, что постоянно твердят: выживает лишь тот, кто полагается на самого себя; отстаивай свою территорию и не влезай в долги. Этих правил придерживаются все. Но в первый день тебе, естественно, пытаются навязать сигареты: в долг, браток.
А еще ты обнаруживаешь, что очутился в окружении одних качков, — ты, костлявый мальчишка, ошивавшийся по подворотням.
Никаких долгов, говоришь ты себе, но местный парикмахер делает тебе отменную стрижку и шепчет на ухо: «Полпачки, браток». Ты не возражаешь, даже благодарен ему, ведь, пока он тебя не подстриг, ты не мог без содрогания смотреть на себя в зеркало.
Первое испытание. В кого ты превратишься? В стукача? Опущенного? Законченного наркомана? Или всего лишь в рассказчика бесконечных баек, в тюремную Шехерезаду?
Самая невероятная история приключилась с Дозой именно в этот период — после вынесения приговора и до перевода на север. В сентябре как Доза увидел слово «иудей» в заведенном на него личном деле — призрачный привет от Старшего. Офицер и глазом не моргнул — просто рассказал, где и в каком месте проводятся службы. Доза напрочь забыл об этом разговоре и вспомнил, лишь когда однажды зимой получил на обед коробку с опресноками, которые ему позволили забрать в камеру. Видимо, о нем позаботился какой-то фанатик-иудей из начальства. Так или иначе, опресноки стали нелепой, но весьма приятной неожиданностью. Теперь ему каждый день выдавали по коробке — одной такой упаковки хватало на целую неделю.
Соседом Дозы по койке был в том декабре парень, тоже из Бруклина, которого Доза не раз видел в районе Олби-Скуэр-Молл — он торговал пирожными и навязывал прохожим какие-то памфлеты. Попав за решетку, этот тип увлекся исламом. В пять утра он и его дружки уже стояли на коленях, о чем-то моля Аллаха. Шел месяц Рамадан, и этот идиот изнурял себя голодом, поскольку в это время мусульманам запрещается есть до захода солнца. Это означало вообще не ходить в столовую и в пять вечера, когда все отправлялись на ужин, сидеть в камере. Доза предложил соседу коробку опресноков и еще одну для его дружков — теперь у него под кроватью был целый продовольственный склад. Болваны, разумеется, не устояли перед соблазном. Взамен Доза ничего не потребовал, рассчитывая, что теперь в случае чего они выступят на его стороне. Вот так фальшивый черный еврей превратился в тюремного Санту для умирающих от голода мусульман. Логика Райкера.
Элмайра.
Каждая тюрьма хранит воспоминания о своей прошлой жизни, подобно медленной реке с илом, устлавшим дно в предыдущем столетии. Реформирование пенитенциарной системы, различные нововведения — порой по прошествии какого-то времени от них отказываются, — тюремные стены помнят обо всем, что в них происходит. Взять, к примеру, печально известный Синг-Синг с его электрическим стулом. Даже после отмены высшей меры наказания запах смерти не оставил это место. В Оберне и филадельфийской Истерн-Стейт впервые стали сажать заключенных в одиночные камеры — каменные склепы, где люди живут в своем внутреннем аду. По сравнению с этим охранная суперсистема Оберна — просто смех.
Аттика — это уже настоящая преисподняя. «Апокалипсис сегодня».
Элмайра когда-то была исправительным учреждением для малолетних, и хотя позже ее статус официально изменился, туда продолжали посылать молодых, будто делая им одолжение. Позднее Элмайра заменила Синг-Синг, превратившись в перевалочный пункт — место проверки вновь поступивших и содержания их до отправления в другую тюрьму. За работу, выполняемую в заключении, человеку начисляется от сорока до семидесяти центов в час в зависимости от уровня образования и результатов теста на выявление способностей. Бывает, усердно работая, арестант долгое время пользуется доверием администрации, а потом неизвестно по каким причинам попадает в немилость и вынужден терпеть множество унижений. Некоторые заключенные отсиживают в Элмайре полный срок, тем не менее она продолжает считаться пунктом временного содержания и тюрьмой для мальчишек — местом, где настоящими трудностями якобы и не пахнет. «Закрой рот, придурок! Твое счастье, что ты попал именно сюда!» — звучит тут повсюду. Неужели в других тюрьмах страшнее, чем здесь?
Доза отсидел в Элмайре четыре года, вывернув наизнанку самого себя. Как и после переезда на Дин-стрит, он сразу повел себя здесь будто человек, умудренный опытом, бывалый уголовник, чувствующий себя в тюрьме, словно рыба в воде. Ничего не смысля в тюремной науке, он сделал вид, что давно ее изучил, постарался быстро встроиться в систему, о которой почти ничего не знал. Для этого он в первый же день во дворе примкнул к парням, качавшим мускулы. Груз был припаян к перекладинам штанг — чтобы не утащили и чтобы никому не взбрело в голову разбить им чей-нибудь череп. Если бы Доза не подкачался в Райкере, то не смог бы завоевать уважение здесь, в Элмайре, — его и к штангам тогда не подпустили бы. Уже не приходилось тешить себя иллюзиями о туманном будущем. Тот момент, когда еще можно было что-то изменить, остался далеко позади, — настолько далеко, что делалось страшно. Будущее теперь было жестко определено.
Карьера.
В Элмайре Доза стал тюремным художником. Как и в истории с райкеровскими опресноками, возможность превратить случайность в бизнес, выдалась совершенно неожиданно. Сев как-то раз за стол в рабочем помещении и отрешившись от окружающего, он начал делать на страницах блокнота наброски, которые тут же мысленно яркими красками наносил на стены вагонов. Наиболее скрупулезно он работал над композицией на тему дня Святого Валентина: объемные сердца с физиономиями влюбленных, в которые пускает стрелы херувим-поросенок Порки Пиг в кроссовках «Найк».
Внезапно у стола появился парень с каменным лицом в рубашке, обтягивавшей мускулистый торс, — Доза всегда старательно обходил его стороной. Взглянув на рисунок через плечо художника, парень ткнул пальцем в бумагу.
— Эй, классная картинка.
— Спасибо.
— Может, нарисуешь и мне что-нибудь? Я пошлю своей девчонке.
— Конечно.
— И подпиши внизу «Джунбаг от Рафа».
— Ладно.
— Нарисуй сердца по краям листа. А внутри я напишу текст.
— Договорились.
— Сколько это будет стоить?
Доза пожал плечами.
— Четыре пачки, — предложил Раф.
Это был один из тех парней, которые на воле равнодушно обходятся со своими подружками и даже поколачивают их, а когда попадают за решетку, превращаются в романтиков. Кроме объяснений в любви налистках бумаги, разрисованных цветочками, и обещаний жениться — что еще мог предложить своей любовнице мужчина, чтобы убедить ее продолжать навещать его, не встречаться с каким-нибудь Джоди и не думать о том, чтобы сбежать от него вместе с ребенком? Позвонив подруге пару раз, Раф исчерпал весь свой небольшой словарный запас, заверив ее в любви до гроба. Потому такая мелочь, как листок с потрясающим рисунком, казалась ему вещью жизненно важной. Может быть, он чувствовал, что Джунбаг начинает о нем забывать. Или она стала реже приезжать к нему.
Так или иначе, с того самого дня Раф постоянно делал заказы на картинки.
Однажды Доза набрался смелости и сказал:
— Этот бесплатно, старик.
Раф прищурил глаза, и Доза прочел в них ярко блеснувшую мысль: «Хочешь сделать меня своим должником? Я не идиот, приятель».
— Только сразу не отправляй его. Покажи сначала остальным.
В столовой Раф сидел вместе с парнями из группировки «Бладз» — в неприступной зоне чутко дремлющей жестокости.
Раф улыбнулся, понимая, к чему клонит художник.
— Ладно. По рукам.
Доза сразу догадался, что плакаты и примитивные порнорисунки, приклеенные скотчем над койками, создаются самими заключенными. Причин не воспользоваться шансом стать популярным не было. То, что он делал для Рафа, по качеству намного превосходило картинки на стенах, большинство которых напоминали рисунки из комиксов пятидесятых годов и никого не трогали. Тогда как граффити-художества приводили всех в восхищение.
Проведенная Рафом рекламная кампания незамедлительно принесла плоды. Доза вплотную занялся рисованием рамок для любовных посланий — бурного потока чувств, изливаемых на бумагу, — которым предстояло выпорхнуть за пределы этих стен и решеток. Если задуматься об этом, голова пойдет кругом. Целая армия бывших непрошибаемых мерзавцев обернулась толпой пылких влюбленных, выражающих готовность часами простаивать на коленях перед объектом своей страсти. Доза старался не думать о том, приходят ли ответы на любовные письма его заказчиков, навещают ли их подруги и отвечают ли на телефонные звонки приятелей.
Рисование открыток на тему дня Святого Валентина было основным, но не единственным занятием Дозы. Еще он оформлял картонные рамочки для фотографий любимых или друзей, выводил на блокнотных листах имена в стиле граффити — их вешали на стену над койкой. Остальные, увидев это, решали: «Я тоже хочу такое» и шли к Дозе делать заказ. Рисовал он и порнографические картинки для самодельных библий Тихуаны, изображая, к примеру, Крокетта и Таббса, совокупляющихся с Мадонной, — в общем, исполняя любые пожелания клиента, который, как известно, всегда прав. К Дозе обращались и с просьбами создать образец татуировки, которую специалист переносил потом на тело заказчика. Иногда на глаза ему попадались незнакомые парни — никогда не встречал их даже в столовой — с его картинками на теле.
Он был почти королем Элмайры. Порой эта жизнь напоминала ему дни в бойскаутском лагере, только здесь никто не награждал его знаками отличия ни за образец тату, ни за рисованные груди.
Как-то раз паренек-пуэрториканец возгорелся желанием пометить свою белую футболку — такие выдавали всем заключенным: нанести на нее карикатурное изображение самого себя с беспомощно вытянутыми вперед руками и подпись «ОТ ДЕСЯТИ ДО ПОЖИЗНЕННОГО?!» Звучит печально, но это реальность. Доза нарисовал парня на футболке — с большими овальными глазами, которые делали его похожим на Кота Феликса. На следующий день в камеру к Дозе пришел чернокожий старший офицер, которого звали Кэрролл.
— Встать. Проверка, — сказал он.
— В чем дело, старина?
— Поднимайся.
Обыскав камеру, Кэрролл изъял у Дозы все рисовальные принадлежности и десять пачек сигарет.
— Я вынужден конфисковать у тебя эти вещи и сделать в твоем деле соответствующую запись, — сказал он. — Заключенному разрешается хранить не более пяти пачек.
— Да забери ты хоть все их, только оставь ручки и бумагу.
— Послушай, Руд, это ведь твоих рук дело? — Кэрролл вытащил из заднего кармана скомканную футболку с надписью «ОТ ДЕСЯТИ ДО ПОЖИЗНЕННОГО?!»
— Предположим. Что из этого?
Кэрролл покачал головой, отягощенной двойным подбородком, уставший от всего, что повидал на своем веку.
— Изменение форменной одежды приравнивается к попытке бегства и наказывается семью годами. Ты играешь с огнем.
Доза взял новые рисовальные принадлежности в долг у приятелей, решив больше никогда не связываться с желающими метить свою одежду. Вторая неприятность приключилась с ним через несколько недель: произошла стычка с двумя парнями-испанцами, братьями Астацио — никто не знал, действительно ли они братья или нет, может быть, двоюродные. Впрочем, оба были невысокие и круглолицые, оба носили сетку для волос. Работали Астацио в трогательном стиле татуировок Кони-Айленда — их рисунки выглядели так же топорно, как процарапанные на дереве каракули. Доза осложнил им жизнь, став конкурентом, и братья начали цепляться к нему в очереди за едой или во время прогулок, со зверскими физиономиями требуя: «Кончай воровать у нас клиентов». На что они рассчитывали? Что Доза станет спрашивать у каждого, кто к нему обращается: «Ты не клиент братьев Астацио?» Он делал вид, будто не понимает, что им нужно от него, как если бы они говорили на испанском. До тех пор, пока однажды Рамон Астацио не подошел к нему в опустевшей уборной.
Парень явно не намеревался снова пускать в ход слова — только кулаки или ноги. Губы испанца внезапно разъехались в неестественно широкой улыбке, и Доза увидел на его языке лезвие бритвы.
Впервые с того дня, когда он выстрелил в Старшего, Доза позволил своему страху и ярости выплеснуться наружу. Резким движением локтя он ударил Района в челюсть. Тот захлопнул рот, едва не проглотив столь искусно продемонстрированное лезвие. Доза повел себя достойно, но допустил ошибку. Проиграл, несмотря на то, что чуть не заставил Рамона захлебнуться собственной кровью.
Просто так здесь не затевалось драк. Если кто-то из заключенных начинал избивать противника, то со спокойной совестью мог прикончить его.
Доза выскочил из уборной, пролетев мимо Ноэля, второго брата, оставшегося у входа на страже.
На ужине в тот вечер Рамон не появился, и по тюрьме расползлись слухи, будто на его порезы во рту пришлось наложить швы. Ноэль сидел за столом с парнями из группировки «Ниета» и бросал на Дозу угрожающие взгляды. Тот отлично понимал, что должен что-то предпринять — тянуть резину не было смысла. Поэтому решился на немыслимое — направился к столу, где сидели «Бладз», но подошел сначала не к Рафу, а к их главарю. Немного усмирив бешено колотившееся сердце, он заговорил:
— Простите, что мешаю вам есть. У меня проблемы. Могу я поговорить с Рафом?
Лидер «Бладз» даже не повернул головы, что означало: «Я в курсе всех здешних дел».
— Хочешь его разжалобить или пришел по делу?
— По делу, — ответил Доза.
— Валяй, — ответил главарь, выдержав продолжительную паузу, за время которой все в столовой увидели, что к столу «Бладз» подошел Доза и, дрожа от страха, ждет ответа на вопрос.
Таким образом Раф превратился в защитника Дозы, забирающего половину его дохода и изображения грудастых девиц для распространения среди парней из «Бладз». Позднее на каких-то тайных переговорах кто-то из авторитетов «Бладз» потолковал с влиятельным человеком из «Ниеты», и Астацио притихли. Только изредка, встречаясь с Дозой, братья метали в него убийственные взгляды, а Рамон проводил по зубам языком, показывая, какими узорами наградил его Доза, и намекая, что их разговор еще может продолжиться.
Но у Дозы был теперь крепкий, могущественный защитник — Раф, поэтому он больше ни о чем не беспокоился. Раф занимался не только бизнесом Дозы. Еще он распространял наркотики — плотно скрученные сигареты, набитые марихуаной с примесью ментола, — и порой угощал ими Дозу. Тот твердо решил, что за решеткой к наркотикам не притронется — эта дорожка слишком быстро приводила заключенных в «долговую яму», — но от даров Рафа, не представлявших никакой угрозы, не отказывался. Время от времени Раф изменял своей подружке, получательнице «валентинок», с Дозой, который делал ему минет. Раф, в свою очередь, благодарил Дозу тем же самым способом, поскольку теперь полностью ему доверял. «Бладз» пользовались для подобных развлечений кладовкой, где хранились метлы. Дозе нравилось стремление Рафа продлить удовольствие — собственное и партнера. Он искусно управлял процессом движениями бедер или языком. Если Доза и усвоил что-то из науки отца — Человека Любви, почившего на лаврах и лениво принимавшего сексуальные услуги тех, кто навещал его: подружек Горация, а порой и самого Горация, — так это убежденность в безобидности минета. В тот день, когда Барретт Руд-младший застукал сына развлекающимся с Диланом Эбдусом, Дозе стало ясно отношение отца к подобным вещам: нет ничего страшного в том, что время от времени ты будешь брать в рот чей-нибудь член. Этот мир предоставляет мужчинам гораздо больше возможностей, чем, к примеру, котам, — даже отсутствие женщин им не помеха.
В тюрьме Доза не так уж часто размышлял о Дин-стрит или о своей жизни до появления в ней Старшего, о тех днях, когда Барри еще не утратил своего великолепия, а все окружающее — в доме, на улице — не пропиталось безумием. О той поре, когда Барри еще имел возможность вернуться в музыку, например, примкнуть к группе фанк-супергероев. Когда еще мог использовать свой четырехдорожечный магнитофон и не хранил под половицами пистолет.
В тот недолгий период между отказом от формы бойскаута и вступлением вместе с Робертом Вулфолком в ряды «БТЭК», — тогда же он отверг Дилана Эбдуса или, наоборот, сам был отвергнут им — Доза еще не утратил интереса к простым детским играм, вроде стикбола или скалли, с азартом воровал журналы в глянцевых обложках из киоска в конце Флэтбуш и старательно заучивал строчки «Восьмого чуда света» группы «Гэнг» или «Брейкс» Куртиса Блоу.
Нередко он устраивался в те дни у окна, выходившего на задний двор, и с увлечением читал новые выпуски «Нелюдей», ожидая, что немой Черный Гром наконец-то раскроет рот и, произнеся какую-нибудь невинную фразу, устроит светопреставление: разрушит мост, башни, школы, все стены с тэгами Моно и Ли.
Если бы Черный Гром когда-нибудь запел, то стер бы с лица земли весь город, осталось бы только метро — лабиринт туннелей, подземный квартал.
Бывало, Доза лежал на кровати, вдыхая запах старых гниющих деревьев во дворе, и часами мечтал об этом.
Или, в особенно жаркие дни, выходил на улицу, шел на угол Невинс и направлял струю гидранта в раскрытые окна проезжающих мимо машин. Если водитель догадывался о намерениях мальчишки и поспешно поднимал стекло — все равно не успевал защититься от холодного душа.
Но нужно признаться: многочисленные истории, которые ты рассказывал самому себе — и верил, будто все эти события происходили с тобой регулярно, — основывались на воспоминаниях лишь о нескольких днях, ставших для тебя легендой. Точно так же ты преувеличивал размеры женской груди, которую рисовал на листке в клеточку, и полученное однажды во время минета блаженство, точно так же считал, что, нажимая на спусковой крючок, ты издал победный вопль мстителя, хотя на самом деле чуть не обмочился от страха. Как часто включали этот чертов гидрант? И сколько раз в действительности ты обливал водой машины? Может быть, всего лишь дважды? И потом, особенно жарких дней летом всегда бывало не так уж много.
А что до полетов, Доза теперь даже в небо не смотрел. Полеты были летом внутри лета, пустым капризом. Думать о них не имело смысла.
Глава 14
В период между Элмайрой и Уотертауном жизнь Дозы была лишь тенью, бледной мечтой.
Первое освобождение плавно переливалось в следующее. Отбывших срок привозили в Нью-Йорк из тюрьмы на спецавтобусе, который останавливался недалеко от отеля «Плаза» возле моста Куинсборо. Каждому из освободившихся водитель выдавал жетон на метро — скромный прощальный подарок от пенитенциарной системы. В окружении таких же, как он, бывших заключенных Доза направлялся в метро. Все притворялись, будто друг друга не знают, лихо жевали жвачку и слишком часто сплевывали. Одежда плотно облегала накачанные мышцы, а во взглядах отражалась паника. К нормальной жизни эти люди теперь были так же не способны, как раки, выпущенные на волю в чистом поле.
Если не мешало смущение, Доза ехал до железнодорожного вокзала Гранд-Сентрал, там любовался новыми росписями вагонов, делал пересадку и отправлялся на Невинс, где мог повстречаться с кем-нибудь из знакомых. Когда же им владела глупая робость, он предпочитал дойти пешком до Куинс, сесть на метро и, собираясь с мыслями, час ехать до дома. Через Гринпойнт, Бед-Стай, Форт Грин — целых тринадцать станций.
Ехать, мысленно напевая: «Ты хоть скучал по мне? Я вернулся!»
Вернулся в нью-йоркскую трясину.
Освободившись из Элмайры, Доза поселился у Артура Ломба, ютившегося в тесной каморке на Смит-стрит. Барри сдавал теперь каким-то людям комнаты на первом этаже; туда Дозе больше не было доступа. В свой первый сезон свободы он устроился на работу к одному подрядчику, Гленрею Шурцу, и занялся герметизацией прогнивших оконных рам в домах из бурого песчаника, став таким образом непосредственным участником превращения Говануса в Бурум-Хилл. Поначалу он наведывался к Барри во время обеденного перерыва: перепачканный пылью, с полным пакетом горячих бутербродов из магазина Багги, которые Барри когда-то так любил. Только теперь он почти ничего не ел. Доза садился рядом с ним на софу, желая получше узнать, что же за человек его отец, но они практически не разговаривали. Лишь смотрели телевизор — шоу Фила Донахью, «Миссия невыполнима», а по воскресеньям игру «Джетс».
На улице стояла тишина: детей во дворах не было.
Генри в костюме и галстуке говорил ему «Эй» при встрече.
Барри складывал бутерброды в холодильник и брал бутылку солодового напитка, который и составлял весь его обед.
Иногда Доза видел отца на улице — на Атлантик, у отеля «Таймс Плаза». Не желая быть замеченным кем-нибудь, он наблюдал за Барри, проворачивающим очередную сделку, со стороны.
Позднее, когда Дозу опять арестовали и он снова вернулся — зацикленный на Райкере, жаждущий наркотиков, — Артур Ломб уже не предложил ему койку у себя в комнате. Замечая Дозу на улице, Артур тут же доставал бумажник и, когда они пожимали друг другу руки, всовывал между пальцами друга пятидолларовую купюру. Доза принимал милостыню, позабыв о гордости. В следующие разы, выходя из тюремного автобуса у отеля «Плаза», он не возвращался ни в Гованус, ни вообще в Бруклин. Направлялся в Манхэттен, на Вашингтон-сквер, искать знакомых по тюрьме, или в ночной клуб, где подцеплял какую-нибудь женщину и шел к ней ночевать. Понятно, чем это заканчивалось, — очередным арестом.
Гимн возвращений превратился в тихое бормотание. Единственное, что ты помнил, — строчка из припева какой-то песни: «Не вернусь за решетку сразу же! Повеселимся сначала, красавица?»
Позднее, перед тем как Дозу взяли на квартире Леди в Гованус Хаузис, для него началась пора абсолютной свободы. Он чувствовал, что близится финал, и спешил надышаться вольным воздухом. Стал проводить ночи в заброшенном плавательном бассейне на Томпсон-стрит, забираясь в него через дырку в заборе. Другие бродяги на бассейн не покушались — вероятно, потому что в этом же районе располагался клуб и штаб-квартира Джона Готти.
Доза был теперь просто наркоманом и вором. Работал день и ночь, не жалея сил: воровал компакт-диски, одежду, ремни, обувь, мелкую бытовую технику. До тех пор пока магазинов, где все это можно было стянуть, почти не осталось. Тогда он разыскал круглосуточный ресторан и стал прикарманивать чаевые, оставляемые на стойке.
Жизнь от рассвета до заката. Из имущества — только курительная трубка.
У него был один выход — вернуться назад, в тюрьму. Доза ждал очередного ареста как нового сезона, со все большим нетерпением. От курения он похудел до девяноста фунтов, потом до восьмидесяти, превратился в настоящее пугало, не брезговал теперь и ночлегом в сточной канаве. Жажда вновь оказаться за решеткой усиливаласьс каждым днем: «Умоляю, Господи! Верни меня в Райкер, пока я не сдох».
Незаметный в толпе, Доза должен был как-то выделиться, чтобы получить то, о чем мечтал. Организовать преступную группировку или пойти более простым путем — появляться каждый день в одном и том же месте, к примеру, у здания «Тауэр Рекордс», маячить там до тех пор, пока кто-нибудь не позвонит в полицию и не попросит убрать это человекоподобное существо.
Городские кварталы изменялись с каждым возвращением из спасительного Райкера. А что же граффити? Какой смысл об этом разговаривать, если ты, пропащая тварь, уже не в состоянии даже косяк скрутить?
Только не называй себя призраком.
Хотя ты и впрямь бродил невидимкой по городу.
Виндзорские герметичные прокладки.
Именно Артур познакомил Дозу с Гленреем Шурцем, привел его в общину хиппи на Пасифик, одну из последних в Бруклине. Бородатый Шурц был крепышом-вегетарианцем, а по профессии — мебельщиком. Переехав в Бруклин, он стал специализироваться на кухонных гарнитурах, но вскоре ему изрядно надоело воплощать в жизнь идеи дизайнеров из журналов для домохозяек. И он занялся более простой работой: установкой оконных герметичных прокладок. Подъемные окна в домах из бурого песчаника были сделаны в шестидесятых—восьмидесятых годах девятнадцатого века, менять в них прокладки приходилось так же часто, как автомобильные шины. Число новых обитателей Бурум-Хилл все прибавлялось, наверное, это дух Изабеллы Вендль манил их сюда, уговаривал выкупать сомнительные закладные. Но когда после первой же зимы приходили счета из «Бруклин Юнион Газ», призрак старухи Вендль даже не пытался их утешить. Они в растерянности шли к соседям, и те советовали: «Виндзорские герметичные прокладки. Их устанавливает специалист с Пасифик, одно окно сорок баксов, плюс его материалы. Этот тип выглядит несколько странно и жадноват, но тем не менее…»
Доза стал помощником Шурца. Дважды в неделю они ездили за оцинкованными прокладками в мастерскую в конце Четвертой авеню, потом отправлялись к клиенту и чаще всего в присутствии одной только хозяйки дома — которая, глядя на них с подозрением, наверняка думала: «Может спрятать кошелек подальше?» — приступали к работе. Снимали окно, подгоняли прокладки по раме, устанавливали их и хитрым способом, неизвестным бедолагам-жильцам, ставили эти старинные оконные конструкции на место.
Если все было сделано правильно, прокладка герметично закрывала щели. В хорошие дни Шурц и Доза обрабатывали по восемь окон в день. Доза заметил, что отлично выполненная работа приносит его патрону огромное удовлетворение, хотя Шурц и называл свое занятие упадническим, а заказчиков — зажравшимися свиньями.
Большинство хиппи без возражений уступали район богатеям, черным и белым. Белые, такие как Шурц, Авраам Эбдус, миссис Ломб, были лишь начальным этапом в перевоплощении квартала.
Некоторые из клиентов узнавали Дозу, но ничего не говорили, только поводили бровями. Жизнь — вечный урок: люди возвращаются и предстают перед всеми в новой роли.
Ты постигал эту науку сам и преподавал ее окружающим.
Как-то раз Доза, отвернувшись, прошел по улице мимо Авраама Эбдуса.
Иногда, снимая столетние окна с петель, Шурц и Доза обнаруживали в щелях между рамой и стеной обрывки коричневых от времени газет, которыми давным-давно умершие люди утепляли комнаты. В этих газетах говорилось о сыгранных в начале века бейсбольных матчах и затонувших кораблях. А однажды Шурц и Доза нашли спрятанную в стене бутылку бренди с настолько потемневшей этикеткой, что невозможно было ничего прочесть. Во время перерыва они устроились на крыльце и откупорили запыленную бутылку. Бренди оказался сладким и отдавал плесенью.
В других домах они обнаруживали лишь выведенные карандашом надписи — даты и имена своих предшественников. «Уилсон, 16.02.09». Иногда, прежде чем вернуть окно на место, Доза брал карандаш Гленрея и ставил на стене свой тэг «Доза 1987» — загадка для будущих времен.
Бывало, в обеденный перерыв они забирались по пожарной лестнице на крышу, курили хорошую марихуану, глазели на Уикофф-Гарденс, железнодорожную платформу, на Кони-Айленд и переменчивый океан. Доза ни разу не признался, что знает, как выглядит город сверху.
Гленрей говорил:
— Из-за этого чертова химзавода скоро мы все заболеем раком яиц. Если однажды услышишь, что кто-то спалил его ночью, знай: это моих рук дело.
Или:
— Я бы с удовольствием построил себе хижину на крыше бруклинской тюрьмы.
Или:
— Твой старик правда работал на подогреве у «Стоунз»? Он настоящий бог!
Или:
— Как-то раз, наглотавшись мескалина, я дрочил о ливерную колбасу. На нее и кончил.
А однажды Гленрей сказал:
— Странно, я всю жизнь предпочитаю темные наркотики, в основном травку, а белый порошок даже не пробовал. Знаешь, по-моему, я готов перейти на кокаин. Поможешь мне, Мингус?
Миссия.
Из сеансов оздоровления, организованных в Райкере обществом анонимных алкоголиков, Доза вынес одно-единственное — название своих бесконечных блужданий по улице в поисках новой возможности отдаться во власть наркотического одурения. Он выполнял миссию. Слово обозначало тысячу разных вещей, которыми он занимался, охватывало все многообразие стычек и афер: перепродажу билетов по завышенной цене у Мэдисон-сквер-гарден, кражу фена или часов у какой-нибудь случайной подружки и даже просто поиски на Вашингтон-сквер знакомого наркодельца, у которого можно выпросить кокаин, пообещав прислать к нему нового клиента. Занятий у погруженного в одиночество, страдающего мономанией Дозы имелось множество, и все они были выполнением миссии.
Но с самым странным проявлением системы оздоровления он столкнулся не в тюрьме и даже не в Нью-Йорке, а в Хадсоне, умирающем промышленном городке на севере. Называлась программа «Нью Гэп». Как-то раз январской ночью, спасаясь от мороза, Доза забрел в городской приют, где наткнулся на работницу социальной службы. Он обратился к ней лишь с просьбой угостить его кофе, а несколько минут спустя уже сидел за столом и заполнял какой-то бланк. На автобусе, в котором он неизвестно как очутился, его привезли к зданию из крошащегося кирпича — бывшей туберкулезной лечебнице. Служащие «Нью Гэп» являли собой дьявольскую смесь фашистов и промывателей мозгов. Стремясь отучить своих подопечных от ненависти к самим себе, эти люди всеми мыслимыми способами разрушали их «я». Дозе и еще нескольким бедолагам сразу же запретили разговаривать без письменного на то разрешения и велели, в случае необходимости, молча поднимать руку. За малейшее нарушение правил бешеный сержант изливал на них поток брани.
Доза поддерживал эту игру две недели. Потом, окрепнув на харчах «Нью Гэп», сбежал и уже через час нашел в Хадсоне точку наркоторговца. В те годы в каждом городе в изобилии водились свои дельцы и проститутки, словом, те элементы, которых добропорядочные граждане небезосновательно порицали.
Именно в Хадсоне Доза наблюдал последнюю стадию деградации. Он увидел, как делец унижает наркомана, умоляющего дать ему порошок бесплатно. «Хочешь, чтобы я угостил тебя крэком? Тогда отсоси у меня». Если просила женщина, он предлагал это порой серьезно, порой просто забавляясь, если мужчина — то с желанием увидеть в глазах опустившегося пугала проблеск стыда, прежде чем сжалиться над ним или послать к черту. Унижение было стержнем общения в подобных ситуациях; унижение на почве секса толкало участников драмы к самому краю пропасти. Доза убедился в этом здесь, в Хадсоне.
— Хочешь крэка, приятель? — ответил делец наркоману. — Видишь того таракана?
Доза тоже посмотрел на таракана. Желто-коричневую мерзость под старой расшатанной раковиной.
— Съешь, я дарю его тебе.
Наркоман-попрошайка шагнул к раковине, поймал таракана и засунул себе в рот. И наконец получил крэк под веселый гогот дельца и его приятелей. Доза ничего не сказал, лишь задумался о том, что торговец заставляет делать других таких же горемык. Все, кто сидел тогда в этой кухне с облупившейся краской на стенах, были мертвецами. И только Доза знал об этом.
Местные копы поймали Дозу на свалке, но не арестовали, а просто посадили на автобус и отправили в Нью-Йорк. Спустя месяц или два, после очередного ареста, он сидел на койке в Райкере и рассказывал о Хадсоне товарищам по камере. Один из них сказал, что ему тоже довелось однажды наблюдать сцену с поеданием таракана — на квартире у какого-то дельца в Филадельфии.
Все сошлись во мнении, что здесь ничего подобного произойти не может. Ньюйоркцы слишком честолюбивы, чтобы позволить так над собой издеваться.
У Леди.
Тем июньским вечером в гостиной Барри Доза в первый и единственный раз видел Леди вне ее собственной квартиры. Они организовали нечто вроде вечеринки: Доза, Барри, Гораций, Леди и еще одна девица — тощая, вспыльчивая, постоянно задирающая нос.
Доза и Барри садились рядом и курили одну трубку на двоих.
Поскольку все наркоманы были одной большой семьей и, как родственники, ненавидели друг друга, не имело смысла отказываться от собственного отца.
Дым выписывал в воздухе над ними какие-то каракули на своем особом, мертвом языке. Быть может, имя Старшего, которое здесь никто больше не произносил вслух.
Однажды, поймав в гостях у отца кайф, Доза смахнул пыль с конверта какой-то пластинки — очевидно, к ней не прикасались лет десять, — и поставил ее на проигрыватель. Зазвучала песня Эстера Филлипса, потом Донни Хэтуэя — забытые сокровища. А в тот вечер, когда Доза, придя в мрачный склеп Барретта Руда-младшего, увидел Леди, она сама просмотрела пластинки и выбрала запись «Куртис Жив» Мейфилда — ту, которую заедает, когда певец под игру басиста заходится от смеха.
Таких выносливых, как Леди, Доза еще никогда не встречал. Ему казалось, ни один парень не в состоянии выкурить больше крэка, чем он сам, а женщин вообще не брал в расчет.
Леди блаженствовала на вечеринках три-четыре дня в педелю, причем подряд. В то утро, когда в четыре часа Барри выставил их из дома, Гораций со второй обкурившейся девицей направились на Невинс, а Леди повела Дозу к себе — в квартиру, превращенную в наркоманский притон.
Ее настоящее имя было Вероника Уоррелл, хотя от самой Леди Доза ни разу его не слышал. Она называла себя только Леди, так обращались к ней и все окружающие. Это прозвище указывало на бывший статус и говорило о выпавших на ее долю тяготах. Она никому не доводилась ни матерью, ни подружкой — была общественной леди, тем и славилась.
Если, идя с ней в то утро по Дин-стрит, Доза и подумывал, что она приняла его не за того, кем он был на самом деле, то, увидев квартиру, распрощался с сомнениями. Крыльцо дома выходило на Хойт-стрит, а из окон был виден фасад другого многоэтажного дома, дорога, несущиеся по ней машины с грохочущей музыкой, от которой дребезжали стекла, и полицейские фургоны, угрожающе медленно катившие мимо. Леди постоянно вела наблюдение и умела разговаривать жестами. Все здешние обитатели знали, что означает тот или иной сигнал: кулак — белый человек, или незнакомый черный, или тот, кто может оказаться копом; ладонь — постоянный посетительлибо явный наркоман, либо просто кто-то, не представляющий угрозы, слишком невзрачный или молодой.
Доза не знал об этом, но, появившись в этом доме, приступил к выполнению своей последней миссии.
Квартира Леди была цехом, оборудованным для достижения единственной цели — удовлетворения главной потребности хозяйки. Увидев, насколько хитроумно и в полной мере используются все преимущества этого муниципального угла с тремя спальнями, сам Генри Форд ахнул бы. Каждый клочок квартиры Леди кому-нибудь сдавала: ванные — девочкам для обслуживания клиентов, кухню — наркодельцам, фасующим дурь, шкафы — для хранения всего этого, коридор и диваны предоставлялись обдолбанным завсегдатаям. Спать было почти негде. Да и мало кто здесь спал. Проведя у Леди два месяца, Доза ни разу по-настоящему не отдохнул. Хотя и ничем особенным не занимался: просто клевал носом или сидел, таращась на стену. Но даже за возможность где-нибудь посидеть следовало заплатить Леди.
Доза рассчитывался с ней единственным доступным ему способом — приводил в ее притон новых людей. Если они покупали у нее наркотики, его долг погашался. Мозг Леди работал как бесперебойная счетная машина, несмотря на то, что дури она употребляла больше, чем Доза был в состоянии вообразить. Крэк он получал лишь после того, как расплачивался. Позднее Леди позволила ему принять участие в расфасовке. Четыре или пять раз за два месяца, проведенных у Леди, Доза даже сам выступил в роли продавца: отнес пакетики с порошком клиентам на Хойт, Фултон, Олби-Сквер-Молл, а однажды — на задний двор дома Леди. На шестой раз он не выдержал — выкурил содержимое пакетика прямо на улице, вернулся в притон и уселся на пол возле стены — а потом был вынужден заплатить за место. Система работала четко и безупречно, поблажек не давалось никому. На Леди никто не обижался: о своих постояльцах она заботилась. Если ты позволял себе расслабиться в ее квартире, можно было не сомневаться: никто не украдет у тебя ни обувь, ни одежду.
Это был настоящий любовный роман. Леди сумела заглянуть в сердце Дозы и увидела, что оно объято страстью к наркотикам.
Вот так свое последнее свободное лето Доза провел у коридорной стены в квартире Леди. Дремал и курил — так что к моменту очередного ареста страшно похудел и весил теперь всего фунтов семьдесят.
Давайте станем тощими скелетами. Все.
В том же июне на Смит-стрит, через квартал от Гованус Хаузис открылся первый во всей округе роскошный французский ресторан. Вскоре его посетила какая-то знаменитость из «Таймс», и механизм бомбы замедленного действия под названием «Заселение Говануса приличными людьми» громко затикал. Ресторан стал предвестником появления здесь множества кафе и бутиков, перемешанных с сувенирными лавками и клубами, предвестником рождения бутафорского «Берлина» Артура Ломба.
Младшие официанты и посудомойщики французского ресторана быстро прознали о бизнесе на Хойт. Кое-кто даже стал прибегать за товаром к Леди во время десятиминутных перерывов.
Доза, потеряв доверие Леди в тот день, когда он выкурил предназначенный для клиента крэк, занял новую должность — быть может, Леди рассчитывала возложить на него эту обязанность с первого же момента их знакомства. Теперь он дежурил у входной двери. Не у окна; в идиота, который годился только для этого, он еще не превратился. Ему предписывалось отворять закрытую на цепочку дверь, брать деньги и выдавать товар, то есть, по сути, играть роль того же продавца. Наркотики проходили через его руки, но он больше не брал чужого ни грамма.
Когда в притон пожаловали копы, Доза сразу снял цепочку. Продолжать жить в ритме Леди и столько курить он был уже не в состоянии.
Найденный пистолет вообще никому не принадлежал, просто пылился в ящике, но обвинили в хранении оружия именно Дозу. Он отнесся к этому философски. На кого еще могли повесить этот грех, как не на убийцу?
За шесть месяцев, проведенных на этот раз в Райкере, Доза набрал в весе до ста тридцати фунтов. С острова его перевели в Оберн, потом — в Уотертаун.
Оберн.
Доза заметно повеселел — человек, обреченный на жизнь за решеткой. Теперь не только в Райкере можно было встретить знакомых из соседних районов и подворотен, но и здесь, на севере. Обернская тюрьма была настоящим городом, с несколькими многоэтажными зданиями. Казалось, система умышленно собрала тут все нью-йоркские банды. Мальчишек семьдесят седьмого года. Художники вновь встретились с товарищами, которых не видели с того момента, когда все они распрощались с подростковым возрастом и вступили в более суровую и серьезную взрослую жизнь. Жизнь, которая ни у одного из них не сложилась. Теперь они были тридцатилетними мальчишками, подшучивающими друг над другом в тюремных камерах: «Черт возьми! Да ведь это мой кореш Педро, тоже из „ДМД“!» Или: «Твою мать, старик! Я помню, как рассматривал твои тэги в вагонах на шестой линии. Ты был в команде „Раскаты Грома“, верно?»
Понятия о войне стилей и былая враждебность как будто умерли. Все, о чем тут вспоминали, только радовало душу. Доза встретился в Оберне и с несколькими парнями из грозной группировки Кони-Айленда. Несколько лет назад он и еще несколько ребят из «БТЭК» чуть не нарвались на потасовку с кониайлендовцами, допустив идиотскую ошибку: забравшись в освещенное лунным сиянием депо, они расписали своими тэгами сиденья нескольких вагонов — сиденья, которые в полумраке казались чистыми. На следующий день Доза и его приятели с ужасом обнаружили, что их черные метки нанесены на сиденья поверх огромных розовых тэгов команды из Кони-Айленда. Разве кониайлендовцы могли догадаться, что их надписей просто не заметили? Разумеется, нет. Они, конечно, подумали, что Доза с дружками специально это сделал. В то лето он постоянно оглядывался по сторонам, как потенциальная жертва.
В Нью-Йорке Доза считался живой легендой. В тюрьме на него смотрели горящими глазами.
— Эй, Доза! А меня ты помнишь? Мой тэг — «Кэнсур 82», ты все время ставил на нем свою метку.
— Конечно, я тебя помню, — отвечал Доза, если бывал в хорошем настроении.
В другие дни, когда ему не хотелось делиться с кем попало своей славой, на подобные реплики он отвечал:
— Делать мне, что ли, было нечего — ставить свою метку на твоей? Что такое твой тэг в сравнении с моим, а?
— Конечно, той, я знаю, правильно делал, что превращал меня в фон.
Доза, желая помучить смущенного собеседника, продолжал:
— Намекаешь на то, что ты постоянно меня опережал?
— Но твой тэг и в самом деле несколько раз появлялся поверх моего, — настаивал тот.
— Это другой разговор. Я всегда был сверху.
Операция.
Разумеется, именно Гораций, походивший теперь на клоуна больше, чем когда бы то ни было, появился тогда в комнате для свиданий и завел этот туманный разговор. Барри заболел, Доза знал об этом. И не просто заболел — уже пару раз попадал в реанимацию «Колледж Хоспитал». Теперь ему срочно потребовался Доза — зачем, Гораций не стал объяснять. Доза дал согласие, не имея понятия, на что идет.
Неделю спустя Дозу отвели в тюремную больницу на осмотр к хирургу, похожему на профессора Дулитла. Врач неодобрительно хмурил брови и слишком медленно произносил слова. Догадался ли Доза, во что его втягивают? Да, конечно, теперь да. Дулитл предупредил, что положительный результат операции не гарантирован. Чтобы узнать, годится ли он для задуманного, требовалось сделать какие-то анализы. Уже привыкший к повиновению, Доза дал согласие на трехнедельные тестирования мочи, желчи и фекалий и вскоре ему сообщили, что его почка идеально подходит для отравленного организма Барри.
Дулитл, хоть и стал невольно инструментом в руках Андрэ Дегорна и прочих влиятельных личностей из Филадельфии, посоветовал Дозе отказаться от операции. Одна почка могла прослужить ему пять — максимум десять лет.
Но Доза был готов пожертвовать хоть сердцем, хоть руками, хоть глазами.
На реабилитацию им потребовалось шесть дней. Доза и Барри лежали в наркотическом сне — бок о бок, в больнице Олбани. А по палате терпеливо прохаживался вооруженный охранник, прокручивая в уме эротические сценки с хорошенькими медсестрами.
К облегчению Дулитла, оба благополучно перенесли операцию. За день до возвращения в тюрьму Доза и его отец, одетые в пижамы, вместе с Горацием и охранником поднялись по пожарной лестнице на больничную крышу.
И закурили привезенную Горацием травку, проверяя работоспособность пересаженной почки. Для чего же еще она нужна?
Сидя на крыше и глядя в яркое небо Олбани, Доза убедился, что отец никогда не перестанет его разочаровывать. Даже теперь, заполучив от сына почку, Барри не смотрел ему в глаза.
Вернувшись в Оберн, Доза узнал, что операция по пересадке прославила его на всю тюрьму, и попросился в Уотертаун, желая отбывать срок в тишине и спокойствии.
Уотертаун.
Доза оставил в прошлом абсолютно все. О рисовании он позабыл много лет назад: теперь стилем граффити владел каждый второй заключенный. О заработке и бизнесе Доза теперь и не помышлял, а в своем многолетнем тюремном опыте не находил ничего отрадного, напротив, когда задумывался о прошедших годах, понимал, что они растрачены впустую. Воспоминаниям о группировках, к которым каждый когда-то принадлежал — «Эй, а я знаю того черного парня. Это же младший брат Фитти Сентса, короля Уикофф-Гарденс!», — уже почти никто не предавался. Доза освоил искусство расставления ловушек и накапливал своих должников. Пытаться обдурить или расположить к себе офицеров не имело смысла — от них не было никакого проку. Может, стоило обзавестись покровителем, вроде Рафа — но от чего бы он защищал?
Невидимость, неосязаемость. Тишина и спокойствие.
И все-таки Доза допустил ошибку. Одну-единственную.
Роберт Вулфолк был все таким же неугомонным, как и прежде, изменился только внешне, потрепанный пятнадцатью годами уличной и тюремной жизни. С золотыми зубами, безобразными шрамами на сгибах рук и серьгой в ухе, Роберт продолжал ввязываться в переделки, которые давно доконали бы его, если бы он не оказался настолько живучим. Так и хотелось взять да и приструнить этого любителя приключений на свою голову.
Дин-стрит переместилась в Уотертаун, подобно радиосигналу, хиту из семьдесят шестого года, превратившемуся в единственный символ жизни.
В общем, Доза взял Роберта под свое крыло, хотя никакого крыла у него уже не было.
Вопреки совету Дозы, едва появившись в Уотертауне, Роберт занялся распространением марихуаны. Хочешь продавать — продавай. Только тихо, не мозоль никому глаза. Нет же: Роберт развернул кипучую деятельность. Стал отдавать косяки за две сигареты штука, набивать их старой травой, плодить должников. Ничего особенного, конечно, во всем этом не было, кое-кто из тюремных знакомых Дозы по нескольку лет занимался тем же самым. Он и сам проворачивал такие сделки — в Райкере, от нечего делать.
Но Роберт вскоре переключился на новый продукт, а на травку махнул рукой. Занялся жидким наркотиком, разливаемым по маленьким пакетикам, — метадоном, который давали наркоманам, проходившим курс лечения в тюремной больнице. Они брали снадобье в рот, притворялись, будто глотают его, а потом переправляли Роберту. Задача не из легких. Не у всех желающих участвовать в этом бизнесе получалось удерживать метадон во рту. А заниматься этим делом было выгодно: не зависишь ни от внешних поставщиков, ни от посредников.
О том, что командовать наркоманами и жить припеваючи за их счет желал не он один, изворотливый Роберт почему-то не задумывался.
За минуту до того момента, как они подошли во дворе к Дозе, ему показалось, что в воздухе запахло угрозой. Незаметно для самого себя он давно уже превратился в барометр, точно измеряющий уровень опасности. На тех парней, что окружили его, он несколько лет не обращал внимания. Они тоже как будто не замечали его. Но теперь ситуация резко изменилась.
Обо всем, что последовало, слишком долго рассказывать. Роберт оказался по уши в долгах, а расхлебывать заваренную им кашу пришлось Дозе. История продолжалась нескончаемо долго.
А потом произошло нечто неожиданное.
К Дозе пришел Дилан Эбдус, надумавший подарить ему кольцо.
Глава 15
Я спросил у Мингуса, который час. Четверть первого, ответил он. Я сидел на полу в коридоре уже пять часов, прислонившись плечом к стене, которая разделяла камеры Мингуса и его соседей. Виском я прижимался к прутьям дверной решетки, Мингус тоже — с другой стороны; так мы могли разговаривать. Пару раз я даже почувствовал, что его ухо касается моего. Я показался ему всего раз, на мгновение сняв кольцо, когда объяснял, как мне удалось сюда пробраться. Мы общались тихим шепотом, тонувшим в гуле ночной тюремной жизни и вентиляционном шуме.
Последние несколько часов говорил преимущественно Мингус. Я слушал, стараясь не отключаться. Мне еще ни разу не приходилось оставаться невидимым так долго. Сидя на холодном полу, я чувствовал, что возвращаюсь в детство, наполняюсь ночными страхами, от которых, как мне казалось, распрощался в возрасте одиннадцати-двенадцати лет. В те далекие дни, лежа в своей спальне на Дин-стрит, я ощущал себя маленькой песчинкой, затерявшейся в огромной вселенной, мне чудилось, будто со всех сторон на меня надвигается пустота. Ветви деревьев на заднем дворе, стучавшие в мои окна, я принимал за гигантские руки, тянувшиеся из других галактик. Позднее, став обладателем кольца, я объяснял свою боязнь полетов с крыши склонностью к подобным галлюцинациям. Они вернулись ко мне сейчас, в тюрьме, будто задумав ослабить мою решимость. А она и так была на исходе. Я чувствовал, что сил у меня едва-едва остается лишь на то, чтобы выйти отсюда. Я мечтал поскорее освободиться от проклятия Аарона Дойли — выбросить кольцо в придорожную канаву, добраться до своей машины и со спокойным сердцем вернуться к привычно тревожной жизни обыкновенного калифорнийца. Я был автором множества аннотаций к дискам и весьма скверным любовником. И как только меня угораздило отказаться от собственных достижений и ввязаться в эту непостижимую аферу? Давящая тяжесть этого коридора, словно рождающая клаустрофобию атмосфера церковного подвала, страшила меня. В воздухе витало нечто специфическое — удушливая вонь прокисших человеческих жизней. Когда погас свет, в темноте вокруг меня — вверху, справа, слева — замелькали огоньки сигарет, укоряющие в чем-то недолговечные звездочки. «Вперед!» — говорили мне они.
Наверное, я мог отключиться еще и потому, что голос Мингуса действовал на меня усыпляюще. Мингус исповедовался мне, наверное, даже не подозревая об этом. Рассказ о его злоключениях длился на миллион мгновений дольше, чем я был в состоянии вынести. Я старался не утонуть в желании утешить его и в собственном чувстве вины. Я стыдился, что когда-то бросил Мингуса и что хочу повторно совершить этот грех — незаметно ускользнуть отсюда.
Кольцо ему ни к чему. Вот в чем пытался убедить меня Мингус. Он рассказывал, что живет замечательно, что уже несколько лет у него не было ни с кем стычек, если не брать в расчет историю Роберта. И что после скорого пересмотра дела срок ему могут сократить, так что он выйдет на волю буквально через год-два. Возможно, на стражей порядка произвела впечатление пересадка почки. Словом, перспектива бегства — чтобы потом всю жизнь трястись от страха — ему не улыбалась.
Когда он сказал, о чем хочет меня попросить, я почувствовал, что эта мысль родилась в его голове в первый же момент нашей встречи. Часов десять назад, в комнате для свиданий. Он пожелал, чтобы я помог Роберту Вулфолку. Как оказалось, ШИЗО, куда отправились те два офицера, — это штрафной изолятор. Туда сажали заключенных, опасных для всех остальных, а также тех, кому грозила расправа. Наш приятель находился сейчас именно там. Мингус рассказал, как пройти туда, где отдыхают дежурные офицеры, чтобы стащить у них ключи. И как найти дорогу к Роберту. Он знал, что я могу справиться с этой задачей. И что соглашусь выполнить его просьбу.
Я хотел задать Мингусу несколько вопросов, прежде чем уйти и решить, следует ли мне сдержать данное ему обещание. Меня ничуть не интересовало ни ШИЗО, ни Роберт Вулфолк. Свою миссию в тюрьме я почти выполнил — съел все печенье Пруста под названием «Сыграй фанки». Остались одни крошки.
— Мингус, — сказал я. — Ты имеешь хоть малейшее представление о том, сколько раз ко мне цеплялись на улице в детстве?
— Ты о парнях, заламывавших тебе руки?
Он не издевался надо мной, просто облек мою мысль в более точные слова. Он даже не пытался устыдить меня за то, что я заговорил о своих детских проблемах, едва выслушав рассказ о его взрослых горестях. В сострадании Мингус не нуждался, ни намеком не попросил ему посочувствовать. Но мне все равно сделалось немного стыдно. Тем не менее я хотел услышать ответ на свой вопрос.
— Заламывавших мне руки и отнимавших у меня деньги, — сказал я. — Они издевались надо мной почти каждый день в течение всех трех лет моей учебы в 293-й школе. Я был для них белым парнем.
— Эти ниггеры и ко мне несколько раз привязывались. — Кажется, Мингус отнесся к моим словам более серьезно, чем я заслуживал. — Парни из Гованус Хаузис, Уитмен, Атлантик Терминалс. Они вечно кого-нибудь обчищали — всех подряд.
В манхэттенских клубах их боялись как огня, этих долбаных придурков.
Что верно, то верно. Я был для своих обидчиков одной из тысячи мишеней.
— Дело тут даже не в цвете кожи, — продолжал Мингус. — Просто эти черти — вечно голодные, им постоянно надо чем-то подкрепляться.
Вечно голодные. Точно подмечено. Сейчас мне предстояло отправиться к самому ненасытному из этих чертей — жаждавшему увидеть мой страх, угрожавшему прикончить меня — и освободить его.
— Мингус.
— Что?
По его голосу я понял, что он устал не меньше, чем я. Задание я получил и теперь мог уходить. Мингус проговорил со мной почти всю ночь, сделал все, чтобы я не обиделся, чтобы не слишком тяготился обманутыми ожиданиями, и чтобы мое проникновение сюда не особенно отразилось на нас обоих. Он зашел очень далеко, забрался в Уотертаун, не желая обременять ни Барри, ни Артура, ни всех остальных. С какой же стати ему обременять меня?
— Ты когда-нибудь издевался над белыми парнями?
Мингус ответил подчеркнуто скучным тоном, но я все же уловил в его голосе оттенок смущения.
— Да, — сказал он. — Один раз. Точнее, ничего особенного тогда не произошло. Я и пальцем к ним не прикоснулся. Не было необходимости.
— Как это случилось?
— Мы с ребятами из Терминалс задумали купить травки. Один из них предложил отправиться на Монтегю и отнять бабки у какого-нибудь мальчишки из «Пэкер» или все равно откуда. В общем, мы выбрали парочку школьников и обступили их кольцом. Средь бела дня. Я и рукой не пошевелил, просто корчил физиономию, пока ребята обшаривали их карманы. Но это тоже важно.
— Что?
— Я же сказал. Корчить физиономию. — Он прижался лицом к решетке, демонстрируя свои слова. В тусклом коридорном свете я рассмотрел его выдвинувшийся вперед подбородок и сдвинутые брови. Мне показалось, он похож на кота из мультика, но сердце мое сжалось от привычного страха.
В каком возрасте черные мальчишки узнают, что могут выглядеть пугающе?
Мингус задержался у решетки всего на мгновение и вновь скрылся во тьме.
Наверное, я пребывал в состоянии легкого помешательства, когда шагал прочь от камеры Мингуса. Он как будто содрал с меня всю кожу. У меня не осталось никаких секретов. И не было соответствующей физиономии, а может, и вообще лица: неудивительно, что Зелмо Свифт обращался со мной как со слабоумным! Зелмо Свифт и Джаред Ортман по-другому и не могли повести себя с человеком без лица, решившим вдруг повернуться к обществу. Я чувствовал, что не могу уйти из Уотертауна, не выполнив свою миссию, но расставаться с кольцом теперь до ужаса не хотелось — оно превратилось в часть меня, в правдивую историю обо мне. Поэтому некоторое время я просто бродил по тюремным коридорам, раздумывая, как поступить. Однако шел я именно туда, куда меня отправил Мингус, только себе в этом не признавался. Ноги двигались неохотно, лишь в те моменты, когда нужно было проскользнуть в дверь за офицером, я заставлял их работать быстрее. Я чувствовал себя живой преградой на пути воздушных волн, полтергейстом, страдающим рефлексией. Украсть у охранника здоровенную связку ключей не составило для меня труда. Ища нужный ключ для каждой из попадавшихся на пути дверей, я не особенно осторожничал, — даже не пытался потише орудовать связкой. Двери я оставлял открытыми: может, надеялся, что этого никто не заметит до того, как я пойду назад, или просто не хотелось возиться. Я ни о чем не думал — мой мозг не видел самого себя.
Еще раз пройдя через двор, который теперь уже не освещался луной, я, будто марионетка, управляемая Мингусом, без труда разыскал ШИЗО, невысокое трехэтажное здание, больше похожее на тюремную больницу, нежели на изолятор особого режима. Его вид не соответствовал тому, что я ожидал увидеть. Неуемное чудовище, буйствующее в сердце тюремного лабиринта, следовало содержать в клетке под открытым небом или в яме, охраняемой вооруженной охраной. Но ШИЗО выглядел безобидным. Я подумал, что упрятать сюда Лорда Длинные Руки, Мастера-по-забрасыванию-мяча-в-окна, равносильно заключению его в пряничный терем, в котором он с легкостью прогрызет себе дорогу на волю.
Я вошел в ШИЗО. На первом этаже здесь находились заключенные, страдающие каким-нибудь серьезным недугом — умирающие от СПИДА наркоманы, жертвы перестрелок с ранениями позвоночника. Второй этаж напомнил мне сумасшедший дом из «Инспектора Клузо» — своими зарешеченными окнами и дверьми без ручек, но с прорезями. Когда я разыскал камеру Роберта, он спал.
— Хреноберт! — позвал я.
Я снял кольцо и встал так, чтобы Роберт мог рассмотреть меня в тусклом свете. Потом подошел к решетчатой двери.
— Дилан?
— Да, Роберт.
— Какого черта ты тут делаешь?
Это был он, Роберт Вулфолк, я опять смотрел в глаза объекту своей ненависти. Облаченному в тюремную форму, бритоголовому, с застывшим выражением насмешливости — вечной соответствующей физиономией. Я взглянул на его руки, укрытые оранжевой арестантской рубахой, и подумал: когда-то они соприкасались с руками Рейчел. Я презирал Роберта и завидовал: ему посчастливилось ощутить на себе ее удары.
— Меня Мингус прислал, — пробормотал я.
— Ты небось подумал, я сплю. Да?
— Ты действительно спал.
— Не-е, только прикидывался. Никому не удастся подкрасться ко мне незаметно.
— Может быть, — ответил я.
— Знаешь, чем я занимался?
Я представлял себе наш разговор совсем иным.
— Чем?
— Сочинял в уме стихи. У меня их в голове — целый альбом. Никто из этих придурков понятия не имеет, что со мной. Наверное, думают, я свихнулся. Просто я все время сижу с закрытыми глазами и качаю головой. Скоро это дерьмо в моей башке точно взорвется и разнесет эти чертовы стены. И я отсюда смоюсь.
«Ты смоешься отсюда быстрее, чем думаешь», — мелькнуло у меня в голове.
— Хочешь послушать?
— Да.
Не знаешь мое имя, прочитай на коробке, Ты, смазливый рэппер с жирной бабьей попкой. Найди его на дизайнерской картинке. Захочешь поплавать по Гованусу, Приготовься получить по загривку.Он прочел свое нелепое творение грубым и агрессивным тоном. Впрочем, может, нелепым было не оно, а я.
Кончай трястись, трусливая задница! Я слышу, как стучат твои зубы, И мне это не нравится…— Хватит, Роберт!
— А что такое?
— У меня мало времени.
Я показал ему кольцо — с некоторым раздражением. Я ждал, что он сам его у меня попросит («Эй, дай-ка на минутку. Я никуда не уйду, только пройдусь с ним вокруг квартала. Ты что, не доверяешь мне?»). Но та игра давно закончилась.
— Помнишь эту штуковину? — спросил я.
— Черт! Это же кольцо Гу.
Я не смог убедить Мингуса принять от меня этот подарок. А Роберт тут же признал в нем имущество Мингуса. Меня его слова в некотором смысле порадовали.
— Правильно, — ответил я. — Мингус сказал, чтобы я принес это кольцо тебе.
— Черт!
— С его помощью ты сможешь выбраться отсюда. — Я просунул кольцо в дверную щель. В тот момент, когда Роберт взял его, я почувствовал приступ паники, мгновенно отрезвивший меня. Мне следовало поскорее отсюда выбираться.
— А почему Гу не оставил его себе?
— Захотел, чтобы ты им воспользовался.
— А как оно действует?
— Сам разберешься.
Роберт на мгновение задумался и спросил снова:
— Эй, Дилан, а у тебя есть ключи?
— Они нужны мне самому.
— Открой хотя бы эту долбаную дверь.
Я смотрел на него, не отвечая.
— Эй, Дилан?
— Что?
— Пошел на хрен, сукин ты сын.
Тюрьма спала. Я продвигался к выходу. Было часа три-четыре ночи. Знакомые звуки отворяющихся дверей и бряцания ключей никого не тревожили. Единственное, чего я боялся, — «А/Б двери», преодоление этого препятствия без кольца казалось невозможным. Я думал, что попрошу Мингуса несколько деньков подождать и выберусь отсюда невидимым. Он, естественно, согласился бы. А Роберту было на меня плевать, но его я бы и не стал просить.
План мне пришлось изменить. Я решил пробраться к комнате для свиданий — туда, где собирались свободные люди, и смешаться с волной первых посетителей, а в случае необходимости сказать, что по ошибке вошел не в ту дверь. Руку после вчерашнего официального визита к Мингусу я до сих пор не мыл и надеялся, что тюремные сканеры и сейчас обнаружат на ней штамп. К тому же я белый, а местное «население» по преимуществу чернокожее. Меня непременно должны были пропустить.
Я разыскал корпус с выложенными зеленой плиткой стенами, в котором находилась комната для свиданий, в одиночестве прошел по длинному коридору, миновал помещение с широким внутренним окном из оргстекла, где меня заставляли снять ремень и туфли и где моя ушная затычка привела в изумление охранницу. И попал в просторное помещение, нечто вроде вестибюля с четырьмя автоматами — пара ярко освещенных «Пепси», «Ореос», выдающий печенье в полиэтилене, и «Чиз-Ит». На одной из стен на полке стоял телевизор.
Я засунул связку ключей между пыльных опор автомата «Чиз-Ит». Там их никто бы не нашел. Если бы ключи мне еще понадобились, я без труда достал бы их. От усталости меня уже мутило. Я сел на корточки, прислонившись спиной к стене у входа, — так, чтобы из коридора меня не было видно, — и тут же заклевал носом. Не занялся сочинением рэп-стишков, обреченных на бесславие, как Роберт, а в самом деле задремал. Если бы кто-то задумал незаметно ко мне подкрасться, легко сделал бы это. Черный глаз телевизора смотрел прямо на меня. В нем не отражалось ни проблеска мысли — ни Вейдера, ни ребят из «Биг Бразер» — только пустота. Меня окружала лишь тишина, бояться грозных стражей не имело смысла. Автомат «Пепси» светился, но никого не привлекал к себе.
Я проснулся от яркого солнечного света и переполненного мочевого пузыря. И сразу же увидел толпу возле помещения с окном из органического стекла в другом конце коридора — не вялых утренних посетителей, а взволнованных тюремных офицеров, полицейских и нескольких белых мужчин среднего возраста в темных костюмах. Некоторые из них делали записи в блокнотах. В следующее мгновение я с ужасом заметил человека, стоявшего буквально в нескольких шагах от меня, — повернутого ко мне спиной офицера у одного из автоматов. Он кормил машину долларами и затаривался пепси. Наверное, именно от грохота выскакивающих из ее глотки жестяных банок я и проснулся. Вероятно, войдя сюда, офицер направился сразу к автомату и меня не заметил. Но неожиданно он повернул голову.
— Я… Гм… Уронил мелочь, — сказал я, моргая, чтобы стряхнуть с себя сон и опираясь ладонями на пол.
— Как вы здесь очутились, черт побери?
— Через входную дверь, — соврал я. — Она была открыта.
— Твою мать! Если вас увидит Тэлбот…
— Именно Тэлбот меня сюда и направил, — продолжил я рискованную игру. — А может, я просто перепутал. Где здесь уборная?
Офицер прищурил глаза, глядя на меня с подозрением, очевидно, чувствуя подвох. Затем расправил плечи, плотнее прижав к груди банки пепси. Он выглядел слишком юным — более молодого стража правопорядка мне еще не доводилось встречать. Наверное, он был здесь мальчиком на побегушках, хотя на поясе у него висела связка ключей, пластиковая дубинка и — к моему счастью — сканер.
— Вы журналист?
— Да. Вы должны помнить меня, молодой человек. — Я произнес эти слова с трансатлантическим высокомерием, копируя Гэри Гранта, разговаривающего с Ральфом Беллами. Затем выпрямился и стряхнул пыль с рук.
— А как, простите, ваше имя?
Задумавшись лишь на мгновение, я сказал:
— Вэнс Крисмес. — Сейчас я мог вспомнить имя только одного газетчика. Ну и еще, пожалуй, Джимми Ольсена. В конце концов, Крисмес сам нарвался на это, связавшись с Аэроменом, пусть и было это много лет назад.
— Понятно. Но… Откуда вы?
— Из Олбани, — ответил я. — Я работаю в… э… «Олбани Геральд-Леджер». Мы собираем материал для статьи о состоянии тюрем. Вы наверняка в курсе.
— Но ведь вы приехали со всеми остальными, я правильно понимаю? — Туман неопределенности действовал ему на нервы: он страстно хотел, чтобы я развеял все его сомнения — того же желал и Я.
— Да, конечно. Тэлбот сказал мне приехать вместе с ними, — произнес я. По-видимому, под «остальными» мой собеседник подразумевал ту толпу у кабинета с окном. Если бы у меня появилась возможность к ним присоединиться, я бы смог выскользнуть отсюда. — Я же говорю, что собираю материал. — Я настолько увлекся своей выдумкой, что ни на секунду не задумался, с какой целью сюда приехали все эти репортеры.
Мне не следовало во второй раз упоминать о таинственном Тэлботе. Мальчик-на-побегушках пристальнее посмотрел на меня, сложил на автомат банки пепси, прокашлялся и начальственным тоном произнес:
— Могу я взглянуть на ваши документы?
— Послушайте, — пробормотал я, понижая голос, — если честно, я пришел сюда не с этими ребятами.
— Как вы здесь оказались?
— Я провел тут ночь. Вчера приехал навестить приятеля. Проверьте мою руку, на ней печать.
— Гм… Даже не знаю, что с вами делать. — Я видел, что он вот-вот запаникует и бросится искать подмогу. Толпа в коридоре до сих пор не обращала на нас внимания. Я нашел спасительную соломинку, ухватился за нее, но она грозила переломиться.
— Послушайте, подождите, — пробормотал я. — Я в самом деле репортер из «Олбани». — Может, этой чушью я выносил себе окончательный приговор? Мне было уже на все наплевать. — Я договорился со знакомыми офицерами тайно впустить меня сюда. Стеймоса и Суини знаете?
— Предположим.
— Я очень не хочу доставлять им неприятности, поэтому и наговорил вам разных глупостей. Они помогли мне проникнуть сюда неофициально, понимаете?
— Стеймос решился на такое?
— Да.
— Черт! Вот идиот!
— Гм… Наверное.
— Тэлбот придушит их.
— Может, и кет, если вы выпустите меня отсюда. Просто проводите к выходу. Обещаю, я ни слова никому не скажу.
— О господи!
— Проверьте мою руку.
Качая головой, Мальчик-на-побегушках отстегнул от пояса сканер и осветил мне пальцы. Показался розовый символ.
Я не дал ему возможности поразмышлять, как поступить, — сделал вид, будто он уже ответил мне согласием.
— Пойдемте. На нас как раз никто не смотрит.
— Господи…
— Но сначала покажите, где здесь у вас туалет. Я проторчал здесь целую ночь.
— Да уж…
Когда я вышел из уборной и заметил сочувственный взгляд Мальчика-на-побегушках, то немного успокоился.
— Надо же было случиться такому именно сегодня. Вам крупно не повезло.
— Точно, — согласился я.
— Впредь будьте осторожнее.
— Непременно.
— Я серьезно говорю.
— Я тоже.
Когда мы приблизились к «А/Б двери», я прошептал:
— Скажите, например, что я забыл кое-что в машине.
Мальчик-на-побегушках напустил на себя строгую небрежность и мрачно, будто испуганный подросток, крикнул кому-то в кабинете с окошком в центре клетки:
— Этот парень возвращается на стоянку. Я его провожу.
— Хорошо, — негромко ответили изнутри. Нас пропустили.
— Кстати, а что сегодня стряслось? — спросил я, когда мы подошли к автостоянке. Утренний свет, расчесывавший кроны деревьев, слепил мои утомленные глаза. От меня, наверное, жутко пахло, как от любого, кто не побывал в ванной после ночного сна. Расхаживавшие по гравию три сердитые вороны хлопнули крыльями, поднялись в воздух и, пролетев над оградой с острыми металлическими крючьями поверху, устремились в сторону дороги. Птицы скромно ознаменовали мое освобождение: мне не терпелось добраться до своей машины и выпить где-нибудь чашечку кофе.
— Черт, — сказал Мальчик-на-побегушках, удивляясь тому, что, находясь почти что на месте происшествия, я не знал, в чем дело. — Один парень в ШИЗО уломал кого-то из офицеров открыть камеру. Наверное, у этого скота были припрятаны ворованные ключи от других дверей. Сегодня нам такой разнос устроили! Тэлбот в бешенстве.
— А что с тем парнем? Сбежал? — Вывести меня за пределы тюремной территории Мальчик-на-побегушках согласился, очевидно, потому, что не желал добавлять масла в гневный огонь Тэлбота. Мне повезло. Устроить судьбу Роберта Вулфолка более аккуратно я просто не мог.
— Покончил с собой.
— Что? — поразился я.
Мальчик-на-побегушках закрыл глаза и высунул язык, изображая мертвеца.
— Может, кто-то его убил? — спросил я.
— Нет, — ответил он. — Самоубийство. Выйдя из камеры, этот псих добровольно распрощался с жизнью.
— Он ведь мог сбежать? Зачем ему понадобилось кончать с собой?
Мальчик-на-побегушках пожал плечами.
— Черт его знает. Он забрался на самую высокую башню и сиганул вниз. Сдикими воплями, как рассказывают. Приземлился на бетонные плиты. Жуткое зрелище. Труп сфотографировали, но смотреть на эти снимки скорее всего невозможно. Ничего более страшного здесь никогда не случалось. Говорят, руки каким-то странным образом переплелись, а грудь раскололась, как скорлупа. Он уже и на человека не был похож.
Глава 16
В зал Хоуги Кармайкла, оформленный в стиле Среднего Запада, с ковром, мебелью и полками, заполненными личными вещами Кармайкла, впускали лишь посетителей, заранее согласовавших свой визит. Я же ухитрился проникнуть туда без предварительной записи. По сути, все эти правила были выдуманы лишь для того, чтобы какой-нибудь наглец не уселся за пианино Хоуги, принявшись на нем играть, или не стащил письма, присланные композитору самим Биксом Байдербеком или Рональдом Рейганом. Ключи хранились у секретарши средних лет, которая сидела в Моррисон-Холле, в Архивах традиционной музыки. Поначалу она нервно прохаживалась по залу Кармайкла, наблюдая за мной, но, убедившись, что я не хулиган, удалилась. Я углубился в рассматривание нот и перевязанного ленточкой сценария «Иметь и не иметь» с автографами Богарта, Фолкнера и Хокса. Затем перешел в соседний зал и, надев наушники, некоторое время прослушивал творения Кармайкла. В том числе и «Колиджьенс» в исполнении группы его друзей-музыкантов из Индианского университета: хот-джаз с соло на скрипке под названием «Марш хулиганов». Я прослушал эту запись несколько раз, потом вернулся в сад «дзэн» — первый зал.
Покинув Уотертаун, я, словно в наказание, ехал весь следующий день и еще полночи в сторону Пенсильвании по ровной трехполосной трассе, которая не могла ни карать, ни прощать и давала мне право самому делать выводы и вершить суд над собою. Теперь я понимал: я разбудил Аэромена, чтобы убить Роберта Вулфолка. И Мингус, и моя копившаяся много лет ненависть, в которой я давал себе отчет лишь наполовину, сыграли в этом немаловажную роль. Не обошлось и без искры вдохновения. Эта история началась с падения Аарона К. Дойли в парке на Пасифик-стрит, свидетелем которого я стал двадцать три года назад, — все, что поднимается, непременно опустится. Аэромен стал черным трупом на бетонной плите. А ведь я поступил не совсем честно: не рассказал Роберту о свойстве кольца делать его владельца невидимым. Интересно, узнал ли он сам об этом. Я раздумывал, действительно ли охранники видели человека, который, падая вниз, орал, будто дикий зверь, могли ли они вообще что-нибудь заметить до того момента, когда на земле появился изуродованный труп.
Я долго считал, что должен идти по пути Авраама, что мое назначение в жизни — раз уж я не умею летать или, например, петь, — удалиться в Бастион Одиночества и заняться сбором материалов и ваянием скульптурных портретов ушедших в никуда друзей. На худой конец, погрузиться в мир аннотаций: я диджей, я тот, чью роль исполняю. Но вот я пересек страну, сев в самолет, безумный астромен с прозрачными намерениями — освободить из Уотертауна Мингуса и Роберта. Аведь они не звали меня на помощь. Быть может, я неосознанно душил жившую во мне Рейчел — Бегущего Краба, способного все уничтожить и сбежать, разрушить чужие жизни и поспешно удрать.
Мне предстояло сделать шаг вперед. Я хотел разыскать ее крабьи следы, и на этот раз знал наверняка, чего ищу. Я перешагнул черту, забыл самого себя в этом стремительном движении, хотя, сидя в замкнутом пространстве машины, оставался осторожным водителем, не превышающим допустимую скорость. У меня даже музыка не играла — сумка с дисками лежала на заднем сиденье, — и уродливую сцену с одним актером ничто не украшало. Я останавливался, только чтобы немного размяться, залить в бак топливо, посетить уборную и сделать несколько звонков. Аврааму и Франческе я сообщил, что не смогу приехать в Бруклин, авиакомпании — что отменяю заказ на билет, а служащему проката автомобилей при нью-йоркском аэропорте «Ла Гардия» — что верну машину не завтра, а через несколько дней, причем в Беркли. Никто моим сообщениям не обрадовался, но ничего утешительного я не мог им сказать. Эбби я не звонил, потому что не знал, о чем нам разговаривать. Пока не знал.
Около трех ночи у меня начались галлюцинации. Мне стало казаться, что редкие машины, ехавшие по встречной полосе, хотят развернуться и следовать за мной, и лишь широкая разделительная полоса, поросшая травой, убеждала меня в том, что это не так. У границы Огайо я остановился в мотеле, несколько часов поспал, принял душ и продолжил путь. В Индиане был около десяти утра и направился на юг, в Блумингтон.
Университетская автостоянка, где я поставил машину, оказалась ужасной. Но вчера ночью я убил человека — заслуживал ли я большего?
Расследование я начал со справочной, где узнал, что тот, кого я ищу, не только до сих пор живет в Блумингтоне, но и работает в университете. Мне даже перегонять машину на другую стоянку не понадобилось. В семьдесят пятом году, как выяснили служащие юридической конторы Зелмо Свифта, Бегущий Краб жила в Блумингтоне. Потом она исчезла, а несколько лет спустя объявилась в Лексингтоне, штат Кентукки. Авраам не пожелал даже заглянуть в преподнесенную ему Зелмо Свифтом бумагу. А я понятия не имел, к кому еще можно обратиться в Блумингтоне, чтобы найти какую-нибудь зацепку.
Архивы традиционной музыки и зал Хоуги Кармайкла делили Моррисон-Холл с психологическим отделением Индианского университета, отделением английского языка и Институтом сексологических исследований Кинзи, который располагался на верхних этажах. Крофта Вендля я разыскал в Институте Кинзи. Он работал в отделе общественных связей. Я позвонил ему из справочной, и он сказал: «Приезжай».
Когда я пришел, секретарша объяснила мне, что Крофт разговаривает по телефону с какой-то важной птицей. Я сел в холле и принялся листать брошюры. По всей видимости, Институт Кинзи до сих пор боролся за право внедрения результатов своих исследований в умы американского народа и находился на грани изгнания из университетского сообщества, управляемого командой педантов. На стенах здесь повсюду красовались «эротические материалы» — видимо, некогда конфискованные у кого-то полицией и отданные Алфреду Кинзи, чтобы не тратиться на их хранение. Обстановка, несмотря на всю здешнюю специфичность, царила почти домашняя: стены украшали еще и пятна, появившиеся годах в пятидесятых, и черно-белые снимки. Над столом секретарши висели портреты руководителей, начиная с самого Алфреда в галстуке-бабочке и заканчивая нынешними деятелями, задумчивыми очкариками-психологами — благородными распорядителями безумной реальности.
Крофта я едва узнал. Он был в костюме цвета ржавчины, красно-коричневом галстуке и молочно-шоколадных туфлях. На свежем румяном лице белела аккуратно подстриженная борода. Он выглядел как учитель-диетолог или специалист по правильному образу жизни. Меня его вид поверг в шок. Мне казалось, стареет только Авраам, а Рейчел и ее любовник остаются молодыми, такими же, как в семьдесят четвертом году.
— Мои переговоры затягиваются, — извиняющимся тоном произнес Крофт, указывая на дверь своего офиса. У него был высокий голос — я этого не помнил.
Он не особенно меня рассматривал, обратил внимание лишь на следствия долгого нахождения в дороге: трехдневную щетину, загар на одной руке и припухлость век, как у ветерана вьетнамской войны. Быть может, он ожидал моего появления много лет.
— Я беседую с одним коллекционером-геем из Лос-Анджелеса. У него чудесная коллекция японской эротики, тысяча образцов. Он уже несколько месяцев морочит мне голову, но сегодня я почти уломал его.
— Никаких проблем. Я могу подождать.
Я подумал, могла ли заинтересовать Крофта коллекция Эрлана Агопяна — портреты обнаженной Рейчел. Или, может быть, эти картины уже перебрались сюда?
— Если ты свободен сегодня вечером, приезжай ко мне домой, — сказал Крофт. — Побеседуем за ужином.
— Руэрел Рут 8, номер один? — спросил я.
Глаза Крофта расширились от удивления.
— Мы называем это место «Ферма арбузного сахара». Подъезжай сюда к пяти часам, я покажу тебе дорогу. Сам ты вряд ли найдешь. На картах это место не обозначено.
— Ладно.
— Вот и отлично. А я побегу продолжать переговоры. Если тебе нечем заняться, я позвоню Сюзи. Она недавно у нас работает, но может провести экскурсию по Институту.
— Нет, спасибо.
Когда я проходил по коридору Моррисон-Холла, заметил зал Хоуги Кармайкла. Туда и решил отправиться. Крофт пошел к телефонной трубке, а я — к «Маршу хулиганов».
— Я хочу показать тебе одну вещь, — сказал Крофт. — А потом прогуляемся по территории общины, пока светло. Сегодня особенный вечер.
Усевшись за руль старенького «пежо», Крофт поехал впереди меня по серпантину загородной дороги, мимо ферм, через лес к общине, обозначенной надписью «А. сахар» на почтовом ящике у ворот. Мы проехали мимо скелетов нескольких «фольксвагенов» и остановились возле самодельной деревянной хибары с облупившейся краской. Я подумал, что совсем скоро эта хижина развалится. Выйдя из машин, мы направились к наполовину открытой двери — мимо ржавой сенокосилки и примитивного каменного колодца, заросшего травой.
— Вы здесь живете? — спросил я, оставляя при себе второй вопрос: «Кроме вас тут больше никого не осталось?» В некотором смысле это место выглядело даже очаровательно, но, кажется, было необитаемо.
— Боже упаси! Конечно, нет. Дома внизу, в лесу. У нас сто шестьдесят акров. Здесь была кухня, когда мы питались вместе. И зимовье для тех, кто летом жил в шалашах. Теперь тут никто не появляется. Только пчелы.
Конечно, если у них столько акров, не имело смысла рушить этот мирок — утаскивать ржавые машины на свалку и сносить хибару. Особенно если дверь ее украшает портрет Ричарда Бротигана.
Внутри хибара и впрямь выглядела как заброшенная кухня. Я оглядел плиту с потрескавшейся эмалью, похожей на поверхность картины эпохи Возрождения, длинный потемневший стол для рубки мяса, который отлично вписался бы в любую квартиру Эмервилла или Говануса, две раковины и большое пластмассовое ведро под ними. Койка, на которой, очевидно, когда-то спали обитатели шалашей, стояла почти вплотную к плите. Пахло гнилой древесиной и личинками насекомых. Перешагивая через какие-то палки и кастрюли, Крофт прошел в дальний угол, достал с полки, заставленной раздувшимися от сырости книгами, какой-то увесистый предмет, вернулся и отдал его мне. Пишущая машинка. Катушки с лентой покрывала ржавчина — они давно не двигались с места.
Теплившаяся в моей душе слабая надежда на то, что Крофт предъявит мне саму Рейчел, продолжающую вести в этой заброшенной лачуге свою таинственную жизнь, рассеялась.
— Мы всегда брали ее с собой, когда ездили на побережье, и писали тебе с каждой стоянки.
— Кто именно писал?
— Мне всегда приходилось ее уговаривать. Она мне помогала. Скорее всего ей не давал покоя стыд, ты меня понимаешь? А потом я сам отправлял тебе открытки. Когда ее не стало.
Я смотрел на машинку, будто на уличного попрошайку. Крофт отряхнул сырую ржавчину с края рукава.
— Хочешь забрать ее?
— Нет.
Чтобы кто-нибудь возместил мне ту сумму, которую я вскоре должен буду выложить за взятую напрокат машину, — вот чего я хотел.
— Пошли.
По ухоженной неасфальтированной дороге мы съехали вниз, через открытое поле к лесу, у самого края которого начинались владения общины, и в прохладной тени зашагали в сторону вырубки. Солнце уже скрылось за полоской просматривавшихся на горизонте холмов, стволы берез и листья папоротника, казалось, фосфоресцируют. Слой серого гравия на дороге что-то тихо нашептывал под ногами. Безмолвие леса сливалось с небесами.
Ответвления дороги вели к семи или восьми домам — деревянным двухэтажным строениям, при виде которых вспоминались Бакминстер Фуллер или Кристофер Александр — с куполообразными крышами, оранжерейными окнами, крытыми проходами и низенькими пристройками.
Перед каждым домом стояла одна или две машины, из нескольких труб поднимались сизые ленты дыма. Тут и там стояли велосипеды, лежали лыжи, электрические пилы, высились кучи перегноя, опилок, в чурбанах торчали топоры. Жильцы «Фермы арбузного сахара» были дома. В кухнях горел свет. Мы шли тихо, никого не тревожа. Я чувствовал себя не в своей тарелке, с удивлением отмечая жизнестойкость этого поселения.
— Рейчел и Джереми были, пожалуй, самым серьезным испытанием, выпавшим на долю общины, — говорил Крофт своим визгливым альтом. — Борьба с ними помогла нам повзрослеть, поэтому многие даже благодарны им. Никогда не забуду ту ночь. Мы обступили их кольцом, взялись за руки и потребовали, чтобы они ушли. Я думал, вот-вот намочу штаны. До этого пару раз Джереми начистил мне физиономию, но я никому об этом не рассказывал, — стыдился. Как потом выяснилось, он многих здесь поколачивал.
— Я не знаю, кто такой Джереми.
— Его уже нет в живых. Умер пару лет назад. Это был жестокий тип. Несколько месяцев, пока он жил здесь, обращался с нами будто с игрушками на детской площадке. Его излюбленной забавой было заставить кого-нибудь из парней накуриться до одури, а потом запугать его рассказом о том, как однажды он, Джереми, одним ударом убил человека. Таких баек у него была тьма. После этого он подкатывал к подруге парня. Мы не возражали, думали: «Если она хочет сойтись с Джереми, пусть, может, заставит его образумиться». Но только Рейч осталась с ним надолго.
— Он отбил ее у вас? — спросил я. Сумерки сгущались. На мгновение мой взгляд остановился на ярко освещенном кухонном окне. Женщина средних лет с такими же седыми, как у Крофта, волосами резала на столе помидоры, а две девочки за ее спиной сидели перед телевизором — светловолосые и сияющие, точно сестры Солвер. На телеэкране темнело не то подземелье, не то подводное царство. Меня они не могли видеть. Я почувствовал себя грязным чудовищем, подсматривающим за людьми, и отвернулся.
— В тот период мы уже мало с ней общались. Рейч и сама доставляла нам массу проблем. Многие страшно злились на меня за то, что я привез ее сюда. Рейч была пропитана нью-йоркским сарказмом, который местных просто бесил. — Крофт засмеялся. — Она здесь всем не давала покою. В том числе и мне. Ее не устраивала эта жизнь. Иначе ей не захотелось бы уехать с Джереми. Мне кажется, Рейч сожалела, что оставила Нью-Йорк.
— Она когда-нибудь вспоминала… об Аврааме?
— Ей было очень стыдно. — Тем же самым Крофт объяснил нежелание Рейчел писать мне открытки. Наверное, это была правда. Я решил, что больше не буду его ни о чем спрашивать.
Крофт продолжал:
— Особенно мне запомнился один день. Я попытался уговорить ее пойти со мной за грибами. Она подобные занятия ненавидела, находила это слишком глупым. Джереми в тот момент уже появился у нас. Я просто хотел достучаться до нее, понимаешь? Наладить с ней контакт. Мне казалось, ей это нужно. Каждый раз, когда я звал ее на улицу, она отвечала что-нибудь вроде: «Интересно, что сейчас показывают в „Талье“. „Тысячу клоунов“ или „Тридцать девять ступеней“?» Давала мне понять, что скучает по прошлой жизни. Но в тот день, не знаю почему, она согласилась пойти со мной за грибами. Перед этим три дня лил дождь, и мы решили поискать свежие сморчки. — Крофт обвел жестом лес вокруг, и я понял, что все, о чем он говорит, происходило здесь. На этом самом месте. — Естественно, Рейч не собирала грибы. Беспрестанно курила. Водить машину она не умела и все время просила меня отвезти ее в город за сигаретами. Но речь не об этом. Так вот, шагая со мной по лесу и дымя, как паровоз, Рейч опять завела разговор о «Талье» и сказала: «Может, там сейчас идет „Одолеть дьявола“?» Я спросил: «И что в этом „Одолеть дьявола“ хорошего?» Рейч стала пересказывать мне содержание этого чертова фильма — не умолкала целый час. Она имитировала голос Питера Лорра и всех остальных, представляешь? Помнила весь фильм чуть ли не наизусть.
* * *
Я не включал музыку, пока не выехал за пределы Индианы.
Сначала мы с Крофтом вернулись к машинам, и он показал мне свой дом — здание на самой окраине «Фермы арбузного сахара». Дорога, по которой мы ехали, тянулась вдоль поля акров в двенадцать и вливалась в трассу, ведущую в сторону Кентукки. Когда ветер дул справа, до нас издалека доносилось тарахтенье грузовиков. Крофт между прочим упомянул о том, что у общины сейчас проблемы. Власти штата задумали проложить через ее владения шоссе, собираясь угрохать на это четыре миллиарда долларов. По словам Крофта, путь до города от Чикаго благодаря этой новой дороге мог сократиться всего минут на десять. Мы задумались об этом, прислушиваясь к отдаленному шуму тягачей с прицепами. Потом Крофт провел меня в дом, зажег на кухне свет, накормил спагетти и предложил переночевать у него, в комнате для гостей. Я отказался, желая поскорее отправиться в путь. Крофт разрешил воспользоваться его телефоном, и я чуть было не принял его предложение, но передумал, решив позвонить Эбби, когда буду подъезжать к дому и когда пойму, что должен ей сказать.
У двери Крофт неловко меня обнял, и я его тоже, столь же неуклюже. Я ничего не отвергал и ничего не принимал. Племянник Изабеллы Вендль не мог стать мне матерью, которой у меня никогда не было — ни он, ни его дряхлая пишущая машинка. Не мог он заменить мне и отца, заботы которого я тоже почти не ощущал. Авраама и Рейчел я считал родителями, а Бурум-Хилл домом — но в действительности ничего этого у меня не было. Все вокруг, как бы оно ни называлось, — само по себе, и ни до кого ему нет дела.
Направляясь назад в Блумингтон, я несколько раз сбивался с пути, но не стал ни у кого уточнять дорогу. Я не торопился.
После полуночи я подъехал к Гэри — родине «Джексон Файв». В Иллинойсе остановился на заправке и вспомнил о дисках на заднем сиденье. Залив в бак бензин и вновь тронувшись с места, я достал первый попавшийся и на ощупь поставил его в магнитолу. Зазвучала первая песня из альбома Брайана Эно «Еще один зеленый мир». Рок на закуску, музыка троллей, как выразился бы Эвклид Барнс. Я слушал эту запись постоянно с того дня, когда обнаружил ее в умирающем музыкальном отделе на восьмом этаже магазина «Абрахам и Строс», рядом с секцией коллекционных монет и марок. Позднее, в Кэмден-тауне, используя приобретенные в Бруклине навыки, я стащил кассету с записью этого альбома из магазинчика на Мейн-стрит и как-то раз крутил ее всю ночь, занимаясь любовью с Мойрой Хогарт. Я обожал это невинное страхолюдство: звуковые потоки клавишных самого Эно, виолончельный свист пилы Джона Кейла, ажурные узоры Роберта Фриппа. Эта музыка всегда ассоциировалась у меня с дорогой, проносящимися в свете фар сотнями миль. Слушая сейчас «Еще один зеленый мир», я вспоминал о другой своей поездке.
Это было в ту зиму, когда меня выставили из Кэмдена. Получив письмо Ричарда Бродо, я должен был съездить в колледж еще раз, чтобы забрать вещи — книги, белье, проигрыватель, — ожидавшие меня на чердаке «Освальд Хаус». Я поехал вместе с Авраамом, на машине, которую он, как обычно, ничего мне не сказав, у кого-то одолжил. Шли долгие зимние каникулы, в колледже никого не было. Но я все же уговорил отца подождать меня в машине и отправился искать охранника, который открыл бы мне чердак общежития. Я не хотел, чтобы Авраам входил на территорию городка.
Назад мы возвращались в пургу, сквозь белый туннель танцующих снежинок. В полном молчании. Я стыдился, сознавая, что Авраам разочарован, но это чувство соседствовало во мне с безграничной злобой. Пурга разыгралась не на шутку, мы были вынуждены снизить скорость до черепашьей и ориентироваться по свету задних фар вихляющего перед нами грузовика. Я достал с заднего сиденья, из коробки с книгами и кассетами, ту самую запись и поставил ее. В волшебство метели музыка вписалась просто чудесно. Наверняка Авраам осторожничал, ведя машину, а сверхъестественно безмятежный «Еще один зеленый мир» как будто внушал, что ценит его старания. И тем самым успокоил нас обоих. Эно пел: «Нет больше строк, меж которых ты умел читать…»
Несколькими годами раньше, когда я начал учиться в Стайвесанте, и мы с Габриелем Стерном и Тимоти Вэндертусом только-только увлеклись Клэшем и Рамонесом, я принес их пластинки домой и поставил для отца.
— Слышишь? — спросил я. — Здорово? Такой музыки еще не было!
— Конечно, — ответил он. — Здорово.
— Ты действительно слышишь то, что слышу я? Ту же самую песню?
— Разумеется, — сказал Авраам, страшно меня разочаровывая, оставляя тайну нераскрытой.
Могли отец наслаждаться моей музыкой?
Немного повзрослев, я больше не приставал к нему с подобными разговорами, даже в более светлые времена, чем тот мрачный период, когда меня выгнали из колледжа. Поэтому я даже не пытался выяснить, каким показался ему «Еще один зеленый мир».
Эно пел: «Ты удивишься, если узнаешь, насколько я не уверен в себе…»
Сейчас я осознал наконец, что именно люблю в этой и, несомненно, в других записях: срединное пространство, иллюзию которого они создавали и в котором существовали, богемный полусвет, мечта хиппи. Это же самое пространство, это бесперспективное предложение я со временем возненавидел. Мне следовало отказаться от него — ради соула, ради Барретта Руда-младшего, ради его давней боли. Я нуждался в музыке, которая рассказывала о себе — такой, какая она есть, какой я научился ее принимать, живя в большом городе. «Еще один зеленый мир» был подобием фильма Авраама: слишком хрупкий, чересчур беззащитный. Но мне сейчас требовалась более сильная песня. Ведь я знал об этой жизни гораздо больше, чем Б. Эно и А. Эбдус, и уже не мог выносить эту бесхитростность, устал от этих двоих сильнее, чем Мингус — от меня с моей наивностью.
Именно от этой бесперспективной срединности удирал Бегущий Краб. А хиппи, геи и создатели бесконечных фильмов в надежде на обретение этой же срединности стекались в Гованус, невольно превращаясь в помехудля торговцев недвижимостью и подрывной фактор расизма. «Заселение порядочными людьми» было шрамом, оставшимся от мечты. Утопическим шоу, заканчивающимся в день открытия. То есть почти тем же самым, чего так боялся Авраам, отказываясь взглянуть на свой фильм трезво. Урезанным летом, двором, в котором Мингус Руд бросает сполдин и забивает контрольные мячи.
Мы все стремимся отыскать свое срединное пространство — тот момент, когда «Встревоженная синь» держалась на первом месте хит-парада, а Джозефин Бейкер в Париже считалась сенсацией. Те дни, когда тинейджер Элвис, мечтая записать собственный альбом, прислушивался в «Сан Рекорде» к песням «Арестантов», когда вагон с кричащей росписью-граффити на боку проезжал по станциям метро, на мгновение преображая мир, когда во дворе школы номер тридцать восемь крутили на проигрывателях модные пластинки. Я приехал в Индиану не для того, чтобы посмотреть на пишущую машинку или встретиться с Крофтом, а для того, чтобы в сгустившемся сумраке отправиться в обратный путь. И для того, чтобы увидеть, как обитатели «Фермы арбузного сахара» живут в лесу, оторванные от мира. Я приехал сюда для того, чтобы ощутить то же, что почувствовал дома у Кати Перли, когда увидел кровать, которую она берегла для сестренки, и услышал речитатив Эм-Пса. Срединное пространство растворяется и исчезает, как проблеск света. Если моргнешь не вовремя, можешь так ничего и
,,не увидеть. Вероятно, этим пространством в моей жизни стал когда-то Кэмден, но тогда все рухнуло. Я лишь оставил там свои следы. Подобно Рейчел, я летел навстречу несуществующим мирам, белый мальчик из муниципальной школы, уже ставшей неуправляемой — сценой для репетиции фрагментов из тюремной жизни. Насколько же глупую, прекрасную ошибку совершила Рейчел, поступив так по-американски — вселив в меня ужас жизни. Авраам действовал иначе: уединившись в студии, пытался превратить срединное пространство в обыденность. Если зеленый треугольник так и не упал на землю в его фильме, значит, никогда уже не упадет, верно?
Брайан Эно пел: «Почему время тянется так медленно?» Мы ехали сквозь пургу. Авраам и я пробирались по снежному туннелю, глядя в лицо опасности, однако на мгновение оба ощутили уверенность. Оба знали: отец должен довезти сына до дома. С нами не было ни Мингуса Руда, ни Барретта Руда-младшего, ни открыток от Бегущего Краба, ни письма из Кэмденского колледжа. Мы пребывали в срединном пространстве, под снежным куполом — отец и сын, едущие по дороге с черепашьей скоростью. Не то чтобы безмятежные, но успокоенные — два завитка каракулей, выведенных неведомой рукой, чьей-то тайнописи, человеческой мечты.
Примечания
1
Буры (африканеры) — народ в ЮАР, в основном потомки голландских, а также французских и немецких колонистов. — Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
«Рокеттс» — кордебалет киноконцертного зала «Радио-сити».
(обратно)3
Инфорсер — член гангстерской группировки, занимающийся тем, что принуждает других к выполнению требований банды, или приведением в исполнение приговоров.
(обратно)4
Апрок — первая часть брейка, предшествующая нижнему брейку. «Заводит» зрителей и задает тон всему остальному.
(обратно)5
«Soul Train» — популярная в США музыкальная телепередача.
(обратно)6
Фрисби — бросание летающих тарелок.
(обратно)7
«Ковбои и индейцы» — детская игра вроде «казаков-разбойников».
(обратно)8
Пэрриш Максфилд Фредерик (1870–1966) — художник и иллюстратор, оформитель плакатов, журнальных обложек и календарей.
(обратно)9
Ашканская Школа («Школа мусорного бака») — радикальное направление в реалистической живописи первой четверти XIX в., не чуждавшееся показа теневых сторон жизни большого города.
(обратно)10
Прозак — лекарственное вещество, вызывающее наркотическую зависимость.
(обратно)11
Дашики — мужская рубашка в африканском стиле с круглым вырезом и короткими рукавами.
(обратно)12
Ду-воп (doo-wop) — музыкальный стиль, популярный в Америке в 1950-х годах, название происходит от слов подпевки солисту: «Ду-воп».
(обратно)13
Мисдиминор — категория мелких уголовных преступлений, граничащих с административными правонарушениями.
(обратно)
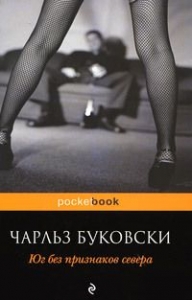


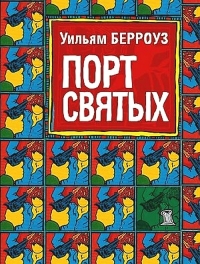
Комментарии к книге «Бастион одиночества», Джонатан Летем
Всего 0 комментариев