Саша Черный Хочу отдохнуть от сатиры…
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Из цикла «Всем нищим духом»
Ламентации
Хорошо при свете лампы Книжки милые читать. Пересматривать эстампы И по клавишам бренчать, — Щекоча мозги и чувство Обаяньем красоты, Лить душистый мед искусства В бездну русской пустоты… В книгах жизнь широким пиром Тешит всех своих гостей, Окружая их гарниром Из страданий и страстей: Смех, борьба и перемены, С мясом вырван каждый клок! А у нас… углы да стены И над ними потолок. Но подчас, не веря мифам, Так событий личных ждешь! Заболеть бы что ли тифом, Учинить бы, что ль, дебош? В книгах гений Соловьевых, Гейне, Гете и Золя, А вокруг от Ивановых Содрогается земля. На полотнах Магдалины, Сонм Мадонн, Венер и Фрин, А вокруг кривые спины Мутноглазых Акулин. Где событья нашей жизни, Кроме насморка и блох? Мы давно живем, как слизни, В нищете случайных крох. Спим и хнычем. В виде спорта, Не волнуясь, не любя, Ищем бога, ищем черта, Потеряв самих себя. И с утра до поздней ночи Все, от крошек до старух, Углубив в страницы очи, Небывалым дразнят дух. В звуках музыки – страданье, Боль любви и шепот грез, А вокруг одно мычанье, Стоны, храп и посвист лоз. Отчего? Молчи и дохни. Рок – хозяин, ты – лишь раб. Плюнь, ослепни и оглохни, И ворочайся, как краб! … Хорошо при свете лампы Книжки милые милые читать, Перелистывать эстампы И по клавишам бренчать. 1909Пробуждение весны
Вчера мой кот взглянул на календарь И хвост трубою поднял моментально, Потóм подрал на лестницу как встарь, И завопил тепло и вакханально: «Весенний брак, гражданский брак Спешите, кошки, на чердак!» И кактус мой – о, чудо из чудес! Залитый чаем и кофейной гущей, Как новый Лазарь, взял да и воскрес И с каждым днём прёт из земли всё пуще. Зелёный шум… Я поражён, «Как много дум наводит он!» Уже с панелей слипшуюся грязь, Ругаясь, скалывают дворники лихие, Уже ко мне зашёл сегодня «князь», Взял тёплый шарф и лыжи беговые… «Весна, весна! – пою, как бард, Несите зимний хлам в ломбард». Сияет солнышко. Ей-богу, ничего! Весенняя лазурь спугнула дым и копоть. Мороз уже не щиплет никого, Но многим нечего, как и зимою, лóпать… Деревья ждут… Гниёт вода, И пьяных больше, чем всегда. Создатель мой! Спасибо за весну! Я думал, что она не возвратится, Но… дай сбежать в лесную тишину От злобы дня, холеры и столицы! Весенний ветер за дверьми… В кого б влюбиться, чёрт возьми? 1909Крейцерова соната
Квартирант сидит на чемодане И задумчиво рассматривает пол: Те же стулья, и кровать, и стол, И такая же обивка на диване, И такой же «бигус» на обед, — Но на всём какой-то новый свет. Блещут икры полной прачки Фёклы. Перегнулся сильный стан во двор. Как нестройный, шаловливый хор, Верещат намыленные стёкла, И заплаты голубых небес Обещают тысячи чудес. Квартирант сидит на чемодане. Груды книжек покрывают пол. Злые стекла свищут: эй, осёл! Квартирант копается в кармане, Вынимает стёртый четвертак, Ключ, сургуч, копейку и пятак… За окном стена в сырых узорах, Сотни ржавых труб вонзились в высоту, А в Крыму миндаль уже в цвету… Вешний ветер закрутился в шторах И не может выбраться никак. Квартирант пропьёт свой четвертак! Так пропьёт, что небу станет жарко. Стёкла вымыты. Опять тоска и тишь. Фёкла, Фёкла, что же ты молчишь? Будь хоть ты решительной и яркой: Подойди, возьми его за чуб И ожги огнём весенних губ… Квартирант и Фёкла на диване. О, какой торжественный момент! «Ты – народ, а я – интеллигент, — Говорит он ей среди лобзаний, — Наконец-то, здесь, сейчас, вдвоём, Я тебя, а ты меня – поймём…» 1909«…Все в штанах, скроённых одинаково…»
Это не было сходство, допустимое даже в лесу, – это было тождество, это было безумное превращение одного в двоих.
Л. Андреев. «Проклятие зверя» Все в штанах, скроённых одинаково, При усах, в пальто и в котелках. Я похож на улице на всякого И совсем теряюсь на углах… Как бы мне не обменяться личностью: Он войдет в меня, а я в него, — Я охвачен полной безразличностью И боюсь решительно всего… Проклинаю культуру! Срываю подтяжки! Растопчу котелок! Растерзаю пиджак!! Я завидую каждой отдельной букашке, Я живу, как последний дурак… В лес! К озёрам и девственным елям! Буду лазить, как рысь, по шершавым стволам. Надоело ходить по шаблонным панелям И смотреть на подкрашенных дам! Принесёт мне ворона швейцарского сыра, У заблудшей козы надою молока. Если к вечеру станет прохладно и сыро, Обложу себе мохом бока. Там не будет газетных статей и отчётов. Можно лечь под сосной и немножко повыть. Иль украсть из дупла вкусно пахнущих сотов, Или землю от скуки порыть… А настанет зима – упираться не стану: Буду голоден, сир, малокровен и гол — И пойду к лейтенанту, к приятелю Глану: У него даровая квартира и стол. И скажу: «Лейтенант! Я – российский писатель, Я без паспорта в лес из столицы ушёл, Я устал, как собака, и – веришь, приятель — Как семьсот аллигаторов зол! Люди в городе гибнут, как жалкие слизни, Я хотел свою старую шкуру спасти. Лейтенант! Я бежал от бессмысленной жизни И к тебе захожу по пути…» Мудрый Глан ничего мне на это не скажет, Принесёт мне дичины, вина, творогу… Только пусть меня Глан основательно свяжет, А иначе – я в город сбегу. 1907 или 1908Споры
Каждый прав и каждый виноват. Все полны обидным снисхожденьем И, мешая истину с глумленьем, До конца обидеться спешат. Эти споры – споры без исхода, С правдой, с тьмой, с людьми, с самим собой, Изнуряют тщетною борьбой И пугают нищенством прихода. По домам бессильно разбредаясь, Мы нашли ли собственный ответ? Что ж слепые наши «да» и «нет» Разбрелись, убого спотыкаясь? Или мысли наши – жернова? Или спор – особое искусство, Чтоб, калеча мысль и теша чувство, Без конца низать случайные слова? Если б были мы немного проще, Если б мы учились понимать, Мы могли бы в жизни не блуждать, Словно дети в незнакомой роще. Вновь забытый образ вырастает: Притаилась Истина в углу, И с тоской глядит в пустую мглу, И лицо руками закрывает… 1908Интеллигент
Повернувшись спиной к обманувшей надежде И беспомощно свесив усталый язык, Не раздевшись, он спит в европейской одежде И храпит, как больной паровик. Истомила Идея бесплодьем интрижек, По углам паутина ленивой тоски, На полу вороха неразрезанных книжек И разбитых скрижалей куски. За окном непогода лютеет и злится… Стены прочны, и мягок пружинный диван. Под осеннюю бурю так сладостно спится Всем, кто бледной усталостью пьян. Дорогой мой, шепни мне сквозь сон по секрету, Отчего ты так страшно и тупо устал? За несбыточным счастьем гонялся по свету, Или, может быть, землю пахал? Дрогнул рот, разомкнулись тяжелые вежды, Монотонные звуки уныло текут: «Брат! Одну за другой хоронил я надежды, Брат! От этого больше всего устают. Были яркие речи и смелые жесты И неполных желаний шальной хоровод. Я жених непришедшей прекрасной невесты, Я больной, утомленный урод». Смолк. А буря все громче стучалась в окошко, Билась мысль, разгораясь и снова таясь. И сказал я, краснея, тоскуя и злясь: «Брат! Подвинься немножко». 1908Простые слова (Памяти Чехова)
В наши дни трёхмесячных успехов И развязных гениев пера Ты один, тревожно-мудрый Чехов, С каждым днём нам ближе, чем вчера. Сам не веришь, но зовёшь и будишь, Разрываешь ямы до конца И с беспомощной усмешкой тихо судишь Оскорбивших землю и Отца. Вот ты жил меж нами, нежный, ясный, Бесконечно ясный и простой, — Видел мир наш хмурый и несчастный, Отравлялся нашей наготой… И ушёл! Но нам больней и хуже: Много книг, о, слишком много книг! С каждым днём проклятый круг всё уже И не сбросить «чеховских» вериг… Ты хоть мог, вскрывая торопливо Гнойники, – смеяться, плакать, мстить. Но теперь всё вскрыто. Как тоскливо Видеть, знать, не ждать и молча гнить! 1910Утешение
Жизнь бесцветна? Надо, друг мой, Быть упорным и искать: Раза два в году ты можешь, Как король, торжествовать… Если где-нибудь случайно, — В маскараде иль в гостях, На площадке ли вагона, Иль на палубных досках, Ты столкнёшься с человеком Благородным и простым, До конца во всём свободным, Сильным, умным и живым, Накупи бенгальских спичек, Закажи оркестру туш, Маслом розовым намажься И прими ликёрный душ! Десять дней ходи во фраке, Нищим сто рублей раздай, Смейся в горьком умиленьи И от радости рыдай… Раза два в году – не шутка, А при счастье – три и пять. Надо только, друг мой бедный, Быть упорным и искать. 1922Два желания
1
Жить на вершине голой, Писать простые сонеты… И брать от людей из дола Хлеб вино и котлеты.2
Сжечь корабли и впереди, и сзади, Лечь на кровать, не глядя ни на что, Уснуть без снов и, любопытства ради, Проснуться лет чрез сто. ‹1909›Из цикла «Быт»
Городская сказка
Профиль тоньше камеи, Глаза как спелые сливы, Шея белее лилеи И стан как у леди Годивы. Деву с душою бездонной, Как первая скрипка оркестра, Недаром прозвали мадонной Медички шестого семестра. Пришел к мадонне филолог, Фаддей Симеонович Смяткин. Рассказ мой будет недолог: Филолог влюбился по пятки. Влюбился жестоко и сразу В глаза ее, губы и уши, Цедил за фразою фразу, Томился, как рыба на суше. Хотелось быть ее чашкой, Братом ее или теткой, Ее эмалевой пряжкой И даже зубной ее щеткой!.. «Устали, Варвара Петровна? О, как дрожат ваши ручки!» — Шепнул филолог любовно, А в сердце вонзились колючки. «Устала. Вскрывала студента: Труп был жирный и дряблый. Холод… Сталь инструмента. Руки, конечно, иззябли. Потом у Калинкина моста Смотрела своих венеричек. Устала: их было до ста. Что с вами? Вы ищете спичек? Спички лежат на окошке. Ну, вот. Вернулась обратно, Вынула почки у кошки И зашила ее аккуратно. Затем мне с подругой достались Препараты гнилой пуповины. Потом… был скучный анализ: Выделенье в моче мочевины… Ах, я! Прошу извиненья: Я роль хозяйки забыла — Коллега! Возьмите варенья, — Сама сегодня варила». Фаддей Симеонович Смяткин Сказал беззвучно: «Спасибо!» А в горле ком кисло-сладкий Бился, как в неводе рыба. Не хотелось быть ее чашкой, Ни братом ее и ни теткой, Ни ее эмалевой пряжкой, Ни зубной ее щеткой! 1909На вербе
Солнце брызжет, солнце греет. Небо – василек. Сквозь березки тихо веет Теплый ветерок. А внизу все будки, будки И людей – что мух. Каждый всунул в рот по дудке — Дуй во весь свой дух! В будках куклы и баранки, Чижики, цветы… Золотые рыбки в банке Раскрывают рты. Все звончее над шатрами Вьется писк и гам. Дети с пестрыми шарами Тянутся к ларькам. «Верба! верба!» в каждой лапке Бархатный пучок. Дед распродал все охапки — Ловкий старичок! Шерстяные обезьянки Пляшут на щитках. «Ме-ри-кан-ский житель в склянке Ходит на руках!» Пудель, страшно удивленный, Тявкает на всех. В небо шар взлетел зеленый, А вдогонку – смех! Вот она какая верба! А у входа в ряд — На прилавочке у серба Вафельки лежат. 1912Из цикла «Литературный цех»
«…Жестокий бог литературы!..»
Жестокий бог литературы! Давно тебе я не служил: Ленился, думал, спал и жил, — Забыл журнальные фигуры, Интриг и купли кислый ил, Молчанья боль, и трепет шкуры, И терпкий аромат чернил… Но странно, верная мечта Не отцвела – живет и рдеет. Не изменяет красота — Всё громче шепчет и смелеет. Недостижимое светлеет, И вновь пленяет высота… Опять идти к ларям впотьмах, Где зазыванье, пыль и давка, Где все слепые у прилавка Убого спорят о цветах?… Где царь-апломб решает ставки, Где мода – властный падишах… Собрав с мечты душистый мед, Беспечный, как мечтатель-инок, Придешь сконфуженно на рынок — Орут ослы, шумит народ, В ларях пестрят возы новинок, — Вступать ли в жалкий поединок Иль унести домой свой сот?… 1912Недоразумение
Она была поэтесса, Поэтесса бальзаковских лет. А он был просто повеса, Курчавый и пылкий брюнет. Повеса пришел к поэтессе. В полумраке дышали духи, На софе, как в торжественной мессе, Поэтесса гнусила стихи: «О, сумей огнедышащей лаской Всколыхнуть мою сонную страсть. К пене бедер, за алой подвязкой Ты не бойся устами припасть! Я свежа, как дыханье левкоя, О, сплетем же истомности тел!..» Продолжение было такое, Что курчавый брюнет покраснел. Покраснел, но оправился быстро И подумал: была не была! Здесь не думские речи министра, Не слова здесь нужны, а дела… С несдержанной силой кентавра Поэтессу повеса привлек, Но визгливо-вульгарное: «Мавра!» Охладило кипучий поток. «Простите… – вскочил он, – вы сами…» Но в глазах ее холод и честь: «Вы смели к порядочной даме, Как дворник, с объятьями лезть?!» Вот чинная Мавра. И задом Уходит испуганный гость. В передней растерянным взглядом Он долго искал свою трость… С лицом белее магнезии Шел с лестницы пылкий брюнет: Не понял он новой поэзии Поэтессы бальзаковских лет. 1909Сиропчик (Посвящается «детским» поэтессам)
Дама, качаясь на ветке, Пикала: «Милые детки! Солнышко чмокнуло кустик, Птичка оправила бюстик И, обнимая ромашку, Кушает манную кашку…» Дети, в оконные рамы Хмуро уставясь глазами, Полны недетской печали, Даме в молчаньи внимали. Вдруг зазвенел голосочек: «Сколько напикала строчек?» 1910Из цикла «Невольная дань»
Там внутри
У меня серьезный папа — Толстый, важный и седой; У него с кокардой шляпа, А в сенях городовой. Целый день он пишет, пишет — Даже кляксы на груди, Подойдешь, а он не слышит, Или скажет: «Уходи». Ухожу… У папы дело, Как у всех других мужчин. Только как мне надоело: Все один, да все один! Но сегодня утром рано Он куда-то заспешил И на коврик из кармана Ключ в передней обронил. Наконец-то… Вот так штука. Я обрадовался страсть. Кабинет открыл без звука И, как мышка, в двери – шасть! На столе четыре папки, Все на месте. Все – точь-в-точь. Ну-с, пороемся у папки — Что он пишет день и ночь? «О совместном обученье, Как вреднейшей из затей». «Краткий список книг для чтенья Для кухаркиных детей». «В Думе выступить с законом: Чтобы школ не заражать, Запретить еврейским женам Девяносто лет рожать». «Об издании журнала „Министерский детский сад“. „О любви ребенка к баллам“. „О значении наград“. „Черновик проекта школы Государственных детей“. „Возбуждение крамолой Малолетних на властей“. „Дух законности у немцев В младших классах корпусов“. „Поощрение младенцев, Доносящих на отцов“». Фу, устал. В четвертой папке «Апология плетей». Вот так штука… Значит, папка Любит маленьких детей? 1909Молитва
Благодарю Тебя, Создатель, Что я в житейской кутерьме Не депутат и не издатель И не сижу еще в тюрьме. Благодарю Тебя, могучий, Что мне не вырвали язык, Что я, как нищий, верю в случай И к всякой мерзости привык. Благодарю Тебя, Единый, Что в Третью Думу я не взят, — От всей души, с блаженной миной, Благодарю Тебя стократ. Благодарю Тебя, мой Боже, Что смертный час, гроза глупцов, Из разлагающейся кожи Исторгнет дух в конце концов. И вот тогда, молю беззвучно, Дай мне исчезнуть в черной мгле — В раю мне будет очень скучно, А ад я видел на земле. 1908Из цикла «Лирические сатиры»
Под сурдинку
Хочу отдохнуть от сатиры… У лиры моей Есть тихо-дрожащие, легкие звуки. Усталые руки На умные струны кладу, Пою и в такт головою киваю… Хочу быть незлобным ягненком, Ребенком, Которого взрослые люди дразнили и злили, — А жизнь за чьи-то чужие грехи Лишила третьего блюда. Васильевский остров прекрасен, Как жаба в манжетах. Отсюда, с балконца, Омытый потоками солнца, Он весел, и грязен, и ясен, Как старый маркер. Над ним углубленная просинь Зовет, и поет, и дрожит… Задумчиво осень, Последние листья желтит. Срывает Бросает под ноги людей на панель — А в сердце не молкнет Свирель: Весна опять возвратится! О зимняя спячка медведя, Сосущего пальчики лап! Твой девственный храп Желанней лобзаний прекраснейшей леди. Как молью, изъеден я сплином… Посыпьте меня нафталином. Сложите в сундук и поставьте меня на чердак, Пока не наступит весна. 1909У моря
Облаков жемчужный поясок Полукругом вьется над заливом. На горячий палевый песок Мы легли в томлении ленивом. Голый доктор, толстый и большой, Подставляет солнцу бок и спину. Принимаю вспыхнувшей душой Даже эту дикую картину. Мы наги, как дети-дикари, Дикари, но в самом лучшем смысле. Подымайся, солнце, и гори, Растопляй кочующие мысли! По морскому хрену, возле глаз, Лезет желтенькая божия коровка. Наблюдаю трудный перелаз И невольно восхищаюсь: ловко! В небе тают белые клочки. Покраснела грудь от ласки солнца. Голый доктор смотрит сквозь очки. И в очках смеются два червонца. – Доктор, друг! А не забросить нам И белье, и платье в сине море? Будем спины подставлять лучам И дремать, как галки на заборе… Доктор, друг… мне кажется, что я Никогда не нашивал одежды! Но коварный доктор – о змея — Разбивает все мои надежды: – Фантазер! Уже в закатный час Будет холодно, и ветрено, и сыро. И при том фигуришки у нас: Вы – комар, а я – бочонок жира. Но всего важнее, мой поэт, Что меня и вас посадят в каталажку. Я кивнул задумчиво в ответ И пошел напяливать рубашку. 1909Экзамен
Из всех билетов вызубрив четыре, Со скомканной программою в руке, Неся в душе раскаяния гири, Я мрачно шел с учебником к реке. Там у реки блондинка гимназистка Мои билеты выслушать должна. Ах, провалюсь! Ах, будет злая чистка! Но ведь отчасти и ее вина… Зачем о ней я должен думать вечно? Зачем она близка мне каждый миг? Ведь это, наконец, бесчеловечно! Конечно, мне не до проклятых книг. Ей хорошо: по всем – двенадцать баллов, А у меня лишь по закону пять. Ах, только гимназистки без скандалов Любовь с наукой могут совмещать! Пришел. Навстречу грозный голос Любы: «Когда Лойола орден основал?» А я в ответ ее жестоко в губы, Жестоко в губы вдруг поцеловал. «Не сметь! Нахал! Что сделал для науки Декарт, Бэкон, Паскаль и Галилей?» А я в ответ ее смешные руки Расцеловал от пальцев до локтей. «Кого освободил Пипин Короткий? Ну, что ж? Молчишь! Не знаешь ни аза?» А я в ответ почтительно и кротко Поцеловал лучистые глаза. Так два часа экзамен продолжался. Я получил ужаснейший разнос! Но, расставаясь с ней, не удержался И вновь поцеловал ее взасос. … Я на экзамене дрожал, как в лихорадке, И вытащил… второй билет! Спасен! Как я рубил! Спокойно, четко, гладко… Иван Кузьмич был страшно поражен. Бегом с истории, ликующий и чванный, Летел мою любовь благодарить… В душе горел восторг благоуханный. Могу ли я экзамены хулить? 1910Из цикла «Бурьян»
Комнатная весна
Проснулся лук за кухонным окном И выбросил султан зелено-блеклый. Замученные мутным зимним сном, Тускнели ласковые солнечные стекла. По комнатам проснувшаяся моль Зигзагами носилась одурело И вдруг – поняв назначенную роль — Помчалась за другой легко и смело. Из-за мурильевской Мадонны на стене Прозрачные клопенки выползали, Невинно радовались комнатной весне, Дышали воздухом и лапки расправляли. Оконный градусник давно не на нуле — Уже неделю солнце бьет в окошки! В вазончике по треснувшей земле Проворно ползали зелененькие вошки. Гнилая сырость вывела в углу Сухую изумрудненькую плесень, А зайчики играли на полу И требовали глупостей и песен… У хламной этажерки на ковре Сидело чучело в манжетах и свистало, Прислушивалось к гаму на дворе И пыльные бумажки разбирало. Пять воробьев, цепляясь за карниз, Сквозь стекла в комнату испуганно вонзилось: «Скорей! Скорей! Смотрите, вот сюрприз — Оно не чучело, оно зашевелилось!» В корзинку для бумаг «ее» портрет Давно был брошен, порванный жестоко… Чудак собрал и склеил свой предмет, Недоставало только глаз и бока. Любовно и восторженно взглянул На чистые черты сбежавшей дамы, Взял лобзик, сел верхом на хлипкий стул — И в комнате раздался визг упрямый. Выпиливая рамку для «нея», Свистало чучело и тихо улыбалось… Напротив пела юная швея, И солнце в стекла бешено врывалось! 1910Северные сумерки
В небе полоски дешевых чернил Со снятым молоком вперемежку, Пес завалился в пустую тележку И спит. Дай, Господи, сил! Черви на темных березах висят И колышат устало хвостами. Мошки и тени дрожат над кустами. Как живописен вечерний мой сад! Серым верблюдом стала изба. Стекла, как очи тифозного сфинкса. С видом с Марса упавшего принца Пот неприятия злобно стираю со лба… Кто-то порывисто дышит в сарайную щель. Больная корова, а может быть, леший? Лужи блестят, как старцев-покойников плеши. Апрель? Неужели же это апрель?! Вкруг огорода пьяный, беззубый забор. Там, где закат, узкая ниточка желчи. Страх все растет, гигантский, дикий и волчий… В темной душе запутанный темный узор. Умерли люди, скворцы и скоты. Воскреснут ли утром для криков и жвачки? Хочется стать у крыльца на карачки И завыть в глухонемые кусты… Разбудишь деревню, молчи! Прибегут С соломою в патлах из изб печенеги, Спросонья воткнут в тебя вилы с разбега И триста раз повернут… Черным верблюдом стала изба. А в комнате пусто, а в комнате гулко. Но лампа разбудит все закоулки, И легче станет борьба. Газетной бумагой закрою пропасть окна. Не буду смотреть на грязь небосвода! Извините меня, дорогая природа, — Сварю яиц, заварю толокна. 1910, ЗаозерьеНесправедливость
Адам молчал, сурово, зло и гордо, Спеша из рая, бледный, как стена. Передник кожаный зажав в руке нетвердой, По-детски плакала дрожащая жена… За ними шло волнующейся лентой Бесчисленное пестрое зверье: Резвились юные, не чувствуя момента, И нехотя плелось угрюмое старье. Дородный бык мычал в недоуменье: «Ярмо… Труд в поте морды… О, Эдем! Я яблок ведь не ел от сотворенья, И глупых фруктов я вообще не ем…» Толстяк баран дрожал, тихонько блея: «Пойдет мой род на жертвы и в очаг! А мы щипали мох на триста верст от змея И сладкой кротостью дышал наш каждый шаг…» Ржал вольный конь, страшась неволи вьючной, Тоскливо мекала смиренная коза, Рыдали раки горько и беззвучно, И зайцы терли лапами глаза. Но громче всех в тоске визжала кошка: «За что должна я в муках чад рожать?!» А крот вздыхал: «Ты маленькая сошка, Твое ли дело, друг мой, рассуждать…» Лишь обезьяны весело кричали, — Почти все яблоки пожрав уже в раю, — Бродяги верили, что будут без печали Они их рвать – теперь в ином краю. И хищники отчасти были рады: Трава в раю была не по зубам! Пусть впереди облавы и засады, Но кровь и мясо, кровь и мясо там!.. Адам молчал, сурово, зло и гордо, По-детски плакала дрожащая жена. Зверье тревожно подымало морды. Лил серый дождь, и даль была черна… 1910Настроение
«Sing, Seele, sing…»
Dehmel[1] Ли-ли! В ушах поют весь день Восторженные скрипки. Веселый бес больную лень Укачивает в зыбке. Подняв уютный воротник И буйный сдерживая крик, По улицам шатаюсь И дерзко ухмыляюсь. Ли-ли! Мне скучно взрослым быть Всю жизнь – до самой смерти. И что-то нудное пилить В общественном концерте. Удрал куда-то дирижер, Оркестр несет нестройный вздор — Я ноты взял под мышку И покидаю вышку… Ли-ли! Пусть жизнь черна, как кокс, Но смерть еще чернее! Трепещет радость-парадокс, Как губы Гименея… Задорный бес толкает в бок: Зайди в игрушечный ларек, Купи себе пастушку, Свистульку, дом и пушку… Ли-ли! Фонарь!.. Имею честь — Пройдись со мной в кадрили… Увы! Фитиль и лампы есть, А масло утащили. Что делать с радостью моей Среди кладбищенских огней?… Как месть, она воскресла И бьет, ликуя, в чресла! Ли-ли! Вот рыженький студент С серьезным выраженьем; Позвольте, будущий доцент, Позвать вас на рожденье! Мы будем басом петь «Кармен», Есть мед, изюм и суп-жульен, Пьянясь холодным пивом В неведенье счастливом… Ли-ли! Боишься? Черт с тобой, Проклятый рыжий штопор! Растет несдержанный прибой, Хохочет радость в рупор: Ха-ха! Как скучно взрослым быть, По скучным улицам бродить, Смотреть на скучных братьев, И скуке мстить проклятьем! 1910Больному
Есть горячее солнце, наивные дети, Драгоценная радость мелодий и книг. Если нет – то ведь были, ведь были на свете И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ… Есть незримое творчество в каждом мгновенье — В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. Будь творцом! Созидай золотые мгновенья. В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз… Бесконечно позорно в припадке печали Добровольно исчезнуть, как тень на стекле. Разве Новые Встречи уже отсияли? Разве только собаки живут на земле? Если сам я угрюм, как голландская сажа (Улыбнись, улыбнись на сравненье мое!), — Это черный румянец – налет от дренажа, Это Муза меня подняла на копье. Подожди! Я сживусь со своим новосельем — Как весенний скворец запою на копье! Оглушу твои уши цыганским весельем! Дай лишь срок разобраться в проклятом тряпье. Оставайся! Так мало здесь чутких и честных… Оставайся! Лишь в них оправданье земли. Адресов я не знаю – ищи неизвестных, Как и ты, неподвижно лежащих в пыли. Если лучшие будут бросаться в пролеты, Скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц! Полюби безотчетную радость полета… Разверни свою душу до полных границ. Будь женой или мужем, сестрой или братом, Акушеркой, художником, нянькой, врачом, Отдавай – и, дрожа, не тянись за возвратом. Все сердца открываются этим ключом. Есть еще острова одиночества мысли. Будь умен и не бойся на них отдыхать. Там обрывы над темной водою нависли — Можешь думать… и камешки в воду бросать… А вопросы… Вопросы не знают ответа — Налетят, разожгут и умчатся, как корь. Соломон нам оставил два мудрых совета: Убегай от тоски и с глупцами не спорь. Если сам я угрюм, как голландская сажа (Улыбнись, улыбнись на сравненье мое!), — Это черный румянец – налет от дренажа, Это Муза меня подняла на копье. 1910Из цикла «Горький мёд»
«…Любовь должна быть счастливой…»
Любовь должна быть счастливой — Это право любви. Любовь должна быть красивой — Это мудрость любви. Где ты видел такую любовь? У господ писарей генерального штаба? На эстраде, – где бритый тенóр, Прижимая к манишке перчатку, Взбивает сладкие сливки Из любви, соловья и луны? В лирических строчках поэтов, Где любовь рифмуется с кровью И почти всегда голодна?… К ногам Прекрасной Любви Кладу этот жалкий венок из полыни, Которая сорвана мной в ее опустелых садах… 1911Амур и Психея
Пришла блондинка-девушка в военный лазарет, Спросила у привратника: «Где здесь Петров, корнет?» Взбежал солдат по лестнице, оправивши шинель: «Их благородье требует какая-то мамзель». Корнет уводит девушку в пустынный коридор, Не видя глаз, на грудь ее уставился в упор. Краснея, гладит девушка смешной его халат. Зловонье, гам и шарканье несется из палат. «Прошел ли скверный кашель твой? Гуляешь или нет? Я, видишь, принесла тебе малиновый шербет…» «Merci. Пустяк, покашляю недельки три еще». И больно щиплет девушку за нежное плечо. Невольно отодвинулась и, словно в первый раз, Глядит до боли ласково в зрачки красивых глаз. Корнет свистит и сердится. И скучно и смешно! По коридору шляются – и не совсем темно… Сказал блондинке-девушке, что ужинать пора, И проводил смущенную в молчанье до двора… В палате венерической бушует зычный смех, Корнет с шербетом носится и оделяет всех. Друзья по койкам хлопают корнета по плечу, Смеясь, грозят, что завтра же расскажут все врачу. Растут предположения, растет басистый вой, И гордо в подтверждение кивнул он головой… Идет блондинка-девушка вдоль лазаретных ив, Из глаз лучится преданность, и вера, и порыв. Несет блондинка-девушка в свой дом свой первый сон: В груди зарю желания, в ушах победный звон. 1910Наконец!
В городской суматохе Встретились двое. Надоели обои, Неуклюжие споры с собою, И бесплодные вздохи О том, что случилось когда-то… В час заката, Весной, в зеленеющем сквере, Как безгрешные звери, Забыв осторожность, тоску и потери, Потянулись друг к другу легко, безотчетно и чисто. Не речисты Были их встречи и кротки. Целомудренно-чутко молчали, Не веря и веря находке, Смотрели друг другу в глаза, Друг на друга надели растоптанный старый венец И, не веря и веря, шептали: «Наконец!» Две недели тянулся роман. Конечно, они целовались. Конечно, он, как болван, Носил ей какие-то книги — Пудами. Конечно, прекрасные миги Казались годами, А старые скверные годы куда-то ушли. Потом Она укатила в деревню, в родительский дом, А он в переулке своем На лето остался. Странички первого письма Прочел он тридцать раз. В них были целые тома Нестройных жарких фраз… Что сладость лучшего вина, Когда оно не здесь? Но он глотал, пьянел до дна И отдавался весь. Низал в письме из разных мест Алмазы нежных слов И набросал в один присест Четырнадцать листков. Ее второе письмо было гораздо короче, И были в нем повторения, стиль и вода, Но он читал, с трудом вспоминал ее очи, И, себя утешая, шептал: «Не беда, не беда!» Послал «ответ», в котором невольно и вольно Причесал свои настроенья и тонко подвил, Писал два часа и вздохнул легко и довольно, Когда он в ящик письмо опустил. На двух страничках третьего письма Чужая женщина описывала вяло: Жару, купанье, дождь, болезнь мaмá, И все это «на ты», как и сначала… В ее уме с досадой усомнясь, Но в смутной жажде их осенней встречи, Он отвечал ей глухо и томясь, Скрывая злость и истину калеча. Четвертое письмо не приходило долго. И наконец пришла «с приветом» carte postale[2], Написанная лишь из чувства долга… Он не ответил. Кончено? Едва ль… Не любя, он осенью, волнуясь, В адресном столе томился много раз. Прибегал, невольно повинуясь Зову позабытых темно-серых глаз… Прибегал, чтоб снова суррогатом рая Напоить тупую скуку, стыд и боль, Горечь лета кое-как прощая И опять входя в былую роль. День, когда ему на бланке написали, Где она живет, был трудный, нудный день — Чистил зубы, ногти, а в душе кричали Любопытство, радость и глухой подъем… В семь он, задыхаясь, постучался в двери И вошел, шатаясь, не любя и злясь, А она стояла, прислонясь к портьере, И ждала, не веря, и звала, смеясь. Через пять минут безумно целовались, Снова засиял растоптанный венец, И глаза невольно закрывались, Прочитав в других немое: «Наконец!..» 1911«Дурак»
Под липой пение ос. Юная мать, пышная мать В короне из желтых волос, С глазами святой, Пришла в тени почитать — Но книжка в крапиве густой… Трехлетняя дочь Упрямо Тянет чужого верзилу: «Прочь! Не смей целовать мою маму!» Семиклассник не слышит, Прилип, как полип, Тонет, трясется и пышет. В смущенье и гневе Мать наклонилась за книжкой: «Мальчишка! При Еве!» Встала, поправила складку И дочке дала шоколадку. Сладостен первый капкан! Три блаженных недели, Скрывая от всех, как артист, Носил гимназист в проснувшемся теле Эдем и вулкан. Не веря губам и зубам, До боли счастливый, Впивался при лунном разливе В полные губы… Гигантские трубы, Ликуя, звенели в висках, Сердце, в горячих тисках, Толкаясь о складки тужурки, Играло с хозяином в жмурки, — Но ясно и чисто Горели глаза гимназиста. Вот и развязка: Юная мать, пышная мать Садится с дочкой в коляску — Уезжает к какому-то мужу. Склонилась мучительно близко, В глазах улыбка и стужа, Из ладони белеет наружу — Записка! Под крышей, пластом, Семиклассник лежит на диване Вниз животом. В тумане, Пунцовый, как мак, Читает в шестнадцатый раз Одинокое слово: «Дурак!» И искры сверкают из глаз Решительно, гордо и грозно. Но поздно… 1911Городской романс
Над крышей гудят провода телефона… Довольно бессмысленный шум! Сегодня опять не пришла моя донна, Другой не завел я – ворона, ворона! Сижу одинок и угрюм. А так соблазнительно в теплые лапки Уткнуться губами, дрожа, И слушать, как шелково-мягкие тряпки Шуршат, словно листьев осенних охапки Под мягкою рысью ежа. Одна ли, другая – не все ли равно ли? В ладонях утонут зрачки — Нет Гали, ни Нелли, ни Мили, ни Оли, Лишь теплые лапки и ласковость боли И сердца глухие толчки… 1910На Невском ночью
Темно под арками Казанского собора. Привычной грязью скрыты небеса. На тротуаре в вялой вспышке спора Хрипят ночных красавиц голоса. Спят магазины, стены и ворота. Чума любви в накрашенных бровях Напомнила прохожему кого-то, Давно истлевшего в покинутых краях… Недолгий торг окончен торопливо — Вон на извозчике любовная чета: Он жадно курит, а она гнусит. Проплыл городовой, зевающий тоскливо, Проплыл фонарь пустынного моста, И дева пьяная вдогонку им свистит. 1911Из цикла «У немцев»
Рынок
Бледно-жирные общипанные утки Шеи свесили с лотков. Говор, смех, приветствия и шутки И жужжанье полевых жуков. Свежесть утра. Розовые ласки Первых, робких солнечных лучей. Пухлых немок ситцевые глазки И спокойствие размеренных речей. Груды лилий, васильков и маков Вянут медленно в корзинах без воды, Вперемежку рыба, горы раков, Зелень, овощи и сочные плоды. В центре площади какой-то вождь чугунный Мирно дремлет на раскормленном коне. Вырастает говор многострунный И дрожит в нагретой вышине. Маргариты, Марты, Фриды, Минны — Все с цветами и корзинками в руках. Скромный взгляд, кокетливые мины — О, мужчины вечно в дураках! Я купил гусиную печенку И пучок росистых васильков. А по небу мчались вперегонку Золотые перья облаков… 1910Кельнерша
Я б назвал ее мадонной, Но в пивных мадонн ведь нет… Косы желтые – короной, А в глазах – прозрачный свет. В грубых пальцах кружки с пивом. Деловито и лениво Чуть скрипит тугой корсет. Улыбнулась корпорантам, Псу под столиком – и мне. Прикоснуться б только к бантам, К черным бантам на спине! Ты – шиповник благовонный… Мы – прохожие персоны, — Смутный сон в твоей весне… К сатане бы эти кружки, И прилавок, и счета! За стеклом дрожат опушки, Май синеет… Даль чиста… Кто и что она, не знаю, Вечной ложью боль венчаю: Все мадонны, ведь, мечта. Оглянулась удивленно — Непонятно и смешно? В небе тихо и бездонно, В сердце тихо и темно. Подошла, склонилась: – Пива? Я кивнул в ответ учтиво И, зевнув, взглянул в окно. 1922«…В полдень тенью и миром полны переулки…»
В полдень тенью и миром полны переулки. Я часами здесь сонно слоняться готов, В аккуратных витринах рассматривать булки, Трубки, книги и гипсовых сладких Христов. Жалюзи словно веки на спящих окошках, Из ворот тянет солодом, влагой и сном. Корпорант дирижирует тростью на дрожках И бормочет в беспомощной схватке с вином. Вот Валькирия с кружкой… Скользнешь по фигуре, Облизнешься – и дальше. Вдоль окон – герань. В высоте, оттеняя беспечность лазури, Узких кровель причудливо-темная грань. Бродишь, бродишь. Вдруг вынырнешь томный к Неккару. Свет и радость. Зеленые горы – кольцом, Заслонив на скамье краснощекую пару, К говорливой воде повернешься лицом. За спиной беглый шепот и милые шашни. Старый мост перекинулся мощной дугой. Мирно дремлют пузатые низкие башни И в реке словно отзвуки арфы тугой. Вы бывали ль, принцесса, хоть раз в Гейдельберге? Приезжайте! В горах у обрыва теперь Расцветают на липах душистые серьги И пролет голубеет, как райская дверь. 1922Из Гейне
I
Печаль и боль в моем сердце, Но май в пышноцветном пылу. Стою, прислонившись к каштану, Высоко на старом валу. Внизу городская канава Сквозь сон, голубея, блестит. Мальчишка с удочкой в лодке Плывет и громко свистит. За рвом разбросался уютно Игрушечный пестрый мирок: Сады, человечки и дачи, Быки, и луга, и лесок. Служанки белье расстилают И носятся, как паруса. На мельнице пыль бриллиантов, И дальний напев колеса. Под серою башнею будка Пестреет у старых ворот, Молодчик в красном мундире Шагает взад и вперед. Он ловко играет мушкетом. Блеск стали так солнечно-ал… То честь отдает он, то целит. Ах, если б он в грудь мне попал! 1911II
За чаем болтали в салоне Они о любви по душе: Мужья в эстетическом тоне. А дамы с нежным туше. «Да будет любовь платонична!» — Изрек скелет в орденах. Супруга его иронично Вздохнула с усмешкою: «Ах!» Рек пастор протяжно и властно: «Любовная страсть, господа, Вредна для здоровья ужасно!» Девица шепнула: «Да?» Графиня роняет уныло: «Любовь – кипящий вулкан…» Затем предлагает мило Барону бисквит и стакан. Голубка, там было местечко — Я был бы твоим vis-à-vis[3] — Какое б ты всем им словечко Сказала о нашей любви! 1910III
В облаках висит луна Колоссальным померанцем. В сером море длинный путь Залит лунным, медным глянцем. Я один… Брожу у волн. Где, белея, пена бьется. Сколько нежных, сладких слов Из воды ко мне несется… О, как долго длится ночь! В сердце тьма, тоска и крики. Нимфы, встаньте из воды, Пойте, вейте танец дикий! Головой приникну к вам, Пусть замрет душа и тело. Зацелуйте в вихре ласк, Так, чтоб сердце онемело! 1911IV
Этот юноша любезный Сердце радует и взоры: То он устриц мне подносит, То мадеру, то ликеры. В сюртуке и в модных брючках, В модном бантике кисейном, Каждый день приходит утром, Чтоб узнать, здоров ли Гейне? Льстит моей широкой славе, Грациозности и шуткам, По моим делам с восторгом Всюду носится по суткам. Вечерами же в салонах, С вдохновенным выраженьем, Декламирует девицам Гейне дивные творенья. О, как радостно и ценно Обрести юнца такого! В наши дни, ведь, джентльмены Стали редки до смешного. 1911V
Штиль
Море дремлет… Солнце стрелы С высоты свергает в воду, И корабль в дрожащих искрах Гонит хвост зеленых борозд. У руля на брюхе боцман Спит и всхрапывает тихо. Весь в смоле, у мачты юнга, Скорчась, чинит старый парус. Сквозь запачканные щеки Краска вспыхнула, гримаса Рот свела, и полон скорби Взгляд очей – больших и нежных. Капитан над ним склонился, Рвет и мечет и бушует: «Вор и жулик! Из бочонка Ты стянул, злодей, селедку!» Море дремлет… Из пучины Рыбка-умница всплывает. Греет голову на солнце И хвостом игриво плещет. Но из воздуха, как камень, Чайка падает на рыбку — И с добычей легкой в клюве Вновь в лазурь взмывает чайка. 1911У Нарвского залива
Я и девочки-эстонки Притащили тростника. Средь прибрежного песка Вдруг дымок завился тонкий. Вал гудел, как сто фаготов, Ветер пел на все лады. Мы в жестянку из-под шпротов Молча налили воды. Ожидали, не мигая, Замирая от тоски. Вдруг в воде, шипя у края, Заплясали пузырьки! Почему событье это Так обрадовало нас? Фея северного лета, Это, друг мой, суп для вас! Трясогузка по соседству По песку гуляла всласть… Разве можно здесь не впасть Под напевы моря в детство? 1914, ГунгербургСилуэты
Вечер. Ивы потемнели. За стволами сталь речонки. Словно пьяные газели, Из воды бегут девчонки. Хохот звонкий. Лунный свет на белом теле. Треск коряг… Опустив глаза к дороге, ускоряю тихий шаг. Наклонясь к земле стыдливо, Мчатся к вороху одежи И, смеясь, кричат визгливо… Что им сумрачный прохожий? Тени строже. Жабы щелкают ревниво. Спит село. Темный путь всползает в гору, поворот – и все ушло. 1914, РомныВозвращение
Белеют хаты в молочно-бледном рассвете. Дорога мягко качает наш экипаж. Мы едем в город, вспоминая безмолвно о лете… Скрипят рессоры и сонно бормочет багаж. Зеленый лес и тихие долы – не мифы: Мы бегали в рощах, лежали на влажной траве, На даль, залитую солнцем, с кургана, как скифы, Смотрели, вверяясь далекой немой синеве… Мы едем в город. Опять углы и гардины, Снег за окном, книги и мутные дни — А здесь по бокам дрожат вдоль плетней георгины, И синие сливы тонут в зеленой тени… Мой друг, не вздыхайте – здесь тоже не лучше зимою: Снега, почерневшие ивы, водка и сон. Никто не придет… Разве нищая баба с клюкою Спугнет у крыльца хоровод продрогших ворон. Скрипят рессоры… Качаются потные кони. Дорога и холм спускаются к сонной реке. Как сладко жить! Выходит солнце в короне, И тени листьев бегут по вашей руке. 1914, Ромны«…Еле тлеет погасший костер…»
Еле тлеет погасший костер. Пепел в пальцах так мягко пушится. Много странного в сердце таится И, волнуясь, спешит на простор. Вдоль опушки сереют осины. За сквозистою рябью стволов Чуть белеют курчавые спины И метелки овечьих голов. Деревенская детская банда Чинно села вокруг пастуха И горит, как цветная гирлянда, На желтеющей зелени мха. Сам старик – сед и важен. Так надо… И пастух, и деревья, и я, И притихшие дети, и стадо… Где же мудрый пророк Илия?… Из-за туч, словно веер из меди, Брызнул огненный сноп и погас. Вы ошиблись, прекрасная леди, — Можно жить на земле и без вас! 1922Над морем
Над плоской кровлей древнего храма Запели флейты морского ветра. Забилась шляпа, и складки фетра В ленивых пальцах дыбятся упрямо. Направо море – зеленое чудо. Налево – узкая лента пролива. Внизу безумная пляска прилива И острых скал ярко-желтая груда. Крутая барка взрезает гребни. Ныряет, рвется и все смелеет. Раздулся парус – с холста алеет Петух гигантский с подъятым гребнем. Глазам так странно, душе так ясно: Как будто здесь стоял я веками, Стоял над морем на древнем храме И слушал ветер в дремоте бесстрастной. 1913, Porto Venere. SpeziaИз цикла «Война»
Репетиция
Соломенное чучело Торчит среди двора. Живот шершавый вспучило, — А сбоку детвора. Стал лихо в позу бравую, Штык вынес, стиснул рот, Отставил ногу правую, А левую – вперед. Несусь, как конь пришпоренный: «Ура! Ура! Ура!» Мелькает строй заморенный, Пылища и жара… Сжал пальцы мертвой хваткою, Во рту хрустит песок, Шинель жжет ребра скаткою, Грохочет котелок. Легко ли рысью – пешему? А рядом унтер вскачь: «Коли! Отставить! К лешему…» Нет пафоса, хоть плачь. Фельдфебель, гусь подкованный, Басит среди двора: «Видать, что образованный…» Хохочет детвора. 1923Пленные
У «Червонного Бора» какие-то странные люди. С Марса, что ли, упали? На касках сереют чехлы, Шинелями, как панцирем, туго затянуты груди, А стальные глаза равнодушно-надменны и злы. Вдоль шоссе подбегают пехотные наши михрютки: Интересно! Воюешь, – а с кем, никогда не видал. Тем – табак, тем – краюшку… Трещат и гудят прибаутки. Люди с Марса стоят неподвижнее скал. «Ишь, как волки!» – «Боятся?» – «Что сдуру трепать языками… В плен попал, – так шабаш. Все равно что воскрес…» Отбегает пехота к обозу, гремя котелками. Мерно двинулись каски к вокзалу под темный навес. 1923Письмо от сына
Хорунжий Львов принес листок, Измятый розовый клочок, И фыркнул: «Вот писака!» Среди листка кружок-пунктир, В кружке каракули: «Здесь мир», А по бокам: «Здесь драка». В кружке царила тишина: Сияло солнце и луна, Средь роз гуляли пары, А по бокам – толпа чертей, Зигзаги огненных плетей И желтые пожары. Внизу в полоске голубой: «Ты не ходи туда, где бой. Целую в глазки. Мишка». Вздохнул хорунжий, сплюнул вбок И спрятал бережно листок: «Шесть лет. Чудак, мальчишка…» 1923Легенда
Это было на Пасху, на самом рассвете: Над окопами таял туман. Сквозь бойницы чернели колючие сети, И качался засохший бурьян. Воробьи распевали вдоль насыпи лихо. Жирным смрадом курился откос… Между нами и ими печально и тихо Проходил одинокий Христос. Но никто не узнал, не поверил виденью: С криком вскинулись стаи ворон, Злые пули дождем над святою мишенью Засвистали с обеих сторон… И растаял – исчез он над гранью оврага, Там, где солнечный плавился склон. Говорили одни: «сумасшедший бродяга», — А другие: «жидовский шпион»… 1920Сестра
Сероглазая женщина с книжкой присела на койку И, больных отмечая вдоль списка на белых полях, То за марлей в аптеку пошлет санитара Сысойку, То, склонившись к огню, кочергой помешает в углях. Рукавица для раненых пляшет, как хвост трясогузки, И крючок равномерно снует в освещенных руках, Красный крест чуть заметно вздыхает на серенькой блузке, И, сверкая починкой, белье вырастает в ногах. Можно с ней говорить в это время о том и об этом, В коридор можно, шаркая туфлями, тихо уйти — Удостоит, не глядя, рассеянно-кротким ответом, Но починка, крючок и перо не собьются с пути. Целый день, она кормит и чинит, склоняется к ранам, Вечерами, как детям, читает больным «Горбунка», По ночам пишет письма Иванам, Петрам и Степанам, И луна удивленно мерцает на прядях виска. У нее в уголке, под лекарствами, в шкафике белом, В грязно-сером конверте хранится армейский приказ: Под огнем из-под Ломжи в теплушках, спокойно и смело, Всех в боях позабытых она вывозила не раз. В прошлом – мирные годы с родными в безоблачном Пскове, Беготня по урокам, томленье губернской весны… Сон чужой или сказка? Река человеческой крови Отделила ее навсегда от былой тишины. Покормить надо с ложки безрукого парня-сапера, Казака надо ширмой заставить – к рассвету умрет. Под палатой галдят фельдшера. Вечеринка иль ссора? Балалайка затенькала звонко вдали у ворот. Зачинила сестра на халате последнюю дырку, Руки вымыла спиртом, – так плавно качанье плеча, Наклонилась к столу и накапала капель в пробирку, А в окошке над ней вентилятор завился, журча. 1923Из цикла «На Литве»
«…На миг забыть – и вновь ты дома…»
На миг забыть – и вновь ты дома: До неба – тучные скирды, У риги – пыльная солома, Дымятся дальние пруды, Снижаясь, аист тянет к лугу, Мужик коленом вздел подпругу, — Все до пастушьей бороды, Увы, так горестно знакомо! И бор, замкнувший круг небес, И за болотцем плеск речонки, И голосистые девчонки, С лукошком мчащиеся в лес… Строй новых изб вдаль вывел срубы. Сады пестреют в тишине. Печеным хлебом дышат трубы, И Жучка дремлет на бревне. А там под сливой, где белеют Рубахи вздернутой бока, — Смотри, под мышками алеют Два кумачовых лоскутка! Но как забыть? На облучке Трясется ксендз с бадьей в охапке, Перед крыльцом, склонясь к луке, Гарцует стражник в желтой шапке. Литовской речи плавный строй Звенит забытою латынью… На перекрестке за горой Христос, распластанный над синью. А там, у дремлющей опушки Крестов немецких белый ряд: Здесь бой кипел, ревели пушки… Одни живут – другие спят. Очнись. Нет дома – ты один: Чужая девочка сквозь тын Смеется, хлопая в ладони. В возах – раскормленные кони, Пылят коровы, мчатся овцы, Проходят с песнями литовцы — И месяц, строгий и чужой, Встает над дальнею межой… 1922Могила в саду
В заглохшем саду колыхаются травы. Широкие липы в медвяном цвету Подъемлют к лазури кудрявые главы, И пчелы гудят на лету. Под липой могила: Плита и чернеющий орденский крест. Даль – холм обнажила. Лесные опушки толпятся окрест. От сердца живого, от глаз, напоенных цветеньем, К безвестным зарытым костям потянулась печаль… Кто он, лейтенант-здоровяк, навеки спеленутый тленьем, Принесший в чужие поля смертоносную сталь? Над Эльбою в замке Мать дремлет в стенах опустелых, А в траурной рамке — Два глаза лучистых и смелых… Литовское небо дрожит от пчелиного хора. Пушистый котенок лениво прижался к щеке. Осколок снаряда торчит из земли у забора — Клуб ржавых колючек сквозь маки сквозит на песке… Вдали над оврагом Конь плугом взрывает пласты И медленным шагом Обходит густые кусты. 1923Из цикла «Чужое солнце»
Солнце
На грязь вдоль панели Из облачной щели Упали лучи — Золотые мечи. Запрыгало солнце На прутьях балконца, Расплавилось лавой На вывеске ржавой, От глаз через рынок Столб рыжих пылинок, Бульдог на повозке Весь в блеске, весь в лоске, Отрепья старушки, Как райские стружки — Трепещут и блещут, Сквозят и горят… В окне ресторанном, Цветисты и пылки, Бенгальским фонтаном Зарделись бутылки, На шапках мальчишек Зыбь пламенных вспышек, Вдоль зеркала луж — Оранжевый уж… И даже навоз, Как клумба из роз. А там на углу, Сквозь алую мглу, Сгибаясь дугой, На бечевке тугой Ведет собачонка Вдоль стен, как ребенка, Слепого солдата… И солнце на нем Пылает огнем. Оно ль виновато? 1923, Берлин«…На берлинском балконе…»
На берлинском балконе Солнце греет ладони, А усатый и дикий густой виноград — Мой вишневый сегодняшний сад. Много ль надо глазам? Наклоняюсь к гудящим возам, На мальчишек румяных глазею, И потом в виноград, как в аллею, Окунаю глаза. А вверху – бирюза, Голубой, удивительный цвет, Острогранной больницы сухой силуэт, Облака И стрижей мимолетно-живая строка… Надо мной с переплета жердей Темно-рыжий комочек глядит на прохожих людей. Это белка – мой новый и радостный друг… Жадно водит усами вокруг, Глазки – черные бусы. Ветер, солнце и я – ей по вкусу… Посидит-посидит, А потом, словно дикий бандит, Вдруг проскачет галопом по зелени крепкой, Свесит голову вниз и качается цепко Над моей головой, Как хмельной домовой… Достаю из кармана тихонько орех: Вмиг мелькнет вдоль плеча переливчатый мех, И толкает в кулак головой, как в закрытый сарай: – «Открывай!» — Солнце греет ладони… Посидим на балконе И уйдем: белка в ящик со стружками спать, Я – по комнате молча шагать. 1923Весна в Шарлоттенбурге
Цветет миндаль вдоль каменных громад. Вишневый цвет вздымается к балкону. Трамваи быстрые грохочут и гремят, И облачный фрегат плывет по небосклону… И каждый луч, как алая струна. Весна! Цветы в петлицах, в окнах, на углах, Собаки рвут из рук докучные цепочки, А дикий виноград, томясь в тугих узлах, До труб разбросил клейкие листочки — И молодеет старая стена… Весна! Играют девочки. Веселый детский альт Смеется и звенит без передышки. Наполнив скрежетом наглаженный асфальт, На роликах несутся вдаль мальчишки, И воробьи дерутся у окна. Весна! В витрине греется, раскинув лапы, фокс. Свистит маляр. Несут кули в ворота. Косматые слоны везут в телегах кокс, Кипит спокойная и бодрая работа… И скорбь растет, как темная волна. Весна? 1921В старом Ганновере
В грудь домов вплывает речка гулко, В лабиринте тесном и чужом Улочка кружит сквозь переулки, И этаж навис над этажом. Карлики ль настроили домишек? Мыши ль грызли узкие ходы? Черепицы острогранных вышек Тянут к небу четкие ряды. А вода бежит волнистой ртутью, Хлещет-плещет тускло-серой мутью, Мостики игрушечные спят, Стены дышат сыростью и жутью, Догорает красный виноград. Вместе с сумерками тихо В переулок проскользни: Дня нелепая шумиха Сгинет в дремлющей тени… Тускло блещет позолота Над харчевней расписной, У крутого поворота Вязь пословицы резной. Переплеты балок черных, Соты окон – вверх до крыш, А внизу, в огнях узорных, Засияли стекла ниш, — Лавки – лакомее тортов: Маски, скрипки, парики, Груды кремовых ботфортов И слоновые клыки… Череп, ломаная цитра, Кант, оптический набор… Как готическая митра, В синей мгле встает собор: У церковных стен застывших — Лютер, с поднятой рукой, Будит пафос дней уплывших Перед площадью глухой… Друга нет – он на другой планете, В сумасшедшей, горестной Москве… Мы бы здесь вдвоем теперь, как дети, Рыскали в вечерней синеве. В «Золотой Олень» вошли бы чинно, Заказали сыра и вина, И молчали б с ним под треск камина У цветного, узкого окна!.. Но вода бежит волнистой ртутью, Хлещет-плещет тускло-серой мутью. Мостики игрушечные спят. Стены дышат сыростью и жутью. Друга нет – и нет путей назад. 1922Глушь
Городок, как сон средневековый: Красных кровель резкие края, В раме улиц – даль, поля, коровы И речонки синяя струя… А октябрьский ветер реет-свищет, Завивает плащ вокруг плеча. И тоска чего-то жадно ищет Средь уютных складок кирпича. Целый день брожу неутомимо По горбатой старой мостовой. Строй домишек проплывает мимо. Фонари кивают головой. На порогах радостные дети. За дверями мир и тишина. Пышный плющ вдоль стен раскинул сети. Сверху девушка смеется из окна… За углом скелет пустого храма: Кирпичи и палка с петухом. Дремлет сад – цветная панорама, Сонно бродят гуси с пастухом. Прохожу вдоль старого погоста. Спят кресты, краснеет виноград. Жили долго – медленно и просто — Внуки их во всех дворах шумят… Машет мельница веселыми крылами, Мелет хлеб. Вдоль рощ скрипят возы. Прохожу под серыми стволами, Сквозь гирлянды вянущей лозы. Никого. Вокруг цветная осень. Тишина. Густой и прелый дух. Руки буков расцветили просинь. Тихо вьется паутинный пух… Кролик вынырнул из норки под сосною. Пятна солнца. Ласковая тень. Опускаюсь, скован тишиною, И лежу, как загнанный олень. Ветер треплет заросли ореха. Черепица рдеет за рекой. Бог, услышь! – В ответ смеется эхо. Даль зияет вечной пустотой. 1923Мираж
С девчонками Тосей и Инной В сиреневый утренний час Мы вырыли в пляже пустынном Кривой и глубокий баркас. Борта из песчаного крема. На скамьях пестрели кремни. Из ракушек гордое «Nemo»[4] Вдоль носа белело в тени. Мы влезли в корабль наш пузатый. Я взял капитанскую власть. Купальный костюм полосатый На палке зареял, как снасть. Так много чудес есть на свете! Земля – неизведанный сад… – На Яву? – Но странные дети Шепнули, склонясь: – В Петроград. Кайма набежавшего вала Дрожала, как зыбкий опал. Команда сурово молчала, И ветер косички трепал… По гребням запрыгали баки. Вдали над пустыней седой Сияющей шапкой Исаакий Миражем вставал над водой. Горели прибрежные мели, И кланялся низко камыш: Мы долго в тревоге смотрели На пятна синеющих крыш. И младшая робко спросила: «Причалим иль нет, капитан?…» Склонившись над кругом штурвала, Назад повернул я в туман. 1923Над всем
Сквозь зеленые буки желтеют чужие поля. Черепицей немецкой покрыты высокие кровли. Рыбаки собирают у берега сети для ловли. В чаще моря застыл белокрылый хребет корабля. Если тихо смотреть из травы, – ничего не случилось, Ничего не случилось в далекой, несчастной земле… Отчего же высокое солнце туманом затмилось, И холодные пальцы дрожат на поникшем челе?… Лента школьников вышла из рощи к дороге лесной, Сквозь кусты, словно серны, сквозят загорелые ноги, Свист и песни, дробясь откликаются радостно в логе, Лягушонок уходит в канаву припрыжкой смешной. Если уши закрыть и не слушать чужие слова, И поверить на миг, что за ельником русские дети — Как угрюмо потом, колыхаясь, бормочет трава, И зеленые ветви свисают, как черные плети… Мысль, не веря, взлетает над каждым знакомым селом, И кружит вдоль дорог и звенит над родными песками… Чингисхан, содрогаясь, закрыл бы ланиты руками! Словно саван белеет газета под темным стволом. Если чащей к обрыву уйти, – ничего не случилось… Море спит – переливы лучей на сквозном корабле. Может быть, наше черное горе нам только приснилось? Даль молчит. Облака в голубеющей мгле… 1923, Kölpinsee«…Здравствуй, Муза! Хочешь финик?…»
Здравствуй, Муза! Хочешь финик? Или рюмку марсалы? Я сегодня именинник… Что глядишь во все углы? Не сердись: давай ладошку, Я к глазам ее прижму… Современную окрошку, Как и ты, я не пойму. Одуванчик бесполезный, Факел нежной красоты! Грохот дьявола над бездной Надоел до тошноты… Подари мне час беспечный! Будет время – все уснем. Пусть волною быстротечной Хлещет в сердце день за днем. Перед меркнущим камином Лирой вмиг спугнем тоску! Хочешь хлеба с маргарином? Хочешь рюмку коньяку? И улыбка молодая Загорелась мне в ответ: «Голова твоя седая, А глазам – шестнадцать лет!» 1923Из цикла «Русская Помпея»
«…Прокуроров было слишком много!..»
Прокуроров было слишком много! Кто грехов Твоих не осуждал?… А теперь, когда темна дорога, И гудит-ревет девятый вал, О Тебе, волнуясь, вспоминаем, — Это все, что здесь мы сберегли… И встает былое светлым раем, Словно детство в солнечной пыли… 1923Невский
Здесь в Александровском саду Весной – пустой скамьи не сыщешь: В ленивом солнечном чаду Вдоль по дорожкам рыщешь-свищешь. Сквозь дымку почек вьется люд. Горит газон огнем бенгальским, И отдыхающий верблюд Прилег на камень под Пржевальским… Жуковский, голову склоня, Грустит на узком постаменте. Снует штабная солдатня, И Невский вдаль струится лентой. У «Александра» за стеклом Пестрят японские игрушки. Внезапно рявкнул за углом Веселый рев полдневной пушки. Мелькнуло алое манто… Весенний день – отрада взору. В толпе шинелей и пальто Плывешь к Казанскому собору: Многоколонный полукруг Колеблет мглу под темным сводом, Цветник, как пестротканый луг, Цветет и дышит перед входом… Карнизы банков и дворцов Румяным солнцем перевиты. На глади шахматных торцов Протяжно цокают копыта. У кучеров-бородачей Зады подбиты плотной ватой, А вдоль панелей гул речей И восклицаний плеск крылатый… Гостиный двор раскрыл фасад: Купить засахаренной клюквы?… Над белизной сквозных аркад На солнце золотятся буквы. Идешь-плывешь. Домой? Грешно. В канале бот мелькнул дельфином, Горит аптечное окно Пузатым голубым графином. Вот и знакомый, милый мост: С боков темнеют силуэты — Опять встают во весь свой рост Все те же кони и атлеты… К граниту жмется строй садков, Фонтанка даль осеребрила. Смотри – и слушай гул подков, Облокотившись на перила… Гремят трамвайные звонки, Протяжно цокают копыта, — Раскинув ноги, рысаки Летят и фыркают сердито. 1922Гостиный двор
Как прохладно в гостиных рядах! Пахнет нефтью, и кожей, И сырою рогожей… Цепи пыльною грудой темнеют на ржавых пудах, У железной литой полосы Зеленеют весы Стонут толстые голуби глухо, Выбирают из щелей овес… Под откос, Спотыкаясь, плетется слепая старуха, А у лавок, под низкими сводами стен У икон янтареют лампадные чашки, И купцы с бородами до самых колен Забавляются в шашки. 1921, ПсковВ Одессе
Вдоль деревянной длинной дамбы Хвосты товарных поездов. Тюки в брезенте, словно ямбы, Пленяют четкостью рядов. Дымят гиганты-пароходы, Снуют матросы и купцы. Арбузной коркой пахнут воды — И зыбь, и блеск во все концы. На волнорезе так пустынно… Чудак в крылатке парусинной Снимает медленно с крючка Вертляво-скользкого бычка. Всю гавань тихо и лениво Под солнцем добрым обойдешь… Воркуют голуби учтиво, Босяк храпит в тени рогож. Кадит корицей воздух летний… Глазеешь на лихой народ И выбираешь, как трехлетний, Себе по вкусу пароход. Вперед по лестнице гигантской! Жара бросает в пот цыганский, Акаций пыльные ряды С боков свергаются в сады. Дополз до памятника «Дюку»… День добрый, герцог Ришелье! Щитком к глазам подносишь руку: Спит море – синее колье… В ребре средь памятника – бомба, Жужжит кольцом цветник детей, И грек, исполненный апломба, Раскрыл, пыхтя, лоток сластей. Сажусь у лестницы на кладку, — Мороженщик снял с круга кадку. Сквозь Николаевский бульвар Плывет змея беспечных пар. Голландский шкипер белоснежный Склонил к Кармен одесской лоб. Взлетает смех, как жемчуг нежный, Играет палкой местный сноб, Горит над жирным турком феска, Студент гарцует средь девиц… Внизу среди морского блеска Чернь пароходных верениц… Казаки, статные, как кони, Кружком расселись в павильоне… Урядник грузен, как бугай. Запели… Эх, не вспоминай! 1923Зима
I
Над черной прорубью дымится сизый пар. Под валенками снег шипит и тает. В далекой деревушке Жучка лает, А солнце – алый шар! Пойдем на остров… Пышный и седой, В озерной белизне он спит глубоко, Блестя заиндевевшею осокой Над скованной водой…II
Елки – беленькие свечи. Здравствуй, дуб широкоплечий, Очарованный старик! Как живешь? Озяб? Еще бы! У пяты – бугром сугробы, Над челом – седой парик… Ветер лютый и бесстыжий Шелестит листвою рыжей, С неба сыплется снежок… Пусть… Весна не за горами: Пестроглазыми цветами Закудрявится лужок, Понатужась, лопнут почки, И зеленые комочки Крикнут радостно: «Пора!» Не ворчи… Ведь я терплю же, У меня беда похуже: Видишь – в валенке дыра?III
Если взрыть снежок под елкою у кочки, Под навесом зимних дымчатых небес Ты увидишь чудо из чудес: На бруснике изумрудные листочки! Если их к щеке прижать нетерпеливо, О, как нежен влажный их атлас! Словно губы матери счастливой, Перед сном касавшиеся нас… Иней все березы запушил, Вербы в белых-белых пышных сетках… Спит зима на занесенных ветках, Ветер крылья светло-синие сложил… Горсть брусничных веток я связал в пучок, Дома их поставлю в банку из-под меда — Пусть за дверью воет непогода: На моем столе – весны клочок…IV
«Тишина!» – шепнула белая поляна. «Тишина!» – вздохнула, вея снегом, ель. За стволами зыбь молочного тумана Окаймила пухлую постель. Переплет теней вдоль снежного кургана… Хлопья медленно заводят карусель, За опушкой – тихая метель, В небе – мутная, безбрежная нирвана… «Тишина!» – качаясь, шепчет ель. «Тишина!» – вздыхает белая поляна.V
Домой! Через озеро, в пышном лиловом тумане… Над синим холмом расцвела на окошке свеча. Вдали убегают, болтая бубенчиком, сани, И белые мухи садятся гурьбой вдоль плеча… Под снегом и льдом дышат сонные, тихие щуки. Над прорубью в дымке маячит безмолвный рыбак, А ветер играет и дует в иззябшие руки И с визгом уносит в снега перекличку собак… Там, дома, добуду в печурке горячих картошек, Подую на пальцы – и с солью зернистою в рот, Раздую лучину… В сенях из-под старых лукошек Достану салазки – и свистну у наших ворот! Соседский Ильюшка примчится веселою рысью, — Ох, трудно в тулупчик рукою попасть на ходу, Я сяду, он сядет – и с холмика тропкою лисьей Помчимся, помчимся, помчимся, как птицы к пруду!.. 1921Бал в женской гимназии
I
Пехотный Вологодский полк Прислал наряд оркестра. Сыч-капельмейстер, сивый волк, Был опытный маэстро. Собрались рядом с залой в класс, Чтоб рокот труб был глуше. Курлыкнул хрипло медный бас, Насторожились уши. Басы сверкнули вдоль стены, Кларнеты к флейтам сели, — И вот над мигом тишины Вальс томно вывел трели… Качаясь, плавные лады Вплывают в зал лучистый, И фей коричневых ряды Взметнули гимназисты. Напев сжал юность в зыбкий плен, — Что в мире вальса краше? Пусть там сморкаются у стен Папаши и мамаши… Не вся ли жизнь хмельной поток Над райской панорамой? Поручик Жмых пронесся вбок С расцветшей классной дамой. У двери встал, как сталактит, Блестя иконостасом, Сам губернатор Фан-дер-Флит С директором Очкасом: Директор – пресный, бритый факт, Гость – холодней сугроба, Но правой ножкой тайно в такт Подрыгивают оба. В простенке – бледный гимназист, Немой Монблан презренья. Мундир до пяток, стан, как хлыст, А в сердце лава мщенья. Он презирает потолок, Оркестр, паркет и люстры, И рот кривится поперек Усмешкой Заратустры. Мотив презренья стар как мир… Вся жизнь в тумане сером: Его коричневый кумир Танцует с офицером!II
Антракт. Гудящий коридор, Как улей, полон гула. Напрасно классных дам дозор Скользит чредой сутулой. Любовь влетает из окна С кустов ночной сирени, И в каждой паре глаз весна Поет романс весенний. Вот даже эти, там и тут, Совсем еще девчонки, Ровесников глазами жгут И теребят юбчонки. Но третьеклассники мудрей, У них одна лишь радость: Сбежать под лестницу скорей И накуриться в сладость… Солдаты в классе, развалясь, Жуют тартинки с мясом. Усатый унтер спит, склонясь, Над геликоном-басом. Румяный карлик-кларнетист Слюну сквозь клапан цедит. У двери – бледный гимназист И розовая леди. «Увы! У женщин нет стыда… Продать за шпоры душу!» Она, смеясь, спросила: «Да?», Вонзая зубы в грушу… О, как прекрасен милый рот Любимой гимназистки, Когда она, шаля, грызет Огрызок зубочистки! В ревнивой муке смотрит в пол Отелло-проповедник, А леди оперлась о стол, Скосив глаза в передник. Не видит? Глупый падишах! Дразнить слепцов приятно. Зачем же жалость на щеках Зажгла пожаром пятна? Но синих глаз не укротить, И сердце длит причуду. «Куда ты?» – «К шпорам». – «Что за прыть?» — «Отстань! Хочу и буду».III
Гремит мазурка – вся призыв. На люстрах пляшут бусы. Как пристяжные, лбы склонив, Летит народ безусый. А гимназистки-мотыльки, Откинув ручки влево, Как одуванчики легки, Плывут под плеск напева. В передней паре дирижер, Поручик Грум-Борковский, Вперед плечом, под рокот шпор Беснуется чертовски. С размаху на колено встав, Вокруг обводит леди И вдруг, взметнувшись, как удав, Летит, краснее меди. Ресницы долу опустив, Она струится рядом, Вся огнедышащий порыв С лукаво-скромным взглядом… О ревность, раненая лань! О ревность, тигр грызущий! За борт мундира сунув длань, Бледнеет классик пуще. На гордый взгляд – какой цинизм! — Она, смеясь, кивнула… Юнец, кляня милитаризм, Сжал в гневе спинку стула. Домой?… Но дома стук часов, Белинский над кроватью, И бред полночных голосов, И гул в висках… Проклятье! Сжав губы, строгий, словно Дант, Выходит он из залы. Он не армейский адъютант, Чтоб к ней идти в вассалы!.. Вдоль коридора лунный дым И пар неясных пятна, Но пепиньерки мчатся к ним И гонят в зал обратно. Ушел бедняк в пустынный класс, На парту сел, вздыхая, И, злясь, курил там целый час Под картою Китая.IV
С Дуняшей, горничной, домой Летит она, болтая. За ней вдоль стен, укрытых тьмой, Крадется тень худая… На сердце легче: офицер Остался, видно, с носом. Вон он, гремя, нырнул за сквер Нахмуренным барбосом. Передник белый в лунной мгле Змеится из-под шали. И слаще арфы – по земле Шаги ее звучали… Смешно! Она косится вбок На мрачного Отелло. Позвать? Ни-ни. Глупцу – урок, Ей это надоело! Дуняша, юбками пыля, Склонясь, в ладонь хохочет, А вдоль бульвара тополя Вздымают ветви к ночи. Над садом – перья зыбких туч. Сирень исходит ядом. Сейчас в парадной щелкнет ключ, И скорбь забьет каскадом… Не он ли для нее вчера Выпиливал подчасник? Нагнать? Но тверже топора Угрюмый восьмиклассник: В глазах – мазурка, адъютант, Вертящиеся штрипки, И разлетающийся бант, И ложь ее улыбки… Пришли. Крыльцо, как темный гроб, Как вечный склеп разлуки. Прижав к забору жаркий лоб, Сжимает классик руки. Рычит замок, жестокий зверь, В груди – тупое жало. И вдруг… толкнув Дуняшу в дверь, Она с крыльца сбежала. Мерцали блики лунных струй И ширились все больше. Минуту длился поцелуй! (А может быть, и дольше.) 1922Репетитор
Тане Львовой захотелось в медицинский институт. Дядя нанял ей студента, долговязого, как прут. Каждый день в пустой гостиной он, крутя свой длинный ус, Объяснял ей imperfectum[5] и причастия на «us». Таня Львова, как детеныш, важно морщила свой нос И, выпячивая губки, отвечала на вопрос. Но порой, борясь с дремотой, вдруг лукавый быстрый взгляд Отвлекался от латыни за окно, в тенистый сад… Там, в саду, так много яблок на дорожках и в траве: Так и двинула б студента по латинской голове! 1922Пушкин
Над столом в цветной, парчовой раме Старший брат мой, ясный и большой, Пушкин со скрещенными руками — Светлый щит над темною душой… Наша жизнь – предсмертная отрыжка… Тем полней напев кастальских струй! Вон на полке маленькая книжка, — Вся она, как первый поцелуй. На Литве, на хуторе «Березки», Жил рязанский беженец Федот. Целый день строгал он, молча, доски, Утирая рукавами пот. В летний день, замученный одышкой (Нелегко колоть дрова в жару), Я зашел, зажав топор под мышкой, Навестить его и детвору. Мухи все картинки засидели, Хлебный мякиш высох и отстал. У окна близ образа висели Пушкин и турецкий генерал. Генерал Федоту был известен, Пушкин, к сожаленью, незнаком. За картуз махорки (я был честен) Я унес его, ликуя, в дом. Мух отмыл, разгладил в старой книжке… По краям заискрилась парча — И вожу с собою в сундучишке, Как бальзам от русского бича. Жил ведь он! Раскрой его страницы, Затаи дыханье и читай: Наша плаха – станет небылицей, Смолкнут стоны, стихнет хриплый лай… Пусть Демьяны, новый вид зулусов, Над его страной во мгле бренчат — Никогда, пролеткультурный Брюсов, Не вошел бы он в ваш скифский ад! Жизнь и смерть его для нас, как рана, Но душа спокойна за него: Слава Богу! Он родился рано, Он не видел, он не слышал ничего… 1920Памяти Л. Н. Андреева
Давно над равниною русской, как ветер печальный и буйный, Кружил он взволнованной мыслью, искал, и томился, и звал. Не верил проклятому быту и, словно поток многоструйный, Срываясь с утесов страданья, и хрипло, и дико рыдал. С бессонною жаждой и гневом стучался он в вечные двери, И сталкивал смерчи безверья, и мучил себя и других… Прекрасную «Синюю Птицу» терзают косматые звери, Жизнь – черная смрадная яма, костер из слепых и глухих. Мы знали «пугает – не страшно», но грянуло грозное эхо. И, словно по слову пророка, безумный надвинулся шквал: Как буря, взметнулись раскаты кровавого «Красного Смеха», Костлявый и жуткий «Царь-Голод» с «Анатэмой» начал свой бал. С распятым замученным сердцем одно только слово «Россия», Одно только слово «спасите» кричал он в свой рупор тоски, Кричал он в пространство, метался, смотрел, содрогаясь, на Вия, И сильное, чуткое сердце, устав, разорвалось в куски… Под сенью финляндского бора лежит он печально и тихо, Чужой и холодной землею забиты немые уста. Хохочет, и воет, и свищет безглазое русское Лихо, Молчит безответное небо, – и даль безнадежно пуста. 1920«…Ах, зачем нет Чехова на свете!..»
Ах, зачем нет Чехова на свете! Сколько вздорных – пеших и верхом, С багажом готовых междометий Осаждало в Ялте милый дом… День за днем толклись они, как крысы, Словно был он мировой боксер. Он шутил, смотрел на кипарисы И, прищурясь, слушал скучный вздор. Я б тайком пришел к нему иначе: Если б жил он, – горькие мечты! — Подошел бы я к решетке дачи Посмотреть на милые черты. А когда б он тихими шагами Подошел случайно вдруг ко мне, — Я б, склонясь, закрыл лицо руками И исчез в вечерней тишине. 1922Стихотворения 1908–1914 годов, не вошедшие в книги
Иногда
Муть разлилась по Неве… Можно мечтать и любить. Бесы шумят в голове, — Нечем тоску напоить. Баржи серы, солнца – нет – пляшет газа бледный свет, Ветер, острый и сырой, скучно бродит над водой, Воды жмутся и ворчат и от холода дрожат. Выйди на площадь, кричи: – Эй, помогите, тону! Глупо и стыдно. Молчи И опускайся ко дну. Дождь частит. Темно, темно. Что в грядущем – все равно, Тот же холод, тот же мрак – все не то и все не так, Яркий случай опоздал – дух не верит и упал. Дома четыре стены — Можешь в любую смотреть. Минули лучшие сны, Стоит ли тлеть? 1908Из дневника выздоравливающего
После каждой привычно-бессмысленной схватки, Где и я и противник упрямы, как бык, Так пронзительно ноют и стынут лопатки И щемит словоблудный, опухший язык. Мой противник и я квартируем в России, И обоим нам скучно, нелепо, темно. Те же самые вьюги и черные Вии По ночам к нам назойливо бьются в окно. Отчего же противник мой (каждый день новый) Никогда не согласен со мной – и кричит? Про себя я решаю, что он безголовый, Но ведь он обо мне то же самое мнит? О, как жалко погибших навеки мгновений, И оторванных пуговиц в споре крутом! Нынче ж вечером, только застынут ступени, Я запру свои двери железным болтом. Я хочу, чтобы мысль моя тихо дозрела, Я люблю одиночество боли без слов. Колотись в мои двери рукой озверелой И разбей свои руки ленивые в кровь! Не открою. Спорь с тумбой в пустом переулке. Тот, кто нужен, я знаю, ко мне не придет. И не надо. Я с чаем сам съем свои булки… Тот, кто нужен, пожалуй, в Нью-Йорке живет. Беспокойный противник мой (каждый день новый), Наконец-то я понял несложный секрет — Может быть, ты и я не совсем безголовы, Но иного пути, кроме этого, нет: Надо нам повторить все ошибки друг друга, Обменяться печенкой, родней и умом, Чтобы выйти из крепко-закрытого круга И поймать хоть одно отраженье в другом. И тогда… Но тогда ведь я буду тобою, Ты же мной – и опять два нелепых борца… О, видали ли вы, чтоб когда-нибудь двое Понимали друг друга на миг до конца?! После каждой привычно-бессмысленной схватки, Исказив со Случайным десяток идей, Я провижу… устройство пробирной палатки Для отбора единственно-близких людей. 1910Опять и опять
(Элегия)
Нет впечатлений! Желтые обои Изучены до прошлогодних клякс. Смириться ль пред навязанной судьбою, Иль ржать и рваться в битву, как Аякс? Но мельниц ветряных ведь в городе не сыщешь (И мы умны, чтоб с ними воевать), С утра до вечера – зеваешь, ходишь, свищешь, Потом, устав, садишься на кровать… Читатель мой! Несчастный мой читатель, Скажи мне, чем ты жил сегодня и вчера? Я не хитрец, не лжец, и не предатель — И скорбь моя, как Библия, стара. Но ты молчишь, молчишь, как институтка: И груб и нетактичен мой вопрос. Я зол, как леопард, ты кроток, словно утка, Но результат один: на квинту меч и нос! Привыкли к Думе мы, как к застарелой грыже, В слепую ночь слепые индюки Пусть нас ведут… Мы головы все ниже Сумеем опускать в сетях родной тоски. И, сидя на мели, в негодованье чистом, Все будем повторять, что наша жизнь дика, Ругая Меньшикова наглым шантажистом И носом в след его все тыча, как щенка. Но, к сожаленью, он следит ведь ежедневно, И господа его не менее бодры… Что лучше: нюхать гниль и задыхаться гневно, Иль спать без просыпа на дне своей норы? Позорна скорбь! Мне стыдно до безумья, Что солнце спряталось, что тучам нет конца, — Но перед истиной последнего раздумья Мне не поднять печального лица. 1910«…Крутя рембрандтовской фигурой…»
Крутя рембрандтовской фигурой, Она по берегу идет. Слежу, расстроенный и хмурый, А безобразники-амуры Хохочут в уши: «Идиот!» Ее лицо белее репы, У ней трагичные глаза… Зачем меня каприз нелепый Завлек в любовные вертепы — Увы, не смыслю ни аза! Она жена, – и муж в отлучке. При ней четыре рамоли, По одному подходят к ручке — Я не причастный к этой кучке, Томлюсь, как барка на мели. О лоботряс! Еще недавно Я дерзко женщин презирал, Не раз вставал в борьбе неравной, Но здесь, на даче, слишком явно — Я пал, я пал, я низко пал! Она зовет меня глазами… Презреть ли глупый ритуал? А вдруг она, как в модной драме, Всплеснет атласными руками И крикнет: Хлыщ! Щенок! Нахал!! Но пусть… Хочу узнать воочью: «Люблю тебя и так и сяк, Люблю тебя и днем и ночью…» Потом прибегну к многоточью, Чтоб мой источник не иссяк. Крутя рембрандтовской фигурой, Она прошла, как злая рысь… И, молчаливый и понурый, Стою на месте, а амуры Хохочут в уши: обернись! 1908, ГунгербургКниги
Есть бездонный ящик мира — От Гомера вплоть до нас. Чтоб узнать хотя б Шекспира, Надо год для умных глаз. Как осилить этот ящик? Лишних книг он не хранит. Но ведь мы сейчас читаем всех, кто будет позабыт. Каждый день выходят книги: Драмы, повести, стихи — Напомаженные миги Из житейской чепухи. Урываем на одежде, расстаемся с табаком И любуемся на полке каждым новым корешком. Пыль грязнит пуды бумаги. Книги жмутся и растут. Вот они, антропофаги Человеческих минут! Заполняют коридоры, спальни, сени, чердаки, Подоконники, и стулья, и столы, и сундуки. Из двухсот нужна одна лишь — Перероешь, не найдешь И на полки грузно свалишь Драгоценное и ложь. Мирно тлеющая каша фраз, заглавий и имен: Резонерство, смех и глупость, нудный случай, яркий стон… Ах, от чтенья сих консервов Горе нашим головам! Не хватает бедных нервов, И чутье трещит по швам. Переполненная память топит мысли в вихре слов… Даже критики устали разрубать пуды узлов. Всю читательскую лигу Опросите: кто сейчас Перечитывает книгу, Как когда-то… много раз? Перечтите, если сотни быстрой очереди ждут! Написали – значит, надо. Уважайте всякий труд! Можно ль в тысячном гареме Всех красавиц полюбить? Нет, нельзя. Зато со всеми Можно мило пошалить. Кто «Онегина» сегодня прочитает наизусть? Рукавишников торопит. «Том двадцатый». Смех и грусть! Кто меня за эти строки Митрофаном назовет, Понял соль их так глубоко, Как хотя бы… кашалот. Нам легко… Что будет дальше? Будут вместо городов Неразрезанною массой мокнуть штабели томов. 1910Бездарность
Где скользну по Мопассану, Где по Пушкину пройдусь. Закажите! От романа До стихов за все берусь. Не заметите, ей-богу. Нынче я совсем не та: Спрячу ноль в любую тогу, Слог, как бисер… Красота! Научилась: что угодно? Со смешком иль со слезой, По старинке или модно, С гимном свету иль с козой? От меня всех больше проку: На Шекспирах не уйти, — Если надо выжму к сроку Строк пудов до десяти. Я несложный путь избрала, Цех мой прост, как огурец: «Оглавление – начало, Продолжение – конец». У меня одних известных В прейскуранте сто страниц: Есть отдел мастито-пресных, Есть марк-твены из тупиц. Бойко-ровно-безмятежно… Потрафляют и живут. Сотни тысяч их прилежно Вместо семечек грызут. Храма нет-с, и музы – глупость, Пот и ловкость – весь багаж: С ним успех, забывши скупость, Дал мне «имя» и тираж. Научилась. Без обмана: Пол-народ-смерть-юмор-Русь… Закажите! От романа До стихов за все берусь. 1912Художнику
Если ты еще наивен, Если ты еще живой, Уходи от тех, кто в цехе, Чтобы был ты только свой. Там, где шьют за книгой книгу, Оскопят твой дерзкий дух, — Скормишь сердце псу успеха И охрипнешь, как петух… Убегай от мутных споров. Чтó тебе в чужих речах О теченьях, направленьях И артельных мелочах? Реализм ли? Мистицизм ли? Много «измов». Ты – есть ты. Пусть кто хочет ставит штемпель На чело своей мечты. Да и нынче, что за споры? Ось одна, уклон один: Что берет за лист Андреев? Ест ли ящериц Куприн? Если ж станет слишком трудно И захочется живых, Заведи себе знакомых Средь пожарных и портных. Там по крайней мере можно Не томиться, не мельчать, Добродушно улыбаться И сочувственно молчать. 1913«…Мы сжились с богами и сказками…»
Мы сжились с богами и сказками, Мы верим в красивые сны, Мы мир разукрасили сказками И душу нашли у волны, И ветру мы дали страдание, И звездам немой разговор, Все лучшее – наше создание Еще с незапамятных пор. Аскеты, слепцы ли, безбожники — Мы ищем иных берегов, Мы все фантазеры-художники И верим в гармонию слов. В них нежность тоски обаятельна, В них первого творчества дрожь… Но если отвлечься сознательно И вспомнить, что все это ложь, Что наша действительность хилая — Сырая, безглазая мгла, Где мечется тупость бескрылая В хаóсе сторукого зла, Что боги и яркие сказки И миф воскресенья Христа — Тончайшие, светлые краски, Где прячется наша мечта, — Тогда б мы увидели ясно, Что дальше немыслимо жить… Так будем же смело и страстно Прекрасные сказки творить! 1908Весенние слова
У поэта только два веленья: Ненависть – любовь, Но у ненависти больше впечатлений, Но у ненависти больше диких слов! Минус к минусу цепляется ревниво, Злой итог бессмысленно растет. Что с ним делать? Прятаться трусливо? Или к тучам предъявлять безумный счет? Тучи, хаос, госпожа Первопричина! Черт бы вас побрал. Я, лишенный радости и чина, Ненавидеть бешено устал. Есть в груди так называемое сердце, И оно вопит, а пищи нет. Пища ль сердцу желчь и уксус с перцем? Кто украл мой нéктар и шербет?! Эй, душа, в трамвайной потной туше, Ты, что строчки эти медленно жуешь! Помнишь, как мы в детстве крали груши И сияли, словно новый грош? Папа с мамой нам дарили деньги, Девушки – «догробную любовь», Мы смотрели в небо (к черту рифму) И для нас горели облака!.. О, закройся серою газетой, Брось Гучкова, тихо унесись, Отзовись на острый зов поэта И в перчатку крепко прослезись… Пусть меня зовут сентиментальным (Не имею ложного стыда), Я хочу любви жестоко и печально, Я боюсь тупого «никогда». Я хочу хоть самой куцей веры… Но для нас уж дважды два – не пять, Правда ткет бесстрастно невод серый И спускается на голову опять. Лезет в рот и в нос, в глаза и в уши (У поэта – сто ушей и глаз) — В утешенье можешь бить баклуши И возить возы бескрылых фраз: «Отчужденность», «переходная эпоха» — Отчего, к чему, бухгалтеры тоски?! Ах, еще во времена Еноха Эту мудрость знали до доски. Знали. Что ж – иль меньше стало глупых? Иль не мучат лучших и детей?! О, не прячьте истину в скорлупы, Не высиживайте тусклых штемпелей! Вот сейчас весна румянит стены. Стоит жить. Не ради ваших фраз — Ради лета, леса и вербены, Ради Пушкина и пары женских глаз, Ради пестрых перемен и настроений, Дальних встреч и бледных звезд ночей. Ради пройденных с проклятием ступеней, Ради воска тающих свечей — Вот рецепт мой старый и хваленый, Годный для людей и лошадей… В чем виновен тот, кто любит клены И не мучит лучших и детей? 1910Глаза!
У моей любимой Любы Удивительные зубы, Поразительные губы И точеный, гордый нос. Я борюсь с точеным носом, Зубы ставлю под вопросом, Губы мучу частым спросом И целую их взасос. Защищаюсь зло и грубо, О, за губы и за зубы Не отдам уютной шубы Одиночества и сна! Не хочу, хочу и трушу… Вновь искать «родную душу» — И найти чужую тушу, Словно бочку без вина? Но взгляну в глаза – и amen![6] Вот он темный старый пламень… Бедный, бедный мой экзамен! Провалился и сдаюсь. Вновь, как мальчик, верю маю И над пропастью по краю Продвигаюсь и сгораю, И ругаюсь, и молюсь. 1910Надо
Надо быть свободным и холодным, Надо стиснуть зубы и смотреть, Как, топчась в труде неблагородном, Хамы ткут бессмысленную сеть. Надо зло и гордо подыматься, Чтоб любовь и жалость сохранить, На звериный рев не откликаться И упорно вить свою живую нить… Надо гневно помнить, встав с постели, Что кроты не птицы, а кроты, Что на стоптанных, заплеванных панелях Никогда не вырастут цветы. Надо знать, что жизнь не вся убита, Что она пока еще моя, Что под щепками разбитого корыта Спит тоскливая, ленивая змея… Надо помнить в дни тоски и лая, Что вовеки – то, что станет мной, Из земли не вылезет, вздыхая, Опьяняться солнцем и весной. Разве видел мир наш от Адама Хоть один свободный, полный час? Декорации меняются, но драма Той же плетью бьет теперь по нас. Слишком много подло-терпеливых, Слишком много глупых, злых, чужих, Слишком мало чутко-справедливых, Слишком мало умных и живых! Только нам еще больней, чем предкам: Мы сложней, – и жажда все растет, Города разбили нас по клеткам, Стон постыл и нарастает счет. Кто покажет мне над этой свалкой волчьей Мир и свет, сверкающий вдали? Перед ним почтительно и молча Преклонюсь, ликуя, до земли. Но пророки спрятались в программы… Закрываю уши и глаза И, смеясь, карабкаюсь из ямы, А в душе холодная гроза. Надо быть свободным и победным, Надо жадно вить живую нить… Чтоб замученным, испуганным и бледным Хоть цветную сказку подарить. 1910У постели
Не тоска, о нет, не тоска — Ведь, давно притупилась тоска И посеяла в грудах песка Безнадежно-бесплодный ноль. Не тоска, о нет, не тоска! И не гнев, не безумный гнев — Гнев, как пламя, взволнован и жгуч, Гнев дерется, как раненый лев, И вздымает свой голос до туч… Нет, не гнев, не безумный гнев! Иль усталость? Сон тех, кто сражен? Малокровие нищей души, Что полезла в огне на рожон И добыла в добычу шиши? Но ведь ты и не лезь на рожон. Это лень! Это мутная лень, Словно плесень прилипнув к мозгам, Вяло душит сегодняшний день, Повернувшись спиною к врагам. Это лень, это грязная лень! «Все равно!» – не ответ, берегись! «Жизнь без жизни» – опасный девиз. Кто не рвется в свободную высь, Неизбежно свергается вниз… Берегись, берегись, берегись! Быть живым драгоценней всего… Пусть хоть гордость разбудит тебя. Если спросишь меня: для кого? Я скажу: для своих и себя. Быть живым драгоценней всего! 1911В немецком кабаке
Кружки, и люди, и красные столики. Весело ль? Вдребезги – душу отдай! Милые немцы смеются до колики, Визги, и хохот, и лай. Мирцли, тирольская дева! В окружности Шире ты сосен в столетнем лесу! Я очарован тобой до недужности. Мирцли! Боюсь не снесу… Песни твои добродушно-лукавые Сердце мое растопили совсем, Мысленно плечи твои величавые Жадно и трепетно ем. Цитра под сильной рукой расходилась, Левая ножка стучит, Где ты искусству такому училась? Мирцли глазами сверлит… Влезли студенты на столики парами, Взвизгнули, подняли руки. Матчиш! Эйа! Тирольцы взмахнули гитарами. Крепче держись – улетишь!.. Мирцли! Спасибо, дитя, за веселие! Поздно. Пойду. Головой не качай — В пиво не ты ль приворотное зелие Всыпала мне невзначай? 1910, ГейдельбергРодной пейзаж
Умирает снег лиловый. Видишь – сумерки пришли: Над унылым сном земли Сизых туч хаос суровый Надвигается вдали. На продрогшие осины Ветер северный летит, Хмуро сучья шевелит. Тени холодны и длинны. Сердце стынет и болит. О печальный трепет леса, Переполненного тьмой! Воздух, скованный зимой… С четырех сторон завеса Покоренности немой… На поляне занесенной Пятен темные ряды — Чьи-то бедные следы, Заметает ветер сонный И свистит на все лады. Кто искал в лесу дорогу? И нашел ли? Лес шумит. Снег тенями перевит. Сердце жалуется Богу… Бог не слышит. Ночь молчит. ‹1910›В степи
Облаков оранжевые пряди Взволновали небо на закате. В ароматной, наплывающей прохладе Зазвенел в душе напев крылатый. Все темнее никнущие травы, Все багряней солнечное око. Но, смиряя пыл небесной лавы, Побежали сумерки с востока. Я один. Поля необозримы. В камышах реки кричат лягушки. На холмах чертой неуловимой Засыпают дальние опушки. Набегает ветер за плечами. Задымились голубые росы. Под последними печальными лучами Меркнет облако и голые откосы. Скрип шагов моих чужой и странно звонкий. В темноте теряется дорога. И на небе, правильный и тонкий, Смотрит месяц холодно и строго. 1910Мороз
На деревьях и кустах Кисти страусовых перьев. Банда бойких подмастерьев Лихо мчится на коньках. Прорубь в снежной пелене. По бокам синеют глыбы. Как дрожат от стужи рыбы В мертвой, черной глубине! Пахнет снегом и зимой. В небе дымчатый румянец. Пятки пляшут дробный танец И, хрустя, бегут домой. На усах хрустальный пух, У ресниц сквозные стрелы. Сквозь мираж заиндевелый Реют стаи белых мух. Растоплю, дрожа, камин. Как свирель к устам венгерца, Пусть прильнет к печали сердца Яркий, угольный кармин… Будут яблоки шипеть На чугунной сковородке, А в заслонке ветер кроткий, Отогревшись, будет петь. И в сенях, ворвавшись в щель Из-под мутной снежной крыши, Засвистит октавой выше Одуревшая метель… Ты придешь? Приди, мой друг, — Обратим назло природе, Людям, року и погоде, Зиму – в лето, север – в юг! 1911, ПетербургОсенний день
I
Какая кротость умиранья! На грядках иней, словно пух. В саду цветное увяданье И пышных листьев прелый дух. Река клубится серым паром. Хрустит промерзший старый плот. Далеким радостным пожаром Зарделись клены у болот. Заржавел дуб среди площадки. Скрутились листья, темен ствол. Под ним столпились в беспорядке Скамейки голые и стол. Ель в небе легче кипариса. Всем осень – ей зеленый взлет… На алых зернах барбариса Морозно-матовый налет. Цветы поникли на дорожки, На лепестках комки земли. В узлах душистого горошка Не все бутоны расцвели… В аллеях свежий ветер пляшет. То гнет березы, как рабов, То, утомясь, веревкой машет У гимнастических столбов. В вершинах робкий шепот зова И беспокойный смутный бег. Как странно будет видеть снова Пушистый белый-белый снег…II
Всплески весел и скрипы уключин — Еле слышные, жалкие скрипы. Под кустами ряд черных излучин Заткан желтыми листьями липы. Сколько листьев… Под выгнутой ивой Как лилово-румяные пятна, Стынут в лоне воды сиротливой. Небо серо, и даль непонятна. Дымный дождик вкруг лодки запрыгал, Ветром вскинуло пыль ледяную, И навес из серебряных игол Вдруг забился о гладь водяную. За дождем чуть краснели рябины — Вырезные поникшие духи, И безвольно качались осины, Как худые, немые старухи. Проплыла вся измокшая дача. Черный мост перекинулся четко. Гулко в доски затопала кляча, И, дрожа, закивала пролетка. Под мостом сразу стало уютней: С темных бревен вниз свесилась пакля, Дождь гудел монотонною лютней, Даль в пролете, как фон для спектакля. Фокс мой, к борту прижав свои лапы, Нюхал воздух в восторженной позе. Я сидел неподвижно без шляпы И молился дождю и березе. 1912Воробьиная элегия
У крыльца воробьи с наслаждением Кувыркаются в листьях гнилых… Я взираю на них с сожалением, И невольно мне страшно за них: Как живете вы так, без правительства, Без участков и без податей? Есть у вас или нет право жительства? Как без метрик растите детей? Как воюете без дипломатии, — Без реляций, гранат и штыков, Вырывая у собственной братии Пух и перья из бойких хвостов? Кто внедряет в вас всех просвещение И основы моралей родных? Кто за скверное вас поведение Исключает из списка живых? Где у вас здесь простые, где знатные? Без одежд вы так пресно равны… Где мундиры торжественно-ватные? Где шитье под изгибом спины? Нынче здесь вы, а завтра в Швейцарии, — Без прописки и без паспортов Распеваете вольные арии Миллионом незамкнутых ртов… Искрошил воробьям я с полбублика. Встал с крыльца и тревожно вздохнул: Это даже, увы, не республика, А анархии дикий разгул! Улетайте… Лихими дворянами В корне зло решено ведь пресечь — Не сравняли бы вас с хулиганами И не стали б безжалостно сечь! 1913Стихотворения, написанные в эмиграции и не входившие в прижизненные издания (1920–1932)
Цикл «Русская печаль»
И. А. Бунину
На виселицы срублены березы. Слепой ордой затоптаны поля — И только в книгах пламенные розы, И только в книгах – русская земля! Поэт-художник! Странная Жар-Птица Из той страны, где только вой да пни… Оазис ваш, где все родное снится, Укроет многих в эти злые дни. Спасибо вам за строгие напевы, За гордое служенье красоте… В тисках растущего, безвыходного гнева, Как холодно теперь на высоте! Шагать по комнате, к окну склоняться молча, Смотреть на мертвые, пустые облака… Не раз, не раз, гася приливы желчи, Дрожала ваша скорбная рука… Когда падет тупое царство низких, — Для всех оставшихся – разбитых и больных — Вы будете одним из самых близких, Одним из самых близких и родных… 1920, октябрьСкорбная годовщина
Толстой! Это слово сегодня так странно звучит. Апостол Добра, пламеневшее жалостью слово… На наших погостах средь многих затоптанных плит, Как свежая рана, зияет могила Толстого. Томясь и страдая, он звал нас в Грядущую Новь, Слова отреченья и правды сияли над каждым — Увы! Закрывая лицо, отлетела от мира Любовь И темная месть отравила томление жажды… Толстой! Это слово сегодня так горько звучит. Он истину больше любил, чем себя и Россию… Но ложь все надменней грохочет в украденный щит И люди встречают «Осанной» ее, как Мессию. Что Истина? Трепетный факел свободной души, Исканья тоскующим сердцем пути для незрячих… В пустые поля он бежал в предрассветной тиши, И ветер развеял всю горечь призывов горячих. Толстой! Это имя сегодня так гордо звучит. Как имя Платона, как светлое имя Сократа — Для всех на земле – итальянец он, немец иль бритт — Прекрасное имя Толстого желанно и свято. И если сегодня у мирных чужих очагов Все русское стало как символ звериного быта, — У родины духа, – бескрайняя ширь берегов И Муза Толстого вовеки не будет забыта… Толстой! Это имя сегодня так свято звучит. Усталость над миром раскинула саван суровый… Нет в мире иного пути: Любовь победит! И Истина встанет из гроба и сбросит оковы. Как путники в бурю, на темном чужом корабле Плывем мы в тумане… Ни вести, ни зова… Сегодня мы все на далекой, родимой земле — У тихой могилы Толстого… 1920Памяти А. Блока
В аду томился серафим. Кровавый свод висел над ним… Чтоб боль отчаянья унять, Он ад пытался оправдать. Но странно: темная хвала Кипела гневом, как хула… Он смолк. На сломанном крыле Дрожали тени в дымной мгле. У врат – безжалостный дракон. Мечта – распята, воля – сон… Неспетых песен скорбный рой Поник над арфою немой. Уснул… На кроткое чело Сиянье светлое легло. Все громче плач, все злей разгул… Уснул… 1921Е. А. Полевицкой
Так долог путь: ни вехи, ни приюта… Ушли в века дни русского уюта, Бессмысленно ревет, смывая жизнь, гроза. И вновь к былому тянутся глаза. В чужом театре – остров русской речи. Недвижно замерли склонившиеся плечи. И над рядами реет грустный сон О русской девушке тургеневских времен. Она – предчувствие позорной нашей были… Не ей ли там сквозь сердце меч пронзили? И не она ли – мать, жена, сестра — Горит-трепещет в красной мгле костра? Благословен Ваш нежный образ Лизы! Ее души волнующие ризы Коснулись нас в час ночи грозовой Надеждою нетленной и живой. 1921Галоши счастья
Посвящается тем, кто мечтает о советской визе
Перед гаснущим камином щуря сонные глаза, Я смотрел, как алый уголь покрывала бирюза. Вдруг нежданной светлой гостьей, между шкафом и стеной, Андерсеновская фея закачалась предо мной. Усадил ее я в кресло, пледом ноги ей покрыл, Дождевик ее росистый на корзине разложил… Лучезарными глазами улыбаясь и маня, Фея ласково спросила: «Что попросишь у меня?» В сумке кожаной и грубой, – уж меня не проведешь, — Угадал я очертанья старых сказочных галош: Кто б ты ни был, резвый мальчик или сморщенный старик, Чуть надел их, все что хочешь, ты увидишь в тот же миг… «Фея, друг мой, вот газеты… чай и булки… Будь добра: Одолжи Галоши Счастья, посиди здесь до утра!» И пока она возилась, вскинув кудри над щекой, — Предо мной встал пестрый город за широкою рекой: Разноцветные церквушки, пятна лавок и ларьков, Лента стен, собор и барки… Ах, опять увижу Псков! Влез в галоши… Даль свернулась. Шпалы, ребра деревень… Я на площади соборной очутился в серый день. По базару вялым шагом, как угрюмые быки, Шли в суконных шлемах чуйки, к небу вскинувши штыки. Дети рылись в грудах сора, а в пустых мучных рядах Зябли люди с жалким хламом на трясущихся руках. «Возвратились?» – тихо вскликнул мой знакомый у ворот, И в глазах его запавших прочитал я: «Идиот». «Батов жив?» – «Давно расстрелян». – «Лев Кузьмич?» — – «Возвратный тиф». — Все, кого любил и знал я, отошли, как светлый миф… Ветер дергал над Чекою палку с красным кумачом, На крыльце торчал китаец, прислонясь к ружью плечом, Молчаливый двор гостиный притаился, как сова, Над разбитою лампадой – совнархозные слова… На реке Пскове – пустыня. Где веселые ладьи? Черт слизнул и соль, и рыбу, и дубовые бадьи… Как небритый старый нищий, весь зарос навозом вал, Дом, где жил я за рекою, комсомольским клубом стал. Кровли нет. Всех близких стерли. Постоял я на углу — И пошел в Галошах Счастья в злую уличную мглу. Странно! Люди мне встречались двух невиданных пород: У одних – избыток силы, у других – наоборот. Ах, таких ужасных нищих и таких тревожных глаз Не коснется, не опишет человеческий рассказ… У пролома предо мною некто в кожаном предстал: «Кто такой? Шпион? Бумаги!» Вскинул нос – Сарданапал! Я Галоши Счастья сбросил и дрожащею рукой Размахнулся над безмолвной, убегающей рекой. На столе письмо белело, – потаенный гордый стон, Под жилетною подкладкой проскользнувший за кордон. Фея – вздор. Зачем датчанке прилетать в Passy ко мне? Я, отравленный посланьем, в старый Псков слетал во сне. ‹1924›Соловьиное сердце
Памяти П. П. Потемкина
Соловьиное сердце – смешное и хрупкое чудо… Потолочная плесень вдруг вспыхнет восточным ковром, Ветер всхлипнет за вьюшкой, но в ветре – кто знает откуда? — Невидимка-органчик веселым звенит серебром. Ты давно им владел – андерсеновским старым секретом… Каждый грязный кирпич освещая бенгальским огнем, Был ты в каждом движенье беспечным и вольным поэтом И не сделал Пегаса своим водовозным конем. От обломовских будней, пронизанных питерским гноем, Уходил ты на волю сквозь створки волшебных дверей: Полотер ярославский был русским твоим Антиноем, И лукавый твой сад был шаров разноцветных пестрей. Так запомнился крепко рисунок твой сочный и четкий: И румянец герани и толстый ворчун-голубок… Нахлобучивши шляпу, смотрел ты с усмешкою кроткой, Насмотрелся и создал лирический русский лубок. Муза в ситцевом платье была вне парнасских канонов, Не звезда ль Беранже излучала повторно свой свет? Но не понял никто из журнальных маститых Катонов, Что беспечно прошел мимо нас настоящий поэт. А потом… а потом и без слов нам все это известно. Рев войны, кумачовый пожар… Где былая, родная герань? Дом сгорел… На чужбине пустынно, и жутко, и тесно, И усталый поэт, как в ярмо запряженная лань. Надорвался и сгинул. Кричат биржевые таблицы… Гул моторов… Рекламы… Как краток был светлый порыв! Так порой, если отдыха нет, перёлетные птицы Гибнут в море, усталые крылья бессильно сложив. ‹1926›«…Тургеневские девушки в могиле…»
Тургеневские девушки в могиле, Ромео и Джульетта – сладкий бред… Легенды и подкрашенные были, — Что нам скрывать – давно простыл их след! Мир фактов лют: в коннозаводстве красном Аборты, сифилис, разгул и детский блуд, Статистикой подсчитаны бесстрастной, Давно вошли в марксистский их уют… С их хлевом не сравним мы заграницу: Вуаль здесь гуще, сдержаннее жест — А впрочем, друг, переверни страницу И посмотри внимательно окрест… ‹1926›Из цикла «Эмигрантский уезд»
Парижское житие
В мансарде у самых небес, Где с крыши в глухое окошко Косится бездомная кошка, Где кровля свергает отвес, — Жил беженец, русский ботаник, Идейный аскет, По облику – вяземский пряник, По прошлому – левый кадет. Направо стоял рундучок Со старым гербарием в дырках, Налево, на двух растопырках, Уютно лежал тюфячок. Зимою в Париже прохладно, Но все ж в уголке Пристроился прочно и ладно Эмалевый душ на крючке. Вставал он, как зяблик, легко, Брал душ и, румяный от стужи, Подмахивал веничком лужи, На лестнице пил молоко И мчался одним перегоном На съемку в Сен-Клу Играть скрипача под вагоном И лорда на светском балу. К пяти подымался к себе, Закат разливался так вяло… Но бодрое солнце играло, И голубь сидел на трубе… Поест, к фисгармонии сядет И детским альтом Затянет о рейнской наяде, Сидящей на камне крутом. Не раз появлялся вверху Пират фильмовой и коллега: Нос брюквой, усы печенега, Пальто на стрекозьем меху. Под мышкой крутая гитара, В глазах тишина… Нацедит в молочник вина И трубкой затянется яро. Споют украинский дуэт: Ботаник мечтательно стонет, Пират, спотыкаясь, трезвонит И басом октавит в жилет… А прачка за тонкой стеною Мелодии в лад Качает прической льняною И штопает кротко халат. Потом, разумеется, спор, — Корявый, кривой, бесполезный: «Европа – мещанка над бездной!» «А Азия – мутный костер!..» Пират, покраснев от досады, Угрюмо рычит, Что дети – единственный щит, Что взрослые – тухлые гады… Ползет холодок по ногам. Блеснула звезда над домами… Спор рвется крутыми скачками К грядущим слепым берегам. Француженке-прачке неясно: Орут и орут! Жизнь мчится, мгновенье прекрасно, В бистро и тепло, и уют… Хотя б пригласили в кино!.. Но им, чудакам, не в догадку. Пират надевает перчатку И в черное смотрит окно. Двенадцать. Ночь глубже и строже, И гостя уж нет. Бесшумно на зыбкое ложе Ложится ботаник-аскет. За тонкой холодной стеной Лежит одинокая прачка. Ворчит в коридоре собачка, И ветер гудит ледяной. Прислушалась… Что там с соседом? Проснулся, вскочил… Свою фисгармонию пледом Накрыть он забыл. 1928Русская лавочка
В бочонке селедки Уютными дремлют рядами… Изысканно-кроткий Приказчик склоняется к даме: «Угодно-с икорки? Балык первоклассный из Риги…» Кот Васька с конторки Лениво глазеет на фиги. Под штофом с полынной Тарань аромат излучает… Ужель за витриной Парижская площадь сияет? Так странно в Париже Стоять над кадушкой с морошкой И в розовой жиже Болтать деревянною ложкой… А рядом полковник Блаженно припал к кулебяке, — Глаза, как крыжовник, Раскинулись веером баки… Холм яблок на стойке Круглится румяною митрой, Вдоль полки настойки Играют российской палитрой. Пар ходит, как в бане, Дух воблы все гуще и слаще, Над дверью в тумане Звенит колокольчик все чаще. 1931Из цикла «Из римской тетради»
Римские камеи
I
На рынке в пестрой суете, Средь помидорного пожара, Сидит, подобная мечте, Пушисто-бронзовая Клара. Но, ах, из груды помидор Вдруг рявкнул бас ее матросский: «Какого дьявола, синьор, Облокотились вы на доски?!»II
Под фиговой лапой В сплошном дезабилье, Обмахиваюсь шляпой И жарюсь на скамье, Но только солнце село, — Приплыл прохладный мрак: И с дрожью прячешь тело В застегнутый пиджак.III
Нацедив студеной влаги В две пузатые баклаги, Я следил у водоема, Как, журча, струилась нить. Потный мул в попоне гладкой Мордой ткнул меня в лопатки: Друг! Тебя заждались дома, — Да и мне мешаешь пить!..IV
Есть белое и красное киянти. Какое выпить ночью при луне, Когда бамбук бормочет в вышине И тень платанов шире пышных мантий? Пол-литра белого, – так жребию угодно. О виноградное густое молоко! Расширилась душа, и телу так легко. Пол-литра красного теперь войдет свободно.V
Олеандра дух тягучий — Как из райского окошка, А над ним в помойной куче Разложившаяся кошка. Две струи вплелись друг в друга… Ах, для сердца не отрада ль: Олеандр под солнцем юга Побеждает даже падаль. 1923В гостинице «Пьемонт»
(Из эмигрантского альбома)
I
В гостинице «Пьемонт» средь уличного гула Сидишь по вечерам, как воробей в дупле. Кровать, комод, два стула И лампа на столе. Нажмешь тугой звонок, служитель с маской Данте Приносит кипяток, подняв надменно бровь. В душе гудит andante, Но чай, увы, – морковь. На письменном столе разрытых писем знаки, Все непреложнее итоги суеты: Приятели – собаки, Издатели – скоты. И дружба, и любовь, и самый мир не пуф ли? За стенами блестит намокшая панель… Снимаю тихо туфли И бухаюсь в постель.II
Хозяйка, честная и строгая матрона, Скосив глаза на вздувшееся лоно, Сидит перед конторкой целый день, Как отдыхающий торжественный тюлень. Я для нее – один из тех господ, Которым подают по воскресеньям счет: Простой синьор с потертым чемоданом, Питающийся хлебом и бананом. О глупая! Пройдет, примерно, год, И на твоей гостинице блеснет: «Здесь проживал…» Нелепая мечта, — Наверно, не напишут ни черта.III
За стеной по ночам неизвестный бандит С незнакомым сопрано бубнит и бубнит: «Ты змея! Ты лукавая, хитрая дрянь…» А она отвечает, зевая: «Отстань». «Завтра утром, ей-Богу, с тобой разведусь». А она отвечает: «Дурак! Не боюсь!» О Мадонна… От злости свиваясь волчком, Так и бросил бы в тонкую дверь башмаком, — Но нельзя: европейский обычай так строг, Позовут полицейских, посадят в острог… Я наутро, как мышь, проскользнул в коридор, Рядом скрипнула дверь, я уставил свой взор: Он расчесан до пят, и покорен, и мил, Не спускал с нее глаз, как влюбленный мандрил. А она, улыбаясь, покорная лань, — Положила на грудь ему нежную длань. 1924, февраль, РимНа площади Navona
Над головами мощных великанов Холодный обелиск венчает небосвод. Вода, клубясь, гудит из трех фонтанов, Вокруг домов старинный хоровод. Над гулкой площадью спит тишина немая, И храм торжественный, весь – каменный полет, Колонны канделябрами вздымая, Громадой стройной к облаку плывет… Карабинеры медленно и чинно Пришли, закинув плащ, и скрылись в щель опять. О Господи! Душа твоя невинна, Перед тобой мне нечего скрывать! Я восхищен Твоим прекрасным Домом, И этой площадью, и пеньем светлых вод. Не порази меня за дерзновенье громом, Пошли мне чудо сладкое, как мед… Здесь все пленяет: стены цвета тигра, Колонны, небо… Но услышь мой зов: Перенеси сюда за три версты от Тибра Мой старенький, мой ненаглядный Псков! 1925«…По форуму Траяна…»
По форуму Траяна Гуляют вяло кошки. Сквозь тусклые румяна Дрожит лимонный зной… Стволом гигантской свечки Колонна вьется к небу. Вверху, как на крылечке, — Стоит апостол Петр. Колонна? Пусть колонна. Под пологом харчевни Шальные мухи сонно Садятся на ладонь… Из чрева темной лавки Чеснок ударил в ноздри. В бутылке на прилавке Запрыгал алый луч… В автомобилях мимо, Косясь в лорнет на форум, Плывут с утра вдоль Рима Презрительные мисс. Плывут от Колизея, По воле сонных гидов, Вдоль каждого музея Свершить свой моцион… А я сижу сегодня У форума Траяна, И синева Господня Ликует надо мной, И голуби картавят, Раскачивая шейки, И вспышки солнца плавят Немую высоту… Нанес я все визиты Всем римским Аполлонам. У каждой Афродиты Я дважды побывал… О старина седая! Пусть это некультурно, — Сегодня никуда я, Ей-Богу, не пойду… Так ласково барашек Ворчит в прованском масле… А аромат фисташек В жаровне у стены? А мерное качанье Пузатого брезента И пестрых ног мельканье За пыльной бахромой? Смотрю в поднос из жести. Обломов, брат мой добрый! Как хорошо бы вместе С тобой здесь помолчать… Эй, воробьи, не драться! Мне триста лет сегодня, А может быть, и двадцать, А может быть, и пять. 1928Шесть
Из фабрики корзин и гнутых стульев Выходят крутобокие Кармен… Дрожат платки, вздымаясь у колен, И болтовня, как гомон пчел близ ульев. Покачиваясь, топчутся в обнимку… В покачиванье бедер – гибкость саламандр. Одни глядят на облачную дымку, Другие обрывают олеандр. Денщик-сосед, юнец провинциальный, Встал у калитки и потупил взгляд: У всех шести походка – сладкий яд, У всех шести румянец – цвет миндальный! Лукаво-равнодушными глазами Все шесть посмотрят мимо головы, — Над крышею червонными тузами Алеет перец в блеске синевы. Лишь каменщики опытный народ, — На них Кармен не действует нимало. Взлетает песенка, ликующее жало, Глазастый ухарь штукатурит свод, На пальцах известковая насечка… Посмотрит вниз – шесть девушек на дне, — Метнет в корзинщиц острое словечко И ляпнет штукатуркой по стене. А вечером, когда сойдет прохлада, И вспыхнет аметистом дальний кряж, И лунный рог, свершая свой вояж, Плывет к звезде, как тихая наяда, Когда сгустеют тени вдоль платанов, И арка лавочки нальется янтарем, И камыши нырнут в волну туманов, — Все шесть сойдутся вновь под фонарем. И под руку пойдут вдоль переулка, Как шесть сестер, в вечерней тишине. Латания бормочет в полусне, Стук каблучков средь стен дробится гулко… О римский вечер, тихая беспечность! Поет фонтан, свирель незримых слез. Там в небесах – мимозы, звезды, вечность, Здесь на земле – харчевня между лоз. Сел на крыльцо мечтающий аптекарь. На стук шагов сомкнулись тени в ряд: Шесть мандолин заговорили в лад — Три маляра, два шорника и пекарь. Кому мольбы лукавых переливов? О чем они? Кому журчанье струн? Все шире плеск рокочущих мотивов, Все громче звон – вскипающий бурун… И оборвали… Тишина, прохлада. Но шесть Кармен запели вдруг в ответ: Все та же песнь, но через слово: «Нет!» Лукавое, задорное «не надо»… И снова струны молят все нежнее, И все покорней отвечают голоса. Смолк поединок. В глубине аллеи Темнеют пары. Дремлют небеса… Ушел к себе продрогнувший аптекарь. Шипит бамбук. В харчевне спор затих. Как маляры, и шорники, и пекарь Сумели выбрать каждую из них? По-моему, – одна другой желанней. Но… нет седьмой. Я запер свой балкон. Спят облака, как стадо белых ланей. В ушах звенит лукавый перезвон. ‹1928›«Школа Дианы»
Ты видел ли «Школу Дианы» На вилле Боргезе, мой друг? Девчонок взволнованных станы, Стремительность бедер и рук… Стрела, зазвенев, пролетела, Свергается горлинка ниц, — Еще в напряжении тело И жаден восторг учениц… Диана застыла в сторонке, Над строгим челом – полукруг. Вдали на холме две девчонки Борьбой услаждают досуг. Внизу беззаботные дети В потоке, прозрачней стекла, О всем позабывши на свете, Полощут нагие тела. В сбоку сквозь пышную зелень Крестьянская жмется чета: Прокрались из горных расщелин, Приникли и смотрят… Мечта? Под вечер в далекой деревне Средь круга неверящих глаз Польется в притихшей харчевне Взволнованный, странный рассказ. 1928Из цикла «Из дневника поэта»
Из дневника поэта
Безмерно жутко в полночь на погосте Внимать унылому шипению ольхи… Еще страшнее в зале на помосте Читать на вечерах свои стихи. Стоит столбом испуганная Муза, Волнуясь, комкает интимные слова, А перед ней, как страшная Медуза, Стоглазая чужая голова… Такое чувство ощущает кролик, Когда над ним удав раскроет пасть, Как хорошо, когда поставят столик: Хоть ноги спрячешь – и нельзя упасть… А по рядам, всей ощущаешь кожей, Порхает мысль в зловещей тишине: «Ах, Боже мой, какой он непохожий На образ тот, что рисовался мне!» У Музы спазма подступает к глотке, Застыло время, в сердце алый свет. Какие-то разряженные тетки Наводят, щурясь, на тебя лорнет… Как подчеркнуть курсивом слова шутку? Как расцветить волненьем тона боль? И, как суфлер, запрятавшийся в будку, Дубовым голосом бубнишь чужую роль. А лишь вчера, когда вот эти строки Качались в беззаботной голове, Когда у Музы разгорались щеки, А за окном плыл голубь в синеве, И чай дымился в солнечном стакане, И папироса тлела над рукой, — Мгновенья плыли в ласковом тумане И так был тих задумчивый покой… Скорей, скорей… Еще четыре строчки. Зал потонул в сверкающем чаду. На берег выйду у последней точки И полной грудью дух переведу! 1925Предвесеннее
Ты ждешь весны? Я тоже жду… Она приходит раз в году. Зеленый пух завьет весь сквер, И на подъезде тощий сэр, Пронзая мартовскую ночь, Во всю мяукнет мочь… Ручей вдоль края мостовой, Звеня полоскою живой, Сверкнет на перекрестке вдруг, Потом нырнет в прохладный люк И унесет в подземный край Кораблик твой… Пускай! День стал длиннее чуть-чуть-чуть… Еще февраль свистит в окно, Еще туман взбивает муть, — Нам, право, все равно: На всех кустах, – пойди-ка в сад, — Живые почки чутко спят. И в снежной чаще спит медведь, Он чует, лапу в пасть зажав, Что скоро солнечная медь Заткет луга узором трав… И в дальнем Конго журавли Уже готовят корабли. Приди ж, дружок-весна, скорей Из-за лазоревых морей… Твой первый листик я сорву, К губам притисну в старом рву И звонко щелкну в тишине, Как белка на сосне!.. 1926Из цикла «Утешение»
Мой роман
Кто любит прачку, кто любит маркизу, У каждого свой дурман, — А я люблю консьержкину Лизу, У нас – осенний роман. Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой, — Смешна любовь напоказ! Но все ж тайком от матери строгой Она прибегает не раз. Свою мандолу снимаю со стенки, Кручу залихватски ус… Я отдал ей все: портрет Короленки И нитку зеленых бус. Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу, Грызем соленый миндаль. Нам ветер играет ноябрьскую фугу, Нас греет русская шаль. А Лизин кот, прокравшись за нею, Обходит и нюхает пол. И вдруг, насмешливо выгнувши шею, Садится пред нами на стол. Каминный кактус к нам тянет колючки, И чайник ворчит, как шмель… У Лизы чудесные теплые ручки И в каждом глазу – газель. Для нас уже нет двадцатого века, И прошлого нам не жаль: Мы два Робинзона, мы два человека, Грызущие тихо миндаль. Но вот в передней скрипят половицы, Раскрылась створка дверей… И Лиза уходит, потупив ресницы, За матерью строгой своей. На старом столе перевернуты книги, Платочек лежит на полу. На шляпе валяются липкие фиги, И стол опрокинут в углу. Для ясности, после ее ухода, Я все-таки должен сказать, Что Лизе – три с половиной года… Зачем нам правду скрывать? 1927, ПарижЩенок
В углу сидит в корзинке фокс — Пятинедельный гномик. На лбу пятно блестит, как кокс. Корзинка – теплый домик. С любой туфлей вступает в бокс Отважный этот комик. В корзинку маленький апаш Зарыл свои игрушки: Каблук, чернильный карандаш, Кусок сухой ватрушки, И, свесив лапки за шалаш, Сидит, развесив ушки. Понять не может он никак, — Притих и кротко дышит: Там у окна сидит чудак И третий час все пишет. Старался фокс и так и сяк, Но человек не слышит… Рычал, визжал, плясал у ног И теребил за брюки, Унес перчатку за порог И даже выл от скуки, Но человек молчит, как дог, К столу приклеив руки. Как глупо палочкой водить По беленькой тетрадке! Во всю помчался лучше б прыть До кухонной площадки… Над печкой солнечная нить, Полы вокруг так гладки… Блестит солидный, темный шкаф. Сиди и жди. Ни звука. На печке бронзовый жираф — Таинственная штука. Фокс взвизгнул с болью в сердце: «Тяф!» Молчать – такая мука… И вдруг серьезный господин Вскочил, как на резинке, Швырнул тетрадку на камин И подошел к корзинке… И фокс, куда девался сплин, Вмиг оседлал ботинки… Как дети оба на ковре, За лапы рвут друг дружку. Фокс лезет в яростной игре На самую макушку… На лай, как эхо, во дворе Дог гулко рявкнул в пушку. Лучи сползаются в пучки. Стрекочет сердце глухо… Щенок устал. Закрыл зрачки, Лизнул партнера в ухо… Застыли строгие очки, Трамвай жужжит, как муха. Щенок в корзинке так похож На карлика-лошадку… По тельцу пробегает дрожь, Врозь лапки, нос – в лопатку… А человек вздохнул: «Ну что ж…» И снова за тетрадку. 1928Прогулки по Парижу
Пятилетняя девчонка В рыжем клетчатом пальто Посреди пустой панели Едет в крошечном авто. Нос и руль сияют лаком, Щеки – розовый коралл, А в глазах мелькает гордость И восторженный опал. Только женщины умеют Так божественно сиять! В небе почки зеленеют. Псам и детям – благодать. Вдруг навстречу валким шагом Надвигается ажан: Он, как морж, усат и плотен, Он, как девочка, румян. С высоты своей гигантской, Закрутивши ус в кольцо, Он взглянул на пухлый носик, На смешное пальтецо… Поднял руку, сдвинул брови И застыл в своем манто. Разве можно по панели Путешествовать в авто?! И она остановилась… На щеках пунцовый цвет: Рассмеяться иль заплакать? Пошутил он или нет? Добродушный полицейский Не хотел ее томить. Улыбнулись… оба сразу, Оборвав тугую нить. Он дорогу уступил ей, Приложив к виску ладонь, — И заискрился в колесах Легкий мартовский огонь. 1928Мать
(Ко дню «Голодной пятницы»)
В тесной каморке – беженский дом. Мать вышивает киевским швом. Плавно, без устали ходит рука. Мальчик у ног разбирает шелка. В кольца завьет их, сложит в пучки, Справа и слева стены тонки, — Громко играть на чужбине нельзя… Падают нитки, беззвучно скользя. «Кис! – говорит он. – Послушай же, Кис! Ты как из сказки прилежная мисс: Помнишь для братьев в пещере, без сна, Платье плела из крапивы она». Мать улыбается. Мальчик вздохнул… «Кис, – говорит он, взбираясь на стул, — Летом я к морю поеду опять? Прыгать, смеяться, купаться, кричать…» Светлое «да!» – вылетает из губ. Теплые пальцы треплют за чуб. Мальчик не видит, как милая «Кис» Смотрит, смутясь, за оконный карниз. Мальчик не знает, что много ночей В сердце тревога все горячей: Летнее солнце, здоровье, загар, — Как раздобыть их мальчику в дар? Дремлет мальчишка. Над ним в полусне Летние дни закачались в окне: Сосны, опушки, сотни затей, Крики приятелей – русских детей… Странная Кис… Почему-то она Летом в Париже томиться должна. Ей и в Париже – твердит – ничего. Солнце и лес для него одного. Разве нельзя вышивать под сосной? Спать в гамаке под листвою сквозной? Он бы ей крабов ловил на обед… Сонные глазки нырнули под плед. Мать вышивает киевским швом. Город бездушный гудит под окном. Пламень закатный небо рассек. … Есть ли кто в поле жив человек? 1928Беспечный день
Море – камни – сосны – шишки… Над водой крутой откос. Две девчонки, два мальчишки, Пятый – я, шестой – барбос. У заросшего колодца, Где желтел песчаный вал, Я по праву полководца Объявил войскам привал. Пили воду. Много-много! Капли вились мимо уст. Через полчаса, ей-богу, Стал колодец старый пуст. Мы сварили суп в жестянке — Из креветок и пшена. Вкус – резиновой солянки… Пес не ел, а мы – до дна. Было жарко, душно, сухо. Час валялись мы пластом. А барбос, закинув ухо, Грыз бутылку за кустом. Мы от взрослых отдыхали, — Каждый сам себе отец… Хочешь – спи, задрав педали, Хочешь – прыгай, как скворец. Дымной лентой вьется копоть: Пароход плывет в Марсель… Хорошо по лужам шлепать И взрывать ногами мель! Крабы крохотные в страхе Удирают под утес. Младший мальчик без рубахи В щель за крабом сунул нос. Но девчонки, сдвинув шеи, Верещат, как леший в рог: «Са-ша Черный! По-ско-рее! Под скалою ось-ми-ног…» Боже мой, какая радость! Прискакавши колесом, Выдираем эту гадость Вшестером (считая с псом)… Брюхо – розовая мякоть, Лапы – вроде бороды. Вообще, не зверь, а слякоть, Отчего ж мы так горды? Мы несем его в жестянке И решаем все у пня: Пусть живет, как рыбка, в банке, Под кроватью у меня… Как рысак, барбос наш скачет, Мы горды, – а он при чем? Красный бок далекой дачи Вспыхнул в соснах кирпичом. Подбираем по дороге Все, что выбросил прибой: Руль с неведомой пироги, Склянку с пробкой голубой… Для чего? Не знаем сами. Обошли знакомый грот. Ветер влажными крылами Подгоняет нас вперед. Из-за мыса вышла лодка, Вяло вздувши паруса. Море ласково и кротко, Словно сытая лиса. За спиной трясется склянка. У сарая сохнет сеть… Осьминог уснул в жестянке: Тише, дети. Не шуметь!.. 1928Примечания
1
«Пой, душа, пой». Демель (нем.).
(обратно)2
Почтовая открытка (фр.)
(обратно)3
Визави (фр.).
(обратно)4
«Никто» (лат.).
(обратно)5
Прошедшее время (лат.).
(обратно)6
Конец (лат.).
(обратно)
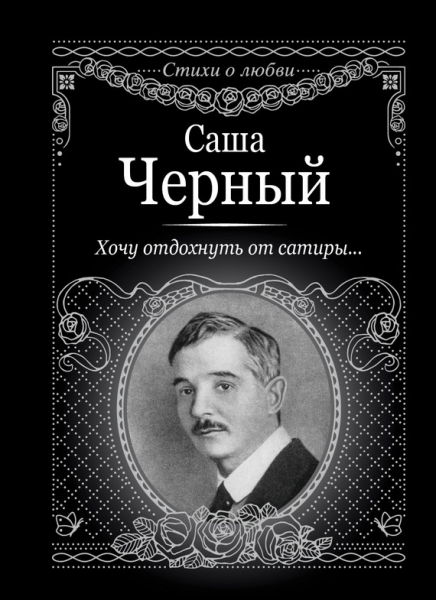
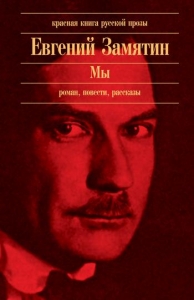
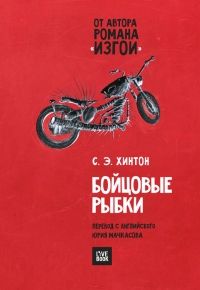


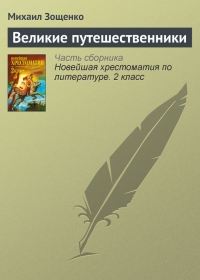






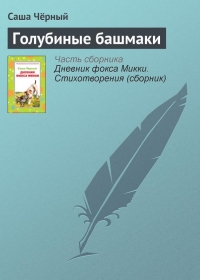
Комментарии к книге «Хочу отдохнуть от сатиры…», Саша Черный
Всего 0 комментариев