Герман Гессе Книга россказней
Осада Кремны [1]
Во времена императоров Аврелиана, Тацита и Проба в малоазийских провинциях Исаврия, Писидия и Ликия, уже в те времена снискавших дурную славу разбойничьего гнезда, имя некоего Лидия наводило ужас на местных жителей. Родом он был из Исаврии, родился при Филиппе Аравийском, и почти все его предки были разбойниками. Отец его нашел конец во время набега на Ликию, дед и два дяди в один день расстались с миром на виселице. Его подлинное имя неизвестно; с двадцати лет он называл себя Лидием и под этим именем прославился в тех местах.
От природы Лидий был умным и сообразительным человеком, храбрым, но осмотрительным в начинаниях. Он умел обходиться с людьми и обращать их любовь или ненависть себе на пользу. Посему он стремительно двигался от успеха к успеху и уже в юности познал славу и власть, не уставая от них и не пресыщаясь ими. Но за порогом тридцатилетия, когда ему стали удаваться все более дерзкие и невероятные выходки, спесивый хмель непобедимости ударил ему в голову, он преступил положенные богами пределы и в конце концов оказался поверженным.
Во время похода по Киликии, предпринятого Лидием со своей многочисленной кликой, к нему примкнул ионийский грек по имени Гефестий, служивший до того киликийским морским разбойникам, а теперь решивший влиться в это знаменитое воинство. С того времени Лидий мог справляться с еще более крупными делами, и удача сопутствовала ему, потому что этот Гефестий был хитроумным, ловким человеком, полным всяческих затей. Он прекрасно говорил на пяти языках, умел чертить карты и вести разведку, разбирался в военном деле и знал, как вести осаду, но более всего прославился как меткий стрелок и механик. Он строил изощренные метательные машины, которые поражали цель на большом расстоянии и наверняка, будь то стрелой или камнем, в дальнем бою знал, как с выгодой использовать любую местность, а во время осады руководил земляными работами.
Лидий хорошо знал, каким сокровищем был этот человек. Он приказал оказывать ему почести и обходился с ним любезно, отдавая двойную долю добычи и сажая подле себя. А поначалу он отнесся к нему не без недоверия и ревности, поскольку опасался, как бы этот греческий искусник не превратился в опасного соперника, который в конце концов однажды его сметет. Однако вскоре он понял, что Гефестий, превосходя его в некоторых искусствах и дарованиях, не был прирожденным вожаком. Тот и в самом деле, при всем своем уме, не годился в предводители; не было у него для этого властного взгляда, внушительной осанки и бесстрашия, без которых никто не сможет удержать в повиновении и покорности и малую горстку мужчин. Поэтому Лидий оставил свои подозрения, и грек был вполне доволен положением советника и первого из подчиненных, не стремясь при этом к господству.
Долгое время разбойничье воинство, насчитывавшее несколько сотен бойцов, пребывало в провинции Писидия, что в Памфилии. Крестьяне лишались скота и хлеба, плодов и вина, горожане и торговые гости – денег и товаров, и никто не смел противиться могущественному предводителю. Жалобы и мольбы о помощи шли наместнику провинции, а также в Рим, императору и в сенат, время от времени отряд солдат направлялся против разбойников, но бывал или разбит, или же возвращался ни с чем, потому что разбойники скрывались от превосходящего противника в непроходимых, расщелистых горах Тавра.
Так постепенно Лидием овладела неуемная гордыня и уверенность, что он сможет, если придется, помериться силой даже с Римской империей и императором, чья мощь столько раз оказывалась против него бессильной. Он дерзко бросил вызов самой государственной власти, не щадил солдат и чиновников и порой заговаривал о том, что подумывает отвоевать у империи всю провинцию и превратить ее в свою вотчину. Дело и в правду было за малым, ведь Лидий жег целые деревни и селения, забирал все, что ни пожелает, и, кроме сотен отчаянных и опытных бойцов, повсюду были его соглядатаи и укрыватели, осведомители и тайные союзники.
Тем временем в Риме место прежнего немощного правителя занял император Проб, храбрый и законолюбивый. Все новые жалобы и отчаянные призывы о помощи из этого пользующегося дурной славой уголка Малой Азии вскоре побудили его отдать строгий приказ и заставить тамошнего наместника объявить разбойникам настоящую войну. Лидий вскоре ощутил, что настало время проявить свою мощь и презрение к Римской империи. Поскольку его повсеместно преследовали и теснили дозоры римских войск, он решил оказать им открытое сопротивление и отважился на большой мятеж.
Был в Писидии город Кремна, возведенный на отвесной скале Тавра, природой и человеческой хитростью превращенный в неодолимую крепость, поскольку с трех сторон он висел над глубокой пропастью, а с четвертой был защищен мощной стеной. Вот этот город Лидий и решил захватить и превратить в свой оплот, чтобы отсюда противостоять всему миру. Он держал совет с Гефестием и некоторыми приближенными разбойниками, и те одобрили его намерения, после чего уже неделю спустя он принялся за выполнение своего отчаянного замысла.
Однажды апрельским утром у ворот Кремны появился десяток мужчин, неприметно поднявшихся крутой горной тропой. Они захватили ворота без шума и заметного сопротивления, подняли над ними красный флаг и со смехом позволили двум до смерти напуганным стражникам бежать. Вскоре на гору поднялось все разбойничье воинство Лидия. Впереди ехал верхом на муле предводитель, красивый смуглый мужчина с черными, злыми глазами. Он молча дал знак своим людям, которые на радостях принялись петь и шутить, чтобы они затихли. Он внимательно разглядывал дорогу и гордо вознесшийся над обрывом город. Он сознавал, что движется навстречу самому большому своему испытанию и что покинет эти стены или увенчанным лаврами победителем, или покойником. Задумчиво смотрел Лидий вверх, на высокие крепостные стены, возможно в глубине души чувствуя, что счастье переменчиво, но сохраняя хладнокровие и твердость, потому что страх был ему неведом. Его пришпоривала тайная гордость, что он, не знавший своего отца ловец удачи, вступает властелином в укрепленный римский город.
За ним пешим порядком следовало его войско, сотня отборных бойцов, лучших из тех, что у него были, а далее шел обоз: возы с добром и провиантом, а также стадо угнанного скота. Замыкал процессию Гефестий, восседавший на серой горной лошадке, кроме предводителя – единственный всадник, маленький тихий мужчина с лицом, на первый взгляд обычным и безобидным, но в каждой морщинке которого таилась сотня хитростей.
В город они вступили спокойно и уверенно. Горожане изумленно и встревоженно наблюдали за тем, что происходит, о сопротивлении никто не думал, и праздные зеваки в переулках, стоявшие или присевшие в тени, громко подшучивали над вооруженными пришельцами, а те не оставались в долгу.
Из маленького дома, на первом этаже которого была мастерская резчика по дереву, вышла высокая девушка с кувшином на голове; остановившись, она изумленными глазами провожала войско. Гефестий, ехавший позади, на несколько мгновений поймал взгляд ее распахнутых карих глаз, залюбовался красоткой, кивнул ей с приветливой улыбкой и поскакал дальше, мурлыча последнюю строфу старинной ионийской любовной песенки.
Лидий тем временем обосновался в доме градоначальника и повелел глашатаям объявить, что отныне он властитель твердыни Кремна. Поскольку его люди вели себя достойно и не угрожали ни собственности, ни свободе горожан, никто не противился захватчику. Разнеслась весть, что он – знаменитый Лидий, и многие обрадовались возможности увидеть наводившего ужас героя своими глазами. Он не обратил на это внимания, велел своим людям становиться на постой и вскоре, выставив часовых, удалился в свои покои. Город зашумел и развеселился, большинство воинов нашли любезных и благосклонных хозяев, пение разносилось по улицам. Гефестий же устроился в доме того самого резчика по дереву и завоевал расположение бедных людей парой серебряных монет. После этого он неспешно и в добром расположении духа направился к своему предводителю и провел у него вторую половину дня, обсуждая замыслы. Вечером он потчевал своих хозяев вином и мясом, играл на кифаре и пел веселые песни, рассказывал о дальних странах, а в ногах у него сидела статная кареглазая девушка, положив голову ему на колени, а он играл ее длинными волосами. Ее звали Феба, она не последовала за ним в его комнату, но пообещала сделать это завтра, чем он и удовольствовался.
На следующий день Лидий получил известие, что против него, как он и ожидал, выступило римское войско и оно уже приближается. Он собрал всех бойцов на рыночной площади и повелел принести присягу и незамедлительно начал готовить испуганный город к осаде. Двум сотням горожан вместе с челядью в тот же день было велено оставить город, при этом им было позволено взять с собой все движимое имущество, за исключением съестного. Стенания и испуг воцарились во всех домах, но никто не осмелился возражать, и вечером изгнанники ушли. На следующий день за ворота отправили еще сотню, а кое-кто сам бежал, движимый страхом смерти.
Через неделю показалось римское войско, поднимавшееся с равнины, вернулись и изгнанные горожане в сопровождении поручителя наместника, который потребовал принять их обратно и предложил Лидию покинуть город. Молча вступили горожане в распахнутые ворота, но посланник так ответа и не дождался.
На следующее утро Кремна была окружена большим войском и оказалась в осаде. Лидий был явно доволен, его затея удалась, и он был полон решимости скорее погибнуть вместе со всем городом, чем уступить. Начал он с того, что велел сбросить вернувшихся накануне изгнанников в пропасть, в самом высоком и видном месте. Угрозы и проклятия неслись из уст падавших, обреченные сопротивлялись всеми силами, некоторые же сами прыгали в бездну, а в городе воцарились тишина и ужас. Каждый чувствовал, какое отчаянное дело затеяно, и каждый дрожал за свою жизнь. Кто мог, бежал тайными тропами, оставшиеся в страхе затаились в домах и подвалах. С этого дня в городе больше не было собственности, все продовольствие было конфисковано Лидием. Он сам появлялся то там, то тут, приказывал и отчитывал, а кого и хвалил. Его людям досталась тяжелая работа. Дело в том, что Лидий велел снести часть домов, землю перекопать и удобрить, а потом засеять хлебом.
Немногие оставшиеся в городе жители, едва ли треть прежнего населения, вскоре оказались в отчаянном положении. Ведь весь скот, все запасы зерна, муки, вина, плодов и прочего продовольствия Лидий отобрал и держал у себя в хранилищах. Ежедневный паек мяса, хлеба и вина выдавался всем поровну, но только тем, кто целый день проводил на земляных и строительных работах. Прочие были отданы во власть голода и на милость разбойников, снисходивших разве что до женщин.
Гефестий помог своим хозяевам, резчику по дереву и его жене, бежать и дал им денег на дорогу, дочь же их оставил при себе и теперь жил с ней, и она была ему и любовницей, и служанкой разом. Однако ж за ее прелестями он не забывал своих обязанностей и прилежно занимался составлением чертежей, продумыванием планов и наблюдением за противником. Порой, когда кто-нибудь из находившегося внизу римского войска осмеливался подобраться слишком близко, Гефестий направлял на него метательный снаряд и бил без промаха. Что же касается осаждавших, то их снаряды и камни лишь изредка достигали возвышавшегося над ними города, да они особенно и не старались, решив взять разбойников измором. Поэтому Лидий при содействии Гефестия делал все, чтобы отвратить наступающий голод. Мясо солили и коптили, зерно и муку хранили как можно тщательнее, каждый свободный клочок был засеян, и наконец Гефестию пришла в голову мысль прорыть подземный ход на волю. Работа тут же началась, попадавшиеся на пути природные пещеры и расщелины помогали дерзкой затее, и через месяц с небольшим ход был готов.
Население тем временем сильно поредело. Перед тем как начать рыть ход, Лидий на целый день открыл ворота, и толпы бесполезных едоков покинули город. С того времени никому не было позволено выходить, чтобы не выдать потайной ход. Зато каждого, кто не годился для тяжелой работы и жаловался на голод, без долгих разговоров сбрасывали со стены, и для грифов, ястребов и лис, обитавших в пропасти, настали дни пира.
Подземный ход был вырыт под руководством Гефестия и вел к небольшому ручью, протекавшему позади лагеря римлян. В день, когда ходом впервые можно было воспользоваться, Лидий при всех обнял грека и одарил золотой цепочкой на шею. Теперь в осажденном городе началась веселая жизнь. Через подземный ход каждый четвертый или пятый день доставлялись в изобилии краденые и купленные мясо, хлеб и прочие припасы, вина тоже было вдоволь, и защитники отдыхали от тяжелой работы, отъедаясь за двоих. Слышалась игра на флейте, стук игральных костей и пение, девушкам было велено танцевать, а сам Лидий устроил на рыночной площади попойку, на которой он восседал, увенчанный венком. Так продолжалось до лета, и римский лагерь у веселого города разбойников полнился недовольством и усталостью. Время от времени римляне пытались ночью прорваться в город, поднявшись по головокружительным тропам. Но у Лидия была чуткая стража. Где бы ни показалась в бурой расщелине голова, где бы ни послышались шаги, в то же мгновение туда обрушивался град стрел и каменных снарядов.
Летом же однажды случилось так, что женщина, у которой пропала корова, пошла вечером на поле ее искать. В небольшой расщелине, среди ивовых зарослей и скалистых откосов, она бродила в поисках коровы, как вдруг услышала голоса, испугалась и спряталась за камень. Тут она увидела, как будто из-под земли появились мужчины и ушли в долину, к горам. Надеясь на хорошее вознаграждение, женщина тут же побежала к римскому военачальнику, рассказала ему об увиденном и в самом деле получила за это золотую монету с изображением предыдущего императора. Военачальник же взял незамедлительно сотню воинов и устроил засаду, и, когда разбойники возвратились с добычей, все они были схвачены. Ход же завалили и приставили к нему крепкую стражу.
С этого дня беззаботная жизнь в Кремне кончилась. Вина людям больше не давали, паек муки и мяса Лидий урезал наполовину. Ему было ясно, что отныне единственный для него выход – сражаться до последнего и умереть непобежденным.
День и ночь расхаживал Лидий по городу и размышлял о том, что бы ему предпринять. Взгляд его стал мрачнее тучи. С обнаженным мечом он ходил по домам и, если находил кого бесполезного, зарубал на месте. Пощадил он лишь мужчин, нужных для несения стражи, а также нескольких женщин, которые считались общей собственностью разбойников. Один только Гефестий, уверенный в своей незаменимости и надежно спрятавший наложницу, оставался в добром расположении духа и хладнокровно взирал на бурные события. Другие же были охвачены ужасом, и никто больше не был уверен, что останется в живых, а паек день ото дня становился скуднее. Лидий не смыкал больше глаз и в любое время дня и ночи не расставался с оружием. В течение дня в его покоях царила тяжелая, мертвая тишина, но ближе к ночи он выходил, словно хищный зверь из своего логова, и где-нибудь закалывал мечом или сталкивал в пропасть одинокого дозорного, без которого, как ему казалось, можно было и обойтись.
Некоторые из разбойников решались убить Лидия. Однако никто не мог выдержать его свирепый взгляд, и все эти грубые мужчины с ужасом понимали, что человек этот был одержим демоном и потому двигался навстречу ужасной судьбе. Гефестий и несколько верных десятских помогали ему стеречь склад и тихо следовали за ним, когда он отправлялся в этот жуткий обход, чтобы снова зарубить своею рукой одного или двоих из его же людей. Стали поговаривать, будто он питается кровью своих жертв, выпивая ее из еще трепещущего тела.
Вскоре эта одержимость смертью заронила в него недоверие даже к самым верным и надежным приспешникам. Так, однажды ночью он прокрался к домику, в котором поселился Гефестий, и проведал, что тот живет с Фебой.
На следующий день он вызвал к себе грека и заявил:
– Ты спрятал у себя девушку. Доставишь ее ко мне, когда стемнеет.
Гефестий испугался. Он вовсе не желал отдавать свою голубку, но раз он не мог оставить ее при себе, убил ее вечером ударом кинжала в сердце, завернул мертвое тело в ковер и велел двоим мужчинам отнести в жилище Лидия.
На следующий день Гефестий стоял у своей метательной машины на крепостной стене и наблюдал за врагом. К нему подошел Лидий и с улыбкой сказал:
– Спасибо за пригожую девушку. Ты мог бы еще сослужить мне службу. Направь свою машину на верхнюю надвратную башню и подстрели часового. Мне этот пост больше не нужен.
Грек, еще ощущавший на своих руках кровь девушки, пристально посмотрел на Лидия и отказался.
– Стреляй сам! – сказал он. – У меня нет снарядов для своих.
Тогда Лидий подозвал трех человек, всегда сопровождавших его и преданных ему как собаки, и повелел схватить Гефестия, раздеть его донага и избить прутьями. После этого он ушел, и больше Гефестий, как казалось, его не занимал.
Механик же хорошо понимал, что жить ему осталось недолго. Он спрятался в пустой цистерне, дождался ночи и спрыгнул со стены наудачу вниз, взяв в руки натянутое на два лука полотнище, чтобы падение его было плавным. Затея удалась, и он оказался живым в римском лагере, где потребовал отвести его к военачальнику. Гефестий открылся ему и попросил освобождения от наказания, а в ответ обещал добиться падения крепости.
И это удалось ему уже несколько дней спустя. С помощью римских инженеров Гефестий соорудил метательную машину, которая позволяла посылать снаряды на высоту городской стены. А поскольку он точно знал место, где Лидий, по обыкновению, стоял и наблюдал за врагом через проем в стене, то в то время, когда Лидий должен был быть там, он направил туда снаряд с железной стрелой.
На этом осада Кремны закончилась. Стрела попала Лидию в глаз и смертельно ранила его. Однако еще целый день, собравши волю в кулак, он продержался на ногах, убил еще двоих и потребовал от своей клики, когда почувствовал, что смерть неудержимо приближается к нему, принести ужасную клятву, что после его кончины они не сдадут города, а будут защищать его до последней капли крови.
Однако как только он умер и страшный взгляд погас на потемневшем лице, люди его словно очнулись от загадочного наваждения, надругались над покойным и сдались на милость осаждавших.
Влюбленный юноша [2]
Эта история приключилась во времена преподобного Илариона. [3] В родном городе этого святого, в Газе, жили простые и благочестивые супруги, которых Господь благословил дочерью, умницей и красавицей. Нежное создание подрастало в смирении и страхе Божием на радость всем окружающим; наставляемая родителями на добрые дела, она в своей благопристойной миловидности была пригожа, словно ангел Господень. Белое лицо ее обрамляли темные, блестящие локоны, смиренно опущенные очи оттеняли длинные, бархатно-черные ресницы, своими маленькими изящными ножками она ступала проворно и легко, словно газель в пальмовой роще. На мужчин она не поднимала глаз, потому что, когда ей было четырнадцать лет, ею овладел смертельный недуг, и родители дали обет определить ее в невесты Христовы, коль будет ей суждено выжить, и Господь принял их жертву.
И вот в эту девичью чистоту влюбился один юноша, живший в том же городе. Он был пригож лицом и строен телом, родители его, люди состоятельные, дали ему примерное воспитание и наставление в науках. Но как только он воспылал страстью к той прекрасной девушке, он оставил все занятия и только и делал, что искал повода, как бы увидеть ее, и, когда это удавалось, застывал в очаровании и впивался в прекрасное создание вожделенным взором. А если ему в течение дня не доводилось ее узреть, он бродил бледный и мрачный, не притрагивался к пище и часами предавался отчаянию.
Юноша, воспитанный добрым христианином, отличался кротким и благочестивым нравом, но отныне эта бурная любовь полностью овладела его душой. Молитва не шла ему на ум, и вместо того, чтобы помышлять о благочестивых делах, думал он только о длинных черных волосах девицы, о ее кротких прекрасных глазах, о румянце и очертаниях ее губ, о точеной, белой шее и маленьких проворных ножках. Однако он не дерзал открыть ей свою великую любовь и страсть, поскольку прекрасно знал, что она не намерена выходить замуж и не знала иной любви, кроме любви к Богу и родителям.
В конце концов, истомленный желанием, он все же написал ей длинное умоляющее письмо, в котором выразил свою горячую любовь и проникновенно просил ее внять его словам и вступить с ним, когда придет срок, в счастливый и богоугодный брак. Он надушил послание изысканной персидской пудрой, обвязал его шелковым шнурком и тайно отправил девице со старой служанкой.
Прочитав эти слова, девица зарделась как мак. В смятении она была готова разорвать письмо или тут же показать его матери. Но так как она хорошо знала юношу еще ребенком и испытывала к нему расположение, а также распознала в его словах известную скромность и кротость, она этого не сделала и вернула письмо старухе со словами: «Отнеси это обратно тому, кто его написал, и скажи, чтобы он никогда больше не обращался ко мне с такими словами. Передай ему также, что родители определили меня в невесты Христовы и я никогда не отдам руки своей мужчине, но должна и хочу в своей девственности служить Богу и почитать его, потому что его любовь для меня превыше и дороже человеческой любви. Скажи ему, что ничья любовь не станет для меня дороже любви Божьей и я останусь верна своему обету. Тому же, кто написал письмо, я желаю мира в Боге, который превыше всякого разумения. А теперь ступай и знай, что я никогда более не приму от тебя посланий».
Служанка, пораженная такой стойкостью, вернула письмо своему господину, не преминув передать ему все, что сказала девица.
И хотя служанка прибавила много слов утешения, юноша разразился громкими стенаниями, разорвал на себе одежды и посыпал главу пеплом. Он больше не осмеливался попадаться на пути своей возлюбленной и пытался лишь увидеть ее издали. По ночам он лежал без сна в своем покое, выкликая ее имя и сотню сладких, нежных, ласковых слов, называл ее светом жизни и своей звездой, своей козочкой и своей пальмой, усладой очей своих и жемчужиной, а когда приходил в себя от горячечных видений и обнаруживал, что он один в темной комнате, то скрипел зубами, проклинал Бога и бился головой о стену.
Земная любовь затмила и заглушила в его сердце страх Божий. И дьявол тут же нашел лазейку в его душу и стал толкать его на одно злодеяние за другим. Юноша поклялся, что добудет прекрасную девицу, если надо, то даже силой. Он отправился в Мемфис, поступил в школу языческих жрецов Асклепия и принялся изучать колдовское искусство. Целый год он с большим усердием предавался этому занятию, после чего вернулся домой в Газу.
Тогда он начертал на медной табличке знаки и могущественные заклинания, бывшие сильным приворотным средством. Эту самую знахарскую табличку он закопал ночью у порога дома, в котором жила девица.
Уже на следующий день девушка переменилась, ее прежде так скромно потупленные глаза стали игривыми, она распустила волосы, и они развевались по ветру, она пропускала службу и пренебрегала молитвами и напевала любовную песенку, которой ее никто не учил. Ее нрав менялся день ото дня, а ночами она металась на подушках и громко выкликала имя юноши, называла его любимым и призывала его.
Такая перемена не долго оставалась незамеченной родителями завороженной девицы. Обратив внимание на ее слова и поступки, они стали подслушивать ее, в том числе и ночью, и пришли в такой ужас, что отец «негодной дочери», как он ее назвал, был готов изгнать ее. Мать, однако, упросила его потерпеть, они стали размышлять, что же случилось, и проведали, что дочь их предалась такому распутству из-за ворожбы.
Так как девица по-прежнему была одержима, более того, выкрикивала богохульства и громко призывала своего возлюбленного, родители вспомнили о святом отшельнике Иларионе, который уже несколько лет жил вдали от города, в пустыне, и стал так близок Господу, что все его молитвы бывали услышаны. Он излечил стольких больных и столько раз изгонял дьявола, что наряду со святым Антонием ему подобало звание самого могущественного праведника Господа того времени. К нему и повели они свою дочь и рассказали все, что случилось, умоляя и прося его об исцелении.
Преподобный Иларион повернулся к девице и воскликнул:
– Так кто превратил тебя из рабы Божьей в сосуд злой похоти?
Девушка же посмотрела на него, худого и опаленного солнцем, и принялась над ним издеваться, похваляться своей белой кожей и пышным телом, а старца обзывать тощим пугалом, так что бедные родители пали на колени и закрыли головы свои от стыда. Иларион же улыбнулся и распознал вселившегося в девушку беса, против которого он тут же применил такие сильные заклинания, что тот назвал свое имя и во всем сознался. Старец изгнал ожесточенно сопротивлявшегося беса из девицы, та очнулась, как от горячечного сна, узнала и приветствовала своих плачущих родителей, попросила преподобного Илариона о благословении и с этого момента была той же благочестивой невестой Господа, что и прежде.
А юноша все ждал, пока приворотное средство ее покорит и приведет к нему в руки. Окрыленный надеждой, провел он несколько дней, в течение которых с девицей происходили описанные события. Тем временем она исцелилась и вернулась в город. Как-то он шел по переулку и вдруг заметил, что вдали показалась она, и двинулся ей навстречу. Когда она приблизилась, он увидел, что чело ее светится прежней чистотой, более того, лицо ее излучало такую умиротворенную красоту, будто она шествовала прямо из рая. Пораженный, юноша замер и застыдился своего бесчинства. Однако он не мог смириться, и, когда она оказалась совсем близко, он, полагаясь на совершенную ворожбу, подошел к ней, схватил за руку и спросил:
– Любишь ли ты меня?
Девица не смущаясь подняла взор, и ее ясные глаза вспыхнули пред ним как звезды. Свет всепроницающей доброты излился на него, она пожала в ответ его руку и сказала:
– Да, брат мой, я люблю тебя. Я люблю твою заблудшую душу и прошу тебя, вырви ее из власти зла и верни ее Господу, чтобы она вновь стала чистой и прекрасной.
Ее слова тронули сердце юноши, глаза его наполнились слезами, и он воскликнул:
– Неужто я должен навечно отречься от тебя? Но повелевай мною, отныне я буду делать только то, что ты пожелаешь.
Она улыбнулась улыбкой ангела и отвечала:
– Нет нужды отрекаться от меня навечно. Придет день, и мы предстанем пред престолом Господа. Потщимся же взглянуть Ему в очи и выдержать Его суд. И тогда я стану твоей подругой. Лишь недолгое время нам предстоит провести порознь.
Молча отпустил он ее руку, и она с улыбкой пошла дальше. Юноша какое-то время стоял как зачарованный, а потом пошел и запер свой дом и отправился в пустыню, чтобы служить Господу. Его красота улетучилась, он исхудал и потемнел от солнца и делил свое жилище с пустынными тварями. А когда усталость и сомнения одолевали его, не было ему другого утешения, чем стократно повторенные ее слова: «Лишь недолгое время…»
А все же долгим оно оказалось, его время: он седел, пока не стал совсем белым, и пробыл на земле восемьдесят один год. Да что такое восемьдесят лет? Время летит, словно на крыльях. С тех пор как с юношей приключилась эта история, прошла тысяча и не одна сотня лет; а как скоро забвение сотрет и наши дела и имена, и не останется от нашей жизни другого следа, кроме разве что маленькой зыбкой легенды…
Казнь [4]
Путешествуя в сопровождении нескольких из своих последователей, Учитель спустился с гор на равнину и подошел к стенам большого города, перед воротами которого собралось великое множество народа. Когда они подошли ближе, то увидели установленный эшафот, плаху и палачей, занятых тем, что стаскивали истощенного темницей и пытками человека с позорной колесницы и волокли к плахе. Толпа же, собравшаяся на это зрелище, напирала, издевалась над осужденным и оплевывала его, нетерпеливо предвосхищая предстоящую казнь радостными криками.
– Кто этот человек, – спрашивали друг друга ученики, – и что он натворил, если толпа так неистово жаждет его смерти? И нет никого, кто бы выказал сочувствие или проронил слезу.
– Я думаю, – сказал Учитель печально, – что это еретик.
Они пошли дальше, и, когда достигли толпы, ученики участливо осведомились у людей об имени и преступлении того, кого они как раз видели простертым на плахе.
– Это отступник, – гневно восклицали люди, – наконец-то он склонил свою проклятую голову! Смерть ему! Воистину, этот пес пытался убедить нас, что в райском граде всего лишь двое ворот, а мы-то знаем, что ворот двенадцать!
В изумлении ученики обратились:
– Как тебе удалось угадать это, Учитель?
Тот усмехнулся и продолжил путь.
– Это было нетрудно, – проговорил он тихо. – Если бы он был убийцей, или вором, или другого рода преступником, мы увидели бы в народе жалость и сочувствие. Многие бы плакали, кто-нибудь клялся бы в его невиновности. Но ежели кто обладает собственной верой, то его убиение люди созерцают без сочувствия, а труп его бросают на съедение псам.
Негостеприимная встреча [5]
Нрав человеческий многообразен, истина же едина, так что нередко люди самого различного склада оказываются объединенными в братство под одним знаменем. Едва лишь святой Франциск Ассизский [6] ушел из жизни и избавился от разочарований, от которых и святые не всегда могут уберечься, как уже повсюду появились ревностные ученики и последователи его радостной и детской веры, распространяя повсеместно светлые слова своего учителя и сладостную милость его учения. Даже в далекую суровую Англию проникло несколько братьев-францисканцев, и двое из них, Эгидиус и Готлиб, неразлучно странствовали в 1224 году, при короле Генрихе III, по земле англосаксов.
Эгидиус был из них старшим, был он и благочестивее, ибо уделом его было покаяние за долгие годы растраченной в мирских утехах и заблуждениях жизни, и он цеплялся за избавительное учение о милости, как цепляется терпящий кораблекрушение за последнее бревно, за которое он может ухватиться и которое обещает ему спасение. Потому и светлое, радостное учение из Умбрии приняло в его голове суровые и почти мрачные очертания, власяница была ему дороже, чем приветливый взор, а бедность его была не тайно торжествующей, но упрямо ожесточенной и самоедской.
Готлиб же шел дорогой своего учителя как дитя, с радостью и без чувства особого свершения, да и грехов искупать ему особенных не было надобности, ибо обращен он был еще в молодые годы, после мирной и прилежной жизни ученика садовника, и обратился он потому, что светлые, радостные повествования о жизни святого звучали в его ушах как сладостная музыка, и потому что представлялось правильным и легким подражать святому мужу из Ассизи, живя по воле Божией, словно птица среди ветвей. Он тянулся к благодати Божией так же, как здоровый тянется к солнечному свету, и его умиротворенное существование нередко вызывало упреки и затаенную зависть обремененного паломника Эгидиуса, который самому себе в сравнении с этим юнцом казался инвалидом рядом с новобранцем.
Странники уже часов девять блуждали в окрестностях Оксфорда, и суровый, мрачный осенний день уже начал ранними сумерками угасать над лесом, а они так и не увидели ни крыши, ни стен, не набрели на охотничий домик и не приметили поднимающийся дымок. Погода же была неприветливой и удручающей, то и дело принимался мелкий холодный дождь, а временами порыв сурового ветра проносился над пустошью и шумел в лесу, беспокойно и мрачно, словно охваченный безумием король, не знающий, на ком сорвать свой гнев, и вообще не уверенный, стоит ли утруждать себя и далее обязанностями правителя, чтобы мир был свидетелем его негодования.
– Вот увидишь, – устало сетовал Эгидиус, – нам придется заночевать в лесу.
– Вполне может статься, – соглашался Готлиб.
– Все мои члены болят, – вздыхал старший, – и я готов биться об заклад, что здесь немало волков.
– Не стану спорить, – добродушно отвечал Готлиб.
Весь день ему пришлось утешать спутника, ждать его и выслушивать его стенания, теперь же он утомился и думал, что и блаженный Франциск в своих странствиях испытывал, пожалуй, не большие лишения.
– Ты так спокойно говоришь это, – продолжал раздражаться Эгидиус, – тебя, я думаю, даже порадует, если я здесь останусь навсегда.
– Разумеется, нет, братец. Я останусь с тобой, как и обещал, можешь быть в этом уверен. Не затянуть ли нам псалом?
– Петь? Это на тебя похоже. Нет, я готов сейчас даже умереть, но петь псалмы не может потребовать от меня даже пресвятая Матерь Божья.
– Ну ладно, я только предложил, – успокоил его Готлиб и стал крепче поддерживать товарища, потому что пора было прибавить шаг. Дождь сеял им в лицо, а ветер после захода солнца все крепчал, словно с наступлением ночи им вновь овладела охота бушевать и творить назло людям всяческие бесчинства. Они шли теперь лесом и слышали, как наверху, в полуоблетевших кронах деревьев, металась и корчилась буря; когда же они снова вышли на открытое место, пронзительный ветер сердито рванул их рясы и завыл у них в ушах, как стая голодных волков. Брат Эгидиус вновь испугался и принялся бормотать о богах и демонах прежних языческих времен, а Готлиб, не слишком искушенный в науках, не мешал ему и слушал с легкой дрожью. Тучи, словно ошалевшее от ужаса стадо, неслись над залитой дождем пустошью, низкие и черные; вся земля, казалось, пригнулась от страха и уступила дорогу жутким существам, сбесившимся в стремительном полете от кощунственной дерзости или диких мучений совести.
Громко запел брат Готлиб навстречу враждебной ночи утешительный псалом, но его едва ли услышал цеплявшийся за него товарищ, столь шумно выказывала осенняя буря свой нрав. Она срывала благочестивые слова с губ певца и в ярости отбрасывала их прочь, вместе с истерзанными листьями и ветвями, затихала на время, а затем вновь набрасывалась на бедных чужестранцев.
Эгидиус умолк, он крепко держался, испуганный и изможденный, за своего спутника и шагал с поникшей головой в глухом унынии.
Оглушенные ветром и обессиленные, они чуть было не прошли мимо единственного пристанища, какое можно было найти в этой глуши, и заметили его только тогда, когда вдруг оказались перед мощной каменной стеной и прочными тесовыми воротами. Это был монастырь. Вздохнув, они остановились, пришли в себя и услышали за толстой стеной, словно доносящийся издали, невнятный шум, тут же подхваченный ветром и с озорством рассеянный им во тьме. Прислушавшись повнимательнее, они поняли, что это шум кутежа и что там внутри, без сомнения, шел веселый пир.
– Надо же, чтобы судьба привела нас к этаким братьям, – безрадостно произнес Эгидиус. – Не позор ли это, когда из-за монастырских стен вместо хвалы Богу звучат бесовские пляски?
– Да пусть их, – рассуждал Готлиб, – не съедят они нас. Если же ты предпочитаешь провести ночь с волками, я готов.
– Нет, нет! – воскликнул Эгидиус. – Но я скажу им об этом, я разбужу их совесть, чтоб они устыдились и восхвалили Господа, пославшего нас к ним.
– Для начала хорошо бы нам попасть внутрь, милый брат, – урезонил его Готлиб.
И он взял свой посох орехового дерева и стал что есть силы бить по воротам.
Прошло какое-то время, но никто так и не появился. Однако над ними приоткрылось – незаметно для них – маленькое оконце, сквозь которое привратник рассматривал непрошеных гостей. После этого – Готлиб тем временем все испытывал ворота на прочность своим посохом – он преспокойно отправился к аббату и, сообщив, что в ворота стучатся два голодранца, осведомился, следует ли им открыть.
Аббат, бывший любителем увеселений и долгое время не видевший гостей, тут же с нетерпением спросил:
– Это актеры? Небось бродячие жонглеры или музыканты; кого еще в это время может занести в наши края! Ступай и спроси, и, если это жонглеры, впусти и веди их ко мне. Если же это нищенствующие монахи, или ищущие покаяния, или прочие тоскливые ночные твари, делай вид, будто не слышишь, и пусть убираются куда угодно.
Привратник вернулся к воротам, вновь открыл свое маленькое смотровое окошко и прокричал:
– Эй, вы там, кто будете?
– Дружище, – тут же воскликнул Готлиб в ответ, – открой нам, мы устали.
– Вы кто, жонглеры? – продолжал выкрикивать привратник. Однако ветер завывал отчаянно, а привратник был из северных краев и не понимал из всего, что ему говорили странники, даже половины, да и сами они с трудом разбирали его слова.
– Может, вы канатоходцы? – спросил он снова.
Те не поняли, потому как и слова такого прежде не слыхали, и, чтобы положить конец ожиданию, Готлиб крикнул, запрокинув голову:
– Да-да, мы добрые братья, не беспокойтесь и впустите нас!
Привратник впустил их и наблюдал с презрительной жалостью, как бедные странники, измученные, нетвердой походкой, входили под крышу, отирая залитые дождем лица.
Он проводил их в трапезную, где собрались настоятель и братия в нетерпеливом ожидании.
Монахи забавлялись весь вечер, сочиняя новую игру в кости, из-за чего рассорились и угомонились только после потасовки; теперь же, выпив изрядно пива, они были рады, что нашлось новое развлечение.
– Бог в помощь, приятели, – воскликнул настоятель, встречая их, – так вы музыканты и скоморохи, это мне по нраву. Правда, по вашему виду этого не скажешь. Возьмите-ка по кружке пива да по хорошему куску ветчины, тогда и дело пойдет веселее.
Услышав такое обращение, оба монаха сконфузились. Готлиб смущенно молчал и глупо улыбался, Эгидиус же ощутил в себе порыв духа, он торжественно шагнул навстречу настоятелю, вытянул руку и воскликнул резким голосом:
– Увы, братья! Не балаганные шуты мы и не искатели приключений, но посланцы Господа, мы братья ваши и хотим научить вас тому, что завещал нам наш святой наставник. Потому придите в себя, дайте нам еды, а после того предадимся благочестию…
Напрасно тянул его брат Готлиб сзади за рясу. Еще не закончил он свою гремящую речь, как настоятель с красным от гнева лицом подскочил к нему, ударил по вытянутой руке и, толкнув в грудь, закричал:
– Что, собака, прощелыга бездомный! К нам в братья решил набиваться?! Учить нас собираешься? Смотри, как бы я не выбил тебе все зубы, рожа поганая! А теперь вон, эдакие гости нам ни к чему.
Приказ взбешенного настоятеля был выполнен, и не успели закоченевшие пальцы странников отойти в приятном тепле у огня, как их вытолкали взашей и они снова оказались за воротами, захлопнувшимися за ними с громким стуком.
Коль скоро люди различны, так же различно отражаются в них события и вещи. Долгое время спустя, после того как братья Готлиб и Эгидиус расстались, каждый рассказывал эту историю о дурном приеме, оказанном им в монастыре под Оксфордом, по-своему, и неизвестно, кто из них говорил правду.
Брат Готлиб говорил каждый раз, когда речь заходила об этой истории:
– Когда мы вновь оказались на опушке леса, коченея, я тут только сообразил, что настоятель хоть и не о том думал, а все же был не совсем неправ. Ведь наш учитель Франциск и сам порой называл себя жонглером Божиим, и нам надлежало бы принять вызов и сказаться актерами, а затем учтиво и весело объявить о нашем учении. Следовательно, действовали мы неразумно, и поделом нам, что пришлось ночевать в сарае у скотного двора.
А брат Эгидиус рассказывал иное, и рассказ его донесла до нас молва:
– Да я бы лучше провел ночь с волками в лесу, чем вернулся бы под эту крышу. Мы подождали, однако, не охватит ли заблудших раскаяние, и правда, полчаса спустя выбрался из монастыря потихоньку юный монах, огорченный тем, что посланцы Господа в его доме испытали такой дьявольский прием. Он проводил нас в сарай у скотного двора, дал нам сена, и мы там переночевали. Но в ту же ночь привиделся мне сон, и видел я, как Господь Бог вершил суд над теми монахами, и приговорил их к повешению, и случилось так. И когда утром мы пробудились, из всех монахов монастыря в живых остался лишь тот монашек, остальные же лежали в своих постелях мертвые, а на шее у них были отметины от веревки, как у повешенных.
Chagrin d\'amour [7]
В давние времена расположились как-то у Канволе, столицы страны Валуа, лагерем рыцари, разбив множество роскошных шатров. День за днем бушевал турнир, главным призом на котором была рука королевы Херцелоиды, девственной вдовы Кастиса, прекрасной дочери короля Грааля Фримутеля. Среди участников турнира можно было увидеть высоких властителей: английского короля Пендрагона, норвежского короля Лота, короля Арагона, герцога Брабантского, знаменитых графов, рыцарей и славных воинов, таких, как Моргольт и Ривалин; все они перечислены во второй песни «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха. Один прибыл за воинской славой, другой – ради прекрасных голубых глаз молодой королевы, большинство же – ради ее богатых и плодородных земель, ее городов и замков.
Помимо многих высоких властителей и именитых героев прибыло туда и целое воинство безымянных рыцарей, отчаянных смельчаков, головорезов и прощелыг без гроша в кармане. У некоторых из них не было даже своей палатки, они пристраивались на ночлег где придется, часто под открытым небом, накрывшись плащом. Лошади их жили на подножном корму, сами же они находили еду и питье за чужим столом, с приглашением или без, и каждый из них надеялся на удачу, если вообще помышлял о том, чтобы поучаствовать в турнире. Надежда была, в сущности, крайне мала, потому что лошади их были никудышные; а на плохом жеребце и самый смелый рыцарь вряд ли чего добьется на турнире. Многие и не думали о том, чтобы биться, а собирались лишь при всем этом присутствовать и по возможности присоединиться ко всеобщему веселью или получить от этого какую-нибудь выгоду. Настроение у всех было хорошее. Каждый день празднества и угощения, то в замке королевы, то у влиятельных и богатых правителей в лагере, и кое-кто из бедных рыцарей радовался тому, что турнирные бои так затянулись. Рыцари выезжали на прогулки, охотились, вели беседы, пили и веселились, наблюдали за боями и при случае пробовали свои силы, лечили раненых лошадей, дивились роскоши великих государей – не упускали ничего и радовались жизни.
Среди бедных и безвестных воинов был один по имени Марсель, пасынок незнатного барона на юге, привлекательный, несколько худощавый молодой рыцарь удачи в скромных доспехах и на слабенькой старой лошадке, которую звали Мелисса. Как и многие, он прибыл удовлетворить любопытство и попытать счастья, да и от всеобщего празднества и благополучия получить немного. Среди равных себе и даже среди некоторых почтенных рыцарей этот Марсель добился кое-какой известности, правда не как воин, а как певец и жонглер, потому что умел сочинять стихи и очень приятно исполнять свои канцоны, играя на лютне. Он чувствовал себя как рыба в воде во всей этой суете, напоминавшей ему большую ярмарку, и не желал ничего большего, кроме того, чтобы удалой воинский лагерь со всеми его увеселениями простоял как можно дольше. Как-то один из его покровителей, герцог Брабантский, пригласил его принять участие в пиршестве, устроенном королевой для избранных рыцарей. Марсель отправился вместе с ним в столицу, в замок; зал сиял великолепием, а чаши и кувшины дарили добрую усладу. Однако бедный юноша покидал веселье с нелегким сердцем. Он увидел королеву Херцелоиду, услышал ее проникновенный волнующий голос и отведал ее нежных взглядов. И теперь сердце его билось любовью к высокородной красавице, нежной и скромной, словно простая юная девушка, но на самом деле вознесенной на недосягаемую высоту.
Конечно, он был волен, как и любой другой рыцарь, вступить в борьбу за нее и испытать свою судьбу на турнире. Однако ни конь его, ни оружие не были хороши для этого, да и назвать себя большим героем он не мог. Страха же он не ведал и был всем сердцем готов поставить свою жизнь на карту ради почитаемой им королевы. Однако силы его и сравнить нельзя было с силами Моргольта, или короля Лота, или тем более Ривалина и других героев – он хорошо понимал это. И все же не хотел отказываться от попытки. Он кормил свою Мелиссу хлебом и отборным сеном, которое ему удалось выпросить, он копил свои силы, стараясь побольше есть и спать, с особым усердием чистил и драил свои невзрачные доспехи. И несколько дней спустя он выехал поутру на поле и заявил себя на турнире. В противниках у него оказался испанский рыцарь, они помчались навстречу друг другу с длинными копьями, и Марсель вместе со своей лошадью оказался поверженным. Изо рта у него шла кровь, все члены его ныли, однако он поднялся без посторонней помощи, увел свою дрожащую лошадку и умылся в ближнем ручье, у которого и провел остаток дня, одинокий и униженный.
Вечером, когда он вернулся в лагерь, и там и тут уже горели факелы, герцог Брабантский окликнул его по имени.
– Ты сегодня испытал свое воинское счастье, – сказал он добродушно. – В следующий раз, если снова решишься, возьми одну из моих лошадей, юноша, а если победишь, оставь ее за собой! А теперь давай веселиться, и спой нам добрую песню для отдыха!
Бедному рыцарю было не до пения и веселья. Однако ради обещанной лошади он согласился. Он зашел в шатер герцога, выпил кубок красного вина и попросил лютню. Он спел песню, и еще одну, слушавшие хвалили его и пили за его здоровье.
– Да благословит тебя Господь, певец! – воскликнул удовлетворенный герцог. – Оставь бранные дела и поезжай вместе со мной ко двору, не пожалеешь.
– Вы добры, – тихо произнес Марсель. – Но вы пообещали мне хорошую лошадь, и, прежде чем я подумаю о предложенном, я хочу еще раз выйти на бой. Что значат хорошая жизнь и прекрасные песни, когда другие рыцари бьются за славу и любовь!
Кто-то засмеялся:
– Не думаете ли вы завоевать королеву, Марсель?
Тот вскочил:
– Я желаю того же, что и вы, пусть я всего лишь бедный рыцарь. А если мне не дано победить, то все же я могу сражаться во славу ее, истекать ради нее кровью и терпеть ради нее поражение и боль. Мне милее умереть за нее, чем без нее вести привольную бесславную жизнь. А кто посмеет смеяться надо мной, для того, рыцари, у меня есть острый меч.
Герцог повелел всем успокоиться, и вскоре все разошлись на ночлег. Тогда герцог подал знак и задержал певца, который тоже собирался уходить. Он посмотрел ему в глаза и сказал с доброй улыбкой:
– Ты еще молод, мой мальчик. Неужто ты и в самом деле собираешься бежать за призрачным видением, несмотря на несчастия, раны и боль? Тебе не стать королем Валуа и не заполучить королеву Херцелоиду в возлюбленные, ты прекрасно это знаешь. Что толку, что ты сшибешь на землю одного-другого рыцаря посильнее тебя? Тебе ведь придется уложить и королей, и Ривалина, и меня, и всех героев, чтобы достичь своей цели! Потому я и говорю тебе: если хочешь сражаться, начни с меня, а если не справишься со мной, то оставь свои мечты и иди ко мне на службу, как я тебе и предлагал.
Марсель покраснел, однако воскликнул не раздумывая:
– Благодарю вас, ваше высочество, завтра же я готов сразиться с вами.
Он удалился и отправился присмотреть за своей лошадью. Та приветливо заржала при его приближении, взяла хлеб у него из рук и положила голову ему на плечо.
– Да, Мелисса, – сказал он тихо и погладил ее по голове, – ты меня любишь, моя лошадка. Но лучше бы мы погибли где-нибудь по дороге в лесу, чем добрались до этого лагеря. Спи, Мелисса, моя лошадка.
На следующее утро, совсем рано, он поскакал в город Канволе и обменял там у одного горожанина лошадь на новый шлем и новые сапоги. Когда он уходил, Мелисса тянула за ним голову на длинной шее, а он шел и шел не оборачиваясь. Потом один из оруженосцев герцога привел ему рыжего жеребца, молодого и сильного, а часом позже и сам герцог выехал на поединок. Собралось много зрителей, потому что в бой вступал один из высокородных рыцарей. В первой стычке победа не далась никому, потому что герцог Брабантский пощадил юношу. Но потом он разгневался на безрассудного мальчишку и налетел на него с такой силой, что Марсель вылетел из седла, нога его застряла в стремени, и рыжий жеребец потащил его за собой.
Пока отчаянный юноша, покрытый ранами и ушибами, лежал в шатре для слуг герцога, где за ним ухаживали, в городе и лагере разнеслась весть, что прибыл Гашмурет, известный всему свету герой. Он ехал в блеске и великолепии, слава опережала его, словно яркая путеводная звезда, высокородные рыцари задумчиво морщили лоб, бедные и незнатные с восторгом встречали его, а прекрасная Херцелоида раскрасневшись смотрела ему вслед. На следующий день Гашмурет неспешно выехал на поле, вызвал соперников и выбил знатных рыцарей одного за другим из седла. Все вокруг говорили только о нем, он был бесспорным победителем, ему предназначалась рука королевы и ее страна. Больной Марсель тоже слышал пересуды, которыми полнился лагерь. Он понимал, что Херцелоида потеряна для него, он не хотел слушать, как восхваляли и славили Гашмурета, и он отвернулся от всего мира, стиснул зубы и желал одной только смерти. Но все-таки он услышал. Его посетил герцог, одаривший его одеждами и также говоривший о победителе. И Марсель узнал, что королеву от любви к Гашмурету бросает то в жар, то в холод. О Гашмурете же говорили, что он не только рыцарь французской королевы Анфлизы, но и покинул в краю язычников черную мавританскую принцессу, супругом которой он успел побывать. Когда герцог ушел, Марсель с трудом поднялся с ложа, оделся и пошел, превозмогая боль, в город, чтобы увидеть победителя Гашмурета. И увидел его, мощного загорелого воина, настоящего великана богатырского сложения. Он походил на мясника. Марселю удалось пробраться во дворец и затеряться среди гостей. И он увидел королеву, нежную и юную, пылавшую от счастья и стыда, жаждавшую поцелуев заезжего героя. К концу пира его покровитель, герцог, приметил его и подозвал к себе.
– Позвольте, – обратился герцог к королеве, – представить вам этого юного рыцаря. Его имя Марсель, он певец, искусством своим часто доставлявший нам блаженство. Если пожелаете, он споет нам песню.
Херцелоида приветливо кивнула герцогу и рыцарю, улыбнулась и велела принести лютню. Юный рыцарь был бледен, он отвесил самый глубокий поклон и нерешительно взял протянутую ему лютню. Он пробежал пальцами по струнам и запел, неотступно глядя на королеву, песню, сочиненную им раньше в родной стороне. Однако после каждого куплета он добавил рефреном две простые строки, звучавшие печально и исходившие из глубин его раненого сердца. И эти две строки, впервые прозвучавшие в тот вечер в замке, вскоре стали известны повсюду, и все стали их напевать. Вот они:
Plaisir d\'amour ne dure qu\'un moment,
Chagrin d\'amour dure toute la vie. [8]
Закончив песню, Марсель покинул замок, и яркий отблеск свечей из окон замка озарял его путь. Он не стал возвращаться в лагерь, а пошел другой дорогой из города во тьму, чтобы навсегда оставить рыцарское ремесло и начать жизнь странствующего певца.
Отзвучали празднества и истлели шатры, герцог Брабантский, славный герой Гашмурет и прекрасная королева уже несколько столетий как покинули этот свет, все забыли город Канволе и турниры во славу Херцелоиды. Время сохранило только их имена, кажущиеся нам странными и покрытыми пылью веков, а еще стихи юного рыцаря. Их поют и по сей день.
Кончина брата Антонио [9]
Глубокочтимая госпожа и любезная сестра во Христе! До меня дошла ваша просьба, и я описываю вам в настоящем письме те события, о которых вы желаете узнать, не жалея на то сил. Ибо хотя вы, вам это известно, мне совершенно незнакомы, у меня есть основания полагать, что вы хорошо знали усопшего в прежние времена, а посему извольте сие мое известие прочесть и осмыслить, проявив снисходительность к слабости моего пера.
Смерть, которую блаженный Франциск называл «нашей любезной сестрицей», забирает многих людей как легкую и послушную добычу. Другие же, и среди них есть благочестивые и мужественные люди, уступают ей лишь после упорной борьбы и против воли, словно ненавистному врагу. Среди этих последних и мой досточтимый собрат Антонио, чья кончина исполнила меня глубокого ужаса и такого изумления, что я не забыл ни одного его слова, ни одной морщинки на его лице, равно как и ни одного движения его рук.
Правда, самой смерти его я не видел, но оставался почти до самого этого мгновения у его одра. Все, что мне об этом известно, я постараюсь записать и прилежно вам сообщить. Не препятствует мне и мое искреннее уважение к покойному, ибо по многим размышлениям я совершенно уверился, что Антонио умер достойной смертью и был принят Господом милосердно, как верный раб Божий.
Было это холодным утром, тому четыре месяца назад, когда ко мне пришел вестник от брата Антонио и прокричал: поднимайся и поспеши, ибо брат наш Антонио близок к смерти и не много часов ему еще осталось быть с нами. Я испугался и, захватив свой посох, в большой спешке последовал за этим человеком через гору. Путь далек, да к тому же крут и неудобен, и мы шагали шесть часов до привала, да потом еще два часа, а печаль и тревога сжимала наши сердца, так что ни один из нас не мог произнести ничего, кроме нескольких незначащих слов. И вестник, до того проведший в пути полночи, чтобы поспеть за мной, изнемог до того, что я оставил его у дороги и добрался до цели в одиночку. Стремительно, как если бы помолодел на много лет, взобрался я на холм и нашел нашего брата в хижине спящим. Он лежал спокойно, дышал слабо, и лик его был отмечен печатью смерти. Я уселся у его ложа, осторожно взял его правую руку и бдел над ним. Но поскольку я человек весьма преклонного возраста и тело мое ослабло от долгого пешего перехода, случилось так, что я задремал, и прошло, видимо, около часа, прежде чем я вновь пробудился. И оказалось, что больной держит мою руку и не отрывает от меня глаз, не говоря ни слова. Стыд охватил меня из-за того, что я заснул, и я был подавлен.
– Брат Антонио, – сказал я, – видишь, я пришел, чтобы проститься с тобой. Блажен ты, стоящий так близко от престола Господня.
Антонио хранил молчание и улыбался как-то по-особому, словно не верил моим словам. Я-то думал, он посмеивается, что я заснул, и потому смиренно попросил его прощения и хотел узнать, какую службу я мог бы ему сослужить.
– Открой дверь настежь! – сказал он мне.
Я исполнил его повеление. А так как он по-прежнему молчал, я спросил вновь, какой услуги он от меня еще ожидает.
– Раскрой и крышу! – отвечал он, показывая пальцем вверх.
Тогда я вышел из хижины и вынул две доски из кровли, исполнившись удивления, что бы это могло значить. Когда я вновь подошел к его ложу, его взгляд был прикован к просвету в крыше. И он снова улыбался, и это было удивительно.
– Я шесть дней не видел неба, – воскликнул он, обращаясь ко мне, и попросил еще посидеть с ним.
Я тут же согласился, и он вдруг начал громко и с жаром говорить. Глаза его горели как свечи, а руки двигались как руки человека, витийствующего перед толпой. А слова его были таковы:
– Вы, говорящие о жизни и смерти, что знаете вы о том? И кто из вас уже умирал горькой смертью, чтобы знать ее? Однако и о жизни вам известно не много, ибо глаза ваши слепы и чувства ленивы. Однако я знаю, что же такое жизнь, ибо взор мой был ясен, а ныне смерть стоит у моего одра. Я знаю, как велика и обильна чудесами земля и как прекрасно и коварно море. И воистину тот маленький лучик, что посылает солнце в мое жилище, приносит мне больше радости, чем все пережитое мною прежде среди людей.
О ясное солнце! О просторные дали! О горы, на которых я стоял, и ручьи, из которых я пил! О моя далекая родина и о моя юность!
Бедные вы, несчастные люди, сколь скудно и безрадостно течение вашей жизни, подобное мутным водам, раньше срока иссякающим в песках! Да откройте же глаза ваши и узрите, сколь чудесна и восхитительна земля, на которой вы обитаете! Взгляните же, сколь кротка и таинственна долина, освещаемая луной, и сколь исполнено блеска море, из которого поднимается солнце!
Мне эта речь показалась удивительной, и я озаботился, как бы брат мой не закрыл глаза, так и не помянув имя Господне. Потому я тихонько толкнул его и помахал ему рукой. Он же помолчал краткое время и улыбнулся, затем обратился ко мне очень тихим голосом:
– Брат Дженнаро, по пути сюда ты перевалил сегодня через гору, с вершины которой можно увидеть одновременно море и большие заснеженные горы. На том месте стоит клен и резная фигура скорбящей Богоматери. Знаешь ли ты это место?
И, получив положительный ответ, он продолжал:
– Хорошо, ты его знаешь. Тебе, должно быть, доводилось видеть оттуда бурю на море, а над белыми далекими горами голубую небесную высь и белые облака. И ты видел клен и лежал, отдыхая, в его округлой тени. И ты вдыхал запах его листьев и морской воздух, а взгляды твои бежали дальше, вниз, в прекрасные светлые луга.
– Да, – отвечал я, – все так, как ты рассказываешь, и я часто все это видел.
– Хорошо, – сказал Антонио, – так вот, всего этого я больше не увижу – ни гор, ни клена, ни моря, ни светлых лугов.
– Так и есть, – отвечал я, – не прийти тебе уже на то место, твой путь лежит к ангелам Господним.
– А город, в котором я родился, – продолжал он, – и реку нашу, и все это тоже я больше не увижу?
– Нет, – сказал я вновь, – Богу так угодно.
– Брат мой, – воскликнул он громко, – ту реку и голубое небо и все эти прекрасные и восхитительные земные вещи я люблю больше, чем тебя и всех людей и чем всех ангелов Господних!
Тут сердце мое вздрогнуло так, что я побледнел, и бросился на колени, и стал молиться Господу. Затем я поднялся и обратился к недужному:
– Я не слышал того, что ты сказал. Но умоляю тебя, скажи мне, что любишь Бога больше, чем все моря и восхитительные вещи этой земли!
И тогда он немного нагнулся, тут я увидел, что глаза его были полны слез. И он произнес:
– Господи Боже, я люблю Тебя больше своей собственной жизни, помилуй душу мою.
После этого он совсем затих, а я сидел рядом, и мы плакали и вздыхали, пока солнце не ушло из хижины. Когда это произошло, он вновь вскричал чрезвычайно пронзительно и простер руки. Я подумал было, что пришел его конец, и дал ему святое причастие. Он успокоился и поблагодарил меня сердечными словами. После этого попросил оставить его.
– Ступай же, – проговорил он, – мой милый брат, тебя там заждались. Пусть я умру в одиночестве, ибо я знаю, что иначе с этой минуты ты станешь бояться смерти как огня. Дай мне благословить тебя!
Он благословил меня с большим жаром и поцеловал, словно отец сына, хотя был ненамного старше меня. И я оставил его, раз он так хотел, и отправился восвояси. Однако душа моя была полна смущения, а сердце мое разрывалось от горя и сдавившей его тяжести. Молясь и вздыхая, шел я своей дорогой, а когда достиг того клена и увидел море, поблескивающее в свете восходящей луны, мрачные мысли одолели меня, так что я бросился наземь и долго лежал недвижимо, как сраженный. Поднявшись же вновь с земли, я увидел открывавшиеся по обе стороны обширные долины, освещенные луной, и небо, усеянное звездами.
С того часа я никогда не забывал дорогого брата Антонио, более того, часто размышлял о его речах и обо всем, что мне было известно о его жизни и нраве. Во всем я усматривал власть и неисчерпаемую любовь Господа, сделавшего Антонио блаженным мудрецом. Ведь прежде он был не только состоятельным мужем благородного сословия и сластолюбцем, но также поэтом и известным любителем светских наук, знавшим даже греческий язык и множество прочих искусств, в которых наша бедная душа не нуждается. Рассказывали, что он испытывал грешную любовь к одной знатной даме и посвятил ей целую книжицу латинских стихов. Даже и в то время, когда я уже давно знал и глубоко чтил его за благочестие и мудрость, он мог вдруг заговорить так, как это делают поэты, в некоем воодушевлении, обращаясь к горам и ветрам, словно бы у них есть душа. И один раз я скромно указал ему на это, как на занятие недостойное, даже языческое. Тогда он бесстрашно рассмеялся и сказал:
– Разве не ведомо тебе, что святой Франциск называл все эти вещи «нашими братьями и сестрами» и что он проповедовал даже птицам и другим тварям? Истинно, я знаю, что каждая былинка на поле свята и дорога Господу. И что рыбы, немые и обитающие в глубинах водных, ему угодны, и святой человек, имя которого я ношу, проповедовал им Евангелие.
Таким вот образом его сердце, которое оказывалось по отношению к людям порой суровым и строгим, было благосклонно ко всякого рода природным и милым сердцу вещам, отчего он также всех животных и даже маленьких мушек и жучков называл «святыми» и обходился с ними с большой осторожностью. Вот что сказал он однажды:
– Если ты обидишь человека, он может отомстить за это или простить тебя. Невинные же растения и животные отданы Богом на попечение человека, чтобы он любил их и присматривал за ними, как за меньшими братьями. Если ты сделаешь человеку приятное, платой тебе за это будет его благодарность и его любовь, однако когда ты щадишь жучка, рыбу, или птицу, или же малое растение, а то и побольше или выказываешь им свою любовь, то делаешь угодное Господу. И когда ты после смерти предстанешь пред Ним как благочестивый христианин и проповедник, Он, быть может, спросит тебя: «Почему ты раздавил этого червя? Почему ты сорвал этот цветок и бросил его? Почему ты сломал эту ветвь? Все это ты причинил Мне».
Более десяти лет назад Антонио сочинил длинное и прекрасное стихотворение о пчелах и о том, как они умеют жить словно народы, приготовляя удивительным образом мед. Он сам прочел мне его, и я немало дивился правдивости и красоте его слов. Когда же я его в другой раз спросил, почему он, раз уж Бог сделал его поэтом, не воспел страданий Спасителя или жизнь блаженных отцов церкви, он серьезно задумался и отверг мои предложения.
– Помысли, – сказал он, – как могу я дерзнуть описать в стихах Господа и Его священное имя, если мне и малейшее из Его творений, вроде тех самых пчел, представляется столь удивительным и непостижимым.
Однако довольно об этом. Вы желаете узнать о кончине Антонио, так что я напишу далее то немногое, что дошло впоследствии до моих ушей.
Вскоре после того, как я покинул умирающего, выполняя его собственную волю, навестил его козопас из Toppe и оставался у нашего брата до самой его смерти. Он обнаружил его очень ослабшим, но лежащим с открытыми глазами, и, когда он спросил у Антонио, какую службу он может ему сослужить, тот поблагодарил его слабым голосом, так ни о чем и не попросив. А некоторое время спустя он начал говорить очень тихо и в ясном уме. Он расспрашивал пастуха о его стаде, о том, сколько у него козлов и как их зовут, сколько им лет и какого они нрава, так, как разговаривают между собой пастухи. После этого он спросил:
– Есть у тебя в стаде маленькие козлята? Когда пастух ответил утвердительно, Антонио назвал ему разные травы, полезные, если козлята заболеют. Некоторые из этих трав были пастуху известны, некоторые же нет, и тогда умирающий описал их с чрезвычайной ясностью.
– Не забудь, – сказал Антонио, – что все эти скотинки, пусть еще столь малые, созданы Богом и явлены нам живыми чудесами Его доброты. О них должна быть твоя забота, не обо мне, ибо я, как видишь, утлая посудина, и жизнь моя неудержимо утекает. Ты же должен каждый день своей жизни думать обо мне, чтобы радоваться своей жизни, пока она еще продолжается. Ибо однажды и твои силы иссякнут, и ты вкусишь смерти, а вкус ее горше, чем может измыслить мысль. Как бы ни была тяжела твоя жизнь, друг мой, смерть все же гораздо тяжелее и ужаснее. Знай это и радуйся своим дням, пока наслаждаешься жизнью.
После этого он долго молчал, и силы его таяли. И все же он заговорил вновь и произнес эти странные слова:
– Кто жаждет женщины и любит ее, но не знает, отвечает ли она ему тем же, тот страдает, и жизнь его тяжела, и всякий мужчина испытал это в сердце своем. Однако тот, кто жаждет Бога и любит Его, тот страдает еще более тяжко, и страдание его бесконечно, ибо он никогда не узнает, сможет ли он удостовериться в любви Божией.
Больше он уже ничего не говорил. Пастух же рассказал: умирающий бросал вокруг себя все более ясные взгляды, рассматривая в том числе и свою руку все более пристально и словно изумленно, и несколько раз кивнул головой. Затем он улыбнулся доброй и печальной улыбкой и вскоре скончался. Мир праху его!
Вот и все, что я могу сообщить. Примите это немногое благосклонно, и да благословит вас Господь! Этого вам желает ваш покорный слуга и брат во Христе
Фра Дженнаро.
Рассказчик [10]
В монастыре, расположенном высоко в тосканских Апеннинах, сидел у окна своего уютного покоя престарелый господин духовного сословия, гостивший в обители. За окном летнее солнце заливало жаром стены, узкий, похожий на крепостной, двор, каменные лестницы и крутую мощенную камнем дорогу – жаркий и утомительный путь из зеленой долины к монастырю. Дальше простирались плодородные долины, сады, щедро заросшие оливами, фруктовыми деревьями и виноградной лозой, светлые маленькие селения с белыми стенами и изящными башнями, а за ними высокие, голые, красноватые горы, на которых то там, то тут располагались окруженные стеной усадьбы и маленькие белые виллы.
На широком подоконнике перед стариком лежала книжечка. Переплет ее был сделан из старого пергамента, на котором все еще пылала, выведенная киноварью, буквица. Он только что читал ее, а теперь, играя, поглаживал белой рукой книжицу, задумчиво улыбался и слегка покачивал головой. Томик этот не из монастырской библиотеки, да и был бы там совсем некстати; ведь содержались в нем не молитвы, не благочестивые размышления и не жития святых отцов, а новеллы. Этот сборник новеллино [11] на итальянском языке появился совсем недавно, и на его изящно отпечатанных страницах можно было прочесть много всякой всячины, нежные истории о рыцарстве и дружбе вперемежку с проделками прожженных шельмецов и сочными описаниями прелюбодеяний.
Несмотря на кроткую внешность и довольно высокий церковный сан, у дона Пьеро не было причин смущаться этих светских соленых историй и побасенок. Он немало повидал на свете и немало испытал наслаждений, к тому же он и сам был сочинителем множества новелл, в которых щекотливость приключений состязалась с деликатностью их описания. Сколь изобретательно ухаживал он в молодые годы за прекрасными дамами, сколь ловко карабкался, чтобы проникнуть в запретные окна, столь же умело и складно научился он позднее рассказывать о своих и чужих приключениях. Хотя он не напечатал ни одной книги, написанные им истории знала вся Италия. Он любил более утонченный способ распространения сочинений: он заказывал искусному писцу рукопись своих историй, каждой отдельно, и посылал такой лист или тетрадку то одному, то другому из своих друзей в подарок, всегда сопровождая лестным или шутливым посвящением. Эти драгоценные пергаментные списки поначалу ходили по рукам в аббатствах и при дворах, их пересказывали и переписывали снова и снова, и так они оказывались в тихих отдаленных замках, в каретах путешественников и на кораблях, в монастырях и домах священников, в мастерских художников и в хижинах ремесленников.
Правда, вот уже несколько лет минуло с тех пор, как последняя изящная новелла отправилась в свет из-под его пера, а в нескольких городах книгоиздатели ждали его смерти, словно голодные волки, чтобы тут же напечатать собрание новелл. Дон Пьеро сделался стар, и сочинительство ему наскучило. К тому же с годами его душа все больше отвращалась от галантных и суетных материй, склоняясь если и не к аскезе, то все же к более углубленному и неспешному созерцанию Вселенной и ее частностей. Счастливая и насыщенная жизнь до сих пор наполняла его рассудок действительностью, удерживая от глубокомыслия; ныне же настал час, когда взор его обратился от пестрого мирка бренности к широким просторам вечности и наполнился тихим изумлением при виде причудливого и неразрывного сплетения конечного и бесконечного. Светлы и искренни, подобно его прежним мыслям, были и эти рассуждения, он не сетуя ощутил приход успокоения и начало осени, когда спелый плод насыщается стремлением и устало клонится к матери-земле.
И вот он, отложив книгу, созерцал, размышляя и наслаждаясь, светлый летний пейзаж. Он видел, как копаются на полях крестьяне, как, запряженные в недогруженные телеги, топчутся у садовых ворот лошади, как неопрятный нищий бредет по длинной белесой дороге. Улыбнувшись, он решил подарить что-нибудь этому нищему, когда тот доберется до монастыря, и, привстав, с наигранным сочувствием пробежал взглядом дорогу, делавшую большой крюк вокруг мельницы и речной излучины и поднимавшуюся к воротам, крутую раскаленную каменистую дорогу, по которой блуждала одинокая курица, сонно и бестолково, а на раскаленных стенах монастыря играли ящерицы. Они стремительно носились, тяжело дыша замирали, медленно и пытливо поворачивали переливающиеся шеи и темные немигающие глаза, с удовольствием вдыхали трепещущий от жары воздух и вдруг снова срывались с места, увлекаемые неведомым порывом, молниеносно исчезали в узких каменных щелях, оставляя снаружи свисающие длинные хвосты. От этого зрелища доном Пьеро овладела жажда. Он оставил покой и перешел через прохладные дортуары на сонную внутреннюю галерею. Услужливо поднял ему монах-садовник тяжелое ведро из прохладных глубин подземной цистерны, в которых незримые капли ударяли по звучной водной глади. Он налил себе воды, сорвал с ухоженного лимонного деревца зрелый желтый плод и выжал его сок в бокал. После этого он стал пить маленькими глотками.
Вернувшись в комнату, к окну, он устремил услажденный взор на долины, сады и гряды гор. Если его взгляд обнаруживал усадьбу, уютно примостившуюся на склоне, он рисовал в своем воображении залитые солнцем ворота, через которые туда и сюда двигались поденщики с наполненными корзинами, взмыленные упряжные лошади и широкомордые волы, шумная детвора, суетливые куры, спесивые гуси, румяные служанки. Если он примечал на горной гряде пару стройных кипарисов, словно языки пламени вздымавшихся к небесам, то представлял себе, как путником останавливается под ними на привал, в шляпе с пером, с забавной книгой в сумке и с песней на устах. Там, где край леса отбрасывал свою зубчатую сень на светлый луг, его взгляд замирал: ему виделись молодые люди, расположившиеся среди анемон и проводящие время в беседах и легком кокетстве, у опушки их уже ждут большие плоские корзины с холодными закусками и фруктами, а в прохладную лесную землю наполовину врыты узкогорлые кувшины с вином, в которые дома еще были опущены кусочки льда.
Он привык наслаждаться созерцанием видимого мира, так что в отсутствие прочих развлечений ему довольно было видеть из окна дома или кареты любой клочок земли или другой осколок мира, чтобы не скучать, при этом разнообразные людские занятия и хлопоты вызывали у него, смотревшего на все это свысока, улыбку. Он признавал за каждым его заслуги, имея достаточно оснований полагать, что в глазах Бога церковный владыка значит немногим более какого-нибудь бедняги поденщика или крестьянского сына. И пока он, лишь недавно ускользнувший из города, любовался зелеными просторами, его неугомонный летучий дух перенесся на веселые поля юности, словно это она раскинулась перед ним, чтобы он мог с удовольствием рассмотреть ее, оглядываясь назад из своего почтенного возраста. Точно отголосок испытанной когда-то радости, припоминал он тот или иной день услады, припоминал радость охоты, когда он еще не носил сутану, горячие стремительные скачки по залитым солнцем дорогам, ночи, наполненные песнями, разговорами и звоном бокалов, гордую донну Марию, мельничиху Мариетту и осенние вечера, которыми навещал белокурую Джульетту в Прато.
Он присел, не теряя из вида красновато-коричневое ожерелье высоких гор, словно там вдали можно было еще и вправду увидеть блеск и ощутить дыхание того времени, словно продолжало там пылать давно зашедшее солнце. Его память вернулась к дням, когда он не был уже мальчиком, но еще не стал юношей. К тому, что он потерял безвозвратно; единственному, что уже никогда не повторялось и что воспоминанию тоже не удавалось целиком вызвать к жизни – тому весеннему, полному томления, ощущению взросления. Как жаждал он тогда знаний, истинных знаний о мире и мужской жизни, о сути женщины и любви! И как богат и неосознанно счастлив был он в том болезненно жадном томлении! То, что он видел и чем наслаждался потом, было прекрасно, было сладостно, однако прекраснее, сладостнее и блаженнее было то фантастическое мечтание, предвосхищение, ожидание.
Тоска по утраченному времени охватила старика. О если б он мог еще раз прожить только один час из тех, когда он пробовал на ощупь покрывало жизни и любви, еще не ведая, что он найдет за ним, не зная, жаждать ли этого или бояться! Еще раз краснея подслушать разговоры старших товарищей и испытать дрожь до самого сердца от обращенных к нему слов женщины, о любовной жизни которой перешептывались или же только догадывались!
Не таким был мужчиной дон Пьеро, чтобы погрузиться в печаль от воспоминаний и принести свое душевное спокойствие в жертву погоне за видениями. Неожиданно скорчив гримасу, он начал тихонько насвистывать мелодию старинной веселой канцоны. Потом снова взялся за новеллино и предался удовольствию блуждать в цветистых садах сочинительства, где блистали роскошные одеяния, бассейны фонтанов полнились гомоном купающихся девушек, а в кустах слышался вкрадчивый шепот влюбленных. Время от времени он удовлетворенно кивал, приметив игру слов, удачный поворот интриги, меткое крепкое словцо, походя брошенное двусмысленное замечание, умело и дразняще высвеченное притворной скрытностью; порой он делал недовольный жест – вот это я бы сделал иначе. Некоторые предложения он негромко проговаривал вслух, пробуя их мелодию. Веселие отразилось на его проницательном лице и зажгло озорные огоньки в его глазах.
Как это бывает, когда мы чем-то заняты, а часть нашей души невольно блуждает в отдаленных пределах, то ли фантазиях, то ли воспоминаниях, так и часть мыслей дона Пьеро задержалась без его ведома в той давней ранней поре его юности и беспокойно кружила среди покоящихся в прошлом тайн, словно ночная бабочка у освещенного и закрытого окна.
А когда час спустя занимательная книга снова была отложена в сторону и оказалась на стуле, его блуждающие мысли все еще не вернулись из прошлого, и, чтобы призвать их к себе, дон Пьеро отправился вслед за ними и забрел так далеко, что ему захотелось еще побыть там. Забавляясь, он схватил оказавшийся под рукой листок бумаги, взял с конторки перо и стал выводить на бумаге изящные линии. Тонкая женская фигура сложилась на поверхности листа; с тихой радостью работала белая нежная рука священника над складками и оторочкой ее одеяния, только лицо оставалось невыразительной маской, здесь ему явно не хватало умения. Пока он сокрушенно качал головой, обнаруживая, что застывшие линии губ и глаз, вместо того чтобы оживать, становились только грубее и неподвижнее, солнце все больше клонилось к закату, и когда он наконец поднял глаза, то увидел, что горы окрасились красным цветом. Дон Пьеро высунулся из окна, глядя, как возвращаются в золотистом облаке пыли скот и телеги, крестьяне и крестьянки, слушая, как доносится из ближних деревень колокольный звон, а когда он отзвучал, еще можно было различить низкое гудение колоколов где-то далеко, быть может во Флоренции. Долина была наполнена вечерним ароматом роз, а с наступлением сумерек горные вершины вдруг стали бархатно-голубыми, а небо – опаловым. Дон Пьеро кивнул темнеющим горам, решил, что пора бы поужинать, и направился неспешной походкой в трапезную настоятеля.
Приближаясь, он услышал непривычные звуки веселья, что указывало на присутствие гостей, и, когда вошел в трапезную, двое приезжих поднялись с кресел. Настоятель тоже встречал его стоя.
– Ты задержался, Пьеро, – произнес он. – Вот, господа, тот, кого мы ждали. Окажи любезность, Пьеро, – это дон Луиджи Джустиниани из Венеции и его родственник, молодой дон Джамбаттиста. Господа прибыли из Рима и Флоренции и вряд ли заглянули бы в мое горное гнездо, если б не присутствие такой знаменитости, как ты, о чем им поведали во Флоренции.
– Так ли? – засмеялся Пьеро. – Быть может, все иначе, и господа просто не ослушались голоса крови, который не дал им пройти мимо ворот монастыря.
– О чем это ты? – удивленно спросил настоятель, а Луиджи засмеялся.
– Дон Пьеро, похоже, провидец, – обрадованно заметил он, – и потому решил поразить нас, напомнив давнее семейное предание.
И он вкратце поведал настоятелю примечательную историю своего предка. Случилось так, что тот, еще будучи совсем юным послушником, оказался последним мужчиной в роду, потому что все мужчины, носившие имя Джустиниани, погибли в Византии. Чтобы род не пресекся, Папа освободил его от обета и женил на дочери дожа. У него родились три сына, но, когда они выросли и взяли в супруги женщин из самых почтенных домов, он вернулся в монастырь, где предался самой строгой аскезе.
Пьеро занял почетное место и отвечал на учтивости, слетавшие с уст сладкоречивых венецианцев, в самых изысканных выражениях. Он немного устал, однако не показывал вида и, по мере того как птица сменяла рыбные блюда, а выдержанное густое кьянти – терпкое болонское вино, становился все оживленнее.
Когда со стола унесли блюда и рядом с бокалами остались лишь кувшин вина и ваза с фруктами, в комнате было уже почти темно. Сквозь узкие сводчатые окна, врезанные в массивную каменную кладку, синело ночное небо, и цвет его долго еще сохранялся прежним, даже после того, как были зажжены свечи. Из лежавшей под окнами долины время от времени доносились звуки летней ночи – то далекий собачий лай, то смех, пение и игра на лютне где-то у мельницы, то шуршание шагов любовной пары. Волнами набегал теплый, напоенный ароматами полей ветер, мелкие ночные мотыльки с серовато-серебристыми крыльями беспокойно кружили вокруг пламени свечей, с которых тяжелыми бородами свисал капающий воск.
За столом было шумно и весело. Разговор, начавшийся с политических новостей и последних ватиканских анекдотов, перешел затем к делам литературным, а закончился любовными, при этом молодые гости не скупились на истории, настоятель молча кивал, а дон Пьеро делал замечания и обобщения, в которых основательность содержания не уступала утонченности формы. Однако его более увлекала приятность разнообразия, нежели строгость последовательного рассуждения, и едва он осмелился утверждать, что бывалый мужчина и в самой глубокой тьме сможет по верным признакам отличить блондинку от брюнетки, как тут же оказался в противоречии с самим собой, когда вслед за этим выдвинул положение, что у женщин, да и вообще в делах любви, тройка – число четное, а белое – черное.
Венецианцы сгорали от желания выудить из него какую-нибудь историйку и употребляли все свое искусство, чтобы незаметно подтолкнуть его к рассказам. Однако старик был невозмутим и довольствовался тем, что вплетал в разговор то изречение, то наблюдение, благодаря чему с легкостью выуживал из собеседников историю за историей, каждую из которых он охотно присоединял к богатствам своей неисчерпаемой памяти. Порой он слышал давно знакомые ему сюжеты в новом облачении, но не разоблачал плагиатора; он был достаточно опытен, чтобы знать, что старые добрые истории бывают еще прекраснее и забавнее, когда новичок рассказывает их, представляя, что они случились с ним самим.
Однако под конец юный Джамбаттиста потерял терпение. Отхлебнув темно-красного вина, он с размаху поставил бокал на стол и обратился к старику.
– Досточтимый государь! – воскликнул он. – Вы знаете так же хорошо, как и я, что все мы умираем от страстного желания услышать из ваших уст какой-нибудь рассказ. Вы вынудили нас поведать с дюжину историй, мы же надеялись, что вы ответите еще более увлекательной, хотя бы для того, чтобы посрамить нас. Будьте же так любезны и подарите нам какую-нибудь старую или новую новеллу!
Пьеро задумчиво отправил в рот смоченную в вине фигу и отвечал, посасывая плод:
– Вы забываете, драгоценный друг, что я более не легкомысленный новеллист, а старик, которому уже нечего сочинять, кроме стихотворной надписи на своем могильном камне.
– Позвольте, – возразил Джамбаттиста, – вы только что произнесли о любви слова, которыми мог бы гордиться любой юноша.
Луиджи тоже принялся просить. Дон Пьеро лукаво улыбался. Он решил уступить, но рассказать такую историю, которая разочаровала бы молодых людей. Он спокойно отодвинул трехрогий подсвечник подальше от себя, немного подумал, подождал, пока все смолкнут и наполнят бокалы, и принялся говорить.
Свечи отбрасывали трепетные тени на широкий стол, на котором в беспорядке лежало несколько коричневых и зеленых фиг, а также желтых лимонов. Через высокие сводчатые окна все более ощутимо проникало холодное дыхание ночи, уже совершенно зачернившей небо и рассыпавшей на нем созвездия. Три слушателя откинулись в глубоких креслах и опустили взгляд к бурому каменному полу, на котором легко волновалась тень свисавшей со стола скатерти. На мельнице и дальше в долине все смолкло, тишина была такая, что было слышно, как где-то вдалеке по каменистой дороге идет шагом усталая лошадь – так медленно, что не понять было, приближается она или удаляется.
А Пьеро рассказывал:
– В этот вечер мы не раз говорили о поцелуях и спорили о том, какого рода поцелуи наиболее восхитительны. Пусть на это ответит молодость; мы, старики, давно уже расстались с попытками и пробами, а обратиться за помощью можем разве что к своим поблекшим воспоминаниям. И вот я расскажу вам, если не подведет меня слабая память, историю двух поцелуев, каждый из которых разом показался мне самым сладким и самым горьким в моей жизни.
Когда мне было лет шестнадцать-семнадцать, у моего отца было еще на болонской стороне Апеннин имение, где я провел большую часть своих мальчишеских лет, и прежде всего пору отрочества, которая представляется мне сегодня – уж не знаю, поймете ли вы меня в этом, – прекраснейшей во всей жизни. Я бы давно вновь побывал в этом доме или приобрел себе этот приют спокойствия, если бы из-за неудачного раздела наследства оно не оказалось во владении одного из моих кузенов, с которым у меня почти с ранних детских лет отношения были неважными и который, между прочим, играет в моей истории главную роль.
Было прекрасное, не слишком жаркое лето, и мы жили с отцом и с тем самым кузеном, которого он пригласил в гости, в этом небольшом имении. Мать моя к тому времени уже умерла. Отец был еще хоть куда, блестящий дворянин, служивший нам, юнцам, достойным примером в езде верхом и в охоте, в фехтовании и играх, in artibus vivendi et amandi. [12] Он двигался все еще легко и почти как молодой, был красив и статен, а вскоре после того времени женился во второй раз.
Кузену, которого звали Альвизе, было тогда двадцать три года, и, не могу не признать, он был красивым молодым человеком. Строен и хорошо сложен, длинные изящные локоны обрамляли нежное румяное лицо, движения элегантны и грациозны; недурной собеседник и певец, он совсем неплохо танцевал и уже тогда приобрел славу самого большого любимца женщин в округе. А что мы друг друга терпеть не могли – на то была своя причина. Он относился ко мне то высокомерно, а то с каким-то невыносимо ироничным покровительством, и, поскольку ум мой был развит не по годам, эта презрительная манера обхождения постоянно оскорбляла меня самым жестоким образом. К тому же я как хороший наблюдатель раскрыл несколько его интриг и тайных замыслов, что, разумеется, было крайне неприятно уже ему. Несколько раз он пытался склонить меня на свою сторону притворным расположением, однако я на это не поддался. Был бы я чуть старше и умнее, я бы заманил его в сети удвоенной учтивости и при удобном случае поставил ему подножку – ведь удачливых и избалованных людей так легко обмануть! Однако же я, хотя и дорос до того, чтобы ненавидеть его, был еще слишком ребенком, чтобы владеть иным оружием, кроме презрительной холодности и нежелания уступать, и вместо того, чтобы разить его, возвращая ему его же стрелы, только напоенные утонченным ядом, я сам в бессильном возмущении загонял эти стрелы глубже в свою же плоть. Мой отец, от которого наша взаимная неприязнь, разумеется, не скрылась, только смеялся и поддразнивал нас. Ему был по нраву красивый и элегантный молодой человек, и моя враждебность не мешала ему часто приглашать Альвизе.
Вот и в то лето мы были вместе. Дом наш был расположен замечательно, на холме, и из него открывался вид на виноградники, а дальше – на широкую долину. Построил его, насколько мне известно, один из изгнанных во время правления Альбицци флорентийцев. Дом окружал прелестный сад; мой отец повелел возвести вокруг него новую стену, а герб его был высечен из камня на портале, тогда как над дверью дома все еще оставался герб первого хозяина, вырезанный из мягкого камня и потому уже плохо различимый. Далее в сторону гор находились замечательные охотничьи угодья, где я целыми днями блуждал пешком или верхом, один или вместе с отцом, наставлявшим меня тогда в соколиной охоте.
Как я уже говорил, был я тогда еще почти мальчиком. И все-таки уже вышел из этого возраста, вступив в ту короткую, удивительную пору, когда молодые люди, потеряв детскую беззаботность и еще не возмужав, блуждают, словно между двумя запертыми садами, по раскаленной улице, терзаемые беспричинным томлением и беспричинной печалью. Разумеется, я писал множество терцин и тому подобного, однако не был еще влюблен ни в кого, кроме поэтических видений, хотя мне казалось, что я вот-вот умру от желания настоящей любви. И я носился в постоянной горячке, предпочитал одиночество и ощущал себя несказанно несчастным. Страдания мои были тем горше, что мне приходилось их тщательно скрывать. Ведь я точно знал, что ни отец, ни ненавистный Альвизе не отказали бы себе в удовольствии поиздеваться надо мной. И свои прекрасные стихотворения я хранил тщательнее, чем скряга оберегает свои дукаты, а когда ларец показался мне недостаточно надежным укрытием, я отнес бумаги в лес и закопал их там, но каждый день ходил проверять, не пропали ли они.
Во время одного из этих кладокопательских походов я случайно приметил кузена на опушке леса. Я тут же изменил направление, поскольку он меня еще не увидел, но не терял его из вида; дело в том, что я то ли из любопытства, то ли из вражды привык постоянно за ним наблюдать. Через некоторое время я увидел нашу служанку, она вышла из зарослей и приблизилась к поджидавшему ее Альвизе. Он обнял ее за талию, привлек к себе и исчез вместе с ней в лесу.
Меня охватило какое-то лихорадочное волнение, а вместе с тем и жгучая зависть к старшему родственнику, срывавшему на моих глазах плоды, до которых сам я не дорос. За ужином я пристально смотрел на него, полагая, что по его глазам или губам должно быть видно, что он целовался и наслаждался любовью. Однако он выглядел как обычно и был так же весел и разговорчив. С этого момента я не мог видеть ни той служанки, ни Альвизе, не ощущая трепет желания, приятного и болезненного.
В эту пору – лето близилось к концу – мой кузен как-то сообщил, что у нас появился сосед. Богатый господин из Болоньи и его молодая красавица жена – Альвизе уже довольно давно был с ними знаком – приехали в свое имение, не более чем в получасе езды от нашего и расположенное ниже по склону горы.
Господин этот был знаком и с моим отцом, – кажется, он был даже отдаленным родственником моей покойной матери, родом из дома Пеполи, однако я в этом не уверен. Его дом в Болонье находился поблизости от Колледже ди Спанья. Имение же принадлежало его жене. И он, и она, и трое их детей, которые тогда еще даже не родились, сейчас уже покинули этот свет, да и вообще из всех тех, кроме меня, остался лишь мой кузен Альвизе, да и мы оба теперь старики, отчего, правда, лучше друг к другу относиться не стали.
Уже на следующий день во время прогулки верхом мы повстречались с тем болонцем. Мы поздоровались с ним, и отец пригласил его вместе с женой посетить нас в ближайшее время. Господин этот показался мне не старше моего отца, но не могло быть и речи о том, чтобы сравнивать их, потому что отец мой был высок и самого благородного сложения, а тот мал и неказист. Он отнесся к отцу со всей учтивостью, обратил несколько слов ко мне и согласился побывать у нас на следующий день, на что отец тотчас же пообещал угощение. Сосед поблагодарил, и мы любезно расстались, чрезвычайно довольные друг другом.
На следующий день мой отец приказал приготовить хороший обед, а чтобы угодить гостье – украсить стол венком. Мы с большой радостью и нетерпением ожидали прихода гостей, а когда они появились, отец пошел их встречать к самым воротам и сам помог даме спешиться. Затем мы все в превосходном настроении уселись за стол, и я восхищался во время обеда Альвизе еще больше чем отцом. Он умудрился наговорить гостям, особенно даме, столько всего забавного, лестного и приятного, что все были довольны, а разговоры и смех не смолкали все время. Видя это, я тоже решил овладеть этим ценным искусством.
Однако более всего меня занимала сама молодая дама. Она была исключительно хороша, высока ростом и стройна, изящно одета, а движения ее полны естественности и очарования. Я точно помню, что на ее левой – обращенной ко мне – руке было три золотых кольца с большими камнями, а на шее – тройная золотая цепочка с пластинами флорентийской работы. Когда обед близился к завершению и я вдоволь на нее насмотрелся, я уже до смерти был в нее влюблен и впервые ощутил наяву эту сладостную и пагубную страсть, о которой я столько мечтал и сочинил столько стихов.
После того как стол был убран, мы какое-то время отдыхали. Затем отправились в сад, уселись в тени и предались разного рода беседам, и я продекламировал латинскую оду, за что удостоился некоторой похвалы. Вечером мы перекусили на террасе, а когда начало смеркаться, гости стали собираться в обратный путь. Я тут же вызвался проводить их, но Альвизе, как оказалось, уже велел приготовить свою лошадь. Мы распрощались, их лошади тронулись шагом, а я остался с носом.
Тем вечером и последующей ночью я впервые получил возможность узнать кое-что о сущности любви. Сколь счастлив был я весь день, созерцая даму, столь же и безутешен стал я с той минуты, как она покинула наш дом. С болью и завистью услышал я час спустя, как вернулся кузен, замкнул ворота и поднялся к себе в спальню. И я всю ночь не мог заснуть, вздыхая и ворочаясь в постели. Я пытался в точности восстановить в памяти облик дамы, ее глаза, ее волосы и губы, ее руки и пальцы, а также вспомнить каждое произнесенное ею слово. Я более ста раз прошептал ее имя – Изабелла – нежно и печально, и удивительно, что на следующий день никто не заметил моего растерзанного состояния. Весь день я только тем и был занят, что выдумывал хитрости и уловки, чтобы вновь увидеть Изабеллу и по возможности добиться от нее какой-либо любезности. Разумеется, потуги мои были тщетны, опыта у меня не было, и в делах любви каждый, даже самый удачливый, неизбежно начинает с поражения.
Днем позже я отважился отправиться пешком к их имению, что очень легко было сделать тайком, потому что вилла их находилась у леса. Я тщательно спрятался у опушки и несколько часов наблюдал, не увидев ничего, кроме жирного ленивого павлина, поющей служанки и летавших вокруг белых голубей. И вот я каждый Божий день стал бегать туда; два или три раза мне посчастливилось подсмотреть, как донна Изабелла прогуливается по саду или стоит у окна.
Мало-помалу я осмелел и несколько раз пробирался в сад, ворота которого почти всегда были открыты и заросли высоким кустарником. В нем-то я и прятался так, чтобы видеть сразу несколько дорожек, к тому же я был при этом совсем рядом с маленькой беседкой, в которой Изабелла любила бывать по утрам. Я проводил там полдня, не чувствуя голода или усталости, и дрожь блаженства и страха охватывала меня всякий раз, едва мне удавалось увидеть красавицу.
Однажды я повстречал болонца в лесу. Это означало, что его не будет дома, и я с удвоенной радостью бросился в свое укрытие.
По той же причине я прокрался на этот раз в самую глубину сада, спрятавшись прямо у беседки в темно-зеленых лавровых кустах. Услышав внутри шум, я понял, что Изабелла была там. Однажды мне показалось, что я слышу ее голос, но так тихо, что я не был в том уверен. Терпеливо сидел я в своей засаде, пока не увидел ее, при этом я постоянно боялся, как бы ее супруг не вернулся домой и не обнаружил меня. Обращенная ко мне сторона беседки была, к моему великому сожалению, закрыта занавеской из голубого шелка, так что заглянуть внутрь мне не удавалось. Зато меня немного успокаивало то, что меня нельзя было увидеть из дома.
Прошло более часа, и тут мне стало казаться, что голубой занавес отодвигается, будто кто-то сквозь щелку незаметно осматривает сад. Я тщательно спрятался и ожидал в сильнейшем возбуждении, что же будет, потому что от меня до беседки было не более трех шагов. Пот лил по моему лицу, а сердце билось так сильно, что я боялся, как бы его стук не был услышан.
Случившееся затем поразило мое неискушенное сердце горше стрелы. Занавес рывком распахнулся, и из беседки стремительно, но совсем тихо выпрыгнул мужчина. Едва я оправился от неописуемого изумления, как был изумлен вновь, потому что в следующий момент узнал в смельчаке своего врага и родственника. Меня словно озарило, и я мгновенно все понял. Я дрожал от ярости и ревности и чуть было не выскочил из укрытия и не набросился на него.
Альвизе поднялся, улыбнулся и осторожно огляделся вокруг. Тут же Изабелла, вышедшая из беседки через дверь, улыбаясь подошла к нему и тихо и нежно шепнула: «Иди же, Альвизе, иди! До встречи!»
Она наклонилась к нему, он обнял ее и поцеловал. Это был всего один поцелуй, но такой долгий, жадный и жаркий, что сердце мое в эту минуту успело сделать, наверное, тысячу ударов. Мне еще никогда не доводилось наблюдать страсть, которую я до того знал лишь по стихам и рассказам, в такой близи, а вид моей госпожи, чьи алые губы алчно и ненасытно впились в губы моего кузена, едва не свел меня с ума.
Этот поцелуй, судари мои, был для меня разом и сладостнее и горше любого другого, которого мне когда-либо самому довелось добиться или подарить – за исключением, быть может, одного-единственного, о котором вы тотчас же и услышите.
В тот же самый день, когда душа моя металась как подбитая птица, мы получили приглашение посетить соседа. Я не хотел идти, но отец заставил меня. И я провел еще одну ночь без сна и в мучениях. Наутро мы сели на коней и не торопясь доехали до имения, через ворота мы попали в сад, в котором я так часто бывал тайком. Тогда как на душе у меня было невыносимо боязно и тоскливо, Альвизе смотрел на садовую беседку и лавровые кусты с ухмылкой, приводившей меня в ярость.
Хотя и в этот раз за столом мои глаза не отрывались от донны Изабеллы, однако каждый взгляд доставлял мне адскую муку, потому что напротив нее за столом сидел ненавистный Альвизе и я не мог видеть красавицу, не представляя себе со всей ясностью того, что случилось вчера. И все же мой взгляд был прикован к ее очаровательным губам. На столе было множество великолепных блюд и напитков, беседа текла весело и оживленно, однако мне кусок в горло не лез, и я не отваживался вставить и словечка в общий разговор. Обед прошел для меня, тогда как все были так веселы, словно Страстная неделя.
Во время ужина слуга сообщил, что во дворе находится посыльный, желающий переговорить с хозяином. Тот извинился и вышел, пообещав вскоре вернуться. Мой кузен и в этот раз направлял течение беседы. Однако отец, как мне кажется, раскусил его и Изабеллу и забавлялся тем, что поддразнивал их намеками и странными вопросами. Как ни в чем не бывало, он спросил Изабеллу: «Скажите, донна, кого из нас троих вы больше всего хотели бы поцеловать?»
На это красавица громко расхохоталась и воскликнула с жаром: «Больше всего вот этого прелестного мальчика!» И она тут же встала с кресла, привлекла меня к себе и поцеловала – но поцелуй этот был не долгим и жгучим, как тот вчерашний, а беглым и прохладным.
И я думаю, что это и был поцелуй, доставивший мне более наслаждения и боли, чем все другие, подаренные мне любимыми женщинами.
Пьеро осушил свой кубок, встал и ответил на благодарный поклон венецианцев; затем он взял один из подсвечников, пожелал настоятелю спокойной ночи и вышел. Было уже довольно поздно, и оба гостя также отправились спать.
– Понравился он тебе? – спросил Луиджи, когда они уже лежали в темноте.
– Жалко, он стареет, – ответил Джамбаттиста и зевнул. – Я правда разочарован. Вместо хорошей новеллы вытащил на Божий свет какие-то детские истории!
– Да, со стариками всегда так, – согласился Луиджи, потягиваясь под простыней. – А все же говорит он блестяще, и потом удивительно, какая у него память.
В это же время старик Пьеро укладывался спать. Он устал. К тому же теперь он раскаивался, что не позабавил слушателей чем-нибудь другим, что не составило бы ему труда.
И все же одна вещь порадовала и сердечно повеселила его – что его дар импровизатора не утратил своей силы. Потому что вся эта история с виллой, кузеном, служанкой, донной Изабеллой, лавровыми кустами и двумя поцелуями была не более как выдумкой, сочиненной в минуту для минутного же удовольствия.
Ханнес [13]
Жил в одном городке зажиточный ремесленник, женатый во второй раз. От первого брака у него был сын, сильный и задиристый; его второй сын, Ханнес, был существом нежным и считался с малых лет немного придурковатым.
После смерти матери для Ханнеса наступили плохие времена, брат его презирал и издевался над ним, а отец всегда становился на сторону брата, потому что стыдился, что сын у него такой дурачок. Дело в том, что за Ханнесом все больше закреплялась слава очень недалекого ребенка, потому что он избегал игр и забав других мальчишек, говорил мало и на все соглашался. С тех пор как он лишился материнской защиты, Ханнес взял за обыкновение бродить за городскими воротами среди пастбищ и садов, как только ему удавалось ускользнуть из отчего дома.
Там он порой полдня рассматривал травы, цветы и камни, пытался распознать виды птиц, жуков и прочей живности, пребывая со всем этим в добром согласии. При этом чаще всего – совершенно один, однако не всегда. Нередко за ним увязывались малыши, и оказывалось, что Ханнес, не находивший общего языка со сверстниками, легко заводил дружбу с младшими. Он показывал им, где растут какие цветы, играл с ними и рассказывал разные истории; он брал их на руки, когда они уставали, и мирил, если они ссорились. Поначалу людям не нравилось, что малыши гуляют с Ханнесом. Но потом к этому привыкли, и матери были рады, что могут отдать своих детей на попечение мальчику.
Но наступал день, и Ханнесу приходилось испытывать неприязнь своих подопечных. Как только они вырастали из-под его крыла и слышали со всех сторон, что Ханнес недоумок, то более учтивые начинали его избегать, а более грубые – насмехаться над ним.
Когда ему становилось слишком досадно и больно, он уходил один в поля или в лес, приманивал коз травами, а птиц хлебными крошками и радовался компании зверей и растений, от которых не ждал неверности или враждебности. Он видел, как на высоких облаках плывет над землей Господь, как дальними тропами блуждает по полям Спаситель, и, заметив Его, прятался в зарослях с бьющимся сердцем, пока Тот не пройдет мимо.
Когда пришло и ему время выбирать жизненный путь и ремесло, он не пошел, как брат, в отцовскую мастерскую, а отправился за город, где были скотные дворы, и поступил в пастухи. Он выгонял на пастбище овец и коз, свиней и коров и даже гусей. С его скотиной не случалось беды, животные его признали и полюбили, понимали и слушались лучше, чем других пастухов. Это быстро приметили и горожане, и крестьяне, а через несколько лет молодому пастуху доверяли самые большие и лучшие стада. Однако если ему приходилось идти в город на рынок, он становился смиренным и робким, подмастерья его поддразнивали, школяры обзывали обидными кличками, а брат презрительно отворачивался, не поздоровавшись. Когда отец умер от какой-то заразы, брат же и обманул Ханнеса, прибрав себе больше половины его наследства, а тот и не прекословил. Все, что у него оставалось от пастушьего жалованья, он раздавал детям и бедным, частенько покупал корове или козе, которую особенно любил, ленточку со звонким колокольчиком.
Так прошло несколько лет, и Ханнес уже перестал быть юным. О человеческой жизни он знал мало, зато в ветрах и грозах, в травах и видах на урожай, в скотине и собаках знал толк, знал всех своих многочисленных зверей наперечет, различая стать и силу, нрав и возраст, а кроме скотины знал он и птиц всякого вида, их повадки и отличия, а кроме того – ящериц, змей, жуков, пчел, мух, куниц и белок. Разбирался он и в деревьях, и травах, в почвах и водах, знал времена года и смену лун. Он улаживал ссоры и ревность среди своих животных, ухаживал за ними и лечил их, когда те заболевали, заботливо выращивал осиротевших сосунков и не помышлял о том, что когда-нибудь будет заниматься чем-нибудь другим, кроме своих пастушеских обязанностей.
Как-то лежал он в тени на опушке леса и наблюдал за стадом, как вдруг он увидел женщину, которая, не замечая его, бежала к лесу. Выглядела она возбужденной, и, проследив за ней, он понял, что она собирается наложить на себя руки, потому что привязала веревку к суку и уже готова была накинуть на шею петлю.
Ханнес осторожно подбежал к ней, положил ей руку на плечо и остановил ее. Женщина испуганно замерла и злобно взглянула на него. Он же заставил ее присесть и успокаивал ее, словно обиженного ребенка, пока она не рассказала ему о своем горе и обо всем, что с ней приключилось. Она говорила, что не может больше жить со своим мужем, но Ханнес чувствовал, что женщина любит своего мужа. Он дал ей излить душу, пока она немного не остыла. Тогда, чтобы утешить ее, он стал рассказывать о других вещах, о своих занятиях, о лесе и стадах, и наконец уговорил ее вернуться домой к своему мужу. Она ушла, тихо плача, и некоторое время он ее не видел и ничего не слышал о ней.
Однако как-то осенью эта женщина пришла еще раз, вместе с мужем и деверем. Она была весела и благодарила Ханнеса, рассказала, как помирилась с мужем, пригласила заходить к ней в гости и попросила, указывая на деверя, чтобы Ханнес и этого человека не обошел своим советом и утешением. Деверь поведал о своих бедах: у него сгорела мельница и при этом погиб один из сыновей; и в том, как пастух его слушал, как он на него смотрел и как утешал его, заключалась удивительная благость и сила. Не сознавая того, он поддержал несчастного и вдохнул в него жизненную силу. С благодарностью расстались горожане со своим утешителем.
Прошло немного времени, и вот уже деверь той женщины привел к нему друга, который тоже нуждался в поддержке, друг вернулся позднее со своим другом, и через несколько лет весь город знал о том, что пастух Ханнес знает, как исцелять душевные недуги, улаживать споры, помочь растерявшемуся советом, а отчаявшемуся – утешением.
Были еще такие, что говорили о нем с издевкой, однако почти каждый день кто-нибудь приходил к нему с просьбой. Молодых мотов и бездельников он возвращал на путь добродетели, измученным тяжкими страданиями внушал терпение и надежду, но особого внимания он удостоился, когда благодаря его посредничеству примирились два уважаемых и давно враждовавших семейства.
Кое-кто поговаривал о колдовстве, но пастух ни от кого не принимал никаких вознаграждений, вскоре все упреки отпали сами собой, и к скромному человеку шли словно к святому затворнику. Повсюду рассказывали истории о нем и его жизни; утверждали, будто лесные звери служат ему, что он понимает язык птиц и может вызвать дождь и отвести удар молнии.
Среди тех, кто по-прежнему с презрением и неприязнью говорил о Ханнесе, выделялся его старший брат. Он обзывал Ханнеса дураком и ловцом дураков, а однажды вечером во время попойки он заявил в запальчивости, что призовет своего брата к ответу и не позволит ему больше обманывать людей. Пойманный на слове, он отправился на следующий день с двумя спутниками разыскивать пастуха и обнаружил его на отдаленном пастбище. Ханнес встретил их приветливо, предложил хлеба и молока, осведомился о том, как поживает брат и как его семейные дела, и прежде чем тот успел обрушиться на него с руганью, столь сильно тронул и умиротворил его, что брат попросил прощения и в раскаянии вернулся домой.
Это последнее происшествие заткнуло рот всем недоброжелателям, его пересказывали со все новыми подробностями, а один молодой человек даже отобразил его в стихах.
Когда Ханнесу исполнилось пятьдесят пять, для города настали трудные времена. Все пошло от какой-то пустяковой ссоры между горожанами, потом пролилась кровь и началась ожесточенная вражда. Несколько внезапных смертей были признаны на суде отравлениями, а пока расколотые на два лагеря жители предавались отчаянному противоборству, в город пришел черный недуг, начавшийся с ужасной смерти ребенка, перекинувшийся на взрослых и за несколько недель унесший четверть населения.
В это же смутное время умер старый городской голова, и измученные враждой и болезнью жители впали в отчаяние. Воровские шайки сеяли страх, все, кроме мошенников, были в полной растерянности, письма с угрозами терзали богатых, а бедным было нечего есть.
Однажды в город пришел Ханнес, чтобы навестить некоторых из своих подопечных. Оказалось, что одного уже нет в живых, другой был болен, третий потерял семью и впал в нищету, дома стояли заброшенные, а на улицах царили ужас, страх и подозрительность. Когда он проходил по рыночной площади, сокрушаясь о бедах своего родного города, его узнали многие из находившихся там людей. Рой жаждущих помощи бросился за ним и не давал ему уйти. Он и не заметил, как получилось, что его оттеснили к ратуше и он оказался на ее парадном крыльце перед большой толпой, ждавшей слов утешения и надежды.
Сердце его было тронуто, он простер руки и обратился к умолкшему народу. Он говорил о болезни и смерти, грехе и избавлении, а закончил утешительной вестью. Вчера, сообщил Ханнес, видел он на холме над городом стоящего Иисуса, Спасителя, несущего избавление от всех бед. Когда он об этом рассказывал и лицо его светилось сочувствием и любовью, некоторым показалось, что он и есть Спаситель и послан им Господом для избавления.
– Приведи его сюда, – закричала толпа, – приведи к нам Спасителя, пусть Он поможет нам!
Только теперь с ужасом ощутил Ханнес, какую силу нетерпеливых надежд он пробудил. Дух его омрачился и ослабел, он впервые почувствовал, что его уверенность в собственных силах отступает перед мощью и размахом мирских страданий. Несчастным, собравшимся перед ним, было недостаточно слышать о Спасителе, они жаждали, чтобы Он оказался среди них, чтобы они могли взять Его за руку, услышать Его голос, только тогда они избавятся от отчаяния.
– Я буду молиться за вас перед Ним, – сказал он, напрягая голос, – я буду искать Его три дня и три ночи и умолять Его, чтобы Он пришел со мной и помог вам.
Изможденный и растерянный прошел пророк сквозь бурлящие людские ряды, через мост и ворота выбрался за город, где его оставили последние спутники. В печали достиг он леса и в тяжелом раздумий стал вспоминать места, где ему в прежние времена приходилось ощущать присутствие Господа. В молитвах, но без надежды блуждал он по окрестностям, угнетенный людским горем. Не по своей воле из пастуха и любимца малышей он превратился в духовного наставника множества людей, многим он помог и многих спас, а теперь все оказалось тщетным, и он увидел, что зло на земле неистребимо и всепобеждающе.
Когда на четвертый день он, согбенный и обессиленный, вошел в город, лицо его постарело, а волосы стали белыми. В молчании ожидали его люди, и кое-кто преклонял колена, когда он проходил мимо.
А он закончил свою жизнь ложью, которая все же была правдой.
– Видел ли ты Бога? Что Он сказал тебе? – спрашивали его люди.
Ханнес поднял глаза и ответил:
– Вот что сказал Он мне: «Иди и умри за свой город, как Я умер за этот мир!»
На мгновение толпа оцепенела от ужаса и разочарования. Потом один старик вскочил и плюнул пророку в лицо. И тогда Ханнес безропотно отдался ярости толпы и принял смерть.
Вечер у доктора Фауста [14]
Вместе со своим другом доктором Айзенбартом (между прочим, прадедом знаменитого медика [15] ) доктор Иоганн Фауст сидел у себя дома в столовой. Обильный ужин был закончен, стол убран, тяжелые золоченые бокалы дышали ароматом старого рейнского, только что ушли два музыканта, сопровождавших застолье, флейтист и лютнист.
– А теперь пришло время показать тебе обещанный опыт, – сказал доктор Фауст и отхлебнул глоток старого вина, порадовав свое погрузневшее тело. Он был уже не молод, до его ужасного конца оставалось два или три года.
– Я ведь уже рассказывал тебе, что мой ассистент изготавливает порой поразительные приспособления, которые позволяют увидеть и услышать вещи, находящиеся на большом расстоянии, или в далеком прошлом, или те, что еще только появятся в будущем. Попробуем сегодня заглянуть в будущее. Парень изобрел тут нечто весьма занимательное и забавное, скажу я тебе. Подобно тому как он не раз являл нам в магических зеркалах героев и красавиц прошлого, теперь он соорудил кое-что для ушей, вот такой звучащий раструб, издающий звуки, которые будут звучать когда-то в будущем на том самом месте, где установлено звуковое приспособление.
– А не может быть так, дорогой друг, что находящийся у тебя в услужении дух морочит тебе голову?
– Не думаю, – отвечал Фауст, – для черной магии и будущее вполне доступно. Ты знаешь, мы всегда исходили из предпосылки, что все события в этом мире без исключения имеют причину и следствия. То есть будущее столь же мало поддается изменению, как и прошлое: оно также предопределено законом каузальности, и это значит, оно уже есть, только мы еще не можем его увидеть и попробовать. Подобно тому как математик и астроном может надолго вперед точно вычислить наступление солнечного затмения, точно так же можно было бы сделать видимой и слышимой любую другую часть будущего, если бы найти для этого соответствующий метод. Мефистофель же изобрел своего рода волшебную палочку для ушей, он построил ловушку, чтобы улавливать звуки, которые будут звучать здесь, в этой комнате через несколько столетий. Мы испытывали устройство несколько раз. Правда, порой не слышно ничего, это значит, что мы наткнулись в будущем на тишину, на тот момент, когда в нашей комнате не происходит ничего слышимого. Зато однажды мы слышали, как несколько человек, которым предстоит жить в далеком будущем, разговаривали о стихотворном сочинении, повествующем о деяниях доктора Фауста, то есть о моих. Но довольно, испытаем же приспособление.
На его призыв явился в привычном сером монашеском облачении услужливый дух, поставил на стол небольшой прибор с черным раструбом, самым настоятельным образом наказал обоим воздержаться от каких-либо замечаний во время работы прибора, потом покрутил что-то на нем, и тот начал работать с легким плавным гудением.
Довольно долгое время не было слышно ничего, кроме этого гудения, к которому оба ученых мужа прислушивались, полные ожидания. Затем раздался неслыханный ранее пронзительный звук: злобное, дикое, дьявольское завывание, так что и не поймешь, кто это – дракон или бесчинствующий демон; нетерпеливо, предупреждая, гневно, властно надрывался этот злобный звук, повторяясь короткими, резкими ударами, словно преследуемое чудовище мечется в замкнутом пространстве. Доктор Айзенбарт побледнел и вздохнул, когда отвратительный крик, постепенно ослабевая, угас вдали.
Последовала тишина, а затем раздался новый звук: мужской голос, звучавший словно откуда-то издалека, проникновенно, как речь проповедника. Слушатели смогли разобрать отдельные слова и записать их на приготовленных грифельных дощечках, например, следующее:
– …таким образом, следуя блестящему примеру Америки, идеал промышленного предприятия неудержимо приближается к своему победному осуществлению… В то время как, с одной стороны, комфорт жизненных условий рабочего достиг невиданных ранее высот… без всякого преувеличения мы можем утверждать, что наивные мечтания прежних веков о райской жизни благодаря успехам сегодняшней производительной техники оказались более чем…
Снова тишина. Затем возник новый голос, низкий и серьезный, говоривший:
– Уважаемые господа, а сейчас я предлагаю вам прослушать стихотворение, это творение Николауса Недотёпера, о котором с полным правом можно сказать, что он, как никто другой, вывернул наизнанку все нутро нашего времени, прозрев с необычайной остротой весь смысл и бессмыслицу нашего бытия.
Задраив глаз, раздувши щеки-жабры,
С печной трубой наперевес,
Он кубарем штурмует храбро
Крутую лестницу небес.
В подкладку облака зашиты,
Барометр укажет верный путь,
А солнце золотым корытом
Плетется в небе как-нибудь.
Доктору Фаусту удалось записать большую часть этого стихотворения. Айзенбарт тоже усердно строчил.
Послышался сонный голос, без сомнения голос пожилой дамы или старой девы, проговоривший:
– Скучная программа! Можно подумать, что для этого и изобрели радио! Ага, сейчас будет, по крайней мере, музыка.
И в самом деле, раздалась музыка, необузданная, похотливая, очень ритмичная, порой резкая, порой томная, совершенно неизвестная, чужеродная, непристойная, зловещая – музыка, на завывающих, квакающих и гогочущих духовых инструментах, пронизанная ударами медных тарелок, и поверх всего этого временами карабкался завывающий голос, распевавший песни на неизвестном языке.
Время от времени все это прерывалось загадочными стихами:
Блеск и силу волосам
Дарит «Гого» наш бальзам.
И тот первый, злобный, неистовствующий, угрожающий звук, тот вой дракона, полный муки и гнева, тоже время от времени повторялся.
Когда Мефистофель улыбаясь остановил действие прибора, оба ученых изумленно посмотрели друг на друга с мучительным чувством смущения и стыда, словно они невольно стали свидетелями непотребного, недозволенного действия. Они перечитали свои записи и сверили их.
– Что ты скажешь на это? – спросил наконец Фауст.
Доктор Айзенбарт сделал долгий глоток из своего кубка, опустил взгляд и долго и задумчиво молчал. Наконец он произнес, больше для себя самого, чем для своего друга:
– Это ужасающе! Нет никакого сомнения в том, что человечество, о жизни которого мы только что получили представление, безумно. Это наши потомки, сыновья наших сыновей, правнуки наших правнуков, это они, как мы слышали, говорят сомнительные, печальные, безрассудные вещи, издают вызывающие оторопь крики, распевают бессмысленные идиотские стишки. Наши потомки, Фауст, кончат безумием.
– Я бы не был столь категоричным, – отвечал Фауст. – В том, что ты говоришь, нет ничего невероятного, но это более пессимистично, чем того требует необходимость. Если здесь, в одном строго ограниченном уголке мира, звучат столь дикие, отчаянные, непристойные и безусловно безумные звуки, то это еще не означает, что все человечество помешалось. Ведь может быть, что на том месте, где мы находимся, через несколько веков будет находиться сумасшедший дом и что мы услышали кое-что из того, что в нем происходит. Возможно также, что мы услышали, как развлекается компания совершенно пьяных людей. Вспомни шум веселящейся карнавальной толпы! Звучит очень похоже. Но что меня озадачивает, так это те другие звуки, те вопли, которые не могут производиться ни человеческим голосом, ни музыкальными инструментами. Они звучат, как мне кажется, абсолютно дьявольски. Только демоны в состоянии издавать подобные звуки.
Он повернулся в Мефистофелю:
– Известно ли тебе что-либо об этом? Можешь ли ты сказать, что это за звуки мы слышали?
– Мы слышали, – сказал Мефистофель с ухмылкой, – и в самом деле демонические звуки. Земля, уже сегодня на добрую половину принадлежащая дьяволу, к определенному времени станет его безраздельной собственностью, превратившись в часть, в провинцию преисподней. Вы, господа, довольно резко и отрицательно высказались о звуках из этого земного адища. Мне же милее всего, что и в аду будут звучать музыка и поэзия. Этим отделом заведует Велиал. [16] По-моему, он справляется со своим делом совсем неплохо.
Три липы [17]
Более трех веков назад стояли на зеленом кладбище приюта Святого Духа в Берлине три великолепные старые липы, они были такие большие, что накрывали переплетающимися ветвями своих огромных крон все кладбище, словно исполинский свод. О происхождении этих прекрасных деревьев, относящемся к еще более отдаленному прошлому, рассказывали вот какую историю.
Жили в Берлине три брата, и связывала их тесная дружба и доверительность, какую редко встретишь. И вот однажды младший из них вышел вечером из дому, не сказав ничего другим, потому что собирался встретиться на отдаленной улочке с девушкой и отправиться с ней на прогулку. Однако не успел он добраться до условленного места и шел, погрузившись в приятные мечтания, как услышал в простенке между двух домов, где была темнота и запустение, тихие стоны и хрипы, на которые тут же пошел; он подумал было, что там лежит какое-нибудь животное, а может быть, и дитя, попавшее в беду и ждущее помощи. Проникнув в темноту затерянного уголка, он с ужасом обнаружил лежащего в крови человека, наклонился над ним и спросил участливо, что с ним приключилось, но не получил никакого ответа, кроме тихого стона и хрипов, потому что раненый был поражен ножом в самое сердце и скончался через несколько мгновений на руках пришедшего ему на помощь.
Молодой человек не знал, что и делать, и, поскольку убитый не подавал более признаков жизни, вышел в растерянности и нетвердым шагом обратно на улицу. Но в этот момент на него наткнулись два стражника, и, пока он раздумывал, звать ли на помощь или тихо удалиться, они заметили его испуганный вид, приблизились к нему, тут же обнаружили кровь на его башмаках и рукавах сюртука и задержали его, не обращая внимания на его мольбы и попытки что-то рассказать. Они нашли поблизости уже бездыханное тело и без долгих околичностей отвели мнимого убийцу в тюрьму, где его заковали в кандалы и поместили под строгий надзор.
На следующее утро его допросил судья. Доставили тело покойного, и только теперь, при свете дня, юноша опознал молодого кузнеца, с которым он дружил в прежние времена. Раньше же он утверждал, что с покойным знаком не был и ничего о нем не знает. Тем самым подозрение, что это он совершил убийство, еще более усилилось, а поскольку в течение дня нашлись свидетели, знавшие покойного, то стало известно, что юноша когда-то был дружен с кузнецом, однако рассорился с ним из-за девушки. Многое было преувеличено, но кое-что было правдой, что попавший под подозрение бесстрашно подтвердил, настаивая, однако, на своей невиновности и умоляя не о пощаде, но о правосудии.
Судья не сомневался, что он и есть убийца, и рассчитывал вскорости добыть достаточные доказательства, чтобы осудить его и передать палачу. Чем больше заключенный отпирался и отрицал всякую причастность к происшедшему, тем больше его считали виновным.
Тем временем средний брат – старший оказался по делам в отлучке – тщетно ждал младшего дома и принялся его искать. Когда он услышал, что брат его в заточении и обвиняется в убийстве, он тут же отправился к судье.
– Ваша честь, – сказал он, – вы задержали невиновного, отпустите его! Это я убийца, и я не хочу, чтобы за меня страдал безвинный. Я враждовал с кузнецом и следил за ним, а вчера вечером я застал его, когда он по нужде зашел в тот уголок, напал на него и вонзил ему нож в сердце.
Судья изумленно выслушал это признание и приказал связать среднего брата и держать под стражей, пока дело не прояснится. Теперь два брата лежали под одной крышей в кандалах, однако младший еще ничего не знал о том, что сделал ради него средний, и по-прежнему твердил о своей невиновности.
Прошло два дня, а судья ничего нового не обнаружил и уже склонялся к тому, чтобы поверить мнимому убийце, себя оговорившему. Тут в Берлин вернулся, закончив свои дела на чужбине, старший брат, застал опустевший дом и узнал от соседей, что случилось с его младшим братом и как средний взял на себя его вину перед судьей. Он тут же, хотя была уже ночь, пошел в тюрьму, велел разбудить судью и пал перед ним на колени со словами:
– Благородный служитель закона! Вы заковали двух невинных, страдающих за мои грехи. Того кузнеца не убивал ни мой младший брат, ни средний, это я совершил убийство. Не могу больше сносить, что другие терпят за меня, совершенно безвинно, а потому прошу вас очень, отпустите их на свободу, а возьмите меня, готового оплатить преступление своей жизнью.
Судья изумился еще более и не нашел ничего лучшего, как отправить в заточение и третьего брата.
А ранним утром, когда надзиратель принес младшему тюремную похлебку, он сказал:
– Хотел бы я знать, кто же из вас троих настоящий злодей.
Сколько ни умолял и ни выспрашивал его младший, надзиратель отказывался что-либо объяснить, но из сказанного тот догадался, что его братья пришли, чтобы отдать свою жизнь за него. Он разразился громкими рыданиями и потребовал отвести его к судье, а когда предстал в кандалах перед судьей, зарыдал вновь и сказал:
– Простите великодушно, что столько времени вводил вас в заблуждение! Но я думал, что никто не видел содеянного мной и никто не сможет доказать моей вины. Теперь же я понимаю, что все должно свершиться по закону, не могу более отпираться и признаюсь, что это я убил кузнеца и готов заплатить своей несчастной жизнью за злодеяние.
У судьи глаза выскочили на лоб, он не поверил, что все это происходит наяву, его изумление было неописуемо, и сердце его стало неспокойно из-за этого странного дела. Он велел увести заключенного обратно и стеречь крепко, как и двух других братьев, а сам долго сидел, погруженный в раздумье, вполне понимая, что лишь один из трех мог быть убийцей, а двое других отдались правосудию из одного благородства души и редкостной братской любви.
Размышления его ничем не увенчались, и он понял, что в этом случае обычный человеческий ум бессилен. Потому на следующий день он оставил заключенных под надежной охраной, а сам отправился к курфюрсту, которому и рассказал эту поразительную историю во всех подробностях.
Курфюрст выслушал его с величайшим изумлением и сказал под конец:
– Событие удивительное и редкое! Сердце мое говорит мне, что ни один из троих не совершал убийства, в том числе и младший, первым задержанный вашей стражей, а все рассказанное им поначалу и есть правда. Однако поскольку речь идет о тяжком преступлении, мы не можем просто так отпустить подозреваемого. А потому я думаю призвать самого Господа в судьи этим трем преданным друг другу братьям и поступить по Его приговору.
Так и порешили. Дело было весной, и вот светлым теплым днем трех братьев вывели на зеленый двор, и каждому дали по крепкому липовому саженцу. Однако сажать деревья они должны были не корнями, а молодой зеленевшей кроной в землю, так чтобы корни поднялись к небу, и чье деревце засохнет первым, того и будут считать убийцей и поведут на казнь.
Братья сделали, как было велено, и каждый тщательно зарыл свое деревце ветвями в землю. Прошло немного времени, и все три дерева пустили побеги, и у них выросла новая пышная крона в знак того, что все три брата невиновны, и все три липы росли и росли, стали совсем большими и простояли несколько веков на кладбище приюта Святого Духа в Берлине.
Арест [18]
30 июля 1672 года в своем убежище неподалеку от площади Мобер умер господин де Сен-Круа. Историки, для которых нет ничего святого и которые начисто лишены чувства величия жеста, хотя наука их, собственно говоря, только тем и занимается, эти самые историки недавно доказали, что умер-то он после довольно продолжительной болезни, в своей постели, ровно так же, как умирают и другие люди. Эта расхожая истина, если она и вправду таковой является, вскоре отойдет в небытие, а останется, как и полагается, прекрасная леденящая душу легенда о смерти знатока ядов Сен-Круа, который во время приготовления своих смертельных порошков всегда надевал защитную стеклянную маску, чтобы самому не вдохнуть случайно летучую смесь, но у которого однажды во время этого опасного занятия маска соскользнула, и он тут же упал замертво в своей ужасной лаборатории. Если верить этому стойкому преданию, тогда понятным становится то удивительное обстоятельство, что преступник оставил все свои запасы ядовитых веществ и компрометирующие бумаги на виду. Короче, я принимаю сторону легенды, а не ученых, всеми силами доказывающих, что нижеследующая история – выдумка.
Итак, 30 июля умер отравитель Сен-Круа, любовник и подручный прекрасной госпожи Бренвилье, [19] и эта дама усмотрела серьезную опасность в том, что судебные власти конфисковали оставшееся после него имущество, включая все ее письма. Едва она услышала, что прекрасно знакомая ей шкатулка любовника, в которой он держал ее письма, попала в руки судей, как стала предпринимать все возможные усилия, чтобы заполучить шкатулку до того, как она будет вскрыта. В тот день 22 августа, когда ужасный ящичек должен был быть открыт в присутствии суда – а госпожа Бренвилье была приглашена при этом присутствовать, – она предоставила эту честь своему поверенному, а когда вскоре после этого был арестован сообщник ее любовника, бросилась бежать и отправилась в Англию. Ее процесс продолжался тем временем всю осень и зиму, а в марте был оглашен приговор, по которому сообщник был осужден на колесование, а госпожа Бренвилье in contumaciam [20] к смерти на плахе. Ее признали виновной в отравлении своего отца и обоих братьев.
Поскольку одновременно с этим было конфисковано и ее имущество, а ее муж, на удивление безразличный господин Бренвилье, проявлял о своей жене столь же мало беспокойства, как и во время ее любовной связи с Сен-Круа, изнеженная дама вскоре оказалась в затруднительном положении и, кажется, умоляла о помощи даже свою сестру – ту самую, на жизнь которой столько лет покушалась, и, может быть, даже и получала эту помощь. Осужденная жила в Лондоне, и ей удавалось постоянно быть в курсе того, как движется ее дело.
Король Людовик XIV проявил личную заинтересованность в процессе и настаивал на том, чтобы правосудие свершилось, какие бы препятствия для этого ни пришлось преодолеть. И вот от Лондона настойчиво требовали выдачи преступницы, однако из-за формальностей и мелких недоразумений процедура затягивалась, так что госпожа Бренвилье все еще разгуливала на свободе, хотя король Англии уже пообещал ее выдать. А когда наконец трудности были преодолены и все условия выдачи согласованы, она исчезла из Лондона.
Рассказывают, что какое-то время она находилась в Пикардии и в различных голландских городах, ее будто бы видели в Валенстене и Камбре, и в конце концов она оказалась Льеже.
Здесь беглянка нашла радушный прием в монастыре и могла надеяться, что ей удалось обрести убежище. И в самом деле, ее не беспокоили ни шпионы, ни устрашающие известия, так что она настолько почувствовала свободу, что завела интрижку с неким Териа.
Удивительно, однако, то обстоятельство, что эта бессовестная, распущенная и эгоистичная женщина постоянно носила с собой рукопись, которую она называла своей исповедью и в которой она изложила весь свой жизненный путь, представлявший собой, начиная с удивительно ранней утраты невинности, головокружительную череду всевозможных беспутств и преступлений. Этому не найти иных объяснений, кроме граничащего с суеверием страха перед вечными муками, да и позднее, насколько известно, ни одно из самых позорных обстоятельств ее предстоящей казни не удручало ее столь сильно, как отказ в последнем причастии. И вот, явно для того, чтобы в последний час на исповеди не забыть ни одного из своих грехов, она составила этот ужасающий перечень своих преступлений и прегрешений и постоянно держала его при себе в особой шкатулке.
В остальном же превратности судьбы не слишком сильно угнетали отчаянную авантюристку. Она даже, ничуть не смущаясь, сделала своему оставшемуся во Франции супругу предложение перебраться к ней, на что он, правда, не согласился. Она же продолжала беззаботно гостить в том монастыре и в отсутствие более серьезных занятий плела легкую любовную интрижку с Териа, что, однако, не мешало ей оказывать любезности и иным галантным претендентам.
Однажды в марте в монастыре объявился некий французский аббат, он поинтересовался госпожой Бренвилье и был ею принят. Приятной наружности, еще молодой мужчина с хорошими манерами и парижским выговором тут же навеял на госпожу Бренвилье ностальгические настроения. На вопрос о цели своего визита он дал следующий ответ.
– Я предпринимаю, – сказал он почтительно, но с улыбкой, – довольно продолжительное путешествие, в ходе которого мне надлежит посетить некоторые монастыри. И я узнал совершенно случайно и к моей великой радости, что вы, сударыня, нашли приют в этих стенах. И я не хотел упустить возможность познакомиться со столь знаменитой и в настоящее время столь угнетенной напастями дамой и поддержать ее, быть может, словом утешения. В Париже все сожалеют о ваших несчастиях и изумлены, даже возмущены тем, что вашим недругам удалось настолько настроить против вас парламент, что ваше осуждение оказалось возможным. Но мы тем более рады тому, что вы здесь в безопасности и можете спокойно выждать время, пока в вашем деле не восторжествует справедливость, которой нам в вынесенном парижским судом приговоре так не хватает. Вы не можете и вообразить, досточтимая сударыня, насколько парижское общество переживает ваше отсутствие.
То были речи, каких госпожа Бренвилье давно не слыхала. Она с трудом сдерживала подступившие слезы, когда льстивые слова элегантного аббата вдруг заставили ее живо вспомнить все, чего она лишилась. Ах, она все так же красива и знатного происхождения, и если вынуждена в настоящий момент обходиться без своего состояния, то вряд ли это надолго.
После легкой, сначала сочувственной и под конец совершенно светски непринужденной часовой беседы аббат откланялся, поцеловал прекрасной даме руку и спросил как бы между прочим, не будет ли ему позволено увидеть ее в другой раз, если, как он предполагает, его пребывание в Льеже продлится еще день-другой. С радостью дала ему госпожа Бренвилье на это свое согласие, прибавив, что слишком ценит возможность столь приятного и остроумного разговора, чтобы она не желала ее повторения, и будет искренне огорчена, если его преосвященство не заглянет к ней еще.
Элегантный молодой человек попрощался, пообещал вернуться и оставил затворницу в состоянии приятного воодушевления. Она была благодарна ему за то, что целый час вновь ощущала себя вполне светской дамой и аристократкой, и готова была поверить, что произвела на элегантного мужчину достаточное впечатление, чтобы он продлил свое пребывание в Льеже, и не ради дел, а только для нее одной.
Это предположение опытной женщины было, как показал следующий день, не лишено оснований. Аббат появился довольно рано, однако не ранее того часа, когда благородная дама обычно начинает прием в загородном доме; он был в своем великолепном шелковом сюртуке и с букетом чрезвычайно дорогих в это время года ландышей и начал беседу ровно с того места, на котором она прервалась накануне. На этот раз оба чувствовали и вели себя гораздо легче и свободнее, чем в первый раз; об ужасном процессе и плачевном положении госпожи Бренвилье не было сказано в этот раз ни слова, беседа была занимательной и приятельской, дама время от времени не отказывала себе в легких вспышках кокетства, на что гость отвечал комплиментами, и эти комплименты тонко переходили мало-помалу от светского тона к личной и непосредственной галантности, более того, смелый господин позволил себе в конце даже коснуться губами ее плеча, на что не последовало серьезных порицаний. И тут он признался, внезапно вспыхнув страстью и пав на колени, что еще вчера намеревался покинуть Льеж на следующий день, однако теперь это никак невозможно, и более всего он желал бы провести остаток своих дней в этой комнатке у ног такой восхитительной женщины. Он пылко схватил ее за руку, покрывая ее поцелуями, и положил голову ей на колени, а она улыбалась и ласково гладила его прямые черные волосы.
– Ваше преосвященство, – сказала она наконец благосклонно. – Вы забываете, что мы находимся в монастыре. Сколь ни милы мне ваша молодость и ваше расположение, я все же должна решительно напомнить, что я как гостья этого святого дома и как бедная преследуемая женщина не свободна в своем поведении. Я надеюсь, что вы это понимаете и не подвергнете меня опасности потерять убежище.
– Разумеется, мое сокровище, – жарко шептал влюбленный, – разве я могу сделать хоть что-нибудь, что было бы вам немило! А потому позвольте мне, прекраснейшая, встретиться с вами завтра в укромном месте и пригласить на прогулку в моем экипаже. Как же я вас обожаю, моя драгоценная!
Она еще немного поцеремонилась, после чего свидание с соблюдением множества предосторожностей было назначено в тихом месте за городом, и тогда молодой человек впервые привлек к себе свою добычу и поцеловал ее. После этого она выпроводила его за дверь и весело провела остаток дня в предвкушении нового приятного приключения.
Кроме того, она немного полистала свою рукописную исповедь, думая на этот раз не об адских муках, а оглядывая свою смелую своенравную жизнь с высоты пережитого как путь прекрасной разнузданной страсти, все еще пылающей и не готовой угаснуть в скором времени.
На следующий день она тщательно занялась своим туалетом, положив за корсаж несколько источающих тонкий аромат ландышей, и отправилась пешком, закутавшись в темную накидку, к условленному месту. Выйдя за городскую стену, она остановилась между стенами двух садов, вдыхая нежный, пахнущий землей весенний воздух, и стала ждать поклонника. Уже через несколько минут она услышала, что позади нее по дороге едет, быстро приближаясь, экипаж. Она отступила в сторону – карета показалась из-за угла, замедлила ход и остановилась точно подле нее. Под кожаным верхом она видела лицо аббата, обращенное к ней, и с улыбкой шагнула на подножку.
В то же мгновение она услышала сзади шаги, ее схватили сильные руки, внезапно с испугом она увидела, что ее окружают трое, четверо, пятеро незнакомых мужчин, и рухнула, узнав форму парижской полиции, с безумным криком, от которого вздрогнули лошади.
Придя через несколько минут в себя, она обнаружила себя сидящей в стремительно летящем экипаже рядом с аббатом, который, однако, был в полицейской форме и очень холодно представился офицером полиции. Это был ефрейтор Дегре, уполномоченный парижским парламентом задержать осужденную и разыгравший ради выполнения задания эту любовную комедию, поскольку он не отваживался на арест в монастырских стенах, опасаясь возмущения народа.
На этом история госпожи Бренвилье заканчивается; а что до полноты конфискованной Дегре исповедальной рукописи, то беспокоиться о том у нее не было оснований, поскольку в короткое время, прошедшее между ее арестом и казнью в Париже, ей уже не предоставилось ни малейшей возможности как-либо продолжить этот поразительный список.
Невольное путешествие Антона Шифельбайна в Ост-Индию [21]
Сохранил и записал я все сие отчасти на вечную память совершенных мною грехов и воспоследовавшего их исправления, но прежде всего во славу Бога, Господа нашего, все, что мне по Его повелению встретилось в моих примечательных морских путешествиях, равно как и в чужестранных землях. В особенности же удивительные благодеяния, которые Господь по своей милости совершил ради меня, великого грешника и нечестивца.
Для начала надобно кратко вспомнить о моих предыдущих обстоятельствах и происшествиях, о том, как я в совсем еще нежные годы путешествовал по морю и множество удивительных и ужасных приключений испытал. После чего прибыл я на мыс Доброй Надежды, где голландцы, кто вольный, а кто подневольный, свои недавно основанные жилища старательно обустраивали, и приняли они меня наилучшим образом. В то время я занемог скверно и не чаял уже, что жив буду. Однако ж совершенно от недуга оправился и радовался тому, а голландцам помогал охотно и трудился, а позднее на моей дорогой супруге, тогда вдовою бывшей, оженился. Стал я человеком богатым, и был у меня дом, и пашня, и пастбище, и две сотни африканских овец, белых и черных.
Как только я столь основательного достатка достиг, а я и прежде того ветрогоном был изрядным, соблазнился я кознями диавольскими и впал в великую гордыню, предаваться стал обжорству и пьянству, полагая жить сладко и не больно-то трудиться, почитая за главные удовольствия кутежи да веселия. Было у меня вдосталь приятелей, и только жена моя их недолюбливала да часто меня одергивала, приговаривая: «Лежебока и негодник, вот приберет тебя сатана, будешь в огне гореть». Я же ее не слушал. Даже гневался на нее и побил бы, да боялся ее очень. Была она чрезвычайно сильна и в работе прилежна, без конца Богу молилась и каждый день вздыхала, обеты христианские исполняя. Да только тщетно, и вскоре все имущество было растрачено и по ветру пущено. Господи, Господи, прости меня по Своей великой милости, аминь.
Супруга моя была довольно разумна, и, не найдя иного утешения, решилась она в конце концов на великую хитрость, о какой я сейчас и поведаю. Дело было однажды вечером, когда я с двумя или тремя добрыми приятелями пил и ел, как то часто бывало, и в доме стояло веселье, пение и смех, лег спать я довольно поздно, был немного пьян и заснул крепким безмятежным сном. Посему я и испугался безмерно, когда поутру меня выволокли из постели и стали громко кричать. Но жена моя вошла и сказала, чтобы я успокоился, потому как все творится по ее воле. Предо мной было четыре крепких человека, они одели меня, и всё с чрезвычайной скоростью, вытащили вон и посадили на телегу, да тут же меня и привязали, я же, великим смертным страхом мучимый, жалобно вопрошал, что меня ожидает. Моя добрая жена плакала и говорила с болью, что пришла пора расстаться. Мы простились с поцелуями и громкими рыданиями. Люди же те сели со мной на телегу, ничего мне не отвечая. И поехали быстрой рысью в гавань, отвязали меня и отвели на голландский корабль, передав меня капитану. Сунули они мне в руку письмо, прокричали «адью» и сошли на берег. Я бросился было за ними, но меня крепко держали, и остался я в большой печали на корабле. Позже доставили для меня маленький ларец с пожитками, а в час пополудни раздался выстрел, и мы вышли в море.
Тут же за мной пришли, и мне пришлось нести службу, сделался я снова матросом, каким был уже в юные мои годы, а того не чаял, что еще придется. Этот день, что мне самым горьким в моей жизни показался, был двадцать третьего числа мая месяца одна тысяча шестьсот пятьдесят третьего года. Вскоре узнал я от своих сотоварищей, что корабль, пришедший из их отечества, направляется теперь в Батавию. На борту у нас были голландские товары, а также разные господа, путешественники, а равно как и люди ученого звания, в том числе и магистр Вальтер Шульц из Амстердама, лекарь и человек ученый, которому я позднее оказался обязан своею жизнию.
Едва улучил я свободную минуту, как взялся читать письмо, на котором было написано: «Моему любимому и дорогому супругу, господину Антону Шифельбайну». Внутри же его было вот что: «Нам надлежит расстаться, что меня крайне печалит, но я не могу поступить иначе. Обжорство и сладострастие – не христианский путь, а прямая дорога в ад. Чтобы этого не произошло, я и послала тебя на корабль, чтобы ты протрезвился и сызнова трудиться начал. С Божией помощью ты вновь станешь добрым мужем и к великой радости домой воротишься. Молись усердно да отпиши мне, как прибудешь в Батавию!»
И тогда ясно мне стало, что жена моя меня перехитрила. Мне это было не по нраву, и я разбранил ее и решил домой не возвращаться, а положил в чужие края отправиться да там и оставаться, пока мне будет угодно. Ожесточилось сердце мое, и я приноровился к новой жизни, да только тяжкая служба была мне противна. Со временем я с теми матросами подружился и жил не унывая. Так бывает с каждым добрым моряком, даже если он долго был на берегу, его вновь охватывает радость и смелость, как только он сушу покинет и вновь выйдет в море под парусом. Когда б я пожелал поведать все, что со мной по пути приключилось и что мне испытать довелось, моим рассказам не было бы конца. Я же лишь самым кратким образом происшедшее перечислю.
Как только достигли мы тридцать девятого или сорокового градуса южной широты, так задули опасные западные ветра. Воздух был холодный, небо закрывали темные тучи; частенько на нас град и снег обрушивался; однако ветер был для нас благоприятен, ибо курс мы держали на Ост-Индию. Мы шли ужасно быстро, все сорок пять миль в день, и так две недели. И тогда пал на наш корабль страшный ветер, словно с неба, ураганом именуемый, и закружился вихрем вокруг нас. Один другого слышать не мог, все пришли в ужас и закричали: «Мы тонем!» Молились с особым рвением: «Господи, Господи, спаси нас!» И были в совершенном отчаянии, пока не настал давно желанный рассветный час. Тогда мы несколько укрепились в мужестве своем, и буря стихла. Но многие из нас занемогли, страдали лихорадкой и впали в неистовство, и оба лекаря наши без работы не сидели. И я, великий грешник, тоже страху натерпелся и думал, что помру. Уж готов был отойти, охал и начал молиться. Однако ж Господь благословил снадобья, что дал мне упомянутый выше магистр Шульц, и выздоровел я на седьмой день, и повеселел, забыв обо всем. А вот один купеческий сын тоже впал в неистовство и бросился в воду, его искали-искали, да так и не нашли. Тем временем нами завладели юго-восточные ветры, и мы не могли добраться до желанной Батавии, а кружили по морю. Зашли в залив Силлабар, что на Суматре. Не смогу перечислить всего, что там случилось, скажу только, что туземцы, некоторые из которых именуются оранкаями, оказались вероломными и коварными. В тех местах растут индийские орехи, фиги, померанцы и прочее, однако мы ничего этого не получили, только немного пресной воды, а индийцы убили двух наших хороших толмачей, посланных на рынок, чтобы купить молока и яиц. После этого нам то и дело приходилось идти против ветра, порой до семи раз за день бросать якорь, а был уже сентябрь.
Но вот, наконец, прибыли мы октября в пятый день в славную Батавию. Там на борт тут же поднялся таможенник, чтобы досмотреть груз, не припрятали ли мы каких товаров, а потом пришло множество язычников-китайцев, которых немало живет в Батавии, и покупали они у нас товары, принося кокосовые орехи, лимоны, фиги, и я вновь три дня лежал недужный, оттого что объелся. Потом разгрузили мы корабль, потому как ему надлежало тотчас же отправиться в мускатный край, в Банду. И все уже было готово, да я захотел остаться в прелестной Батавии, получил расчет и распрощался с командой. Тут объявился судовладелец, собиравшийся в обратный путь в Голландию, и хотел взять меня на службу. И мог бы я вернуться домой, к своей жене, но все еще коснел в пороках и не желал домой, а город Батавия уж больно пригож мне казался, и решил я там остаться.
Поначалу изумляли меня те самые китайцы. Носят они волосы невероятно длинные, как того требует древний сего народа обычай. А если кто волосы обрежет, то впадет у китайцев в великую немилость, так что никто из них ему симпатии не окажет. Еще можно видеть, как они без устали играют в кости и другие игры, а некоторые проигрывают в короткое время все свое добро, рабов и рабынь, даже жену и детей, которых другой обращает в рабов, а если красивая жена, то берет в наложницы. Вырывают они себе бороду, так что сперва можно подумать, что они женского пола, отчего многие похотливые матросы обманывались. Хоронят своих мертвецов в особом месте за городом, под сводами, принося дьяволу в жертву невероятно много еды превосходной, пряностей да бумаги раскрашенной.
Совершенно иной нрав у индийцев, из которых некие часто подвергаются истязаниям и казням. К тому же употребляют они столь много опиума (опасное такое зелье), что становятся от него как бешеные. Потом бегают по улицам и кричат: «Амок!» – сие означает, что прибьют любого, кто им попадется, да часто и вправду многих побивают, за что их после казнят. Ибо правосудие не терпит подобного безбожного безрассудства.
Тут вспомнил я о том, что было написано в моем письме, что мне надлежит послать своей жене весточку из Батавии. Ее письмо носил я с собой повседневно, но писать не желал, все еще гневаясь на нее, и намеревался с ней совсем расстаться. Чем больше размышлял я о своей прежней, веселой и приятной жизни, тем более меня отвращала ее хитрость, каковою она меня прочь отправила. Потом перебрался я в дом, где жило множество моряков, из разных стран, предаваясь беспутству, и были там голландцы, немцы и французы. Приняли меня сразу хорошо, и всего у меня было вдоволь, и стал я вскорости самым из них веселым. Каждый день были игры, веселия и попойки, были там и особы женского полу, танцы и множество увеселений разного рода; приходили индийцы и китайцы, играли музыку, представляя престранные танцы, похожие на комедию, все в самых лучших нарядах и с изрядным пением.
Должен с прискорбием сознаться в том, что я, одним старым матросом совращенный, дважды принял языческого зелья опиума, занемог чрезвычайно, но выздоровел и более никогда этим не соблазнялся.
В том же доме, где нашел я пристанище и который принадлежал одному голландцу, была индийская девица по имени Силла, весьма пригожая и сложения тонкого и не слишком смуглая, и очень она мне полюбилась, однако ж о матросах она и слышать не хотела. Была она турецкой веры, потому как родом из города Джапаре.
Часто хаживал я по городу, то в одиночку, а то с приятелями, дивясь на многие их причудливые диковины, храмы, капища, чуждые деревья и травы, пальмы и колючие растения. И так деньги мои и имущество растаяли, словно мартовский снег. Однако ж я не желал более идти на матросскую службу. И тут повстречалась мне в другой раз та самая Силла, и говорил я ей льстивые слова, не желает ли меня поцеловать. Отвечала – нет, разве только если женюсь на ней. На что рассмеялся я от всего сердца и распрощался с девицей.
В январе же большинство приятелей моих вновь поступили на службу, каждый на какой-нибудь корабль, и расстались со мной, памятуя о дружбе и с великой печалью. И остался я совсем один, денег у меня не было, и тужил я крепко и не знал, что делать и куда податься.
В это скорбное время я вновь пришел к Силле, спросив, не пожелает ли она за меня замуж. Ибо никому я не сказывал, что не холост, а что есть у меня давно жена. Девица согласилась, однако сказала, что в Батавии нам жениться невозможно, а следует отправиться жить на другой остров. И потому я начал искать службу и поступил к одному капитану, которому предстояло плыть на Амбойну, а корабль его именовался «Генриетта-Луиза». Девица также определилась на этот корабль, тем более что я капитана об том просил. Мы везли рис и сахар, а обратно корабль должен был доставить в Батавию пряности, в особенности же мускатный орех.
И вот февраля седьмого числа отправились мы в путь, а я надеялся найти на том острове добрую службу, в достославной Ост-Индской компании, и эта моя амбиция оказалась впоследствии удовлетворенной. Все, что приключилось во время этого путешествия и что нам довелось испытать, я перечислять здесь не буду, а упомяну разве что о бурях, и непогодах, и крайних опасностях, что выпали нам у Зундских островов да в прочих местах; не раз беды и невзгоды были столь тяжкими, что все мы молились (за исключением моей Силлы, потому как она была мавританской веры), и даже самые стойкие матросы и закоренелые грешники и охальники принимались отчаянно рыдать. Потеряли мы двенадцать человек, в том числе одного дворянина. Он доводился свойственником губернатору Тарнатава, маленького острова, на котором есть огнедышащая гора. Звали его Корсом, и он свалился за борт.
В общем, после всех этих тяжких мытарств сошли мы месяца мая двадцать четвертого числа на берег Амбойны, у крепости Виктория. Там мы с Силлой оставили корабль, который принял на борт лишь пресную воду и провиант и тут же пошел в следующий порт. Мы же стали совет держать, что делать дальше. Девица и прежде того мне сказывала, что готова в случае надобности от своей языческой веры отказаться. Мы пока что сочли за лучшее наши истинные отношения в тайне держать. Потому я указал, что она моя законная жена, и по этой причине ни свадьбы мы не играли, ни с верой своей турецкой Силла не расставалась. За что меня Господь Бог, праведность соблюдая, позднее тяжко покарал.
Я представился в крепости Виктория, у господина губернатора по имени Хетсерт, попросив определить меня на службу. Этот господин, выслушав мои лживые россказни, отказал мне сад и маленькую камышовую хижину. Там я и поселился со своей индианкой.
Поначалу все шло хорошо, мы отдыхали от перенесенных опасностей. Мне было привольно, потому как индийские женщины приучены угождать мужескому полу. Каждый день у меня было вдоволь еды, а когда не хотелось есть, лежал себе в хижине, без особых трудов. Силла работала в саду, собирала кокосовые орехи, а также саго и прочие съедобные плоды. Прожили мы вместе подобным образом почти год.
Однако стала меня кручина забирать, что не на своем дворе я сижу, у Столовой горы, и возжелал я домой вернуться. Хоть и не было особого недостатка, да и дела мои были справны, однако овладело мной недовольство. Редко когда что другое в пищу употреблял, кроме саго и пинанга, а также рыбы соленой, и еда такая меня все больше удручала. И с Силлой сношения прекратил, укоряя себя изрядно в том, что она безбожная язычница.
После нескольких тщетных попыток в марте месяце 1660 года мне удалось незамеченным пробраться на голландский корабль, что с грузом мускатного ореха обратно в Батавию направлялся. Был полон радости сердечной, покуда мы все далее отходили, желая доброй индианке счастия и благоденствия, полагая вскорости у своей подлинной жены оказаться. Однако в слабости своей забыл я о Божественном промысле. Вскорости обрушились на нас ветры жестокие, паруса спустить пришлось да якорь то и дело бросать. Посему по прошествии некоторого времени кончилась на корабле пресная вода, и впали мы в нужду ужасающую. Многие занемогли, выли и жалостно стонали. В сем ужасном положении узрели мы остров, бросили якорь и спешно спустили шлюпку, в которую село человек пятнадцать, и среди оных и я случился. Что было мочи гребли к берегу, но, приплыв, нашли его крутым и скалистым, и не было нам надежды на сушу сойти, а тут и волнение морское столь ужасно стало, что взял нас страх, что лодочка наша об оные скалы расшибется или, чего доброго, перевернется. Вскорости чаяния наши нас совсем оставили. Однако ж некоторые из нас, и я в том числе, что плавать умели, бросились за борт и счастливо через прибой на берег выбрались, один из нас только утоп. Вскорости достигли мы чистого ручья и вознесли хвалу Господу, и пил каждый, сколько было угодно. Потом бросились обратно к берегу, чтобы позвать тех, которые в лодке остались. И узрели в ужасе великом, что лодки нигде нет, и не ведали, унесло ли ее ветром или совсем потонула. Кричали и звали, что было мочи, да все без толку. В страшное сие мгновение испугались мы столь сильно, что пали на землю, яко мертвы, ибо обстоятельства наши были столь плачевны, что и надежды у нас не оставалось, что живы будем и в земли обитаемые возвернемся.
До сего дня мне неведомо, что с той лодкой приключилось, полагаю, что потонула. Было нас пятеро, и кричали мы еще часа с два, и глядели в бурные воды, рыдали громко и взывали о помощи. Стали совещаться, что далее делать, и не могли придумать, провели ночь и день на том же месте и померли бы вскорости от голода, ибо не могли найти пропитания. По прошествии этого времени сказал один, именем Кёлен, что не желает он здесь оставаться, чтобы мы шли вместе с ним, а не то с голоду помрем. Я согласился, и еще один, по имени Карлсен, а двое других отказались, уповая, что лодка наша вернется. И вот мы расстались со слезами, найнежнейшим образом, оставили обоих на берегу и двинулись в глубь острова. Со всех сторон были крутые скалистые горы, мы ели листья незнакомого дерева, чтобы поддержать силы. Потом мы стали подниматься на тяжкие кручи, шли мимо ужасных скал и расщелин, слышали рокот бурных водопадов и на второй день упали совсем без сил и не могли сделать дальше ни шагу. Голод мучил нас несносно, сколь был бы я признателен получить сейчас миску пинанга от моей доброй Силлы.
Целую ночь пролежали мы на тех скалах, уверенные в своей неминуемой смерти, взывая к Господу в тяжкой нужде. Никогда христианская молитва не бывает тщетной, даже когда совсем бесплодной кажется. Милостивый Всевышний услышал наш стон в сей глуши. Вновь к нам вернулось мужество, и пошли мы в другую сторону, чтобы не упустить ни одного способа спасения. Находили коренья и травы, пили из опасных ручьев, не зная, не скрываются ли в них крокодилы. И так мы снова вышли на берег, но в другом месте.
И, пребывая в величайшей опасности, заметили с берега маленькую рыбацкую шхуну, называемую каноэ, и обрадовались безмерно. Вскорости обнаружили мы и тропу, по которой двинулись с чрезвычайным воодушевлением. Немного погодя увидели мы маленькую рыбацкую хижину среди густых зарослей, в ней был старый индийский отшельник, живший в этой глуши рыбной ловлей. Узрев нас, он словно застыл от ужаса, ибо мы были до крайности истощены и обессилены, походя не столько на живых, сколько на мертвецов; к тому же он, как можно было предположить, никогда еще белых людей не видел. Один из нас, по имени Карлсен, обратился к нему самым учтивым образом на малайском языке, рассказав о нашем тяжком несчастии. Отшельник предложил нам сушеной рыбы и риса, понуждая нас есть. Мы благодарили его от всего сердца, вознося хвалу Господу за сию нечаянную милость. Мы принялись за еду, но осторожно, разумея, что утроба наша от долгого поста словно иссохла. Выразили желание сослужить индийцу службу, и отправились, после наставления, за добычей на маленьком каноэ, и были весьма удачливы. У этого доброго индийца оставались мы несколько месяцев, ловили рыбу и сушили ее там же на скалах, посеяли немного риса и нужды не знали. Однако с каждым днем были все печальнее, ибо не было надежды, что покинем когда-нибудь это место, чтобы попасть в иные страны или в наше отечество. Одежда наша совсем истлела, волосы и бороды становились все длиннее, одним словом, нас можно было принять скорее за индийцев, за дикарей или леших, нежели за христиан. Частенько мы не произносили ни слова, сидя вместе совершенно молча, кротко рыдая и не находя утешения.
Однажды вечером, когда началась сильная буря и дождь, мы все лежали в хижине, не могли спать и разожгли небольшой огонь. Тогда встал один из нас, бросил полено в огонь и сказал, что каждый из нас должен поведать свою историю и свои приключения, сам и начал и рассказал все, что мог. За ним другой, а затем и я, и никогда в жизни не слышал я так много историй и таких ужасных, как в этот вечер. Ибо каждый из нас испытал немало: кораблекрушения, опасности, голод, болезни, видел также чужие народы и города, во всяких странах.
Как скоро я честно обо всех моих делах поведал, оба спутника моих набросились на меня и кричали: «Ты злодей, ты безбожник, что ты натворил, ты дважды совершил прелюбодеяние». Я кричал им в ответ, упорствовал и не желал ничего слушать. Однако затем я весьма опечалился, узрел разом свои грехи и преступления, пал на колени, плакал и молился истово. И тогда те двое встали подле меня на колени, мы громко стенали и просили с жаром помощи, чтобы покинуть нам тот остров и снова оказаться среди народа христианского, в своем отечестве, тем паче что мы претерпели столько лишений и бед. Сознание совершенных злодеяний лежало на сердце, словно тяжкая гора, я молил товарищей моих простить мне мои прегрешения, за которые Бог столь сурово нас наказал. Они же утешали меня самым сердечным образом, оба дали мне свое прощение, помогая мне изрядно в молитвах и стенаниях.
То и дело исследовали мы ту местность, но не находили выхода или спасения, не осмеливались мы и отправиться на утлом каноэ или лодчонке в морские дали. Дважды видели мы корабль, и возносили хвалу Господу, и кричали, и махали руками, и разжигали большой костер, но все напрасно. В отчаянии бросались на землю и лили горькие слезы. Мы пробыли там уже долгое время, и тогда старый индиец умер, и мы горевали весьма и погребли его, памятуя, что одному ему мы своею жизнию были обязаны. Поставили на его могилу дощечку из черного дерева, тем паче что в той земле дерева такого можно было найти в достатке.
В бедствии нашем, когда уже никто из нас не желал оставаться в том чуждом и диком краю, сели мы, помолившись долго и истово, в маленькое каноэ, хоть и знали, что надежды у нас мало живыми через море пройти; а все ж таки желали испытать, потому как другого спасения не имели. И вот сели мы в невеликую ту шхуну, взяв сушеной рыбы, рису и саго про запас, подняли малый парус. И отплыли мы в открытое море, не чая до другой земли добраться, однако уповали, что какой другой корабль встретим, который мог бы послать за нами свою лодку и спасти нас.
После того как мы два дня плыли под парусом и гребли, увидели мы, как на небе собираются грозные, черные и бурые тучи, из тех, что наполняются водой, всасывая в себя влагу морскую, отчего их и прозвали матросы мокрыми штанами. При виде сего ужасного зрелища мы утратили все мужество, бросились на дно лодки и взывали о помощи. И Бог сжалился над нами в милости Своей, послав нам англинский корабль. Однако ж едва мы обнаружили сие свидетельство Божьего милосердия, обрушилась на нас туча, с неописуемой бурей и грохотом, так что лодка наша закружилась и опрокинулась, разлетевшись в щепки. И я слышал громкий крик моего товарища Кёлена: «Господи, помилуй, всех нас ждет смерть!»
Среди сего крайнего страха и смертельной опасности чужой корабль спустил на воду шлюпку с пятью матросами, они спасли нас, рискуя собственной жизнью, однако лишь меня и Кёлена. Третий, по имени Карлсен, уже утоп, а волнение на море было столь сильным, что заметить его не было никакой возможности. Оба мы были совершенно истощены, и нас перевезли на корабль, принадлежавший аглинскому флоту. Мы от всего сердца благодарили этих людей и воздавали хвалу Господу, преклонив колена. Нас тотчас же уложили в постель, дали нам вина и лекарства, и на следующий день я уже был почти здоров и крепок. И вот я отправился в путь на аглинском корабле. Но вдруг я испугался весьма, узрев среди тех, кто на том корабле был, мою Силлу, оставленную мною прежде бесчестным образом на Амбойне. Она же меня не приметила, ибо борода моя свисала до пояса и лицо мое стало черным и грубым, так что меня и моего товарища никто за христианина не счел бы. Потому я спрятался и вел себя совсем тихо.
Его величество король аглинский был об ту пору в состоянии войны с голландцами, так что корабль не мог пристать в Батавии. Я поведал капитану все, что с нами приключилось и сделалось, и все, и некоторые благородные персоны немалое изумление испытали и сочувствие, узнав все сии события. И я умолял капитана от всего сердца, чтоб взял он меня до мыса Доброй Надежды, где родина моя, предлагая свою службу. Сей добрый господин дал на то свое согласие и послал меня тотчас же в каюту, повелев меня остричь, чтобы вернуть мне человеческое обличье, как прежде. Я того давно жаждал, повиновался ж, однако, неохотно, ибо опасался, что Силла меня тогда узнает. Очень я этой индийской девицы боялся. И все ж я подчинился, а она меня не узнала, столь моя наружность переменилась.
В этом долгом и изрядно опасном плавании приключилось с нами множество неприятностей и бед, о коих я умолчу, ибо и так уже много поведал и написал, и того довольно. Пришли мы наконец к мысу Доброй Надежды, и я вновь узрел Столовую гору, рыдал сильно и не знал, жива ли еще моя жена и друзья мои, и весь дрожал. С превеликой благодарностию корабль оставил и доброго Кёлена поцеловал и обнял, с печалью в сердце. Сошел на берег, где пять лет уже не был. В городе меня никто не знал, я нашел новую улицу, прочих перемен и новостей не считая. Шел я по городу и улицам его, словно чужестранец, сам ничего не узнавая. Затем вышел я на поле, на ту дорогу, по которой меня пять лет назад увели, и плакал от радости и неизвестности. И узрел я, что земли мои и имение в лучшем виде пребывают, и виноградники и злаки, и всем сердцем восхотел сим вновь владеть и жену мою верную вновь увидеть, к груди своей прижать.
Некоторое время спустя дошел я до своего дома и остановился от страха и дрожи. И услышал я звуки премногие и печальные, рыдания и вопли из дома, и не знал, что бы это значило. И так я стоял и не осмеливался внутрь войти, и тут дверь разом растворилась, и моя жена вышла, плача пресильно, а меня не приметила. Я к ней подошел и руку ей протянул. Тогда она вскричала: «Ты кто?» Я ответствовал: «Посмотри на меня, я супруг твой, что пять лет по миру скитался!» Тогда и она меня признала и испугалась. Я спросил: «Женщина, отчего плачешь и печалуешься?» Она же повелела мне молчать и повела в дом, но не в покои, а в чулан, что под крышей. Там она заперла дверь накрепко и повелела мне рассказать все мои происшествия доподлинно и без утайки. Я поведал ей все, только были у меня резоны ничего не говорить ни о Силле, ни об опиуме. «Что ж ты мне не писал, – спросила она. А после она вновь заплакала и сказала: – А вот послушай теперь меня!» И рассказала она мне все, что случилось. Ждала она меня два года, со всей верностью, а потом вышла за другого мужчину. Звали его Елерс, и ему теперь принадлежали и жена моя, и двор, и имение, и все, что в прежние времена моим было. Но теперь этот самый господин Елерс лежал при смерти, потому и стенала, и рыдала так громко жена моя. Она сказала: «Прячься здесь, пока он не умрет». И я хоронился в чулане пять дней и ночей, в удручении и тоске великой, вознося, однако ж, хвалу Господу в сердце моем за Его чудесное, милостивое провидение, благодарил Его с превеликим усердием. И тогда Он взял господина Елерса к Себе, в Свои небесные чертоги.
После чего я с осторожностию вышел из той жалкой каморки, надел платье пригожее, снова стал настоящим супругом и хозяином богатым, с радостью облобызал свою добродетельную жену и в ее горе утешил. И с той поры уже не возвращался к прежним порокам, к высокомерию и беспутству безудержному, а жил в надлежащей строгости. И да не оставит меня в сем деле и далее Всевышний в Его неисчерпаемой милости. Аминь. Помоги, Господи, дай, Господи, счастья! Аминь.
Обращение Казановы [22]
I
В Штутгарте, куда его завлекла молва о роскоши двора герцога Карла-Евгения, рыцарю фортуны Джакомо Казанове не повезло. Даже несмотря на то, что он и встретил там, как и в любом городе земли, множество старых знакомых, а среди них венецианку Гарделлу, тогдашнюю фаворитку герцога, и несколько дней прошли для него весело и легко, в обществе танцоров, танцовщиц, музыкантов и актрис. Казалось, ему обеспечен хороший прием у австрийского посланника, при дворе, даже у самого герцога. Но, едва осмотревшись, ветрогон отправился как-то вечером с несколькими офицерами к дамам легкого поведения, они играли в карты и пили венгерское вино, а кончилось увеселение тем, что Казанова проиграл четыре тысячи луидоров, остался без своих драгоценных часов и колец и был в непотребном виде доставлен домой в коляске. Завязался судебный процесс, и дело дошло до того, что перед искателем приключений замаячила опасность потерять все свое состояние и быть отданным в солдаты одного из герцогских полков. Тут он решил, что пришло время уносить ноги. Прославившийся своим побегом из венецианских свинцовых казематов, Казанова ловко ускользнул и из-под штутгартской стражи, даже прихватив свои чемоданы, и через Тюбинген добрался до Фюрстенберга, где мог считать себя в безопасности.
Там он решил передохнуть и остановился в трактире. Душевное равновесие вернулось к нему еще в пути, а неудача сильно его отрезвила. Пострадали его кошелек и репутация, пошатнулась слепая вера в богиню удачи, и он неожиданно оказался выброшенным на улицу, без дальнейших планов и видов на будущее.
Однако жизнелюбивый итальянец отнюдь не производил впечатление человека, попавшего под удар судьбы. В трактире он был принят, в соответствии со своим костюмом и поведением, как путешественник первого класса. Он носил украшенные драгоценными камнями золотые часы, нюхал табак попеременно то из золотой, то из серебряной табакерки, на нем было тончайшее белье, изящные шелковые чулки, голландские кружева, и стоимость его платьев, драгоценных камней, кружев и украшений была только недавно оценена в Штутгарте одним знающим человеком в сто тысяч франков. Немецким он не владел, зато говорил на безупречном французском с парижским выговором, а манеры его были манерами богатого, изнеженного, однако широкой души путешественника. Он был требователен, но не скупился, когда оплачивал счет и раздавал чаевые.
После лихорадочного переезда Казанова оказался в трактире к вечеру. Пока он мылся и пудрился, был готов заказанный им изысканный ужин, который вместе с бутылкой рейнского помог ему провести остаток дня приятно и без скуки. Он довольно рано отправился на покой и прекрасно проспал до утра. Только после этого он занялся приведением своих дел в порядок.
После завтрака, во время которого он занимался туалетом, Казанова позвонил, чтобы ему принесли чернила, перо и бумагу. Вскоре появилась миловидная девушка с приятными манерами и положила требуемое на стол. Казанова учтиво поблагодарил, сначала по-итальянски, потом по-французски, и оказалось, что хорошенькая блондинка понимает второй из этих двух языков.
– Невозможно, чтобы вы были горничной, – сказал он серьезно, но ласково. – Вы наверняка дочь хозяина этого заведения.
– Вы угадали, сударь.
– Вот видите! Я завидую вашему отцу, прекрасное дитя. Он счастливый человек.
– Почему вы так считаете?
– Совершенно ясно. Он может каждое утро и каждый вечер целовать прекраснейшую, милейшую дочурку.
– Ах, милостивый государь! Этого от него и не дождешься.
– Тогда он неправ и достоин сожаления. Я бы на его месте сумел оценить такое счастье.
– Вы меня смущаете.
– Дитя мое! Разве я похож на Дон Жуана? Ведь я вам в отцы гожусь. – Проговорив это, он схватил ее за руку и продолжал: – Запечатлеть на таком лбу отеческий поцелуй – должно быть, совершеннейшее счастье.
Он нежно поцеловал ее в лоб.
– Не противьтесь мне, я ведь тоже отец. Между прочим, у вас восхитительная ручка.
– Что вы говорите?
– Я целовал руки принцесс, которые с вашими нельзя даже сравнивать. Клянусь честью!
И при этих словах он поцеловал ее правую руку. Он поцеловал сначала осторожно и почтительно тыльную часть руки, затем перевернул ее, поцеловал запястье и каждый пальчик в отдельности.
Зарумянившаяся девушка рассмеялась, отстранилась и, сделав озорной книксен, выбежала из комнаты.
Казанова улыбнулся и сел за стол. Он взял лист почтовой бумаги и легким, элегантным почерком вывел на нем: «Фюрстенберг, 6 апреля 1760». Затем он задумался. Отодвинул лист в сторону, достал из кармана бархатного жилета серебряный туалетный ножичек и какое-то время занимался своими ногтями.
После этого он быстро и, ненадолго задумываясь, короткими перерывами написал одно из своих бойких писем. Это было обращение к штутгартским офицерам, сыгравшим столь неприятную роль в его судьбе. Он обвинял их в том, что они подмешали ему в токайское вино какое-то дурманящее зелье, чтобы затем обмануть его за карточным столом, а девкам дать возможность украсть его драгоценности. Письмо заканчивалось лихим вызовом. Им предлагалось в течение трех дней явиться в Фюрстенберг, где он ожидает их с приятной надеждой застрелить всех троих на дуэли и тем умножить свою всеевропейскую славу.
Казанова сделал три копии этого письма и адресовал каждому отдельно. Когда он заканчивал третью, в дверь постучали. Это снова была хорошенькая хозяйская дочь. Она извинилась за беспокойство и объяснила, что забыла принести песочницу. А теперь вот принесла и просит простить ее за это упущение.
– Какое совпадение! – воскликнул кавалер, поднявшись с кресла. – Я тоже кое-что упустил и хочу теперь загладить вину.
– Правда? Что же это?
– Поистине оскорблением вашей красоты было то, что я не поцеловал вас в губы. Я счастлив, что могу сейчас поправить дело.
Прежде чем она успела отпрянуть, он обнял ее за талию и привлек к себе. Она шипела и сопротивлялась, но делала это так бесшумно, что опытный ловелас был уверен в своей победе. С легкой улыбкой он поцеловал ее в губы, и она ответила на его поцелуй. Он снова опустился в кресло, взял ее на колени и осыпал тысячей нежных игривых слов, которые у него в любую минуту были наготове на трех языках. Еще парочка поцелуев, легкомысленная шутка, тихий смех, и блондинка решила, что ей пора.
– Не выдавайте меня, милый. До свидания!
Она вышла. Казанова стал насвистывать венецианскую мелодию, переложил вещи на столе и продолжил работу. Он запечатал письма и отнес их хозяину, чтобы они ушли курьерской почтой.
Заодно он заглянул на кухню, где на огне стояло множество кастрюль. Хозяин сопровождал его.
– Чем порадуете сегодня?
– Молодыми форелями, милостивый государь.
– Жареными?
– Разумеется.
– На каком масле?
– На сливочном, ваша милость.
– Вот как. А где масло?
Ему дали на пробу, он понюхал и одобрил его.
– Попрошу вас, чтобы масло было всегда свежим, пока я буду гостить у вас. За мой счет, разумеется.
– Будьте спокойны.
– У вас не дочь, а сокровище, любезнейший. Свежа, красива и учтива. Я сам отец, и у меня наметанный глаз.
– У меня их две, ваша милость.
– Как, две дочери? И обе взрослые?
– Так точно. Та, что вас обслуживала, старшая. Младшую вы увидите за столом.
– Не сомневаюсь, что она в не меньшей степени, чем старшая, сделает честь вашему воспитанию. Я ничто так не ценю в юных девушках, как скромность и невинность. Лишь семьянин знает, как много это значит и сколь заботливо следует оберегать юность.
Время, оставшееся до обеда, гость посвятил своему туалету. Ему пришлось самому побриться, потому что слуга не смог бежать вместе с ним из Штутгарта. Он напудрился, переодел сюртук и сменил домашние туфли на легкие, изящные башмаки парижской работы с золотыми пряжками в форме лилий. Поскольку до обеда оставалось еще немного времени, он достал из портфеля исписанную тетрадь и принялся изучать ее с карандашом в руке.
Это были таблицы чисел и исчисления вероятностей. В Париже Казанова немного поправил сильно расстроенные финансы короля с помощью устройства лотерей и при этом сам заработал целое состояние. Совершенствование системы и введение ее в столицах, где ощущалась нехватка денег, например в Берлине или Петербурге, было одним из множества его прожектов. Быстро и уверенно пробегал его взгляд по столбцам цифр, следуя за указательным пальцем, а перед его внутренним взором плясали многомиллионные суммы.
За обедом прислуживали обе дочери. Еда была отменной, вино тоже достойным, а среди сидевших за столом Казанова обнаружил по крайней мере одного, с кем стоило завести разговор. Это был посредственно одетый, еще молодой эстет, претендовавший на звание ученого. Он утверждал, что путешествует по Европе с целью расширения своих познаний и работает в данный момент над опровержением последней книги Вольтера.
– Вы пришлете мне свое сочинение, как только оно будет напечатано, не правда ли? Мне будет приятно подарить вам в ответ один из плодов моих досугов.
– Почту за честь. Разрешите узнать, о чем пишете?
– С удовольствием. Речь идет об итальянском переводе «Одиссеи», над которым я работаю уже довольно долгое время.
И он стал говорить легко и свободно, сообщая немало проницательных замечаний о своеобразии, поэтике и метрике своего родного языка, о рифме и ритме, о Гомере и Ариосто, божественном Ариосто, из которого он продекламировал десяток строк.
Попутно он не упустил возможности сказать несколько любезностей обеим хорошеньким сестрам. А когда пришло время вставать из-за стола, он подошел к младшей и после нескольких вполне учтивых слов спросил ее, владеет ли она искусством цирюльника. Когда она ответила утвердительно, Казанова попросил впредь по утрам приводить в порядок его голову.
– Но я умею это делать не хуже! – воскликнула старшая.
– Вот как? Тогда будем чередоваться. – И обратился к младшей: – Итак, завтра после завтрака. Согласны?
После обеда он написал еще несколько писем, а именно в Штутгарт, помогавшей ему бежать танцовщице Бинетти, которую он просил теперь позаботиться об оставшемся там слуге. Слугу звали Ледюк, он считался испанцем и был бездельником, но очень верным слугой, и Казанова был привязан к нему более, чем можно было ожидать при его непостоянстве.
Следующее письмо он написал своему голландскому банкиру, а еще письмо своей прежней возлюбленной в Лондон. Затем он принялся размышлять, что бы предпринять далее. Сначала надо было подождать тех троих офицеров, а также вестей от слуги. При мысли о предстоящей дуэли на пистолетах он посерьезнел и решил на следующий день еще раз пересмотреть свое завещание. Если все закончится удачно, он собирался кружным путем добраться до Вены и припас несколько рекомендаций.
После прогулки он поужинал, затем почитал в своей комнате, потому что в одиннадцать ожидал визита старшей хозяйской дочери.
Теплый ветер с гор овевал трактир и нес короткие ливни. Два следующих дня Казанова провел как и прошедший, с тем только отличием, что теперь и вторая девушка частенько составляла ему компанию. Так что помимо чтения и писем он был вполне занят радостями любви и необходимостью предусмотрительно избегать столкновения белокурых сестер и сцен ревности между ними. Он разумно распределял дневные и ночные часы и не забыл также о завещании, а свои замечательные пистолеты держал вместе со всеми принадлежностями наготове.
Однако вызванные им на дуэль офицеры не появились. Не появились и не прислали ответа, ни на второй, ни на третий день. Авантюрист, в сущности, не слишком от этого страдал, поскольку его первый гнев давно остыл. Гораздо более волновало его отсутствие Ледюка, его слуги. Он решил подождать еще день. Тем временем влюбленные девушки вознаградили его за наставления в ars amandi [23] тем, что немного научили его, безмерного эрудита, немецкому языку.
На четвертый день терпение Казановы было готово лопнуть. И тут объявился, еще довольно рано, до полудня, Ледюк, примчавшийся на взмыленной лошади, весь забрызганный грязью весенней распутицы. Радостно и растроганно приветствовал его хозяин, и Ледюк принялся, прежде чем наброситься на хлеб, ветчину и вино, торопливо рассказывать:
– Прежде всего, ваша милость, велите заложить лошадей, и пересечем еще сегодня швейцарскую границу. Офицеры-то не приедут, так что дуэль не состоится, зато я знаю наверняка, что на вас вскорости напустят соглядатаев, сыщиков и наемных убийц, если вы здесь еще задержитесь. Говорят, сам герцог возмущен вами и лишил вас своего покровительства. А потому торопитесь!
Казанова долго не раздумывал. Головы он не терял, бывали времена, когда беда приближалась к нему куда как ближе, наступая на пятки. Однако он согласился с испанцем и велел собираться, чтобы ехать до Шаффхаузена.
Для прощаний времени у него оставалось немного. Он заплатил хозяину, подарил старшей дочери на память черепаховый гребень, а младшей – торжественное обещание как можно скорее вернуться, собрал свои чемоданы, и не прошло и трех часов с той минуты, когда прибыл Ледюк, как он уже сидел вместе со слугой в почтовой карете. Были взмахи платочками, были прощальные слова, и вот быстрый, запряженный резвыми лошадьми экипаж выехал со двора трактира на улицу и покатил по размокшему тракту.
II
Приятного было мало – вот так, сломя голову, без приготовлений, бежать в совершенно чужую страну. К тому же Ледюк не мог утаить от помрачневшего хозяина, что его великолепную, приобретенную лишь несколько месяцев назад карету пришлось оставить в руках штутгартцев. Тем не менее Казанова, когда они подъезжали к Шаффхаузену, вновь повеселел, а поскольку граница уже осталась позади и они добрались до Рейна, он довольно равнодушно принял сообщение о том, что в Швейцарии почтовые лошади не в ходу.
Пришлось нанимать лошадей до Цюриха, а пока дело улаживалось, оставалось время для доброго обеда.
При этом бывалый путешественник не упустил возможности хотя бы бегло ознакомиться с укладом жизни и обычаями чужой для него страны. Ему пришлось по душе, что трактирщик патриархально восседал во главе стола, а его сын, хотя и был в чине капитана, не стыдился стоять за его спиной и следить за сменой блюд. Вечно спешащему страннику, который очень полагался на первое впечатление, показалось, что он попал в хорошую страну, где неиспорченные люди удовлетворены скромной, но уютной жизнью. К тому же он чувствовал себя защищенным от гнева штутгартского тирана и жадно вдыхал, после долгого пребывания при дворах и на службе монархов, воздух свободы.
Нанятый экипаж подъехал вовремя, Казанова и его слуга сели в него и продолжили путь, навстречу клонящемуся к закату желтому солнцу, в Цюрих.
Ледюк видел, что его господин, откинувшись на подушки, пребывает в послеобеденной задумчивости, он подождал некоторое время, не захочет ли тот завести разговор, и заснул. Казанова не обращал на него внимания.
Отчасти после прощания с юными жительницами Фюрстенберга, отчасти из-за хорошего обеда, отчасти из-за новых впечатлений в Шаффхаузене Казанова впал в полнейшее умиление и, отдыхая от беспокойства последних недель, ощущал с легким изнеможением, что он уже далеко не юн. У него, правда, еще не возникало ощущения, будто звезда его блестящей кочевой жизни начинает клониться к закату. И все же он предался размышлениям, которые начинают одолевать скитальцев раньше прочих людей, размышлениям о неудержимом приближении старости и смерти. Он полностью доверил свою жизнь непостоянной богине удачи, и она отметила и баловала его, она уделила ему больше внимания, чем тысяче его соперников. Однако ему было доподлинно известно, что Фортуна любит лишь молодых, а молодость ускользает безвозвратно, и он уже не был уверен в ее благосклонности и не знал, не оставила ли она его.
Разумеется, ему было всего тридцать пять. Но он успел прожить не одну жизнь. Добился любви сотен женщин, побывал в темницах, дневал и ночевал в карете, вкусил страхов беглеца и гонимого, а кроме того, лихорадочно, с горящими глазами проводил изматывающие ночи за игровыми столами многочисленных городов, выигрывал состояния, проигрывал и отыгрывал вновь. Он видел, как его друзья и враги, подобно ему блуждавшие бесприютными странниками по земле в погоне за счастьем, попадали в беду и оказывались во власти болезней, томились в темнице и переживали позор. Пожалуй, не менее чем в пятидесяти городах трех стран у него были друзья и расположенные к нему женщины, но захотят ли они его вспомнить, если он явится к ним когда-нибудь больным, старым и нищим?
– Ты спишь, Ледюк?
Слуга воспрянул:
– Что изволите?
– Через час мы будем в Цюрихе.
– Должно быть.
– Ты знаешь Цюрих?
– Не лучше своего отца, а я его никогда не видел. Город как город, правда, я слышал, будто там много блондинок.
– Блондинки мне надоели.
– Ах вот как. Должно быть, после Фюрстенберга? Надеюсь, эти две крошки вас не обидели?
– Они меня причесывали, Ледюк.
– Причесывали?
– Причесывали. И учили меня немецкому, вот и все.
– И только-то?
– Довольно шуток. Послушай, я старею.
– Давно ли?
– Брось глупости. Да и твое время уже подходит, разве не так?
– Для старости – нет. Чтобы остепениться – пожалуй, но только с почетом.
– Ты свинья, Ледюк.
– Позвольте с вами не согласиться. Родственников не едят, а я больше всего на свете обожаю свежую ветчину. В Фюрстенберге она была, между прочим, солоновата.
Не на такую беседу рассчитывал Казанова. Однако он не вспылил, для этого он был слишком усталым и благодушно настроенным. Он просто смолк и вяло отмахнулся. Сонливость одолевала его, и мысли разбегались. И когда он впал в полудрему, в памяти всплыли времена ранней юности. Ему пригрезилась в ярких, просветленных тонах и чувствах гречанка, которую он повстречал молоденьким франтом на корабле у Анконы, а еще его первые, фантастические приключения в Константинополе и на Корфу.
Карета тем временем катила все дальше, а когда Казанова очнулся, она уже гремела по булыжной мостовой, потом переехала мост, под которым шумела черная река, отражавшая красные огоньки. Они прибыли в Цюрих, в трактир «Меч».
Сон как рукой сняло. Казанова потянулся и вышел, приветствуемый учтивым хозяином.
– Итак, Цюрих, – произнес он, не обращаясь ни к кому.
И хотя еще вчера он собирался ехать в Вену и не имел не малейшего понятия, чем заняться в Цюрихе, он, оживленно поглядывая по сторонам, последовал за хозяином в трактир и выбрал себе на втором этаже удобную комнату с прихожей.
Отужинав, он вернулся к своим прежним размышлениям. Чем более покойно и уютно он себя ощущал, тем более серьезными представлялись ему сейчас, задним числом, опасности, которых ему удалось избежать. Стоит ли впредь добровольно рисковать собой? Стоит ли, после того как бурное море само выбросило его на мирный берег, без нужды вновь отдаваться на волю волн?
Если он не ошибся в подсчетах, его состояние в деньгах, векселях и движимом имуществе составляло около ста тысяч талеров. Для мужчины, не обремененного семьей, этого было достаточно, чтобы обеспечить тихую и безбедную жизнь.
С этими мыслями он улегся в постель и спал долгим сном, увидев череду умиротворяюще счастливых снов. Он видел себя владельцем прекрасной виллы, живущим привольно и весело, вдали от столиц, общества и интриг, и все новые и новые видения сельского очарования и чистоты.
Сны эти были столь прекрасны и столь наполнены ясным ощущением счастья, что Казанова пережил утреннее пробуждение почти как болезненное отрезвление. Однако он тут же решил последовать этому последнему знаку своей доброй богини удачи и воплотить свои видения в действительность. Осядет ли он здесь или вернется в Италию, Францию или Голландию, но с этого дня он решил отказаться от приключений, погони за удачей и внешней роскоши и как можно скорее устроить себе спокойную, беззаботно-независимую жизнь.
Сразу же после завтрака он оставил Ледюка в комнате, а сам в одиночку и пешком покинул гостиницу. Давно забытое чувство свободы увлекло странника прочь, за город, в луга и леса. И вот он уже неспешно прогуливался вдоль озера. Нежный весенний воздух тепловатыми волнами накатывал на серовато-зеленые луга, на которых светились радостью первые желтые цветочки, а живые изгороди по краям были усыпаны красновато-теплыми, набухшими почками. По акварельно-голубому небу плыли пушистые белые облака, а вдали над окрашенными в серое лугами и голубоватыми елями на предгорьях торжественно возвышались белым зубчатым полукругом Альпы.
По едва волнующейся поверхности воды двигались несколько весельных лодок и барж под большими треугольными парусами, а на берегу мощеная чистая дорога вела через светлые, отстроенные по большей части из дерева селения. Возницы и крестьяне попадались навстречу, и некоторые учтиво приветствовали его. Все это настраивало на добродушный лад и подкрепляло его добродетельные и разумные намерения. В конце тихой деревенской улицы он подарил плачущему ребенку серебряную монетку, а в трактире, где после почти трехчасовой пешей прогулки остановился передохнуть и перекусить, он любезно угостил хозяина своим нюхательным табаком.
Казанова не имел ни малейшего понятия, куда он забрел, да и название совершенно неведомой деревни вряд ли бы помогло. Ему было хорошо от воздуха, пронизанного мягким весенним солнцем. Он отдыхал от тягот последнего времени, и его вечно влюбленное сердце тоже пребывало в покое и устроило себе выходной, так что в этот момент для него не было ничего милее этого беззаботного блуждания по незнакомой прекрасной земле. Поскольку ему то и дело встречались местные жители, заблудиться он не боялся.
Ощущая полную безмятежность, Казанова предался наслаждению созерцания своей прежней беспокойной бродячей жизни, словно это был некий спектакль, трогавший и веселивший его, но не нарушавший его сегодняшнего душевного равновесия. Жизнь его проходила в игре с опасностью, а зачастую и в беспутстве, в этом он сам себе признавался, однако теперь, когда он озирал ее как единое целое, она все же являла собой притягательно многоцветную, живую и стоящую игру, способную доставить удовольствие.
Тем временем дорога привела Казанову, когда он уже начал понемногу уставать, в широкую долину, лежащую среди высоких гор. Там была высокая, роскошная церковь, к которой примыкали обширные постройки. С удивлением Казанова сообразил, что это должен быть монастырь, и был обрадован тому, что забрел в места, где живут католики.
С обнаженной головой вошел он в храм и со все большим удивлением увидел мрамор, золото и дорогое шитье. В храме как раз шла месса, и он благоговейно ее прослушал. После этого, движимый любопытством, он заглянул в ризницу, где обнаружил нескольких монахов-бенедиктинцев. Аббат, которого можно было узнать по наперсному кресту, тоже был там и ответил на приветствие незнакомца вежливым вопросом, не желает ли тот осмотреть достопримечательности церкви.
Казанова с удовольствием принял это предложение и под руководством самого аббата в сопровождении двух братьев со сдержанным любопытством образованного путешественника обозрел все сокровища и святыни, выслушал историю церкви и связанные с ней легенды и был только слегка смущен тем, что не знал, где он, собственно, находится и как называется это место и церковь.
– Где вы остановились? – осведомился наконец аббат.
– Нигде, ваше преподобие. Прибыл из Цюриха пешком и сразу же пошел в церковь.
Аббат, умиленный благочестивым рвением паломника, пригласил его отобедать, на что тот с благодарностью согласился. Теперь, когда аббат принял его за кающегося грешника, который проделал дальний путь, чтобы обрести здесь утешение, Казанова тем более не мог спросить, куда же он попал. Между прочим, общался он с монастырской братией, поскольку по-немецки у него не очень получалось, на латыни.
– Наши братья постятся, – пояснил аббат, – однако у меня есть дозволение от его святейшества Бенедикта XIV, благодаря которому я могу раз в день вкушать мясо с тремя гостями. Желаете ли и вы воспользоваться этой привилегией или же предпочитаете постную пищу?
– Не смею отказаться, ваше преподобие, от папской милости и вашего любезного приглашения. Это было бы излишне манерно.
– Тогда приступим!
В трапезной аббата и в самом деле висело на стене под стеклом в рамке то самое папское дозволение. На столе было два прибора, к которым монах в ливрее тут же добавил третий.
– Отобедаем втроем, вы, я и мой канцлер. Вот и он.
– У вас есть канцлер?
– Будучи аббатом обители Пресвятой Девы Марии, я являюсь князем Священной Римской империи и выполняю соответствующие обязанности.
Наконец-то гостю стало известно, где же он находится, и он был обрадован тем, что оказался во всемирно известной обители при столь исключительных обстоятельствах и совершенно неожиданно. Тем временем они сели за стол и приступили к трапезе.
– Вы иностранец? – поинтересовался аббат.
– Венецианец, однако давно в странствиях. – О том, что находится в изгнании, Казанова сообщать не спешил.
– Будете ли еще путешествовать по Швейцарии? В этом случае я с удовольствием дал бы вам кое-какие рекомендации.
– С благодарностью воспользуюсь вашим содействием. Однако прежде чем я отправлюсь далее, я бы хотел с вами доверительно побеседовать. Исповедаться и испросить вашего совета относительно некоторых обстоятельств, отягощающих мою совесть.
– Буду к вашим услугам. Господу было угодно раскрыть ваше сердце, Он же найдет для него и утешение. Дорог людских великое множество, но лишь немногие из них зашли так далеко, что помощь уже невозможна. Искреннее раскаяние – первое условие обращения, хотя подлинное, богоугодное осознание тяжести содеянного наступает не в состоянии греха, но лишь в состоянии благодати.
И он говорил в том же духе еще некоторое время, пока Казанова отдавал должное блюдам и вину. Когда аббат умолк, он вновь заговорил:
– Простите мне мое любопытство, ваше преподобие, однако как вам удается в это время года добывать столь отменную дичь?
– Не правда ли? У меня есть рецепт. Дичь и птица, которую вы здесь видите, заготовлены полгода назад.
– Неужели это возможно?
– У меня имеется приспособление, позволяющее хранить их полностью без доступа воздуха.
– Вам можно только позавидовать.
– Угощайтесь. А разве вы не хотите попробовать лосося?
– Не смею вам отказать.
– Это ведь постная пища!
Гость рассмеялся и взял кусочек.
III
После обеда канцлер, человек немногословный, удалился, и аббат показал гостю монастырь. Все в нем чрезвычайно понравилось венецианцу. Он впервые осознал, что нуждающийся в покое человек может добровольно выбрать монастырскую жизнь и чувствовать себя в этих стенах вполне уютно. И начал уже подумывать о том, не будет ли это в конце концов для него лучшим путем к умиротворению тела и души.
Одна только библиотека не вызвала его удовлетворения.
– Я вижу здесь, – заметил он, – массу фолиантов, однако и самым свежим из них, похоже, не менее ста лет, и все это сплошь Библии, Псалтыри, теологические толкования, догматические сочинения и жития. Все это, без сомнения, замечательные произведения…
– Смею предположить, – усмехнулся аббат.
– Однако монахам понадобятся и другие книги, по истории, физике, изящным искусствам, записки путешественников и тому подобное.
– К чему? Наши братья – набожные, простые люди. Они заняты ежедневным послушанием и тем довольны.
– Великие слова. А вот там висит, как я вижу, портрет курфюрста Кёльнского.
– В облачении епископа, совершенно верно.
– Лицо его не совсем удалось. У меня есть его портрет получше. Смотрите!
Он достал из потайного кармана изящную табакерку, в крышке которой была миниатюра. Она изображала курфюрста в одеянии великого магистра немецкого ордена.
– Прелестно. Откуда это у вас?
– От самого курфюрста.
– Правда?
– Имею честь быть его другом.
Казанова с удовлетворением отметил, что уважение аббата к нему заметно прибавилось, и убрал табакерку.
– Вы сказали, что ваши монахи набожные и довольные своей жизнью люди. Я начинаю завидовать такой жизни.
– Да. Это жизнь в служении Господу.
– Именно, к тому же вдали от мирских бурь.
– Совершенно верно.
Задумчиво следовал Казанова за аббатом и через некоторое время попросил выслушать его исповедь, чтобы он смог получить отпущение грехов и принять на следующий день причастие.
Аббат проводил его к маленькой беседке, куда они и вошли. Казанова хотел опуститься на колени перед севшим аббатом, но тот не позволил ему этого сделать.
– Возьмите стул, – сказал он любезно, – и поведайте мне о своих грехах.
– Это будет долгий рассказ.
– Прошу вас, начинайте. Я буду внимательно слушать.
Обещал добрый человек не безделицу. Исповедь кавалера, хоть и говорил он по возможности коротко и быстро, заняла полные три часа. Аббат поначалу качал головой или воздыхал, ибо не встречал еще подобной череды грехов и ему приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы успевать оценивать отдельные проступки, суммировать и сохранять в памяти. Однако вскоре он оставил это и лишь слушал с изумлением беглую речь итальянца, рассказывавшего всю свою жизнь в непринужденной, живой, почти литературной манере. Иногда улыбка появлялась на лице аббата, а иногда и у кающегося, однако он не останавливался. Его повествование уводило в иные страны и города, на войну и в морские походы, там были придворная жизнь, монастыри, игорные дома; тюрьма, богатство и нужда сменяли друг друга, за трогательным следовало сумасбродное, за невинным скандальное, однако все это не походило на роман или исповедь, а излагалось непринужденно, порой даже с озорным остроумием и избегая преувеличений, ведь тот, кто все это пережил, не испытывает нужды прибавить что-либо или убавить.
Никогда еще аббат и имперский князь не слышал более занимательного рассказа. Особого раскаяния в тоне исповедующегося он уловить не смог, однако он и сам вскоре забыл, что присутствует при этом как исповедник, а не зритель захватывающего представления.
– Ну вот, я достаточно долго докучал вам, – завершил наконец свой рассказ Казанова. – Кое-что я, должно быть, забыл, однако чуть больше или чуть меньше – не так уж важно. Вы утомлены, ваше преподобие?
– Совершенно нет. Я не упустил ни единого слова.
– Могу ли я рассчитывать на отпущение грехов?
Еще полностью находясь под впечатлением сказанного, аббат произнес священные слова, которые прощали Казанове его грехи и объявляли его достойным святого причастия.
После этого ему отвели комнату, чтобы он мог без помех провести время до утра в благочестивых размышлениях. Остаток дня он употребил на то, чтобы обдумать возможность пострижения в монахи. Будучи человеком настроения, он был скор в принятии решений, однако слишком хорошо себя знал и слишком привык все рассчитывать и взвешивать, чтобы не связать себя поспешно и не лишиться права распоряжаться собственной жизнью.
И вот он живо представил себе свое будущее монашеское бытие во всех подробностях и разработал план, чтобы на случай возможного раскаяния или разочарования оставить дверь открытой. План этот он крутил так и сяк, пока он не показался ему вполне совершенным, и тогда он старательно перенес его на бумагу.
В записях он объявлял о своей готовности стать послушником обители Пресвятой Девы Марии. Однако чтобы проверить себя и исключить возможность ошибки, он просил дать ему десятилетний срок послушничества. Чтобы получить такой необычайно долгий срок, он выделял капитал в десять тысяч франков, который переходил монастырю в случае его смерти или выхода из монашеского ордена. Он также испрашивал разрешения приобретать за свой счет книги любого рода и хранить их в своей келье; книги эти после его смерти также отходили монастырю.
Вознеся благодарственную молитву по случаю своего обращения, Казанова лег спать и спал крепко, как человек, чья совесть чиста как снег и легка как пушинка. А наутро он принял в церкви причастие.
Аббат пригласил его выпить с ним шоколаду. Казанова воспользовался этим, чтобы передать ему свое писание, сопроводив его просьбой дать благоприятный ответ.
Аббат тут же прочитал прошение, поздравил гостя с принятым решением и пообещал дать ответ после обеда.
– Вы находите, что я требую для себя слишком многого?
– О нет, я думаю мы придем к согласию. Лично я был бы этому искренне рад. Однако прежде я должен представить ваше прошение Капитулу.
– Разумеется, все как положено. Смею ли я просить вас дружески поддержать мое прошение?
– С удовольствием. Встретимся за обедом.
Новоиспеченный отшельник еще раз прошелся по монастырю, разглядывая монахов, потом осмотрел несколько келий и нашел, что все ему по душе. Он радостно прогуливался по обители, наблюдал, как входят в нее под флагом паломники и отъезжают посетители в цюрихской карете, прослушал еще раз мессу и опустил талер в церковную кружку.
Во время обеда, который на этот раз благодаря отменным рейнским винам произвел на него совершенно особое впечатление, Казанова осведомился, как продвигается его дело.
– Вам не о чем беспокоиться, – ответил аббат, – хотя в данный момент я и не могу еще дать вам окончательный ответ. Капитул попросил время на размышление.
– Вы полагаете, меня примут?
– Без сомнения.
– А чем мне пока заняться?
– Чем пожелаете. Отправляйтесь назад в Цюрих и ждите там нашего ответа, который я, между прочим, сообщу вам лично. Через две недели мне все равно надо будет ехать в город, тогда я вас и навещу, и, возможно, прямо заберу вас с собой. Вас это устраивает?
– Вполне. Итак, через две недели. Я буду в гостинице «Меч». Еда там вполне пристойная, не желаете ли там со мной отобедать, когда приедете?
– С превеликим удовольствием.
– Но как же я попаду сегодня в Цюрих? Можно ли где-нибудь здесь раздобыть карету?
– После обеда вы отправитесь в моем экипаже.
– Вы слишком добры…
– Оставьте. Я уже распорядился. Позаботьтесь лучше о том, чтобы как следует подкрепиться. Может быть, еще кусочек телячьего жаркого?
Едва обед завершился, карета аббата уже подъехала. Прежде чем гость в нее сел, аббат вручил ему еще два запечатанных письма влиятельным цюрихским жителям. Казанова тепло распрощался с гостеприимным хозяином и с благодарным чувством отправился в удобном экипаже по зеленеющей земле и берегу озера назад в Цюрих.
Когда он подъехал к своему трактиру, слуга Ледюк встретил его с откровенной ухмылкой.
– Чего смеешься?
– Да просто радуюсь, что вы уже нашли в этом чужом городе повод целых два дня провести вне дома.
– Глупости. Ступай и скажи хозяину, что останусь здесь на две недели и что мне на это время нужен экипаж и хороший лакей.
Хозяин явился сам и порекомендовал слугу, за честность которого он был готов поручиться. Он также нанял открытый экипаж, потому что других в это время не было.
На следующий день Казанова лично доставил письма господам Орелли и Песталоцци. Дома их не оказалось, однако оба они после полудня посетили его в гостинице и пригласили отобедать у них завтра и послезавтра, а в ближайший вечер – посетить концерт. Он дал согласие и явился в условленное время.
Концерт, стоивший талер входной платы, ему вовсе не понравился. В особенности его раздражение вызвало то удручающее обстоятельство, что мужчины и женщины сидели раздельно, в разных частях зала. Его острый глаз приметил среди дам несколько красавиц, и он не понимал, почему нравы запрещают ему за ними поухаживать. После концерта он был представлен супругам и дочерям господ, и госпожу Песталоцци Казанова отметил как чрезвычайно миловидную и любезную даму. Однако удержался от всякой легкомысленной галантности.
Хотя такая сдержанность далась Казано-ве не без труда, он остался доволен собой. В письмах аббата он был представлен своим новым друзьям человеком, вступившим на путь покаяния, и было заметно, что с ним обходились с почти благоговейным вниманием, хотя его окружали в основном протестанты. Это внимание пришлось ему по нраву и отчасти заменило удовольствия, которыми он пожертвовал ради серьезности своего облика.
И эта серьезность далась ему настолько, что вскоре даже на улице с ним стали здороваться с каким-то особым почтением. Атмосфера аскезы и святости витала вокруг этого удивительного человека, репутация которого была столь же переменчива, как и его жизнь.
И все же он не мог отказать себе в том, чтобы перед своим уходом из мирской жизни не написать герцогу вюртембергскому бесстыдно откровенное письмо. Об этом не знал никто. Как не знал никто и того, что порой под покровом темноты он навещал дом, в котором не обитали монахи и не звучали псалмы.
IV
Утренние часы благочестивый приезжий посвящал изучению немецкого языка. Он подобрал на улице какого-то бедолагу, генуэзца по имени Джустиниани. И тот сидел теперь каждое утро у Казановы и обучал его немецкому, получая каждый раз в качестве гонорара шесть франков.
Этот сбившийся с пути человек, которому его богатый ученик был, между прочим, обязан адресом того самого дома, развлекал своего благодетеля главным образом тем, что костил и поносил монашество и монастырскую жизнь на все лады. Он не знал, что его ученик собрался стать бенедиктинцем, в противном случае, несомненно, был бы осмотрительнее. Но Казанова на него не обижался. Генуэзец сам когда-то был капуцином и расстался с монашеским одеянием. Теперь же вновь обращенный находил удовольствие в том, что вызывал беднягу на излияние своей неприязни к монастырям.
– Но ведь среди монахов попадаются и приличные люди, – замечал он, к примеру.
– Не говорите так! Нет их, ни одного! Все без исключения – бездельники и лежебоки.
Ученик слушал со смехом и предвкушал мгновение, когда сразит злопыхателя известием о предстоящем пострижении.
И все же эта тихая жизнь стала навевать на него скуку, и он с нетерпением считал дни, оставшиеся до появления аббата. Потом, когда он окажется в монастырской тиши и предастся своим штудиям, скука и недовольство конечно же покинут его. Он замыслил перевести Гомера, написать пьесу и историю Венеции и даже приобрел, чтобы с чего-то начать, толстую пачку хорошей писчей бумаги.
И так время шло для него медленно и безрадостно, но оно все же шло, и утром 23 апреля он со вздохом облегчения обнаружил, что это будет последний день его нетерпения, потому что на следующий день ожидалось прибытие аббата.
Казанова заперся и еще раз проверил свои мирские и духовные дела, приготовил свои вещи к отъезду и радовался, что наконец-то приблизилось начало новой, умиротворенной жизни. В том, что его примут в обитель Пресвятой Девы Марии, он не сомневался, поскольку был готов в случае необходимости удвоить обещанный капитал. Что значили в этом случае лишних десять тысяч франков?
Около шести часов вечера, когда в комнате постепенно начало смеркаться, Казанова подошел к окну и выглянул на улицу. Ему были хорошо видны площадь перед гостиницей и мост через Лиммат.
Как раз в это время подъехала карета и остановилась у гостиницы. Казанова стал с любопытством наблюдать. Кельнер выскочил навстречу и распахнул дверцу. Из кареты вышла закутанная в накидку пожилая дама, за ней еще и еще одна, все серьезные как матроны, немного чопорного вида дамы.
«Что же их сюда привело?» – подумал Казанова, стоя у окна.
Однако его ожидал изящный сюрприз. Из кареты вышла четвертая дама, высокая, со стройной фигурой, в костюме, который тогда носили довольно часто и который называли «амазонкой». Из-под кокетливой шляпки голубого шелка с серебряной кистью выглядывали черные волосы.
Казанова привстал на цыпочки и, изогнувшись, смотрел вниз. Ему удалось разглядеть ее лицо, молодое, красивое лицо брюнетки с черными глазами под гордыми густыми бровями. Она случайно подняла голову и, заметив наблюдателя в окне и уловив направленный на нее взгляд, тот самый взгляд Казановы, всего лишь мгновение с интересом смотрела на него – всего лишь мгновение.
Затем она вместе со всеми вошла в гостиницу. Казанова бросился в свою прихожую, где он через стеклянную дверь мог наблюдать за коридором. Все четыре – последней шла красавица – и в самом деле поднялись по лестнице в сопровождении хозяина и проследовали мимо его двери. Брюнетка, внезапно обнаружившая пристальный взгляд того же мужчины, который только что смотрел на нее из окна, тихо вскрикнула, однако тут же взяла себя в руки и, посмеиваясь, поспешила за остальными.
– Амазонка, моя амазонка! – принялся напевать Казанова.
Он перевернул вверх дном свой чемодан с одеждой, чтобы срочно вырядиться. Потому что сегодня он будет обедать внизу со всеми, вместе с прибывшей незнакомкой! До сих пор он велел приносить еду в номер, чтобы держаться подальше от мирской суеты. Теперь же он спешно натягивал бархатные панталоны, новые белые шелковые чулки, жилетку с золотым шитьем, парадный сюртук и кружевные манжеты. После этого он позвонил, вызывая кельнера.
– Что изволите?
– Я обедаю сегодня вместе со всеми, внизу.
– Будет исполнено.
– У вас сегодня новые гости?
– Четыре дамы.
– Откуда?
– Из Золотурна.
– Говорят ли в Золотурне по-французски?
– Не все. Но эти дамы говорят.
– Хорошо. Постой-ка, еще кое-что. Дамы обедают внизу?
– Сожалею. Они заказали еду в свой номер.
– Три тысячи чертей! Когда вы накрываете?
– Через четверть часа.
– Спасибо. Ступай.
В ярости метался Казанова по комнате. У него оставался только сегодняшний вечер. Кто знает, не уедет ли брюнетка уже на следующий день. К тому же завтра должен приехать аббат. Он ведь собрался в монахи. Какая глупость, какая глупость!
Однако было бы странно, если бы любитель и знаток жизни не увидел надежды, не нашел выхода, средства, пусть даже самого ничтожного. Ярость его кипела только несколько минут. Потом он стал думать. И через некоторое время вновь позвонил, чтобы вызвать кельнера.
– К вашим услугам!
– Даю тебе возможность заработать луидор.
– Жду приказаний, ваша милость.
– Хорошо. Тогда давай сюда свой зеленый передник.
– С удовольствием.
– Прислуживать дамам буду я.
– Как изволите. Только скажите своему слуге: я должен прислуживать внизу, а его просил заменить меня в номере.
– Сейчас же его ко мне. Да, и долго ли пробудут здесь дамы?
– Рано утром они отбывают в обитель, они католички. Между прочим, младшая спросила меня, кто вы.
– Спросила? Обо мне? И что ты ей ответил?
– Что вы итальянец, больше ничего.
– Хорошо. Просьба обо всем молчать.
Кельнер ушел, и почти сразу же явился Ледюк, хохоча во все горло.
– Что смеешься, баран?
– Представил себе вас – кельнером.
– Так ты уже знаешь. А теперь шутки в сторону, или ты не получишь больше ни су. Помоги-ка мне надеть передник. Потом принесешь наверх блюда, а я буду ждать тебя у дверей номера. Пошел!
Долго ждать не пришлось. В кельнерском переднике поверх расшитой золотом жилетки Казанова вошел в номер.
– Разрешите, сударыни?
Амазонка узнала его и словно оцепенела от изумления. Казанова прислуживал безукоризненно и получил возможность внимательно рассмотреть ее, находя еще более прекрасной. Когда он искусно разделал каплуна, она спросила с улыбкой:
– Вы отлично справляетесь. Давно здесь служите?
– Премного благодарен за ваше внимание. Всего три недели.
Когда он накладывал, она обратила внимание на его подвернутые, но все еще заметные манжеты. Она увидела, что это настоящие кружева, коснулась его руки и пощупала тонкую ткань. Он был наверху блаженства.
– Прекрати сейчас же! – воскликнула одна из пожилых дам укоризненно, и незнакомка покраснела. Она покраснела! Казанова едва сдерживался.
После обеда он оставался в номере, пока мог найти для этого какой-нибудь предлог. Старшие удалились отдыхать, красавица же осталась и села писать. Казанова наконец закончил убирать со стола, и ему не оставалось ничего другого, как уйти. Однако он медлил в дверях.
– Чего же вы ждете? – спросила амазонка.
– Сударыня, вы все еще в сапогах, но вряд ли вы отправитесь в них в постель.
– Вот как, вы хотите их снять? Не стоит так утруждать себя.
– Это моя обязанность, сударыня.
Он опустился на колени и осторожно снял, пока она делала вид, что продолжает писать, сапоги на высокой шнуровке, медленно и заботливо.
– Хорошо. Довольно, довольно. Спасибо.
– Это я должен вас благодарить.
– Завтра вечером мы снова увидимся, любезный.
– Вы снова будете обедать здесь?
– Разумеется. Мы вернемся из обители до вечера.
– Благодарю вас, сударыня.
– Так спокойной ночи.
– Спокойной ночи, сударыня. Закрыть дверь или оставить открытой?
– Я закрою сама.
Что она и сделала, когда он вышел в коридор, где его поджидал Ледюк с чудовищной ухмылкой.
– Ну? – спросил его хозяин.
– Вы великолепно исполнили роль. Дама даст вам завтра дукат на чай. Но если вы мне его не отдадите, я выдам вас.
– Ты получишь его еще сегодня, изверг.
На следующее утро он явился с начищенными сапогами. Но единственное, чего он добился, так это то, что амазонка позволила ему их на себя надеть.
Он колебался, не поехать ли за ней в обитель. Однако в этот момент явился лакей с известием, что аббат монастыря прибыл в Цюрих и почтет за честь перекусить с Казановой в полдень в его номере.
Боже, аббат! О нем Казанова уже и думать забыл. Ладно, пусть приходит. Он заказал чрезвычайно пышную трапезу, лично дав кое-какие указания на кухне. Потом он прилег, потому что утомился от раннего подъема, и проспал часа два.
В полдень явился аббат. Последовал обмен любезностями, затем они сели за стол. Аббат восхищался роскошными блюдами и, увлеченный деликатесами, забыл на полчаса о своих поручениях. Наконец он вспомнил о них.
– Простите, – заговорил он внезапно, – что я столь неподобающе долгое время томил вас ожиданием! Уж и не знаю, как случилось, что я об этом забыл.
– Да что вы.
– После всего, что я слышал о вас в Цюрихе – я, разумеется, кое с кем переговорил, – могу сказать, что вы действительно вполне достойны стать нашим братом. Добро пожаловать, дорогой мой, добро пожаловать. Можете начертать отныне над своей дверью: «Inveni portum. Spes et fortuna valete!»
– То есть: «Прощай, Фортуна, я прибыл в гавань!» Строка из Еврипида, и строка действительно прекрасная, хотя в моем случае и не совсем подходящая.
– Не подходящая?! Вы слишком усложняете.
– Строка, ваше преподобие, не совсем подходящая потому, что я не поеду с вами в обитель. Вчера я переменил свои намерения.
– Как это возможно?
– Да вот так. Прошу вас не гневаться на меня и в знак нашей дружбы выпить со мной еще бокал шампанского.
– В таком случае ваше здоровье! И пусть это решение никогда не заставит вас раскаяться. У мирской жизни тоже есть свои достоинства.
– Несомненно.
Любезный аббат спустя некоторое время откланялся и отбыл в своей карете. А Казанова написал письма в Париж и распоряжение своему банкиру, потребовал к вечеру счет и заказал на утро экипаж в Золотурн.
Что внутри и что вовне [24]
Жил человек по имени Фридрих, он занимался науками и обладал обширными познаниями. Однако не все науки были для него одинаковы, а предпочитал он мышление определенного рода, прочее же презирал и избегал. Что он любил и почитал, так это логику, исключительный метод, а кроме того, все то, что сам называл «наукой».
– Дважды два – четыре, – любил он повторять, – в это я верю, отталкиваясь от этой истины, человек и должен развивать мысль.
Он знал, конечно, что есть и другие способы мышления и познания, но к «науке» они не относились, а потому он их ни в грош не ставил. К религии, хоть сам он был неверующим, Фридрих нетерпимости не испытывал. Есть на этот счет между учеными молчаливый уговор. Их наука за несколько столетий успела перебрать почти все, что имеется на Земле и достойно изучения, за исключением одного-единственного предмета – человеческой души. Со временем как-то так установилось, что душу оставили религии, ее же рассуждения о душе всерьез не принимали, но с ними и не спорили. Вот и Фридрих относился к религии снисходительно, однако глубоко ненавистно и отвратительно было ему все, в чем он видел суеверие. Пусть этому предаются далекие, необразованные и отсталые народы, пусть в глубокой древности существовало мистическое и магическое мышление – с того времени, как появилась наука, и, в частности, логика, исчез всякий смысл пользоваться теми устарелыми и сомнительными понятиями.
Так он говорил и так думал, и если в своем окружении он усматривал следы суеверия, то становился раздражительным и чувствовал себя так, будто к нему прикоснулось нечто враждебное.
Больше всего злился он, если встречал следы суеверия среди себе подобных, среди образованных мужей, знакомых с принципами научного мышления. И ничего не было для него мучительнее и кощунственнее того, что в последнее время приходилось слышать даже от людей высокообразованных, абсурдную мысль, будто «научное мышление» может представлять собой вовсе не высшую, вечную, предначертанную и непоколебимую форму мышления, а всего лишь одну из многих, подверженную времени, не застрахованную от изменений и гибели его разновидность. Эта непотребная, губительная, ядовитая мысль имела хождение, этого и Фридрих отрицать не мог, она появлялась то там, то тут, словно грозный знак перед лицом бедствий, захлестнувших весь мир войн, переворотов и голода, словно таинственные письмена, начертанные загадочной рукой на белой стене.
Чем больше страдал Фридрих от того, что мысль эта витала в воздухе и так сильно его беспокоила, тем яростнее он нападал на нее и на тех, кого он подозревал в тайной приверженности ей. Дело в том, что в кругу действительно образованных людей лишь очень немногие открыто и без околичностей признали это новое учение, учение, способное, если оно распространится и войдет в силу, уничтожить всю духовную культуру на земле и вызвать хаос. Правда, до этого пока еще дело не дошло, а те, кто открыто проповедовали эту мысль, были еще столь немногочисленны, что их можно было считать чудаками и несносными оригиналами. Однако капелька яда, небольшое влияние ее уже ощущались то там, то тут. Среди простого народа и полуобразованной публики и без того было замечено бесчисленное множество новых учений, тайных доктрин, сект и кружков, мир был полон ими, повсюду проявлялись суеверие, мистика, заклинание духов и прочие темные силы, с которыми надо бы было бороться, но наука, словно скованная тайной слабостью, пока обходила их молчанием.
Однажды Фридрих зашел в гости к одному из своих друзей, с которым он прежде проводил совместные исследования. Какое-то время они не виделись, как это порой случается. Поднимаясь по лестнице, он пытался припомнить, когда и где они в последний раз встречались. Однако хотя на память свою он никогда не жаловался, вспомнить ему никак не удавалось. Незаметно это вызвало у него некоторое недовольство и раздражение, так что, когда он дошел до нужной двери, потребовалось некоторое усилие, чтобы от них избавиться.
Однако едва он поздоровался с Эрвином, своим другом, как заметил на его приветливом лице некую, словно снисходительную улыбку, которая прежде ему была несвойственна. И, едва увидев эту улыбку, тут же показавшуюся ему, несмотря на приветливость друга, какой-то насмешливой или неприязненной, Фридрих мгновенно вспомнил и то, что перед этим тщетно искал в хранилищах своей памяти, – свою последнюю встречу с Эрвином, уже довольно давнюю, – и то, что они расстались тогда хотя и без ссоры, но все же в несогласии, поскольку Эрвин, как ему показалось, не слишком-то поддерживал его тогдашние выпады против царства суеверий.
Странно. Как получилось, что он об этом забыл! Оказывается, он только поэтому так долго не заходил к своему другу, лишь из-за того разлада, да и ему самому все это было понятно, хотя он то и дело придумывал множество других причин, чтобы отложить визит.
И вот они стояли друг против друга, и Фридриху казалось, что та маленькая трещина между ними за это время невероятно расширилась. Между ним и Эрвином, он ощущал это, исчезло нечто, в прежнее время связывавшее их, некая атмосфера общности, непосредственного понимания, даже симпатии. Вместо нее образовалась пустота, разрыв, чужеродное пространство. Они обменивались любезностями, говорили о погоде, о знакомых, о том, как идут у них дела, – и, Бог знает почему, о чем бы ни шла речь, Фридриха не оставляло тревожное чувство, что он не совсем понимает друга, а тот не знает его, что слова его проскальзывают мимо, а для настоящего разговора никак не удается нащупать почву. К тому же на лице Эрвина все держалась та самая улыбка, которую Фридрих уже почти ненавидел.
Когда в мучительном разговоре возник перерыв, Фридрих огляделся в знакомом ему кабинете и увидел на стене листок бумаги, кое-как пришпиленный булавкой. Увиденное показалось ему странным и пробудило старые воспоминания о том, как когда-то в студенческие годы, давно, у Эрвина была привычка держать таким вот образом на виду для памяти изречение какого-нибудь мыслителя или строку какого-нибудь поэта. Он встал и подошел к стене, чтобы прочесть, что написано на листке.
На нем красивым почерком Эрвина были выведены слова:
Что внутри – во внешнем сыщешь,
Что вовне – внутри отыщешь. [25]
Фридрих, побледнев, замер. Вот оно! Вот чего он боялся! В другое время он не стал бы обращать на это внимание, снисходительно стерпел бы такой листок, считая причудой, безобидным и в конце концов позволительным каждому увлечением, может быть, небольшим, достойным пощады проявлением сентиментальности. Однако сейчас дело обстояло иначе. Он чувствовал, что эти слова были записаны не ради минутного поэтического настроения, не ради причуды вернулся Эрвин столько лет спустя к привычке юности. Написанное, девиз того, что занимало его друга в настоящее время, было мистикой! Эрвин стал отступником.
Фридрих медленно повернулся к нему, и улыбка Эрвина ярко вспыхнула снова.
– Объясни мне это! – потребовал он. Эрвин кивнул, весь – благожелательность.
– Ты никогда не встречал это изречение?
– Встречал, – воскликнул Фридрих, – конечно же оно мне известно. Это мистика, гностицизм. Возможно, это поэтично, однако… А теперь прошу тебя, объясни мне смысл изречения и почему оно висит на стене.
– С удовольствием, – ответил Эрвин. – Изречение это – первое введение в теорию познания, которой я сейчас занимаюсь и которой я уже обязан немалым блаженством.
Фридрих подавил возмущение. Он спросил:
– Новая теория познания? Правда? И как она называется?
– О, – ответил Эрвин, – новая она только для меня. Она уже очень стара и почтенна. Она называется магия.
Слово прозвучало. Фридрих, все же глубоко ошеломленный и испуганный столь откровенным признанием, с ужасным трепетом ощутил, что столкнулся со своим исконным врагом в обличье старого друга, лицом к лицу. Он замолчал. Он не знал, что ему делать, гневаться или плакать, его заливало горькое чувство невосполнимой утраты. Молчал он долго.
Потом заговорил, с наигранной издевкой в голосе:
– Так ты в маги собрался?
– Да, – ответил Эрвин без промедления.
– Ты что, учишься на волшебника?
– Точно.
Фридрих замолчал вновь. Было слышно, как тикают часы в соседней комнате, такая стояла тишина.
Тогда он сказал:
– Тебе известно, что ты тем самым разрываешь всякие отношения с серьезной наукой – а тем самым и со мной?
– Надеюсь, что нет, – ответил Эрвин. – Однако если это неизбежно – что я могу поделать?
Фридрих, не выдержав, закричал:
– Что ты можешь поделать? Порвать с дребеденью, с этим мрачным и недостойным суеверием, порвать полностью и навсегда! Вот что ты можешь поделать, если хочешь сохранить мое уважение.
Эрвин старался улыбаться, хотя веселым уже не выглядел.
– Ты говоришь так, – ответил он до того тихо, что гневный голос Фридриха, казалось, продолжал еще звучать в комнате, – ты говоришь так, будто бы на то была моя воля, будто бы у меня был выбор, Фридрих. Но это не так. Выбора у меня нет. Не я выбрал магию. Она выбрала меня.
Фридрих тяжело вздохнул.
– Тогда прощай, – произнес он с усилием и поднялся, не подавая Эрвину руки.
– Не надо так! – громко воскликнул теперь Эрвин. – Нет, не так ты должен от меня уходить. Предположим, один из нас умирает – и это так! – и мы должны проститься.
– Так кто же из нас умирает, Эрвин?
– Сегодня, должно быть, я, дружище. Кто желает родиться заново, должен приготовиться к смерти.
Еще раз подошел Фридрих к листку на стене и перечел стихи о том, что внутри и что вовне.
– Ну хорошо, – сказал он наконец. – Ты прав, не годится расставаться в гневе. Я сделаю, как ты говоришь, и готов предположить, что один из нас умирает. Мог бы и я. Я хочу, прежде чем покину тебя, обратиться к тебе с последней просьбой.
– Вот это хорошо, – ответил Эрвин. – Скажи, какую услугу я мог бы оказать тебе напоследок?
– Я повторяю свой первый вопрос, и это же будет моя последняя просьба: объясни мне это изречение, как можешь!
Эрвин раздумывал какое-то время и затем заговорил:
– «Что внутри – во внешнем сыщешь, что вовне – внутри отыщешь». Религиозный смысл этого тебе известен: Бог везде. Он заключен и в духе, и в природе. Все божественно, потому что Бог – это все, Вселенная. Раньше мы называли это пантеизмом. Теперь смысл только философский: деление на внутреннее и внешнее привычно нашему мышлению, однако не является необходимым. Наш дух обладает способностью вернуться к состоянию, когда мы еще не прочертили для него эту границу, в пространство по ту сторону. По ту сторону противопоставлений, противоположностей, из которых состоит наш мир, открываются новые, иные возможности познания. Однако, дорогой друг, должен признаться: с тех пор как мое мышление изменилось, для меня нет более однозначных слов и высказываний, но каждое слово обладает десятком, сотней смыслов. Вот здесь и начинается то, чего ты боишься, – магия.
Фридрих морщил лоб и порывался прервать его, но Эрвин посмотрел на него умиротворяюще и продолжил более звучным голосом:
– Позволь дать тебе с собой кое-что! Возьми у меня какую-нибудь вещь и наблюдай ее время от времени, и тогда это изречение о внутреннем и внешнем вскорости раскроет тебе один из своих многих смыслов.
Он оглянулся, схватил с полочки глиняную глазурованную фигурку и отдал ее Фридриху. При этом он сказал:
– Возьми это как мой прощальный подарок. Если вещь, которую я кладу в твою руку, перестанет находиться вне тебя, оказавшись внутри тебя, приходи ко мне снова! Если же она останется вне тебя, так же как и сейчас, тогда пусть и прощание наше будет навеки!
Фридрих хотел еще многое сказать, но Эрвин пожал ему руку и произнес слова прощания с таким выражением лица, которое не допускало возражений.
Фридрих пошел вниз по лестнице (как ужасно много времени прошло с того момента, как он поднимался по ней!), двинулся по улицам к дому, с маленькой глиняной фигуркой в руке, растерянный и глубоко несчастный. Перед своим домом он остановился, раздраженно потряс кулаком, в котором была зажата фигурка, и ощутил большое желание разбить эту нелепую вещицу вдребезги. Однако этого не сделал, закусил губу и вошел в квартиру. Никогда еще не испытывал он такого возбуждения, никогда еще не страдал он так от противоборства чувств.
Он стал подыскивать место для подарка своего друга и определил ее на верх одной из книжных полок. Там она и стояла поначалу.
В течение дня он иногда смотрел на нее, раздумывая о ней и ее происхождении, размышлял он и о смысле, которым эта глупая вещица должна бы для него обладать. Это была маленькая фигурка человека, или божка, или идола, с двумя лицами, как у римского бога Януса, довольно грубо вылепленная из глины и покрытая обожженной, немного потрескавшейся глазурью. Маленькая статуэтка выглядела грубо и невзрачно, она явно была работой не античных мастеров, а каких-нибудь первобытных народов Африки или тихоокеанских островов. На обоих лицах, совершенно одинаковых, застыла невыразительная, вялая улыбка, скорее даже ухмылка – было прямо-таки противно смотреть, как этот маленький уродец непрерывно улыбается.
Фридрих никак не мог привыкнуть к этой фигурке. Она была ему противна, она беспокоила его, мешала ему. Уже на следующий день он снял ее со стеллажа и переставил на печь, а потом на шкаф. Она все время попадалась ему на глаза, словно навязываясь, ухмыляясь ему холодно и тупо, важничала, требовала внимания. Две или три недели спустя он выставил ее в прихожую, между фотографиями из Италии и маленькими несерьезными сувенирами, которые никто никогда не рассматривал. По крайней мере, теперь он видел маленького идола только в те мгновения, когда уходил из дому или возвращался, быстро проходя мимо и больше не задерживая на нем взгляда. Но и здесь эта вещица продолжала ему мешать, хотя он боялся себе в этом признаться.
С этим черепком, с этим двуликим уродцем в его жизнь вошли угнетенность и мучительное беспокойство.
Однажды, уже несколько месяцев спустя, он вернулся домой после недолгого отсутствия – он предпринимал теперь время от времени небольшие путешествия, словно что-то не давало ему покоя и гнало его, – вошел в дом, прошел через прихожую, отдал вещи горничной, прочел ждавшие его письма. Но им владели беспокойство и рассеянность, будто он забыл что-то важное; ни одна книга не занимала его, ни на одном стуле ему не сиделось. Он попытался разобраться, что с ним происходит, вспомнить, с чего все это началось? Может, он упустил что-то? Может, были какие-то неприятности? Может, он съел что-то нехорошее? Он гадал и искал и обратил внимание на то, что это беспокойство овладело им при входе в квартиру, в прихожей. Он бросился туда, и его взгляд сразу стал невольно искать глиняную фигурку.
Странный испуг пронзил его, когда он обнаружил пропажу божка. Он исчез. Его не было на месте. Ушел куда-то на своих коротких глиняных ножках? Улетел? Волшебная сила унесла его туда, откуда он явился?
Фридрих взял себя в руки, улыбнулся, укоризненно покачал головой, отгоняя страхи. Затем он начал спокойно искать, осмотрел всю прихожую. Не найдя ничего, он позвал горничную. Та пришла и смущенно призналась, что уронила вещицу во время уборки.
– Где она?
Ее больше не было. Она казалась такой прочной, горничная держала ее столько раз в руках, а тут она разлетелась на крошечные осколки, так что не склеишь; она отнесла их стекольщику, а он ее высмеял и все это выбросил.
Фридрих отпустил прислугу. Он был рад. Он ничего не имел против. Его совершенно не трогала утрата. Наконец-то это чудище исчезло, наконец-то к нему вернется покой. И почему он не разбил фигурку сразу же, в первый день, вдребезги! Чего он только за это время не натерпелся! Как мрачно, как чуждо, как хитро, как злобно, как дьявольски ухмылялся этот божок! И вот, когда тот наконец-то исчез, он мог себе признаться: ведь он боялся его, по-настоящему и искренне боялся, этого глиняного идола! Разве не был он символом и знаком всего того, что ему, Фридриху, было противно и несносно, того, что он с самого начала считал вредным, враждебным и достойным искоренения, – суеверия, мракобесия, всякого принуждения совести и духа? Разве не представлял он той жуткой силы, возня которой порой ощущается под землей, того дальнего землетрясения, того близящегося крушения культуры, того угрожающего хаоса? Разве эта убогая фигурка не лишила его друга – нет, не просто лишила, обратила его во врага! Ну а теперь она исчезла. Вон. Вдребезги. Конец. Вот и хорошо, гораздо лучше, чем если бы он сам ее расколотил.
Так думал он, а может, и говорил, занимаясь своими привычными делами.
Но это было словно проклятие. Теперь, как раз когда нелепая фигурка стала для него в некотором роде привычной, когда ее вид на отведенном ей месте, на столике в прихожей, постепенно становился для него делом обычным и безразличным, – теперь его начало мучить ее исчезновение! Ему ее даже не хватало. Когда он проходил через прихожую, его взгляд отмечал опустевшее место, где она прежде стояла, и эта пустота распространялась на всю прихожую, наполняя ее отчуждением и мертвенностью.
Тяжелые, тяжелые дни и тяжелые ночи начались для Фридриха. Он просто не мог пройти через прихожую, не подумав о двуликом божке, не ощутив утраты, не поймав себя на том, что мысль о фигурке неотвязно его преследует. Все это стало для него неотступным мучением. И уже давно мучение это его одолевало не только в моменты, когда он проходил через прихожую, нет, подобно тому как та пустота на столе распространялась вокруг, так же и эти неотвязные мысли распространялись в нем самом, постепенно вытесняя все прочие, пожирая все и наполняя его пустотой и отчуждением.
То и дело представлял он себе ту фигурку словно наяву, уже для того только, чтобы самому себе со всей ясностью показать, до чего глупо скорбеть о ее утрате. Он представлял ее себе во всей ее идиотической нелепости и варварской неискусности, с ее пустой хитроватой улыбкой, двуликую – он даже пытался, словно его охватывал тик, скривив рот, изобразить эту отвратительную улыбку. Его неотвязно терзал вопрос, были ли оба лица у фигурки совершенно одинаковыми. Не было ли у одного из них, хотя бы только из-за небольшой шероховатости или трещинки в глазури, немного другое выражение? Немного вопросительное? Как у сфинкса? А какой неприятный – или, может быть, удивительный – был цвет у той глазури! В ней были смешаны зеленый, синий, серый и красный цвет, блестящая игра красок, которую он теперь частенько узнавал в других предметах, во вспыхивающем на солнце оконном стекле, в игре света на мокрой булыжной мостовой.
Вокруг этой глазури часто вертелись его мысли, и днем и ночью. Еще он заметил, какое это странное, звучащее чуждо и неприятно, почти злое слово: «Глазурь»! Он возился с этим словом, он в бешенстве расщеплял его на части, а однажды перевернул его. Получилось «рузалг». Почему это слово звучало для него знакомо? Он знал это слово, без всякого сомнения, знал его, и причем слово это было недоброе, враждебное, с отвратительными и беспокоящими ассоциациями. Он долго терзался и наконец сообразил, что слово напоминает ему об одной книге, которую он довольно давно купил и прочитал как-то в дороге, книге, которая его ужаснула, была мучительна и все же подспудно завораживала его, и называлась она «Принцесса-русалка». Это было уже как проклятие – все связанное с фигуркой, с глазурью, с синевой, с зеленью, с улыбкой несло в себе что-то враждебное, язвило, мучило, было отравлено! А как странно он тогда улыбался, Эрвин, его бывший друг, когда вручал ему божка! Как странно, как многозначительно, как враждебно!
Фридрих стойко и на протяжении нескольких дней не без успеха противился неизбежному следствию своих мыслей. Он ясно чувствовал опасность – он не хотел впасть в безумие! Нет, лучше умереть. От разума он отказаться не мог. От жизни – мог. И он подумал, что, возможно, в том-то и состоит магия, что Эрвин с помощью этой фигурки как-то его заколдовал и он, апологет разума и науки, падет теперь жертвой всяких темных сил. Однако – если это так, даже если он считал это невозможным, – значит, магия есть, значит, есть волшебство! Нет, лучше умереть!
Врач порекомендовал ему прогулки и водные процедуры, кроме того, он иногда по вечерам ходил развеяться в ресторан. Но это помогало мало. Он проклинал Эрвина, он проклинал самого себя.
Однажды ночью он лежал в постели, внезапно проснувшись в испуге и не в силах снова заснуть, как это с ним часто тогда случалось. Ему было очень нехорошо, и страх тревожил его. Он пытался размышлять, пытался найти утешение, хотел сказать себе какие-то слова, добрые слова, успокаивающие, утешающие, что-то вроде несущего покой и ясность «дважды два – четыре». Ничего не приходило ему в голову, но он все же бормотал, полубезумный, звуки и обрывки слов, постепенно с его губ стали срываться целые слова, и порой он произносил, не ощущая смысла, одно короткое предложение, которое как-то возникло в нем. Он повторял его, словно опьяняясь им, словно нащупывая по нему, как по поручню, путь к утерянному сну, узкий, узкий путь по краю бездны.
Но вдруг, когда он заговорил громче, слова, которые он бормотал, проникли в его сознание. Он знал их. Они звучали: «Да, теперь ты во мне!» И он мгновенно понял. Он знал, что говорит о глиняном божке в точности то, что предсказал ему Эрвин тем несчастным днем: фигурка, которую он тогда презрительно держал в руках, была уже не вне его, а в нем, внутри! «Что вовне – внутри отыщешь».
Вскочив, Фридрих почувствовал, что его бросает то в жар, то в холод. Мир кружился вокруг него, безумно взирали на него планеты. Он схватил одежду, зажег свет, оделся вышел из дому и побежал по ночной улице к дому Эрвина. Он увидел, что в хорошо знакомом ему окне кабинета горит свет, входная дверь была незаперта, все было так, словно его ждали. Фридрих бросился вверх по лестнице. Неровной походкой вошел он в кабинет Эрвина, оперся дрожащими руками на его стол. Эрвин сидел у лампы с мягким светом, задумчиво улыбаясь.
Эрвин приветливо поднялся:
– Ты пришел. Это хорошо.
– Ты ждал меня? – прошептал Фридрих.
– Я ждал тебя, как ты знаешь, с того часа, как ты ушел отсюда, взяв с собой мой скромный дар. Случилось ли то, о чем я тогда говорил?
Фридрих тихо произнес:
– Случилось. Изображение божка теперь во мне. Я не могу этого переносить.
– Чем тебе помочь? – спросил Эрвин.
– Не знаю. Делай что хочешь. Расскажи мне еще о твоей магии! Скажи мне, как божок сможет снова выйти из меня.
Эрвин положил руку на плечо друга. Он подвел его к креслу и усадил. Потом заговорил с Фридрихом ласково, с улыбкой и почти по-матерински:
– Божок выйдет из тебя. Поверь мне. Поверь себе самому. Ты научился верить в него. Теперь научись другому: любить его! Он в тебе, но он еще мертв, он для тебя еще призрак. Разбуди его, поговори с ним, спроси его! Ведь он – это ты сам! Не надо его ненавидеть, не надо его бояться, не надо его мучить – как мучил ты этого бедного божка, а ведь это был ты сам! Как ты сам себя измучил!
– Это и есть путь к магии? – спросил Фридрих. Он глубоко утопал в кресле, как старик, голос его был мягок.
Эрвин сказал:
– Это и есть путь, и самый трудный шаг ты, должно быть, уже сделал. Ты сам пережил это: мир внешний может стать миром внутренним. Ты побывал по ту сторону привычки противопоставлять эти понятия. Тебе это показалось адом – познай, друг, что это рай! Потому что тебе предстоит путь в небесные выси. Вот в чем состоит магия: менять местами мир внутренний и мир внешний, не по принуждению, не страдая, как это делал ты, а свободно, по своей воле. Призови прошлое, призови будущее: то и другое скрыто в тебе! До сего дня ты был рабом своего внутреннего мира. Учись быть его повелителем. Это и есть магия.
Раритет [26]
Несколько десятилетий тому назад молодой немецкий поэт написал свою первую книжку. То был трогательный, несмелый, смятенный лепет невнятных любовных стихов, не отличавшихся ни формой, ни особым смыслом. Читавший их ощущал лишь робкое дуновение нежного весеннего ветерка и угадывал за готовыми зазеленеть ветвями силуэт прогуливающейся юной девушки. Она была белокурой, хрупкой и одетой в белые одежды, она прогуливалась под вечер в прозрачном весеннем лесу – большего о ней узнать было невозможно.
Поэту этого казалось достаточно, и он бесстрашно начал, поскольку был не без средств, старую, трагикомичную борьбу за признание. Шесть знаменитых и множество не столь знаменитых издательств одно за другим отсылали томящемуся в мучительном ожидании юноше тщательно переписанную им рукопись обратно с вежливым отказом. Их очень краткие письма сохранились до наших дней и по стилю не слишком отличаются от ответов, принятых сегодня в издательствах, однако все они написаны от руки и явно не заготовлены заранее.
Раздраженный и обессиленный этими ответами, поэт напечатал стихи за свой счет тиражом четыре сотни экземпляров. Книжечка содержала тридцать девять страниц в двенадцатую долю листа и была переплетена в плотную, кирпичного цвета бумагу, с оборотной стороны несколько более шершавую. Тридцать экземпляров автор подарил своим друзьям. Две сотни он отдал на продажу одному книготорговцу, и эти две сотни вскоре сгорели во время пожара на складе. Остаток тиража, сто семьдесят экземпляров, поэт хранил у себя, и что с ними стало, никто не знает. Создание его оказалось мертворожденным, и автор на время отказался, должно быть по материальным соображениям, от дальнейших поэтических опытов.
Однако лет семь спустя он ненароком открыл, каким образом следует сочинять ходкие комедии. Он усердно принялся за дело, удача сопутствовала ему, и с этого момента он каждый год поставлял новую комедию, аккуратно и в срок, как хороший фабрикант. В театрах был аншлаг, в витринах можно было видеть издания пьес, сцены из спектаклей и портреты автора. Теперь он был знаменит, но переиздавать свои стихи не собирался, должно быть, он их теперь стыдился. Он умер в расцвете лет, и, когда после его смерти была опубликована краткая автобиография, обнаруженная среди его бумаг, читатели с жадностью набросились на нее. Из этой-то автобиографии свет и узнал впервые о существовании той забытой юношеской книжечки.
С тех пор множество комедий, написанных им, вышли из моды, и их больше не играют. Издания их в изобилии, по большей части сборниками, пылятся в букинистических магазинах. А вот та юношеская книжечка, от которой, возможно – даже скорее всего, – сохранились лишь тридцать раздаренных в свое время автором экземпляров, стала перворазрядной книжной редкостью, за которой библиофилы неутомимо охотятся, предлагая большие деньги. Она постоянно числится в списках дезидератов; лишь четыре раза она появлялась у букинистов, и каждый раз из-за нее разгорались жаркие баталии среди славших депеши претендентов. Ведь автор ее знаменит, это его первая публикация, да еще изданная за свой счет, к тому же для достаточно тонких знатоков интересно и трогательно обладать книжечкой сентиментальной юношеской лирики столь известного хладнокровного ремесленника сценического успеха.
Короче говоря, за этой безделицей идет страстная охота, и отлично сохранившийся, необрезанный экземпляр стоит невозможных денег, особенно после того, как к поискам присоединилось несколько американских библиофилов. В результате редкой книжечкой заинтересовались и ученые, и есть уже две диссертации о ней, одна рассматривает ее в лингвистическом аспекте, другая – в психологическом. Факсимильное переиздание лимитированным тиражом шестьдесят пять экземпляров без права допечатки давно распродано, и в библиофильских изданиях об этом можно было прочесть уже десятки статей и заметок. В основном спор идет о судьбе тех ста семидесяти экземпляров, не ставших жертвой пожара. Уничтожил их автор, потерял или продал? Никто не знает; наследники живут за границей и совершенно не интересуются этой историей. Коллекционеры же предлагают за экземпляр уже больше, чем за чрезвычайно редкое первое издание «Зеленого Генриха». [27] Если так случится, что где-нибудь обнаружатся те самые сто семьдесят экземпляров и они не будут тут же все разом уничтожены кем-нибудь из библиофилов, то знаменитая книжечка потеряет всякую цену и будет разве что изредка, бегло и с иронией упоминаться в истории библиофилии среди прочих анекдотических нелепостей.
Человек по фамилии Циглер [28]
Жил когда-то в переулке Брауэргассе молодой человек по фамилии Циглер. Он был из тех, кого мы каждый день то и дело встречаем на улице и чье лицо никак не можем запомнить, потому что лицо у них одно – лицо толпы.
Циглер был во всем таким, как эти люди, и делал все то, что эти люди всегда делают. Бездарным он не был, но и способным не был тоже, любил деньги и удовольствия, любил хорошо одеваться и был так же труслив, как и большинство людей: его жизнь повиновалась не столько порывам и устремлениям, сколько запретам и страху наказания. При всем при том он не был лишен приятных черт и вообще был в целом на радость нормальным человеком, которому его собственная персона была чрезвычайно мила и значительна. Как и всякий человек, он считал себя личностью, в то время как был всего лишь экземпляром, и видел в себе, в своей судьбе средоточие мира, как и всякий человек. Сомнения были ему чужды, и, если реальность противоречила его мировоззрению, он неодобрительно отворачивался от нее.
Как современный человек, помимо денег он питал безграничное почтение еще к одной силе – к науке. Он не смог бы разъяснить, что такое наука, представляя себе при этом нечто вроде статистики и немножко бактериологии, а еще ему было доподлинно известно, сколько денег и почестей государство выделяет на науку. Более всего он уважал тех, кто занимается раком, потому что от этого умер его отец, и Циглер полагал, что достигшая за это время невиданных высот наука не допустит, чтобы и его когда-нибудь постигла та же судьба.
Внешне Циглер отличался тем, что стремился одеваться чуть лучше, чем позволяли его средства, никогда не отставая от моды текущего года. Ну а моду квартала или месяца, которая ему была явно не по карману, он, разумеется, презирал как глупое обезьянничанье. Он считал себя человеком с характером и не боялся ругать начальство и правительство, когда находился среди себе подобных и в безопасном месте. Я, пожалуй, слишком увлекся его описанием. Однако Циглер и правда был приятным молодым человеком, и его утрата была для нас серьезным ударом. Потому что его настигло раннее и странное несчастье, перечеркнувшее все его планы и оправданные надежды.
Вскоре после прибытия в наш город Циглер решил устроить себе приятный выходной. Он еще не прижился у нас и от нерешительности не вступил ни в одно общество. Может быть, в этом и было его несчастье. Нехорошо, когда человек один.
И вот ему не оставалось ничего другого, как заняться городскими достопримечательностями, о которых он добросовестно осведомился. После серьезных разысканий он остановился на историческом музее и зоологическом саде. Вход в музей в воскресенье с утра был бесплатным, а зоосад после обеда можно было посетить со скидкой.
В своем любимом выходном костюме с пуговицами, обтянутыми материей, Циглер отправился в воскресенье в исторический музей. Он взял свою тонкую, элегантную тросточку, граненую, покрытую красным лаком, прибавлявшую ему осанистости и изящества, однако к его глубокому неудовольствию ему пришлось отдать трость служителю, стоявшему при входе.
В просторных залах было что посмотреть, и благонамеренный посетитель восславил в сердце своем всемогущую науку, которая и здесь доказала прославленную несомненность своих результатов, как заключил Циглер из аккуратных табличек на витринах. Старая рухлядь вроде увесистых ржавых ключей, разорванных ожерелий зеленого камня и тому подобного благодаря этим табличкам становилась удивительно интересной. Поразительно, чем только не занималась эта наука, как она во всем успевала, как умела со всем справиться – никаких сомнений, она уже в ближайшее время покончит с раком, а то и со смертью вообще.
Во втором зале он обнаружил стеклянный шкаф, в дверце которого он так хорошо отражался, что мог на минутку отвлечься, и, тщательно проверив свой костюм, прическу и воротник, складку на брюках и галстук, с удовлетворением убедиться, что все в порядке. Радостно вздохнув, он отправился далее и удостоил своего внимания несколько изделий старинных резчиков. Старательные ребята, хотя и довольно наивные, подумал он снисходительно. Старинные комнатные часы с фигурками из слоновой кости, танцующими в начале часа менуэт, он также терпеливо осмотрел и одобрил. А потом это занятие начало его несколько утомлять, он то и дело зевал, вынимал карманные часы, которые не стыдно было показать: это были массивные золотые часы, полученные в наследство от отца.
Как он с сожалением убедился, до обеда оставалось еще много времени, и потому он двинулся в следующий зал, вновь пробудивший его любопытство. В нем находились атрибуты средневековых суеверий, магические книги, амулеты, ведьмовские наряды, а в одном углу – целая алхимическая лаборатория, с горном, ступками, пузатыми склянками, тонкими свиными пузырями, мехами и тому подобными вещами. Этот угол был отгорожен канатом, надпись на табличке запрещала прикасаться к предметам. Но кто обращает на такие таблички внимание, к тому же Циглер был в зале совершенно один.
И вот он неосмотрительно протянул руку и потрогал некоторые из этих странных вещей. Обо всем этом средневековье и его потешных суевериях ему приходилось слышать и читать; он совершенно не мог уразуметь, как люди могли заниматься подобным ребячеством и почему никто не взял да и не запретил просто-напросто все это ведьмовское жульничество и всю эту чепуху. Алхимия же, напротив, заслуживала оправдания, потому что из нее возникла очень полезная наука – химия. Боже мой, как подумаешь, что эти вот тигли пытавшихся добыть золото алхимиков и вся эта нелепая колдовская рухлядь все же не были бесполезны, потому что без них сегодня не было бы аспирина и боевых газов!
Он рассеянно взял в руку маленький темный шарик, что-то вроде пилюли, высохшей и невесомой, повертел в своих пальцах и хотел уже положить назад, как услышал позади шаги. Он повернулся – в зал вошел посетитель. Циглеру стало неудобно, что он взял шарик, потому что табличку с надписью он, разумеется, прочел. Поэтому он сжал руку, опустил ее в карман и вышел.
Только на улице он снова вспомнил о пилюле. Вынул ее и думал было выбросить, однако прежде поднес к носу и понюхал. У нее был слабый смолистый запах, показавшийся ему приятным, и он снова положил ее в карман.
Затем он отправился в ресторан, заказал еду, полистал газеты в поисках чего-нибудь интересного, поправил галстук и стал поглядывать на посетителей то почтительно, то высокомерно, в зависимости от того, как они были одеты. Когда же ожидание заказанного стало затягиваться, Циглер достал свою нечаянно похищенную алхимическую пилюлю и понюхал ее. Потом он царапнул ее ногтем указательного пальца и, наконец, поддался наивному детскому порыву и поднес шарик ко рту; он быстро растворился на языке, вкус его не был неприятен, и Циглер запил его глотком пива. А тут и еда подоспела.
В два часа молодой человек спрыгнул с подножки трамвая, вошел в вестибюль зоологического сада и купил воскресный входной билет.
Приятно улыбаясь, он вошел в обезьянник и остановился у клетки шимпанзе. Большая обезьяна зыркнула на него, приветливо кивнула и проурчала низким голосом:
– Как дела, братишка?
Охваченный отвращением и неизъяснимым ужасом, Циглер отпрянул и, пока выходил, слышал, как обезьяна бранилась ему вслед:
– Гляди, какой гордый! Придурок плоскостопый!
Циглер бросился к мартышкам. Те нахально пританцовывали и кричали:
– Дай сахару, приятель!
А когда оказалось, что сахара у него нет, они разозлились, стали его передразнивать, обзывать голодранцем и скалить зубы. Этого он не стерпел; сконфуженный и растерянный, он выскочил на улицу и направился к оленям и косулям, от которых ожидал более пристойного поведения.
Большой статный лось стоял у ограды и смотрел на посетителя. И тут страх поразил Циглера в самое сердце. Получалось, что с того момента, как он проглотил старинную волшебную пилюлю, он стал понимать язык зверей. А лось говорил глазами, своими большими карими глазами. Его тихий взгляд выражал величие, покорность и печаль, а по отношению к смотревшему на него человеку у него было только высокомерно-серьезное презрение, ужасное презрение. Для этого тихого величественного взора, понятного теперь Циглеру, словно страница книги, он вместе со своей шляпой и тростью, с часами и выходным костюмом был не более чем отребьем, смешной и отвратительной тварью.
От лося Циглер перебежал к горному козлу, потом к козам, к ламе, к антилопе гну, к кабанам и медведям. Оскорблениям они его не подвергали, но все презирали. Он прислушивался и узнавал из их разговоров, какого они мнения о людях. И мнение это было ужасным. Они изумлялись, что именно этим гадким, вонючим, недостойным двуногим было позволено разгуливать на свободе в своих шутовских нарядах.
Он слышал, как пума беседовала со своим детенышем, беседа была исполнена достоинства и практической мудрости, такое нечасто встречается среди людей. Он слышал пантеру, кратко и точно рассуждавшую в аристократическом тоне о сброде, наполнявшем воскресный зоопарк. Он посмотрел гривастому льву в глаза и узнал, как широк и удивителен мир диких животных, где нет ни клеток, ни людей. Он видел сокола, печально и гордо восседавшего на сухой ветке в неизбывной тоске, видел соек, переносивших свое заточение с достоинством, видимой бесстрастностью и даже юмором.
Подавленный и вырванный из мира привычных мыслей, Циглер в отчаянии снова обратился к людям. Он искал взора, способного посочувствовать его несчастью и ужасу, он прислушивался к разговорам, чтобы услышать что-нибудь утешительное, разумное, отрадное, он присматривался к повадкам посетителей, чтобы и у них обнаружить достоинство, естественность, благородство, сдержанное превосходство.
Но он был разочарован. Слышал голоса и слова, видел движения, жесты и взгляды, а поскольку теперь он на все смотрел словно звериными глазами, то перед ним было сплошь выродившееся, кривляющееся, лживое, отвратительное общество звероподобных существ, казавшихся потешной помесью всех звериных пород разом.
В отчаянии блуждал Циглер, безмерно стыдясь себя самого. Граненую тросточку он уже давно забросил в кусты, за ней и перчатки. Но когда он сбросил шляпу, скинул ботинки, сорвал галстук и, рыдая, прильнул к решетке лосиного вольера, его при большом стечении народа задержали и препроводили в психиатрическую лечебницу.
В гостях у массагетов [29]
Хотя родина моя, если таковая у меня имеется, без сомнения, и превосходит все прочие земные края комфортом и великолепными техническими изобретениями, все же мной недавно вновь овладело желание странствий, и я отправился в далекую страну массагетов, [30] где не бывал со времен изобретения пороха. Очень мне хотелось посмотреть, как этот столь славный и храбрый народ, чьи воины некогда одолели великого Кира, изменился за прошедшее время и приспособился к нравам сегодняшнего дня.
Действительно, я не обманулся в своих ожиданиях и ничуть не переоценил доблестных массагетов. Подобно всем странам, претендующим на звание наиболее развитых, страна массагетов теперь тоже высылает навстречу каждому чужестранцу, приближающемуся к ее границам, репортера – разумеется, за исключением тех случаев, когда речь идет о значительных, достойных уважения, исключительных персонах, поскольку им, в зависимости от ранга, оказываются, как и подобает, куда как более значимые почести. Если это боксер или футболист, то его принимает министр здравоохранения, если пловец – министр культуры, а если это обладатель мирового рекорда – премьер-министр или вице-премьер. Я был избавлен от подобного избытка внимания, я литератор, и потому на границе меня встретил простой журналист, приятный молодой человек симпатичной наружности, и попросил меня перед въездом в страну удостоить его краткого изложения моего мировоззрения и в особенности моих взглядов на массагетов. Значит, этот милый обычай успел дойти и до здешних краев.
– Видите ли, – ответил я, – поскольку я недостаточно хорошо владею вашим великолепным языком, то предлагаю ограничиться лишь самыми основными моментами. Мое мировоззрение – мировоззрение той страны, в которой я в данный момент нахожусь, это и так ясно. Что же касается моих познаний о вашей славной стране и ее народе, то они почерпнуты из лучшего и наиболее почитаемого источника, какой только можно измыслить, – книги «Клио» великого Геродота. Исполненный глубокого восхищения храбростью вашего мощного войска и славной памятью вашей героической царицы Томирис, я уже в прежние времена имел честь посещать вашу страну, а теперь вот решил наконец-то повторить визит.
– Чрезвычайно признателен, – произнес несколько мрачно массагет. – Ваше имя у нас довольно известно. Наше министерство пропаганды чрезвычайно тщательно отслеживает все высказывания заграницы о нас, но от нас и так не ускользнуло, что вы опубликовали в одной газете тридцать строк о нравах и обычаях массагетов. Почту за честь сопровождать вас во время нынешней поездки по стране и заботиться о том, чтобы от вас не ускользнуло, насколько наши нравы с тех пор переменились.
Его несколько мрачный тон дал мне понять, что мои предыдущие высказывания о массагетах, которых я все же очень любил и которыми восхищался, здесь были приняты без особого восторга. Мгновение я колебался, не повернуть ли назад, вспомнив о царице Томирис, поместившей голову великого Кира в заполненные кровью меха, а также о других изысканных проявлениях вольного духа этого народа. Но все же у меня были паспорт и виза, а времена царицы Томирис давно миновали.
– Прошу прощения, – сказал мой гид уже более мягко, – если мне приходится настаивать на обсуждении ваших воззрений. У нас нет против вас ни малейших обвинений, хотя вы уже бывали в нашей стране. Нет, это всего лишь формальность, к тому же вы несколько односторонне ориентируетесь на Геродота. Как вам известно, во времена этого, несомненно, чрезвычайно одаренного ионийца не было никакой официальной пропагандистской и культурной инстанции, из-за чего его несколько небрежные высказывания о нашей стране можно простить. Однако то, что сегодняшний автор ссылается только на Геродота, да еще исключительно на него, с этим мы согласиться не можем. Итак, прошу вас, коллега, изложите вкратце ваши мысли и чувства относительно массагетов.
Я вздохнул несколько удрученно. Да уж, этот молодой человек не собирался облегчить мое положение, он настаивал на формальностях. Ладно, он их получит. Я начал:
– Разумеется, мне доподлинно известно, что массагеты являются не только древнейшим, наиболее благочестивым, наиболее культурным и в то же время храбрейшим народом земли, что их непобедимое воинство – самое большое, их флот – самый мощный, их нрав самый несгибаемый и в то же время самый дружественный, их женщины – самые красивые, их школы и прочие учреждения – самые образцовые в мире, но мне известно также и то, что они обладают столь чтимой во всем мире и отсутствующей у некоторых других великих народов добродетелью, а именно – ощущая свое несомненное превосходство, тем не менее проявлять к иностранцам доброжелательность и снисходительность, не ожидая от каждого бедного чужеземца, что он, происходя из куда как менее великой страны, будет способен достигнуть высот массагетского совершенства. И я не премину рассказать об этом у себя на родине со всей достоверностью.
– Прекрасно, – произнес мой спутник добродушно, – при перечислении наших добродетелей вы и правда попали в точку, вернее – во все точки. Я вижу, что вы осведомлены о нас гораздо лучше, чем могло показаться поначалу, и от всего нашего верного массагетского народа искренне приветствую вас в нашей прекрасной стране. Правда, кое-какие детали ваших познаний еще нуждаются в уточнении. А именно: я обратил внимание на то, что вы не упомянули наши высокие достижения в двух важных областях: спорте и христианском благочестии. Ведь именно мас-сагету принадлежит мировой рекорд в прыжке назад с завязанными глазами.
– Действительно, – вежливо соврал я, – как я мог об этом забыть! Однако вы упомянули еще и христианство как область, в которой ваш народ добился особенных успехов. Не могли бы вы просветить меня в этом вопросе?
– Ну да, – отвечал молодой человек, – я лишь хотел намекнуть, что нам было бы очень приятно, если бы вы в своих путевых заметках могли высказать несколько похвал по этому поводу. Например, у нас в маленьком городке на Араксе есть священник, отслуживший за свою жизнь не менее шестидесяти трех тысяч богослужений, а в другом городе есть знаменитая современная церковь, в которой все сделано из цемента: стены, колокольня, полы, колонны, алтари, крыша, купель, амвон и прочее, все вплоть до последнего светильника, вплоть до церковных кружек.
А на цементном амвоне, подумал я, стоит цементный священник. Но промолчал.
– Видите ли, – продолжал мой гид, – я буду с вами откровенен. Мы заинтересованы в том, чтобы по возможности укреплять нашу христианскую репутацию. Хотя наша страна уже много веков назад приняла христианство и от прежних массагетских богов и культов не осталось и следа, в стране есть маленькая, но очень рьяная партия, стремящаяся к тому, чтобы восстановить древних богов времен персидского царя Кира и царицы Томирис. Это не более чем бредовые идеи кучки фантазеров, однако, знаете, пресса соседних стран, естественно, тут же обратила внимание на эти смехотворные дела и связала их с нашей армейской реформой. Нас подозревают в том, что мы собираемся отречься от христианства, чтобы легче было в следующей войне отказаться от нескольких последних сдерживающих соображений в применении всех средств уничтожения. Вот в чем причина, по которой внимание к христианскому характеру нашей страны нам особенно важно. Мы, разумеется, ни в коем разе не собираемся влиять на объективность ваших репортажей, однако я могу доверительно, с глазу на глаз, сообщить, что ваша готовность немного написать о нашем христианском духе гарантирует вам прием у государственного секретаря. Это так, к слову.
– Я подумаю, – сказал я. – Собственно, христианство – не моя тема. Я вот буду очень рад снова увидеть великолепный памятник, сооруженный вашими предками в честь героя Спаргаписа.
– Спаргапис? – пробормотал мой коллега. – А кто это?
– Как, это великий сын Томирис, не перенесший позора, когда его перехитрил Кир, и в плену лишивший себя жизни.
– Ах да, верно, – воскликнул мой спутник, – я вижу, вас все тянет к Геродоту. Да, говорят, что памятник действительно был очень красив. Он странным образом исчез. Послушайте! Мы чрезвычайно интересуемся, как вам известно, наукой, в особенности археологией, и что касается площадей земли, раскопанных или подкопанных в археологических целях, то здесь наша страна занимает то ли третье, то ли четвертое место в мире. Эти широкомасштабные раскопки, нацеленные прежде всего на доисторические памятники, проходили, в том числе, и поблизости от того самого памятника времен царицы Томирис, и, поскольку именно там ожидалось множество находок, в особенности массагетских мамонтовых костей, под памятником попытались пробить тоннель. И при этом он рухнул! Однако, насколько мне известно, останки его еще можно увидеть в Массагетском историческом музее.
Он подвел меня к стоявшему наготове экипажу, и мы двинулись в глубь страны, ведя оживленную беседу.
Художник [31]
Художник по имени Альберт в молодые годы не смог достичь своими картинами успеха и влияния, которых он жаждал. Он уединился и решил стать самодостаточным. Годами он пытался этого достичь. Но все больше и больше становилось ясно, что быть самодостаточным у него не получалось. Он работал над портретом героя, и, пока он писал, его вновь и вновь посещала мысль: «А в самом ли деле нужно то, что я делаю? Может, эти картины и рисовать-то не надо? Разве мне или кому другому будет хуже, если я вместо этого просто пойду погулять или выпью вина? Значит ли живопись для меня самого что-нибудь иное, чем немного самообмана, немного забытья, немного развлечения?»
Эти мысли работе не помогали. Со временем Альберт почти прекратил рисовать. Он гулял, пил вино, читал книги, путешествовал. Но удовлетворения и в этих занятиях не находил.
Часто ему доводилось размышлять о том, с какими желаниями и надеждами он в свое время брался за кисть. Он вспоминал: чувства и желания его были в том, чтобы между ним и миром установилась прекрасная, мощная связь и взаимное общение, чтобы между ним и миром постоянно витало нечто интенсивное и проникновенное, звучащее тихой музыкой. Своими портретами и возвышенными пейзажами он хотел выразить свой внутренний мир, чтобы ощутить в ответ от мира внешнего, в суждениях и благодарности зрителей, живое и благодарное сияние.
Вот этого он и не нашел. Это была лишь мечта, да и мечта эта постепенно стала бледной и немощной. Теперь же, когда Альберт блуждал по миру или находился в уединении, путешествовал на кораблях или преодолевал горные перевалы, это видение все чаще и чаще возвращалось – другое, нежели прежде, но столь же прекрасное, столь же влекущее, столь же страстное и сияющее силой юного желания.
О как он жаждал этого – ощутить трепещущую связь со всеми вещами мира! Ощутить, что его дыхание и дыхание ветров и морей – одно и то же, что между ним и всем миром существует братство и родство, созвучие и гармония!
Он уже не желал более создавать картины, в которых был бы отражен он сам и его томление, картины, которые бы принесли ему понимание и любовь, объясняли, оправдывали и прославляли его. Он больше не помышлял о героях и торжественных процессиях, которые бы в зримых образах и общем настрое выразили и охарактеризовали его собственную сущность. Он жаждал лишь ощутить то же биение, тот ток, ту тайную проникновенность, в которой он сам растворился и исчез бы, умер и возродился. Уже это новое видение, уже это новое, более сильное томление делало жизнь сносной, придавало ей какой-то смысл, просветляло, дарило избавление.
Друзья Альберта, те, что еще остались, не очень-то понимали эти фантазии. Они видели только, что этот человек все больше и больше уходил в себя, что он все тише и непонятнее говорил и улыбался, что он много бывал в разъездах и не участвовал в том, что было дорого и важно для других людей, ни в политике, ни в торговле, ни в празднике стрелков, ни в балах, ни в умных разговорах об искусстве и ни в чем другом, от чего они получали удовольствие. Он стал чудаком и полудурком. Он носился в сером холодном зимнем воздухе и вдыхал при этом краски и ароматы этого воздуха, он следовал за маленьким ребенком, беспечно напевающем свое «ля-ля», он часами сидел, уставившись в зеленую воду, на цветочную грядку, или погружался, как читатель в книгу, в созерцание линий, которые он обнаруживал на распиленном куске дерева, на срезе корня или свеклы.
Никому до него не было дела. Он жил тогда в маленьком городе за границей, и там он однажды утром шел по аллее, глядя сквозь деревья на маленькую ленивую речку, на обрывистый, желтый глинистый берег, где над осыпями и выветренными породами цеплялись пыльные кусты и сорные травы. Тут в нем что-то зазвучало, он остановился, он вновь услышал в своей душе старую песню из сказочных времен. Желтизна глины и пыльная зелень, ленивая река и обрывистые берега, какие-то связи красок и линий, какой-то звук, нечто особенное в случайном образе – все это было прекрасно, даже невероятно прекрасно, трогательно и потрясающе, говорило с ним, было родным. И он чувствовал порыв и проникновенное единство леса и реки, реки и его самого, неба, земли и растений; казалось, все существовало лишь для того, чтобы в этот час отразиться в таком единстве в глазах и сердце одного человека, встретиться в них и найти согласие. Его сердце было местом, где могли сочетаться река и травы, дерево и воздух, сливаясь воедино, могли возвышать друг друга и праздновать торжество любви.
После того как это величественное ощущение повторилось несколько раз, художника охватило всеобъемлющее чувство счастья, насыщенное и глубокое, как золото вечернего солнца или садовый аромат. Он упивался им, оно было сладким и тяжелым, но он не мог долго его переносить, оно было слишком сильным, его распирало, он был в напряжении и возбуждении, почти доходя до ужаса и бешенства. Это чувство было сильнее его, оно захватывало, уносило, он боялся утонуть в нем. А он этого не хотел. Он хотел жить, жить вечно! Никогда, никогда не желал он жить так искренне, как теперь!
Словно после опьянения он очнулся как-то один в тихой комнате. Перед ним стоял ящик с красками, а на мольберте – кусок картона; после нескольких лет перерыва он снова принялся за живопись.
Так и пошло. Мысль: «Зачем я это делаю?» – не возвращалась. Он рисовал. Он только и делал, что смотрел и рисовал. Он или блуждал, погруженный в образы мира, или сидел в своей комнате и изливал полноту впечатлений в картинах, которые одну за одной сочинял на своих маленьких кусках картона: дождливое небо над ивами, садовую стену, скамью в лесу, проселочную дорогу, а кроме того – людей, и зверей, и вещи, которые он никогда не видел, быть может, героев или ангелов, которые при этом были такими же, как стена и лес, и вели ту же жизнь.
Когда он вернулся к людям, разнеслась весть, что он снова рисует. Его считали порядком сумасшедшим, однако с любопытством ждали его работы. Он никому не хотел их показывать. Но его не оставляли в покое, его донимали и вынуждали. Тогда он отдал ключ от своей комнаты одному знакомому, сам же уехал далеко, не желая присутствовать при том, как другие будут рассматривать его картины.
Люди пришли, и поднялся большой шум, он был объявлен неслыханной гениальности художником, пусть и со странностями, зато живописцем милостью Божьей, и все такое прочее, что говорят обычно знатоки и ораторы.
Художник Альберт обосновался тем временем в деревне, снял в крестьянском доме комнату и распаковал свои краски и кисти. Счастливый, он снова бродил по долам и горам, а потом изливал в своих картинах то, что испытал и прочувствовал.
И тут он узнал, что дома уже посмотрели его картины. В трактире за бокалом вина он прочитал большую хвалебную статью в столичной газете. Его имя было жирным шрифтом набрано в заголовке, и все колонки были полны пышных эпитетов. Но чем дальше он читал, тем больше удивлялся.
«Как прекрасно светится на картине с дамой в голубом желтый фон – новая, неслыханно смелая, очаровательная гармония!»
«Замечательна и экспрессивная пластика в натюрморте с розами. А уж серия автопортретов! Мы осмеливаемся поставить их в один ряд с подлинными шедеврами психологического портрета».
Странно, странно! Он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь рисовал натюрморт с розами или даму в голубом, и никогда, насколько ему было известно, не писал автопортретов. Зато в статье не было упоминаний ни о глинистых берегах, ни об ангелах, ни о дождливом небе, ни о других столь дорогих ему образах.
Альберт вернулся в город. Прямо с дороги он отправился в свою квартиру, там было полно посетителей. У двери сидел человек, и Альберту пришлось купить билет, чтобы ему позволили войти.
Там были его работы, прекрасно ему знакомые. Но кто-то прикрепил к ним таблички и написал такое, о чем Альберт не имел понятия. На некоторых значилось: «Автопортрет», были там и другие названия. Какое-то время Альберт задумчиво стоял перед картинами и их неизвестными названиями. Он понял, что этим картинам можно было дать совсем другие имена. Он увидел, что его садовая ограда кому-то показалась облаком, а расщелины его скалистого пейзажа могли для других обернуться человеческим лицом.
В конце концов, это было не так уж и важно. Но Альберт предпочел тихо исчезнуть из дома и никогда больше не возвращаться в этот город. Он нарисовал еще много картин, и дал им еще много названий, и был при этом счастлив; но он никому их не показывал.
Послесловие Мелкий бисер
Герман Гессе пришел к нашему читателю с приличным опозданием и, так сказать, в «обратном порядке». О том, что его ранние вещи когда-то издавались на русском языке, было забыто, а смерть писателя в 1962 году прошла незамеченной для тогдашних литературных изданий. Лишь несколько лет спустя публика встретилась с «Игрой в бисер», последней большой вещью Гессе. Затем, после хорошо выдержанной паузы, последовал «Степной волк», написанный шестнадцатью годами ранее «Игры». Далее переводы ранних и поздних вещей шли уже в полном беспорядке. В результате прихотливый сюжет литературной биографии Германа Гессе, охватывающей более шести десятков лет, оказался вне поля зрения российского читателя.
Чтобы разобраться в творческой судьбе Германа Гессе, важно увидеть ее многомерность. Гессе всю жизнь был тем, кого называют литературным тружеником. Он писал постоянно, и писал самые разные вещи, от романа до маленькой рецензии в ежедневную газету. И то и другое он делал со всей серьезностью и ответственностью, таково было его отношение к слову. Гессе любил говорить, что в литературе темы не делятся на масштабные и мелкие, все дело в том, как тема раскрыта; точно так же можно сказать, что и жанры не бывают важными и малозначимыми. Во всяком случае, для Гессе это было так, и над путевой зарисовкой в полторы-две странички он мог работать долго, несколько раз возвращаясь к ней и переделывая.
С юных лет Гессе был погружен в мир книг. «Каждый час, проведенный не над хорошей книгой или журналом, кажется мне потерянным», – писал он в начале жизненного пути. Гессе прекрасно знал историю литературы и уже в зрелом возрасте даже написал небольшую книжечку «Библиотека всемирной литературы», в которой изложил свое представление о наиболее значимых литературных произведениях, чтобы помочь любителям литературы ориентироваться в безбрежном книжном море. Сам он, во всяком случае, чувствовал себя среди книг зачастую уютнее, чем среди людей, и путешествовал в литературном пространстве и времени гораздо более уверенно, чем в реальности (повесть «Поездка в Нюрнберг» – красноречивое тому свидетельство). Дело было не только в замкнутости Гессе и разного рода идиосинкразиях, но и в том, что у него просто было неважное здоровье. Попытка совершить путешествие по Азии именно поэтому оказалась неудачной: тропический климат был Гессе явно не по силам и ему пришлось вернуться с полдороги – результат достаточно горький для человека из миссионерской семьи, с детства слышавшего рассказы о дальних странах и желавшего по-настоящему изведать их самому.
Свою физическую оседлость Гессе возмещал странствиями литературными. Уже в начале творческой деятельности он с увлечением перебирает эпохи и страны, успешно соединяя свои познания в литературе и истории культуры с фантазией, чтобы создавать сказки, легенды, новеллы, в которых обращение к литературной условности рождало иллюзию ощущения реальной обстановки, реального действия, относящегося к определенному времени и месту. Он отправляется в египетскую пустыню времен первых христианских отшельников, в барочную Венецию, в древний Китай. Число этих литературных путешествий росло, и настал момент, когда Гессе стал подумывать о том, чтобы объединить эти миниатюры в один томик вариаций на литературные темы. Но началась Первая мировая война, пережитая Гессе как страшная трагедия человеческой истории, на это наложился глубокий личный кризис, и в такое время разного рода литературные игры казались ему слишком мелкими, чтобы тратить на них время. Идея все же была осуществлена гораздо позднее, в 1935 году, когда в издательстве «Фишер» вышел сборник «Книга россказней» («Fabulierbucli»), объединивший многие из литературных фантазий, написанных на протяжении двух десятков лет. К этому времени были уже опубликованы «Сиддхарта», «Степной волк» и «Паломничество в страну Востока», началась работа над «Игрой в бисер». Появление «Книги россказней» напомнило, что многие из мотивов, разрабатывавшихся в то время Гессе, впервые вошли в его творчество именно через эти маленькие стилизации-выдумки.
Литературная игра у Гессе, человека чрезвычайно тщательного, была делом основательным. За каждой, даже самой маленькой, вещью просматривается солидный фон знаний. Если Гессе пишет о южной части древней Малой Азии, что она была разбойничьим гнездом («Осада Кремны»), так это и в самом деле было так: в античную эпоху те места слыли прибежищем пиратов и прочего опасного люда, а время, о котором пишет Гессе, было периодом кризиса Римской империи, когда целые провинции становились мятежными территориями под властью самозваных правителей. Так фантазия и знание превращаются у Гессе в причудливый сплав, в котором резонируют мечты писателя о гармонии внутреннего мира человека, для которого наука и искусство, эмоции и разум сосуществуют в единстве равновесия.
Однако Гессе создавал не просто тщательные имитации литературы разных эпох и направлений. Дотошно стилизуя какую-нибудь манеру (в «Антоне Шифельбайне» он, например, с явным удовольствием воспроизводит даже бесхитростную манеру барочного повествования), Гессе в то же время то и дело словно подмигивал читателю, вдруг подбрасывая ему что-нибудь из более позднего времени, из современности, постоянно выстраивая двойную, а то и более сложную перспективу. Так будто бы по небрежности (это у Гессе-то!) оброненное в античной истории слово «бандиты» сразу рождает ассоциации с позднейшей историей Средиземноморья, а нарочитая наивность перебивается неожиданным выходом в философские проблемы. Обращаясь к прошлому, Гессе не хотел утрачивать то, что было обретено литературой в позднейшем развитии, и вот миниатюра, начатая как средневековая легенда, постепенно соскальзывает к романтической манере описания Средневековья. Да и сама временная дистанция – вещь относительная, и Гессе показывал, что точно такую же игру можно вести и с современными ему жанрами, откликаясь на утопизм новой, технологической фантастики начала XX века первыми антиутопиями. Даже его собственный литературный опыт мог быть предметом подобной игры, и в новелле «Раритет» нетрудно увидеть снисходительную улыбку, с которой Гессе оглядывается на свой первый литературный опус, сборничек стихов «Романтические песни», изданный в ранней юности за собственный счет.
Литературная игра в малой форме занимала Гессе главным образом в первые два десятилетия его творчества. Это был тот «мелкий бисер», на котором Гессе оттачивал литературное мастерство, прежде чем почувствовал в себе силы взяться за более основательные вещи. Некоторые из этих миниатюр были дороги ему всю жизнь, дороги своей внутренней свободой и безоглядностью молодости.
С. Ромашко.
Примечания
1
DIE BELAGERUNG VON KREMNA
Рассказ написан в 1908–1909 гг., первая публикация – 1910 г., вошел в сб. «Fabulierbucli».
Сюжет рассказа отнесен ко времени правления в Риме так называемых «иллирийских императоров» (вторая половина III в. н. э.), когда римские власти столкнулись со множеством восстаний в провинциях.
2
DER VERLIEBTE JÜNGLING
Легенда написана и опубликована в 1907 г., вошла в сб. «Fabulierbucli».
3
имеется в виду преподобный Иларион из Газы (291–372) – ученик св. Антония Великого, основатель монашества в Палестине, прославился излечением бесноватых и одержимых. Фигура Илариона вновь появляется в романе «Игра в бисер».
4
HINRICHTUNG
Притча написана в 1908 г., опубликована в 1910 г.
5
ÜBLE AUFNAHME
Легенда написана в 1912 г., опубликована в 1912 г., вошла в сб. «Fabulierbucli».
6
Св. Франциск Ассизский – принадлежал к числу любимых фигур Г.Гессе, о которых он неоднократно писал.
7
Печаль любви (фр.).
Миниатюра написана и опубликована в 1907 г., вошла в сб. «Fabulierbucli».
8
Воспользовавшись образами и сюжетными ходами средневекового рыцарского романа (прежде всего «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха), Гессе создал свою версию возникновения старинной французской песенки «Муки любви»:
Восторг любви продлится лишь миг,
Печаль любви терзает всю жизнь.
9
DER TOD DES BRUDERS ANTONIO
Написано в 1904 г., первая публикация – 1908 г.; новелла вошла в сб. «Fabulierbuch».
Для образа брата Антонио Гессе явно позаимствовал некоторые черты биографии Франческо Петрарки.
10
DER ERZÄHLER
Рассказ написан в 1903 г., впервые опубликован в 1904 г., вошел в сб. «Fabulierbucli».
11
Имеется в виду сборник рассказов «Новеллино», возник в середине XIII в. и стал своего рода прелюдией к литературе итальянского Возрождения.
12
В житейских и любовных искусствах (лат.).
13
HANNES
Легенда написана и опубликована в 1906 г., переработана в 1920 г., вошла в сб. «Fabulierbucli».
14
EIN ABEND BEI DR. FAUST
Фантазия написана в 1927 г., опубликована в 1928 г.; вошла в сб. «Fabulierbucli».
15
Имеется в виду Иоганн Андреас Айзенбарт (1663–1727), прославившийся как замечательный хирург.
16
…Велиал (Велиар) – одно из имен дьявола в иудейской, а затем и христианской традиции.
17
DREI LINDEN
Легенда написана и опубликована в 1912 г., позднее несколько раз перерабатывалась, вошла в сб. «Fabulierbucli».
18
DIE VERHAFTUNG
Новелла написана и опубликована в 1911 г., вошла в сб. «Fabulierbucli».
19
…госпожи Бренвилье… – реальное лицо, Мари-Мадлен-Маргерит, маркиза де Бренвилье (1630–1676), казнена как отравительница почти всех своих родных и еще ряда лиц. Ее процесс произвел сильнейшее впечатление на французское общество.
20
Заочно (лат.).
21
ANTON SCHIEVELBEYNS OHN-TRYWILLIGE REISSE NACHER OST-INDIEN
Сказовая новелла написана и опубликована в 1905 г., вошла в сб. «Fabulierbucli».
Гессе пользуется в новелле обозначениями, привычными для XVII века: так, Батавия – старое название Джакарты, а индонезийцев его герой именует «индийцами» (т. е. жителями Ост-Индии).
22
CASANOVAS BEKEHRUNG
Написано и опубликовано в 1906 г.
В основе новеллы – эпизод из «Мемуаров» Казановы. Характерно, что этот эпизод многие исследователи считают выдумкой великого авантюриста. Во всяком случае, некоторые детали наводят на эту мысль. Например, обитель Пресвятой Девы Марии (Айнзидельн) находится в более чем 30 километрах от Цюриха, так что набрести на нее после легкой прогулки невозможно, для этого требуется полноценный дневной переход.
23
…ars amandi… – искусство любви (лат.).
24
INNEN UND AUßEN
Новелла написана и опубликована в 1920 г., вошла в сб. «Fabulierbucli».
25
Гессе цитирует строки из стихотворения Гете «Эпиррема»:
Мирозданье постигая,
Все познай, не отбирая:
Что внутри – во внешнем сыщешь,
Что вовне – внутри отыщешь.
Так примите ж без оглядки
Мира внятные загадки.
(Пер. Н. Вильмонта)
26
EINE RARITÄT
Написано в 1902 г., опубликовано в 1905 г.
Гессе, как и многие молодые авторы того времени, также начинал свою литературную карьеру томиком стихов, изданных за свой счет: его первой книгой был лирический сборник «Романтические песни» (1898). Словно во исполнение предположения, высказанного в новелле «Раритет», «Романтические песни» и в самом деле были переизданы факсимиле к 100-летию автора в Японии (где Гессе со временем приобрел большую популярность).
27
Имеется в виду издание романа швейцарского писателя Готфрида Каллера (1819–1890).
28
DER MENSCH MIT NAMEN ZIEGLER
Написано и опубликовано в 1908 г., вошло в сб. «Fabulierbucli».
29
BEI DEN MASSAGETEN
Написано и опубликовано в 1927 г.
30
Древнее иранское племя, обитавшее восточнее Каспийского моря. Персидский царь Кир II, по преданию, погиб по время похода на массагетов.
31
DER MALER
Написано и опубликовано в 1918 г., когда Гессе был чрезвычайно увлечен рисованием и даже подумывал о том, чтобы оставить литературу и посвятить себя искусству.


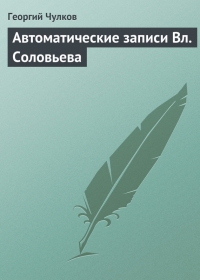
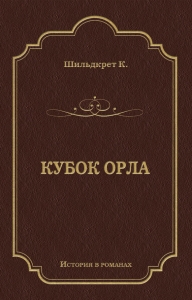





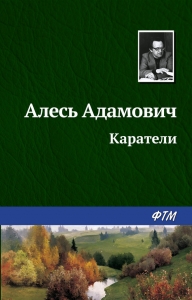
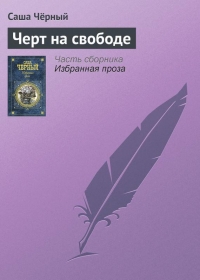
Комментарии к книге «Книга россказней», Герман Гессе
Всего 0 комментариев