И. С. Тургенев Дворянское гнездо
© Издательство «Детская литература». 2002
© В. П. Панов. Иллюстрации, 1988
* * *
Дворянское гнездо
I
Весенний, светлый день клонился к вечеру; небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури.
Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О… (дело происходило в 1842 году), сидели две женщины – одна лет пятидесяти, другая уже старушка, семидесяти лет.
Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калитиной. Ее муж, бывший губернский прокурор, известный в свое время делец, – человек бойкий и решительный, желчный и упрямый, – умер лет десять тому назад. Он получил изрядное воспитание, учился в университете, но, рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость проложить себе дорогу и набить деньгу. Марья Дмитриевна вышла за него по любви: он был недурен собою, умен и, когда хотел, очень любезен. Марья Дмитриевна (в девицах Пестова) еще в детстве лишилась родителей, провела несколько лет в Москве, в институте, и, вернувшись оттуда, жила в пятидесяти верстах от О…, в родовом своем селе Покровском, с теткой да с старшим братом. Брат этот скоро переселился в Петербург на службу и держал и сестру и тетку в черном теле, пока внезапная смерть не положила предела его поприщу. Марья Дмитриевна наследовала Покровское, но не долго жила в нем; на второй же год после ее свадьбы с Калитиным, который в несколько дней успел покорить ее сердце, Покровское было променено на другое имение, гораздо более доходное, но некрасивое и без усадьбы; и в то же время Калитин приобрел дом в городе О…, где и поселился с женою на постоянное жительство. При доме находился большой сад; одной стороной он выходил прямо в поле, за город. «Стало быть, – решил Калитин, большой неохотник до сельской тишины, – в деревню таскаться незачем». Марья Дмитриевна не раз в душе пожалела о своем хорошеньком Покровском с веселой речкой, широкими лугами и зелеными рощами; но она ни в чем не прекословила мужу и благоговела пред его умом и знанием света. Когда же, после пятнадцатилетнего брака, он умер, оставив сына и двух дочерей, Марья Дмитриевна уже до того привыкла к своему дому и к городской жизни, что сама не захотела выехать из О…
Марья Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки; и в пятьдесят лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила институтские замашки; она избаловала себя, легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались ее привычки; зато она была очень ласкова и любезна, когда все ее желания исполнялись и никто ей не прекословил. Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе. Состояние у ней было весьма хорошее, не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем. Обе дочери жили с нею; сын воспитывался в одном из лучших казенных заведений в Петербурге.
Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной под окошком, была та самая тетка, сестра ее отца, с которою она провела некогда несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеевной Пестовой. Она слыла чудачкой, нрав имела независимый, говорила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, как будто за ней водились тысячи. Она терпеть не могла покойного Калитина и, как только ее племянница вышла за него замуж, удалилась в свою деревушку, где прожила целых десять лет у мужика в курной избе. Марья Дмитриевна ее побаивалась. Черноволосая и быстроглазая даже в старости, маленькая, востроносая, Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и внятно, тонким и звучным голоском. Она постоянно носила белый чепец и белую кофту.
– О чем ты это? – спросила она вдруг Марью Дмитриевну. – О чем вздыхаешь, мать моя?
– Так, – промолвила та. – Какие чудесные облака!
– Так тебе их жалко, что ли?
Марья Дмитриевна ничего не отвечала.
– Что это Гедеоновский нейдет? – проговорила Марфа Тимофеевна, проворно шевеля спицами (она вязала большой шерстяной шарф). – Он бы повздыхал вместе с тобою, – не то соврал бы что-нибудь.
– Как вы всегда строго о нем отзываетесь! Сергей Петрович – почтенный человек.
– Почтенный! – повторила с укоризной старушка.
– И как он покойному мужу был предан! – проговорила Марья Дмитриевна, – до сих пор вспомнить о нем равнодушно не может.
– Еще бы! тот его за уши из грязи вытащил, – проворчала Марфа Тимофеевна, и спицы еще быстрее заходили в ее руках.
– Глядит таким смиренником, – начала она снова, – голова вся седая, а что рот раскроет, то солжет или насплетничает. А еще статский советник! Ну, и то сказать: попович!
– Кто же без греха, тетушка? Эта слабость в нем есть, конечно. Сергей Петрович воспитания, конечно, не получил, по-французски не говорит; но он, воля ваша, приятный человек.
– Да, он ручки у тебя всё лижет. По-французски не говорит, – эка беда! Я сама не сильна во французском «диалехте». Лучше бы он ни по-каковски не говорил: не лгал бы. Да вот он, кстати, легок на помине, – прибавила Марфа Тимофеевна, глянув на улицу. – Вон он шагает, твой приятный человек. Экой длинный, словно аист!
Марья Дмитриевна поправила свои локоны. Марфа Тимофеевна с усмешкой посмотрела на нее.
– Что это у тебя, никак, седой волос, мать моя? Ты побрани свою Палашку. Чего она смотрит?
– Уж вы, тетушка, всегда… – пробормотала с досадой Марья Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел.
– Сергей Петрович Гедеоновский! – пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери.
II
Вошел человек высокого роста, в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках – одном черном, сверху, другом белом, снизу. Всё в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблуков и без скрыпу. Он поклонился сперва хозяйке дома, потом Марфе Тимофеевне и, медленно стащив перчатки, подошел к ручке Марьи Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел не торопясь в кресла и с улыбкой, потирая самые кончики пальцев, проговорил:
– А Елизавета Михайловна здоровы?
– Да, – отвечала Марья Дмитриевна, – она в саду.
– И Елена Михайловна?
– Леночка в саду тоже. Нет ли чего новенького?
– Как не быть-с, как не быть-с, – возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. – Гм!.. да вот пожалуйте, есть новость, и преудивительная: Лаврецкий Федор Иваныч приехал.
– Федя! – воскликнула Марфа Тимофеевна. – Да ты, полно, не сочиняешь ли, отец мой?
– Никак нет-с, я их самолично видел.
– Ну, это еще не доказательство.
– Очень поздоровели, – продолжал Гедеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфы Тимофеевны, – в плечах еще шире стали, и румянец во всю щеку.
– Поздоровел, – произнесла с расстановкой Марья Дмитриевна, – кажется, с чего бы ему здороветь?
– Да-с, – возразил Гедеоновский, – другой на его месте и в свет-то показаться посовестился бы.
– Это отчего? – перебила Марья Тимофеевна, – это что за вздор? Человек возвратился на родину – куда ж ему деться прикажете? И благо он в чем виноват был!
– Муж всегда виноват, сударыня, осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя.
– Это ты, батюшка, оттого говоришь, что сам женат не был.
Гедеоновский принужденно улыбнулся.
– Позвольте полюбопытствовать, – спросил он после небольшого молчания, – кому назначается этот миленький шарф?
Марфа Тимофеевна быстро взглянула на него.
– А тому назначается, – возразила она, – кто никогда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет, если только есть на свете такой человек. Федю я знаю хорошо; он только тем и виноват, что баловал жену. Ну, да и женился он по любви, а из этих из любовных свадеб ничего путного никогда не выходит, – прибавила старушка, косвенно взглянув на Марью Дмитриевну и вставая. – А ты теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки точи, хоть на мне; я уйду, мешать не буду.
И Марфа Тимофеевна удалилась.
– Вот она всегда так, – проговорила Марья Дмитриевна, проводив свою тетку глазами, – всегда!
– Лета ихние! Что делать-с! – заметил Гедеоновский. – Вот они изволят говорить: кто не хитрит. Да кто нонеча не хитрит? Век уж такой. Один мой приятель, препочтенный и, доложу вам, не малого чина человек, говаривал, что нонеча, мол, курица и та с хитростью к зерну приближается – всё норовит, как бы сбоку подойти. А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав-то у вас истинно ангельский; пожалуйте-ка мне вашу белоснежную ручку.
Марья Дмитриевна слабо улыбнулась и протянула Гедеоновскому свою пухлую руку с отделенным пятым пальчиком. Он приложился к ней губами, а она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила вполголоса:
– Так видели вы его? В самом деле он – ничего, здоров, весел?
– Весел-с, ничего-с, – возразил Гедеоновский шепотом.
– А не слыхали вы, где его жена теперь?
– В последнее время в Париже была-с; теперь, слышно, в итальянское государство переселилась.
– Это ужасно, право, – Федино положение; я не знаю, как он переносит. Случаются, точно, несчастья со всяким; но ведь его, можно сказать, на всю Европу распубликовали.
Гедеоновский вздохнул:
– Да-с, да-с. Ведь она, говорят, и с артистами, и с пиянистами, и, как там по-ихнему, со львами да со зверями знакомство вела. Стыд потеряла совершенно…
– Очень, очень жалко, – проговорила Марья Дмитриевна. – По-родственному: ведь он мне, Сергей Петрович, вы знаете, внучатный племянник.
– Как же-с, как же-с. Как мне не знать-с всего, что до вашего семейства относится? Помилуйте-с.
– Придет он к нам, как вы думаете?
– Должно полагать-с; а впрочем, они, слышно, к себе в деревню собираются.
Марья Дмитриевна подняла глаза к небу:
– Ах, Сергей Петрович, Сергей Петрович, как я подумаю, как нам, женщинам, нужно осторожно вести себя!
– Женщина женщине розь, Марья Дмитриевна. Есть, к несчастию, такие – нрава непостоянного… ну, и лета; опять правила не внушены сызмала. (Сергей Петрович достал из кармана клетчатый синий платок и начал его развертывать.) Такие женщины, конечно, бывают. (Сергей Петрович поднес угол платка поочередно к своим глазам.) Но, вообще говоря, если рассудить, то есть… Пыль в городе необыкновенная, – заключил он.
– Maman, maman, – вскричала, вбегая в комнату, смазливая девочка лет одиннадцати, – к нам Владимир Николаич верхом едет!
Марья Дмитриевна встала; Сергей Петрович тоже встал и поклонился. «Елене Михайловне наше нижайшее», – проговорил он и, отойдя в угол для приличия, принялся сморкать свой длинный и правильный нос.
– Какая у него чудесная лошадь! – продолжала девочка. – Он сейчас был у калитки и сказал нам с Лизой, что к крыльцу подъедет.
Послышался топот копыт, и стройный всадник на красивом гнедом коне показался на улице и остановился перед раскрытым окном.
III
– Здравствуйте, Марья Дмитриевна! – воскликнул звучным и приятным голосом всадник. – Как вам нравится моя новая покупка?
Марья Дмитриевна подошла к окну:
– Здравствуйте, Woldemar! Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?
– У ремонтера… Дорого взял, разбойник.
– Как ее зовут?
– Орландом… Да это имя глупо; я хочу переменить… Eh bien, eh bien, mon garcon…[1] Какой неугомонный!
Конь фыркал, переступал ногами и махал опененною мордой.
– Леночка, погладьте ее, не бойтесь…
Девочка протянула из окна руку, но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону. Всадник не потерялся, взял коня в шенкеля, вытянул его хлыстом по шее и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном.
– Prenez garde, prenez garde[2], – твердила Марья Дмитриевна.
– Леночка, поласкайте его, – возразил всадник, – я не позволю ему вольничать.
Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орланда, который беспрестанно вздрагивал и грыз удила.
– Браво! – воскликнула Марья Дмитриевна, – а теперь слезьте и придите к нам.
Всадник лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице, въехал на двор.
Минуту спустя он вбежал, помахивая хлыстиком, из двери передней в гостиную; в то же время на пороге другой двери показалась стройная, высокая, черноволосая девушка лет девятнадцати – старшая дочь Марьи Дмитриевны, Лиза.
IV
Молодой человек, с которым мы только что познакомили читателей, прозывался Владимиром Николаичем Паншиным. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в Министерстве внутренних дел. В город О… он приехал для исполнения временного казенного поручения и состоял в распоряжении губернатора, генерала Зонненберга, которому доводился дальним родственником. Отец Паншина, отставной штабс-ротмистр, известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, весь свой век терся между знатью, посещал английские клубы обеих столиц и слыл за ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на всю свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже нищеты и оставил своему единственному сыну состояние небольшое и расстроенное. Зато он, по-своему, позаботился об его воспитании: Владимир Николаич говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует: порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки; но пускать в ход германское словцо в некоторых, большею частью забавных, случаях – можно, c’est même très chic[3], как выражаются петербургские парижане. Владимир Николаич с пятнадцатилетнего возраста уже умел не смущаясь войти в любую гостиную, приятно повертеться в ней и кстати удалиться. Отец Паншина доставил сыну своему много связей; тасуя карты между двумя робберами или после удачного «большого шлема», он не пропускал случая запустить словечко о своем «Володьке» какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческих игр. С своей стороны, Владимир Николаич во время пребывания в университете, откуда он вышел с чином действительного студента, познакомился с некоторыми знатными молодыми людьми и стал вхож в лучшие дома. Его везде охотно принимали; он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на всё готов; где нужно – почтителен, где можно – дерзок, отличный товарищ, un charmant garcon[4]. Заветная область раскрылась перед ним. Паншин скоро понял тайну светской науки; он умел проникнуться действительным уважением к ее уставам, умел с полунасмешливой важностью заниматься вздором и показать вид, что почитает всё важное за вздор; танцевал отлично, одевался по-английски. В короткое время он прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге. Паншин был действительно очень ловок, – не хуже отца; но он был также очень даровит. Всё ему далось: он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене. Ему всего пошел двадцать восьмой год, а он был уже камер-юнкером и чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницательность; он шел вперед смело и весело, полным махом; жизнь его текла как по маслу. Он привык нравиться всем, старому и малому, и воображал, что знает людей, особенно женщин: он хорошо знал их обыденные слабости. Как человек не чуждый художеству, он чувствовал в себе и жар, и некоторое увлечение, и восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил: кутил, знакомился с лицами, не принадлежавшими к свету, и вообще держался вольно и просто; но в душе он был холоден и хитр, и во время самого буйного кутежа его умный карий глазок всё караулил и высматривал; этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне. К чести его должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марьи Дмитриевны он попал тотчас по приезде в О… и скоро освоился в нем совершенно. Марья Дмитриевна в нем души не чаяла.
Паншин любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи Дмитриевны и у Лизаветы Михайловны, слегка потрепал Гедеоновского по плечу и, повернувшись на каблуках, поймал Леночку за голову и поцеловал ее в лоб.
– И вы не боитесь ездить на такой злой лошади? – спросила его Марья Дмитриевна.
– Помилуйте, она пресмирная; а вот, я доложу вам, чего я боюсь: я боюсь играть в преферанс с Сергеем Петровичем; вчера у Беленицыных он обыграл меня в пух.
Гедеоновский засмеялся тоненьким и подобострастным смехом: он заискивал в молодом блестящем чиновнике из Петербурга, губернаторском любимце. В разговорах своих с Марьей Дмитриевной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина. Ведь вот, рассуждал он, как не похвалить? И в высшей сфере жизни успевает молодой человек, и служит примерно, и гордости ни малейшей. Впрочем, Паншина и в Петербурге считали дельным чиновником: работа кипела у него в руках; он говорил о ней шутя, как оно и следует светскому человеку, не придающему особенного значения своим трудам, но был «исполнитель». Начальники любят таких подчиненных; сам он не сомневался в том, что, если захочет, будет со временем министром.
– Вы изволите говорить, что я обыграл вас, – промолвил Гедеоновский, – а на прошлой неделе кто у меня выиграл двенадцать рублей? да еще…
– Злодей, злодей, – перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью и, не обращая более на него внимания, подошел к Лизе.
– Я не мог найти здесь увертюру «Оберона», – начал он. – Беленицына только хвасталась, что у ней вся классическая музыка, – на деле у ней, кроме полек и вальсов, ничего нет; но я уже написал в Москву, и через неделю вы будете иметь эту увертюру. Кстати, – продолжал он, – я написал вчера новый романс; слова тоже мои. Хотите, я вам спою? Не знаю, что из этого вышло; Беленицына нашла его премиленьким, но ее слова ничего не значат, – я желаю знать ваше мнение. Впрочем, я думаю, лучше после.
– Зачем же после? – вмешалась Марья Дмитриевна, – отчего же не теперь?
– Слушаю-с, – промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась и пропадала вдруг, – пододвинул коленом стул, сел за фортепьяно и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова, следующий романс:
Луна плывет высоко над землею Меж бледных туч; Но движет с вышины волной морскою Волшебный луч. Моей души тебя признало море Своей луной, И движется – и в радости и в горе – Тобой одной. Тоской любви, тоской немых стремлений Душа полна; Мне тяжело… Но ты чужда смятений, Как та луна.Второй куплет был спет Паншиным с особенным выражением и силой; в бурном аккомпанементе слышались переливы волн. После слов: «Мне тяжело…» – он вздохнул слегка, опустил глаза и понизил голос – morendo[5]. Когда он кончил, Лиза похвалила мотив, Марья Дмитриевна сказала: «Прелестно», а Гедеоновский даже крикнул: «Восхитительно! и поэзия, и гармония одинаково восхитительны!..» Леночка с детским благоговением посмотрела на певца. Словом, всем присутствовавшим очень понравилось произведение молодого дилетанта; но за дверью гостиной в передней стоял только что пришедший, уже старый человек, которому, судя по выражению его потупленного лица и движениям плечей, романс Паншина, хотя и премиленький, не доставил удовольствия. Подождав немного и смахнув пыль с сапогов толстым носовым платком, человек этот внезапно съежил глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою, и без того сутулую, спину и медленно вошел в гостиную.
– А! Христофор Федорыч, здравствуйте! – воскликнул прежде всех Паншин и быстро вскочил со стула.
– Я и не подозревал, что вы здесь, – я бы при вас ни за что не решился спеть свой романс. Я знаю, вы не охотник до легкой музыки.
– Я не слушиль, – произнес дурным русским языком вошедший человек и, раскланявшись со всеми, неловко остановился посреди комнаты.
– Вы, мосье Лемм, – сказала Марья Дмитриевна, – пришли дать урок музыки Лизе?
– Нет, не Лисафет Михайловне, а Елен Михайловне.
– А! Ну, что ж – прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Леммом.
Старик пошел было вслед за девочкой, но Паншин остановил его.
– Не уходите после урока, Христофор Федорыч, – сказал он, – мы с Лизаветой Михайловной сыграем бетговенскую сонату в четыре руки.
Старик проворчал себе что-то под нос, а Паншин продолжал по-немецки, плохо выговаривая слова:
– Мне Лизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли, – прекрасная вещь! Вы, пожалуйста, не думайте, что я не умею ценить серьезную музыку, – напротив: она иногда скучна, но зато очень пользительна.
Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты.
Марья Дмитриевна попросила Паншина повторить романс; но он объявил, что не желает оскорблять ушей ученого немца, и предложил Лизе заняться бетговенскою сонатой. Тогда Марья Дмитриевна вздохнула и, с своей стороны, предложила Гедеоновскому пройтись с ней по саду. «Мне хочется, – сказала она, – еще поговорить и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде». Гедеоновский осклабился, поклонился, взял двумя пальцами свою шляпу с аккуратно положенными на одном из ее полей перчатками и удалился вместе с Марьей Дмитриевной. В комнате остались Паншин и Лиза; она достала и раскрыла сонату; оба молча сели за фортепьяно. Сверху доносились слабые звуки гамм, разыгрываемых неверными пальчиками Леночки.
V
Христофор Теодор Готлиб Лемм родился в 1786 году, в королевстве Саксонском, в городе Хемнице, от бедных музыкантов. Отец его играл на валторне, мать на арфе; сам он уже по пятому году упражнялся на трех различных инструментах. Восьми лет он осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством. Он долго вел бродячую жизнь, играл везде – и в трактирах, и на ярмарках, и на крестьянских свадьбах, и на балах; наконец попал в оркестр и, подвигаясь всё выше и выше, достиг дирижерского места. Исполнитель он был довольно плохой, но музыку знал основательно. На двадцать восьмом году переселился он в Россию. Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из чванства. Лемм прожил у него лет семь в качестве капельмейстера и отошел от него с пустыми руками: барин разорился, хотел дать ему на себя вексель, но впоследствии отказал ему и в этом, – словом, не заплатил ему ни копейки. Ему советовали уехать; но он не хотел вернуться домой нищим из России, из великой России, этого золотого дна артистов; он решился остаться и испытать свое счастье. В течение двадцати лет бедный немец пытал свое счастье: побывал у различных господ, жил и в Москве, и в губернских городах, терпел и сносил многое, узнал нищету, бился как рыба об лед; но мысль о возвращении на родину не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался; она только одна его и поддерживала. Судьбе, однако, не было угодно порадовать его этим последним и первым счастьем: пятидесяти лет, больной, до времени одряхлевший, застрял он в городе О… и остался в нем навсегда, уже окончательно потеряв всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию и кое-как поддерживая уроками свое скудное существование. Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он был небольшого роста, сутуловат, с криво выдавшимися лопатками и втянутым животом, с большими плоскими ступнями, с бледно-синими ногтями на твердых, неразгибавшихся пальцах жилистых красных рук; лицо имел морщинистое, впалые щеки и сжатые губы, которыми он беспрестанно двигал и жевал, что, при его обычной молчаливости, производило впечатление почти зловещее; седые его волосы висели клочьями над невысоким лбом; как только что залитые угольки, глухо тлели его крошечные, неподвижные глазки; ступал он тяжело, на каждом шагу перекидывая свое неповоротливое тело. Иные его движения напоминали неуклюжее охорашивание совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят, а сама едва видит своими огромными, желтыми, пугливо и дремотно моргающими глазами. Застарелое, неумолимое горе положило на бедного музикуса свою неизгладимую печать, искривило и обезобразило его и без того невзрачную фигуру; но для того, кто умел не останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то необыкновенное виднелось в этом полуразрушенном существе. Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Лемм со временем – кто знает? – стал бы в ряду великих композиторов своей родины, если б жизнь иначе его повела; но не под счастливой звездой он родился! Он много написал на своем веку – и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным; не умел он приняться за дело как следовало, поклониться кстати, похлопотать вовремя. Как-то, давным-давно тому назад, один его поклонник и друг, тоже немец и тоже бедный, издал на свой счет две его сонаты, – да и те остались целиком в подвалах музыкальных магазинов; глухо и бесследно провалились они, словно их ночью кто в реку бросил. Лемм, наконец, махнул рукой на всё; притом и годы брали свое: он зачерствел, одеревенел, как пальцы его одеревенели. Один, с старой кухаркой, взятой им из богадельни (он никогда женат не был), проживал он в О… в небольшом домишке, недалеко от калитинского дома; много гулял, читал Библию, да собрание протестантских псалмов, да Шекспира в шлегелевском переводе. Он давно ничего не сочинял; но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умела его расшевелить: он написал для нее кантату, о которой упомянул Паншин. Слова этой кантаты были им заимствованы из собрания псалмов; некоторые стихи он сам присочинил. Ее пели два хора – хор счастливцев и хор несчастливцев; оба они к концу примирялись и пели вместе: «Боже милостивый, помилуй нас, грешных, и отжени от нас всякие лукавые мысли и земные надежды». На заглавном листе, весьма тщательно написанном и даже разрисованном, стояло: «Только праведные правы. Духовная кантата. Сочинена и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей любезной ученице, ее учителем, X. Т. Г. Леммом». Слова: «Только праведные правы» и «Елизавете Калитиной» были окружены лучами. Внизу было приписано: «Для вас одних, fur Sie allein». Оттого-то Лемм и покраснел и взглянул искоса на Лизу; ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его кантате.
VI
Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты (он играл вторую руку), но Лиза не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствие; губы ее не улыбались, всё лицо было строго, почти печально.
– Что с вами? – спросил он.
– Зачем вы не сдержали своего слова? – сказала она. – Я вам показала кантату Христофора Федорыча под тем условием, чтоб вы не говорили ему о ней.
– Виноват, Лизавета Михайловна, – к слову пришлось.
– Вы его огорчили – и меня тоже. Теперь он и мне доверять не будет.
– Что прикажете делать, Лизавета Михайловна? От младых ногтей не могу видеть равнодушно немца: так и подмывает меня его подразнить.
– Что вы это говорите, Владимир Николаич! Этот немец – бедный, одинокий, убитый человек – и вам его не жаль? Вам хочется дразнить его?
Паншин смутился.
– Вы правы, Лизавета Михайловна, – промолвил он. – Всему виною – моя вечная необдуманность. Нет, не возражайте мне; я себя хорошо знаю. Много зла мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста.
Паншин помолчал. С чего бы ни начинал он разговор, он обыкновенно кончал тем, что говорил о самом себе, и это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно, словно невольно.
– Вот и в вашем доме, – продолжал он, – матушка ваша, конечно, ко мне благоволит – она такая добрая; вы… впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне; зато ваша тетушка просто меня терпеть не может. Я ее тоже, должно быть, обидел каким-нибудь необдуманным, глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли?
– Да, – произнесла Лиза с небольшой запинкой, – вы ей не нравитесь.
Паншин быстро провел пальцами по клавишам; едва заметная усмешка скользнула по его губам.
– Ну, а вы? – промолвил он, – я вам тоже кажусь эгоистом?
– Я вас еще мало знаю, – возразила Лиза, – но я вас не считаю за эгоиста; я, напротив, должна быть благодарна вам…
– Знаю, знаю, что вы хотите сказать, – перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами по клавишам, – за ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие рисунки, которыми я украшаю ваш альбом, и так далее, и так далее. Я могу всё это делать – и все-таки быть эгоистом. Смею думать, что вы не скучаете со мною и что вы не считаете меня за дурного человека, но всё же вы полагаете, что я – как, бишь, это сказано? – для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля.
– Вы рассеянны и забывчивы, как все светские люди, – промолвила Лиза, – вот и всё.
Паншин немного нахмурился.
– Послушайте, – сказал он, – не будемте больше говорить обо мне; станемте разыгрывать нашу сонату. Об одном только прошу я вас, – прибавил он, разглаживая рукою листы лежавшей на пюпитре тетради, – думайте обо мне что хотите, называйте меня даже эгоистом – так и быть! но не называйте меня светским человеком: эта кличка мне нестерпима… Anch’io sono pittore[6]. Я тоже артист, хотя плохой, и это, а именно то, что я плохой артист, – я вам докажу сейчас же на деле. Начнем же.
– Начнем, пожалуй, – сказала Лиза.
Первое adagio прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Свое и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты – довольно быстрое allegro – совсем не пошла: на двадцатом такте Паншин, отставший такта на два, не выдержал и со смехом отодвинул свой стул.
– Нет! – воскликнул он, – я не могу сегодня играть; хорошо, что Лемм нас не слышал; он бы в обморок упал.
Лиза встала, закрыла фортепьяно и обернулась к Паншину.
– Что же мы будем делать? – спросила она.
– Узнаю вас в этом вопросе! Вы никак не можете сидеть сложа руки. Что ж, если хотите, давайте рисовать, пока еще не совсем стемнело. Авось другая муза – муза рисования – как, бишь, ее звали? позабыл… будет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? Помнится, там мой пейзаж не кончен.
Лиза пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то скосясь, на свои руки. Они у него были очень красивы и белы; на большом пальце левой руки носил он винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась; Паншин уселся к окну, развернул альбом.
– Ага! – воскликнул он, – я вижу, вы начали срисовывать мой пейзаж – и прекрасно. Очень хорошо! Вот тут только – дайте-ка карандаш – не довольно сильно положены тени. Смотрите.
И Паншин размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж: на первом плане большие растрепанные деревья, в отдаленье поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу.
– В рисунке, да и вообще в жизни, – говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево, – легкость и смелость – первое дело.
В это мгновение вошел в комнату Лемм и, сухо поклонившись, хотел удалиться; но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу.
– Куда же вы, любезный Христофор Федорыч? Разве вы не остаетесь чай пить?
– Мне домой, – проговорил Лемм угрюмым голосом, – голова болит.
– Ну, что за пустяки, – останьтесь. Мы с вами поспорим о Шекспире.
– Голова болит, – повторил старик.
– А мы без вас принялись было за бетговенскую сонату, – продолжал Паншин, любезно взяв его за талию и светло улыбаясь, – но дело совсем на лад не пошло. Вообразите, я не мог две ноты сряду взять верно.
– Вы бы опять спел сфой романце лутчи, – возразил Лемм, отводя руки Паншина, и вышел вон.
Лиза побежала вслед за ним. Она догнала его на крыльце.
– Христофор Федорыч, послушайте, – сказала она ему по-немецки, провожая его до ворот по зеленой короткой травке двора, – я виновата перед вами – простите меня.
Лемм ничего не отвечал.
– Я показала Владимиру Николаевичу вашу кантату; я была уверена, что он ее оценит, – и она, точно, очень ему понравилась.
Лемм остановился.
– Это ничего, – сказал он по-русски и потом прибавил на родном своем языке: – но он не может ничего понимать; как вы этого не видите? Он дилетант – и всё тут!
– Вы к нему несправедливы, – возразила Лиза, – он всё понимает и сам почти всё может сделать.
– Да, всё второй нумер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен – ну и браво. А я не сержусь; эта кантата и я – мы оба старые дураки; мне немножко стыдно, но это ничего.
– Простите меня, Христофор Федорыч, – проговорила снова Лиза.
– Ничего, ничего, – повторил он опять по-русски, – вы добрая девушка… А вот кто-то к вам идет. Прощайте. Вы очень добрая девушка.
И Лемм уторопленным шагом направился к воротам, в которые входил какой-то незнакомый ему господин, в сером пальто и широкой соломенной шляпе. Вежливо поклонившись ему (он кланялся всем новым лицам в городе О…; от знакомых он отворачивался на улице – такое уж он положил себе правило), Лемм прошел мимо и исчез за забором. Незнакомец с удивлением посмотрел ему вслед и, вглядевшись в Лизу, подошел прямо к ней.
VII
– Вы меня не узнаете, – промолвил он, снимая шляпу, – а я вас узнал, даром что уже восемь лет минуло с тех пор, как я вас видел в последний раз. Вы были тогда ребенком. Я Лаврецкий. Матушка ваша дома? Можно ее видеть?
– Матушка будет очень рада, – возразила Лиза, – она слышала о вашем приезде.
– Ведь вас, кажется, зовут Елизаветой? – промолвил Лаврецкий, взбираясь по ступеням крыльца.
– Да.
– Я помню вас хорошо; у вас уже тогда было такое лицо, которого не забываешь; я вам тогда возил конфекты.
Лиза покраснела и подумала: какой он странный. Лаврецкий остановился на минуту в передней. Лиза вошла в гостиную, где раздавался голос и хохот Паншина; он сообщал какую-то городскую сплетню Марье Дмитриевне и Гедеоновскому, уже успевшим вернуться из сада, и сам громко смеялся тому, что рассказывал. При имени Лаврецкого Марья Дмитриевна вся всполошилась, побледнела и пошла к нему навстречу.
– Здравствуйте, здравствуйте, мой милый cousin! – воскликнула она растянутым и почти слезливым голосом, – как я рада вас видеть!
– Здравствуйте, моя добрая кузина, – возразил Лаврецкий и дружелюбно пожал ее протянутую руку. – Как вас Господь милует?
– Садитесь, садитесь, мой дорогой Федор Иваныч. Ах, как я рада! Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь Лизу…
– Я уж сам отрекомендовался Лизавете Михайловне, – перебил ее Лаврецкий.
– Мсье Паншин… Сергей Петрович Гедеоновский… Да садитесь же! Гляжу на вас и, право, даже глазам не верю. Как здоровье ваше?
– Как изволите видеть: процветаю. Да и вы, кузина, – как бы вас не сглазить, – не похудели в эти восемь лет.
– Как подумаешь, сколько времени не видались, – мечтательно промолвила Марья Дмитриевна. – Вы откуда теперь? Где вы оставили… то есть я хотела сказать, – торопливо подхватила она, – я хотела сказать, надолго ли вы к нам?
– Я приехал теперь из Берлина, – возразил Лаврецкий, – и завтра же отправляюсь в деревню – вероятно, надолго.
– Вы, конечно, в Лавриках жить будете?
– Нет, не в Лавриках; а есть у меня, верстах в двадцати пяти отсюда, деревушка; так я туда еду.
– Это деревушка, что вам от Глафиры Петровны досталась?
– Та самая.
– Помилуйте, Федор Иваныч! У вас в Лавриках такой чудесный дом!
Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови.
– Да… но и в той деревушке есть флигелек; а мне пока больше ничего не нужно. Это место – для меня теперь самое удобное.
Марья Дмитриевна опять до того смешалась, что даже выпрямилась и руки развела. Паншин пришел ей на помощь и вступил в разговор с Лаврецким. Марья Дмитриевна успокоилась, опустилась на спинку кресел и лишь изредка вставляла свое словечко; но при этом так жалостливо глядела на своего гостя, так значительно вздыхала и так уныло покачивала головой, что тот наконец не вытерпел и довольно резко спросил ее: здорова ли она?
– Слава Богу, – возразила Марья Дмитриевна, – а что?
– Так, мне показалось, что вам не по себе.
Марья Дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный. «А коли так, – подумала она, – мне совершенно всё равно; видно, тебе, мой батюшка, всё как с гуся вода; иной бы с горя исчах, а тебя еще разнесло». Марья Дмитриевна сама с собой не церемонилась; вслух она говорила изящнее.
Лаврецкий действительно не походил на жертву рока. От его краснощекого, чисто русского лица, с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами, так и веяло степным здоровьем, крепкой, долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых, навыкате и несколько неподвижных, замечалась не то задумчивость, не то усталость, и голос его звучал как-то слишком ровно.
Паншин между тем продолжал поддерживать разговор. Он навел речь на выгоды сахароварства, о котором недавно прочел две французские брошюрки, и с спокойной скромностью принялся излагать их содержание, не упоминая, впрочем, о них ни единым словом.
– А ведь это Федя! – раздался вдруг в соседней комнате за полураскрытой дверью голос Марфы Тимофеевны. – Федя, точно! – И старушка проворно вошла в гостиную. Лаврецкий не успел еще подняться со стула, как уж она обняла его. – Покажи-ка себя, покажика, – промолвила она, отодвигаясь от его лица. – Э! да какой же ты славный. Постарел, а не подурнел нисколько, право. Да что ты руки у меня целуешь – ты меня самое целуй, коли тебе мои сморщенные щеки не противны. Небось не спросил обо мне: что, дескать, жива ли тетка? А ведь ты у меня на руках родился, пострел эдакой! Ну, да это всё равно; где тебе было обо мне вспомнить! Только ты умница, что приехал. А что, мать моя, – прибавила она, обращаясь к Марье Дмитриевне, – угостила ты его чем-нибудь?
– Мне ничего не нужно, – поспешно проговорил Лаврецкий.
– Ну, хоть чаю напейся, мой батюшка. Господи Боже мой! Приехал невесть откуда, и чашки чаю ему не дадут. Лиза, пойди похлопочи, да поскорей. Я помню, маленький он был обжора страшный, да и теперь, должно быть, покушать любит.
– Мое почтение, Марфа Тимофеевна, – промолвил Паншин, приближаясь сбоку к расходившейся старушке и низко кланяясь.
– Извините меня, государь мой, – возразила Марфа Тимофеевна, – не заметила вас на радости. На мать ты свою похож стал, на голубушку, – продолжала она, снова обратившись к Лаврецкому, – только нос у тебя отцовский был, отцовским и остался. Ну – и надолго ты к нам?
– Я завтра еду, тетушка.
– Куда?
– К себе, в Васильевское.
– Завтра?
– Завтра.
– Ну, коли завтра, так завтра. С Богом, – тебе лучше знать. Только ты, смотри, зайди проститься. – Старушка потрепала его по щеке. – Не думала я дождаться тебя; и не то чтоб я умирать собиралась; нет – меня еще годов на десять, пожалуй, хватит: все мы, Пестовы, живучи; дед твой покойный, бывало, двужильными нас прозывал; да ведь Господь тебя знал, сколько б ты еще за границей проболтался. Ну, а молодец ты, молодец; чай, по-прежнему десять пудов одной рукой поднимаешь? Твой батюшка покойный, извини, уж на что был вздорный, а хорошо сделал, что швейцарца тебе нанял; помнишь, вы с ним на кулачки бились; гимнастикой, что ли, это прозывается? Но, однако, что это я так раскудахталась; только господину Паншину (она никогда не называла его, как следовало, Паншиным) рассуждать помешала. А впрочем, станемте-ка лучше чай пить; да на террасу пойдемте его, батюшку, пить; у нас сливки славные – не то что в ваших Лондонах да Парижах. Пойдемте, пойдемте, а ты, Федюша, дай мне руку. О! да какая же она у тебя толстая! Небось с тобой не упадешь.
Все встали и отправились на террасу, за исключением Гедеоновского, который втихомолку удалился. Во всё продолжение разговора Лаврецкого с хозяйкой дома, Паншиным и Марфой Тимофеевной он сидел в уголке, внимательно моргая и с детским любопытством вытянув губы: он спешил теперь разнести весть о новом госте по городу.
В тот же день, в одиннадцать часов вечера, вот что происходило в доме г-жи Калитиной. Внизу, на пороге гостиной, улучив удобное мгновение, Владимир Николаич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку: «Вы знаете, кто меня привлекает сюда; вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом; к чему тут слова, когда и так всё ясно». Лиза ничего не отвечала ему и, не улыбаясь, слегка приподняв брови и краснея, глядела на пол, но не отнимала своей руки; а наверху, в комнате Марфы Тимофеевны, при свете лампадки, висевшей перед тусклыми старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колена и положив лицо на руки; старушка, стоя перед ним, изредка и молча гладила его по волосам. Более часу провел он у ней, простившись с хозяйкой дома; он почти ничего не сказал своей старинной доброй приятельнице, и она его не расспрашивала… Да и к чему было говорить, о чем расспрашивать? Она и так всё понимала, она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце.
VIII
Федор Иванович Лаврецкий (мы должны попросить у читателя позволение перервать на время нить нашего рассказа) происходил от старинного дворянского племени. Родоначальник Лаврецких выехал в княжение Василия Темного из Пруссии и был пожалован двумя стами четвертями земли в Бежецком верху. Многие из его потомков числились в разных службах, сидели под князьями и людьми именитыми на отдаленных воеводствах, но ни один из них не поднялся выше стольника и не приобрел значительного достояния. Богаче и замечательнее всех Лаврецких был родной прадед Федора Иваныча, Андрей, человек жестокий, дерзкий, умный и лукавый. До нынешнего дня не умолкла молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой. Он был очень толст и высок ростом, из лица смугл и безбород, картавил и казался сонливым; но чем он тише говорил, тем больше трепетали все вокруг него. Он и жену достал себе под стать. Пучеглазая, с ястребиным носом, с круглым желтым лицом, цыганка родом, вспыльчивая и мстительная, она ни в чем не уступала мужу, который чуть не уморил ее и которого она не пережила, хотя вечно с ним грызлась. Сын Андрея, Петр, Федоров дед, не походил на своего отца; это был простой степной барин, довольно взбалмошный, крикун и копотун, грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник. Ему было за тридцать лет, когда он наследовал от отца две тысячи душ в отличном порядке, но он скоро их распустил, частью продал свое именье, дворню избаловал. Как тараканы, сползались со всех сторон знакомые и незнакомые мелкие людишки в его обширные, теплые и неопрятные хоромы; всё это наедалось чем попало, но досыта, напивалось допьяна и тащило вон что могло, прославляя и величая ласкового хозяина; и хозяин, когда был не в духе, тоже величал своих гостей дармоедами и прохвостами, а без них скучал. Жена Петра Андреича была смиренница; он взял ее из соседнего семейства, по отцовскому выбору и приказанию; звали ее Анной Павловной. Она ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей и охотно сама выезжала, хотя пудриться, по ее словам, было для нее смертью. Поставят тебе, рассказывала она в старости, войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают – не отмоешься потом; а в гости без пудры нельзя – обидятся, – мука! Она любила кататься на рысаках, в карты готова была играть с утра до вечера и всегда, бывало, закрывала рукой записанный на нее копеечный выигрыш, когда муж подходил к игорному столу; а всё свое приданое, все деньги отдала ему в безответное распоряжение. Она прижила с ним двух детей: сына Ивана, Федорова отца, и дочь Глафиру. Иван воспитывался не дома, а у богатой старой тетки, княжны Кубенской: она назначила его своим наследником (без этого отец бы его не отпустил); одевала его, как куклу, нанимала ему всякого рода учителей, приставила к нему гувернера, француза, бывшего аббата, ученика Жан Жака Руссо, некоего m-r Courtin de Vaucelles, ловкого и тонкого проныру, – самую, как она выражалась, fine fleur[7] эмиграции, – и кончила тем, что чуть не семидесяти лет вышла замуж за этого финьфлёра; перевела на его имя всё свое состояние и вскоре потом, разрумяненная, раздушенная амброй а la Richelieu, окруженная арапчонками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шелковом кривом диванчике времен Лудовика XV, с эмалевой табакеркой работы Петито в руках – и умерла, оставленная мужем: вкрадчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами. Ивану пошел всего двадцатый год, когда этот неожиданный удар (мы говорим о браке княжны, не об ее смерти) над ним разразился; он не захотел остаться в теткином доме, где он из богатого наследника внезапно превратился в приживальщика; в Петербурге общество, в котором он вырос, перед ним закрылось; к службе с низких чинов, трудной и темной, он чувствовал отвращение (всё это происходило в самом начале царствования императора Александра); пришлось ему поневоле вернуться в деревню, к отцу. Грязно, бедно, дрянно показалось ему его родимое гнездо; глушь и копоть степного житья-бытья на каждом шагу его оскорбляли; скука его грызла; зато и на него все в доме, кроме матери, недружелюбно глядели. Отцу не нравились его столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чуялась ему гадливость; он то и дело жаловался и ворчал на сына. «Всё здесь не по нем, – говаривал он, – за столом привередничает, не ест, людского запаху, духоты переносить не может, вид пьяных его расстраивает, драться при нем тоже не смей, служить не хочет: слаб, вишь, здоровьем; фу-ты, неженка эдакой! А всё оттого, что Волтер в голове сидит». Старик особенно не жаловал Вольтера да еще «изувера» Дидерота, хотя ни одной строки из их сочинений не прочел: читать было не по его части. Петр Андреич не ошибался: точно, и Дидерот и Вольтер сидели в голове его сына, и не они одни – и Руссо, и Рейналь, и Гельвеций, и много других, подобных им, сочинителей сидели в его голове, – но в одной только голове. Бывший наставник Ивана Петровича, отставной аббат и энциклопедист, удовольствовался тем, что влил целиком в своего воспитанника всю премудрость XVIII века, и он так и ходил наполненный ею; она пребывала в нем, не смешавшись с его кровью, не проникнув в его душу, не сказавшись крепким убежденьем… Да и возможно ли было требовать убеждений от молодого малого пятьдесят лет тому назад, когда мы еще и теперь не доросли до них? Посетителей отцовского дома Иван Петрович тоже стеснял; он ими гнушался, они его боялись, а с сестрой Глафирой, которая была двенадцатью годами старше его, он не сошелся вовсе. Эта Глафира была странное существо: некрасивая, горбатая, худая, с широко раскрытыми строгими глазами и сжатым тонким ртом, она лицом, голосом, угловатыми быстрыми движениями напоминала свою бабку, цыганку, жену Андрея. Настойчивая, властолюбивая, она и слышать не хотела о замужестве. Возвращение Ивана Петровича ей пришлось не по нутру; пока княжна Кубенская держала его у себя, она надеялась получить по крайней мере половину отцовского имения: она и по скупости вышла в бабку. Сверх того, Глафира завидовала брату; он так был образован, так хорошо говорил по-французски, с парижским выговором, а она едва умела сказать «бонжур» да «коман ву порте ву?»[8]. Правда, родители ее по-французски вовсе не разумели, да от этого ей не было легче. Иван Петрович не знал, куда деться от тоски и скуки; невступно год провел он в деревне, да и тот показался ему за десять лет. Только с матерью своею он и отводил душу и по целым часам сиживал в ее низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедаясь вареньем. Случилось так, что в числе горничных Анны Павловны находилась одна очень хорошенькая девушка, с ясными, кроткими глазками и тонкими чертами лица, по имени Маланья, умница и скромница. Она с первого раза приглянулась Ивану Петровичу; и он полюбил ее: он полюбил ее робкую походку, стыдливые ответы, тихий голосок, тихую улыбку; с каждым днем она ему казалась милей. И она привязалась к Ивану Петровичу всей силою души, как только русские девушки умеют привязываться, – и отдалась ему. В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может: скоро все узнали о связи молодого барина с Маланьей; весть об этой связи дошла наконец до самого Петра Андреича. В другое время он, вероятно, не обратил бы внимания на такое маловажное дело; но он давно злился на сына и обрадовался случаю пристыдить петербургского мудреца и франта. Поднялся гвалт, крик и гам: Маланью заперли в чулан; Ивана Петровича потребовали к родителю. Анна Павловна тоже прибежала на шум. Она попыталась было укротить мужа, но Петр Андреич уже ничего не слушал. Ястребом напустился он на сына, упрекал его в безнравственности, в безбожии, в притворстве; кстати, вымес тил на нем всю накипевшую досаду против княжны Кубенской, осыпал его обидными словами. Сначала Иван Петрович молчал и крепился, но когда отец вздумал грозить ему постыдным наказаньем, он не вытерпел. «Изувер Дидерот опять на сцене, – подумал он, – так пущу же я его в дело, постойте; я вас всех удивлю». И тут же спокойным, ровным голосом, хотя с внутренней дрожью во всех членах, Иван Петрович объявил отцу, что он напрасно укоряет его в безнравственности; что хотя он не намерен оправдывать свою вину, но готов ее исправить, и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков, а именно – готов жениться на Маланье. Произнеся эти слова, Иван Петрович, бесспорно, достиг своей цели: он до того изумил Петра Андреича, что тот глаза вытаращил и онемел на мгновенье; но тотчас же опомнился и как был в тулупчике на беличьем меху и в башмаках на босу ногу, так и бросился с кулаками на Ивана Петровича, который, как нарочно, в тот день причесался a la Titus и надел новый английский синий фрак, сапоги с кисточками и щегольские лосинные панталоны в обтяжку. Анна Павловна закричала благим матом и закрыла лицо руками, а сын ее побежал через весь дом, выскочил на двор, бросился в огород, в сад, через сад вылетел на дорогу и всё бежал без оглядки, пока наконец перестал слышать за собою тяжелый топот отцовских шагов и его усиленные, прерывистые крики… «Стой, мошенник! – вопил он, – стой! прокляну!» Иван Петрович спрятался у соседнего однодворца, а Петр Андреич вернулся домой весь изнеможенный и в поту, объявил, едва переводя дыхание, что лишает сына благословения и наследства, приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку Маланью немедленно сослать в дальнюю деревню. Нашлись добрые люди, отыскали Ивана Петровича, известили его обо всем. Пристыженный, взбешенный, он поклялся отомстить отцу и в ту же ночь, подкараулив крестьянскую телегу, на которой везли Маланью, отбил ее силой, поскакал с нею в ближайший город и обвенчался с ней. Деньгами его снабдил сосед, вечно пьяный и добрейший отставной моряк, страшный охотник до всякой, как он выражался, благородной истории. На другой день Иван Петрович написал язвительно холодное и учтивое письмо Петру Андреичу, а сам отправился в деревню, где жил его троюродный брат Дмитрий Пестов с своею сестрой, уже знакомою читателям, Марфой Тимофеевной. Он рассказал им всё, объявил, что намерен ехать в Петербург искать места, и упросил их хоть на время приютить его жену. При слове «жена» он всплакнул горько и, несмотря на свое столичное образование и философию, униженно, беднячком-русачком поклонился своим родственникам в ноги и даже стукнул о пол лбом. Пестовы, люди жалостливые и добрые, охотно согласились на его просьбу; он прожил у них недели три, втайне ожидая ответа от отца; но ответа не пришло, – и прийти не могло. Петр Андреич, узнав о свадьбе сына, слег в постель и запретил упоминать при себе имя Ивана Петровича; только мать, тихонько от мужа, заняла у благочинного и прислала пятьсот рублей ассигнациями да образок его жене; написать она побоялась, но велела сказать Ивану Петровичу через посланного сухопарого мужичка, умевшего уходить в сутки по шестидесяти верст, чтоб он не очень огорчался, что, Бог даст, всё устроится и отец переложит гнев на милость; что и ей другая невестка была бы желательнее, но что, видно, Богу так было угодно, а что она посылает Маланье Сергеевне свое родительское благословение. Сухопарый мужичок получил рубль, попросил позволенья повидаться с новою барыней, которой он доводился кумом, поцеловал у ней ручку и побежал восвояси.
А Иван Петрович отправился в Петербург с легким сердцем. Неизвестная будущность его ожидала; бедность, быть может, грозила ему, но он расстался с ненавистною деревенской жизнью, а главное – не выдал своих наставников, действительно «пустил в ход» и оправдал на деле Руссо, Дидерота и la Declaration des droits de l’homme[9]. Чувство совершенного долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу; да и разлука с женой не очень пугала его; его бы скорее смутила необходимость постоянно жить с женою. То дело было сделано; надобно было приняться за другие дела. В Петербурге, вопреки его собственным ожиданиям, ему повезло: княжна Кубенская, – которую мусье Кур тен успел уже бросить, но которая не успела еще умереть, – чтобы чем-нибудь загладить свою вину перед племянником, отрекомендовала его всем своим друзьям и подарила ему пять тысяч рублей – едва ли не последние свои денежки – да лепиковские часы с его вензелем в гирлянде амуров. Не прошло трех месяцев, как уж он получил место при русской миссии в Лондоне и с первым отходившим английским кораблем (пароходов тогда еще в помине не было) уплыл за море. Несколько месяцев спустя получил он письмо от Пестова. Добрый помещик поздравлял Ивана Петровича с рождением сына, явившегося на свет в селе Покровском 20 августа 1807 года и нареченного Федором в честь святого мученика Феодора Стратилата. По причине большой слабости Маланья Сергеевна приписывала только несколько строк; но и эти немногие строки удивили Ивана Петровича: он не знал, что Марфа Тимофеевна выучила его жену грамоте. Впрочем, Иван Петрович не долго предавался сладостному волнению родительских чувств: он ухаживал за одной из знаменитых тогдашних Фрин или Лаис (классические названия еще процветали в то время); Тильзитский мир был только что заключен, и всё спешило наслаждаться, всё крутилось в каком-то бешеном вихре; черные глаза бойкой красавицы вскружили и его голову. Денег у него было очень мало; но он счастливо играл в карты, заводил знакомства, участвовал во всех возможных увеселениях, словом, плыл на всех парусах.
IX
Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу; если б, пропустя полгода, Иван Петрович явился к нему с повинной головой и бросился ему в ноги, он бы, пожалуй, помиловал его, выбранив его сперва хорошенько и постучав по нем для страха клюкою; но Иван Петрович жил за границей и, по-видимому, в ус себе не дул. «Молчи! Не смей! – твердил Петр Андреич всякий раз жене, как только та пыталась склонить его на милость, – ему, щенку, должно вечно за меня Бога молить, что я клятвы на него не положил; покойный батюшка из собственных рук убил бы его, негодного, и хорошо бы сделал». Анна Павловна, при таких страшных речах, только крестилась украдкой. Что же касается до жены Ивана Петровича, то Петр Андреич сначала и слышать о ней не хотел и даже в ответ на письмо Пестова, в котором тот упоминал о его невестке, велел ему сказать, что он никакой якобы своей невестки не ведает, а что законами воспрещается держать беглых девок, о чем он считает долгом его предупредить; но потом, узнав о рождении внука, смягчился, приказал под рукой осведомиться о здоровье родительницы и послал ей, тоже будто не от себя, немного денег. Феде еще году не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельною болезнью. За несколько дней до кончины, уже не вставая с постели, с робкими слезинками на погасающих глазах, объявила она мужу при духовнике, что желает повидаться и проститься с невесткой, благословить внука. Огорченный старик успокоил ее и тотчас же послал собственный свой экипаж за невесткой, в первый раз называя ее Маланьей Сергеевной. Она приехала с сыном и с Марфой Тимофеевной, которая ни за что не хотела отпустить ее одну и не дала бы ее в обиду. Полуживая от страха вошла Маланья Сергеевна в кабинет Петра Андреича. Нянька несла за ней Федю. Петр Андреич молча поглядел на нее; она подошла к его руке; ее трепетные губы едва сложились в беззвучный поцелуй.
– Ну, сыромолотная дворянка, – проговорил он наконец, – здравствуй; пойдем к барыне.
Он встал и нагнулся к Феде; ребенок улыбнулся и протянул к нему свои бледные ручонки. Старика перевернуло.
– Ох, – промолвил он, – сиротливый! Умолил ты меня за отца; не оставлю я тебя, птенчик.
Маланья Сергеевна как вошла в спальню Анны Павловны, так и стала на колени возле двери. Анна Павловна подманила ее к постели, обняла ее, благословила ее сына; потом, обратив обглоданное жестокою болезнью лицо к своему мужу, хотела было заговорить…
– Знаю, знаю, о чем ты просить хочешь, – промолвил Петр Андреич, – не печалься: она останется у нас, и Ваньку для нее помилую.
Анна Павловна с усилием поймала руку мужа и прижалась к ней губами. В тот же вечер ее не стало.
Петр Андреич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери, для младенца Федора он возвращает ему свое благословение и Маланью Сергеевну оставляет у себя в доме. Ей отвели две комнаты в антресолях, он представил ее своим почтеннейшим гостям, кривому бригадиру Скурехину и жене его; подарил ей двух девок и казачка для посылок. Марфа Тимофеевна с ней простилась: она возненавидела Глафиру и в течение одного дня раза три поссорилась с нею.
Тяжело и неловко было сперва бедной женщине; но потом она обтерпелась и привыкла к своему тестю. Он тоже привык к ней, даже полюбил ее, хотя почти никогда не говорил с ней, хотя в самых его ласках к ней замечалось какое-то невольное пренебрежение. Больше всего терпела Маланья Сергеевна от своей золовки. Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь дом в руки: все, начиная с отца, ей покорялись; без ее разрешения куска сахару не выдавалось; она скорее согласилась бы умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой, – и какою еще хозяйкой! Свадьба брата раздражила ее еще больше, чем Петра Андреича: она взялась проучить выскочку, и Маланья Сергеевна с первого же часа стала ее рабой. Да и где ж ей было бороться с самовольной, надменной Глафирой, ей, безответной, постоянно смущенной и запуганной, слабой здоровьем? Дня не проходило, чтоб Глафира не напомнила ей прежнего ее положения, не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Маланья Сергеевна охотно помирилась бы на этих напоминовениях и похвалах, как горьки они ни были… но Федю у нее отняли: вот что ее сокрушало. Под предлогом, что она не в состоянии заниматься его воспитанием, ее почти не допускали до него; Глафира взялась за это дело; ребенок поступил в ее полное распоряжение. Маланья Сергеевна с горя начала в своих письмах умолять Ивана Петровича, чтобы он вернулся поскорее; сам Петр Андреич желал видеть своего сына; но он всё только отписывался, благодарил отца за жену, за присылаемые деньги, обещал приехать вскоре – и не ехал. Двенадцатый год вызвал его наконец из-за границы. Увидавшись в первый раз после шестилетней разлуки, отец с сыном обнялись и даже словом не помянули о прежних раздорах; не до того было тогда: вся Россия поднималась на врага, и оба они почувствовали, что русская кровь течет в их жилах. Петр Андреич на свой счет одел целый полк ратников. Но война кончилась, опасность миновалась; Иван Петрович опять заскучал, опять потянуло его вдаль, в тот мир, с которым он сросся и где чувствовал себя дома. Маланья Сергеевна не могла удержать его; она слишком мало для него значила. Даже надежды ее не сбылись: муж ее также нашел, что гораздо приличнее поручить Глафире воспитание Феди. Бедная жена Ивана Петровича не перенесла этого удара, не перенесла вторичной разлуки: безропотно, в несколько дней, угасла она. В течение всей своей жизни не умела она ничему сопротивляться, и с недугом она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильные тени ложились на ее лицо, но черты ее по-прежнему выражали терпеливое недоумение и постоянную кротость смирения; с той же немой покорностью глядела она на Глафиру, и как Анна Павловна на смертном одре поцеловала руку Петра Андреича, так и она приложилась к Глафириной руке, поручая ей, Глафире, своего единственного сына. Так кончило свое земное поприще тихое и доброе существо, Бог знает зачем выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревцо, корнями на солнце; оно увяло, оно пропало без следа, это существо, и никто не горевал о нем. Пожалели о Маланье Сергеевне ее горничные да еще Петр Андреич. Старику недоставало ее молчаливого присутствия. «Прости-прощай, моя безответная!» – прошептал он, кланяясь ей в последний раз, в церкви. Он плакал, бросая горсть земли в ее могилу.
Он сам не долго пережил ее, не более пяти лет. Зимой 1819 года он тихо скончался в Москве, куда переехал с Глафирой и внуком, и завещал похоронить себя рядом с Анной Павловной да с «Малашей». Иван Петрович находился тогда в Париже, для своего удовольствия; он вышел в отставку скоро после 1815 года. Узнав о смерти отца, он решился возвратиться в Россию. Надобно было подумать об устройстве имения, да и Феде, по письму Глафиры, минуло двенадцать лет, и наступило время серьезно заняться его воспитанием.
X
Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну – всё в нем так и веяло Великобританией; весь он казался пропитан ее духом. Но – чудное дело! – превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом, по крайней мере он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно: в обыкновенной беседе речь его, неповоротливая и вялая, вся пестрела галлицизмами; но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде: «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самою натурою обстоятельства» и т. д. Иван Петрович привез с собою несколько рукописных планов, касавшихся до устройства и улучшения государства; он очень был недоволен всем, что видел, – отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь. При свидании с сестрою он с первых же слов объявил ей, что он намерен ввести коренные преобразования, что впредь у него всё будет идти по новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала: «Куда же я-то денусь?» Впрочем, приехавши в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены: приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию; в числе их пострадали две старухи, одна – слепая, другая – разбитая параличом, да еще дряхлый майор очаковских времен, которого, по причине его действительно замечательной жадности, кормили одним черным хлебом да чечевицей. Также вышел приказ не принимать прежних гостей: всех их заменил дальний сосед, какой-то белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек. Появились новые мебели из Москвы; завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики; завтрак стал иначе подаваться; иностранные вина изгнали водки и наливки; людям пошили новые ливреи; к фамильному гербу прибавилась подпись: «In recto virtus…»[10]. В сущности же власть Глафиры нисколько не уменьшилась: все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели; вывезенный из-за границы камердинер из эльзасцев попытался было с нею потягаться – и лишился места, несмотря на то что барин ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями (Глафира Петровна входила и в эти дела), то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение: вдохнуть новую жизнь в этот хаос, – всё осталось по-старому, только оброк кой-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот очень уж презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде; воспитание его действительно подверглось «коренному преобразованию»: отец исключительно занялся им.
XI
До возвращения Ивана Петровича из-за границы Федя находился, как уже сказано, на руках Глафиры Петровны. Ему не было восьми лет, когда мать его скончалась; он видел ее не каждый день и полюбил ее страстно: память о ней, об ее тихом и бледном лице, об ее унылых взглядах и робких ласках навеки запечатлелась в его сердце; но он смутно понимал ее положение в доме; он чувствовал, что между им и ею существовала преграда, которую она не смела и не могла разрушить. Отца он дичился, да и сам Иван Петрович никогда не ласкал его; дедушка изредка гладил его по головке и допускал к руке, но называл его букой и считал дурачком. После смерти Маланьи Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее, боялся ее светлых и зорких глаз, ее резкого голоса; он не смел пикнуть при ней; бывало, он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит: «Куда? Сиди смирно». По воскресеньям, после обедни, позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича-Амбодика, под заглавием «Символы и эмблемы». В этой книге помещалось около тысячи частью весьма загадочных рисунков, с столь же загадочными толкованиями на пяти языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них, под названием «Шафран и радуга», относилось толкование: «Действие сего есть большее»; против другого, изображавшего «Цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту», стояла надпись: «Тебе все они суть известны». «Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка» означали: «Мало-помалу». Федя рассматривал эти рисунки; все были ему знакомы до малейших подробностей; некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение; других развлечений он не знал. Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Глафира Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку с заячьими глазами, которая с грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на фортепьяно да, сверх того, отлично солила огурцы. В обществе этой наставницы, тетки да старой сенной девушки Васильевны провел Федя целых четыре года. Бывало, сидит он в уголке с своими «Эмблемами» – сидит… сидит; в низкой комнате пахнет гераниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит однообразно, словно скучает, маленькие часы торопливо чикают на стене, мышь украдкой скребется и грызет за обоями, а три старые девы, словно парки, молча и быстро шевелят спицами, тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, и странные, также полутемные мысли роятся в голове ребенка. Никто бы не назвал Федю интересным дитятей: он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и неловок, – настоящий мужик, по выражению Глафиры Петровны; бледность скоро бы исчезла с его лица, если б его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно, хотя часто ленился; он никогда не плакал; зато по временам находило на него дикое упрямство; тогда уже никто не мог с ним сладить. Федя не любил никого из окружавших его… Горе сердцу, не любившему смолоду!
Таким-то нашел его Иван Петрович и, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. «Я из него хочу сделать человека прежде всего, un homme, – сказал он Глафире Петровне, – и не только человека, но спартанца». Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски: двенадцатилетний малый стал ходить с обнаженными икрами и с петушьим пером на складном картузе; шведку заменил молодой швейцарец, изучивший гимнастику до совершенства; музыку, как занятие недостойное мужчины, изгнали навсегда; естественные науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совету Жан Жака Руссо, и геральдика, для поддержания рыцарских чувств, – вот чем должен был заниматься будущий «человек»; его будили в четыре часа утра, тотчас окачивали холодною водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке; ел он раз в день по одному блюду, ездил верхом, стрелял из арбалета; при всяком удобном случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли и каждый вечер вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления; а Иван Петрович, с своей стороны, писал ему наставления по-французски, в которых он называл его mon fils[11] и говорил ему vous[12]. По-русски Федя говорил отцу «ты», но в его присутствии не смел садиться. «Система» сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее; но зато на его здоровье новый образ жизни благодетельно подействовал: сначала он схватил горячку, но вскоре оправился и стал молодцом. Отец гордился им и называл его на своем странном наречии: сын натуры, произведение мое. Когда Феде минул шестнадцатый год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу, – и молодой спартанец, с робостью на душе, с первым пухом на губах, полный соков, сил и крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым.
Между тем время шло да шло. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках (так называлось главное его родовое имение), а по зимам приезжал в Москву один, останавливался в трактире, прилежно посещал клуб, ораторствовал и развивал свои планы в гостиных и более чем когда-либо держался англоманом, брюзгой и государственным человеком. Но настал 1825 год и много принес с собою горя. Близкие знакомые и приятели Ивана Петровича подверглись тяжким испытаниям. Иван Петрович поспешил удалиться в деревню и заперся в своем доме. Прошел еще год, и Иван Петрович вдруг захилел, ослабел, опустился; здоровье ему изменило. Вольнодумец – начал ходить в церковь и заказывать молебны; европеец – стал париться в бане, обедать в два часа, ложиться в девять, засыпать под болтовню старого дворецкого; государственный человек – сжег все свои планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и егозил перед исправником; человек с закаленною волей – хныкал и жаловался, когда у него вскакивал веред, когда ему подавали тарелку холодного супу. Глафира Петровна опять завладела всем в доме; опять начали ходить с заднего крыльца приказчики, бурмистры, простые мужики к «старой колотовке» – так прозывали ее дворовые люди. Перемена в Иване Петровиче сильно поразила его сына; ему уже пошел девятнадцатый год, и он начинал размышлять и высвобождаться из-под гнета давившей его руки. Он и прежде замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными теориями и черствым, мелким деспотизмом; но он не ожидал такого крутого перелома. Застарелый эгоист вдруг выказался весь. Молодой Лаврецкий собирался ехать в Москву, подготовиться в университет, – неожиданное, новое бедствие обрушилось на голову Ивана Петровича: он ослеп, и ослеп безнадежно, в один день.
Не доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за границу. Ему отказали. Тогда он взял с собою сына и целых три года проскитался по России от одного доктора к другому, беспрестанно переезжая из города в город и приводя в отчаяние врачей, сына, прислугу своим малодушием и нетерпением. Совершенной тряпкой, плаксивым и капризным ребенком воротился он в Лаврики. Наступили горькие денечки, натерпелись от него все. Иван Петрович утихал только, пока обедал; никогда он так жадно и так много не ел; всё остальное время он ни себе, никому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бранил себя, бранил политику, свою систему, бранил всё, чем хвастался и кичился, всё, что ставил некогда сыну в образец; твердил, что ни во что не верит, и молился снова; не выносил ни одного мгновенья одиночества и требовал от своих домашних, чтоб они постоянно, днем и ночью, сидели возле его кресел и занимали его рассказами, которые он то и дело прерывал восклицаниями: «Вы всё врете – экая чепуха!»
Особенно доставалось Глафире Петровне; он решительно не мог обойтись без нее – и она до конца исполняла все прихоти больного, хотя иногда не тотчас решалась отвечать ему, чтобы звуком голоса не выдать душившей ее злобы. Так проскрипел он еще два года и умер в первых числах мая, вынесенный на балкон, на солнце. «Глаша, Глашка! бульонцу, бульонцу, старая дур…» – пролепетал его коснеющий язык и, не договорив последнего слова, умолк навеки. Глафира Петровна, которая только что выхватила чашку бульону из рук дворецкого, остановилась, посмотрела брату в лицо, медленно, широко перекрестилась и удалилась молча; а тут же находившийся сын тоже ничего не сказал, оперся на перила балкона и долго глядел в сад, весь благовонный и зеленый, весь блестевший в лучах золотого весеннего солнца. Ему было двадцать три года; как страшно, как незаметно скоро пронеслись эти двадцать три года!.. Жизнь открывалась перед ним.
XII
Схоронив отца и поручив той же неизменной Глафире Петровне заведывание хозяйством и надзор за приказчиками, молодой Лаврецкий отправился в Москву, куда влекло его темное, но сильное чувство. Он сознавал недостатки своего воспитания и вознамерился по возможности воротить упущенное. В последние пять лет он много прочел и кое-что увидел; много мыслей перебродило в его голове; любой профессор позавидовал бы некоторым его познаниям, но в то же время он не знал многого, что каждому гимназисту давным-давно известно. Лаврецкий сознавал, что он не свободен; он втайне чувствовал себя чудаком. Недобрую шутку сыграл англоман с своим сыном; капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим; когда же наконец он разгадал его, дело уже было сделано, привычки вкоренились. Он не умел сходиться с людьми; двадцати трех лет от роду, с неукротимой жаждой любви в пристыженном сердце, он еще ни одной женщине не смел взглянуть в глаза. При его уме, ясном и здравом, но несколько тяжелом, при его наклонности к упрямству, созерцанию и лени ему бы следовало с ранних лет попасть в жизненный водоворот, а его продержали в искусственном уединении… И вот заколдованный круг расторгся, а он продолжал стоять на одном месте, замкнутый и сжатый в самом себе. Смешно было в его года надеть студентский мундир; но он не боялся насмешек: его спартанское воспитание хоть на то пригодилось, что развило в нем пренебрежение к чужим толкам, – и он надел, не смущаясь, студентский мундир. Он поступил в физико-математическое отделение. Здоровый, краснощекий, уже с заросшей бородой, молчаливый, он производил странное впечатление на своих товарищей; они и не подозревали того, что в этом суровом муже, аккуратно приезжавшем на лекции в широких деревенских санях парой, таился чуть не ребенок. Он им казался каким-то мудреным педантом, они в нем не нуждались и не искали в нем, он избегал их. В течение первых двух лет, проведенных им в университете, он сблизился только с одним студентом, у которого брал уроки в латинском языке. Студент этот, по имени Михалевич, энтузиаст и стихотворец, искренно полюбил Лаврецкого и совершенно случайно стал виновником важной перемены в его судьбе.
Однажды, в театре (Мочалов находился тогда на высоте своей славы, и Лаврецкий не пропускал ни одного представления), увидел он в ложе бельэтажа девушку, – и хотя ни одна женщина не проходила мимо его угрюмой фигуры, не заставив дрогнуть его сердце, никогда еще оно так сильно не забилось. Облокотясь на бархат ложи, девушка не шевелилась; чуткая, молодая жизнь играла в каждой черте ее смуглого, круглого, миловидного лица; изящный ум сказывался в прекрасных глазах, внимательно и мягко глядевших из-под тонких бровей, в быстрой усмешке выразительных губ, в самом положении ее головы, рук, шеи; одета она была прелестно. Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти, декольте, в черном токе, с беззубою улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице, а в углублении ложи виднелся пожилой мужчина, в широком сюртуке и высоком галстуке, с выражением тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности в маленьких глазках, с крашеными усами и бакенбардами, незначительным огромным лбом и измятыми щеками, по всем признакам отставной генерал. Лаврецкий не отводил взора от поразившей его девушки; вдруг дверь ложи отворилась, и вошел Михалевич. Появление этого человека, почти единственного его знакомого во всей Москве, появление его в обществе единственной девушки, поглотившей всё его внимание, показалось Лаврецкому знаменательно и странно. Продолжая посматривать на ложу, он заметил, что все находившиеся в ней лица обращались с Михалевичем, как с старинным приятелем. Представление на сцене переставало занимать Лаврецкого; сам Мочалов, хотя и был в тот вечер «в ударе», не производил на него обычного впечатления. В одном очень патетическом месте Лаврецкий невольно взглянул на свою красавицу: она вся наклонилась вперед, щеки ее пылали; под влиянием его упорного взора глаза ее, устремленные на сцену, медленно обратились и остановились на нем… Всю ночь мерещились ему эти глаза. Прорвалась наконец искусственно возведенная плотина; он и дрожал, и горел, и на другой же день отправился к Михалевичу. Он узнал от него, что красавицу звали Варварой Павловной Коробьиной; что старик и старуха, сидевшие с ней в ложе, были отец ее и мать и что сам он, Михалевич, познакомился с ними год тому назад, во время своего пребывания в подмосковной на «кондиции» у графа Н. С величайшей похвалой отозвался энтузиаст о Варваре Павловне. «Это, брат ты мой, – воскликнул он со свойственною ему порывистой певучестью в голосе, – эта девушка – изумительное, гениальное существо, артистка в настоящем смысле слова, и притом предобрая». Заметив из расспросов Лаврецкого, какое впечатление произвела на него Варвара Павловна, он сам предложил ему познакомить его с нею, прибавив, что он у них как свой; что генерал человек совсем не гордый, а мать так глупа, что только тряпки не сосет. Лаврецкий покраснел, пробормотал что-то невнятное и убежал. Целых пять дней боролся он со своею робостью; на шестой день молодой спартанец надел новенький мундир и отдался в распоряжение Михалевича, который, будучи своим человеком, ограничился тем, что причесал себе волосы, – и оба отправились к Коробьиным.
XIII
Отец Варвары Павловны, Павел Петрович Коробьин, генерал-майор в отставке, весь свой век провел в Петербурге на службе, слыл в молодости ловким танцором и фрунтовиком, находился, по бедности, адъютантом при двух-трех невзрачных генералах, женился на дочери одного из них, взяв тысяч двадцать пять приданого, до тонкости постиг всю премудрость учений и смотров; тянул, тянул лямку и наконец годиков через двадцать добился генеральского чина, получил полк. Тут бы ему отдохнуть и упрочить, не спеша, свое благосостояние; он на это и рассчитывал, да немножко неосторожно повел дело; он придумал было новое средство пустить в оборот казенные деньги, – средство оказалось отличное, но он не вовремя поскупился: на него донесли; вышла более чем неприятная, вышла скверная история. Кое-как отвертелся генерал от истории, но карьера его лопнула: ему посоветовали выйти в отставку. Года два потолкался он еще в Петербурге, в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место; но место на него не наскакивало; дочь вышла из института, расходы увеличивались с каждым днем… Скрепя сердце решился он переехать в Москву на дешевые хлеба, нанял в Старой Конюшенной крошечный низенький дом с саженным гербом на крыше и зажил московским отставным генералом, тратя 2750 рублей в год. Москва – город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно; грузная, но не без военной выправки, фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиных. Его голый затылок, с косицами крашеных волос и засаленной анненской лентой на галстуке цвета воронова крыла, стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам, угрюмо скитающимся во время танцев вокруг игорных столов. Павел Петрович сумел поставить себя в обществе; говорил мало, но, по старой привычке, в нос, – конечно, не с лицами чинов высших; осторожно играл в карты, дома ел умеренно, а в гостях за шестерых. О жене его почти сказать нечего; звали ее Каллиопой Карловной; из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Каллиопа Карловна (притом же она была немецкого происхождения) сама считала себя за чувствительную женщину; она постоянно чего-то всё боялась, словно недоела, и носила узкие бархатные платья, ток и тусклые дутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Каллиопы Карловны, Варваре Павловне, только что минул семнадцатый год, когда она вышла из…ского института, где считалась если не первою красавицей, то уж наверное первою умницей и лучшею музыкантшей и где получила шифр; ей еще девятнадцати лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз.
XIV
Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Коробьиных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло: в генерале врожденное всем русским добродушие еще усугублялось тою особенного рода приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям; генеральша как-то скоро стушевалась; что же касается до Варвары Павловны, то она так была спокойна и самоуверенно-ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома; притом от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз, от невинно-покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, – веяло неуловимой, как тонкий запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой, негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало, – и уже, конечно, возбуждало не робость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление; она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски-проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке; она, не чинясь, села за фортепьяно и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда; Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали; за столом генерал потчевал его хорошим лафитом, за которым генеральский лакей на извозчике скакал к Депре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой и долго сидел, не раздеваясь и закрыв глаза рукою, в оцепенении очарования. Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить; все его предположения, намерения, весь этот вздор и прах, исчезли разом; вся душа его слилась в одно чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. С того дня он часто стал ходить к Коробьиным. Полгода спустя он объяснился Варваре Павловне и предложил ей свою руку. Предложение его было принято; генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него, Лаврецкого, душ; да и Варваре Павловне, которая во всё время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, – и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат; а Каллиопа Карловна подумала: «Meine Tochter macht eine schöne Partiе»[13], – и купила себе новый ток.
XV
Итак, предложение его было принято, но с некоторыми условиями. Во-первых, Лаврецкий должен был немедленно оставить университет: кто ж выходит за студента, да и что за странная мысль – помещику, богатому, в 26 лет брать уроки, как школьнику? Во-вторых, Варвара Павловна взяла на себя труд заказать и закупить приданое, выбрать даже жениховы подарки. У ней было много практического смысла, много вкуса и очень много любви к комфорту, много уменья доставлять себе этот комфорт. Это уменье особенно поразило Лаврецкого, когда, тотчас после свадьбы, он вдвоем с женою отправился в удобной, ею купленной каретке в Лаврики. Как всё, что окружало его, было обдумано, предугадано, предусмотрено Варварой Павловной! Какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные несессеры, какие восхитительные туалетные ящики и кофейники, и как мило Варвара Павловна сама варила кофе по утрам! Впрочем, Лаврецкому было тогда не до наблюдений: он блаженствовал, упивался счастием; он предавался ему, как дитя… Он и был невинен, как дитя, этот юный Алкид. Недаром веяло прелестью от всего существа его молодой жены; недаром сулила она чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений; она сдержала больше, чем сулила. Приехавши в Лаврики в самый разгар лета, она нашла дом грязным и темным, прислугу смешною и устарелою, но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу. Если бы она располагала основаться в Лавриках, она бы всё в них переделала, начиная, разумеется, с дома; но мысль остаться в этом степном захолустье ни на миг не приходила ей в голову; она жила в нем, как в палатке, кротко перенося все неудобства и забавно подтрунивая над ними. Марфа Тимофеевна приехала повидаться с своим воспитанником; она очень понравилась Варваре Павловне, но ей Варвара Павловна не понравилась. С Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила; она бы ее оставила в покое, но старику Коробьину захотелось запустить руки в дела зятя: управлять имением такого близкого родственника, говорил он, не стыдно даже генералу. Полагать должно, что Павел Петрович не погнушался бы заняться имением и вовсе чуждого ему человека. Варвара Павловна повела свою атаку весьма искусно; не выдаваясь вперед, по-видимому вся погруженная в блаженство медовых месяцев, в деревенскую тихую жизнь, в музыку и чтение, она понемногу довела Глафиру до того, что та в одно утро вбежала, как бешеная, в кабинет Лаврецкого и, швырнув связку ключей на стол, объявила, что не в силах больше заниматься хозяйством и не хочет оставаться в деревне. Надлежащим образом подготовленный, Лаврецкий тотчас согласился на ее отъезд. Этого Глафира Петровна не ожидала. «Хорошо, – сказала она, и глаза ее потемнели, – я вижу, что я здесь лишняя! Знаю, кто меня отсюда гонит, с родового моего гнезда. Только ты помяни мое слово, племянник: не свить же и тебе гнезда нигде, скитаться тебе век. Вот тебе мой завет». В тот же день она удалилась в свою деревеньку, а через неделю прибыл генерал Коробьин и, с приятною меланхолией во взглядах и движениях, принял управление всем имением на свои руки.
В сентябре месяце Варвара Павловна увезла своего мужа в Петербург. Две зимы провела она в Петербурге (на лето они переселялись в Царское Село), в прекрасной, светлой, изящно меблированной квартире; много завели они знакомств в средних и даже высших кругах общества, много выезжали и принимали, давали прелестнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей, как огонь бабочек. Федору Иванычу не совсем-то нравилась такая рассеянная жизнь. Жена советовала ему вступить на службу; он, по старой отцовской памяти, да и по своим понятиям, не хотел служить, но в угоду Варваре Павловне оставался в Петербурге. Впрочем, он скоро догадался, что никто не мешал ему уединиться, что недаром у него самый покойный и уютный кабинет во всем Петербурге, что заботливая жена даже готова помочь ему уединяться, – и с тех пор всё пошло прекрасно. Он принялся опять за собственное, по его мнению недоконченное, воспитание, опять стал читать, приступил даже к изучению английского языка. Странно было видеть его могучую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письменным столом, его полное, волосатое, румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он проводил за работой, обедал отлично (Варвара Павловна была хозяйка хоть куда), а по вечерам вступал в очарованный, пахучий, светлый мир, весь населенный молодыми веселыми лицами, – и средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его жена. Она порадовала его рождением сына, но бедный мальчик жил недолго; он умер весной, а летом, по совету врачей, Лаврецкий повез жену за границу, на воды. Рассеяние было ей необходимо после такого несчастья, да и здоровье ее требовало теплого климата. Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как роза, и так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить себе гнездышко. Квартиру она нашла премиленькую, в одной из тихих, но модных улиц Парижа; мужу сшила такой шлафрок, какого он еще и не нашивал; наняла щегольскую служанку, отличную повариху, расторопного лакея; приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино. Не прошло недели, как уже она перебиралась через улицу, носила шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки. И знакомыми она скоро обзавелась. Сперва к ней ездили одни русские, потом стали появляться французы, весьма любезные, учтивые, холостые, с прекрасными манерами, с благозвучными фамилиями; все они говорили скоро и много, развязно кланялись, приятно щурили глаза; белые зубы сверкали у всех под розовыми губами, – и как они умели улыбаться! Каждый из них приводил своих друзей, и la belle madame de Lavretzki[14] скоро стала известна от Chausseed’Antin до Rue de Lille[15]. В те времена (дело происходило в 1836 году) еще не успело развестись племя фельетонистов и хроникеров, которое теперь кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке; но уж тогда появлялся в салоне Варвары Павловны некто m-r Jules, неблаговидной наружности господин, с скандалезной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди. Этот m-r Jules был очень противен Варваре Павловне, но она его принимала, потому что он пописывал в разных газетах и беспрестанно упоминал о ней, называя ее то m-me de L…tzki, то m-me de***, cette grande dame russe si distinguee, qui demeure rue dee Р…[16]; рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела до m-me de L…tzki, как эта дама, настоящая по уму француженка (une vraie franзaise par l’esprit) – выше этого у французов похвал нет – мила и любезна, какая она необыкновенная музыкантша и как она удивительно вальсирует (Варвара Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца за краями своей легкой, улетающей одежды)… словом, пускал о ней молву по миру, – а ведь это, что ни говорите, приятно. Девица Марс уже сошла тогда со сцены, а девица Рашель еще не появлялась; тем не менее Варвара Павловна прилежно посещала театры. Она приходила в восторг от итальянской музыки и смеялась над развалинами Одри, прилично зевала во Французской комедии и плакала от игры г-жи Дорваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме; а главное, Лист у ней играл два раза и так был мил, так прост – прелесть! В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору. Федор Иваныч, с своей стороны, не скучал, хотя жизнь подчас тяжела становилась у него на плечах, – тяжела, потому что пуста. Он читал газеты, слушал лекции в Sorbonne и College de France, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об ирригациях. «Я не теряю времени, – думал он, – всё это полезно; но к будущей зиме надобно непременно вернуться в Россию и приняться за дело». Трудно сказать, ясно ли он сознавал, в чем, собственно, состояло это дело, и Бог знает, удалось ли бы ему вернуться в Россию к зиме; пока он ехал с женою в Баден-Баден… Неожиданный случай разрушил все его планы.
XVI
Войдя однажды в отсутствие Варвары Павловны в ее кабинет, Лаврецкий увидал на полу маленькую, тща тельно сложенную бумажку. Он машинально ее поднял, машинально развернул и прочел следующее, написанное на французском языке:
«Милый ангел Бетси! (я никак не решаюсь назвать тебя Barbe или Варвара – Varvara). Я напрасно прождал тебя на углу бульвара; приходи завтра в половине второго на нашу квартирку. Твой добрый толстяк (ton gros bonhomme de mari) об эту пору обыкновенно зарывается в свои книги; мы опять споем ту песенку вашего поэта Пускина (de votre poete Pouskine), которой ты меня научила: «Старый муж, грозный муж!» – Тысячу поцелуев твоим ручкам и ножкам. Я жду тебя.
Эрнест».
Лаврецкий не сразу понял, что такое он прочел; прочел во второй раз – и голова у него закружилась, пол заходил под ногами, как палуба корабля во время качки. Он и закричал, и задохнулся, и заплакал в одно мгновение.
Он обезумел. Он так слепо доверял своей жене; возможность обмана, измены никогда не представлялась его мысли. Этот Эрнест, этот любовник его жены, был белокурый, смазливый мальчик лет двадцати трех, со вздернутым носиком и тонкими усиками, едва ли не самый ничтожный изо всех ее знакомых. Прошло несколько минут, прошло полчаса; Лаврецкий всё стоял, стискивая роковую записку в руке и бессмысленно глядя на пол; сквозь какой-то темный вихрь мерещились ему бледные лица; мучительно замирало сердце; ему казалось, что он падал, падал, падал… и конца не было. Знакомый легкий шум шелкового платья вывел его из оцепенения; Варвара Павловна, в шляпе и шали, торопливо возвращалась с прогулки. Лаврецкий затрепетал весь и бросился вон; он почувствовал, что в это мгновенье он был в состоянии истерзать ее, избить ее до полусмерти, по-мужицки, задушить ее своими руками. Изумленная Варвара Павловна хотела остановить его; он мог только прошептать: «Бетси» – и выбежал из дому.
Лаврецкий взял карету и велел везти себя за город. Весь остаток дня и всю ночь до утра пробродил он, беспрестанно останавливаясь и всплескивая руками: он то безумствовал, то ему становилось как будто смешно, даже как будто весело. Утром он прозяб и зашел в дрянной загородный трактир, спросил комнату и сел на стул перед окном. Судорожная зевота напала на него. Он едва держался на ногах, тело его изнемогало, а он и не чувствовал усталости, – зато усталость брала свое: он сидел, глядел и ничего не понимал; не понимал, что с ним такое случилось, отчего он очутился один, с одеревенелыми членами, с горечью во рту, с камнем на груди, в пустой незнакомой комнате; он не понимал, что заставило ее, Варю, отдаться этому французу, и как могла она, зная себя неверной, быть по-прежнему спокойной, по-прежнему ласковой и доверчивой с ним! «Ничего не понимаю! – шептали его засохшие губы. – Кто мне поручится теперь, что в Петербурге…» И он не доканчивал вопроса и зевал опять, дрожа и пожимаясь всем телом. Светлые и темные воспоминания одинаково его терзали; ему вдруг пришло в голову, что на днях она при нем и при Эрнесте села за фортепьяно и спела: «Старый муж, грозный муж!» Он вспомнил выражение ее лица, странный блеск глаз и краску на щеках, – и он поднялся со стула, он хотел пойти, сказать им: «Вы со мной напрасно пошутили; прадед мой мужиков за ребра вешал, а дед мой сам был мужик», – да убить их обоих. То вдруг ему казалось, что всё, что с ним делается, сон, и даже не сон, а так, вздор какой-то; что стоит только встряхнуться, оглянуться… Он оглядывался, и, как ястреб когтит пойманную птицу, глубже и глубже врезывалась тоска в его сердце. К довершению всего Лаврецкий через несколько месяцев надеялся быть отцом… Прошедшее, будущее, вся жизнь была отравлена. Он вернулся наконец в Париж, остановился в гостинице и послал Варваре Павловне записку г-на Эрнеста с следующим письмом:
«Прилагаемая бумажка вам объяснит всё. Кстати скажу вам, что я не узнал вас: вы, такая всегда аккуратная, роняете такие важные бумаги. (Эту фразу бедный Лаврецкий готовил и лелеял в течение нескольких часов.) Я не могу больше вас видеть; полагаю, что и вы не должны желать свидания со мною. Назначаю вам 15 000 франков в год; больше дать не могу. Присылайте ваш адрес в деревенскую контору. Делайте что хотите; живите где хотите. Желаю вам счастия. Ответа не нужно».
Лаврецкий написал жене, что не нуждается в ответе… но он ждал, он жаждал ответа, объяснения этого непонятного, непостижимого дела. Варвара Павловна в тот же день прислала ему большое французское письмо. Оно его доконало; последние его сомнения исчезли – и ему стало стыдно, что у него оставались еще сомнения. Варвара Павловна не оправдывалась: она желала только увидать его, умоляла не осуждать ее безвозвратно. Письмо было холодно и напряженно, хотя кой-где виднелись пятна слез. Лаврецкий усмехнулся горько и велел сказать через посланного, что всё очень хорошо. Три дня спустя его уже не было в Париже: но он поехал не в Россию, а в Италию. Он сам не знал, почему он выбрал именно Италию; ему, в сущности, было всё равно, куда ни ехать – лишь бы не домой. Он послал предписание своему бурмистру насчет жениной пенсии, приказывая ему в то же время немедленно принять от генерала Коробьина все дела по имению, не дожидаясь сдачи счетов, и распорядиться о выезде его превосходительства из Лавриков; живо представил он себе смущение, тщетную величавость изгоняемого генерала и, при всем своем горе, почувствовал некоторое злобное удовольствие. Тогда же попросил он в письме Глафиру Петровну вернуться в Лаврики и отправил на ее имя доверенность; Глафира Петровна в Лаврики не вернулась и сама припечатала в газетах об уничтожении доверенности, что было совершенно излишне. Скрываясь в небольшом италианском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женою. Из газет он узнал, что она из Парижа поехала, как располагала, в Баден-Баден; имя ее скоро появилось в статейке, подписанной тем же мусье Жюлем. В этой статейке сквозь обычную игривость проступало какое-то дружественное соболезнование; очень гадко сделалось на душе Федора Иваныча при чтении этой статейки. Потом он узнал, что у него родилась дочь; месяца через два получил он от бурмистра извещение о том, что Варвара Павловна вытребовала себе первую треть своего жалованья. Потом стали ходить всё более и более дурные слухи; наконец с шумом пронеслась по всем журналам трагикомическая история, в которой жена его играла незавидную роль. Всё было кончено: Варвара Павловна стала «известностью».
Лаврецкий перестал следить за нею, но не скоро мог с собою сладить. Иногда такая брала его тоска по жене, что он, казалось, всё бы отдал, даже, пожалуй… простил бы ее, лишь бы услышать снова ее ласковый голос, почувствовать снова ее руку в своей руке. Однако время шло недаром. Он не был рожден страдальцем; его здоровая природа вступила в свои права. Многое стало ему ясно; самый удар, поразивший его, не казался ему более непредвиденным; он понял свою жену, – близкого человека только тогда и поймешь вполне, когда с ним расстанешься. Он опять мог заниматься, работать, хотя уже далеко не с прежним рвением: скептицизм, подготовленный опытами жизни, воспитанием, окончательно забрался в его душу. Он стал очень равнодушен ко всему. Прошло года четыре, и он почувствовал себя в силах возвратиться на родину, встретиться с своими. Не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, прибыл он в город О…, где мы расстались с ним и куда мы просим теперь благосклонного читателя вернуться вместе с нами.
XVII
На другое утро, после описанного нами дня, часу в десятом, Лаврецкий всходил на крыльцо калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпке и в перчатках.
– Куда вы? – спросил он ее.
– К обедне. Сегодня воскресенье.
– А разве вы ходите к обедне?
Лиза молча, с изумлением посмотрела на него.
– Извините, пожалуйста, – проговорил Лаврецкий, – я… я не то хотел сказать, я пришел проститься с вами, я через час еду в деревню.
– Ведь это отсюда недалеко? – спросила Лиза.
– Верст двадцать пять.
На пороге двери появилась Леночка в сопровождении горничной.
– Смотрите, не забывайте нас, – промолвила Лиза и спустилась с крыльца.
– И вы не забывайте меня. Да послушайте, – прибавил он, – вы идете в церковь: помолитесь, кстати, и за меня.
Лиза остановилась и обернулась к нему.
– Извольте, – сказала она, прямо глядя ему в лицо, я помолюсь и за вас. Пойдем, Леночка.
В гостиной Лаврецкий застал Марью Дмитриевну одну. От нее пахло одеколоном и мятой. У ней, по ее словам, болела голова, и ночь она провела беспокойно. Она приняла его с обычною своею томной любезностью и понемногу разговорилась.
– Не правда ли, – спросила она его, – какой Владимир Николаич приятный молодой человек?
– Какой это Владимир Николаич?
– Да Паншин, вот что вчера здесь был. Вы ему ужасно понравились; я вам скажу по секрету, mon cher cousin[17] он просто без ума от моей Лизы. Что ж? Он хорошей фамилии, служит прекрасно, умен, ну, камер-юнкер, и если на то будет воля Божия… я, с своей стороны, как мать, очень буду рада. Ответственность, конечно, большая; конечно, от родителей зависит счастие детей, да ведь и то сказать: до сих пор худо ли, хорошо ли, а ведь всё я, везде я одна как есть: и воспитала-то детей, и учила их, всё я… я вот и теперь мамзель от госпожи Болюс выписала…
Марья Дмитриевна пустилась в описание своих забот, стараний, своих материнских чувств. Лаврецкий слушал ее молча и вертел в руках шляпу. Его холодный, тяжелый взгляд смутил разболтавшуюся барыню.
– А Лиза как вам нравится? – спросила она.
– Лизавета Михайловна прекраснейшая девица, – возразил Лаврецкий, встал, откланялся и зашел к Марфе Тимофеевне. Марья Дмитриевна с неудовольствием посмотрела ему вслед и подумала: «Экой тюлень, му жик! Ну, теперь я понимаю, почему его жена не могла остаться ему верной».
Марфа Тимофеевна сидела у себя в комнате, окруженная своим штатом. Он состоял из пяти существ, почти одинаково близких ее сердцу: из толстозобого ученого снегиря, которого она полюбила за то, что он перестал свистать и таскать воду, маленькой, очень пугливой и смирной собачонки Роской, сердитого кота Матроса, черномазой вертлявой девочки лет девяти, с огромными глазами и вострым носиком, которую звали Шурочкой, и пожилой женщины лет пятидесяти пяти, в белом чепце и коричневой кургузой кацавейке на темном платье, по имени Настасьи Карповны Огарковой. Шурочка была мещаночка, круглая сирота. Марфа Тимофеевна взяла ее к себе из жалости, как и Роску: и собачонку и девочку она нашла на улице; обе были худы и голодны, обеих мочил осенний дождь; за Роской никто не погнался, а Шурочку даже охотно уступил Марфе Тимофеевне ее дядя, пьяный башмачник, который сам недоедал и племянницу не кормил, а колотил по голове колодкой. С Настасьей Карповной Марфа Тимофеевна свела знакомство на богомолье, в монастыре; сама подошла к ней в церкви (она понравилась Марфе Тимофеевне за то, что, по ее словам, очень вкусно молилась), сама с ней заговорила и пригласила ее к себе на чашку чаю. С того дня она уже не расставалась с ней. Настасья Карповна была женщина самого веселого и кроткого нрава, вдова, бездетная, из бедных дворянок; голову имела круглую, седую, мягкие белые руки, мягкое лицо с крупными, добрыми чертами и несколько смешным, вздернутым носом; она благоговела перед Марфой Тимофеевной, и та ее очень любила, хотя подтрунивала над ее нежным сердцем: она чувствовала слабость ко всем молодым людям и невольно краснела, как девочка, от самой невинной шутки. Весь ее капиталец состоял из тысячи двухсот рублей ассигнациями; она жила на счет Марфы Тимофеевны, но на ровной с ней ноге; Марфа Тимофеевна не вынесла бы подобострастья.
– А! Федя! – начала она, как только увидала его. – Вчера вечером ты не видел моей семьи: полюбуйся. Мы все к чаю собрались; это у нас второй, праздничный чай.
Всех поласкать можешь; только Шурочка не дастся, а кот оцарапает. Ты сегодня едешь?
– Сегодня. – Лаврецкий присел на низкое стульце. – Я уже с Марьей Дмитриевной простился. Я и Лизавету Михайловну видел.
– Зови ее Лизой, отец мой, что за Михайловна она для тебя? Да сиди смирно, а то ты Шурочкин стул сломаешь.
– Она к обедне шла, – продолжал Лаврецкий. – Разве она богомольна?
– Да, Федя, очень. Больше нас с тобою, Федя.
– А вы разве не богомольны? – заметила, пришепетывая, Настасья Карповна. – И сегодня к ранней обедне не пошли, а к поздней пойдете.
– Ан нет, – ты одна пойдешь: обленилась я, мать моя, – возразила Марфа Тимофеевна, – чаем уж очень себя балую. – Она говорила Настасье Карповне «ты», хотя и жила с ней на ровной ноге – недаром же она была Пестова: трое Пестовых значатся в синодике Ивана Васильевича Грозного; Марфа Тимофеевна это знала.
– Скажите, пожалуйста, – начал опять Лаврецкий, – мне Марья Дмитриевна сейчас говорила об этом… как, бишь, его?.. Паншине. Что это за господин?
– Экая она болтушка, прости Господи! – проворчала Марфа Тимофеевна, – чай, под секретом тебе сообщила, что вот, мол, какой навертывается жених. Шушукала бы с своим поповичем; нет, видно, ей мало. И ведь нет еще ничего, да и слава Богу! а она уже болтает.
– Почему же слава Богу? – спросил Лаврецкий.
– А потому, что молодец мне не нравится; да и чему тут радоваться?
– Не нравится он вам?
– Да, не всех же ему пленять. Будет с него и того, что вот Настасья Карповна в него влюблена.
Бедная вдова вся всполошилась.
– Что вы это, Марфа Тимофеевна, Бога вы не боитесь! – воскликнула она, и румянец мгновенно разлился у ней по лицу и по шее.
– И ведь знает, плут, – перебила ее Марфа Тимофеевна, – знает, чем ее прельстить: табакерку ей подарил. Федя, попроси у ней табачку понюхать; ты увидишь, табакерка какая славная: на крышке гусар на коне представлен. Уж ты лучше, мать моя, не оправдывайся.
Настасья Карповна только руками отмахивалась.
– Ну, а Лиза, – спросил Лаврецкий, – к нему неравнодушна?
– Кажется, он ей нравится, а впрочем, Господь ее ведает! Чужая душа, ты знаешь, темный лес, а девичья и подавно. Вот и Шурочкину душу – поди разбери! Зачем она прячется, а не уходит, с тех пор как ты пришел?
Шурочка фыркнула подавленным смехом и выскочила вон, а Лаврецкий поднялся с своего места.
– Да, – промолвил он с расстановкой, – девичью душу не разгадаешь.
Он стал прощаться.
– Что ж? Скоро мы тебя увидим? – спросила Марфа Тимофеевна.
– Как придется, тетушка: тут ведь недалеко.
– Да, ведь ты в Васильевское едешь. Ты не хочешь жить в Лавриках – ну, это твое дело; только съезди ты, поклонись гробу матери твоей, да и бабкину гробу кстати. Ты там, за границей, всякого ума набрался, а кто знает, может быть, они и почувствуют в своих могилках, что ты к ним пришел. Да не забудь, Федя, по Глафире Петровне тоже панафиду отслужить; вот тебе и целковый. Возьми, возьми, это я по ней хочу отслужить панафиду. Я ее при жизни не любила, а нечего сказать, с характером была девка. Умница была; ну и тебя не обидела. А теперь ступай с Богом, а то я тебе надоем.
И Марфа Тимофеевна обняла своего племянника.
– А Лизе за Паншиным не быть, не беспокойся; не такого мужа она стоит.
– Да я нисколько и не беспокоюсь, – отвечал Лаврецкий и удалился.
XVIII
Часа четыре спустя он ехал домой. Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. Недели две как стояла засуха; тонкий туман разливался молоком в воздухе и застилал отдаленные леса; от него пахло гарью. Множество темноватых тучек с неясно обрисованными краями расползались по бледно-голубому небу; довольно крепкий ветер мчался сухой непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей, с тупой подозрительностью взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником, полынью и полевой рябиной; он глядел… и эта свежая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы – вся эта, давно им не виданная, русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением. Мысли его медленно бродили; очертания их были так же неясны и смутны, как очертания тех высоких, тоже как будто бы бродивших, тучек. Вспомнил он свое детство, свою мать, вспомнил, как она умирала, как поднесли его к ней и как она, прижимая его голову к своей груди, начала было слабо голосить над ним, да взглянула на Глафиру Петровну – и умолкла. Вспомнил он отца, сперва бодрого, всем недовольного, с медным голосом, потом слепого, плаксивого, с неопрятной седой бородой; вспомнил, как он однажды за столом, выпив лишнюю рюмку вина и залив себе салфетку соусом, вдруг засмеялся и начал, мигая ничего не видевшими глазами и краснея, рассказывать про свои победы; вспомнил Варвару Павловну – и невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой. Потом мысль его остановилась на Лизе.
«Вот, – подумал он, – новое существо только что вступает в жизнь. Славная девушка, что-то из нее выйдет? Она и собой хороша. Бледное, свежее лицо, глаза и губы такие серьезные, и взгляд честный и невинный. Жаль, она, кажется, восторженна немножко. Рост славный, и так легко ходит, и голос тихий. Очень я люблю, когда она вдруг остановится, слушает со вниманием, без улыбки, потом задумается и откинет назад свои волосы. Точно, мне самому сдается, Паншин ее не стоит. Однако чем же он дурен? А впрочем, чего я размечтался?
Побежит и она по той же дорожке, по какой все бегают. Лучше я сосну». И Лаврецкий закрыл глаза.
Заснуть он не мог, но погрузился в дремотное дорожное онемение. Образы прошедшего по-прежнему, не спеша, поднимались, всплывали в его душе, мешаясь и путаясь с другими представлениями. Лаврецкий, Бог знает почему, стал думать о Роберте Пиле… о французской истории… о том, как бы он выиграл сражение, если б он был генералом; ему чудились выстрелы и крики… Голова его скользила набок, он открывал глаза… Те же поля, те же степные виды; стертые подковы пристяжных попеременно сверкают сквозь волнистую пыль; рубаха ямщика, желтая, с красными ластовицами, надувается от ветра… «Хорош возвращаюсь я на родину», – промелькнуло у Лаврецкого в голове, и он закричал: «Пошел!» – запахнулся в шинель и плотнее прижался к подушке. Тарантас толкнуло: Лаврецкий выпрямился и широко раскрыл глаза. Перед ним на пригорке тянулась небольшая деревенька; немного вправо виднелся ветхий господский домик с закрытыми ставнями и кривым крылечком; по широкому двору, от самых ворот, росла крапива, зеленая и густая, как конопля; тут же стоял дубовый, еще крепкий амбарчик. Это было Васильевское.
Ямщик повернул к воротам, остановил лошадей; лакей Лаврецкого приподнялся на козлах и, как бы готовясь соскочить, закричал: «Гей!» Раздался сиплый, глухой лай, но даже собаки не показалось; лакей снова приготовился соскочить и снова закричал: «Гей!» Повторился дряхлый лай, и, спустя мгновенье, на двор, неизвестно откуда, выбежал человек в нанковом кафтане, с белой как снег головой; он посмотрел, защищая глаза от солнца, на тарантас, ударил себя вдруг обеими руками по ляжкам, сперва немного заметался на месте, потом бросился отворять ворота. Тарантас въехал на двор, шурша колесами по крапиве, и остановился перед крыльцом. Белоголовый человек, весьма, по-видимому, юркий, уже стоял, широко и криво расставив ноги, на последней ступеньке, отстегнул передок, судорожно дернув кверху кожу, и, помогая барину спуститься на землю, поцеловал у него руку.
– Здравствуй, здравствуй, брат, – проговорил Лаврецкий, – тебя, кажется, Антоном зовут? Ты жив еще?
Старик молча поклонился и побежал за ключами. Пока он бегал, ямщик сидел неподвижно, сбочась и поглядывая на запертую дверь; а лакей Лаврецкого как спрыгнул, так и остался в живописной позе, закинув одну руку на козлы. Старик принес ключи и, без всякой нужды изгибаясь, как змея, высоко поднимая локти, отпер дверь, посторонился и опять поклонился в пояс.
«Вот я и дома, вот я и вернулся», – подумал Лаврецкий, входя в крошечную переднюю, между тем как ставни со стуком и визгом отворялись один за другим и дневной свет проникал в опустелые покои.
XIX
Небольшой домик, куда приехал Лаврецкий и где два года тому назад скончалась Глафира Петровна, был выстроен в прошлом столетии, из прочного соснового леса; он на вид казался ветхим, но мог простоять еще лет пятьдесят или более. Лаврецкий обошел все комнаты и, к великому беспокойству старых, вялых мух с белой пылью на спине, неподвижно сидевших под притолоками, велел всюду открыть окна: с самой смерти Глафиры Петровны никто не отпирал их. Всё в доме осталось, как было: тонконогие белые диванчики в гостиной, обитые глянцевитым серым штофом, протертые и продавленные, живо напоминали екатерининские времена; в гостиной же стояло любимое кресло хозяйки, с высокой и прямой спинкой, к которой она и в старости не прислонялась. На главной стене висел старинный портрет Федорова прадеда, Андрея Лаврецкого; темное, желчное лицо едва отделялось от почерневшего и покоробленного фона; небольшие злые глаза угрюмо глядели из-под нависших, словно опухших, век; черные волосы без пудры щеткой вздымались над тяжелым, изрытым лбом. На угле портрета висел венок из запыленных иммортелей. «Сами Глафира Петровна изволили плести», – доложил Антон. В спальне возвышалась узкая кровать, под пологом из стародавней, весьма добротной полосатой материи; горка полинялых подушек и стеганое жидкое одеяльце лежали на кровати, а у изголовья висел образ «Введение во храм Пресвятой Богородицы» – тот самый образ, к которому старая девица, умирая одна и всеми забытая, в последний раз приложилась уже хладеющими губами. Туалетный столик из штучного дерева, с медными бляхами и кривым зеркальцем, с почернелой позолотой, стоял у окна. Рядом с спальней находилась образная, маленькая комнатка, с голыми стенами и тяжелым киотом в угле; на полу лежал истертый, закапанный воском коверчик; Глафира Петровна клала на нем земные поклоны. Антон отправился с лакеем Лаврецкого отпирать конюшню и сарай; на место его явилась старушка, чуть ли не ровесница ему, повязанная платком по самые брови; голова ее тряслась и глаза глядели тупо, но выражали усердие, давнишнюю привычку служить безответно, и в то же время – какое-то почтительное сожаление. Она подошла к ручке Лаврецкого и остановилась у двери в ожидании приказаний. Он решительно не помнил, как ее звали, не помнил даже, видел ли ее когда-нибудь; оказалось, что ее звали Апраксеей; лет сорок тому назад та же Глафира Петровна сослала ее с барского двора и велела ей быть птичницей; впрочем, она говорила мало, словно из ума выжила, а глядела подобострастно. Кроме этих двух стариков да трех пузатых ребятишек в длинных рубашонках, Антоновых правнуков, жил еще на барском дворе однорукий бестягольный мужичонка; он бормотал, как тетерев, и не был способен ни на что; не многим полезнее его была дряхлая собака, приветствовавшая лаем возвращение Лаврецкого: она уже лет десять сидела на тяжелой цепи, купленной по распоряжению Глафиры Петровны, и едва-едва была в состоянии двигаться и влачить свою ношу. Осмотрев дом, Лаврецкий вышел в сад и остался им доволен. Он весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной; но в нем было много тени, много старых лип, которые поражали своею громадностью и странным расположением сучьев; они были слишком тесно посажены и когда-то – лет сто тому назад – стрижены. Сад оканчивался небольшим светлым прудом с каймой из высокого красноватого тростника. Следы человеческой жизни глохнут очень скоро: усадьба Глафиры Петровны не успела одичать, но уже казалась погруженной в ту тихую дрему, которой дремлет всё на земле, где только нет людской, беспокойной заразы. Федор Иваныч прошелся также по деревне; бабы глядели на него с порогу своих изб, подпирая щеку рукою; мужики издали кланялись, дети бежали прочь, собаки равнодушно лаяли. Ему наконец захотелось есть; но он ожидал свою прислугу и повара только к вечеру; обоз с провизией из Лавриков еще не прибывал, – пришлось обратиться к Антону. Антон сейчас распорядился: поймал, зарезал и ощипал старую курицу; Апраксея долго терла и мыла ее, стирая ее, как белье, прежде чем положила ее в кастрюлю; когда она наконец сварилась, Антон накрыл и убрал стол, поставил перед прибором почерневшую солонку аплике о трех ножках и граненый графинчик с круглой стеклянной пробкой и узким горлышком; потом доложил Лаврецкому певучим голосом, что кушанье готово, – и сам стал за его стулом, обвернув правый кулак салфеткой и распространяя какой-то крепкий, древний запах, подобный запаху кипарисового дерева. Лаврецкий отведал супу и достал курицу; кожа ее была вся покрыта крупными пупырушками; толстая жила шла по каждой ноге, мясо отзывалось древесиной и щелоком. Пообедав, Лаврецкий сказал, что он выпил бы чаю, если… «Сею минуту-с подам-с», – перебил его старик – и сдержал свое обещание. Сыскалась щепотка чаю, завернутая в клочок красной бумажки; сыскался небольшой, но прерьяный и шумливый самоварчик, сыскался и сахар в очень маленьких, словно обтаявших кусках. Лаврецкий напился чаю из большой чашки; он еще с детства помнил эту чашку: игорные карты были изображены на ней, из нее пили только гости, – и он пил из нее, словно гость. К вечеру прибыла прислуга; Лаврецкому не захотелось лечь в теткиной кровати; он велел постлать себе постель в столовой. Погасив свечку, он долго глядел вокруг себя и думал невеселую думу; он испытывал чувство, знакомое каждому человеку, которому приходится в первый раз ночевать в давно необитаемом месте; ему казалось, что обступившая его со всех сторон темнота не могла привыкнуть к новому жильцу, что самые стены дома недоумевают. Наконец он вздохнул, натянул на себя одеяло и заснул. Антон дольше всех остался на ногах; он долго шептался с Апраксеей, охал вполголоса, раза два перекрестился; они оба не ожидали, чтобы барин поселился у них в Васильевском, когда у него под боком было такое славное именье с отлично устроенной усадьбой; они и не подозревали, что самая эта усадьба была противна Лаврецкому; она возбуждала в нем тягостные воспоминания. Нашептавшись вдоволь, Антон взял палку, поколотил по висячей, давно безмолвной доске у амбара и тут же прикорнул на дворе, ничем не прикрыв свою белую голову. Майская ночь была тиха и ласкова, – и сладко спалось старику.
XX
На другой день Лаврецкий встал довольно рано, потолковал со старостой, побывал на гумне, велел снять цепь с дворовой собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла от своей конуры, – и, вернувшись домой, погрузился в какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. «Вот когда я попал на самое дно реки», – сказал он самому себе не однажды. Он сидел под окном, не шевелился и словно прислушивался к теченью тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивой кто-то напевает тонким-тонким голоском; комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар всё пищит; сквозь дружное, назойливо жалобное жужжанье мух раздается гуденье толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок; петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту, простучала телега, на деревне скрыпят ворота. «Чего?» – задребезжал вдруг бабий голос. «Ох ты, мой сударик», – говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчит на руках. «Квас неси», – повторяет тот же бабий голос, – и вдруг находит тишина мертвая; ничто не стукнет, не шелохнется; ветер листком не шевельнет; ласточки несутся без крика одна за другой по земле, и печально становится на душе от их безмолвного налета. «Вот когда я на дне реки, – думает опять Лаврецкий. – И всегда, во всякое время тиха и неспешна здесь жизнь, – думает он, – кто входит в ее круг – покоряйся: здесь незачем волноваться, нечего мутить; здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши! Вот тут, под окном, коренастый лопух лезет из густой травы; над ним вытягивает зоря свой сочный стебель, богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри; а там, дальше, в полях, лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле. На женскую любовь ушли мои лучшие года, – продолжает думать Лаврецкий, – пусть же вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело». И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая – и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то; тишина обнимает его со всех сторон, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем; кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь; здесь та же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам; и до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшем таяла в его душе, как весенний снег, и – странное дело! – никогда не было в нем так глубоко и сильно чувство родины.
XXI
В течение двух недель Федор Иваныч привел домик Глафиры Петровны в порядок, расчистил двор, сад; из Лавриков привезли ему удобную мебель, из города вино, книги, журналы; на конюшне появились лошади; словом, Федор Иваныч обзавелся всем нужным и начал жить – не то помещиком, не то отшельником. Дни его проходили однообразно; но он не скучал, хотя никого не видел; он прилежно и внимательно занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. Впрочем, он читал мало: ему приятнее было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкий садился с трубкой табаку и чашкой холодного чаю к окну; Антон становился у двери, заложив назад руки, и начинал свои неторопливые рассказы о стародавних временах, о тех баснословных временах, когда овес и рожь продавались не мерками, а в больших мешках, по две и по три копейки за мешок; когда во все стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи. «А теперь, – жаловался старик, которому уже стукнуло лет за восемьдесят, – так всё вырубили да распахали, что проехать негде». Также рассказывал Антон много о своей госпоже, Глафире Петровне: какие они были рассудительные и бережливые; как некоторый господин, молодой сосед, подделывался было к ним, часто стал наезжать, и как они для него изволили даже надевать свой праздничный чепец, с лентами цвету массака и желтое платье из трю-трю-левантина; но как потом, разгневавшись на господина соседа за неприличный вопрос: «Что, мол, должон быть у вас, сударыня, капитал?» – приказали ему от дому отказать, и как они тогда же приказали, чтоб всё после их кончины, до самомалейшей тряпицы, было представлено Федору Ивановичу. И точно, Лаврецкий нашел весь теткин скарб в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета массака и желтого платья из трю-трю-левантина. Старинных бумаг и любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной ветхой книжки, в которую дедушка его, Петр Андреич, вписывал то «Празднование в городе Санкт-Петербурге замирения, заключенного с Турецкой империей его сиятельством князем Александр Александровичем Прозоровским»; то рецепт грудного декохта с примечанием: «Сие наставление дано генеральше Прасковье Федоровне Салтыковой от протопресвитера церкви Живоначальныя троицы Феодора Авксентьевича»; то политическую новость следующего рода: «О тиграх французах что-то замолкло», – и тут же рядом: «В Московских ведомостях показано, что скончался господин премиер-маиор Михаил Петрович Колычев. Не Петра ли Васильевича Колычева сын?» Лаврецкий нашел также несколько старых календарей и сонников и таинственное сочинение г. Амбодика; много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые «Символы и эмблемы». В туалетном столике Глафиры Петровны Лаврецкий нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глубь ящика. В пакете лежали лицом к лицу пастелевый портрет его отца в молодости, с мягкими кудрями, рассыпанными по лбу, с длинными томными глазами и полураскрытым ртом, и почти стертый портрет бледной женщины в белом платье, с белым розаном в руке, – его матери. С самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. «Я, батюшка Федор Иваныч, – говаривал Лаврецкому Антон, – хоша и в господских хоромах тогда жительства не имел, а вашего прадедушку, Андрея Афанасьевича, помню, как же: мне, когда они скончались, восьмнадцатый годочек пошел. Раз я им в саду встрелся, – так даже поджилки затряслись; однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали. Барин был, что и говорить – и старшого над собой не знал. Потому была, доложу вам, у вашего прадедушки чудная така ладанка; с Афонской горы им монах ту ладанку подарил. И сказал он ему этта монах-то: «За твое, боярин, радушие сие тебе дарю; носи – и суда не бойся». Ну, да ведь тогда, батюшка, известно, какие были времена: что барин восхотел, то и творил. Бывало, кто даже из господ вздумает им перечить, так они только посмотрят на него да скажут: «Мелко плаваешь», – самое это у них было любимое слово. И жил он, ваш блаженныя памяти прадедушка, в хоромах деревянных малых; а что добра после себя оставил, серебра что, всяких запасов, все подвалы битком набиты были. Хозяин был. Тот-то графинчик, что вы похвалить изволили, их был: из него водку кушали. А вот дедушка ваш, Петр Андреич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил; всё у них пошло хинею; и жили они хуже папенькиного, и удовольствий никаких себе не производили, – а денежки все порешил, и помянуть его нечем, ложки серебряной от них не осталось, и то еще спасибо, Глафира Петровна порадела».
– А правда ли, – перебивал его Лаврецкий, – ее старой колотовкой звали?
– Да ведь кто звал! – возражал с неудовольствием Антон.
– А что, батюшка, – решился спросить однажды старик, – что наша барынька, где изволит свое пребывание иметь?
– Я развелся с женою, – проговорил с усилием Лаврецкий, – пожалуйста, не спрашивай о ней.
– Слушаю-с, – печально возразил старик.
По прошествии трех недель Лаврецкий поехал верхом в О… к Калитиным и провел у них вечер. Лемм был у них; он очень понравился Лаврецкому. Хотя, по милости отца, он ни на каком инструменте не играл, однако страстно любил музыку, музыку дельную, классическую. Паншина в тот вечер у Калитиных не было. Губернатор услал его куда-то за город. Лиза играла одна и очень отчетливо; Лемм оживился, расходился, свернул бумажку трубочкой и дирижировал. Марья Дмитриевна сперва смеялась, глядя на него, потом ушла спать; по ее словам, Бетговен слишком волновал ее нервы. В полночь Лаврецкий проводил Лемма на квартиру и просидел у него до трех часов утра. Лемм много говорил; сутулина его выпрямилась, глаза расширились и заблистали; самые волосы приподнялись над лбом. Уже так давно никто не принимал в нем участья, а Лаврецкий, видимо, интересовался им, заботливо и внимательно расспрашивал его. Старика это тронуло; он кончил тем, что показал гостю свою музыку, сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые отрывки из своих сочинений, между прочим целую положенную им на музыку балладу Шиллера «Фридолин». Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и, уезжая, пригласил его к себе погостить на несколько дней. Лемм, проводивший его до улицы, тотчас согласился и крепко пожал его руку; но, оставшись один на свежем в сыром воздухе, при только что занимавшейся заре, оглянулся, прищурился, съежился и, как виноватый, побрел в свою комнатку. «Ich bin wohl nicht klug» (я не в своем уме), – пробормотал он, ложась в свою жесткую и короткую постель. Он попытался сказаться больным, когда, несколько дней спустя, Лаврецкий заехал за ним в коляске, но Федор Иваныч вошел к нему в комнату и уговорил его. Сильнее всего подействовало на Лемма то обстоятельство, что Лаврецкий, собственно, для него велел привезти к себе в деревню фортепьяно из города.
Они вдвоем отправились к Калитиным и провели у них вечер, но уже не так приятно, как в последний раз. Паншин был там, много рассказывал о своей поездке, очень забавно передразнивал и представлял виденных им помещиков; Лаврецкий смеялся, но Лемм не выходил из своего угла, молчал, тихо шевелился весь, как паук, глядел угрюмо и тупо и оживился только тогда, когда Лаврецкий стал прощаться. Даже сидя в коляске, старик продолжал дичиться и ежиться; но тихий, теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, запах травы, березовых почек, мирное сиянье безлунного звездного неба, дружный топот и фырканье лошадей – все обаяния дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца, и он сам первый заговорил с Лаврецким.
XXII
Он стал говорить о музыке, о Лизе, потом опять о музыке. Он как будто медленнее произносил слова, когда говорил о Лизе. Лаврецкий навел речь на его сочинение и, полушутя, предложил ему написать для него либретто.
– Гм, либретто! – возразил Лемм, – нет, это не по мне: у меня уже нет той живости, той игры воображения, которая необходима для оперы; я уже теперь лишился сил моих… Но если б я мог еще что-нибудь сделать, я бы удовольствовался романсом; конечно, я желал бы хороших слов…
Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо.
– Например, – проговорил он наконец, – что-нибудь в таком роде: вы, звезды, о вы, чистые звезды!..
Лаврецкий слегка обернулся к нему лицом и стал глядеть на него.
– Вы, звезды, чистые звезды, – повторил Лемм… – вы взираете одинаково на правых и на виновных… но одни невинные сердцем, – или что-нибудь в этом роде… вас понимают, то есть нет, – вас любят. Впрочем, я не поэт, куда мне! Но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое.
Лемм отодвинул шляпу на затылок; в тонком сумраке светлой ночи лицо его казалось бледнее и моложе.
– И вы тоже, – продолжал он постепенно утихавшим голосом, – вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы, чистые, вы одни можете утешить… Нет, это всё не то! Я не поэт, – промолвил он, – но что-нибудь в этом роде…
– Мне жаль, что и я не поэт, – заметил Лаврецкий.
– Пустые мечтанья! – возразил Лемм и углубился в угол коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть.
Прошло несколько мгновений… Лаврецкий прислушался… «Звезды, чистые звезды, любовь», – шептал старик.
«Любовь», – повторил про себя Лаврецкий, задумался – и тяжело стало у него на душе.
– Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофор Федорыч, – промолвил он громко, – а как вы полагаете, этот Фридолин, после того как граф привел его к жене, ведь он тут-то и сделался ее любовником, а?
– Это вы так думаете, – возразил Лемм, – потому что, вероятно, опыт… – Он вдруг умолк и в смущении отвернулся. Лаврецкий принужденно засмеялся, тоже отвернулся и стал глядеть на дорогу.
Звезды уже начинали бледнеть и небо серело, когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. Лаврецкий проводил своего гостя в назначенную ему комнату, вернулся в кабинет и сел перед окном. В саду пел соловей свою последнюю, передрассветную песнь. Лаврецкий вспомнил, что и у Калитиных в саду пел соловей; он вспомнил также тихое движение Лизиных глаз, когда, при первых его звуках, они обратились к темному окну. Он стал думать о ней, и сердце в нем утихло. «Чистая девушка, – проговорил он вполголоса, – чистые звезды», – прибавил он с улыбкой и спокойно лег спать.
А Лемм долго сидел на своей кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, небывалая, сладкая мелодия собиралась посетить его: он уже горел и волновался, он чувствовал уже истому и сладость ее приближения… но он не дождался ее…
– Не поэт и не музыкант! – прошептал он наконец… И усталая голова его тяжело опустилась на подушку.
XXIII
На другое утро хозяин и гость пили чай в саду под старой липой.
– Маэстро! – сказал, между прочим, Лаврецкий, – вам придется скоро сочинять торжественную кантату.
– По какому случаю?
– А по случаю бракосочетания господина Паншина с Лизой. Заметили ли вы, как он вчера за ней ухаживал? Кажется, у них уже всё идет на лад.
– Этого не будет! – воскликнул Лемм.
– Почему?
– Потому что это невозможно. Впрочем, – прибавил он погодя немного, – на свете всё возможно. Особенно здесь у вас, в России.
– Россию мы оставим пока в стороне; но что же дурного находите вы в этом браке?
– Всё дурно, всё. Лизавета Михайловна девица справедливая, серьезная, с возвышенными чувствами, а он… он ди-ле-тант, одним словом.
– Да ведь она его любит?
Лемм встал со скамейки.
– Нет, она его не любит, то есть она очень чиста сердцем и не знает сама, что это значит: любить. Мадам фон Калитин ей говорит, что он хороший молодой человек, а она слушается мадам фон Калитин, потому что она еще совсем дитя, хоть ей и девятнадцать лет: молится утром, молится вечером, – и это очень похвально; но она его не любит. Она может любить одно прекрасное, а он не прекрасен, то есть душа его не прекрасна.
Лемм произнес всю эту речь связно и с жаром, расхаживая маленькими шагами взад и вперед перед чайным столиком и бегая глазами по земле.
– Дражайший маэстро! – воскликнул вдруг Лаврецкий, – мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину.
Лемм вдруг остановился.
– Пожалуйста, – начал он неверным голосом, – не шутите так надо мною. Я не безумец: я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность.
Лаврецкому стало жаль старика; он попросил у него прощения. Лемм после чая сыграл ему свою кантату, а за обедом, вызванный самим Лаврецким, опять разговорился о Лизе. Лаврецкий слушал его со вниманием и любопытством.
– Как вы думаете, Христофор Федорыч, – сказал он наконец, – ведь у нас теперь, кажется, всё в порядке, сад в полном цвету… Не пригласить ли ее сюда на день вместе с ее матерью и моей старушкой-теткой, а? Вам это будет приятно?
Лемм наклонил голову над тарелкой.
– Пригласите, – проговорил он чуть слышно.
– А Паншина не надобно?
– Не надобно, – возразил старик с почти детской улыбкой.
Два дня спустя Федор Иваныч отправился в город к Калитиным.
XXIV
Он застал всех дома, но он не тотчас объявил им о своем намерении; он хотел сперва переговорить наедине с Лизой. Случай помог ему: их оставили вдвоем в гостиной. Они разговорились; она успела уже привыкнуть к нему, – да она и вообще никого не дичилась. Он слушал ее, глядел ей в лицо и мысленно твердил слова Лемма, соглашался с ним. Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг другу человека внезапно и быстро сближаются в течение нескольких мгновений – и сознание этого сближения тотчас выражается в их взглядах, в их дружелюбных и тихих усмешках, в самых их движениях. Именно это случилось с Лаврецким и Лизой. «Вот он какой», – подумала она, ласково глядя на него; «вот ты какая», – подумал и он. А потому он не очень удивился, когда она, не без маленькой, однако, запинки, объявила ему, что давно имеет на сердце сказать ему что-то, но боится его рассердить.
– Не бойтесь, говорите, – промолвил он и остановился перед ней.
Лиза подняла на него свои ясные глаза.
– Вы такие добрые, – начала она и в то же время подумала: «Да, он точно добрый…» – Вы извините меня, я бы не должна сметь говорить об этом с вами… но как могли вы… отчего вы расстались с вашей женой?
Лаврецкий дрогнул, поглядел на Лизу и подсел к ней.
– Дитя мое, – заговорил он, – не прикасайтесь, пожалуйста, к этой ране; руки у вас нежные, а все-таки мне будет больно.
– Я знаю, – продолжала Лиза, как будто не расслушав его, – она перед вами виновата, я не хочу ее оправдывать; но как же можно разлучать то, что Бог соединил?
– Наши убеждения на этот счет слишком различны, Лизавета Михайловна, – произнес Лаврецкий довольно резко, – мы не поймем друг друга.
Лиза побледнела; всё тело ее слегка затрепетало, но она не замолчала.
– Вы должны простить, – промолвила она тихо, – если хотите, чтобы и вас простили.
– Простить! – подхватил Лаврецкий. – Вы бы сперва должны были узнать, за кого вы просите. Простить эту женщину, принять ее опять в свой дом, ее, это пустое, бессердечное существо! И кто вам сказал, что она хочет возвратиться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением… Да что тут толковать! Имя ее не должно быть произносимо вами. Вы слишком чисты, вы не в состоянии даже понять такое существо.
– Зачем оскорблять! – с усилием проговорила Лиза. Дрожь ее рук становилась видимой. – Вы сами ее оставили, Федор Иваныч.
– Но я же вам говорю, – возразил с невольным взрывом нетерпенья Лаврецкий, – вы не знаете, какое это создание!
– Так зачем же вы женились на ней? – прошептала Лиза и потупила глаза.
Лаврецкий быстро поднялся со стула.
– Зачем я женился? Я был тогда молод и неопытен; я обманулся, я увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин, я ничего не знал. Дай вам Бог заключить более счастливый брак! но поверьте, наперед ни за что нельзя ручаться.
– И я могу так же быть несчастной, – промолвила Лиза (голос ее начинал прерываться), – но тогда надо будет покориться; я не умею говорить, но если мы не будем покоряться…
Лаврецкий стиснул руки и топнул ногой.
– Не сердитесь, простите меня, – торопливо произнесла Лиза.
В это мгновенье вошла Марья Дмитриевна. Лиза встала и хотела удалиться.
– Постойте, – неожиданно крикнул ей вслед Лаврецкий. – У меня есть до вашей матушки и до вас великая просьба: посетите меня на моем новоселье. Вы знаете, я завел фортепьяно; Лемм гостит у меня; сирень теперь цветет; вы подышите деревенским воздухом и можете вернуться в тот же день, – согласны вы?
Лиза взглянула на мать, а Марья Дмитриевна приняла болезненный вид; но Лаврецкий не дал ей разинуть рта и тут же поцеловал у ней обе руки. Марья Дмитриевна, всегда чувствительная на ласку и уже вовсе не ожидавшая такой любезности от «тюленя», умилилась душою и согласилась. Пока она соображала, какой бы назначить день, Лаврецкий подошел к Лизе и, всё еще взволнованный, украдкой шепнул ей: «Спасибо, вы добрая девушка; я виноват…» И ее бледное лицо заалелось веселой и стыдливой улыбкой; глаза ее тоже улыбнулись, – она до того мгновенья боялась, не оскорбила ли она его.
– Владимир Николаич с нами может ехать? – спросила Марья Дмитриевна.
– Конечно, – возразил Лаврецкий, – но не лучше ли нам быть в своем семейном кружке?
– Да ведь, кажется… – начала было Марья Дмитриевна… – впрочем, как хотите, – прибавила она.
Решено было взять Леночку и Шурочку. Марфа Тимофеевна отказалась от поездки.
– Тяжело мне, свет, – сказала она, – кости старые ломать; и ночевать у тебя, чай, негде; да мне и не спится в чужой постели. Пусть эта молодежь скачет.
Лаврецкому уже не удалось более побывать наедине с Лизой; но он так глядел на нее, что ей и хорошо становилось, и стыдно немножко, и жалко его. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку; она задумалась, оставшись одна.
XXV
Когда Лаврецкий вернулся домой, его встретил на пороге гостиной человек высокого роста и худой, в затасканном синем сюртуке, с морщинистым, но оживленным лицом, с растрепанными седыми бакенбардами, длинным прямым носом и небольшими воспаленными глазками. Это был Михалевич, бывший его товарищ по университету. Лаврецкий сперва не узнал его, но горячо его обнял, как только тот назвал себя. Они не виделись с Москвы. Посыпались восклицания, расспросы; выступили на свет Божий давно заглохшие воспоминания. Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпивая по глотку чаю и размахивая длинными руками, Михалевич рассказал Лаврецкому свои похождения; в них не было ничего очень веселого, удачей в предприятиях своих он похвастаться не мог, – а он беспрестанно смеялся сиплым нервическим хохотом. Месяц тому назад получил он место в частной конторе богатого откупщика, верст за триста от города О…, и, узнав о возвращении Лаврецкого из-за границы, свернул с дороги, чтобы повидаться с старым приятелем. Михалевич говорил так же порывисто, как и в молодости, шумел и кипел по-прежнему. Лаврецкий упомянул было о своих обстоятельствах, но Михалевич перебил его, поспешно пробормотав: «Слышал, брат, слышал, – кто это мог ожидать?» – и тотчас перевел разговор в область общих рассуждений.
– Я, брат, – промолвил он, – завтра должен ехать; сегодня мы, уж ты извини меня, ляжем поздно. Мне хочется непременно узнать, что ты, какие твои мнения, убежденья, чем ты стал, чему жизнь тебя научила? (Михалевич придерживался еще фразеологии тридцатых годов.) Что касается до меня, я во многом изменился, брат: волны жизни упали на мою грудь, – кто, бишь, это сказал? – хотя в важном, существенном, я не изменился; я по-прежнему верю в добро, в истину; но я не только верю, – я верую теперь, да – я верую, верую. Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи; в них поэзии нет, но есть правда. Я тебе прочту мою последнюю пиесу: в ней я выразил самые задушевные мои убеждения. Слушай.
Михалевич принялся читать свое стихотворение; оно было довольно длинно и оканчивалось следующими стихами:
Новым чувствам всем сердцем отдался, Как ребенок душою я стал: И я сжег всё, чему поклонялся, Поклонился всему, что сжигал.Произнося последние два стиха, Михалевич чуть не заплакал; легкие судороги – признак сильного чувства – пробежали по его широким губам, некрасивое лицо его просветлело. Лаврецкий слушал его, слушал… дух противоречия зашевелился в нем: его раздражала всегда готовая, постоянно кипучая восторженность московского студента. Четверти часа не прошло, как уже загорелся между ними спор, один из тех нескончаемых споров, на который способны только русские люди. С оника, после многолетней разлуки, проведенной в двух различных мирах, не понимая ясно ни чужих, ни даже собственных мыслей, цепляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметах самых отвлеченных – и спорили так, как будто дело шло о жизни и смерти обоих: голосили и вопили так, что все люди всполошились в доме, а бедный Лемм, который с самого приезда Михалевича заперся у себя в комнате, почувствовал недоуменье и начал даже чего-то смутно бояться.
– Что же ты после этого? разочарованный? – кричал Михалевич в первом часу ночи.
– Разве разочарованные такие бывают? – возражал Лаврецкий, – те все бывают бледные и больные – а хочешь, я тебя одной рукой подниму?
– Ну, если не разочарований, то скептык, это еще хуже (выговор Михалевича отзывался его родиной, Малороссией). А с какого права можешь ты быть скептиком? Тебе в жизни не повезло, положим; в этом твоей вины не было: ты был рожден с душой страстной, любящей, а тебя насильственно отводили от женщин; первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть.
– Она и тебя обманула, – заметил угрюмо Лаврецкий.
– Положим, положим; я был тут орудием судьбы, – впрочем, что это я вру, – судьбы тут нету; старая привычка неточно выражаться. Но что ж это доказывает?
– Доказывает то, что меня с детства вывихнули.
– А ты себя вправь! на то ты человек, ты мужчина; энергии тебе не занимать стать! Но как бы то ни было, разве можно, разве позволительно – частный, так сказать, факт возводить в общий закон, в непреложное правило?
– Какое тут правило? – перебил Лаврецкий, – я не признаю…
– Нет, это твое правило, правило, – перебивал его в свою очередь Михалевич.
– Ты эгоист, вот что! – гремел он час спустя, – ты желал самонаслажденья, ты желал счастья в жизни, ты хотел жить только для себя…
– Что такое самонаслажденье?
– И всё тебя обмануло; всё рухнуло под твоими ногами.
– Что такое самонаслажденье? – спрашиваю я тебя.
– И оно должно было рухнуть. Ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил свой дом на зыбком песке…
– Говори ясней, без сравнений, ибо я тебя не понимаю.
– Ибо, – пожалуй, смейся, – ибо нет в тебе веры, нет теплоты сердечной; ум, всё один только копеечный ум… ты просто жалкий, отсталый вольтериянец – вот ты кто!
– Кто, я вольтериянец?
– Да, такой же, как твой отец, и сам того не подозреваешь.
– После этого, – воскликнул Лаврецкий, – я вправе сказать, что ты фанатик!
– Увы! – возразил с сокрушеньем Михалевич, – я, к несчастью, ничем не заслужил еще такого высокого наименования…
– Я теперь нашел, как тебя назвать, – кричал тот же Михалевич в третьем часу ночи, – ты не скептик, не разочарованный, не вольтериянец, ты – байбак, и ты злостный байбак, байбак с сознаньем, не наивный байбак! Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать; они и не думают ничего, а ты мыслящий человек – и лежишь; ты мог бы что-нибудь делать – и ничего не делаешь; лежишь сытым брюхом кверху и говоришь: так оно и следует, лежать-то, потому что всё, что люди ни делают, – всё вздор и ни к чему не ведущая чепуха.
– Да с чего ты взял, что я лежу? – твердил Лаврецкий, – почему ты предполагаешь во мне такие мысли?
– А сверх того, вы все, вся ваша братия, – продолжал неугомонный Михалевич, – начитанные байбаки. Вы знаете, на какую ножку немец хромает, знаете, что плохо у англичан и у французов, – и вам ваше жалкое знание в подспорье идет, лень вашу постыдную, бездействие ваше гнусное оправдывает. Иной даже гордится тем, что я, мол, вот умница – лежу, а те, дураки, хлопочут. Да! А то есть у нас такие господа – впрочем, я это говорю не на твой счет, – которые всю жизнь свою проводят в каком-то млении скуки, привыкают к ней, сидят в ней, как… как грыб в сметане, – подхватил Михалевич и сам засмеялся своему сравнению. – О, это мление скуки – гибель русских людей! Весь век собирается работать противный байбак…
– Да что ж ты бранишься! – вопил в свою очередь Лаврецкий. – Работать… делать… Скажи лучше, что делать, а не бранись, Демосфен полтавский!
– Вишь, чего захотел! Это я тебе не скажу, брат; это всякий сам должен знать, – возражал с иронией Демосфен. – Помещик, дворянин – и не знает, что делать! Веры нет, а то бы знал; веры нет – и нет откровения.
– Дай же по крайней мере отдохнуть, черт; дай оглядеться, – молил Лаврецкий.
– Ни минуты отдыха, ни секунды! – возражал с повелительным движением руки Михалевич. – Ни одной секунды! Смерть не ждет, и жизнь ждать не должна.
– И когда же, где же вздумали люди обайбачиться? – кричал он в четыре часа утра, но уже несколько осипшим голосом. – У нас! теперь! в России! когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность великая перед Богом, перед народом, перед самим собою! Мы спим, а время уходит; мы спим…
– Позволь мне тебе заметить, – промолвил Лаврецкий, – что мы вовсе не спим теперь, а скорее другим не даем спать. Мы, как петухи, дерем горло. Послушай-ка, это, никак, уже третьи кричат.
Эта выходка рассмешила и успокоила Михалевича. «До завтра», – проговорил он с улыбкой и всунул трубку в кисет. «До завтра», – повторил Лаврецкий. Но друзья еще более часу беседовали… Впрочем, голоса их не возвышались более, и речи их были тихие, грустные, добрые речи.
Михалевич уехал на другой день, как ни удерживал его Лаврецкий. Федору Ивановичу не удалось убедить его остаться; но наговорился он с ним досыта. Оказалось, что у Михалевича гроша за душой не было. Лаврецкий уже накануне с сожалением заметил в нем все признаки и привычки застарелой бедности: сапоги у него были сбиты, сзади на сюртуке недоставало одной пуговицы, руки его не ведали перчаток, в волосах торчал пух; приехавши, он и не подумал попросить умыться, а за ужином ел, как акула, раздирая руками мясо и с треском перегрызая кости своими крепкими черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему впрок, что все надежды свои он возлагал на откупщика, который взял его единственно для того, чтобы иметь у себя в конторе «образованного человека». Со всем тем Михалевич не унывал и жил себе циником, идеалистом, поэтом, искренно радея и сокрушаясь о судьбах человечества, о собственном призвании – и весьма мало заботясь о том, как бы не умереть с голоду. Михалевич женат не был, но влюблялся без счету и писал стихотворения на всех своих возлюбленных; особенно пылко воспел он одну таинственную чернокудрую «панну»… Ходили, правда, слухи, будто эта панна была простая жидовка, хорошо известная многим кавалерийским офицерам… но, как подумаешь – разве и это не всё равно?
С Леммом Михалевич не сошелся: немца, с непривычки, запугали его многошумные речи, его резкие манеры… Горемыка издали тотчас чует другого горемыку, но под старость редко сходится с ним, и это нисколько не удивительно: ему с ним нечем делиться, – даже надеждами.
Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян, ставил себя в пример, говоря, что он очистился в горниле бед, – и тут же несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины…
– С черной лилией, во всяком случае, – заметил Лаврецкий.
– Э, брат, не аристократничай, – возразил добродушно Михалевич, – а лучше благодари Бога, что и в твоих жилах течет честная плебейская кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь чистое, неземное существо, которое исторгло бы тебя из твоей апатии…
– Спасибо, брат, – промолвил Лаврецкий, – с меня будет этих неземных существ.
– Молчи, цынык! – воскликнул Михалевич.
– «Циник», – поправил его Лаврецкий.
– Именно цынык, – повторил, не смущаясь, Михалевич.
Даже сидя в тарантасе, куда вынесли его плоский, желтый, до странности легкий чемодан, он еще говорил; окутанный в какой-то испанский плащ с порыжелым воротником и львиными лапами вместо застежек, он еще развивал свои воззрения на судьбы России и водил смуглой рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия. Лошади тронулись наконец… «Помни мои последние три слова, – закричал он, высунувшись всем телом из тарантаса и стоя на балансе, – религия, прогресс, человечность!.. Прощай!» Голова его, с нахлобученной на глаза фуражкой, исчезла. Лаврецкий остался один на крыльце – и пристально глядел вдаль по дороге, пока тарантас не скрылся из виду. «А ведь он, пожалуй, прав, – думал он, возвращаясь в дом, – пожалуй что я байбак». Многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался с ним. Будь только человек добр, – его никто отразить не может.
XXVI
Два дня спустя Марья Дмитриевна, по обещанию, прибыла со всей своей молодежью в Васильевское. Девочки побежали тотчас в сад, а Марья Дмитриевна томно прошлась по комнатам и томно всё похвалила. Визит свой Лаврецкому она считала знаком великого снисхожденья, чуть не добрым поступком. Она приветливо улыбнулась, когда Антон и Апраксея, по старинной дворовой привычке, подошли к ней к ручке, и расслабленным голосом, в нос, попросила напиться чаю. К великой досаде Антона, надевшего вязаные белые перчатки, чай подал приезжей барыне не он, а наемный камердинер Лаврецкого, не понимавший, по словам старика, никаких порядков. Зато Антон за обедом взял свое: твердой стопою стал он за кресло Марьи Дмитриевны – и уже никому не уступил своего места. Давно не бывалое появление гостей в Васильевском и встревожило и обрадовало старика: ему было приятно видеть, что с его барином хорошие господа знаются. Впрочем, не он один волновался в тот день: Лемм волновался тоже. Он надел коротенький табачного цвета фрак с острым хвостиком, туго затянул свой шейный платок и беспрестанно откашливался и сторонился с приятным и приветливым видом. Лаврецкий с удовольствием заметил, что сближение между им и Лизой продолжалось: она, как только вошла, дружелюбно протянула ему руку. После обеда Лемм достал из заднего кармана фрака, куда он то и дело запускал руку, небольшой сверток нотной бумаги и, сжав губы, молча положил его на фортепьяно. Это был романс, сочиненный им накануне на старомодные немецкие слова, в которых упоминалось о звездах. Лиза тотчас села за фортепьяно и разобрала романс… Увы! музыка оказалась запутанной и неприятно напряженной; видно было, что композитор силился выразить что-то страстное, глубокое, но ничего не вышло: усилие так и осталось одним усилием. Лаврецкий и Лиза оба это почувствовали – и Лемм это понял: ни слова не сказав, положил он свой романс обратно в карман и, в ответ на предложение Лизы сыграть его еще раз, покачав только головой, значительно сказал: «Теперь – баста!» – сгорбился, съежился и отошел.
К вечеру пошли всем обществом ловить рыбу. В пруде за садом водилось много карасей и гольцов. Марью Дмитриевну посадили на кресло возле берега, в тени, постлали ей ковер под ноги, дали лучшую удочку; Антон, как старый, опытный рыболов, предложил ей свои услуги. Он усердно насаживал червяков, шлепал по ним рукою, плевал на них и даже сам закидывал удочку, грациозно наклоняясь вперед всем корпусом. Марья Дмитриевна в тот же день отозвалась о нем Федору Иванычу следующей фразой на институтско-французском языке: «Il n’у a plus maintenant de ces gens comme ça comme autrefois»[18]. Лемм с двумя девочками отправился подальше, к самой плотине; Лаврецкий поместился возле Лизы. Рыба клевала беспрестанно; выхваченные караси то и дело сверкали в воздухе своими то золотыми, то серебряными боками; радостные восклицания девочек не умолкали; сама Марья Дмитриевна изнеженно взвизгнула раза два. Реже всех бралось у Лаврецкого и у Лизы; вероятно, это происходило оттого, что они меньше других обращали внимания на ловлю и дали поплавкам своим подплыть к самому берегу. Красноватый высокий камыш тихо шелестил вокруг них, впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий. Лиза стояла на маленьком плоту; Лаврецкий сидел на наклоненном стволе ракиты; на Лизе было белое платье, перехваченное вокруг пояса широкой, тоже белой лентой; соломенная шляпа висела у ней на одной руке, – другою она с некоторым усилием поддерживала гнуткое удилище. Лаврецкий глядел на ее чистый, несколько строгий профиль, на закинутые за уши волосы, на нежные щеки, которые загорели у ней, как у ребенка, и думал: «О, как мило стоишь ты над моим прудом!» Лиза не оборачивалась к нему, а смотрела на воду и не то щурилась, не то улыбалась. Тень от близкой липы падала на обоих.
– А знаете ли, – начал Лаврецкий, – я много размышлял о нашем последнем разговоре с вами и пришел к тому заключению, что вы чрезвычайно добры.
– Я совсем не с тем намерением… – возразила было Лиза – и застыдилась.
– Вы добры, – повторил Лаврецкий. – Я топорный человек, а чувствую, что все должны вас любить. Вот хоть бы Лемм; он просто влюблен в вас.
Брови у Лизы не то чтобы нахмурились, а дрогнули; это с ней всегда случалось, когда она слышала что-нибудь неприятное.
– Очень он мне был жалок сегодня, – подхватил Лаврецкий, – с своим неудавшимся романсом. Быть молодым и не уметь – это сносно; но состариться и не быть в силах – это тяжело. И ведь обидно то, что не чувствуешь, когда уходят силы. Старику трудно переносить такие удары!.. Берегитесь, у вас клюет… Говорят, – прибавил Лаврецкий, помолчав немного, – Владимир Николаич написал очень милый романс.
– Да, – отвечала Лиза, – это безделка, но недурная.
– А как, по-вашему, – спросил Лаврецкий, – хороший он музыкант?
– Мне кажется, у него большие способности к музыке; но он до сих пор не занимался ею как следует.
– Так. А человек он хороший?
Лиза засмеялась и быстро взглянула на Федора Иваныча.
– Какой странный вопрос! – воскликнула она, вытащила удочку и далеко закинула ее снова.
– Отчего же странный? Я спрашиваю о нем у вас как человек, недавно сюда приехавший, как родственник.
– Как родственник?
– Да. Ведь я вам, кажется, довожусь дядей?
– У Владимира Николаича доброе сердце, – заговорила Лиза, – он умен; maman его очень любит.
– А вы его любите?
– Он хороший человек; отчего же мне его не любить?
– А! – промолвил Лаврецкий и умолк. Полупечальное, полунасмешливое выражение промелькнуло у него на лице. Упорный взгляд его смущал Лизу, но она продолжала улыбаться. – Ну, и дай Бог им счастья! – пробормотал он наконец, как будто про себя, и отворотил голову.
Лиза покраснела.
– Вы ошибаетесь, Федор Иваныч, – сказала она, – вы напрасно думаете… А разве вам Владимир Николаич не нравится? – спросила она вдруг.
– Не нравится.
– Отчего же?
– Мне кажется, сердца-то у него и нету.
Улыбка сошла с лица Лизы.
– Вы привыкли строго судить людей, – промолвила она после долгого молчанья.
– Я? Не думаю. Какое право имею я строго судить других, помилуйте, когда я сам нуждаюсь в снисхождении? Или вы забыли, что надо мной один ленивый не смеется?.. А что, – прибавил он, – сдержали вы свое обещание?
– Какое?
– Помолились вы за меня?
– Да, я за вас молилась и молюсь каждый день. А вы, пожалуйста, не говорите легко об этом.
Лаврецкий начал уверять Лизу, что ему это и в голову не приходило, что он глубоко уважает всякие убеждения; потом он пустился толковать о религии, о ее значении в истории человечества, о значении христианства…
– Христианином нужно быть, – заговорила не без некоторого усилия Лиза, – не для того, чтобы познавать небесное… там… земное, а для того, что каждый человек должен умереть.
Лаврецкий с невольным удивлением поднял глаза на Лизу и встретил ее взгляд.
– Какое это вы промолвили слово! – сказал он.
– Это слово не мое, – отвечала она.
– Не ваше… Но почему вы заговорили о смерти?
– Не знаю. Я часто о ней думаю.
– Часто?
– Да.
– Этого не скажешь, глядя на вас теперь: у вас такое веселое, светлое лицо, вы улыбаетесь…
– Да, мне очень весело теперь, – наивно возразила Лиза.
Лаврецкому захотелось взять ее обе руки и крепко стиснуть их…
– Лиза, Лиза, – закричала Марья Дмитриевна, – поди сюда, посмотри, какого карася я поймала.
– Сейчас, maman, – отвечала Лиза и пошла к ней, а Лаврецкий остался на своей раките. «Я говорю с ней, словно я не отживший человек», – думал он. Уходя, Лиза повесила свою шляпу на ветку; с странным, почти нежным чувством посмотрел Лаврецкий на эту шляпу, на ее длинные, немного помятые ленты. Лиза скоро к нему вернулась и опять стала на плот.
– Почему же вам кажется, что у Владимира Николаича сердца нет? – спросила она несколько мгновений спустя.
– Я вам уже сказал, что я мог ошибиться; а впрочем, время всё покажет.
Лиза задумалась. Лаврецкий заговорил о своем житье-бытье в Васильевском, о Михалевиче, об Антоне; он чувствовал потребность говорить с Лизой, сообщить ей все, что приходило ему в душу: она так мило, так внимательно его слушала; ее редкие замечания и возражения казались ему так просты и умны. Он даже сказал ей это.
Лиза удивилась.
– Право? – промолвила она, – а я так думала, что у меня, как у моей горничной Насти, своих слов нет. Она однажды сказала своему жениху: тебе должно быть скучно со мною; ты мне говоришь все такое хорошее, а у меня своих слов нету.
«И слава Богу!» – подумал Лаврецкий.
XXVII
Между тем вечер наступал, и Марья Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Девочек с трудом оторвали от пруда, снарядили. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до полдороги, и велел оседлать себе лошадь. Усаживая Марью Дмитриевну в карету, он хватился Лемма; но старика нигде не могли найти. Он тотчас исчез, как только кончилось уженье. Антон, с замечательной для его лет силой, захлопнул дверцы и сурово закричал: «Пошел, кучер!» Карета тронулась. На задних местах помещались Марья Дмитриевна и Лиза; на передних – девочки и горничная. Вечер стоял теплый и тихий, и окна с обеих сторон были опущены. Лаврецкий ехал рысью возле кареты со стороны Лизы, положив руку на дверцы – он бросил поводья на шею плавно бежавшей лошади – и изредка меняясь двумя-тремя словами с молодой девушкой. Заря исчезла; наступила ночь, а воздух даже потеплел. Марья Дмитриевна скоро задремала; девочки и горничная заснули тоже. Быстро и ровно катилась карета; Лиза наклонилась вперед; только что поднявшийся месяц светил ей в лицо, ночной пахучий ветерок дышал ей в глаза и щеки. Ей было хорошо. Рука ее опиралась на дверцы кареты рядом с рукою Лаврецкого. И ему было хорошо: он несся по спокойной ночной теплыни, не спуская глаз с доброго молодого лица, слушая молодой и в шепоте звеневший голос, говоривший простые, добрые вещи; он и не заметил, как проехал полдороги. Он не захотел будить Марью Дмитриевну, пожал слегка руку Лизы и сказал: «Ведь мы друзья теперь, не правда ли?» Она кивнула головой, он остановил лошадь. Карета покатилась дальше, тихонько колыхаясь и ныряя; Лаврецкий отправился шагом домой. Обаянье летней ночи охватило его; всё вокруг казалось так неожиданно странно и в то же время так давно и так сладко знакомо; вблизи и вдали, – а далеко было видно, хотя глаз многого не понимал из того, что видел, – всё покоилось; молодая расцветающая жизнь сказывалась в самом этом покое. Лошадь Лаврецкого бодро шла, мерно раскачиваясь направо и налево; большая черная тень ее шла с ней рядом; было что-то таинственно приятное в топоте ее копыт, что-то веселое и чудное в гремящем крике перепелов. Звезды исчезали в каком-то светлом дыме; неполный месяц блестел твердым блеском; свет его разливался голубым потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки; свежесть воздуха вызывала легкую влажность на глаза, ласково охватывала все члены, лилась вольною струею в грудь. Лаврецкий наслаждался и радовался своему наслаждению. «Ну, мы еще поживем, – думал он, – не совсем еще нас заела…» Он не договорил: кто или что… Потом он стал думать о Лизе, о том, что вряд ли она любит Паншина; что встреться он с ней при других обстоятельствах, – Бог знает, что могло бы из этого выйти; что он понимает Лемма, хотя у ней «своих» слов нет. Да и это неправда: у ней есть свои слова… «Не говорите об этом легкомысленно», – вспомнилось Лаврецкому. Он долго ехал, понурив голову, потом выпрямился, медленно произнес:
И я сжег всё, чему поклонялся, Поклонился всему, что сжигал… –но тотчас же ударил лошадь хлыстом и скакал вплоть до дому.
Слезая с коня, он в последний раз оглянулся с невольной благодарной улыбкой. Ночь, безмолвная, ласковая ночь, лежала на холмах и на долинах; издали, из ее благовонной глубины, Бог знает откуда – с неба ли, с земли, – тянуло тихим и мягким теплом. Лаврецкий послал последний поклон Лизе и взбежал на крыльцо.
Следующий день прошел довольно вяло. С утра падал дождь; Лемм глядел исподлобья и всё крепче и крепче стискивал губы, точно он давал себе зарок никогда не открывать их. Ложась спать, Лаврецкий взял с собою на постель целую груду французских журналов, которые уже более двух недель лежали у него на столе нераспечатанные. Он принялся равнодушно рвать куверты и пробегать столбцы газет, в которых, впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их – и вдруг вскочил с постели как ужаленный. В фельетоне одной из газет известный уже нам мусье Жюль сообщал своим читателям «горестную новость»: прелестная, очаровательная москвитянка, – писал он, – одна из цариц моды, украшение парижских салонов, madame de Lavretzki скончалась почти внезапно, – и весть эта, к сожалению, слишком верная, только что дошла до него, г-на Жюля. Он был, – так продолжал он, – можно сказать, другом покойницы…
Лаврецкий оделся, вышел в сад и до самого утра ходил взад и вперед всё по одной аллее.
XXVIII
На следующее утро, за чаем, Лемм попросил Лаврецкого дать ему лошадей для того, чтобы возвратиться в город. «Мне пора приняться за дело, то есть за уроки, – заметил старик, – а то я здесь только даром время теряю». Лаврецкий не сразу отвечал ему: он казался рассеянным. «Хорошо, – сказал он наконец, – я с вами сам поеду». Без помощи слуги, кряхтя и сердясь, уложил Лемм небольшой свой чемодан, изорвал и сжег несколько листов нотной бумаги. Подали лошадей. Выходя из кабинета, Лаврецкий положил в карман вчерашний нумер газеты. Во всё время дороги и Лемм и Лаврецкий мало говорили друг с другом: каждого из них занимали собственные мысли, и каждый был рад, что другой его не беспокоит. И расстались они довольно сухо, что, впрочем, часто случается между приятелями на Руси. Лаврецкий подвез старика к его домику, тот вылез, достал свой чемодан и, не протягивая своему приятелю руки (он держал чемодан обеими руками перед грудью), не глядя даже на него, сказал ему по-русски: «Прощайте-с!» – «Прощайте», – повторил Лаврецкий и велел кучеру ехать к себе на квартиру. Он нанимал, на всякий случай, квартиру в городе О… Написавши несколько писем и наскоро пообедав, Лаврецкий отправился к Калитиным. Он застал у них в гостиной одного Паншина, который объявил ему, что Марья Дмитриевна сейчас выйдет, и тотчас с самой радушной любезностью вступил с ним в разговор. До того дня Паншин обращался с Лаврецким не то чтоб свысока, а снисходительно; но Лиза, рассказывая Паншину свою вчерашнюю поездку, отозвалась о Лаврецком как о прекрасном и умном человеке; этого было довольно: следовало завоевать «прекрасного» человека. Паншин начал с комплиментов Лаврецкому, с описания восторга, с которым, по его словам, всё семейство Марьи Дмитриевны отзывалось о Васильевском, и потом, по обыкновению своему, ловко перейдя к самому себе, начал говорить о своих занятиях, о воззрениях своих на жизнь, на свет и на службу; сказал слова два о будущности России, о том, как следует губернаторов в руках держать; тут же весело подтрунил над самим собою и прибавил, что, между прочим, ему в Петербурге поручили «de populariser l’idee du cadastre»[19]. Он говорил довольно долго, с небрежной самоуверенностью разрешая все затруднения и, как фокусник шарами, играя самыми важными административными и политическими вопросами. Выражения: «Вот что бы я сделал, если б я был правительством»; «Вы, как умный человек, тотчас со мной согласитесь», – не сходили у него с языка. Лаврецкий холодно слушал разглагольствования Паншина: не нравился ему этот красивый, умный и непринужденно изящный человек, с своей светлой улыбкой, вежливым голосом и пытливыми глазами. Паншин скоро догадался, с свойственным ему быстрым пониманием ощущений другого, что не доставляет особенного удовольствия своему собеседнику, и под благовидным предлогом скрылся, решив про себя, что Лаврецкий, может быть, и прекрасный человек, но несимпатичный, «aigri»[20] и, «en somme»[21], несколько смешной. Марья Дмитриевна появилась в сопровождении Гедеоновского; потом пришла Марфа Тимофеевна с Лизой, за ними пришли остальные домочадцы; потом приехала и любительница музыки, Беленицына, маленькая, худенькая дама, с почти ребяческим, усталым и красивым личиком, в шумящем черном платье, с пестрым веером и толстыми золотыми браслетами; приехал и муж ее, краснощекий, пухлый человек с большими ногами и руками, с белыми ресницами и неподвижной улыбкой на толстых губах; в гостях жена никогда с ним не говорила, а дома, в минуты нежности, называла его своим поросеночком; Паншин вернулся: очень стало людно и шумно в комнатах. Лаврецкому такое множество народа было не по нутру; особенно сердила его Беленицына, которая то и дело глядела на него в лорнет. Он бы тотчас ушел, если б не Лиза: ему хотелось сказать ей два слова наедине, но он долго не мог улучить удобное мгновенье и довольствовался тем, что с тайной радостью следил за нею взором; никогда ее лицо не казалось ему благородней и милей. Она много выигрывала от близости Беленицы ной. Та беспрестанно двигалась на стуле, поводила своими узкими плечиками, смеялась изнеженным смехом и то щурилась, то вдруг широко раскрывала глаза. Лиза сидела смирно, глядела прямо и вовсе не смеялась. Хозяйка села играть в карты с Марфой Тимофеевной, Беленицыным и Гедеоновским, который играл очень медленно, беспрестанно ошибался, моргал глазами и утирал лицо платком. Паншин принял меланхолический вид, выражался кратко, многозначительно и печально, – ни дать ни взять невыказавшийся художник, – но, несмотря на просьбы Беленицыной, которая очень с ним кокетничала, не соглашался спеть свой романс: Лаврецкий его стеснял. Федор Иваныч тоже говорил мало, особенное выражение его лица поразило Лизу, как только он вошел в комнату: она тотчас почувствовала, что он имеет сообщить ей что-то, но, сама не зная почему, боялась расспросить его. Наконец, переходя в залу наливать чай, она невольно поворотила голову в его сторону. Он тотчас пошел вслед за ней.
– Что с вами? – промолвила она, ставя чайник на самовар.
– А разве вы что заметили? – проговорил он.
– Вы сегодня не такой, каким я вас видела до сих пор.
Лаврецкий наклонился над столом.
– Я хотел, – начал он, – передать вам одно известие, но теперь невозможно. Впрочем, прочтите вот, что отмечено карандашом в этом фельетоне, – прибавил он, подавая ей нумер взятого с собою журнала. – Прошу хранить это в тайне, я зайду завтра утром.
Лиза изумилась… Паншин показался на пороге двери: она положила журнал к себе в карман.
– Читали вы «Обермана», Лизавета Михайловна? – задумчиво спросил ее Паншин.
Лиза отвечала ему вскользь и пошла из залы наверх. Лаврецкий вернулся в гостиную и приблизился к игорному столу. Марфа Тимофеевна, распустив ленты чепца и покраснев, начала ему жаловаться на своего партнера Гедеоновского, который, по ее словам, ступить не умел.
– Видно, в карты играть, – говорила она, – не то, что выдумки сочинять.
Тот продолжал моргать глазами и утираться. Лиза пришла в гостиную и села в угол; Лаврецкий посмотрел на нее, она на него посмотрела – и обоим стало почти жутко. Он прочел недоумение и какой-то тайный упрек на ее лице. Поговорить с нею, как бы ему хотелось, он не мог; оставаться в одной комнате с нею, гостем в числе других гостей, – было тяжело: он решился уйти. Прощаясь с нею, он успел повторить, что придет завтра, и прибавил, что надеется на ее дружбу.
– Приходите, – отвечала она с тем же недоумением на лице.
Паншин оживился по уходе Лаврецкого; он начал давать советы Гедеоновскому, насмешливо любезничал с Беленицыной и наконец спел свой романс. Но с Лизой он говорил и глядел на нее по-прежнему: значительно и немного печально.
А Лаврецкий опять не спал всю ночь. Ему не было грустно, он не волновался, он затих весь; но он не мог спать. Он даже не вспоминал прошедшего времени; он просто глядел в свою жизнь; сердце его билось тяжело и ровно, часы летели, он и не думал о сне. По временам только всплывала у него в голове мысль: «Да это неправда, это всё вздор», – и он останавливался, поникал головою и снова принимался глядеть в свою жизнь.
XXIX
Марья Дмитриевна не слишком ласково приняла Лаврецкого, когда он явился к ней на следующий день. «Вишь, повадился», – подумала она. Он ей сам по себе не очень нравился, да и Паншин, под влиянием которого она находилась, весьма коварно и небрежно похвалил его накануне. Так как она не считала его гостем и не полагала нужным занимать родственника, почти домашнего человека, то и получаса не прошло, как он уже шел с Лизой в саду по аллее. Леночка и Шурочка бегали в нескольких шагах от них по цветнику.
Лиза был спокойна по обыкновению, но более обыкновенного бледна. Она достала из кармана и протянула Лаврецкому мелко сложенный лист журнала.
– Это ужасно! – промолвила она.
Лаврецкий ничего не отвечал.
– Да, может быть, это еще и неправда, – прибавила Лиза.
– Оттого-то я и просил вас не говорить об этом никому.
Лиза прошлась немного.
– Скажите, – начала она, – вы не огорчены? нисколько?
– Я сам не знаю, что я чувствую, – отвечал Лаврецкий.
– Но ведь вы ее любили прежде?
– Любил.
– Очень?
– Очень.
– И не огорчены ее смертью?
– Она не теперь для меня умерла.
– Это грешно, что вы говорите… Не сердитесь на меня. Вы меня называете своим другом: друг всё может говорить. Мне, право, даже страшно… Вчера у вас такое нехорошее было лицо… Помните, недавно, как вы жаловались на нее? – а ее уже тогда, может быть, на свете не было. Это страшно. Точно это вам в наказание послано.
Лаврецкий горько усмехнулся:
– Вы думаете?.. По крайней мере я теперь свободен.
Лиза слегка вздрогнула:
– Полноте, не говорите так. На что вам ваша свобода? Вам не об этом теперь надо думать, а о прощении…
– Я давно ее простил, – перебил Лаврецкий и махнул рукой.
– Нет, не то, – возразила Лиза и покраснела. – Вы не так меня поняли. Вы должны позаботиться о том, чтобы вас простили…
– Кому меня прощать?
– Кому? Богу. Кто же может нас простить, кроме Бога?
Лаврецкий схватил ее за руку.
– Ах, Лизавета Михайловна, поверьте, – воскликнул он, – я и так довольно был наказан. Я уже всё искупил, поверьте.
– Это вы не можете знать, – проговорила Лиза вполголоса. – Вы забыли, – еще недавно, вот когда вы со мной говорили, вы не хотели ее прощать.
Оба молча прошлись по аллее.
– А что же ваша дочь? – спросила вдруг Лиза и остановилась.
Лаврецкий встрепенулся:
– О, не беспокойтесь! Я уже послал письма во все места. Будущность моей дочери, как вы ее… как вы говорите… обеспечена. Не беспокойтесь.
Лиза печально улыбнулась.
– Но вы правы, – продолжал Лаврецкий, – что мне делать с моей свободой? На что мне она?
– Когда вы получили этот журнал? – промолвила Лиза, не отвечая на его вопрос.
– На другой день после вашего посещения.
– И неужели… неужели вы даже не заплакали?
– Нет. Я был поражен; но откуда было взяться слезам? Плакать о прошедшем – да ведь оно у меня всё выжжено!.. Самый проступок ее не разрушил мое счастие, а доказал мне только, что его вовсе никогда не бывало. О чем же тут было плакать? Впрочем, кто знает? Я, может быть, был бы более огорчен, если б я получил это известие двумя неделями раньше…
– Двумя неделями? – возразила Лиза. – Да что ж такое случилось в эти две недели?
Лаврецкий ничего не отвечал, а Лиза вдруг покраснела еще пуще прежнего.
– Да, да, вы угадали, – подхватил внезапно Лаврецкий, – в течение этих двух недель я узнал, что значит чистая женская душа, и мое прошедшее еще больше от меня отодвинулось.
Лиза смутилась и тихонько пошла в цветник к Леночке и Шурочке.
– А я доволен тем, что показал вам этот журнал, – говорил Лаврецкий, идя за нею следом, – я уже привык ничего не скрывать от вас и надеюсь, что и вы отплатите мне таким же доверием.
– Вы думаете? – промолвила Лиза и остановилась. – В таком случае я бы должна была… Да нет! Это невозможно.
– Что такое? Говорите, говорите.
– Право, мне кажется, я не должна… А впрочем, – прибавила Лиза и с улыбкой оборотилась к Лаврецкому, – что за откровенность вполовину? Знаете ли? я получила сегодня письмо.
– От Паншина?
– Да, от него… Почему вы знаете?
– Он просит вашей руки?
– Да, – произнесла Лиза и прямо и серьезно посмотрела Лаврецкому в глаза.
Лаврецкий в свою очередь серьезно посмотрел на Лизу.
– Ну, и что же вы ему отвечали? – проговорил он наконец.
– Я не знаю, что отвечать, – возразила Лиза и опустила сложенные руки.
– Как? Ведь вы его любите?
– Да, он мне нравится; он, кажется, хороший человек.
– Вы то же самое и в тех же самых выражениях сказали мне четвертого дня. Я желаю знать: любите ли вы его тем сильным, страстным чувством, которое мы привыкли называть любовью?
– Как вы понимаете, – нет.
– Вы в него не влюблены?
– Нет. Да разве это нужно?
– Как?
– Маменьке он нравится, – продолжала Лиза, – он добрый; я ничего против него не имею.
– Однако вы колеблетесь?
– Да… и, может быть, – вы, ваши слова тому причиной. Помните, что вы третьего дня говорили? Но это слабость…
– О дитя мое! – воскликнул вдруг Лаврецкий, и голос его задрожал, – не мудрствуйте лукаво, не называйте слабостью крик вашего сердца, которое не хочет отдаться без любви. Не берите на себя такой страшной ответственности перед тем человеком, которого вы не любите и которому хотите принадлежать…
– Я слушаюсь, я ничего не беру на себя… – произнесла было Лиза.
– Слушайтесь вашего сердца; оно одно вам скажет правду, – перебил ее Лаврецкий. – Опыт, рассудок – всё это прах и суета! Не отнимайте у себя лучшего, единственного счастья на земле.
– Вы ли это говорите, Федор Иваныч? Вы сами женились по любви – и были ли вы счастливы?
Лаврецкий всплеснул руками:
– Ах, не говорите обо мне! Вы и понять не можете всего того, что молодой, неискушенный, безобразно воспитанный мальчик может принять за любовь!.. Да и наконец, к чему клеветать на себя? Я сейчас вам говорил, что я не знал счастья… нет! я был счастлив!
– Мне кажется, Федор Иваныч, – произнесла, понизив голос, Лиза (когда она не соглашалась с своим собеседником, она всегда понижала голос; притом она чувствовала большое волнение), – счастье на земле зависит не от нас…
– От нас, от нас, поверьте мне (он схватил ее за обе руки; Лиза побледнела и почти с испугом, но внимательно глядела на него), лишь бы мы не портили сами своей жизни. Для иных людей брак по любви может быть несчастьем; но не для вас, с вашим спокойным нравом, с вашей ясной душой! Умоляю вас, не выходите замуж без любви, по чувству долга, отреченья, что ли… Это то же безверие, тот же расчет – и еще худший. Поверьте мне – я имею право это говорить: я дорого заплатил за это право. И если ваш Бог…
В это мгновенье Лаврецкий заметил, что Леночка и Шурочка стояли подле Лизы и с немым изумленьем уставились на него. Он выпустил Лизины руки, торопливо проговорил: «Извините меня, пожалуйста», – и направился к дому.
– Об одном только прошу я вас, – промолвил он, возвращаясь к Лизе, – не решайтесь тотчас, подождите, подумайте о том, что я вам сказал. Если б даже вы не поверили мне, если б вы решились на брак по рассудку, – и в таком случае не за господина Паншина вам выходить: он не может быть вашим мужем… Не правда ли, вы обещаетесь мне не спешить?
Лиза хотела ответить Лаврецкому – и ни слова не вымолвила, не оттого, что она решилась «спешить»; но оттого, что сердце у ней слишком сильно билось и чувство, похожее на страх, захватило дыхание.
XXX
Уходя от Калитиных, Лаврецкий встретился с Паншиным; они холодно поклонились друг другу. Лаврецкий пришел к себе на квартиру и заперся. Он испытывал ощущения, едва ли когда-нибудь им испытанные. Давно ли находился он в состоянии «мирного оцепенения»? давно ли чувствовал себя, как он выражался, на самом дне реки? Что же изменило его положение? что вынесло его наружу, на поверхность? самая обыкновенная, неизбежная, хотя всегда неожиданная случайность: смерть? Да; но он не столько думал о смерти жены, о своей свободе, сколько о том, какой ответ даст Паншину Лиза? Он чувствовал, что в течение трех последних дней он стал глядеть на нее другими глазами; он вспоминал, как, возвращаясь домой и думая о ней в тиши ночи, он говорил самому себе: «Если бы!..» Это «если бы», отнесенное им к прошедшему, к невозможному, сбылось, хоть и не так, как он полагал, – но одной его свободы было мало. «Она послушается матери, – думал он, – она выйдет за Паншина; но если даже она ему откажет – не всё ли равно для меня?» Проходя перед зеркалом, он мельком взглянул на свое лицо и пожал плечами.
День пронесся быстро в этих размышлениях; настал вечер. Лаврецкий отправился к Калитиным. Он шел поспешно, но к дому их приблизился замедленными шагами. Перед крыльцом стояли дрожки Паншина. «Ну, – подумал Лаврецкий, – не буду эгоистом», и вошел в дом. В доме он никого не встретил, и в гостиной было тихо; он отворил дверь и увидел Марью Дмитриевну, игравшую в пикет с Паншиным. Паншин молча ему поклонился, а хозяйка дома воскликнула: «Вот неожиданно!» – и слегка нахмурила брови. Лаврецкий подсел к ней и стал глядеть ей в карты.
– Вы разве умеете в пикет? – спросила она его с какой-то скрытой досадой и тут же объявила, что разнеслась.
Паншин счел девяносто и начал учтиво и спокойно брать взятки, с строгим и достойным выражением на лице. Так должны играть дипломаты; вероятно, так и он играл в Петербурге с каким-нибудь сильным сановником, которому желал внушить выгодное мнение о своей солидности и зрелости. «Сто один, сто два, черви, сто три», – мерно раздавался его голос, и Лаврецкий не мог понять, чем он звучал: укоризной или самодовольствием.
– Можно видеть Марфу Тимофеевну? – спросил он, замечая, что Паншин с еще большим достоинством принимался тасовать карты. Художника в нем уже не замечалось и тени.
– Я думаю, можно. Она у себя, наверху, – отвечала Марья Дмитриевна, – осведомьтесь.
Лаврецкий отправился наверх. И Марфу Тимофеевну он застал за картами: она играла в дурачки с Настасьей Карповной. Роска залаяла на него; но обе старушки приветливо его приняли, особенно Марфа Тимофеевна казалась в духе.
– А! Федя! Милости просим, – промолвила она, – садись, мой батюшка. А мы сейчас доиграем. Хочешь варенья? Шурочка, достань ему банку с клубникой. Не хочешь? Ну, так сиди так; а курить – не кури: не могу я табачища вашего терпеть, да и Матрос от него чихает.
Лаврецкий поспешил объявить, что вовсе не желает курить.
– Был ты внизу? – продолжала старушка, – кого там видел? Паншин всё там торчит? А Лизу видел? Нет? Она сюда хотела прийти… Да вот и она; легка на помине.
Лиза вошла в комнату и, увидев Лаврецкого, покраснела.
– Я к вам на минутку, Марфа Тимофеевна, – начала было она…
– Зачем на минутку? – возразила старушка. – Что это вы все, молодые девки, за непоседы за такие? Ты видишь, у меня гость: покалякай с ним, займи его.
Лиза присела на край стула, подняла глаза на Лаврецкого – и почувствовала, что ей нельзя было не дать ему знать, чем кончилось ее свидание с Паншиным. Но как это сделать? Ей и стыдно было и неловко. Давно ли она познакомилась с ним, с этим человеком, который и в церковь редко ходит и так равнодушно переносит кончину жены, – и вот уже она сообщает ему свои тайны… Правда, он принимает в ней участие; она сама верит ему и чувствует к нему влеченье; но все-таки ей стыдно стало, точно чужой вошел в ее девическую, чистую комнату.
Марфа Тимофеевна пришла ей на помощь.
– Ведь если ты его занимать не будешь, – заговорила она, – кто ж его, бедненького, займет? Я для него слишком стара, он для меня слишком умен, а для Настасьи Карповны он слишком стар: ей всё молоденьких подавай.
– Чем же я могу занять Федора Иваныча? – промолвила Лиза. – Если он хочет, я лучше ему что-нибудь на фортепьяно сыграю, – прибавила она нерешительно.
– И прекрасно; ты у меня умница, – возразила Марфа Тимофеевна. – Ступайте, мои милые, вниз; когда кончите, приходите; а я вот в дурах осталась, мне обидно, я отыграться хочу.
Лиза встала. Лаврецкий пошел за ней. Спускаясь с лестницы, Лиза остановилась.
– Правду говорят, – начала она, – что сердце людское исполнено противоречий. Ваш пример должен был испугать меня, сделать меня недоверчивой к бракам по любви, а я…
– Вы отказали ему? – перебил Лаврецкий.
– Нет; но и не согласилась. Я ему всё сказала: всё, что я чувствовала, и попросила его подождать. Довольны вы? – прибавила она с быстрой улыбкой и, слегка трогая перила рукою, сбежала с лестницы.
– Что мне сыграть вам? – спросила она, поднимая крышку фортепьяно.
– Что хотите, – отвечал Лаврецкий и сел так, что мог смотреть на нее.
Лиза начала играть и долго не отводила глаз от своих пальцев. Она взглянула наконец на Лаврецкого и остановилась: так чудно и странно показалось ей его лицо.
– Что с вами? – спросила она.
– Ничего, – возразил он, – мне очень хорошо; я рад за вас, я рад вас видеть; продолжайте.
– Мне кажется, – говорила Лиза несколько мгновений спустя, – если бы он точно меня любил, он бы не написал этого письма; он должен был бы чувствовать, что я не могу отвечать ему теперь.
– Это не важно, – промолвил Лаврецкий, – важно то, что вы его не любите.
– Перестаньте, что это за разговор! Мне всё мерещится ваша покойная жена, и вы мне страшны.
– Не правда ли, Вольдемар, как мило играет моя Лизет? – говорила в то же время Марья Дмитриевна Паншину.
– Да, – отвечал Паншин, – очень мило.
Марья Дмитриевна с нежностью посмотрела на молодого своего партнера; но тот принял еще более важный и озабоченный вид и объявил четырнадцать королей.
XXXI
Лаврецкий не был молодым человеком; он не мог долго обманываться насчет чувства, внушенного ему Лизой; он окончательно в тот же день убедился в том, что полюбил ее. Не много радости принесло ему это убеждение. «Неужели, – подумал он, – мне в тридцать пять лет нечего другого делать, как опять отдать свою душу в руки женщины? Но Лиза не чета той: она бы не потребовала от меня постыдных жертв; она не отвлекла бы меня от моих занятий; она бы сама воодушевила меня на честный, строгий труд, и мы пошли бы оба вперед к прекрасной цели. Да, – кончил он свои размышления, – все это хорошо, но худо то, что она вовсе не захочет пойти со мной. Недаром она сказала мне, что я ей страшен. Зато и Паншина она не любит… Слабое утешение!»
Лаврецкий поехал в Васильевское; но и четырех дней там не выжил, – так ему показалось скучно. Его томило также ожидание: известие, сообщенное г-м Жюлем, требовало подтверждения, а он не получал никаких писем. Он вернулся в город и просидел вечер у Калитиных. Ему легко было заметить, что Марья Дмитриевна была против него восстановлена; но ему удалось несколько умилостивить ее, проиграв ей рублей пятнадцать в пикет, и он провел около получаса почти наедине с Лизой, несмотря на то что мать ей еще накануне советовала не быть слишком фамильярной с человеком «qui a un si grand ridicule»[22]. Он нашел в ней перемену: она стала как будто задумчивее, попеняла ему за его отсутствие и спросила его: не пойдет ли он на другой день к обедне? (На другой день было воскресенье.)
– Ступайте, – сказала она прежде, чем он успел ответить, – мы вместе помолимся за упокой ее души. – Потом она прибавила, что не знает, как ей быть, не знает, имеет ли она право заставлять Паншина долее ждать ее решения.
– Почему же? – спросил Лаврецкий.
– Потому, – сказала она, – что я уже теперь начинаю подозревать, какое будет это решение.
Она объявила, что голова у ней болит, и ушла к себе наверх, нерешительно протянув Лаврецкому кончики пальцев.
На другой день Лаврецкий отправился к обедне. Лиза уже была в церкви, когда он пришел. Она заметила его, хотя не обернулась к нему. Она усердно молилась: тихо светились ее глаза, тихо склонялась и поднималась ее голова. Он почувствовал, что она молилась и за него, – и чудное умиление наполнило его душу. Ему было и хорошо и немного совестно. Чинно стоявший народ, родные лица, согласное пение, запах ладана, длинные косые лучи от окон, самая темнота стен и сводов – всё говорило его сердцу. Давно не был он в церкви, давно не обращался к Богу; он и теперь не произнес никаких молитвенных слов, – он без слов даже не молился, – но хотя на мгновенье если не телом, то всем помыслом своим повергнулся ниц и приник смиренно к земле. Вспомнилось ему, как в детстве он всякий раз в церкви до тех пор молился, пока не ощущал у себя на лбу как бы чьего-то свежего прикосновения; это, думал он тогда, ангел-хранитель принимает меня, кладет на меня печать избрания. Он взглянул на Лизу… «Ты меня сюда привела, – подумал он, – коснись же меня, коснись моей души». Она всё так же тихо молилась; лицо ее показалось ему радостным, и он умилился вновь, он попросил другой душе – покоя, своей – прощенья…
Они встретились на паперти; она приветствовала его с веселой и ласковой важностью. Солнце ярко освеща ло молодую траву на церковном дворе, пестрые платья и платки женщин; колокола соседних церквей гудели в вышине; воробьи чирикали по заборам. Лаврецкий стоял с непокрытой головой и улыбался; легкий ветерок вздымал его волосы и концы лент Лизиной шляпы. Он посадил Лизу и бывшую с ней Леночку в карету, роздал все свои деньги нищим и тихонько побрел домой.
XXXII
Настали трудные дни для Федора Иваныча. Он находился в постоянной лихорадке. Каждое утро отправлялся он на почту, с волненьем распечатывал письма, журналы – и нигде не находил ничего, что бы могло подтвердить или опровергнуть роковой слух. Иногда он сам себе становился гадок. «Что это я, – думал он, – жду, как ворон крови, верной вести о смерти жены!» К Калитиным он ходил каждый день; но и там ему не становилось легче: хозяйка явно дулась на него, принимала его из снисхождения; Паншин обращался с ним преувеличенно вежливо; Лемм напустил на себя мизантропию и едва кланялся ему, – а главное: Лиза как будто его избегала. Когда же ей случалось остаться с ним наедине, в ней, вместо прежней доверчивости, проявлялось замешательство; она не знала, что сказать ему, и он сам чувствовал смущение. Лиза в несколько дней стала не та, какою он ее знал: в ее движениях, голосе, в самом смехе замечалась тайная тревога, небывалая прежде неровность. Марья Дмитриевна, как истая эгоистка, ничего не подозревала; но Марфа Тимофеевна начинала присматривать за своей любимицей. Лаврецкий не раз упрекнул себя в том, что показал Лизе полученный им нумер журнала: он не мог не сознаться, что в его душевном состоянии было что-то возмутительное для чистого чувства. Он полагал также, что перемена в Лизе происходила от ее борьбы с самой собою, от ее сомнений: какой ответ дать Паншину? Однажды она принесла ему книгу, роман Вальтер Скотта, который она сама у него спросила.
– Вы прочли эту книгу? – проговорил он.
– Нет; мне теперь не до книг, – отвечала она и хотела уйти.
– Постойте на минуту; я с вами так давно не был наедине. Вы словно меня боитесь.
– Да.
– Отчего же, помилуйте?
– Не знаю.
Лаврецкий помолчал.
– Скажите, – начал он, – вы еще не решились?
– Что вы хотите сказать? – промолвила она, не поднимая глаз.
– Вы понимаете меня…
Лиза вдруг вспыхнула.
– Не спрашивайте меня ни о чем, – произнесла она с живостью, – я ничего не знаю; я сама себя не знаю…
И она тотчас же удалилась.
На следующий день Лаврецкий приехал к Калитиным после обеда и застал у них все приготовления ко всенощной. В углу столовой на четырехугольном столе, покрытом чистой скатертью, уже находились прислоненные к стене небольшие образа в золотых окладах, с маленькими тусклыми алмазами на венчиках. Старый слуга, в сером фраке и башмаках, прошел, не спеша и не стуча каблуками, через всю комнату, поставил две восковые свечи в тонких подсвечниках перед образами, перекрестился, поклонился и тихо вышел. Неосвещенная гостиная была пуста. Лаврецкий походил по столовой, спросил – не именинница ли кто? Ему отвечали шепотом, что нет, а что всенощную заказали по желанию Лизаветы Михайловны да Марфы Тимофеевны; что хотели было чудотворную икону поднять, но что она уехала за тридцать верст к больному. Скоро прибыл вместе с дьячками и священник, человек уже не молодой, с большой лысиной, и громко кашлянул в передней; дамы тотчас вереницей потянулись из кабинета и подошли к нему под благословение; Лаврецкий молча им поклонился; и они ему поклонились молча. Священник постоял немного, еще раз откашлянулся и спросил вполголоса басом:
– Приступать прикажете?
– Приступите, батюшка, – возразила Марья Дмитриевна.
Он начал облачаться; дьячок в стихаре подобострастно попросил уголька; запахло ладаном. Из передней вышли горничные и лакеи и остановились сплошной кучкой перед дверями. Роска, никогда не сходившая сверху, вдруг появилась в столовой: ее стали выгонять – она испугалась, завертелась и села; лакей подхватил ее и унес. Всенощная началась. Лаврецкий прижался в уголок; ощущения его были странны, почти грустны; он сам не мог хорошенько разобрать, что он чувствовал. Марья Дмитриевна стояла впереди всех, перед креслами; она крестилась изнеженно-небрежно, по-барски – то оглядывалась, то вдруг поднимала взоры кверху: она скучала. Марфа Тимофеевна казалась озабоченной; Настасья Карповна клала земные поклоны и вставала с каким-то скромным и мягким шумом; Лиза как стала, так и не двигалась с места и не шевелилась; по сосредоточенному выражению ее лица можно было догадаться, что она пристально и горячо молилась. Прикладываясь ко кресту по окончании всенощной, она также поцеловала большую красную руку священника. Марья Дмитриевна пригласила его откушать чаю; он снял епитрахиль, принял несколько светский вид и вместе с дамами перешел в гостиную. Начался разговор, не слишком оживленный. Священник выпил четыре чашки, беспрестанно отирая платком свою лысину, рассказал, между прочим, что купец Авошников пожертвовал семьсот рублей на позолоту церковного «кумпола», и сообщил верное средство против веснушек. Лаврецкий подсел было к Лизе, но она держалась строго, почти сурово, и ни разу не взглянула на него. Она как будто с намерением его не замечала; какая-то холодная, важная восторженность нашла на нее. Лаврецкому почему-то всё хотелось улыбнуться и сказать что-нибудь забавное; но на сердце у него было смущение, и он ушел наконец, тайно недоумевая… Он чувствовал: что-то было в Лизе, куда он проникнуть не мог.
В другой раз Лаврецкий, сидя в гостиной и слушая вкрадчивые, но тяжелые разглагольствования Гедеоновского, внезапно, сам не зная почему, оборотился и уловил глубокий, внимательный, вопросительный взгляд в глазах Лизы… Он был устремлен на него, этот загадочный взгляд. Лаврецкий целую ночь потом о нем думал. Он любил не как мальчик, не к лицу ему было вздыхать и томиться, да и сама Лиза не такого рода чувство возбуждала; но любовь на всякий возраст имеет свои страданья, – и он испытал их вполне.
XXXIII
Однажды Лаврецкий, по обыкновению своему, сидел у Калитиных. После томительного жаркого дня наступил такой прекрасный вечер, что Марья Дмитриевна, несмотря на свое отвращение к сквозному ветру, велела отворить все окна и двери в сад и объявила, что в карты играть не станет, что в такую погоду в карты играть грех, а должно наслаждаться природой. Из гостей был один Паншин. Настроенный вечером и не желая петь перед Лаврецким, но чувствуя прилив художнических ощущений, он пустился в поэзию: прочел хорошо, но слишком сознательно и с ненужными тонкостями несколько стихотворений Лермонтова (тогда Пушкин не успел еще опять войти в моду) – и вдруг, как бы устыдясь своих излияний, начал, по поводу известной «Думы», укорять и упрекать новейшее поколение; причем не упустил случая изложить, как бы он всё повернул по-своему, если б власть у него была в руках. «Россия, – говорил он, – отстала от Европы; нужно подогнать ее. Уверяют, что мы молоды, – это вздор; да и притом у нас изобретательности нет; сам Х<омяко>в признается в том, что мы даже мышеловки не выдумали. Следовательно, мы поневоле должны заимствовать у других. Мы больны, говорит Лермонтов, – я согласен с ним; но мы больны оттого, что только наполовину сделались европейцами; чем мы ушиблись, тем мы и лечиться должны («Le cadastre», – подумал Лаврецкий). У нас, – продолжал он, – лучшие головы – les meilleures têtes – давно в этом убедились; все народы в сущности одинаковы; вводите только хорошие учреждения – и дело с концом. Пожалуй, можно приноравливаться к существующему народному быту; это наше дело, дело людей… (он чуть не сказал: государственных) служащих; но, в случае нужды, не беспокойтесь: учреждения переделают самый этот быт». Марья Дмитриевна с умилением поддакивала Паншину. «Вот какой, – думала она, – умный человек у меня беседует». Лиза молчала, прислонившись к окну; Лаврецкий молчал тоже; Марфа Тимофеевна, игравшая в уголке в карты с своей приятельницей, ворчала себе что-то под нос. Паншин расхаживал по комнате и говорил красиво, но с тайным озлобленьем: казалось, он бранил не целое поколенье, а нескольких известных ему людей. В саду Калитиных, в большом кусту сирени, жил соловей; его первые вечерние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи; первые звезды зажигались на розовом небе над неподвижными верхушками лип. Лаврецкий поднялся и начал возражать Паншину; завязался спор. Лаврецкий отстаивал молодость и самостоятельность России; отдавал себя, свое поколение на жертву, – но заступался за новых людей, за их убеждения и желания; Паншин возражал раздражительно и резко, объявил, что умные люди должны всё переделать, и занесся наконец до того, что, забыв свое камер-юнкерское звание и чиновничью карьеру, назвал Лаврецкого отсталым консерватором, даже намекнул – правда, весьма отдаленно – на его ложное положение в обществе. Лаврецкий не рассердился, не возвысил голоса (он вспомнил, что Михалевич тоже называл его отсталым – только вольтериянцем) – и спокойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок с высоты чиновничьего самосознания – переделок, не оправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал, хотя бы отрицательный; привел в пример свое собственное воспитание, требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею – того смирения, без которого и смелость противу лжи невозможна; не отклонился наконец от заслуженного, по его мнению, упрека в легкомысленной растрате времени и сил.
– Всё это прекрасно! – воскликнул наконец раздосадованный Паншин, – вот вы, вернулись в Россию, – что же вы намерены делать?
– Пахать землю, – отвечал Лаврецкий, – и стараться как можно лучше ее пахать.
– Это очень похвально, бесспорно, – возразил Паншин, – и мне сказывали, что вы уже большие сделали успехи по этой части; но согласитесь, что не всякий способен на такого рода занятия.
– Une nature poetique[23], – заговорила Марья Дмитриевна, – конечно, не может пахать… et puis[24], вы призваны, Владимир Николаич, делать всё en grand[25].
Этого было слишком даже для Паншина: он замялся – и замял разговор. Он попытался перевести его на красоту звездного неба, на музыку Шуберта – всё как-то не клеилось; он кончил тем, что предложил Марье Дмитриевне сыграть с ней в пикет. «Как! в такой вечер?» – слабо возразила она; однако велела принести карты.
Паншин с треском разорвал новую колоду, а Лиза и Лаврецкий, словно сговорившись, оба встали и поместились возле Марфы Тимофеевны. Им сделалось вдруг так хорошо обоим, что они даже побоялись остаться вдвоем, – и в то же время они почувствовали оба, что испытанное ими в последние дни смущение исчезло и не возвратится более. Старушка потрепала украдкой Лаврецкого по щеке, лукаво прищурилась и несколько раз покачала головой, приговаривая шепотом: «Отделал умника, спасибо». Всё затихло в комнате; слышалось только слабое потрескивание восковых свечей; да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков, да широкой волной вливалась в окна, вместе с росистой прохладой, могучая, до дерзости звонкая, песнь соловья.
XXXIV
Лиза не вымолвила ни одного слова в течение спора между Лаврецким и Паншиным, но внимательно следила за ним и вся была на стороне Лаврецкого. Политика ее занимала очень мало; но самонадеянный тон светского чиновника (он никогда еще так не высказывался) ее отталкивал; его презрение к России ее оскорбило. Лизе и в голову не приходило, что она патриотка; но ей было по душе с русскими людьми; русский склад ума ее радовал; она, не чинясь, по целым часам беседовала с старостой материнского имения, когда он приезжал в город, и беседовала с ним, как с ровней, без всякого барского снисхождения. Лаврецкий всё это чувствовал: он бы не стал возражать одному Паншину; он говорил только для Лизы. Друг другу они ничего не сказали, даже глаза их редко встречались; но оба они поняли, что тесно сошлись в этот вечер, поняли, что и любят и не любят одно и то же. В одном только они расходились; но Лиза втайне надеялась привести его к Богу. Они сидели возле Марфы Тимофеевны и, казалось, следили за ее игрой; да они и действительно за ней следили, – а между тем у каждого из них сердце росло в груди, и ничего для них не пропадало: для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные и сном, и негой лета, и теплом. Лаврецкий отдавался весь увлекавшей его волне – и радовался; но слово не выразит того, что происходило в чистой душе девушки: оно было тайной для нее самой; пусть же оно останется и для всех тайной. Никто не знает, никто не видел и не увидит никогда, как, призванное к жизни и расцветанию, наливается и зреет зерно в лоне земли.
Пробило десять часов. Марфа Тимофеевна отправилась к себе наверх с Настасьей Карповной; Лаврецкий и Лиза прошлись по комнате, остановились перед раскрытой дверью сада, взглянули в темную даль, потом друг на друга – и улыбнулись; так, кажется, взялись бы они за руки, наговорились бы досыта. Они вернулись к Марье Дмитриевне и к Паншину, у которых пикет затянулся. Последний «король» кончился наконец, и хозяйка встала, кряхтя и охая, с обложенного подушками кресла; Паншин взял шляпу, поцеловал у Марьи Дмитриевны руку, заметил, что иным счастливцам теперь ничто не мешает спать или наслаждаться ночью, а ему придется до утра просидеть над глупыми бумагами, холодно раскланялся с Лизой (он не ожидал, что в ответ на его предложение она попросит подождать, – и потому дулся на нее) – и удалился. Лаврецкий отправился вслед за ним. У ворот они расстались; Паншин разбудил своего кучера, толкнув его концом палки в шею, сел на дрожки и покатил. Лаврецкому не хотелось идти домой: он вышел из города в поле. Ночь была тиха и светла, хотя луны не было; Лаврецкий долго бродил по росистой траве; узкая тропинка попалась ему; он пошел по ней. Она привела его к длинному забору, к калитке; он попытался, сам не зная зачем, толкнуть ее: она слабо скрыпнула и отворилась, словно ждала прикосновения его руки. Лаврецкий очутился в саду, сделал несколько шагов по липовой аллее и вдруг остановился в изумлении: он узнал сад Калитиных.
Он тотчас же вошел в черное пятно тени, падавшей от густого орехового куста, и долго стоял неподвижно, дивясь и пожимая плечами.
«Это недаром», – подумал он.
Всё было тихо кругом; со стороны дома не приносилось никакого звука. Он осторожно пошел вперед. Вот, на повороте аллеи, весь дом вдруг глянул на него своим темным фасом; в двух только окнах наверху мерцал свет: у Лизы горела свеча за белым занавесом да у Марфы Тимофеевны в спальне перед образом теплилась красным огоньком лампадка, отражаясь ровным сиянием на золоте оклада; внизу дверь на балкон широко зевала, раскрытая настежь. Лаврецкий сел на деревянную скамейку, подперся рукою и стал глядеть на эту дверь да на окно Лизы. В городе пробило полночь; в доме маленькие часики тонко прозвенели двенадцать; сторож дробно поколотил по доске. Лаврецкий ничего не думал, ничего не ждал; ему приятно было чувствовать себя вблизи Лизы, сидеть в ее саду на скамейке, где и она сидела не однажды… Свет исчез в Лизиной комнате. «Спокойной ночи, моя милая девушка», – прошептал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно и не сводя взора с потемневшего окна.
Вдруг свет появился в одном из окон нижнего этажа, перешел в другое, в третье… Кто-то шел со свечкой по комнатам. «Неужели Лиза? Не может быть!..» Лаврецкий приподнялся… Мелькнул знакомый облик, и в гостиной появилась Лиза. В белом платье, с нерасплетенными косами по плечам, она тихонько подошла к столу, нагнулась над ним, поставила свечку и чего-то поискала; потом, обернувшись лицом к саду, она приблизилась к раскрытой двери и, вся белая, легкая, стройная, остановилась на пороге. Трепет пробежал по членам Лаврецкого.
– Лиза! – сорвалось едва внятно с его губ.
Она вздрогнула и начала всматриваться в темноту.
– Лиза! – повторил Лаврецкий громче и вышел из тени аллеи.
Лиза с испугом вытянула голову и пошатнулась назад: она узнала его. Он назвал ее в третий раз и протянул к ней руки. Она отделилась от двери и вступила в сад.
– Вы? – проговорила она. – Вы здесь?
– Я… я… выслушайте меня, – прошептал Лаврецкий и, схватив ее руку, повел ее к скамейке.
Она шла за ним без сопротивления; ее бледное лицо, неподвижные глаза, все ее движения выражали несказанное изумление. Лаврецкий посадил ее на скамейку и сам стал перед пей.
– Я не думал прийти сюда, – начал он, – меня привело… Я… я… я люблю вас, – произнес он с невольным ужасом.
Лиза медленно взглянула на него; казалось, она только в это мгновение поняла, где она и что с нею. Она хотела подняться, не могла и закрыла лицо руками.
– Лиза, – произнес Лаврецкий, – Лиза, – повторил он и склонился к ее ногам…
Ее плечи начали слегка вздрагивать, пальцы бледных рук крепче прижались к лицу.
– Что с вами? – промолвил Лаврецкий и услышал тихое рыдание. Сердце его захолонуло… Он понял, что значили эти слезы. – Неужели вы меня любите? – прошептал он и коснулся ее коленей.
– Встаньте, – послышался ее голос, – встаньте, Федор Иваныч. Что мы это делаем с вами?
Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядела на него своими влажными глазами.
– Мне страшно; что это мы делаем? – повторила она.
– Я вас люблю, – проговорил он снова, – я готов отдать вам всю жизнь мою.
Она опять вздрогнула, как будто ее что-то ужалило, и подняла взоры к небу.
– Это всё в Божьей власти, – промолвила она.
– Но вы меня любите, Лиза? Мы будем счастливы?
Она опустила глаза; он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к нему на плечо… Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ.
Полчаса спустя Лаврецкий стоял уже перед калиткой сада. Он нашел ее запертою и принужден был перепрыгнуть через забор. Он вернулся в город и пошел по заснувшим улицам. Чувство неожиданной, великой радости наполняло его душу; все сомнения в нем замерли. «Исчезни, прошедшее, темный призрак, – думал он, – она меня любит, она будет моя». Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головою разлились какие-то дивные, торжествующие звуки; он остановился: звуки загремели еще великолепней; певучим, сильным потоком струились они, – и в них, казалось, говорило и пело всё его счастье. Он оглянулся: звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома.
– Лемм! – вскрикнул Лаврецкий и побежал к дому. – Лемм! Лемм! – повторил он громко.
Звуки замерли, и фигура старика в шлафроке, с раскрытой грудью и растрепанными волосами, показалась в окне.
– Ага! – проговорил он с достоинством, – это вы?
– Христофор Федорыч, что это за чудная музыка! Ради Бога, впустите меня.
Старик, ни слова не говоря, величественным движением руки кинул из окна ключ от двери на улицу. Лаврецкий проворно вбежал наверх, вошел в комнату и хотел было броситься к Лемму; но тот повелительно указал ему на стул, отрывисто сказал по-русски: «Садитесь и слушить»; сам сел за фортепьяно, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного: сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою, она росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого; она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял, похолоделый и бледный от восторга. Эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенную счастьем любви; они сами пылали любовью. «Повторите», – прошептал он, как только раздался последний аккорд. Старик бросил на него орлиный взор, постучал рукой по груди и, проговорив, не спеша, на родном своем языке: «Это я сделал, ибо я великий музыкант», – снова сыграл свою чудную композицию. В комнате не было свечей; свет поднявшейся луны косо падал в окна; звонко трепетал чуткий воздух; маленькая, бедная комнатка казалась святилищем, и высоко и вдохновенно поднималась в серебристой полутьме голова старика. Лаврецкий подошел к нему и обнял его. Сперва Лемм не отвечал на его объятие, даже отклонил его локтем; долго, не шевелясь ни одним членом, глядел он всё так же строго, почти грубо, и только раза два промычал «ага!». Наконец его преобразившееся лицо успокоилось, опустилось, и он, в ответ на горячие поздравления Лаврецкого, сперва улыбнулся немного, потом заплакал, слабо всхлипывая, как дитя.
– Это удивительно, – сказал он, – что вы именно теперь пришли; но я знаю, всё знаю.
– Вы всё знаете? – произнес с смущением Лаврецкий.
– Вы меня слышали, – возразил Лемм, – разве вы не поняли, что я всё знаю?
Лаврецкий до утра не мог заснуть; он всю ночь просидел на постели. И Лиза не спала: она молилась.
XXXV
Читатель знает, как вырос и развивался Лаврецкий; скажем несколько слов о воспитании Лизы. Ей минул десятый год, когда отец ее умер; но он мало занимался ею. Заваленный делами, постоянно озабоченный приращением своего состояния, желчный, резкий, нетерпеливый, он не скупясь давал деньги на учителей, гувернеров, на одежду и прочие нужды детей; но терпеть не мог, как он выражался, нянчиться с писклятами, – да и некогда ему было нянчиться с ними: он работал, возился с делами, спал мало, изредка играл в карты, опять работал; он сам себя сравнивал с лошадью, запряженной в молотильную машину. «Скоренько жизнь моя проскочила», – промолвил он на смертном одре с горькой усмешкой на высохших губах. Марья Дмитриевна, в сущности, не много больше мужа занималась Лизой, хотя она и хвасталась перед Лаврецким, что одна воспитала детей своих; она одевала ее, как куколку, при гостях гладила ее по головке и называла в глаза умницей и душкой – и только: ленивую барыню утомляла всякая постоянная забота. При жизни отца Лиза находилась на руках гувернантки, девицы Моро из Парижа; а после его смерти поступила в ведение Марфы Тимофеевны. Марфу Тимофеевну читатель знает; а девица Моро была крошечное сморщенное существо с птичьими ухватками и птичьим умишком. В молодости она вела жизнь очень рассеянную, а под старость у ней остались только две страсти – к лакомству да к картам. Когда она была сыта, не играла в карты и не болтала, – лицо у ней тотчас принимало выражение почти мертвенное: сидит, бывало, смотрит, дышит – и так и видно, что никакой мысли не пробегает в голове. Ее даже нельзя было назвать доброю: не бывают же добры птицы. Вследствие ли легкомысленно проведенной молодости, от парижского ли воздуха, которым она надышалась с детства, – в ней гнездилось что-то вроде всеобщего дешевенького скептицизма, выражавшегося обыкновенно словами: «Tout ça с’est des bêtises»[26]. Она говорила неправильным, но чисто парижским жаргоном, не сплетничала и не капризничала – чего же больше можно желать от гувернантки? На Лизу она имела мало влияния; тем сильнее было влияние на нее ее няни, Агафьи Власьевны.
Судьба этой женщины была замечательна. Она происходила из крестьянского семейства; шестнадцати лет ее выдали за мужика; но от своих сестер-крестьянок она отличалась резко. Отец ее лет двадцать был старостой, нажил денег много и баловал ее. Красавица она была необыкновенная, первая щеголиха по всему околотку, умница, речистая, смелая. Ее барин, Дмитрий Пестов, отец Марьи Дмитриевны, человек скромный и тихий, увидал ее однажды на молотьбе, поговорил с ней и стра стно в нее влюбился. Она скоро овдовела; Пестов, хотя и женатый был человек, взял ее к себе в дом, одел ее по-дворовому. Агафья тотчас освоилась с новым своим положением, точно она век свой иначе не жила. Она побелела, пополнела; руки у ней под кисейными рукавами стали «крупичатые», как у купчихи; самовар не сходил со стола; кроме шелку да бархату она ничего носить не хотела, спала на пуховых перинах. Лет пять продолжалась эта блаженная жизнь, но Дмитрий Пестов умер; вдова его, барыня добрая, жалея память покойника, не хотела поступить с своей соперницей нечестно, тем более что Агафья никогда перед ней не забывалась; однако выдала ее за скотника и сослала с глаз долой. Прошло года три. Раз как-то, в жаркий летний день, барыня заехала к себе на скотный двор. Агафья попотчевала ее такими славными холодными сливками, так скромно себя держала и сама была такая опрятная, веселая, всем довольная, что барыня объявила ей прощение и позволила ходить в дом; а месяцев через шесть так к ней привязалась, что произвела ее в экономки и поручила ей всё хозяйство. Агафья опять вошла в силу, опять раздобрела и побелела; барыня совсем ей вверилась. Так прошло еще лет пять. Несчастье вторично обрушилось на Агафью. Муж ее, которого она вывела в лакеи, запил, стал пропадать из дому и кончил тем, что украл шесть господских серебряных ложек и запрятал их – до случая – в женин сундук. Это открылось. Его опять повернули в скотники, а на Агафью наложили опалу; из дома ее не выгнали, но разжаловали из экономок в швеи и велели ей вместо чепца носить на голове платок. К удивлению всех, Агафья с покорным смирением приняла поразивший ее удар. Ей уже было тогда за тридцать лет, дети у ней все померли, и муж жил недолго. Пришла ей пора опомниться: она опомнилась. Она стала очень молчалива и богомольна, не пропускала ни одной заутрени, ни одной обедни, раздарила все свои хорошие платья. Пятнадцать лет провела она тихо, смиренно, степенно, ни с кем не ссорясь, всем уступая. Нагрубит ли ей кто – она только поклонится и поблагодарит за учение. Барыня давно ей простила, и опалу сложила с нее, и с своей головы чепец подарила; но она сама не захотела снять свой платок и всё ходила в темном платье; а после смерти барыни она стала еще тише и ниже. Русский человек боится и привязывается легко; но уважение его заслужить трудно: дается оно не скоро и не всякому. Агафью все в доме очень уважали; никто и не вспоминал о прежних грехах, словно их вместе с старым барином в землю похоронили.
Сделавшись мужем Марьи Дмитриевны, Калитин хотел было поручить Агафье домашнее хозяйство; но она отказалась «ради соблазна»; он прикрикнул на нее: она низко поклонилась и вышла вон. Умный Калитин понимал людей; он и Агафью понял и не забыл ее. Переселившись в город, он, с ее согласия, приставил ее в качестве няни к Лизе, которой только что пошел пятый год.
Лизу сперва испугало серьезное и строгое лицо новой няни, но она скоро привыкла к ней и крепко полюбила. Она сама была серьезный ребенок; черты ее напоминали резкий и правильный облик Калитина; только глаза у ней были не отцовские; они светились тихим вниманием и добротой, что редко в детях. Она в куклы не любила играть, смеялась не громко и не долго, держалась чинно. Она задумывалась не часто, но почти всегда недаром: помолчав немного, она обыкновенно кончала тем, что обращалась к кому-нибудь старшему с вопросом, показывавшим, что голова ее работала над новым впечатлением. Она очень скоро перестала картавить и уже на четвертом году говорила совершенно чисто. Отца она боялась; чувство ее к матери было неопределенно, – она не боялась ее и не ласкалась к ней; впрочем, она и к Агафье не ласкалась, хотя только ее одну и любила. Агафья с ней не расставалась. Странно было видеть их вдвоем. Бывало, Агафья, вся в черном, с темным платком на голове, с похудевшим, как воск прозрачным, но всё еще прекрасным и выразительным лицом, сидит прямо и вяжет чулок; у ног ее, на маленьком креслице, сидит Лиза и тоже трудится над какой-нибудь работой или, важно поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья; а Агафья рассказывает ей не сказки: мерным и ровным голосом рассказывает она житие Пречистой Девы, житие отшельников, угодников Божиих, святых мучениц; говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, – и царей не боялись, Христа исповедовали; как им птицы небесные корм носили и звери их слушались; как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали. «Желтофиоли?» – спросила однажды Лиза, которая очень любила цветы… Агафья говорила с Лизой важно и смиренно, точно она сама чувствовала, что не ей бы произносить такие высокие и святые слова. Лиза ее слушала – и образ вездесущего, всезнающего Бога с какой-то сладкой силой втеснялся в ее душу, наполнял ее чистым, благоговейным страхом, а Христос становился ей чем-то близким, знакомым, чуть не родным. Агафья и молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на заре, торопливо ее одевала и уводила тайком к заутрене; Лиза шла за ней на цыпочках, едва дыша; холод и полусвет утра, свежесть и пустота церкви, самая таинственность этих неожиданных отлучек, осторожное возвращение в дом, в постельку, – вся эта смесь запрещенного, странного, святого потрясала девочку, проникала в самую глубь ее существа. Агафья никогда никого не осуждала и Лизу не бранила за шалости. Когда она бывала чем недовольна, она только молчала; и Лиза понимала это молчание; с быстрой прозорливостью ребенка она так же хорошо понимала, когда Агафья была недовольна другими – Марьей ли Дмитриевной, самим ли Калитиным. Года три с небольшим ходила Агафья за Лизой; девица Моро ее сменила; но легкомысленная француженка с своими сухими ухватками да восклицанием: «Tout ça c’est des bêtises» – не могла вытеснить из сердца Лизы ее любимую няню: посеянные семена пустили слишком глубокие корни. Притом Агафья, хотя и перестала ходить за Лизой, осталась в доме и часто видалась с своей воспитанницей, которая ей верила по-прежнему.
Агафья, однако, не ужилась с Марфой Тимофеевной, когда та переехала в калитинский дом. Строгая важность бывшей «паневницы» не нравилась нетерпеливой и самовольной старушке. Агафья отпросилась на богомолье и не вернулась. Ходили темные слухи, будто она удалилась в раскольничий скит. Но след, оставленный ею в душе Лизы, не изгладился. Она по-прежнему шла к обедне, как на праздник, молилась с наслажденьем, с каким-то сдержанным и стыдливым порывом, чему Марья Дмитриевна втайне немало дивилась, да и сама Марфа Тимофеевна, хотя ни в чем не стесняла Лизу, однако старалась умерить ее рвение и не позволяла ей класть лишние земные поклоны: не дворянская, мол, это замашка. Училась Лиза хорошо, то есть усидчиво; особенно блестящими способностями, большим умом ее Бог не наградил; без труда ей ничего не давалось. Она хорошо играла на фортепьяно; но один Лемм знал, чего ей это стоило. Читала она немного; у ней не было «своих слов», но были свои мысли, и шла она своей дорогой. Недаром походила она на отца: он тоже не спрашивал у других, что ему делать. Так росла она – покойно, неторопливо, так достигла девятнадцатилетнего возраста. Она была очень мила, сама того не зная. В каждом ее движенье высказывалась невольная, несколько неловкая грация; голос ее звучал серебром нетронутой юности; малейшее ощущение удовольствия вызывало привлекательную улыбку на ее губы, придавало глубокий блеск и какую-то тайную ласковость ее засветившимся глазам. Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности; она любила одного Бога восторженно, робко, нежно. Лаврецкий первый нарушил ее тихую внутреннюю жизнь.
Такова была Лиза.
XXXVI
На следующий день, часу в двенадцатом, Лаврецкий отправился к Калитиным. На дороге он встретил Паншина, который проскакал мимо его верхом, нахлобучив шляпу на самые брови. У Калитиных Лаврецкого не приняли – в первый раз с тех пор, как он с ними познакомился. Марья Дмитриевна «почивали», – так доложил лакей; у «них» голова болела. Марфы Тимофеевны и Лизаветы Михайловны не было дома. Лаврецкий походил около сада в смутной надежде встретиться с Лизой, но не увидал никого. Он вернулся через два часа и получил тот же ответ, причем лакей как-то косо посмотрел на него. Лаврецкому показалось неприличным наведываться в тот же день в третий раз – и он решился съездить в Васильевское, где у него без того были дела. На дороге он строил различные планы, один прекраснее другого; но в сельце его тетки на него напала грусть; он вступил в разговор с Антоном; у старика, как нарочно, всё невеселые мысли на уме были. Он рассказал Лаврецкому, как Глафира Петровна перед смертью сама себя за руку укусила, – и, помолчав, сказал со вздохом: «Всяк человек, барин-батюшка, сам себе на съедение предан». Было уже поздно, когда Лаврецкий пустился в обратный путь. Вчерашние звуки охватили его, образ Лизы восстал в его душе во всей своей кроткой ясности; он умилился при мысли, что она его любит, – и подъехал к своему городскому домику успокоенный и счастливый.
Первое, что поразило его при входе в переднюю, был запах пачули, весьма ему противный; тут же стояли какие-то высокие сундуки и баулы. Лицо выскочившего к нему навстречу камердинера показалось ему странным. Не отдавая себе отчета в своих впечатлениях, переступил он порог гостиной… Ему навстречу с дивана поднялась дама в черном шелковом платье с воланами и, поднеся батистовый платок к бледному лицу, переступила несколько шагов, склонила тщательно расчесанную душистую голову – и упала к его ногам… Тут только он узнал ее: эта дама была его жена.
Дыхание у него захватило… Он прислонился к стене.
– Теодор, не прогоняйте меня! – сказала она по-французски, и голос ее как ножом резанул его по сердцу.
Он глядел на нее бессмысленно и, однако, тотчас же невольно заметил, что она и побелела и отекла.
– Теодор! – продолжала она, изредка вскидывая глазами и осторожно ломая свои удивительно красивые пальцы с розовыми лощеными ногтями. – Теодор, я перед вами виновата, глубоко виновата, – скажу более, я преступница; но вы выслушайте меня, раскаяние меня мучит, я стала самой себе в тягость, я не могла более переносить мое положение; сколько раз я думала обратиться к вам, но я боялась вашего гнева: я решилась разорвать всякую связь с прошедшим… puis, j’ai ete si malade, я была так больна, – прибавила она и провела рукой по лбу и по щеке, – я воспользовалась распространившимся слухом о моей смерти, я покинула всё; не останавливаясь, день и ночь спешила я сюда; я долго колебалась предстать пред вас, моего судью – paraître devant vous, mon juge; но я решилась наконец, вспомнив вашу всегдашнюю доброту, ехать к вам; я узнала ваш адрес в Москве. Поверьте, – продолжала она, тихонько поднимаясь с полу и садясь на самый край кресла, – я часто думала о смерти, и я бы нашла в себе довольно мужества, чтобы лишить себя жизни – ах, жизнь теперь для меня несносное бремя! – но мысль о моей дочери, о моей Адочке, меня останавливала; она здесь, она спит в соседней комнате, бедный ребенок! Она устала – вы ее увидите: она по крайней мере перед вами не виновата, а я так несчастна, так несчастна! – воскликнула г-жа Лаврецкая и залилась слезами.
Лаврецкий пришел наконец в себя; он отделился от стены и повернулся к двери.
– Вы уходите? – с отчаяньем проговорила его жена, – о, это жестоко! Не сказавши мне ни одного слова, ни одного даже упрека… Это презрение меня убивает, это ужасно!
Лаврецкий остановился.
– Что вы хотите слышать от меня? – произнес он беззвучным голосом.
– Ничего, ничего, – с живостью подхватила она, – я знаю, я не вправе ничего требовать; я не безумная, поверьте; я не надеюсь, я не смею надеяться на ваше прощение; я только осмеливаюсь просить вас, чтобы вы приказали мне, что мне делать, где мне жить. Я, как рабыня, исполню ваше приказание, какое бы оно ни было.
– Мне нечего вам приказывать, – возразил тем же голосом Лаврецкий, – вы знаете – между нами всё кончено… и теперь более, чем когда-нибудь. Вы можете жить где вам угодно; и если вам мало вашей пенсии…
– Ах, не говорите таких ужасных слов, – перебила его Варвара Павловна, – пощадите меня, хотя… хотя ради этого ангела… – И, сказавши эти слова, Варвара Павловна стремительно выбежала в другую комнату и тотчас же вернулась с маленькой, очень изящно одетой девочкой на руках. Крупные русые кудри падали ей на хорошенькое румяное личико, на большие черные заспанные глаза; она и улыбалась, и щурилась от огня, и упиралась пухлой ручонкой в шею матери.
– Ada, vois, с’est ton рёrе[27], – проговорила Варвара Павловна, отводя от ее глаз кудри и крепко целуя ее, – prie le avec moi[28].
– С’est ca рара[29], – залепетала девочка, картавя.
– Oui, mon enfant, n’est-ce pas que tu l’aimes?[30]
Но тут стало невмочь Лаврецкому.
– В какой это мелодраме есть совершенно такая сцена? – пробормотал он и вышел вон.
Варвара Павловна постояла некоторое время на месте, слегка повела плечами, отнесла девочку в другую комнату, раздела и уложила ее. Потом она достала книжку, села у лампы, подождала около часу и наконец сама легла в постель.
– Eh bien, madame?[31] – спросила ее ее служанка француженка, вывезенная ею из Парижа, снимая с нее корсет.
– Eh bien, Justine[32], – возразила она, – он очень постарел, но, мне кажется, он всё такой же добрый. Подайте мне перчатки на ночь, приготовьте к завтрашнему дню серое платье доверху; да не забудьте бараньих котлет для Ады… Правда, их здесь трудно найти; но надо постараться.
– А la guerre comme ä la guerre[33], – возразила Жюстина и загасила свечку.
XXXVII
Более двух часов скитался Лаврецкий по улицам города. Пришла ему на память ночь, проведенная в окрестностях Парижа. Сердце у него надрывалось, и в голове, пустой и словно оглушенной, кружились всё одни и те же мысли, темные, вздорные, злые. «Она жива, она здесь», – шептал он с постоянно возрождавшимся изумлением. Он чувствовал, что потерял Лизу. Желчь его душила; слишком внезапно поразил его этот удар. Как мог он так легко поверить вздорной болтовне фельетона, лоскуту бумаги? «Ну, я бы не поверил, – подумал он, – какая была бы разница? Я бы не знал, что Лиза меня любит; она сама бы этого не знала». Он не мог отогнать от себя образа, голоса, взоров своей жены… и он проклинал себя, проклинал всё на свете.
Измученный, пришел он перед утром к Лемму. Долго он не мог достучаться; наконец в окне показалась голова старика в колпаке, кислая, сморщенная, уже нисколько не похожая на ту вдохновенно суровую голову, которая, двадцать четыре часа тому назад, со всей высоты своего художнического величия царски глянула на Лаврецкого.
– Что вам надо? – спросил Лемм, – я не могу каждую ночь играть, я декокт принял.
Но, видно, лицо у Лаврецкого было очень странно: старик сделал себе из руки над глазами козырек, вгляделся в своего ночного посетителя и впустил его.
Лаврецкий вошел в комнату и опустился на стул; старик остановился перед ним, запахнув полы своего пестрого, дряхлого халата, ежась и жуя губами.
– Моя жена приехала, – проговорил Лаврецкий, поднял голову и вдруг сам невольно рассмеялся.
Лицо Лемма выразило изумление, но он даже не улыбнулся, только крепче завернулся в халат.
– Ведь вы не знаете, – продолжал Лаврецкий, – я воображал… я прочел в газете, что ее уже нет на свете.
– О-о, это вы недавно прочли? – спросил Лемм.
– Недавно.
– О-о, – повторил старик и высоко поднял брови. – И она приехала?
– Приехала. Она теперь у меня; а я… я несчастный человек.
И он опять усмехнулся.
– Вы несчастный человек, – медленно повторил Лемм.
– Христофор Федорыч, – начал Лаврецкий, – возьметесь вы доставить записку?
– Гм. Можно узнать кому?
– Лизав…
– А, да, да, понимаю. Хорошо. А когда нужно будет доставить записку?
– Завтра, как можно раньше.
– Гм. Можно послать Катрин, мою кухарку. Нет, я сам пойду.
– И принесете мне ответ?
– И принесу ответ.
Лемм вздохнул.
– Да, мой бедный молодой друг; вы, точно, – несчастный молодой человек.
Лаврецкий написал два слова Лизе: он известил ее о приезде жены, просил ее назначить ему свидание, – и бросился на узенький диван лицом к стене; а старик лег на постель и долго ворочался, кашляя и отпивая глотками свой декокт.
Настало утро; оба они поднялись. Странными глазами поглядели они друг на друга. Лаврецкому хотелось в этот миг убить себя. Кухарка Катрин принесла им скверного кофе. Пробило восемь часов. Лемм надел шляпу и, сказавши, что урок он дает у Калитиных в десять часов, но что он найдет приличный предлог, отправился. Лаврецкий опять бросился на диванчик, и опять со дна его души зашевелился горестный смех. Он думал о том, как жена выгнала его из дому; он представлял себе положение Лизы, закрывал глаза и закидывал руки за голову. Наконец Лемм вернулся и принес ему клочок бумаги, на котором Лиза начертила карандашом следующие слова: «Мы сегодня не можем видеться; может быть – завтра вечером. Прощайте». Лаврецкий сухо и рассеянно поблагодарил Лемма и пошел к себе домой.
Он застал жену за завтраком; Ада, вся в буклях, в беленьком платьице с голубыми ленточками, кушала баранью котлетку. Варвара Павловна тотчас встала, как только Лаврецкий вошел в комнату, и с покорностью на лице подошла к нему. Он попросил ее последовать за ним в кабинет, запер за собою дверь и начал ходить взад и вперед; она села, скромно положила одну руку на другую и принялась следить за ним своими все еще прекрасными, хотя слегка подрисованными, глазами.
Лаврецкий долго не мог заговорить: он чувствовал, что не владел собою; он видел ясно, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала вид, что вот сейчас в обморок упадет.
– Послушайте, сударыня, – начал он наконец, тяжело дыша и по временам стискивая зубы, – нам нечего притворяться друг перед другом; я вашему раскаянию не верю; да если бы оно и было искренно, сойтись снова с вами, жить с вами – мне невозможно.
Варвара Павловна сжала губы и прищурилась. «Это отвращение, – подумала она, – кончено! я для него даже не женщина».
– Невозможно, – повторил Лаврецкий и застегнулся доверху. – Я не знаю, зачем вам угодно было пожаловать сюда: вероятно, у вас денег больше не стало.
– Увы! вы оскорбляете меня, – прошептала Варвара Павловна.
– Как бы то ни было – вы все-таки, к сожалению, моя жена. Не могу же я вас прогнать… и вот что я вам предлагаю. Вы можете сегодня же, если угодно, отправиться в Лаврики, живите там; там, вы знаете, хороший дом; вы будете получать всё нужное, сверх пенсии… Согласны вы?
Варвара Павловна поднесла вышитый платок к лицу.
– Я вам уже сказала, – промолвила она, нервически подергивая губами, – что я на всё буду согласна, что бы вам ни угодно было сделать со мной; на этот раз остается мне спросить у вас: позволите ли вы мне по крайней мере поблагодарить вас за ваше великодушие?
– Без благодарности, прошу вас, эдак лучше, – поспешно проговорил Лаврецкий. – Стало быть, – продолжал он, приближаясь к двери, – я могу рассчитывать…
– Завтра же я буду в Лавриках, – промолвила Варвара Павловна, почтительно поднимаясь с места. – Но, Федор Иваныч (Теодором она его больше не называла)…
– Что вам угодно?
– Я знаю, я еще ничем не заслужила своего прощения; могу ли я надеяться по крайней мере, что со временем…
– Эх, Варвара Павловна, – перебил ее Лаврецкий, – вы умная женщина, да ведь и я не дурак; я знаю, что этого вам совсем не нужно. А я давно вас простил; но между нами всегда была бездна.
– Я сумею покориться, – возразила Варвара Павловна и склонила голову. – Я не забыла своей вины; я бы не удивилась, если бы узнала, что вы даже обрадовались известию о моей смерти, – кротко прибавила она, слегка указывая рукой на лежавший на столе, забытый Лаврецким номер журнала.
Федор Иваныч дрогнул: фельетон был отмечен карандашом. Варвара Павловна еще с большим уничижением посмотрела на него. Она была очень хороша в это мгновенье. Серое парижское платье стройно охватывало ее гибкий, почти семнадцатилетний стан, ее тонкая, нежная шея, окруженная белым воротничком, ровно дышавшая грудь, руки без браслетов и колец – вся ее фигура, от лоснистых волос до кончика едва выставленной ботинки, была так изящна…
Лаврецкий окинул ее злобным взглядом, чуть не воскликнул: «Bravava!», чуть не ударил ее кулаком по темени – и удалился. Час спустя он уже отправился в Васильевское, а два часа спустя Варвара Павловна велела нанять себе лучшую карету в городе, надела простую соломенную шляпу с черным вуалем и скромную мантилью, поручила Аду Жюстине и отправилась к Калитиным: из расспросов, сделанных ею прислуге, она узнала, что муж ее ездил к ним каждый день.
XXXVIII
День приезда жены Лаврецкого в город О…, невеселый для него день, был также тягостным днем для Лизы. Не успела она сойти вниз и поздороваться с матерью, как уже под окном раздался конский топот, и она с тайным страхом увидела Паншина, въезжавшего на двор. «Он явился так рано для окончательного объяснения», – подумала она – и не обманулась; повертевшись в гостиной, он предложил ей пойти с ним в сад и потребовал решения своей участи. Лиза собралась с духом и объявила ему, что не может быть его женой. Он выслушал ее до конца, стоя к ней боком и надвинув на лоб шляпу; вежливо, но измененным голосом спросил ее: последнее ли это ее слово и не подал ли он чем-нибудь повода к подобной перемене в ее мыслях? Потом прижал руку к глазам, коротко и отрывисто вздохнул и отдернул руку от лица.
– Я не хотел пойти по избитой дороге, – проговорил он глухо, – я хотел найти себе подругу по влечению сердца; но, видно, этому не должно быть. Прощай, мечта! – Он глубоко поклонился Лизе и вернулся в дом.
Она надеялась, что он тотчас же уедет; но он пошел в кабинет к Марье Дмитриевне и около часа просидел у ней. Уходя, он сказал Лизе: «Votre mère vous appelle; adieu à jamais…»[34] – сел на лошадь и от самого крыльца поскакал во всю прыть. Лиза вошла к Марье Дмитриевне и застала ее в слезах: Паншин сообщил ей свое несчастие.
– За что ты меня убила? За что ты меня убила? – так начала свои жалобы огорченная вдова. – Кого тебе еще нужно? Чем он тебе не муж? Камер-юнкер! не интересан! Он в Петербурге на любой фрейлине мог бы жениться. А я-то, я-то надеялась! И давно ли ты к нему изменилась? Откуда-нибудь эта туча надута, не сама собой пришла. Уж не тот ли фофан? Вот нашла советчика! А он-то, мой голубчик, – продолжала Марья Дмитриевна, – как он почтителен, в самой печали как внимателен! Обещался не оставлять меня. Ах, я этого не перенесу! Ах, у меня голова смертельно разболелась! Пошли ко мне Палашку. Ты убьешь меня, если не одумаешься, слышишь? – И, назвав ее раза два неблагодарною, Марья Дмитриевна услала Лизу.
Она отправилась в свою комнату. Но не успела она еще отдохнуть от объяснения с Паншиным и с матерью, как на нее опять обрушилась гроза, и с такой стороны, откуда она меньше всего ее ожидала. Марфа Тимофеевна вошла к ней в комнату и тотчас захлопнула за собою дверь. Лицо старушки было бледно, чепец сидел набоку, глаза ее блестели, руки, губы дрожали. Лиза изумилась: она никогда еще не видала своей умной и рассудительной тетки в таком состоянии.
– Прекрасно, сударыня, – начала Марфа Тимофеевна трепетным и прерывистым шепотом, – прекрасно! У кого ты это только выучилась, мать моя… Дай мне воды; я говорить не могу.
– Успокойтесь, тетушка, что с вами? – говорила Лиза, подавая ей стакан воды. – Ведь вы сами, кажется, не жаловали господина Паншина.
Марфа Тимофеевна отставила стакан.
– Пить не могу: зубы себе последние выбью. Какой тут Паншин? К чему тут Паншин? А ты лучше мне скажи, кто тебя научил свидания по ночам назначать, а, мать моя?
Лиза побледнела.
– Ты, пожалуйста, не вздумай отговариваться, – продолжала Марфа Тимофеевна. – Шурочка сама всё видела и мне сказала. Я ей запретила болтать, а она не солжет.
– Я и не отговариваюсь, тетушка, – чуть слышно промолвила Лиза.
– А-а! Так вот как, мать моя: ты свидание ему назначила, этому старому греховоднику, смиреннику этому?
– Нет.
– Как же так?
– Я сошла вниз в гостиную за книжкой: он был в саду – и позвал меня.
– И ты пошла? Прекрасно. Да ты любишь его, что ли?
– Люблю, – отвечала тихим голосом Лиза.
– Матушки мои! она его любит! – Марфа Тимофеевна сдернула с себя чепец. – Женатого человека любит! а? любит!
– Он мне сказывал… – начала Лиза.
– Что он тебе сказывал, соколик эдакой, что-о?
– Он мне сказывал, что жена его скончалась.
Марфа Тимофеевна перекрестилась.
– Царство ей Небесное, – прошептала она, – пустая была бабенка – не тем будь помянута. Вот как: вдовый он, стало быть. Да он, я вижу, на все руки. Одну жену уморил, да и за другую. Каков тихоня? Только вот что скажу тебе, племянница: в наши времена, как я молода была, девкам за такие проделки больно доставалось. Ты не сердись на меня, мать моя; за правду одни дураки сердятся. Я и отказать ему велела сегодня. Я его люблю, но этого я ему никогда не прощу. Вишь, вдовый! Дай-ка мне воды. А что ты Паншина с носом отослала, за это ты у меня молодец; только не сиди ты по ночам с этой козьей породой, с мужчинами; не сокрушай ты меня, старуху! А то ведь я не всё ласкаться – я и кусаться умею… Вдовый!
Марфа Тимофеевна ушла, а Лиза села в уголок и заплакала. Горько ей стало на душе; не заслужила она такого униженья. Не веселостью сказывалась ей любовь: во второй раз плакала она со вчерашнего вечера. В ее сердце едва только родилось то новое, нежданное чувство, и уже как тяжело поплатилась она за него, как грубо коснулись чужие руки ее заветной тайны! Стыдно, и горько, и больно было ей: но ни сомненья, ни страха в ней не было, – и Лаврецкий стал ей еще дороже. Она колебалась, пока сама себя не понимала; но после того свидания, после того поцелуя – она уже колебаться не могла; она знала, что любит, – и полюбила честно, не шутя, привязалась крепко, на всю жизнь – и не боялась угроз: она чувствовала, что насилию не расторгнуть этой связи.
XXXIX
Марья Дмитриевна очень встревожилась, когда ей доложили о приезде Варвары Павловны Лаврецкой; она даже не знала, принять ли ее: она боялась оскорбить Федора Иваныча. Наконец любопытство превозмогло. «Что ж, – подумала она, – ведь она тоже родная, – и, усевшись в креслах, сказала лакею: – Проси!» Прошло несколько мгновений; дверь отворилась; Варвара Павловна быстро, чуть слышными шагами приблизилась к Марье Дмитриевне и, не давая ей встать с кресел, почти склонила перед ней колени.
– Благодарствуйте, тетушка, – начала она тронутым и тихим голосом по-русски, – благодарствуйте; я не надеялась на такое снисхожденье с вашей стороны; вы добры, как ангел.
Сказавши эти слова, Варвара Павловна неожиданно овладела одной рукой Марьи Дмитриевны и, слегка стиснув ее в своих бледно-лиловых жувеневских перчатках, подобострастно поднесла ее к розовым и полным губам. Марья Дмитриевна совсем потерялась, увидев такую красивую, прелестно одетую женщину почти у ног своих; она не знала, как ей быть: и руку-то свою она у ней отнять хотела, и усадить-то ее она желала, и сказать ей что-нибудь ласковое; она кончила тем, что приподнялась и поцеловала Варвару Павловну в гладкий и пахучий лоб. Варвара Павловна вся сомлела под этим поцелуем.
– Здравствуйте, bonjour, – сказала Марья Дмитриевна, – конечно, я не воображала… впрочем, я, конечно, рада вас видеть. Вы понимаете, милая моя, – не мне быть судьею между женой и мужем…
– Мой муж во всем прав, – перебила ее Варвара Павловна, – я одна виновата.
– Это очень похвальные чувства, – возразила Марья Дмитриевна, – очень. Давно вы приехали? Видели вы его? Да сядьте же, пожалуйста.
– Я вчера приехала, – отвечала Варвара Павловна, смиренно садясь на стул, – я видела Федора Иваныча, я говорила с ним.
– А! Ну, и что же он?
– Я боялась, что мой внезапный приезд возбудит его гнев, – продолжала Варвара Павловна, – но он не лишил меня своего присутствия.
– То есть он не… Да, да, понимаю, – промолвила Марья Дмитриевна. – Он только с виду немного груб, а сердце у него мягкое.
– Федор Иваныч не простил меня; он не хотел меня выслушать… Но он был так добр, что назначил мне Лаврики местом жительства.
– А! прекрасное именье!
– Я завтра же отправляюсь туда, в исполнение его воли; но я почла долгом побывать прежде у вас.
– Очень, очень вам благодарна, моя милая. Родных никогда забывать не следует. А знаете ли, я удивляюсь, как вы хорошо говорите по-русски. C’est etonnant[35].
Варвара Павловна вздохнула.
– Я слишком долго пробыла за границей, Марья Дмитриевна, я это знаю; но сердце у меня всегда было русское, и я не забывала своего отечества.
– Так, так; это лучше всего. Федор Иваныч вас, однако, вовсе не ожидал… Да; поверьте моей опытности: la patrie avant tout1. Ax, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантилья?
– Вам она нравится? – Варвара Павловна проворно спустила ее с плеч. – Она очень простенькая, от madame Baudran.
– Это сейчас видно. От madame Baudran… Как мило и с каким вкусом! Я уверена, вы привезли с собой множество восхитительных вещей. Я бы хоть посмотрела.
– Весь мой туалет к вашим услугам, любезнейшая тетушка. Если позволите, я могу кое-что показать вашей камеристке. Со мной служанка из Парижа – удивительная швея.
– Вы очень добры, моя милая. Но, право, мне совестно.
– Совестно… – повторила с упреком Варвара Павловна. – Хотите вы меня осчастливить – распоряжайтесь мною, как вашей собственностью!
Марья Дмитриевна растаяла.
– Vous êtes charmante[36], – проговорила она. – Да что же вы не снимаете вашу шляпу, перчатки?
– Как? вы позволяете? – спросила Варвара Павловна и слегка, как бы с умиленьем, сложила руки.
– Разумеется; ведь вы обедаете с нами, я надеюсь. Я… я вас познакомлю с моей дочерью. – Марья Дмитриевна немного смутилась. «Ну! куда ни шло!» – подумала она. – Она сегодня что-то нездорова у меня.
– О, ma tante[37], как вы добры! – воскликнула Варвара Павловна и поднесла платок к глазам.
Казачок доложил о приходе Гедеоновского. Старый болтун вошел, отвешивая поклоны и ухмыляясь. Марья Дмитриевна представила его своей гостье. Он сперва было сконфузился; но Варвара Павловна так кокетливо-почтительно обошлась с ним, что у него ушки разгорелись, и выдумки, сплетни, любезности медом потекли с его уст. Варвара Павловна слушала его, сдержанно улыбалась и сама понемногу разговорилась. Она скромно рассказывала о Париже, о своих путешествиях, о Бадене; раза два рассмешила Марью Дмитриевну и всякий раз потом слегка вздыхала и как будто мысленно упрекала себя в неуместной веселости; выпросила позволение привести Аду; снявши перчатки, показывала своими гладкими, вымытыми мылом a la guimauve[38] руками, как и где носятся воланы, рюши, кружева, шу; обещалась принести стклянку с новыми английскими духами: Victoria’s Essence[39], и обрадовалась, как дитя, когда Марья Дмитриевна согласилась принять ее в подарок; всплакнула при воспоминании о том, какое чувство она испытала, когда в первый раз услыхала русские колокола. «Так глубоко поразили они меня в самое сердце», – промолвила она.
В это мгновенье вошла Лиза.
С утра, с самой той минуты, когда она, вся похолодев от ужаса, прочла записку Лаврецкого, Лиза готовилась к встрече с его женою; она предчувствовала, что увидит ее. Она решилась не избегать ее, в наказание своим, как она назвала их, преступным надеждам. Внезапный перелом в ее судьбе потряс ее до основания; в два каких-нибудь часа ее лицо похудело; но она и слезинки не проронила. «Поделом!» – говорила она самой себе, с трудом и волнением подавляя в душе какие-то горькие, злые, ее самое пугавшие порывы. «Ну, надо идти!» – подумала она, как только узнала о приезде Лаврецкой, и она пошла… Долго стояла она перед дверью гостиной, прежде чем решилась отворить ее; с мыслью «Я перед нею виновата» – переступила она порог и заставила себя посмотреть на нее, заставила себя улыбнуться. Варвара Павловна пошла ей навстречу, как только увидала ее, и склонилась перед ней слегка, но все-таки почтительно. «Позвольте мне рекомендовать себя, – заговорила она вкрадчивым голосом, – ваша maman так снисходительна ко мне, что я надеюсь, что и вы будете… добры». Выражение лица Варвары Павловны, когда она сказала это последнее слово, ее хитрая улыбка, холодный и в то же время мягкий взгляд, движение ее рук и плечей, самое ее платье, всё ее существо – возбудили такое чувство отвращения в Лизе, что она ничего не могла ей ответить и через силу протянула ей руку. «Эта барышня брезгает мною», – подумала Варвара Павловна, крепко стискивая холодные пальцы Лизы и, обернувшись к Марье Дмитриевне, промолвила вполголоса: «Mais elle est delicieuse!»[40] Лиза слабо вспыхнула: насмешка, обида послышались ей в этом восклицании; но она решилась не верить своим впечатлениям и села к окну за пяльцы. Варвара Павловна и тут не оставила ее в покое: подошла к ней, начала хвалить ее вкус, ее искусство… Сильно и болезненно забилось сердце у Лизы: она едва переломила себя, едва усидела на месте. Ей казалось, что Варвара Павловна всё знает и, тайно торжествуя, подтрунивает над ней. К счастью ее, Гедеоновский заговорил с Варварой Павловной и отвлек ее внимание. Лиза склонилась над пяльцами и украдкой наблюдала за нею. «Эту женщину, – думала она, – любил он». Но она тотчас же изгнала из головы самую мысль о Лаврецком: она боялась потерять власть над собою, она чувствовала, что голова у ней тихо кружилась. Марья Дмитриевна заговорила о музыке.
– Я слышала, моя милая, – начала она, – вы удивительная виртуозка.
– Я давно не играла, – возразила Варвара Павловна, немедленно садясь за фортепьяно, и бойко пробежала пальцами по клавишам. – Прикажете?
– Сделайте одолжение.
Варвара Павловна мастерски сыграла блестящий и трудный этюд Герца. У ней было очень много силы и проворства.
– Сильфида! – воскликнул Гедеоновский.
– Необыкновенно! – подтвердила Марья Дмитриевна. – Ну, Варвара Павловна, признаюсь, – промолвила она, в первый раз называя ее по имени, – удиви ли вы меня; вам хоть бы концерты давать. Здесь у нас есть музыкант, старик, из немцев, чудак, очень ученый; он Лизе уроки дает; тот просто от вас с ума сойдет.
– Лизавета Михайловна тоже музыкантша? – спросила Варвара Павловна, слегка обернув к ней голову.
– Да, она играет недурно и любит музыку; но что это значит перед вами? Но здесь есть еще один молодой человек; вот с кем вы должны познакомиться. Это – артист в душе и сочиняет премило. Он один может вас вполне оценить.
– Молодой человек? – проговорила Варвара Павловна. – Кто он такой? Бедный какой-нибудь?
– Помилуйте, первый кавалер у нас, да не только у нас – et à Petersbourg. Камер-юнкер, в лучшем обществе принят. Вы, наверное, слыхали о нем: Паншин, Владимир Николаич. Он здесь по казенному поручению… будущий министр, помилуйте!
– И артист?
– Артист в душе, и такой любезный. Вы его увидите. Он всё это время очень часто у меня бывал; я пригласила его на сегодняшний вечер; надеюсь, что он приедет, – прибавила Марья Дмитриевна с коротким вздохом и косвенной горькой улыбкой.
Лиза поняла значение этой улыбки; но ей было не до того.
– И молодой? – повторила Варвара Павловна, слегка модулируя из тона в тон.
– Двадцати восьми лет – и самой счастливой наружности. Un jeune homme accompli[41], помилуйте.
– Образцовый, можно сказать, юноша, – заметил Гедеоновский.
Варвара Павловна внезапно заиграла шумный штраусовский вальс, начинавшийся такой сильной и быстрой трелью, что Гедеоновский даже вздрогнул; в самой середине вальса она вдруг перешла в грустный мотив и кончила ариею из «Лучии»: Fra росо…[42] Она сообразила, что веселая музыка нейдет к ее положению. Ария из «Лучии», с ударениями на чувствительных нотках, очень растрогала Марью Дмитриевну.
– Какая душа, – проговорила она вполголоса Гедеоновскому.
– Сильфида! – повторил Гедеоновский и поднял глаза к небу.
Настал час обеда. Марфа Тимофеевна сошла сверху, когда уже суп стоял на столе. Она очень сухо обошлась с Варварой Павловной, отвечала полусловами на ее любезности, не глядела на нее. Варвара Павловна сама скоро поняла, что от этой старухи толку не добьешься, и перестала заговаривать с нею; зато Марья Дмитриевна стала еще ласковей с своей гостьей: невежливость тетки ее рассердила. Впрочем, Марфа Тимофеевна не на одну Варвару Павловну не глядела: она и на Лизу не глядела, хотя глаза так и блестели у ней. Она сидела, как каменная, вся желтая, бледная, с сжатыми губами – и не ела ничего. Лиза казалась спокойной; и точно: у ней на душе тише стало; странная бесчувственность, бесчувственность осужденного нашла на нее. За обедом Варвара Павловна говорила мало: она словно опять оробела и распространила по лицу своему выражение скромной меланхолии. Один Гедеоновский оживлял беседу своими рассказами, хотя то и дело трусливо посматривал на Марфу Тимофеевну и перхал, – перхота нападала на него всякий раз, когда он в ее присутствии собирался лгать, – но она ему не мешала, не перебивала его. После обеда оказалось, что Варвара Павловна большая любительница преферанса; Марье Дмитриевне это до того понравилось, что она даже умилилась и подумала про себя: «Какой же, однако, дурак должен быть Федор Иваныч: не умел такую женщину понять!»
Она села играть в карты с нею и Гедеоновским, а Марфа Тимофеевна увела Лизу к себе наверх, сказав, что на ней лица нету, что у ней, должно быть, болит голова.
– Да, у ней ужасно голова болит, – промолвила Марья Дмитриевна, обращаясь к Варваре Павловне и закатывая глаза. – У меня самой такие бывают мигрени…
– Скажите! – возразила Варвара Павловна.
Лиза вошла в теткину комнату и в изнеможении опустилась на стул. Марфа Тимофеевна долго молча смотрела на нее, тихонько стала перед нею на колени – и начала, всё так же молча, целовать попеременно ее руки. Лиза подалась вперед, покраснела – и заплакала, но не подняла Марфы Тимофеевны, не отняла своих рук: она чувствовала, что не имела права отнять их, не имела права помешать старушке выразить свое раскаяние, участие, испросить у ней прощение за вчерашнее; и Марфа Тимофеевна не могла нацеловаться этих бедных, бледных, бессильных рук – и безмолвные слезы лились из ее глаз и глаз Лизы; а кот Матрос мурлыкал в широких креслах возле клубка с чулком; продолговатое пламя лампадки чуть-чуть трогалось и шевелилось перед иконой; в соседней комнатке, за дверью, стояла Настасья Карповна и тоже украдкой утирала себе глаза свернутым в клубочек клетчатым носовым платком.
XL
А между тем внизу, в гостиной, шел преферанс; Марья Дмитриевна выиграла и была в духе. Человек вошел и доложил о приезде Паншина.
Марья Дмитриевна уронила карты и завозилась на кресле; Варвара Павловна посмотрела на нее с полуусмешкой, потом обратила взоры на дверь. Появился Паншин, в черном фраке, в высоких английских воротничках, застегнутый доверху. «Мне было тяжело повиноваться; но вы видите, я приехал» – вот что выражало его неулыбавшееся, только что выбритое лицо.
– Помилуйте, Вольдемар, – воскликнула Марья Дмитриевна, – прежде вы без докладу входили!
Паншин ответил Марье Дмитриевне одним только взглядом, вежливо поклонился ей, но к ручке не подошел. Она представила его Варваре Павловне; он отступил на шаг, поклонился ей так же вежливо, но с оттенком изящества и уважения, и подсел к карточному столу. Преферанс скоро кончился. Паншин осведомился о Лизавете Михайловне, узнал, что она не совсем здорова, изъявил сожаленье; потом он заговорил с Варварой Павловной, дипломатически взвешивая и отчеканивая каждое слово, почтительно выслушивая ее ответы до конца. Но важность его дипломатического тона не действовала на Варвару Павловну, не сообщалась ей. Напротив: она с веселым вниманием глядела ему в лицо, говорила развязно, и тонкие ее ноздри слегка трепетали, как бы от сдержанного смеха. Марья Дмитриевна начала превозносить ее талант; Паншин учтиво, насколько позволяли ему воротнички, наклонил голову, объявил, что «он был в этом заранее уверен», – и завел речь чуть ли не о самом Меттернихе. Варвара Павловна прищурила свои бархатные глаза и, сказавши вполголоса: «Да ведь вы тоже артист, un confrère»[43], – прибавила еще тише: «Venez!»[44] – и качнула головой в сторону фортепьяно. Это одно брошенное слово «Venez!» мгновенно, как бы по волшебству, изменило всю наружность Паншина. Озабоченная осанка его исчезла; он улыбнулся, оживился, расстегнул фрак и, повторяя: «Какой я артист, увы! Вот вы, я слышал, артистка истинная», – направился вслед за Варварой Павловной к фортепьяно.
– Заставьте его спеть романс – как луна плывет, – воскликнула Марья Дмитриевна.
– Вы поете? – промолвила Варвара Павловна, озарив его светлым и быстрым взором. – Садитесь.
Паншин стал отговариваться.
– Садитесь, – повторила она, настойчиво постучав по спинке стула.
Он сел, кашлянул, оттянул воротнички и спел свой романс.
– Charmant[45], – проговорила Варвара Павловна, – вы прекрасно поете, vous avez du style[46], – повторите.
Она обошла вокруг фортепьяно и стала прямо напротив Паншина. Он повторил романс, придавая мелодраматическое дрожание своему голосу. Варвара Павловна пристально глядела на него, облокотясь на фортепьяно и держа свои белые руки в уровень своих губ. Паншин кончил.
– Charmant, charmante idee[47], – сказала она с спокойной уверенностью знатока. – Скажите, вы написали что-нибудь для женского голоса, для mezzo-soprano?
– Я почти ничего не пишу, – возразил Паншин, – я ведь это только так, между делом… А разве вы поете?
– Пою.
– О! спойте нам что-нибудь, – проговорила Марья Дмитриевна.
Варвара Павловна отвела рукою волосы от заалевшихся щек и встряхнула головой.
– Наши голоса должны идти друг к другу, – промолвила она, обращаясь к Паншину, – споемте дуэт. Знаете ли вы Son geloso, или La ci darem, или Mira la bianca luna?[48]
– Я пел когда-то Mira la bianca luna, – отвечал Паншин, – да давно, забыл.
– Ничего, мы прорепетируем вполголоса. Пустите меня.
Варвара Павловна села за фортепьяно. Паншин стал возле нее. Они спели вполголоса дуэт, причем Варвара Павловна несколько раз его поправляла, потом спели громко, потом два раза повторили: Mira la bianca lu… u… una. Голос у Варвары Павловны утратил свежесть, но она владела им очень ловко. Паншин сперва робел и слегка фальшивил, потом вошел в азарт, и если пел не безукоризненно, то шевелил плечами, покачивал всем туловищем и поднимал по временам руку, как настоящий певец. Варвара Павловна сыграла две-три тальберговские вещицы и кокетливо «сказала» французскую ариетку. Марья Дмитриевна уже не знала, как выразить свое удовольствие; она хотела несколько раз послать за Лизой; Гедеоновский также не находил слов и только головой качал, – но вдруг неожиданно зевнул и едва успел прикрыть рот рукою. Зевок этот не ускользнул от Варвары Павловны; она вдруг повернулась спиной к фортепьяно, промолвила: «Assez de musique comme ça[49], будем болтать», – и скрестила руки. «Oui, assez de musique»[50], – весело повторил Паншин и завязал с ней разговор – бойкий, легкий, на французском языке. «Совершенно как в лучшем парижском салоне», – ду мала Марья Дмитриевна, слушая их уклончивые и вертлявые речи. Паншин чувствовал полное удовольствие; глаза его сияли, он улыбался; сначала он проводил рукой по лицу, хмурил брови и отрывисто вздыхал, когда ему случалось встретиться взглядами с Марьей Дмитриевной; но потом он совсем забыл о ней и отдался весь наслаждению полусветской-полухудожнической болтовни. Варвара Павловна показала себя большой философкой: на всё у ней являлся готовый ответ, она ни над чем не колебалась, не сомневалась ни в чем; заметно было, что она много и часто беседовала с умными людьми разных разборов. Все ее мысли, чувства вращались около Парижа. Паншин навел разговор на литературу; оказалось, что она, так же как и он, читала одни французские книжки; Жорж Санд приводила ее в негодование, Бальзака она уважала, хоть он ее утомлял, в Сю и Скрибе видела великих сердцеведцев, обожала Дюма и Феваля; в душе она им всем предпочитала Поль де Кока, но, разумеется, даже имени его не упомянула. Собственно говоря, литература ее не слишком занимала. Варвара Павловна очень искусно избегала всего, что могло хотя отдаленно напомнить ее положение; о любви в ее речах и помину не было: напротив, они скорее отзывались строгостью к увлечениям страстей, разочарованьем, смирением. Паншин возражал ей; она с ним не соглашалась… Но, странное дело! – в то самое время, как из уст ее исходили слова осуждения, часто сурового, звук этих слов ласкал и нежил, и глаза ее говорили… что именно говорили эти прелестные глаза – трудно было сказать; но то были не строгие, не ясные и сладкие речи. Паншин старался понять их тайный смысл, старался сам говорить глазами, но он чувствовал, что у него ничего не выходило; он сознавал, что Варвара Павловна, в качестве настоящей, заграничной львицы, стояла выше его, а потому он и не вполне владел собою. У Варвары Павловны была привычка во время разговора чуть-чуть касаться рукава своего собеседника; эти мгновенные прикосновения очень волновали Владимира Николаича. Варвара Павловна обладала уменьем легко сходиться со всяким; двух часов не прошло, как уже Паншину казалось, что он знает ее век, а Лиза, та самая Лиза, которую он все-таки любил, которой он накануне предлагал руку, – исчезала как бы в тумане. Подали чай; разговор стал еще непринужденнее. Марья Дмитриевна позвонила казачка и велела сказать Лизе, чтобы она сошла вниз, если ее голове стало легче. Паншин, услышав имя Лизы, пустился толковать о самопожертвовании, о том, кто более способен на жертвы – мужчина или женщина. Марья Дмитриевна тотчас пришла в волненье, начала утверждать, что женщина более способна, объявила, что она это в двух словах докажет, запуталась и кончила каким-то довольно неудачным сравнением. Варвара Павловна взяла тетрадь нот, до половины закрылась ею и, нагнувшись в сторону Паншина, покусывая бисквит, с спокойной улыбочкой на губах и во взоре, вполголоса промолвила: «Elle n’a pas invente la poudre, la bonne damе»[51]. Паншин немножко испугался и удивился смелости Варвары Павловны; но он не понял, сколько презрения к нему самому таилось в этом неожиданном излиянии, и, позабыв ласки и преданность Марьи Дмитриевны, позабыв обеды, которыми она его кормила, деньги, которые она ему давала взаймы, – он с той же улыбочкой и тем же голосом возразил (несчастный!): «Je crois bien» – и даже не: «Je crois bien», а – «J’crois ben!»[52]
Варвара Павловна бросила на него дружелюбный взгляд и встала. Лиза вошла; Марфа Тимофеевна напрасно ее удерживала: она решилась выдержать испытание до конца. Варвара Павловна пошла ей навстречу вместе с Паншиным, на лице которого появилось прежнее дипломатическое выражение.
– Как ваше здоровье? – спросил он Лизу.
– Мне лучше теперь, благодарствуйте, – отвечала она.
– А мы здесь немного занялись музыкой; жаль, что вы не слыхали Варвары Павловны. Она поет превосходно, en artiste consommee[53].
– Пойдите-ка сюда, ma chere[54], – раздался голос Марьи Дмитриевны.
Варвара Павловна тотчас, с покорностью ребенка, подошла к ней и присела на небольшой табурет у ее ног. Марья Дмитриевна позвала ее для того, чтобы оставить, хотя на мгновенье, свою дочь наедине с Паншиным: она всё еще втайне надеялась, что она опомнится. Кроме того, ей в голову пришла мысль, которую ей непременно захотелось тотчас высказать.
– Знаете ли, – шепнула она Варваре Павловне, – я хочу попытаться помирить вас с вашим мужем; не отвечаю за успех, но попытаюсь. Он меня, вы знаете, очень уважает.
Варвара Павловна медленно подняла глаза на Марью Дмитриевну и красиво сложила руки.
– Вы были бы моей спасительницей, ma tante, – проговорила она печальным голосом, – я не знаю, как благодарить вас за все ваши ласки; но я слишком виновата перед Федором Иванычем; он простить меня не может.
– Да разве вы… в самом деле… – начала было с любопытством Марья Дмитриевна.
– Не спрашивайте меня, – перебила ее Варвара Павловна и потупилась. – Я была молода, легкомысленна. Впрочем, я не хочу оправдываться.
– Ну, все-таки, отчего же не попробовать? Не отчаивайтесь, – возразила Марья Дмитриевна и хотела потрепать ее по щеке, но взглянула ей в лицо – и оробела. «Скромна, скромна, – подумала она, – а уж точно львица».
– Вы больны? – говорил между тем Паншин Лизе.
– Да, я нездорова.
– Я понимаю вас, – промолвил он после довольно продолжительного молчания. – Да, я понимаю вас.
– Как?
– Я понимаю вас, – повторил значительно Паншин, который просто не знал, что сказать.
Лиза смутилась, а потом подумала: «Пусть!» Паншин принял таинственный вид и умолк, с строгостью посматривая в сторону.
– Однако уже, кажется, одиннадцать часов пробило, – заметила Марья Дмитриевна.
Гости поняли намек и начали прощаться. Варвара Павловна должна была обещать, что приедет обедать на следующий день и привезет Аду; Гедеоновский, который чуть было не заснул, сидя в углу, вызвался ее проводить до дому. Паншин торжественно раскланялся со всеми, а на крыльце, подсаживая Варвару Павловну в карету, пожал ей руку и закричал вслед: «Au revoir!»[55] Гедеоновский сел с ней рядом; она всю дорогу забавлялась тем, что ставила, будто не нарочно, кончик своей ножки на его ногу; он конфузился, говорил ей комплименты; она хихикала и делала ему глазки, когда свет от уличного фонаря западал в карету. Сыгранный ею самою вальс звенел у ней в голове, волновал ее; где бы она ни находилась, стоило ей только представить себе огни, бальную залу, быстрое круженье под звуки музыки – и душа в ней так и загоралась, глаза странно меркли, улыбка блуждала на губах, что-то грациозно-вакхическое разливалось по всему телу. Приехавши домой, Варвара Павловна легко выскочила из кареты – только львицы умеют так выскакивать, – обернулась к Гедеоновскому и вдруг расхохоталась звонким хохотом прямо ему в нос.
«Любезная особа, – думал статский советник, пробираясь к себе на квартиру, где ожидал его слуга со стклянкой оподельдока, – хорошо, что я степенный человек… только чему ж она смеялась?»
Марфа Тимофеевна всю ночь просидела у изголовья Лизы.
ХLI
Лаврецкий провел полтора дня в Васильевском и почти всё время пробродил по окрестностям. Он не мог оставаться долго на одном месте: тоска его грызла; он испытывал все терзанья непрестанных, стремительных и бессильных порывов. Вспомнил он чувство, охватившее его душу на другой день после приезда в деревню; вспомнил свои тогдашние намерения и сильно негодовал на себя. Что могло оторвать его от того, что он признал своим долгом, единственной задачей своей будущности? Жажда счастья – опять-таки жажда счастья!
«Видно, Михалевич прав, – думал он. – Ты захотел вторично изведать счастья в жизни, – говорил он сам себе, – ты позабыл, что и то роскошь, незаслуженная милость, когда оно хоть однажды посетит человека. Оно не было полно, оно было ложно, скажешь ты; да предъяви же свои права на полное, истинное счастье! Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? Вон мужик едет на косьбу; может быть, он доволен своей судьбою… Что ж? захотел ли бы ты поменяться с ним? Вспомни мать свою: как ничтожно малы были ее требования, и какова выпала ей доля? Ты, видно, только похвастался перед Паншиным, когда сказал ему, что приехал в Россию затем, чтобы пахать землю; ты приехал волочиться на старости лет за девочками. Пришла весть о твоей свободе, и ты всё бросил, всё забыл, ты побежал, как мальчик за бабочкой…» Образ Лизы беспрестанно представлялся ему посреди его размышлений; он с усилием изгонял его, как и другой неотвязный образ, другие, невозмутимо-лукавые, красивые и ненавистные черты. Старик Антон заметил, что барину не по себе; вздохнувши несколько раз за дверью да несколько раз на пороге, он решился подойти к нему, посоветовал ему напиться чего-нибудь тепленького. Лаврецкий закричал на него, велел ему выйти, а потом извинился перед ним; но Антон от этого еще больше опечалился. Лаврецкий не мог сидеть в гостиной: ему так и чудилось, что прадед Андрей презрительно глядит с полотна на хилого своего потомка. «Эх ты! мелко плаваешь!» – казалось, говорили его набок скрученные губы. «Неужели же, – думал он, – я не слажу с собою, поддамся этому… вздору?» (Тяжело раненные на войне всегда называют «вздором» свои раны. Не обманывать себя человеку – не жить ему на земле.) «Мальчишка я, что ли, в самом деле? Ну да: увидал вблизи, в руках почти держал возможность счастия на всю жизнь – оно вдруг исчезло; да ведь и в лотерее – повернись колесо еще немного, и бедняк, пожалуй, стал бы богачом. Не бывать так не бывать – и кончено. Возьмусь за дело, стиснув зубы, да и велю себе молчать; благо, мне не в первый раз брать себя в руки. И для чего я бежал, зачем сижу здесь, забивши, как страус, голову в куст? Страшно беде в глаза взглянуть – вздор!»
– Антон! – закричал он громко, – прикажи сейчас закладывать тарантас. «Да, – подумал он опять, – надо велеть себе молчать, надо взять себя в ежовые рукавицы…»
Такими-то рассуждениями старался помочь Лаврецкий своему горю, но оно было велико и сильно; и сама выжившая не столько из ума, сколько изо всякого чувства, Апраксея покачала головой и печально проводила его глазами, когда он сел в тарантас, чтобы ехать в город. Лошади скакали; он сидел неподвижно и прямо, и неподвижно глядел вперед на дорогу.
XLII
Лиза накануне написала Лаврецкому, чтобы он явился к ним вечером; но он сперва отправился к себе на квартиру. Он не застал дома ни жены, ни дочери; от людей он узнал, что она отправилась с ней к Калитиным. Это известие и поразило его и взбесило. «Видно, Варвара Павловна решилась не давать мне жить», – подумал он с волнением злобы на сердце. Он начал ходить взад и вперед, беспрестанно отталкивая ногами и руками попадавшиеся ему детские игрушки, книжки, разные женские принадлежности; он позвал Жюстину и велел ей убрать весь этот «хлам». «Oui, monsieur»[56], – сказала она с ужимкой и начала прибирать комнату, грациозно наклоняясь и каждым своим движением давая Лаврецкому чувствовать, что она считает его за необтесанного медведя. С ненавистью смотрел он на ее истасканное, но все еще «пикантное», насмешливое, парижское лицо, на ее белые нарукавнички, шелковый фартук и легкий чепчик. Он услал ее наконец и после долгих колебаний (Варвара Павловна все не возвращалась) решился отправиться к Калитиным, – не к Марье Дмитриевне (он бы ни за что не вошел в ее гостиную, в ту гостиную, где находилась его жена), но к Марфе Тимофеевне; он вспомнил, что задняя лестница с девичьего крыльца вела прямо к ней. Лаврецкий так и сделал. Случай помог ему: он на дворе встретил Шурочку; она провела его к Марфе Тимофеевне. Он застал ее, против ее обыкновения, одну; она сидела в уголку, простоволосая, сгорбленная, с скрещенными на груди руками. Увидев Лаврецкого, старушка очень всполошилась, проворно встала и начала ходить туда и сюда по комнате, как будто отыскивая свой чепец.
– А, вот ты, вот, – заговорила она, избегая его взора и суетясь, – ну, здравствуй. Ну, что ж? Что же делать? Где ты был вчера? Ну, она приехала, ну да. Ну, надо уж так… как-нибудь.
Лаврецкий опустился на стул.
– Ну, садись, садись, – продолжала старушка. – Ты прямо наверх прошел? Ну да, разумеется. Что ж? ты на меня пришел посмотреть? Спасибо.
Старушка помолчала; Лаврецкий не знал, что сказать ей; но она его понимала.
– Лиза… да, Лиза сейчас здесь была, – продолжала Марфа Тимофеевна, завязывая и развязывая шнурки своего ридикюля. – Она не совсем здорова. Шурочка, где ты? Поди сюда, мать моя, что это ты посидеть не можешь? И у меня голова болит. Должно быть, от эфтого от пенья да от музыки.
– От какого пенья, тетушка?
– Да как же; тут уж эти как, бишь, они по-вашему, дуэты пошли. И всё по-итальянски: чи-чи да ча-ча, настоящие сороки. Начнут ноты выводить, просто так за душу и тянут. Паншин этот да вот твоя. И как это всё скоро уладилось: уж точно по-родственному, без церемоний. А впрочем, и то сказать: собака – и та пристанища ищет, не пропадать же, благо люди не гонят.
– Все-таки, признаюсь, я этого не ожидал, – возразил Лаврецкий, – тут смелость нужна была большая.
– Нет, душа моя, это не смелость, это расчет. Да Господь с ней! Ты ее, говорят, в Лаврики посылаешь, правда?
– Да, я предоставляю это именье Варваре Павловне.
– Денег спрашивала?
– Пока еще нет.
– Ну, это не затянется. А я тебя только теперь разглядела. Здоров ты?
– Здоров.
– Шурочка, – воскликнула вдруг Марфа Тимофеевна, – поди-ка скажи Лизавете Михайловне – то есть нет, спроси у ней… ведь она внизу?
– Внизу-с.
– Ну да; так спроси у ней: куда, мол, она мою книжку дела? Она уж знает.
– Слушаю-с.
Старушка опять засуетилась, начала раскрывать ящики в комоде. Лаврецкий сидел неподвижно на своем стуле.
Вдруг послышались легкие шаги по лестнице – и вошла Лиза.
Лаврецкий встал и поклонился; Лиза остановилась у двери.
– Лиза, Лизочка, – хлопотливо заговорила Марфа Тимофеевна, – куда ты мою книжку, книжку куда положила?
– Какую книжку, тетенька?
– Да книжку, Боже мой! Я тебя, впрочем, не звала… Ну, всё равно. Что вы там внизу делаете? Вот и Федор Иваныч приехал. Что твоя голова?
– Ничего.
– Ты всё говоришь: ничего. Что у вас там внизу, опять музыка?
– Нет – в карты играют.
– Да, ведь она на все руки. Шурочка, я вижу, тебе по саду бегать хочется. Ступай.
– Да нет, Марфа Тимофеевна…
– Не рассуждай, пожалуйста, ступай. Настасья Карповна в сад пошла одна: ты с ней побудь. Уважь старуху. – Шурочка вышла. – Да где ж это мой чепец? Куда это он делся, право?
– Позвольте, я поищу, – промолвила Лиза.
– Сиди, сиди; у меня самой ноги еще не отвалились. Должно быть, он у меня там в спальне.
И, бросив исподлобья взор на Лаврецкого, Марфа Тимофеевна удалилась. Она оставила было дверь отворенной, но вдруг вернулась к ней и заперла ее.
Лиза прислонилась к спинке кресла и тихо занесла себе руки на лицо; Лаврецкий остался, где был.
– Вот как мы должны были увидеться, – проговорил он наконец.
Лиза приняла руки от лица.
– Да, – сказала она глухо, – мы скоро были наказаны.
– Наказаны, – проговорил Лаврецкий. – За что же вы-то наказаны?
Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали; они казались меньше и тусклей. Лицо ее было бледно; слегка раскрытые губы тоже побледнели.
Сердце в Лаврецком дрогнуло от жалости и любви.
– Вы мне написали: всё кончено, – прошептал он. – да, всё кончено – прежде чем началось.
– Это всё надо забыть, – проговорила Лиза, – я рада, что вы пришли; я хотела вам написать, но этак лучше. Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иваныч, должны примириться с вашей женой.
– Лиза!
– Я вас прошу об этом; этим одним можно загладить… всё, что было. Вы подумаете – и не откажете мне.
– Лиза, ради Бога, вы требуете невозможного. Я готов сделать всё, что вы прикажете; но теперь примириться с нею!.. Я согласен на всё, я всё забыл; но не могу же я заставить свое сердце… Помилуйте, это жестоко!
– Я не требую от вас… того, что вы говорите; не живите с ней, если вы не можете; но примиритесь, – возразила Лиза и снова занесла руку на глаза. – Вспомните вашу дочку; сделайте это для меня.
– Хорошо, – проговорил сквозь зубы Лаврецкий, – это я сделаю, положим; этим я исполню свой долг. Ну, а вы – в чем же ваш долг состоит?
– Про это я знаю.
Лаврецкий вдруг встрепенулся.
– Уж не собираетесь ли вы выйти за Паншина? – спросил он.
Лиза чуть заметно улыбнулась.
– О нет! – промолвила она.
– Ах, Лиза, Лиза! – воскликнул Лаврецкий, – как бы мы могли быть счастливы!
Лиза опять взглянула на него.
– Теперь вы сами видите, Федор Иваныч, что счастье зависит не от нас, а от Бога.
– Да, потому что вы…
Дверь из соседней комнаты быстро растворилась, и Марфа Тимофеевна вошла с чепцом в руке.
– Насилу нашла, – сказала она, становясь между Лаврецким и Лизой. – Сама его заложила. Вот что значит старость-то, беда! А впрочем, и молодость не лучше. Что, ты сам с женой в Лаврики поедешь? – прибавила она, оборотясь к Федору Иванычу.
– С нею в Лаврики? я? Не знаю, – промолвил он, погодя немного.
– Ты вниз не сойдешь?
– Сегодня – нет.
– Ну, хорошо, как знаешь; а тебе, Лиза, я думаю, надо бы вниз пойти. Ах, батюшки светы, я и забыла снегирю корму насыпать. Да вот постойте, я сейчас…
И Марфа Тимофеевна выбежала, не надев чепца.
Лаврецкий быстро подошел к Лизе.
– Лиза, – начал он умоляющим голосом, – мы расстаемся навсегда, сердце мое разрывается, – дайте мне вашу руку на прощание.
Лиза подняла голову. Ее усталый, почти погасший взор остановился на нем…
– Нет, – промолвила она и отвела назад уже протянутую руку, – нет, Лаврецкий (она в первый раз так его называла), не дам я вам моей руки. К чему? Отойдите, прошу вас. Вы знаете, я вас люблю… да, я люблю вас, – прибавила она с усилием, – но нет… нет.
И она поднесла платок к своим губам.
– Дайте мне по крайней мере этот платок.
Дверь скрыпнула… Платок скользнул по коленям Лизы. Лаврецкий подхватил его, прежде чем он успел упасть на пол, быстро сунул его в боковой карман и, обернувшись, встретился глазами с Марфой Тимофеевной.
– Лизочка, мне кажется, тебя мать зовет, – промолвила старушка.
Лиза тотчас встала и ушла.
Марфа Тимофеевна опять села в свой уголок. Лаврецкий начал прощаться с нею.
– Федя, – сказала она вдруг.
– Что, тетушка?
– Ты честный человек?
– Как?
– Я спрашиваю тебя: честный ли ты человек?
– Надеюсь, да.
– Гм. А дай мне честное слово, что ты честный человек.
– Извольте. Но к чему это?
– Уж я знаю, к чему. Да и ты, мой кормилец, коли подумаешь хорошенько, ведь ты не глуп, сам поймешь, к чему я это у тебя спрашиваю. А теперь прощай, батюшка. Спасибо, что навестил; а слово сказанное помни, Федя, да поцелуй меня. Ох, душа моя, тяжело тебе, знаю; да ведь и всем не легко. Уж на что я, бывало, завидовала мухам: вот, думала я, кому хорошо на свете пожить; да услыхала раз ночью, как муха у паука в лапках ноет, – нет, думаю, и на них есть гроза. Что делать, Федя; а слово свое все-таки помни. Ступай.
Лаврецкий вышел с заднего крыльца и уже приближался к воротам… Его нагнал лакей.
– Марья Дмитриевна приказали просить вас к ней пожаловать, – доложил он Лаврецкому.
– Скажи, братец, что я не могу теперь… – начал было Федор Иваныч.
– Приказали очинно просить, – продолжал лакей, – приказали сказать, что они одни.
– А разве гости уехали? – спросил Лаврецкий.
– Точно так-с, – возразил лакей и осклабился.
Лаврецкий пожал плечами и отправился вслед за ним.
ХLIII
Марья Дмитриевна сидела одна у себя в кабинете на вольтеровском кресле и нюхала одеколон; стакан воды с флердоранжем стоял возле нее на столике. Она волновалась и как будто трусила.
Лаврецкий вошел.
– Вы желали меня видеть, – сказал он, холодно кланяясь.
– Да, – возразила Марья Дмитриевна и отпила немного воды. – Я узнала, что вы прошли прямо к тетушке; я приказала вас просить к себе: мне нужно переговорить с вами. Садитесь, пожалуйста. – Марья Дмитриевна перевела дыхание. – Вы знаете, – продолжала она, – ваша жена приехала.
– Это мне известно, – промолвил Лаврецкий.
– Ну да, то есть я хотела сказать: она ко мне приехала, и я приняла ее; вот о чем я хочу теперь объясниться с вами, Федор Иваныч. Я, слава Богу, заслужила, могу сказать, всеобщее уважение и ничего неприличного ни за что на свете не сделаю. Хоть я и предвидела, что это будет вам неприятно, однако я не решилась отказать ей, Федор Иваныч; она мне родственница – по вас: войдите в мое положение, какое же я имела право отказать ей от дома, – согласитесь?
– Вы напрасно волнуетесь, Марья Дмитриевна, – возразил Лаврецкий, – вы очень хорошо сделали; я нисколько не сержусь. Я вовсе не намерен лишать Варвару Павловну возможности видеть своих знакомых; сегодня я не вошел к вам только потому, что не хотел встретиться с нею, – вот и всё.
– Ах, как мне приятно слышать это от вас, Федор Иваныч, – воскликнула Марья Дмитриевна, – впрочем, я всегда этого ожидала от ваших благородных чувств. А что я волнуюсь – это неудивительно: я женщина и мать. А ваша супруга… конечно, я не могу судить вас с нею – это я ей самой сказала; но она такая любезная дама, что, кроме удовольствия, ничего доставить не может.
Лаврецкий усмехнулся и поиграл шляпой.
– И вот что я хотела вам еще сказать, Федор Иваныч, – продолжала Марья Дмитриевна, слегка подвигаясь к нему, – если б вы видели, как она скромно себя держит, как почтительна! Право, это даже трогательно. А если б вы слышали, как она о вас отзывается! Я, говорит, перед ним кругом виновата; я, говорит, не умела ценить его, говорит; это, говорит, ангел, а не человек. Право, так и говорит: ангел. Раскаяние у ней такое… Я, ей-богу, и не видывала такого раскаяния!
– А что, Марья Дмитриевна, – промолвил Лаврецкий, – позвольте полюбопытствовать: говорят, Варвара Павловна у вас пела; во время своего раскаяния она пела – или как?..
– Ах, как вам не стыдно так говорить! Она пела и играла для того только, чтобы сделать мне угодное, потому что я настоятельно ее просила об этом, почти приказывала ей. Я вижу, что ей тяжело, так тяжело; думаю, чем бы ее развлечь, – да и слышала-то я, что талант у ней такой прекрасный! Помилуйте, Федор Иваныч, она совсем уничтожена, спросите хоть Сергея Петровича; убитая женщина, tout-à-fait[57], что вы это?
Лаврецкий только плечами пожал.
– А потом, что это у вас за ангелочек эта Адочка, что за прелесть! Как она мила, какая умненькая; по-французски как говорит; и по-русски понимает – меня тетенькой назвала. И знаете ли, этак чтобы дичиться, как все почти дети в ее годы дичатся, – совсем этого нет. На вас так похожа, Федор Иваныч, что ужас. Глаза, брови… ну, вы, как есть – вы. Я маленьких таких детей не очень люблю, признаться; но в вашу дочку просто влюбилась.
– Марья Дмитриевна, – произнес вдруг Лаврецкий, – позвольте вас спросить, для чего вы это всё мне говорить изволите?
– Для чего? – Марья Дмитриевна опять понюхала одеколон и отпила воды. – А для того, Федор Иваныч, я это говорю, что… ведь я вам родственница, я принимаю в вас самое близкое участие… я знаю, сердце у вас добрейшее. Послушайте, mon cousin, я все-таки женщина опытная и не буду говорить на ветер! простите, простите вашу жену. – Глаза Марьи Дмитриевны вдруг наполнились слезами. – Подумайте: молодость, неопытность… ну, может быть, дурной пример: не было такой матери, которая наставила бы ее на путь. Простите ее, Федор Иваныч, она довольно была наказана.
Слезы закапали по щекам Марьи Дмитриевны; она не утирала их: она любила плакать. Лаврецкий сидел как на угольях. «Боже мой, – думал он, – что же это за пытка, что за день мне выдался сегодня!»
– Вы не отвечаете, – заговорила снова Марья Дмитриевна, – как я должна вас понять? Неужели вы мо жете быть так жестоки? Нет, я этому верить не хочу. Я чувствую, что мои слова вас убедили, Федор Иваныч, Бог вас наградит за вашу доброту, а вы примите теперь из рук моих вашу жену…
Лаврецкий невольно поднялся со стула; Марья Дмитриевна тоже встала и, проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну. Бледная, полуживая, с опущенными глазами, она, казалось, отреклась от всякой собственной мысли, от всякой воли – отдалась вся в руки Марьи Дмитриевны.
Лаврецкий отступил шаг назад.
– Вы были здесь! – воскликнул он.
– Не вините ее, – поспешно проговорила Марья Дмитриевна, – она ни за что не хотела остаться, но я приказала ей остаться, я посадила ее за ширмы. Она уверяла меня, что это еще больше вас рассердит; я и слушать ее не стала; я лучше ее вас знаю. Примите же из рук моих вашу жену; идите, Варя, не бойтесь, припадите к вашему мужу (она дернула ее за руку) – и мое благословение…
– Постойте, Марья Дмитриевна, – перебил ее Лаврецкий глухим, но потрясающим голосом. – Вы, вероятно, любите чувствительные сцены (Лаврецкий не ошибался: Марья Дмитриевна еще с института сохранила страсть к некоторой театральности); они вас забавляют; но другим от них плохо приходится. Впрочем, я с вами говорить не буду: в этой сцене не вы главное действующее лицо. Что вы хотите от меня, сударыня? – прибавил он, обращаясь к жене. – Не сделал ли я для вас, что мог? Не возражайте мне, что не вы затеяли это свидание; я вам не поверю, – и вы знаете, что я вам верить не могу. Что же вы хотите? Вы умны, – вы ничего не делаете без цели. Вы должны понять, что жить с вами, как я жил прежде, я не в состоянии; не оттого, что я на вас сержусь, а оттого, что я стал другим человеком. Я сказал вам это на второй же день вашего возвращения, и вы сами, в это мгновенье, в душе со мной согласны. Но вы желаете восстановить себя в общем мнении; вам мало жить у меня в доме, вы желаете жить со мной под одной кровлей – не правда ли?
– Я желаю, чтобы вы меня простили, – проговорила Варвара Павловна, не поднимая глаз.
– Она желает, чтобы вы ее простили, – повторила Марья Дмитриевна.
– И не для себя, для Ады, – шепнула Варвара Павловна.
– Не для нее, для вашей Ады, – повторила Марья Дмитриевна.
– Прекрасно. Вы этого хотите? – произнес с усилием Лаврецкий. – Извольте, я и на это согласен.
Варвара Павловна бросила на него быстрый взор, а Марья Дмитриевна воскликнула: «Ну, слава Богу!» – и опять потянула Варвару Павловну за руку. – Примите же теперь от меня…
– Постойте, говорю вам, – перебил ее Лаврецкий. – Я соглашаюсь жить с вами, Варвара Павловна, – продолжал он, – то есть я вас привезу в Лаврики и проживу с вами, сколько сил хватит, а потом уеду – и буду наезжать. Вы видите, я вас обманывать не хочу; но не требуйте больше ничего. Вы бы сами рассмеялись, если бы я исполнил желание почтенной нашей родственницы и прижал бы вас к своему сердцу, стал бы уверять вас, что… что прошедшего не было, что срубленное дерево опять зацветет. Но я вижу: надо покориться. Вы это слово не так поймете… это всё равно. Повторяю… я буду жить с вами… или нет, я этого обещать не могу… Я сойдусь с вами, буду вас снова считать моей женой…
– Дайте же ей по крайней мере на том руку, – промолвила Марья Дмитриевна, у которой давно высохли слезы.
– Я до сих пор не обманывал Варвару Павловну, – возразил Лаврецкий, – она мне поверит и так. Я ее отвезу в Лаврики – и помните, Варвара Павловна: уговор наш будет считаться нарушенным, как только вы выедете оттуда. А теперь позвольте мне удалиться.
Он поклонился обеим дамам и торопливо вышел вон.
– Вы не берете ее с собою, – крикнула ему вслед Марья Дмитриевна…
– Оставьте его, – шепнула ей Варвара Павловна и тотчас же обняла ее, начала ее благодарить, целовать у ней руки, называть ее своей спасительницей.
Марья Дмитриевна снисходительно принимала ее ласки; но в душе она не была довольна ни Лаврецким, ни Варварой Павловной, ни всей подготовленной ею сценой. Чувствительности вышло мало; Варвара Павловна, по ее мнению, должна была броситься к ногам мужа.
– Как это вы меня не поняли, – толковала она, – ведь я вам сказала: припадите.
– Этак лучше, милая тетушка; не беспокойтесь – всё прекрасно, – твердила Варвара Павловна.
– Ну, да ведь и он – холодный, как лед, – заметила Марья Дмитриевна. – Положим, вы не плакали, да ведь я перед ним разливалась. В Лавриках запереть вас хочет. Что ж, и ко мне вам нельзя будет ездить? Все мужчины бесчувственны, – сказала она в заключение и значительно покачала головой.
– Зато женщины умеют ценить доброту и великодушие, – промолвила Варвара Павловна и, тихонько опустившись на колени перед Марьей Дмитриевной, обвила ее полный стан руками и прижалась к ней лицом. Лицо это втихомолку улыбалось, а у Марьи Дмитриевны опять закапали слезы.
А Лаврецкий отправился к себе, заперся в комнатке своего камердинера, бросился на диван и пролежал так до утра.
XLIV
На следующий день было воскресенье. Колокольный звон к ранней обедне не разбудил Лаврецкого – он не смыкал глаз всю ночь, – но напомнил ему другое воскресенье, когда он, по желанию Лизы, ходил в церковь. Он поспешно встал; какой-то тайный голос говорил ему, что он и сегодня увидит ее там же. Он без шума вышел из дома, велел сказать Варваре Павловне, которая еще спала, что он вернется к обеду, и большими шагами направился туда, куда звал его однообразно-печальный звон. Он пришел рано: почти никого еще не было в церкви; дьячок на клиросе читал Часы; изредка прерываемый кашлем, голос его мерно гудел, то упадая, то вздуваясь. Лаврецкий поместился недалеко от входа. Богомольцы приходили поодиночке, останавливались, крестились, кланялись на все стороны; шаги их звенели в пустоте и тишине, явственно отзываясь под сводами.
Дряхлая старушонка в ветхом капоте с капюшоном стояла на коленях подле Лаврецкого и прилежно молилась; ее беззубое, желтое, сморщенное лицо выражало напряженное умиление; красные глаза неотвратимо глядели вверх, на образа иконостаса; костлявая рука беспрестанно выходила из капота и медленно и крепко клала большой широкий крест. Мужик с густой бородой и угрюмым лицом, взъерошенный и измятый, вошел в церковь, разом стал на оба колена и тотчас же принялся поспешно креститься, закидывая назад и встряхивая голову после каждого поклона. Такое горькое горе сказывалось в его лице, во всех его движениях, что Лаврецкий решился подойти к нему и спросить его, что с ним. Мужик пугливо и сурово отшатнулся, посмотрел на него… «Сын помер», – произнес он скороговоркой и снова принялся класть поклоны… «Что для них может заменить утешения церкви?» – подумал Лаврецкий и сам попытался молиться; но сердце его отяжелело, ожесточилось, и мысли были далеко. Он всё ждал Лизы – но Лиза не приходила. Церковь стала наполняться народом; ее всё не было. Обедня началась, дьякон уже прочитал Евангелие, зазвонили к достойной; Лаврецкий подвинулся немного вперед – и вдруг увидел Лизу. Она пришла раньше его, но он ее не заметил; прижавшись в промежуточек между стеной и клиросом, она не оглядывалась, не шевелилась. Лаврецкий не свел с нее глаз до самого конца обедни: он прощался с нею. Народ стал расходиться, а она всё стояла; казалось, она ожидала ухода Лаврецкого. Наконец она перекрестилась в последний раз и пошла, не оборачиваясь; с ней была одна горничная. Лаврецкий вышел вслед за ней из церкви и догнал ее на улице; она шла очень скоро, наклонив голову и спустив вуаль на лицо.
– Здравствуйте, Лизавета Михайловна, – сказал он громко, с насильственной развязностью, – можно вас проводить?
Она ничего не сказала; он отправился с ней рядом.
– Довольны вы мной? – спросил он ее, понизив голос. – Вы слышали, что вчера произошло?
– Да, да, – проговорила она шепотом, – это хорошо.
И она пошла еще быстрей.
– Вы довольны?
Лиза только головой кивнула.
– Федор Иваныч, – начала она спокойным, но слабым голосом, – я хотела вас просить: не ходите больше к нам, уезжайте поскорей; мы можем после увидеться – когда-нибудь, через год. А теперь сделайте это для меня; исполните мою просьбу, ради Бога.
– Я вам во всем готов повиноваться, Лизавета Михайловна; но неужели мы так должны расстаться: неужели вы мне не скажете ни одного слова?..
– Федор Иваныч, вот вы теперь идете возле меня… А уж вы так далеко, далеко от меня. И не вы одни, а…
– Договаривайте, прошу вас! – воскликнул Лаврецкий, – что вы хотите сказать?
– Вы услышите, может быть… но что бы ни было, забудьте… нет, не забывайте меня, помните обо мне.
– Мне вас забыть…
– Довольно, прощайте. Не идите за мной.
– Лиза… – начал было Лаврецкий.
– Прощайте, прощайте! – повторила она, еще ниже спустила вуаль и почти бегом пустилась вперед.
Лаврецкий посмотрел ей вслед и, понурив голову, отправился назад по улице. Он наткнулся на Лемма, который тоже шел, надвинув шляпу на нос и глядя себе под ноги.
Они молча посмотрели друг на друга.
– Ну, что скажете? – проговорил наконец Лаврецкий.
– Что я скажу? – угрюмо возразил Лемм. – Ничего я не скажу. Всё умерло, и мы умерли (Alles ist todt, und wir sind todt). Ведь вам направо идти?
– Направо.
– А мне налево. Прощайте.
На следующее утро Федор Иваныч с женою отправился в Лаврики. Она ехала впереди в карете, с Адой и с Жюстиной; он сзади – в тарантасе. Хорошенькая девочка всё время дороги не отходила от окна кареты; она удивлялась всему: мужикам, бабам, избам, колодцам, дугам, колокольчикам и множеству грачей; Жюстина разделяла ее удивление; Варвара Павловна смеялась их замечаниям и восклицаниям. Она была в духе; перед отъездом из города О… она имела объяснение с своим мужем.
– Я понимаю ваше положение, – сказала она ему, – и он, по выражению ее умных глаз, мог заключить, что она понимала его положение вполне, – но вы отдадите мне хоть ту справедливость, что со мной легко живется; я не стану вам навязываться, стеснять вас; я хотела обеспечить будущность Ады; больше мне ничего не нужно.
– Да, вы достигли всех ваших целей, – промолвил Федор Иваныч.
– Я об одном только мечтаю теперь: зарыться навсегда в глуши; я буду вечно помнить ваши благодеяния…
– Фи! полноте, – перебил он ее.
– И сумею уважать вашу независимость и ваш покой, – докончила она свою приготовленную фразу.
Лаврецкий ей низко поклонился. Варвара Павловна поняла, что муж в душе благодарил ее.
На второй день к вечеру прибыли они в Лаврики; неделю спустя Лаврецкий отправился в Москву, оставив жене тысяч пять на прожиток, а на другой день после отъезда Лаврецкого явился Паншин, которого Варвара Павловна просила не забывать ее в уединении. Она его приняла как нельзя лучше, и до поздней ночи высокие комнаты дома и самый сад оглашались звуками музыки, пенья и веселых французских речей. Три дня прогостил Паншин у Варвары Павловны; прощаясь с нею и крепко пожимая ее прекрасные руки, он обещался очень скоро вернуться – и сдержал свое обещание.
XLV
У Лизы была особая, небольшая комнатка во втором этаже дома ее матери, чистая, светлая, с белой кроваткой, с горшками цветов по углам и перед окнами, с маленьким письменным столиком, горкою книг и распятием на стене. Комнатка эта прозывалась детской; Лиза родилась в ней. Вернувшись из церкви, где ее видел Лаврецкий, она тщательнее обыкновенного привела всё у себя в порядок, отовсюду смела пыль, пересмотрела и перевязала ленточками все свои тетради и письма приятельниц, заперла все ящики, полила цветы и коснулась рукою каждого цветка. Всё это она делала не спеша, без шума, с какой-то умиленной и тихой заботливостью на лице. Она остановилась наконец посреди комнаты, медленно оглянулась и, подойдя к столу, над которым висело распятие, опустилась на колени, положила голову на стиснутые руки и осталась неподвижной.
Марфа Тимофеевна вошла и застала ее в этом положении. Лиза не заметила ее прихода. Старушка вышла на цыпочках за дверь и несколько раз громко кашлянула. Лиза проворно поднялась и отерла глаза, на которых сияли светлые, непролившиеся слезы.
– А ты, я вижу, опять прибирала свою келейку, – промолвила Марфа Тимофеевна, низко наклоняясь к горшку с молодым розаном. – Как славно пахнет!
Лиза задумчиво посмотрела на свою тетку.
– Какое вы это произнесли слово! – прошептала она.
– Какое слово, какое? – с живостью подхватила старушка. – Что ты хочешь сказать? Это ужасно, – заговорила она, вдруг сбросив чепец и присевши на Лизиной кроватке, – это сверх сил моих: четвертый день сегодня, как я словно в котле киплю; я не могу больше притворяться, что ничего не замечаю, не могу видеть, как ты бледнеешь, сохнешь, плачешь, не могу, не могу.
– Да что с вами, тетушка? – промолвила Лиза, – я ничего…
– Ничего? – воскликнула Марфа Тимофеевна, – это ты другим говори, а не мне! Ничего! А кто сейчас стоял на коленях? у кого ресницы еще мокры от слез? Ничего! Да ты посмотри на себя, что ты сделала с своим лицом, куда глаза свои девала? Ничего! разве я не всё знаю?
– Это пройдет, тетушка; дайте срок.
– Пройдет, да когда? Господи Боже мой, Владыко! неужели ты так его полюбила? да ведь он старик, Лизочка. Ну, я не спорю, он хороший человек, не кусается; да ведь что ж такое? все мы хорошие люди; земля не клином сошлась, этого добра всегда будет много.
– Я вам говорю, всё это пройдет, всё это уже прошло.
– Слушай, Лизочка, что я тебе скажу, – промолвила вдруг Марфа Тимофеевна, усаживая Лизу подле себя на кровати и поправляя то ее волосы, то косынку. – Это тебе только так, сгоряча кажется, что горю твоему пособить нельзя. Эх, душа моя, на одну смерть лекарства нет! Ты только вот скажи себе: «Не поддамся, мол, я, ну его!» – и сама потом как диву дашься, как оно скоро, хорошо проходит. Ты только потерпи.
– Тетушка, – возразила Лиза, – оно уже прошло, всё прошло.
– Прошло! какое прошло! Вот у тебя носик даже завострился, а ты говоришь: прошло. Хорошо «прошло!»
– Да, прошло, тетушка, если вы только захотите мне помочь, – произнесла с внезапным одушевлением Лиза и бросилась на шею Марфе Тимофеевне. – Милая тетушка, будьте мне другом, помогите мне, не сердитесь, поймите меня…
– Да что такое, что такое, мать моя? Не пугай меня, пожалуйста; я сейчас закричу, не гляди так на меня; говори скорее, что такое!
– Я… я хочу… – Лиза спрятала свое лицо на груди Марфы Тимофеевны… – Я хочу идти в монастырь, – проговорила она глухо.
Старушка так и подпрыгнула на кровати.
– Перекрестись, мать моя, Лизочка, опомнись, что ты это, Бог с тобою, – пролепетала она наконец, – ляг, голубушка, усни немножко; это всё у тебя от бессонницы, душа моя.
Лиза подняла голову, щеки ее пылали.
– Нет, тетушка, – промолвила она, – не говорите так; я решилась, я молилась, я просила совета у Бога; всё кончено, кончена моя жизнь с вами. Такой урок недаром; да я уж не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня всё щемило. Я всё знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил; я знаю всё. Всё это отмолить, отмолить надо. Вас мне жаль, жаль мамаши, Леночки; но делать нечего; чувствую я, что мне не житье здесь; я уже со всем простилась, всему в доме поклонилась в последний раз; отзывает меня что-то; тошно мне, хочется мне запереться навек. Не удерживайте меня, не отговаривайте, помогите мне, не то я одна уйду…
Марфа Тимофеевна с ужасом слушала свою племянницу.
«Она больна, бредит, – думала она, – надо послать за доктором, да за каким? Гедеоновский намедни хвалил какого-то; он всё врет – а может быть, на этот раз и правду сказал». Но когда она убедилась, что Лиза не больна и не бредит, когда на все ее возраженья Лиза постоянно отвечала одним и тем же, Марфа Тимофеевна испугалась и опечалилась не на шутку.
– Да ведь ты не знаешь, голубушка ты моя, – начала она ее уговаривать, – какова жизнь-то в монастырях! Ведь тебя, мою родную, маслищем конопляным зеленым кормить станут, бельище на тебя наденут толстое-претолстое; по холоду ходить заставят; ведь ты всего этого не перенесешь, Лизочка. Это всё в тебе Агашины следы; это она тебя с толку сбила. Да ведь она начала с того, что пожила, и в свое удовольствие пожила; поживи и ты. Дай мне по крайней мере умереть спокойно, а там делай что хочешь. И кто ж это видывал, чтоб из-за эдакой из-за козьей бороды, прости Господи, из-за мужчины в монастырь идти? Ну, коли тебе так тошно, съезди, помолись угоднику, молебен отслужи, да не надевай ты черного шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя…
И Марфа Тимофеевна горько заплакала.
Лиза утешала ее, отирала ее слезы, сама плакала, но осталась непреклонной. С отчаянья Марфа Тимофеевна попыталась пустить в ход угрозу: всё сказать матери… но и это не помогло. Только вследствие усиленных просьб старушки Лиза согласилась отложить исполнение своего намерения на полгода; зато Марфа Тимофеевна должна была дать ей слово, что сама поможет ей и выхлопочет согласие Марьи Дмитриевны, если через шесть месяцев она не изменит своего решения.
С наступившими первыми холодами Варвара Павловна, несмотря на свое обещание зарыться в глуши, запасшись денежками, переселилась в Петербург, где наняла скромную, но миленькую квартиру, отысканную для нее Паншиным, который еще раньше ее покинул О…скую губернию. В последнее время своего пребывания в О… он совершенно лишился расположения Марьи Дмитриевны; он вдруг перестал ее посещать и почти не выезжал из Лавриков. Варвара Павловна его поработила, именно поработила: другим словом нельзя выразить ее неограниченную, безвозвратную, безответную власть над ним.
Лаврецкий прожил зиму в Москве, а весною следующего года дошла до него весть, что Лиза постриглась в Б…… м монастыре, в одном из отдаленнейших краев России.
Эпилог
Прошло восемь лет. Опять настала весна… Но скажем прежде несколько слов о судьбе Михалевича, Паншина, г-жи Лаврецкой – и расстанемся с ними. Михалевич, после долгих странствований, попал наконец на настоящее свое дело: он получил место старшего надзирателя в казенном заведении. Он очень доволен своей судьбой, и воспитанники его «обожают», хотя и передразнивают его. Паншин сильно подвинулся в чинах и метит уже в директоры; ходит несколько согнувшись: должно быть, Владимирский крест, пожалованный ему на шею, оттягивает его вперед. Чиновник в нем взял решительный перевес над художником; его всё еще моложавое лицо пожелтело, волосы поредели, и он уже не поет, не рисует, но втайне занимается литературой: написал комедийку, вроде «пословиц», и так как теперь все пишущие непременно «выводят» кого-нибудь или что-нибудь, то и он вывел в ней кокетку и читает ее исподтишка двум-трем благоволящим к нему дамам. В брак он, однако, не вступил, хотя много представлялось к тому прекрасных случаев: в этом виновата Варвара Павловна. Что касается до нее, то она по-прежнему постоянно живет в Париже: Федор Иваныч дал ей на себя вексель и откупился от нее, от возможности вторичного неожиданного наезда. Она постарела и потолстела, но всё еще мила и изящна. У каждого человека есть свой идеал: Варвара Павловна нашла свой – в драматических произведениях г-на Дюма-сына. Она прилежно посещает театр, где выводятся на сцену чахоточные и чувствительные камелии; быть г-жою Дош кажется ей верхом человеческого благополучия: она однажды объявила, что не желает для своей дочери лучшей участи. Должно надеяться, что судьба избавит mademoiselle Ada от подобного благополучия: из румяного, пухлого ребенка она превратилась в слабогрудую, бледненькую девочку; нервы ее уже расстроены. Число поклонников Варвары Павловны уменьшилось, но они не перевелись; некоторых она, вероятно, сохранит до конца своей жизни. Самым рьяным из них в последнее время был некто Закурдало-Скубырников, из отставных гвардейских усоносов, человек лет тридцати восьми, необыкновенной крепости сложения. Французские посетители салона г-жи Лаврецкой называют его «le gros taureau de I’Ukraïne»[58]; Варвара Павловна никогда не приглашает его на свои модные вечера, но он пользуется ее благорасположением вполне.
Итак… прошло восемь лет. Опять повеяло с неба сияющим счастьем весны; опять улыбнулась она земле и людям; опять под ее лаской всё зацвело, полюбило и запело. Город О… мало изменился в течение этих восьми лет; но дом Марьи Дмитриевны как будто помолодел: его недавно выкрашенные стены белели приветно, и стекла раскрытых окон румянились и блестели на заходившем солнце; из этих окон неслись на улицу радостные, легкие звуки звонких молодых голосов, беспрерывного смеха; весь дом, казалось, кипел жизнью и переливался весельем через край. Сама хозяйка дома давно сошла в могилу: Марья Дмитриевна скончалась года два спустя после пострижения Лизы; и Марфа Тимофеевна не долго пережила свою племянницу; рядом покоятся они на городском кладбище. Не стало и Настасьи Карповны; верная старушка в течение нескольких лет еженедельно ходила молиться над прахом своей приятельницы… Пришла пора, и ее косточки тоже улеглись в сырой земле. Но дом Марьи Дмитриевны не поступил в чужие руки, не вышел из ее рода, гнездо не разорилось: Леночка, превратившаяся в стройную, красивую девушку, и ее жених – белокурый гусарский офицер; сын Марьи Дмитриевны, только что женившийся в Петербурге и вместе с молодой женой приехавший на весну в О…; сестра его жены, шестнадцатилетняя институтка с алыми щеками и ясными глазками; Шурочка, тоже выросшая и похорошевшая, – вот какая молодежь оглашала смехом и говором стены калитинского дома. Всё в нем изменилось, всё стало под лад новым обитателям. Безбородые дворовые ребята, зубоскалы и балагуры, заменили прежних степенных стариков; там, где некогда важно расхаживала зажиревшая Роска, две легавых собаки бешено возились и прыгали по диванам; на конюшне завелись поджарые иноходцы, лихие коренники, рьяные пристяжные с плетеными гривами, донские верховые кони; часы завтрака, обеда, ужина перепутались и смешались; пошли, по выражению соседей, «порядки небывалые».
В тот вечер, о котором зашла у нас речь, обитатели калитинского дома (старшему из них, жениху Леночки, было всего двадцать четыре года) занимались немногосложной, но, судя по их дружному хохотанью, весьма для них забавной игрой: они бегали по комнатам и ловили друг друга; собаки тоже бегали и лаяли, и висевшие в клетках перед окнами канарейки наперерыв драли горло, усиливая всеобщий гам звонкой трескотней своего яростного щебетанья. В самый разгар этой оглушительной потехи к воротам подъехал загрязненный тарантас, и человек лет сорока пяти, в дорожном платье, вылез из него и остановился в изумленье. Он постоял некоторое время неподвижно, окинул дом внимательным взором, вошел через калитку на двор и медленно взобрался на крыльцо. В передней никто его не встретил; но дверь залы быстро распахнулась – из нее, вся раскрасневшаяся, выскочила Шурочка, и мгновенно, вслед за ней, с звонким криком выбежала вся молодая ватага. Она внезапно остановилась и затихла при виде незнакомого; но светлые глаза, устремленные на него, глядели так же ласково, свежие лица не перестали смеяться. Сын Марьи Дмитриевны подошел к гостю и приветливо спросил его, что ему угодно?
– Я Лаврецкий, – промолвил гость.
Дружный крик раздался ему в ответ – и не потому, чтобы вся эта молодежь очень обрадовалась приезду отдаленного, почти забытого родственника, а просто потому, что она готова была шуметь и радоваться при всяком удобном случае. Лаврецкого тотчас окружили: Леночка, как старинная знакомая, первая назвала себя, уверила его, что еще бы немножко – и она непременно его бы узнала, и представила ему всё остальное общество, называя каждого, даже жениха своего, уменьшительными именами. Вся толпа двинулась через столовую в гостиную. Обои в обеих комнатах были другие, но мебель уцелела; Лаврецкий узнал фортепьяно; даже пяльцы у окна стояли те же, в том же положении – и чуть ли не с тем же неконченным шитьем, как восемь лет тому назад. Его усадили на покойное кресло; все чинно уселись вокруг него. Вопросы, восклицания, рассказы посыпались наперерыв.
– А давно мы вас не видали, – наивно заметила Леночка, – и Варвару Павловну тоже не видали.
– Еще бы! – поспешно подхватил ее брат. – Я тебя в Петербург увез, а Федор Иваныч всё жил в деревне.
– Да, ведь с тех пор и мамаша скончалась.
– И Марфа Тимофеевна, – промолвила Шурочка.
– И Настасья Карповна, – возразила Леночка, – и мосье Лемм…
– Как? и Лемм умер? – спросил Лаврецкий.
– Да, – отвечал молодой Калитин, – он уехал отсюда в Одессу; говорят, кто-то его туда сманил; там он и скончался.
– Вы не знаете, музыки после него не осталось?
– Не знаю; едва ли.
Все замолкли и переглянулись. Облачко печали налетело на все молодые лица.
– А Матроска жив, – заговорила вдруг Леночка.
– И Гедеоновский жив, – прибавил ее брат.
При имени Гедеоновского разом грянул дружный смех.
– Да, он жив и лжет по-прежнему, – продолжал сын Марьи Дмитриевны, – и вообразите, вот эта егоза (он указал на институтку, сестру своей жены) вчера ему перцу в табакерку насыпала.
– Как он чихал! – воскликнула Леночка, – и снова зазвенел неудержимый смех.
– Мы о Лизе недавно имели вести, – промолвил молодой Калитин, – и опять кругом всё притихло, – ей хорошо, здоровье ее теперь поправляется понемногу.
– Она всё в той же обители? – спросил не без усилия Лаврецкий.
– Всё в той же.
– Она к вам пишет?
– Нет, никогда; к нам через людей вести доходят. – Сделалось внезапное, глубокое молчанье; вот «тихий ангел пролетел», – подумали все.
– Не хотите ли вы в сад? – обратился Калитин к Лаврецкому, – он очень хорош теперь, хотя мы его и запустили немножко.
Лаврецкий вышел в сад, и первое, что бросилось ему в глаза, – была та самая скамейка, на которой он некогда провел с Лизой несколько счастливых, неповторившихся мгновений; она почернела, искривилась; но он узнал ее, и душу его охватило то чувство, которому нет равного и в сладости и в горести, – чувство живой грусти об исчезнувшей молодости, о счастье, которым когда-то обладал. Вместе с молодежью прошелся он по аллеям; липы немного постарели и выросли в последние восемь лет, тень их стала гуще; зато все кусты поднялись, малинник вошел в силу, орешник совсем заглох, и отовсюду пахло свежим дромом, лесом, травою, сиренью.
– Вот где хорошо бы играть в четыре угла, – вскрикнула вдруг Леночка, войдя на небольшую зеленую поляну, окруженную липами, – нас, кстати, пятеро.
– А Федора Ивановича ты забыла? – заметил ее брат. – Или ты себя не считаешь?
Леночка слегка покраснела.
– Да разве Федор Иванович, в его лета, может… – начала она.
– Пожалуйста, играйте, – поспешно подхватил Лаврецкий, – не обращайте внимания на меня. Мне самому будет приятнее, когда я буду знать, что я вас не стесняю. А занимать вам меня нечего; у нашего брата, старика, есть занятие, которого вы еще не ведаете и которого никакое развлечение заменить не может: воспоминания.
Молодые люди выслушали Лаврецкого с приветливой и чуть-чуть насмешливой почтительностью, – точно им учитель урок прочел, – и вдруг посыпали от него все прочь, вбежали на поляну; четверо стало около деревьев, один на середине – и началась потеха. А Лаврецкий вернулся в дом, вошел в столовую, приблизился к фортепьяно и коснулся одной из клавиш; раздался слабый, но чистый звук и тайно задрожал у него в сердце: этой нотой начиналась та вдохновенная мелодия, которой, давно тому назад, в ту же самую счастливую ночь, Лемм, покойный Лемм, привел его в такой восторг. Потом Лаврецкий перешел в гостиную и долго не выходил из нее: в этой комнате, где он так часто видал Лизу, живее возникал перед ним ее образ; ему казалось, что он чувствовал вокруг себя следы ее присутствия; но грусть о ней была томительна и не легка: в ней не было тишины, навеваемой смертью. Лиза еще жила где-то, глухо, далеко; он думал о ней, как о живой, и не узнавал девушки, им некогда любимой, в том смутном, бледном призраке, облаченном в монашескую одежду, окруженном дымными волнами ладана. Лаврецкий сам бы себя не узнал, если б мог так взглянуть на себя, как он мысленно взглянул на Лизу. В течение этих восьми лет совершился наконец перелом в его жизни, тот перелом, которого многие не испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца; он действительно перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях. Он утих и – к чему таить правду? – постарел не одним лицом и телом, постарел душою; сохранить до старости сердце молодым, как говорят иные, и трудно и почти смешно; тот уже может быть доволен, кто не утратил веры в добро, постоянства воли, охоты к деятельности. Лаврецкий имел право быть довольным: он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян.
Лаврецкий вышел из дома в сад, сел на знакомой ему скамейке – и на этом дорогом месте, перед лицом того дома, где он в последний раз напрасно простирал свои руки к заветному кубку, в котором кипит и играет золотое вино наслажденья, – он, одинокий, бездомный странник, под долетавшие до него веселые клики уже заменившего его молодого поколения, оглянулся на свою жизнь. Грустно стало ему на сердце, но не тяжело и не прискорбно: сожалеть ему было о чем, стыдиться – нечего. «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы, – думал он, и не было горечи в его думах, – жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить: вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о том, как бы уцелеть – и сколько из нас не уцелело! – а вам надобно дело делать, работать, и благословение нашего брата, старика, будет с вами. А мне, после сегодняшнего дня, после этих ощущений, остается отдать вам последний поклон – и, хотя с печалью, но без зависти, безо всяких темных чувств, сказать, в виду конца, в виду ожидающего Бога: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!» Лаврецкий тихо встал и тихо удалился; его никто не заметил, никто не удерживал; веселые клики сильнее прежнего раздавались в саду за зеленой сплошной стеной высоких лип. Он сел в тарантас и велел кучеру ехать домой и не гнать лошадей.
«И конец? – спросит, может быть, неудовлетворенный читатель. – А что же сталось потом с Лаврецким? с Лизой?» Но что сказать о людях, еще живых, но уже сошедших с земного поприща, зачем возвращаться к ним? Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, – увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини – и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо – и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства… На них можно только указать – и пройти мимо.
Приложения
Д. И. Писарев
Дмитрий Иванович Писарев (1840–1868) – русский публицист и литературный критик, философ-материалист. В 1861–1866 годах – ведущий критик и идейный руководитель журнала «Русское слово». В 1867–1868 годах сотрудничал в журнале «Дело» и «Отечественные записки». С 1863 года выступил с программой, отразившей поиски новых путей демократического движения в условиях крушения надежд на немедленную народную революцию.
Дворянское гнездо. Роман И. С. Тургенева
Вопрос о том, что должны и что могут читать девицы, до сих пор не вполне решен, несмотря на его важность в деле женского воспитания. Есть много замечательных художественных произведений, которые, представляя жизнь как она есть, рассматривая и обсуживая явления современности, отыскивая в них общечеловеческую сторону, объясняя их историческим развитием народности, заслуживают полного внимания всякого просвещенного человека и удовлетворяют всем требованиям самой тонкой эстетической критики. Чтение таких произведений необходимо для всестороннего образования как мужчины, так и женщины; а между тем часто случается, что в подобных произведениях есть две-три сцены, слишком откровенно разоблачающие несовершенства жизни и слабости человеческой природы. Тут потребности умственной жизни сталкиваются и приходят в борьбу с понятиями, принятыми в обществе и освященными временем, – рождается вопрос: читать или не читать девушке такое произведение? и вопрос этот решается различно, смотря по взгляду на вещи родителей и воспитателей. Иногда пуризм доходит до таких размеров, что из рук девушки вырывают всякий роман, всякую книгу, в которой встречается слово «любовь»; при этом обыкновенно обращают преимущественное внимание не на мысль, не на направление книги, а на внешнюю форму, на слова и выражения. Согласить подобные мнения, еще живущие в нашем обществе, с сколько-нибудь жизненным взглядом на образование и на ту роль, которую должно играть в образовании чтение, невозможно; идти прямо наперекор принятым понятиям общества, не обращать на них никакого внимания также нельзя. Этим можно только возбудить недоверие и озлобление в приверженцах прежнего порядка вещей, их нужно убеждать разумными доводами, а не раздражать смелыми, но бесполезными выходками. Что же остается делать, встречаясь с такими произведениями, каково, например, «Дворянское гнездо», последний роман И. С. Тургенева? Пройти его молчанием нельзя, во имя любви к нашей словесности, во имя того, что «Дворянское гнездо» вместе с «Рудиным» представляет собою полный результат художественной деятельности одного из наших первоклассных писателей. Рекомендовать его для чтения девицам трудно: в положении главных действующих лиц, в самой завязке романа много горькой жизненной истины. А что слишком истинно, то, как известно, принято до времени скрывать. Находясь в подобном затруднительном положении, мы решились выбрать среднюю дорогу. Мы указали родителям и воспитателям на те препятствия, которые могут встретиться при чтении «Дворянского гнезда»; теперь мы постараемся в нашем отчете, минуя частности и подробности, показать, почему необходимо познакомить девиц с этим во всех отношениях замечательным произведением. И. С. Тургенев, как известно, вероятно, всем нашим читательницам, знакомым с «Записками охотника», с «Рудиным», с «Затишьем», с «Муму», с «Асею», – истинный художник, и художник преимущественно русский. Русская национальность выражается как в создании русских типов, так и в отношении самого художника к создаваемым им типам. Действующие лица повестей и рассказов Тургенева живут одной жизнью с своим автором. Выразимся точнее: у каждого из выведенных лиц есть что-то общее с автором, какая-нибудь точка соприкосновения: в понимании вещей, в складе ума представляемых личностей есть такие оригинальные черты, такие неуловимые, но характеристичные частности, которые вырабатывает только русская жизнь, которые может оценить и подметить только человек, сжившийся с этой жизнью, одаренный тем же национальным складом ума, перечувствовавший на себе интересы и стремления, волновавшие русское общество, и притом перечувствовавший их так, как чувствует и воспринимает их русский человек. Знание русской жизни, и притом знание не книжное, а опытное, вынесенное из действительности, очищенное и осмысленное силою таланта и размышления, сказывается во всех произведениях Тургенева и особенно ярко выразилось в «Дворянском гнезде», самом стройном и законченном из его созданий. Все действующие лица его романа, начиная от русской девушки Лизы и кончая русским лакеем старых времен Антоном, в высшей степени оригинальны и жизненны; все они созданы из тех элементов, которые все мы знаем и из которых, со времени реформы Петра, мало-помалу слагается наша общественная и частная жизнь. Все они – представители настоящего или непосредственного прошедшего. Есть между ними и лучшие люди, есть и дюжинные, но ни один из них не обогнал своего века, ни один, подобно Штольцу, не является предвестником будущего, и, следовательно, ни одного из них нельзя, подобно Штольцу, упрекнуть в том, что он – лицо, произвольно созданное автором из таких элементов, которые еще не сделались достоянием нашей жизни. Тургенев в своем романе не говорит нам о том, что должно быть; он представляет нам то, что есть. Дидактизма нет и тени; а между тем «Дворянское гнездо» – вполне поучительный роман: он рисует современную жизнь, оттеняет ее хорошие и дурные стороны, объясняет происхождение выведенных явлений и вызывает читателя на серьезные и плодотворные размышления. Когда мы изучаем историю, нам редко удается заглянуть в душу людей известной эпохи, не всегда удается перенестись в круг их понятий, объяснить себе, как смотрят они на себя, на мир, на свои отношения к обществу, к семейству и к человечеству. Такие черты не заносятся в летописи, где говорится только о войнах, мирных договорах и действиях государей. Внутренняя, духовная жизнь эпохи может отразиться только в художественном произведении. На этом основании некоторые подобные произведения стоят на ряду с драгоценнейшими историческими памятниками. К числу таких произведений можно отнести «Евгения Онегина», «Героя нашего времени», «Мертвые души», «Обломова» и «Дворянское гнездо». Онегин, Печорин и Обломов воплотили в себе различные фазы болезни века, поражавшей лучших представителей прошлого поколения; «Мертвые души» и «Дворянское гнездо» представили в ряде свежих, жизненных картин быт и понятия среднего класса нашего общества. «Мертвые души» обнимают собою преимущественно отрицательные явления этой жизни, ее «бедность, да бедность, да несовершенства»; «Дворянское гнездо» берет ее лучших представителей и показывает нам, что в них есть хорошего и чего недостает, что следовало бы добавить и исправить. В названных нами произведениях высказалась вторая четверть XIX столетия; в них прослежен весь процесс внутренней жизни и развития нашего общества в этот период времени.
Приступим теперь к изложению мысли автора, выраженной им в выборе и группировке главных действующих лиц романа. Не имея возможности касаться всех личностей и положений, мы ограничимся анализом трех характеров, в которых, по нашему мнению, довольно полно и ясно выразилась основная мысль. Мы будем говорить только о Паншине, о Лаврецком и о Лизе, упоминая об остальных личностях настолько, насколько они оттеняют или объясняют собою черты их характера или процесс их развития.
Владимир Николаевич Паншин – чиновник, артист, светский человек, очень неглупый и довольно образованный, схвативший на лету карьеру, положение в обществе и даже довольно современный, но очень поверхностный взгляд на вещи; он прекрасно характеризуется одним словом угрюмого, ученого, но забитого жизнью музыканта Лемма. «Он дилетант», – говорит старый немец о молодом и блестящем светском человеке, умеющем соединять с своими успехами в обществе практический взгляд на административную деятельность и внешнюю, очень приличную, но вовсе не искреннюю восприимчивость к разнообразным проявлениям изящного. За Паншина заступается в разговоре с Леммом Лизавета Михайловна Калитина. «Вы к нему несправедливы, – говорит она, – он все понимает и сам почти все может сделать». – «Да, – продолжает музыкант, – все – второй нумер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен; ну и браво». В этих правдивых словах добросовестного труженика обрисован весь Паншин: он – дилетант и во вседневной жизни, и в служебной своей деятельности, и особенно в искусстве, которое под его руками превращается вполне в изящную игрушку, в talent de societe[59] или d’agrement[60]. Паншин не служит никакому делу, не предан никакой идее, не выработал себе никакого твердого, дорогого убеждения: прожить весело и спокойно, нравиться окружающим людям, рисоваться перед ними разнообразными дарованиями и чистотой нравственных правил, возбуждать их изумление и благоговение вычитанной и кстати приведенной мыслью, и, наконец, путями всех этих разнородных, пустых, но, в сущности, безгрешных успехов достигнуть под старость высокого чина и обеспеченного состояния – вот цель Паншина в жизни, и этой цели он наверное достигнет, потому что он – человек умный, не настолько безнравственный или смелый, чтобы оскорбить какой-нибудь проделкой даже самое чуткое общественное мнение, и не настолько благородный и пылкий, чтобы всей душой принять какое-нибудь убеждение и во имя этого убеждения пожертвовать карьерой и временными выгодами. Паншин – сухой человек, применяющий и общие идеи, и высшие стремления к мелким выгодам своего я, но в то же время тщательно скрывающий от всех других свой узкий эгоизм. Он дра пируется и постоянно играет роль. То он является государственным человеком, заботящимся о нуждах народа и горячо принимающим к сердцу все, что может упрочить его благосостояние и содействовать его развитию. В этом случае его пылкие и, по-видимому, вдохновенные речи отличаются преобладанием общих мест и незнанием истинного дела, незнанием народного характера и народной жизни. То он прикидывается художником, умно говорит о Шекспире и Бетховене, с чувством поет, с видом знатока кладет широкие штрихи на единственный ландшафт, который рисует во всех альбомах знакомых дам и девиц. Здесь Лемм, истинный художник по чувству и специалист своего дела по знаниям, прямо угадывает его неискренность и смело говорит, что он неспособен верно понимать и глубоко чувствовать. То Паншин просто является добрым, откровенным малым, у которого нет ни затаенной мысли, ни расчета, – человеком, увлекающимся минутными порывами, поддающимся мимолетным впечатлениям и способным, по живости и беспечности характера, наделать глупостей и поставить себя в затруднительное и неловкое положение. Тут притворство его обнаруживается тем, что он, являясь на словах добрым и простым малым, на деле держит себя самым политическим образом. Он шутит, фамильярничает, позволяет себе вольности, но настолько, насколько можно: он никогда не забывается. Шутки его иногда оскорбляют личности; но он шутит только с беззащитными людьми, – с теми, кто стоит ниже его, или с теми, кто не поймет иронии и примет ее за чистую монету. Нельзя сказать, чтобы Паншин постоянно сознательно лгал, играя свои роли: он сам уверен, что он и артист, и администратор, и славный малый. Потому он чрезвычайно доволен всей своей особой вообще и каждым из своих прекрасных качеств в особенности; он – актер, увлекающийся своей ролью и забывающий действительность. Действительности своей он, собственно, и не знает: вечно рисуясь и перед другими и перед собою, он не успел возвыситься до беспристрастного размышления над самим собою и никогда не задавал себе существенного вопроса: чем он должен быть и что он на самом деле? На самом деле Паншин – человек одного разбора с Молчалиным («Горе от ума») и Чичиковым («Мертвые души»); он приличнее их обоих и несравненно умнее первого. Поэтому, чтобы достигнуть тех же целей, к которым идут и Молчалин и Чичиков, чтобы далеко обогнать того и другого, Паншину не нужно будет ни ползать, ни мошенничать: достаточно будет улыбнуться в одном месте, сказать ловкую фразу в другом, почтительно выслушать нелепое рассуждение в третьем, прикинуться рыцарем чести в четвертом – и на избранника судьбы широкой рекой польются земные блага. Чичиков и Молчалин – мелкие торгаши, оттого к ним и прилипает грязь их ремесла; Паншин – промышленник большой руки, и потому он останется барином и честным человеком, не по убеждению, а потому, что оно и выгодно и спокойно. По внутренним свойствам души он ничем не лучше обоих своих предшественников, – цель в жизни у них одна; все различие заключается только во внешнем образовании да во внешней обстановке. Таких людей формирует наше общество, оно воспитывает их с малых лет в своих салонах или канцеляриях; оно потворствует им своим благоволением и позволяет им достигнуть желанной цели, ежели они идут к ней осторожно и прилично, не производя скандала и не марая себя вопиющей безнравственностью. В романе Тургенева Паншин представлен в одну из самых светлых минут своей жизни: он любит достойную девушку. Чувство, по-видимому, очень благородное, но тут надо принять в соображение три обстоятельства:
1. Он любит девушку очень богатую, – девушку, которая во всех отношениях представляется ему приличной, почти блестящей партией.
2. Он продолжает рисоваться перед любимой девушкой во все продолжение романа; он рисуется торжественной важностью, когда делает предложение, рисуется мрачным спокойствием, когда впоследствии получает отказ. Чувство во все продолжение действия не вызвало у него ни одного живого, задушевного, не рассчитанного слова.
3. Он не понимал и не знал любимой девушки; разговор их вертелся в общих сферах музыки, живописи, поэзии. Он говорил о них как дилетант и светский человек. Она слушала его равнодушно и отвечала прилично, потому что в разговоре не было одушевления, не было и откровенности. Зная одну наружность девушки и довольствуясь этим знанием, он не мог любить сильно; в тот самый день, когда неблагоприятно решилась его судьба, он с живейшим удовольствием пел, играл в карты и вел пустой разговор с женщиной, не заслуживавшей ни уважения, ни сочувствия развитого человека. Вот каков Паншин!
Лаврецкий – человек, много переживший, испытавший и радость и горе, вдумывавшийся в себя и в свои отношения к людям и выработавший себе наконец путем серьезных занятий, путем размышлений и опыта уменье владеть своим внутренним миром, сдерживать порывы чувства и мириться с жизнью, несмотря на ее мрачные стороны, несмотря на те страдания, которые выпадают в ней на долю людей с развитым умом и нежным чувством. Все участие Лаврецкого в действии романа представляется рядом незаслуженных страданий, среди которых крепнет и формируется его мужественная личность, крепнет, не черствея, не теряя живой восприимчивости ко всему изящному в природе и в человеке. Его, как он сам выражается, с детства вывихнули уродливым воспитанием, от последствий которого ему трудно оправиться до зрелого возраста; в нем пробудили любознательность и не направили ее, ему не дали даже элементарных сведений, а между тем бросили в его свежую и здоровую голову несколько идей, взятых из философии XVIII века, пересаженных на русскую почву и понятых особенным, оригинальным образом; суровым, почти спартанским воспитанием ему придали полноту и крепость физических сил – и не указали исхода этим силам. До двадцатитрехлетнего возраста его не познакомили ни с жизнью, ни с наукой, в нем развили только твердость воли, и эта твердость пригодилась ему на то, чтобы, не пугаясь упущенного времени, приняться за перевоспитание самого себя. Но между тем жизнь не ждет и предъявляет свои права, заставляет его идти вперед тогда, когда нет еще ни опытности, ни уменья осмысливать свои поступки, когда дело перевоспитания только что началось. Лаврецкий делает промах в жизни, – промах, не легший пятном на его совесть, но окончательно испортивший его будущую участь. Последствия этого промаха – неудачного и неосторожного выбора жены по первому впечатлению – развиваются в романе и составляют его главную завязку. Лаврецкий является на сцену уже человеком тридцати пяти лет, уже знакомый с тяжелым страданием. Первое впечатление горести уже пережито им; но в душе остались неизгладимые следы. Он не дал горю опутать и обессилить себя, не стал им рисоваться перед самим собою, но, вглядевшись в свое положение, сказал себе просто, что не видит впереди возможности счастья и наслаждения; он мирится с этой безнадежностью и при этом примирении умеет уберечься от той апатии, в которую часто впадают люди, обманутые жизнью. Наслаждения жизни кончились, говорит он себе, но остались обязанности, и это сознание неисполненного долга, сознание, что он может и должен быть полезен окружающим и зависящим от него людям, дает ему силы жить, не ожидая и не требуя ничего от жизни. Лаврецкий не признает себя разочарованным, и он действительно не разочарованный: он не возводит собственного, случайного несчастия в общее правило, не смотрит с недоверием и насмешкой на чужие радости, не чувствует к людям отвращения, не отвергает в них существования добра, хотя, конечно, не верит ему с прежним юношеским увлечением. Он не может себе представить, чтобы сам он мог еще раз помолодеть душой и испытать счастье взаимной любви; но когда это счастье встречается с ним, он не отталкивает его, начинает ему верить и предается своему новому чувству без боязни, без мрачных предчувствий, с полным, святым наслаждением, которым он дорожит, тем более что уже знает ему цену и что не смел более надеяться на него. Несчастье действует на людей различно, смотря по степени их ума и нравственных сил: одних оно убивает, повергает в апатию или ожесточает; это люди с слабой волей, тратящейся на исполнение мелких прихотей и изменяющей им тогда, когда нужно бороться и терпеть, или это люди с узким и не вполне развитым умом, – люди, неспособные обсуждать своего положения, люди, выводящие общие правила из мелких случайностей, становящиеся на ходули и считающие себя какими-то несчастными избранниками, жертвами, гонимыми роком. Их бессильная злоба на то, что они называют своей судьбой, кажется им законным и великим чувством; а ежели посмотреть на дело со стороны, то увидишь, что эта злоба так же беспредметна, как смешон гнев ребенка, ударившегося об стол и старающегося выместить на нем свою боль. К числу таких жалких, больных людей, окисляющихся под влиянием несчастия, принадлежат все герои Байрона и его последователей, – герои, возбуждавшие такое благоговение и сочувствие в начале нынешнего столетия. Других людей несчастье возвышает и очищает. В них спят несознанные ими самими душевные силы; чтобы пробудить эти силы, нужен иногда сильный толчок, который, разрывая связь человека с окружающими его внешними предметами, принудил бы его оглянуться на себя и привести в известность свое внутреннее достояние. Таким толчком бывает несчастье. После такого толчка эти люди становятся терпимее к другим, они полнее понимают чужие страдания и живее сочувствуют чужим радостям, хотя подчас и грустно становится у них на душе; несчастье делается для них школою; из тяжелого опыта они выносят уменье сдерживать и осмысливать свои порывы, уменье различать людей, уменье выбирать наслаждения и довольствоваться тем, что есть, не требуя невозможного и не мучаясь произвольно создаваемыми фантазиями и сомнениями. Только таких людей можно назвать людьми крепкими и нравственно здоровыми. К числу таких людей принадлежит Лаврецкий. Он не отступает от борьбы, пока можно бороться, и умеет покоряться молча, с мужественным достоинством там, где нет другого исхода. Последней способностью обладают немногие. На личности Лаврецкого лежит явственно обозначенная печать народности. Ему никогда не изменяют русский, незатейливый, но прочный и здравый практический смысл и русское добродушие, иногда угловатое и неловкое, но всегда искреннее и неприготовленное. Лаврецкий прост в выражении радости и горя; у него нет возгласов и пластических жестов, не потому, чтобы он подавлял их, а потому, что это не в его природе; он, как русский человек, страдает про себя и способен скорее к тихому чувству, к заунывности, к продолжительной тоске, о которой поют наши народные песни, нежели к бурным взрывам отчаяния и к стремительным движениям страсти. В драматические минуты его жизни в нем иногда шевелятся грубые, дикие чувства; но они не омрачают рассудка и, тотчас подавленные размышлением, замирают в груди, не найдя себе выхода. У Лаврецкого есть еще одно чисто русское свойство: легкий, безобидный, полузадумчивый, полуигривый юмор проникает собою почти каждое его слово; он добродушно шутит с другими и часто, смотря со стороны на свое положение, находит в нем комическую сторону и с той же добродушной шутливостью относится к собственной личности и затрагивает такие предметы, которых воспоминание заставляет сердце обливаться кровью. Когда случается ему укорять себя в чем-нибудь, он редко укоряет серьезно, с желчью или с негодованием. Он никогда не впадает в трагизм; напротив, отношение его к собственной личности тут остается юмористическим. Он добродушно, с оттенком тихой грусти смеется и над собою и над своими увлечениями и надеждами. Личность Лаврецкого рельефно выдвигается в романе Тургенева, тем более что она оттенена с двух сторон: с одной стороны ее оттеняет космополит и мелкий эгоист Паншин, с другой – энтузиаст, мечтатель, претендующий на титул фанатика, Михалевич. В первом господствует копеечный расчет; во втором непомерно развито чувство, не допускающее никакого рассуждения и не обращающее внимания на опыт; в первом все искусственно и размеренно, во втором все широко и размашисто – и стремления, и надежды, и внешнее обращение; первый смотрит на жизнь, как на спекуляцию, в которой можно выиграть столько-то выгод, столько-то почестей, столько-то наслаждений; второй видит в ней фанатическое, самоотверженное служение какому-то долгу, обширному, великому, о котором он, впрочем, сам не составил себе яркого понятия. Лаврецкий держит средину между тем и другим; его рассудок сдерживает чувство, а чувство охраняет его от сухости и черствости; он не выходит из границ здравого смысла, но и не останавливается на чисто положительной, сухо практической стороне жизни; он живет всеми сторонами своего существа и стремится к полной, примиряющей гармонии. Столкновение Лаврецкого с Паншиным показывает различие между заносчивым дилетантом-космополитом, судящим о народности, которой он не знает, и человеком жизни, патриотом без претензий, основательно знающим нужды своих соотечественников и действительно сочувствующим интересам их развития. Столкновение Лаврецкого с Михалевичем обнаруживает слабые стороны их обоих. Бесцельный энтузиазм Михалевича составляет резкую противоположность с медленностью и нерешительностью Лаврецкого. Первый кричит о долге и деятельности, но не выходит из общих мест и сам не может определить, чего он требует; второй знает свои обязанности, но, по свойственной русским людям обломовщине, долго собирается взяться за дело, мешкает и бесполезно тратит время. Лаврецкий – не энергический человек, хотя в нем много жизненных сил и здорового ума; недостаток энергии, которым вообще страдает русская народность, происходит в нем, быть может, просто от физиологических или климатических условий. Оттеняя собою его хорошие качества, эта черта придает его личности последнюю определенность и сообщает его образу печать поэтической жизненной правды. Личность Лаврецкого во все продолжение романа совершенствуется и очищается путем тяжелых испытаний; она достигает полного своего развития уже в эпилоге. Лаврецкий является там человеком пожилым; он кончил навсегда личные расчеты с жизнью, взялся за серьезное и полезное дело и в этом деле нашел себе ежели не счастье, то по крайней мере разумное, достойное мыслящего человека успокоение. Тургенев показывает нам Лаврецкого в такую минуту, при такой обстановке, которая может служить пробным камнем его нравственных сил; он приводит его после восьмилетнего отсутствия в те места, в которых он думал во второй раз найти счастье, в которых быстро промелькнул его роман, получивший такую печальную развязку. На знакомых местах уже нет знакомых людей, их место заменило новое поколение, которое резвится и смеется, перед которым широко и безоблачно открывается жизнь. Лаврецкий погружается в свои воспоминания и в то же время прислушивается к шумным восклицаниям свежих молодых голосов. Он задумывается, ему становится грустно, в его душу напрашиваются образы и звуки былого, а между тем вокруг него роскошная, расцветающая жизнь громко и смело предъявляет свои права на настоящее, и Лаврецкий от чистого сердца, без желчи и без зависти, признает эти права и желает счастья молодому поколению.
Ему грустно от воспоминаний, а не от чужого веселья. Эта черта, превосходно выраженная в конце эпилога, доказывает, что Лаврецкий достиг полной гармонии, полной победы над мелким и завистливым эгоизмом, растравляющим душевные раны и служащим основой той мизантропии, которою отличаются другие, менее благородные страдальцы.
Говоря о личности Лаврецкого, мы не можем не обратить внимания наших читательниц на те замечательные главы, в которых автор представляет генеалогию своего героя и рисует ряд фамильных портретов, начиная от прадеда Лаврецкого, русского барина старого покроя, мрачного, жестокого и своенравного, жившего, вероятно, еще тогда, когда реформа Петра едва коснулась верхних слоев нашего общества. В этих главах очерчено широкими штрихами несколько чрезвычайно характерных личностей, непохожих друг на друга и между тем носящих на себе один общий отпечаток русской народности. Значение духа нашей старины, значение тех идей и влияний, которые выносило в себе наше общество с половины XVIII века, и, наконец, то удивительное понимание русского человека разных времен и слоев общества, которое отличает собою произведения Тургенева, выразились в этих главах как в группировке личностей, так и в выборе немногих, но чрезвычайно характерных подробностей.
В начале нашей статьи мы заметили, что все действующие лица «Дворянского гнезда» целиком взяты из современности, что ни одно из них ни в каком отношении не обогнало своего века, хотя многие относятся к его лучшим представителям. Это замечание оказалось применимым к личностям Паншина и Лаврецкого. Один из них – чистое порождение испорченного общества, другой, успевший выработать себе более самостоятельную нравственную физиономию, также является нам сыном своего народа, русским человеком, выносившим в себе все влияния или, по выражению одного современного критика, все веяния эпохи. Эти веяния выразились и в его воспитании, и в событиях его жизни. Но самым ярким подтверждением нашего замечания мы считаем характер Лизаветы Михайловны Калитиной, одной из самых грациозных женских личностей, когда-либо созданных Тургеневым. Лиза – девушка, богато одаренная природой; в ней много свежей, неиспорченной жизни; в ней все искренне и неподдельно.
У нее есть и природный ум, и много чистого чувства. По всем этим свойствам она отделяется от массы и примыкает к лучшим людям нашего времени. Но богато одаренные натуры родятся во всякое время; умные, искренне и глубоко чувствующие девушки, неспособные на мелкий расчет, бывают во всяком обществе. Не в природных качествах души, ума, а во взгляде на вещи, в развитии и этих качеств и в их практическом применении должно искать влияния эпохи на отдельную личность. В этом отношении Лиза не обогнала своего века; личность ее сформировалась под влиянием тех элементов, которых различные видоизменения мы ежедневно встречаем в нашей современной жизни. Чтобы яснее высказать нашу мысль, мы позволим себе провести параллель между Ольгой Сергеевной Ильинской, стоящей на несколько десятилетий впереди нашего времени, и Лизой, современной русской девушкой. У той и другой природные качества почти те же: та же искренность и естественность, тот же природный здравый смысл, та же женственная мягкость и грация поступков и душевных движений. Обе они резко отделяются от массы светских барышень, обе они стоят неизмеримо выше их; но на этом и останавливается сходство. В Ольге есть живая любознательность, в Лизе ее не заметно; в Ольге женственность совмещается с ее смелостью мысли, со способностью оценивать и критиковать личности, со стремлением к умственной самостоятельности; в Лизе женственность выражается в робости, в стремлении подчинить чужому авторитету свою мысль и волю, в нежелании и неумении пользоваться врожденною проницательностью и критическою способностью. Ольга, любя Обломова, разгадывает его личность и честно, открыто говорит ему, что он ей не по плечу, что они вместе не могут быть счастливы; Лиза, не любя Паншина, отказывается обсуживать его личность и, по воле матери, готова сделаться его женой. От этого ложного шага в жизни ее спасает не собственное размышление, выручившее Ольгу, а постороннее влияние. Ежели при этом взять во внимание, насколько личность Обломова чище и возвышеннее личности Паншина, ежели сообразить, какое влияние должно было иметь на суждение девушки чувство, то нетрудно будет убедиться в том, что между Ольгой и Лизой существует значительное различие. Ольга сознает свое личное достоинство, на нее уже пахнуло воздухом свободы, до нее коснулось веяние новых идей о самостоятельности женщины, как человеческой личности, имеющей полное право на всестороннее развитие и на участие в умственной жизни человечества. Эти идеи пустили в ней такие глубокие корни и принесли такие прекрасные плоды, каких еще в наше время нельзя и ожидать. Лиза стоит вне действия этих идей; она по-прежнему считает покорность высшею добродетелью женщины; она молча покоряется, насильно закрывает себе глаза, чтобы не видать несовершенств окружающей ее сферы. Помириться с этой сферой она не может: в ней слишком много неиспорченного чувства истины; обсуживать или даже замечать ее недостатки она не смеет, потому что считает это предосудительною или безнравственною дерзостью. Потому, стоя неизмеримо выше окружающих ее людей, она старается себя уверить, что она такая же, как и они, даже, пожалуй, хуже; что отвращение, которое возбуждает в ней зло или неправда, есть тяжкий грех, нетерпимость, недостаток смирения. При случае, где только есть какая-нибудь возможность, она даже готова уверить себя, что чужой проступок или чужое горе произошли по ее вине, что она слезами и молитвой должна загладить свое невольное, никогда даже не совершенное, но тем не менее тяготеющее над ней преступление; ее чуткая совесть находится в постоянной тревоге; не выработав в себе критической способности, боясь предоставить себя своему природному здравому смыслу, избегая обсуживания, которое она смешивает с осуждением, Лиза во всяком движении своем, во всякой невинной радости предчувствует грех, страдает за чужие проступки, упрекая себя в том, что заметила их, и часто готова принести свои законные потребности и влечения в жертву чужой прихоти. Она – вечная и добровольная мученица. Личность ее получает от этого особенную, трогательную прелесть; но ежели взглянуть на дело серьезно, не поддаваясь той инстинктивной симпатии, которую внушает с первого взгляда привлекательный образ молодой девушки, то нельзя не заметить, что Лиза идет по ложной и опасной дороге. Истинным можно назвать только такое развитие, которое ведет нас к нравственному совершенству и заставляет нас находить счастье в самом процессе самосовершенствования. Такое развитие должно пробуждать в нас потребности и в то же время должно давать нам средства удовлетворять этим потребностям, должно вести эти стремления к определенной и разумной цели. Но ежели мы будем требовать от себя невозможного, ежели, во имя неправильно понятой буквы нравственного закона, мы постоянно будем недовольны собой, ежели мы постоянно будем тратить свою энергию на совершение ненужных подвигов смирения и самоотвержения, тогда мы только измучим и истомим себя, отравим себе самые благородные и невинные радости жизни, выпустим из рук собственное разумное счастье и омрачим спокойствие и счастье близких людей своими добровольными и бесполезными страданиями. Ежели самодовольствие ведет к умственной неподвижности, то и постоянное фанатическое стремление к недостижимому идеалу, стоящему выше человечества, ведет к ослаблению нравственных сил, как неумеренные гимнастические упражнения изнуряют физические силы. Истинное развитие должно вести к равновесию всех сил человеческой души. У Лизы равновесие было нарушено. Воображение, настроенное с детства рассказами набожной, но неразвитой няньки, и чувство, свойственное всякой женской впечатлительной природе, получили полное преобладание над критическою способностью ума. Считая грехом анализировать других, Лиза не умеет анализировать и собственной личности. Когда ей должно на что-нибудь решиться, она редко размышляет; в подобном случае она или следует первому движению чувства, доверяется врожденному чутью истины, или спрашивает совета у других и подчиняется чужой воле, или ссылается на авторитет нравственного закона, который всегда понимает буквально и всегда слишком строго, с фанатическим увлечением. Словом, она не только не достигает умственной самостоятельности, но даже не стремится к ней и забивает в себе всякую живую мысль, всякую попытку критики, всякое рождающееся сомнение. В практической жизни она отступает от всякой борьбы; она никогда не сделает дурного поступка, потому что ее охраняют и врожденное, и нравственное чувство, и глубокая религиозность; она не уступит в этом отношении влиянию окружающих, но, когда нужно отстаивать свои права, свою личность, она не сделает ни шагу, не скажет ни слова и с покорностью примет случайное несчастье как что-то должное, как справедливое наказание, поразившее ее за какую-то воображаемую вину. При таком взгляде на вещи у Лизы нет орудия против несчастья. Считая его за наказание, она несет его с покорным благоговением, не старается утешиться, не делает никаких попыток стряхнуть с себя его гнетущее влияние: такие попытки показались бы ей дерзким возмущением. «Мы были наказаны», – говорит она Лаврецкому. За что? на это она не отвечает; но между тем убеждение так сильно, что Лиза признает себя виновной и посвящает всю остальную жизнь на оплакивание и отмаливание этой неведомой для нее и несуществующей вины. Восторженное воображение ее, потрясенное несчастным происшествием, разыгрывается и заводит ее так далеко, показывает ей такой мистический смысл, такую таинственную связь во всех совершившихся с нею событиях, что она, в порыве какого-то самозабвения, сама называет себя мученицей, жертвой, обреченной страдать и молиться за чужие грехи. «Нет, тетушка, – говорит она, – не говорите так. Я решилась, я молилась, я просила совета у Бога. Все кончено; кончена моя жизнь с вами. Такой урок не даром; да я уж не в первый раз об этом думаю. Счастье ко мне не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил; я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо: вас мне жаль, жаль мамаши, Леночки; но делать нечего. Чувствую я, что мне не житье здесь, я уже со всем простилась, всему в доме поклонилась в последний раз. Отзывает меня что-то, тошно мне, хочется мне запереться навек. Не удерживайте меня, не отговаривайте; помогите мне, не то я одна уйду…» И так кончается жизнь молодого, свежего существа, в котором была способность любить, наслаждаться счастьем, доставлять счастье другому и приносить разумную пользу в семейном кругу… и какую значительную пользу может принести в наше время женщина, какое согревающее, благотворное влияние может иметь ее мягкая, грациозная личность, ежели она захочет употребить свои силы на разумное дело, на бескорыстное служение добру. Отчего же уклонилась от этого пути Лиза? Отчего так печально и бесследно кончилась ее жизнь? Что сломило ее? Обстоятельства, скажут некоторые. Нет, не обстоятельства, ответим мы, а фанатическое увлечение неправильно понятым нравственным долгом. Не утешения искала она в монастыре, не забвения ждала она от уединенной и созерцательной жизни: нет! Она думала принести собою очистительную жертву, думала совершить последний, высший подвиг самоотвержения. Насколько она достигла своей цели, пусть судят другие. Говоря о воспитании Лизы, Тургенев дает нам ключ к объяснению как нравственной чистоты ее убеждений, не потускневших от вредного влияния неразвитого общества, так и излишней строгости и односторонности ее взгляда на жизнь.
В воспитании Лизы все было направлено к развитию чувства. Важнейшим элементом этого воспитания было пламенное религиозное чувство ее няни, попечениям которой она почти исключительно была предоставлена. Наука, до сих пор не приобретшая права гражданства в женском образовании, не могла благотворно подействовать на ее ум. Искусство, именно музыка, затронула ее эстетическое чувство, но не расширила круга ее понятий. Раскрывавшаяся душа ее жадно воспринимала серьезные рассказы няни, проникнутые восторженным, правдивым чувством. Воображение ребенка получило несоразмерное развитие, а ум остался робким и неразработанным. Лиза сделалась набожной, она горячо полюбила добро и истину, она вынесла из своего детства теплую веру и твердые нравственные правила, но на этом она и остановилась; распоряжаться своими правилами, применять их к жизни, находить присутствие духа во всяком положении, обдумывать свои поступки и определять свои обязанности размышлением, а не слепым порывом чувства – этого она не умеет, потому она руководствуется инстинктом или авторитетом, создает себе призраки, изнемогает в неестественной борьбе с самыми законными своими побуждениями, ставит себе в вину это изнеможение и наконец, утомленная внутренними волнениями, решается покинуть все, что ей дорого, и принести последнюю жертву. Из женских характеров, существующих в нашей литературе, Лиза представляет всего более сходства с Татьяною Пушкина: в той и в другой замечается перевес чувства и воображения над умом; разница только в том, что у Татьяны чувство и воображение, воспитанные на романах, порождают в ней болезненную мечтательность, работают над создаванием романического героя и наконец воплощают этого героя в лице Евгения Онегина, неспособного составить счастье умной и чувствительной женщины. У Лизы чувство и воображение воспитаны на возвышенных предметах; но они все-таки развиты несоразмерно, берут перевес над мыслительной силой и также ведут к болезненным и печальным уклонениям. Это преобладание чувства над рассудком выражается в самых разнообразных формах и составляет в современных женщинах явление, до такой степени распространенное, что в педагогической литературе неоднократно высказывалось мнение, будто оно так и должно быть, будто и преподавание в женских учебных заведениях должно сообразоваться с этим необходимым свойством женской природы. Мы уже позволяли себе выражать противоположное мнение; повторяем его и теперь: женщине, как и мужчине, дана одинаковая сумма прирожденных способностей; но воспитание женщины, менее реальное, менее практическое, менее упражняющее критические способности (нежели воспитание мужчины), с молодых лет усыпляет мысль и пробуждает чувство, часто доводит его до неестественного, болезненного развития. Истинная цель реформы, совершающейся на наших глазах в женском воспитании, и состоит, насколько мы ее понимаем, именно в том, чтобы уравновесить в женщине ум и чувство, чтобы приучить ее самостоятельно думать, анализировать себя и других и последовательно, без увлечения, но с искренним и глубоким чувством проводить в жизнь добытые убеждения. В этом пробуждении женщины к действительной жизни, к умственной деятельности в самом обширном значении этого слова, – в этом пробуждении, говорим мы, заключаются задатки прогресса для всего нашего общества. Повторяя теперь уже высказанное нами мнение, мы считаем себя вправе подтвердить наши слова авторитетом двух замечательнейших художников нашего времени, Тургенева и Гончарова. Первый высказал свое мнение об образовании женщины в создании личности Лизы и в своем отношении к этой личности: он сочувствует ее прекрасным качествам, любуется ее грацией, уважает твердость ее убеждений, но жалеет о ней и вполне сознается, что она пошла не по тому пути, на который указывают человеку рассудок и здоровое чувство. Гончаров сказал свое слово в личности Ольги, уравновешивающей в себе мысль и чувство. Поднялось множество голосов, сказавших, что женщин, подобных Ольге, в нашем обществе нет; но никто не говорил, чтобы образ Ольги был неженствен, чтобы в нем не было поэтической правды. Это суждение дает нам право сказать, что Ольга – русская женщина нового поколения, еще не вступавшего в жизнь. Требования, которые выразил Гончаров в создании этой личности, невыполнимы теперь; но они законны и могут быть выполнены впоследствии, быть может в скором времени. Сравнивая современную девушку Лизу с будущей девушкой Ольгой, мы можем определить тот путь, по которому должно пойти образование женщины, можем заранее рассчитать те результаты, которых оно должно достигнуть. В заключении нашей статьи еще раз возвратимся к Лизе и обратим внимание читательниц на то, как ее личность оттенена двумя женскими фигурами: матери ее, Марии Дмитриевны, и тетки, Марфы Тимофеевны. Первая представляет собою тип, очень распространенный в нашем обществе: это взрослый ребенок, то есть женщина без убеждений, – женщина, не привыкшая к размышлению и почти потерявшая способность мыслить; она живет и дышит одними светскими удовольствиями, свойственными ее уже пожилым летам; ей нравятся пустейшие и безнравственные люди; семейной жизнью она не живет, любви детей и влияния над ними приобрести не умела; она любит чувствительные сцены и щеголяет расстроенными нервами и сентиментальностью. Словом, она – ребенок по развитию, только лишена ребяческой грации и чистоты. Марфа Тимофеевна – умная и добрая женщина старого века, не получившая никакого образования, но одаренная здравым смыслом и той проницательностью, которую обыкновенно приобретают под старость умные люди, много видевшие на своем веку и не пропускавшие виденного без внимания. Марфа Тимофеевна – старушка энергическая и деятельная, с резкими и угловатыми манерами, говорящая правду в глаза и не скрывающая ни своего отвращения к некоторым сомнительным личностям, ни своего доброго расположения к тем, кого она любит. Марфа Тимофеевна набожна, но без фанатизма; она не терпит лжи и безнравственности, но допускает терпимость убеждения, не стесняет свободы совести окружающих ее людей. Ей противны гости Марии Дмитриевны как пустые и вздорные люди, а Лаврецкого она любит, хотя знает, что расходится с ним в самых существенных понятиях. Практический смысл, мягкость чувств, при резкости внешнего обращения, беспощадная откровенность и отсутствие фанатизма – вот преобладающие черты в личности Марфы Тимофеевны, превосходно очерченной в романе Тургенева. Поставленная между этими двумя женскими личностями, Лиза является в самом выгодном свете: резкость приговоров, неженственная смелость и придирчивость Марфы Тимофеевны оттеняют собою ее скромность, стыдливую и грациозную нерешительность. Что касается до Марьи Дмитриевны, то вся ее неискренняя, жеманная, бесцветная личность составляет разительный контраст с серьезной, сосредоточенной, строгой фигурой дочери, проникнутой и воодушевленной одним принципом, истинным и прекрасным, но доведенным до крайности. Контраст этот действует тем сильнее, что Марья Дмитриевна – живой тип, такая женщина, каких очень и очень много. Как истинный художник, Тургенев не мог и не должен был высказать свою мысль резко: он показал в личности Лизы недостатки современного женского воспитания, но он выбрал свой пример в ряду лучших явлений, обставил выбранное явление так, что оно представляется в самом выгодном свете. От этого идея автора не бросается прямо в глаза. Ее надо искать, в нее надо вдуматься; но зато она тем полнее и неотразимее подействует на ум читателя. Чем менее художественное произведение сбивается на поучение, чем беспристрастнее художник выбирает фигуру и положения, которыми он намерен обставить свою идею, тем стройнее и жизненнее его картина, тем скорее он достигнет ею желанного действия. Ежели изображена действительность во всем блеске и разнообразии ее явлений и ежели все эти явления, как бы нечаянно выхваченные художником из известной нам жизни, говорят нам одно и то же, тогда нельзя не убедиться. Тут мы уже верим не слову художника, а тому, что говорят факты, что засвидетельствовано самой жизнью.
А. Григорьев
Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864) – русский литературный критик и поэт. Ведущий критик журнала «Москвитянин». Для статей А. Григорьева 1850-х годов характерна романтическая утопия, мечта о патриархальном народе, свободном и талантливом.
И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо»[61]
Статья третья
XVII
Центр драмы, которая с широкою обстановкою рисовалась явным образом в воображении художника при зачинании его произведения, – Лаврецкий и его отношение к Лизе.
Я не стану, как я уже оговаривался прежде, ни вам в особенности, ни читателям вообще не только рассказывать, даже напоминать содержания «Дворянского гнезда». Я читал его четыре раза, и притом в разные сроки; вы, вероятно, да и большинство читателей, тоже не один раз. Повторю опять, произведение сделало глубокое впечатление: оно более или менее всем известно, за исключением разве тех, кто читают «Прекрасную астраханку», «Атамана Бурю»[62] или «Графа Монте-Кристо» и романы Поля Феваля. Стало быть, я могу следить за психологическим развитием характеров, не прибегая к рассказу, у критиков всегда почти вялому, о событиях или положениях, в которые они поставлены.
Итак, на первом плане – Лаврецкий: на него падает весь свет в картине; его лично оттеняет множество фигур и подробностей, а те психологические задачи, которых он взят представителем, положительно оттеняются всеми фигурами и всеми подробностями. Так и следует, так родилось, а не сочинилось создание в душе артиста; фигура Лаврецкого и психологические задачи, которых представителем он является, имеют важное значение в нравственном, душевном процессе поэта и нашей эпохи. Лаврецкий прежде всего – последнее (то есть до сих пор) слово его борьбы с типом, который тревожил и мучил его своей страстностью и своим крайним, напряженным развитием, типом, дразнившим его, и который он сам додразнил некогда в себе до создания Василья Лучинова. Лаврецкий – полнейшее (покамест, разумеется) выражение протеста его за доброе, простое, смиренное, против хищного, сложно-страстного, напряженно-развитого. Между тем личность эта вышла сама чрезвычайно сложною, может быть, потому, что самая борьба поэта с противоположным типом далеко еще не покончена, или поканчивалась им доселе насильственно, и постоянно отдается, как отдалась она явно в Рудине.
Лаврецкий отчасти то лице, которое с необычайною силою и энергиею, всею беспощадною последовательностью правды, но не осветивши никаким разумно-художественным светом, изобразил Писемский в высшем до сих пор по тону и по душевным задачам своим произведении, в «Тюфяке». Его любовь из-за угла к Варваре Павловне, его женитьба, самая драма, разыгрывающаяся с ним в его брачных отношениях, представляют немалое сходство с любовью, женитьбой и драмой брачных отношений героя Писемского. Но вместе с тем это сходство только внешнее. Лаврецкий – тюфяк только по виду, тюфяк до тех пор только, пока он спал моральным сном. Бешметев Писемского – зверь, зверь с нашим родным и нежно нами любимым хвостом, и автор почти что холит и лелеет в своем герое это, поистине столь драгоценное, украшение. Страшная по своей правде, до возмущения души страшная сцена за обедом, где Павел, выпивши, беседует о жене с лакеем при самой жене, и множество других подробностей полагают неизмеримую разницу между им и Лаврецким. Сходство между ними только внешнее, а между тем Лаврецкий в глазах Марьи Дмитриевны, называющей его тюленем, Паншину своей жены, m-r Эрнеста и, вероятно, m-r Жюля, пишущего фельетона о m-me de Lavretzky, сеtte grande dame si distinguee, qui demeure rue de Р.[63] – в глазах их он – тюфяк, или, как выражается m-r Эрнест в письме к его жене, gros bonhomme de mari[64]. Больше еще, – даже в глазах Марфы Тимофеевны, этой уже совершенно непосредственной и вовсе не зараженной утонченными вкусами натуры, он тоже тюфяк, хоть и очень хороший человек. «Да он, я вижу, на все руки… Каков тихоня?» – говорит она с удивлением, узнавши об отношениях его к Лизе… Стало быть, и она не подозревала, что он может увлечь женщину… Все дело в том, что Лаврецкий по натуре своей гораздо более тюфяк, чем герой Писемского. ‹…›
XIX
‹…› Вы остаетесь в некотором недоумении, что именно хотел сказать Тургенев фигурою своего Паншина и какими сторонами натуры оттеняет Паншин лице Лаврецкого? Тем ли, что он натура чисто внешняя, внешне даровитая, внешне блестящая и т. д., в противуположность искренней и с виду далеко не блестящей личности главного героя? Тем ли, что он одна из общих истертых фигур светских героев, вроде героев повестей графа Соллогуба и вообще повестей сороковых годов? Или, наконец, тем, что он – холодная теоретическая натура, в противуположность жизненной натуре Лаврецкого?
Вы скажете: и тем, и другим, и третьим. Так, но ведь в отношении к фигуре, которую он должен известным образом оттенять, поставлен же он какими-либо сторонами рельефнее? Да, он явно и поставлен так в весьма знамена тельной эпизодической сцене умственного и нравственного столкновения с ним Лаврецкого. Тут он явно рельефно поставлен как человек теории в контраст человеку жизни и почвы. Я нисколько не отрицаю, что он может быть и внешне даровитым, и светски модным господином; но на сухой методизм его, на его реформаторские замашки художник должен был обратить более внимания, должен был показать, как в нем такой методизм создался и развился.
А этого мы не видим, или это самое тронуто, во-первых, поверхностно, во-вторых, фальшиво.
И прежде всего я подымаю процесс, начатый весьма справедливо одним из серьезных наших журналов с Писемским за его Калиновича, хотя это многим показалось и смешно; Владимир Николаевич Паншин, равно как и Калинович, не могли выйти из университетов. Они продукты специальных заведений.
Из университетов наших выходили или Бельтовы и Рудины, то есть вообще лица, не дослуживающие четырнадцати лет и пяти месяцев до пряжки, потому что идеалы их не мирятся с практикой, а они упорно и сурово уходят в свои идеалы; или Лаврецкие и Лежневы, может быть, менее, но тоже не дослуживающие до пряжки; или Досужевы «Доходного места», живущие на счет «карасей» и запросто с карасями, то есть с земщиной, знанием, с одной стороны, нравов и обычаев «карасей», а с другой – знанием отвлеченного и темного для «карасей» закона и уменьем справляться с этим отвлеченным для «карасей» миром в пользу «карасей», которые их за то любят, холят, и уважают, и ублажают, то есть наши юристы в настоящем смысле этого слова; или, наконец, просто взяточники и подьячие, – но никак не реформаторы с высоты чиновничьего величия.
Таковые могут образоваться только под влиянием резонерства теорий, а не под влиянием философии и более или менее, но всегда энциклопедического университетского образования.
Провести в Паншине идею теоретической чистоты и отвлеченности у Тургенева недостало последовательности. А недостало этой последовательности только потому, что к самому Лаврецкому нет у него окончательно ясных отношений.
1) Ему непременно хотелось сделать своего Лаврецкого тюфяком, тюленем, байбаком, из насильственной любви к типу загнанного человека, любви, порожденной борьбою с блестящим, несколько хищным типом. Тургенев
…сжег все, чему поклонялся, Поклонился всему, что сжигал.Но дело в том, что артист в нем сильнее мыслителя, и артист рисует в Лаврецком, против воли мыслителя, да и слава Богу, вовсе не загнанного человека, а очерк чего-то оригинально живого. Намерение художника сделать Лаврецкого тюфяком, байбаком, тюленем – жертва, принесенная им идее загнанного типа, идее, до которой довело его «сожаление всего, чему он поклонялся»… Лаврецкий – тюфяк и тюлень только для женщин, подобных Варваре Павловне и Марье Дмитриевне, – но разве только и свету что в окошке? только и натур что натуры вышеупомянутые?.. Мне кажется вообще, что, находясь в несколько неясных отношениях к своему герою, к своему душевному типу, Тургенев опустил из виду некоторые отношения его к людям и неясно поставил другие… Как будто, кроме Лизы, не находилось и прежде никаких натур, способных и оценить и полюбить его, и, кроме Михалевича, лиц, которые понимали его не так, как m-r Эрнест и m-r Jules?.. Судя по его натуре, можно с достоверностью заключить противное, то есть по крайней мере то, что были женщины, которые любили его страстно, да, может быть, не соответствовали его идеалам. Ведь женщин два рода – два типа, – и стремления этих двух типов, между которыми есть, разумеется, множество средних терминов, диаметрально противоположны… А Тургенев – и это относится не к Лаврецкому только, а ко множеству образов, проходящих перед читателями в его повестях и рассказах, – так запуган блестящим типом, хищным типом, что другой тип представляется ему в виде загнанного, тщетно ищущего симпатий: много-много, что он дает ему в Лежневе – половинную, лимфатическую симпатию… В Лаврецком – и это уже огромный шаг вперед в нравственном процессе – тип переходит из загнанного в имеющий право гражданства, получает своего рода поэтическую оболочку, но все еще в отношениях к нему автора видно много неопределенности, непоследовательности.
2) Вследствие этого некоторые качества, свойственные Лаврецкому, Тургенев придает Паншину, и наоборот.
Так, главным образом, он совершенно ложно ставит между ними фигуру старика музыканта Лемма, главную поверку чувства (не только изящного, но вообще чувства) в натуре того и другого. Дело в том, что холодная, внешняя даровитость Паншина, даровитость, которой все впечатления – заказные, сделанные, – на первый раз должна была непременно надуть старика немца. Ведь те веретьевские артистические черты, которые Тургенев придал Паншину, черты непосредственной даровитости, поэтического понимания, вовсе нейдут к нему: таким людям гораздо свойственнее заказные восторги Бетховеном и внешнее знание дела, с приличным толкованием о деле и даже с приличным исполнением. Все веретьевское скорее шло бы к Лаврецкому, разумеется, в меньшей степени, нежели развито оно Тургеневым в самом Веретьеве.
Ибо прежде всего у Лаврецкого есть натура, прежде всего он дитя почвы – вследствие чего и кончает нравственным смирением перед нею. ‹…›
Статья четвертая
XXIII
‹…› Что сказалось «Дворянским гнездом»? Вся умственная жизнь послепушкинской эпохи, от туманных еще начал ее в кружке Станкевича до резкого постановления вопросов Белинским, и от резкости Белинского до уступок – весьма значительных, – сделанных мыслию жизни и почве… Борьба славянофильства и западничества и борьба жизни с теориею – славянофильскою или западною – все равно завершается в поэтических задачах тургеневского типа победою жизни над теориями.
Опять повторяю: Лаврецкий приехал не умирать, а жить на свою родную почву, – и родная жизнь встречает его сразу своим миром, и этот мир – его же собственный мир, с которым ему нельзя, да и незачем разделяться. ‹…›
«Вот я и дома, вот я и вернулся», – подумал Лаврецкий, входя в крошечную переднюю, между тем как ставни со стуком и визгом отворялись один за другим, и дневной свет проникал в опустелые покои».
Он дома – он вернулся, и, по слову поэта,
Минувшее меня объемлет живо,
И кажется, вчера еще бродил
Я в этих рощах… Вот смиренный домик, и т. д.
Связи его с этим миром – родные, коренные, кровные. ‹…›
Пусть противна Лаврецкому эта усадьба, возбуждающая в нем тягостные воспоминания. В воспоминаниях виновата не она, эта усадьба, – виноват он сам. От воспоминаний этих, еще прежде, еще возвращаясь только домой, он невольно прищурился, как щурится человек от мгновенной внутренней боли, и встряхнул головой… Не с чувством гордости или вражды вступает он снова в старый, с детства знакомый мир… ‹…›
XXIV
Наше время есть время всеобщих исповедей, и такую искреннюю, полную исповедь более всего представляют произведения Тургенева вообще и «Дворянское гнездо» в особенности.
Для того чтобы понять последние результаты этой искренней исповеди в «Дворянском гнезде», нужно было проследить всю борьбу, высказывающуюся в произведениях Тургенева. Только зная эту борьбу, можно понять все значение стихов, которые он влагает в уста Михалевичу, и весь смысл того смирения перед народною правдою, которое проповедует Лаврецкий в разговоре с Паншиным.
Из этого не следует заключать, однако, чтобы Тургенев от одной теории перешел к другой. Славянофильство с восторгом приветствовало некоторые его произведения, особенно «Хоря и Калиныча», «Муму»; но поэт способен столь же мало поддаться и этому воззрению, поколику оно только – воззрение, как и другому, противуположному. В нем повторился только белкинский процесс пушкинской натуры, с расширенными сообразно требованиям эпохи требованиями. И, как Пушкин, уходя в свое отрицательное я, в жизненные взгляды своего Ивана Петровича Белкина, вовсе, однако, не отрекался, как «от сатаны и всех дел его», от прежних идеалов, от сил своей природы, изведавших уже добрая и злая, а только давал права и почве наравне с силами, – так, с меньшим самообладанием, Тургенев кончил анализ натуры Рудина апотеозою его личности, действительно поэтической и грандиозной. Чувство поэта ставит его в разрез со всякою теориею – и оно-то сообщает его произведениям такую неотразимую, обаятельную силу, несмотря на их постоянную недоделанность.
Лицо Лаврецкого, даже так, как оно является в видимо недоделанном «Дворянском гнезде», – представитель (хотя никак не преднамеренный) сознания нашей эпохи. Лаврецкий – уже не Рудин, отрешенный от всякой почвы, от всякой действительности, – но, с другой стороны, уже и не Белкин, стоящий с действительностью в уровень. Лаврецкий – живой человек, связанный с жизнию, почвою, преданиями, но прошедший бездны сомнения, внутренних страданий, совершивший несколько моральных скачков. Отсюда выходит весь его душевный процесс, вся драма его отношений.
Он представитель нашей эпохи, эпохи самой близкой к нам, – и как такового его надобно было отделить, оттенить от представителей эпох предшествовавших. Средство для такого отделения Тургенев избрал самое естественное – его родословную, образы его деда и отца.
Несмотря на то что прием этот не нов, несмотря на то что в наше время, в особенности после романа «Кто виноват?» и после «Семейной хроники», он повторяется довольно часто, – родословная Лаврецкого блещет такими яркими чертами, так мастерски схвачено в ней существенное и типическое, что на нее можно смело указать как на chef d’œuvre[65] в своем роде… ‹…›
XXV
Федор Лаврецкий – герой «Дворянского гнезда» – и отец его, Иван Петрович, оба разрознились, разделились с окружавшею их действительностью, – но огромная без дна лежит между ними. Иван Петрович, усвоивший себе внешним образом учение «изувера Дидерота», так и остается на целую жизнь холодным, отрешившимся от связи с жизнию – да отрешившимся не вследствие какого-либо убеждения, а по привычке и по эгоистической прихоти – методистом. ‹…›
…отец Лаврецкого, представитель обыкновенных образованных людей предшествовавшей двадцатым годам эпохи XIX века, эпохи, которой корни не в XIX, а в XVIII веке. Равнодушие, если не озлобление, должны были мы все, дети XIX века, чувствовать первоначально к XVIII веку, являвшемуся нам, всем более или менее, в подобных представителях… Хорошо художнику и его читателям относиться к подобным личностям как к типам, – но кто, как Федор Лаврецкий, вынес на себе всю тяжесть зависимости от подобного типа в жизни, – тот, по освобождении из-под гнета, законно мог почувствовать, что жизнь перед ним открывается.
Ведь это тип не простой, а тип реформаторский. Ведь он ломает жизнь по своему личному капризу, где только может, – ведь он своими бестолковыми реформаторскими замашками и оскорбляет, и, – когда эти реформаторские замашки оказываются мыльными пузырями, – возбуждает к себе невольное презрение. Ведь когда перелом совершился с Иваном Петровичем – «сыну его уже пошел девятнадцатый год, и он начинал размышлять и высвобождаться из-под гнета давившей его руки; он и прежде замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными теориями и черствым, мелким деспотизмом: но он не ожидал такого крутого перелома. Застарелый эгоист вдруг выказался весь…»
Естественно, что в душе его глубоко должна была залечь любовь к тому именно, что ломал или пускался ломать его отец, – естественно, что он, человек страстный, впечатлительный и вместе мягкий, останется на всю жизнь романтиком, то есть человеком волнения, сумерек, переходной эпохи.
Когда Иван Петрович принялся за его воспитание, он уже не был то, что называется tabula rasa[66], – он уже на питался воздухом окружавшего его быта под деспотическим, но все-таки менее давящим влиянием «колотовки» Глафиры Петровны.
«В обществе этой наставницы, тетки, да старой сенной девушки, Васильевны, провел Федя целых четыре года. Бывало, сидит он в уголку с своими «Эмблемами» – сидит, сидит; в низкой комнате пахнет гераниумом, тускло горит одна сальная свеча, сверчок трещит однообразно, словно скучает, маленькие стенные часы торопливо чикают на стене, мышь украдкой скребется и грызет за обоями, – а три старые девы, словно Парки, молча и быстро шевелят спицами, тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, – и странные, также полутемные мысли роятся в голове ребенка. Никто бы не назвал Федю интересным дитятей; он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и неловок, – настоящий мужик, по выражению Глафиры Петровны; бледность скоро бы исчезла с его лица, если б его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно, хотя часто ленился; он никогда не плакал; зато по временам находило на него дикое упрямство; тогда уже никто не мог с ним сладить. Федя не любил никого из окружавших его… Горе сердцу, не любившему смолоду!»
Когда уже есть подобные заложения в натуре, то никакая система воспитания не истребит их. А система воспитания приложена была притом совсем противуположная натуре ребенка:
«Таким-то нашел его Иван Петрович и, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. – Я из него хочу сделать человека прежде всего, un homme[67], – сказал он Глафире Петровне, – и не только человека, но спартанца. – Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски; двенадцатилетний малый стал ходить с обнаженными икрами и с петушьим пером на складном картузе; шведку заменил молодой швейцарец, изучивший все тонкости гимнастики; музыку, как занятие недостойное мужчины, изгнали навсегда; естественные науки, международное право, ма тематика, столярное ремесло, по совету Жан Жака Руссо, и геральдика, для поддержания рыцарских чувств, – вот чем должен был заниматься будущий «человек»; его будили в четыре часа утра, тотчас окачивали холодной водой и заставляли бегать вокруг столба на веревке; ел он раз в день, по одному блюду, ездил верхом, стрелял из арбалета; при всяком удобном случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли и каждый вечер вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления; а Иван Петрович, со своей стороны, писал ему наставления по-французски, в которых он называл его mon fils и говорил ему vous[68]. По-русски Федя говорил отцу «ты», но в его присутствии не смел садиться. «Система» сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голову, притиснула ее; но зато на его здоровье новый образ жизни благодетельно подействовал: сначала он схватил горячку, но вскоре справился и стал молодцом. Отец гордился им и называл его на своем странном наречии: сын натуры, произведение мое. Когда Феде минул шестнадцатый год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу, – и молодой спартанец, с робостью на душе, с первым пухом на губах, полный соков, сил и крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым».
Результатов система чисто внешняя могла добиться только внешних, да и то на время… В гнете «колотовки» была своего рода поэзия, в гнете Ивана Петровича никакой, – и когда умирает Иван Петрович, жизнь открывается впервые перед Лаврецким!
XXVI
Спартанская система воспитания, как всякая теория, нисколько не приготовила Лаврецкого к жизни… Лучшее, что дала ему жизнь, было сознание недостатков воспитания. Превосходно характеризует Тургенев умственное и нравственное состояние своего героя в эту эпоху его развития. «В последние пять лет, – говорит он о Лаврецком, – он много прочел и кое-что увидел; много мыслей перебродило в его голове; любой профессор позавидовал бы некоторым его познаниям, но в то же время он не знал многого, что каждому гимназисту давным-давно известно. Лаврецкий сознавал, что он не свободен, он втайне сознавал себя чудаком». Опять верная художественно и в высочайшей степени верная же исторически черта, характеризующая множество людей послепушкинской эпохи. Это уже не та эпоха, когда
…учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь.Нет – это эпоха серьезных знаний с огромными пробелами, знаний, приобретенных большею частию саморазвитием, самомышлением, – эпоха Белинских, Кольцовых и многих, весьма многих из нас, если не всех поголовно…
Особенность Лаврецкого в том еще, что над ним тяготеет совершенно уродливое воспитание.
«Недобрую шутку сыграл англоман с своим сыном; капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим; когда же наконец он разгадал его, дело уже было сделано, привычка вкоренилась. Он не умел сходиться с людьми, двадцати трех лет от роду, с неукротимой жаждой любви в пристыженном сердце, он еще ни одной женщине не смел взглянуть в глаза. При его уме, ясном и здравом, но несколько тяжелом, при его наклонности к упрямству, созерцанию и лени, ему бы следовало с ранних лет попасть в жизненный водоворот, а его продержали в искусственном уединении…»
Не одна теоретически спартанская система воспитания может произвести подобный результат… Всякий гнет, всякий деспотизм произвел бы подобный же, с другими, может быть, оттенками, – но подобный же. Я разумею, впрочем, гнет деспотизма домашнего, а не общественного воспитания: последний производит другие, столь же горькие, но совершенно другие результаты.
Дело в том только, что Лаврецкий, вступая в жизнь с жаждою жить, лишен всякого понимания жизни, всяких средств прямого сближения с жизнию; и что он должен непременно разбиться при столкновении с жизнию.
С поразительною логичностью, – вовсе не имея в виду заданной наперед темы, ведет художник создаваемый им характер…
Жажда любви томит Лаврецкого, – но дело в том, – чего, к сожалению, не развил и не досказал Тургенев, – дело в том, что самая жажда любви носит у Лаврецкого характер любви той эпохи, к которой он принадлежит. Предмет любви Тургенев указал своему Лаврецкому совершенно верно, но мало остановился на причинах любви. Лаврецкий должен был необходимо влюбиться в Варвару Павловну, о которой энтузиаст Михалевич выражается так: «Это, брат ты мой, – эта девушка изумительное, гениальное существо, артистка в настоящем смысле слова, и притом предобрая…» Но почему жажда любви у него устремилась не на первую хорошенькую женщину, хоть бы она была горничная, а непременно на исключительную, по крайней мере, на кажущуюся исключительною женскую личность, и личность тонко развитую, – почему первое чувство любви есть у Лаврецкого некоторым образом сделанное, искусственное, подготовленное мечтами об идеале – не показано, – хотя из намека, что появление Михалевича подле этой женщины показалось Лаврецкому «знаменательно и странно», из этого намека очевидно, что перед автором носилась типическая любовь людей эпохи, которой Лаврецкий является представителем…
Вообще вся эпоха саморазвития Лаврецкого очерчена только верно в своих основах, но не художественно полно, набросана, видимо, наскоро. Самые главы, в которых рассказывается эта эпоха и завязывается трагический узел, судьба Лаврецкого, странно коротки в сравнении с другими главами.
Самое лице Варвары Павловны, глубоко понятое и, по возвращении ее из-за границы, очерченное рельефно, – здесь только набросано. Вследствие такой наброски в ее личности есть явные противоречия.
Вспомните, какою она является на первый раз:
«Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Коробьиных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло: в генерале врожденное всем русским добродушие еще усугублялось тою особенного рода приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям; генеральша как-то скоро стушевалась; что же касается до Варвары Павловны, то она была так спокойна и самоуверенно-ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома; притом от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз, от невинно-покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, – веяло неуловимой, как тонкий запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой, негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало, – и, уже конечно, возбуждало не робость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление; она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке; она, не чинясь, села за фортепьяно и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду».
Сличите это с изображением Варвары Павловны по возвращении ее из-за границы… В беседе с Паншиным: «Варвара Павловна показала себя большой философкой – на все у нее являлся готовый ответ; она ни над чем не колебалась, не сомневалась ни в чем; заметно было, что она много и часто беседовала с умными людьми разных разборов. Все ее мысли, чувства вращались около Парижа. Паншин повел разговор на литературу, – оказалось, что она, так же как и он, читала одни французские книжки: Жорж Санд приводил ее в негодование, Бальзака она уважала, хотя он ее утомлял, в Сю и Скрибе видела великих сердцеведов, обожала Дюма и Феваля; в душе она им всем предпочитала Поль де Кока, хотя даже имени его не упомянула».
Тут очевидное противоречие с прежней Варварой Павловной, сочувствующей Мочалову, артисткой по натуре.
Вообще изображение Варвары Павловны страждет теми же недостатками против художественной правды, как изображение Паншина. Как к Паншину больше бы шло внешнее понимание Бетховена, так к Варваре Павловне – внешнее понимание Ж. Занда. Образ вышел бы менее резкий, но зато несравненно более правдивый.
XXVII
Резкость или, лучше сказать, недоделанность художественного представления типа Варвары Павловны, есть, впрочем, резкость только по отношению к Тургеневу; ибо сравните Варвару Павловну хоть, например, с барыней, выведенной в повести г. Крестовского «Фразы», – Варвара Павловна выиграет на сто процентов относительной мягкостью изображения.
Дело только в том, что Варвара Павловна, как и Паншин, – лица не центральные, даже не самостоятельные, не картины, а оттеняющие: один Лаврецкого, другая Лизу. Дело все в Лаврецком и в Лизе – узел драмы в их отношениях. Смысл этих отношений слишком ясен, чтобы о нем надобно было толковать долго. Человек, живший долго мечтательными, сделанными идеалами, разбившийся на этих идеалах, встречает, но поздно, в своей бытовой действительности простую, цельную, целомудренную женскую натуру, всю из покорности долгу, из глубоких сердечных верований, женской преданности, из самопожертвования, простирающегося до всего, кроме забвения долга… Женщина с мечтательным, сосредоточенным и затаенно-страстным характером встречает человека простого и целомудренного по натуре, но пережившего много, пугающего ее пережитою им жизнию, в которой сокрушилось у него множество верований, и влекущего ее к себе неотразимо. Влечет ее к нему и сожаление к нему, и непосредственно простое понимание его простого благородства… Драма их ведена с таким высоким художническим искусством, с такою глубиною анализа, с такою сердечностью – каким до сих пор не было примера… Следить за этою драмою во всех ее явлениях значило бы рассказывать содержание «Дворянского гнезда», всем давно известное, всеми чувствующими людьми давно перечувствованное, – да было бы и вне моей задачи, – задачи истолкования типов, являющихся вообще в деятельности Тургенева и в последнем произведении его в особенности.
Кончаю поэтому мои длинные рапсодии по поводу Тургенева и «Дворянского гнезда» анализом типа Лизы. В отношении к самой драме выскажу только два замечания, – 1) относительно Лемма, уже мной высказанное: что Лемм, видимо, приделан к драме для того только, чтобы выражалось поэтически лирическое настроение Лаврецкого в иные минуты, и 2) высказанное мною самому поэту тотчас же по прочтении «Дворянского гнезда»: это то, что он слишком поторопился ложным известием о смерти жены Лаврецкого, – недостаточно затянул, завлек Лаврецкого и Лизу в психически безвыходное положение. Недостаток силы, энергии в манере – результат женственно-мягкой впечатлительности тургеневского творчества – сказался и здесь, как повсюду.
Обращаясь к типу Лизы, я прежде всего скажу о важности и значении этого типа в нашей современной жизни.
Русский идеал женщины до сих пор – увы! – выразился вполне только в Татьяне, да, кажется, – дальше этих граней пока и не пойдет.
Прежде всего, где и у кого, кроме Пушкина, явилась русская женщина, то есть русская идеальная женщина?.. Положительно нигде. Княгиня Мери Лермонтова – экзотическое растение: прелестный образ, мелькающий у него в «Сказке для детей», эта «маленькая Нина», с одной стороны, – высокопоэтический каприз, с другой, – выражение трагического протеста, – женщина, которая
…ускользнет, как змея, Вспорхнет и умчится, как птичка, –столь ясная в лирическом стихотворении его, – тоже каприз великой поэтической личности, а не идеал общий, объективный.
Гоголь не создал ни одного женского идеала, а принялся было создавать – вышла чудовищная Улинька[69]. Островский тоньше и глубже всех подметил некоторые особенности русского идеала женщины и в своей Любови Гордеевне, и в своей Груше, – но это только черты, намеки мастерские, тонкие, прелестные, но все-таки намеки и очерки. В самом полном женском лице своем, в Марье Андреевне – типе высоком по поэтической задаче, оригинально задуманном и оригинально поставленном, но не выразившемся живыми чертами, живою речью, – отразился опять образ Татьяны. Перед Толстым, в его «Двух гуса рах», – во второй половине этого этюда, мелькает прелестный, самобытный, объективно идеальный женский образ, да так и промелькнул этюдой, ничего не сказавши собою. Самые лирики наши в этом отношении то причудливо капризничают, как Фет, в своем идеале, созданном из игры лунных лучей или из блестящей пыли снегов, то – как Полонский – туманно любят «ложь в виде женщины милой», то – как Майков – рисуют по какой-то обязанности идеалы пластические и классические, нося искренно в душе совершенно иные, то – как Некрасов – всю силу таланта и всю накипевшую горечь души употребляют на то, чтобы повторять лермонтовскую «Соседку».
А требование идеала, требование женщины, русской женщины, слышно отовсюду. Первое, что заговорили о последнем романе Гончарова его жаркие поклонники, было то, что здесь, в этом романе, впервые после Татьяны является русский идеал женщины. Этому впервые нечего удивляться – особенно мне, провозглашавшему некогда о новом слове по поводу Марьи Андреевны Островского. Наши различные провозглашения, несмотря на свои смешные стороны, – имеют и стороны очень серьезные. Мы ждем от наших художников разрешения волнующих нас вопросов и исканий: мы жадно хватаемся за всякую попытку художественного разрешения, и до сих пор все разрешения, кроме Татьяны, Марьи Андреевны да тургеневской Лизы, оказываются более или менее несостоятельными перед судом общего сознания.
Гончаровская Ольга… Да сохранит Господь Бог от гончаровской Ольги в ее зрелых, а тем более почтенных летах, самых жарких ее поклонников – вот ведь все, что скажет русский человек об этом хитро, умно и грациозно нарисованном женском образе. С одной стороны – она чуть что не Улинька, подымающая падшего Тентетникова, с другой – холодная и расчетливая резонерка, будущая чиновница – директорша департамента или, по крайней мере, начальница отделения, от которой «убегом уйдешь – в Сибирь Тобольский», не то что на Выборгскую сторону, где спасся от нее Обломов. У русского человека есть непобедимое отвращение к подымающим его до вершины своего развития женщинам, – да и вообще замечено, что таковых любят только мальчики, едва скинувшие курточки. От такого идеала непосредственное чувство действительно прямо повлечет к Агафье Матвеевне, которая далеко не идеал, но в которой есть несколько черт, свойственных нашему идеалу, – и явилось бы более, если бы автор «Обыкновенной истории» и «Обломова» был побольше поэт, верил бы больше своим душевным сочувствиям, а не сочинял бы себе из этих сочувствий какого-то пугала, которое надобно преследовать.
Кого же еще прикажете вспомнить из наших женщин? Любовь Александровну Круциферскую?[70] Опять не идеал, а исключительное трагическое положение.
Остается положительно только Татьяна пушкинская с ее отражениями. Отражениями – и задачу Марьи Андреевны, и художественно созданный образ Лизы – называю я, конечно, не в смысле копий. Насколько оригинальны и действительны положения, в которые поставлена Марья Андреевна и которые говорят за нее гораздо лучше, чем она сама говорит, насколько оригинально лице Лизы – все знают. Но ни Марья Андреевна, ни Лиза нейдут дальше того идеала, который сам поэт называл:
Татьяны милый идеал… –в который положил он все сочувствия своей великой души, умевшей на все отзываться жарко – и на пластические образы, и на ту красоту, перед которой
Ты остановишься невольно, Благоговея богомольно Перед святыней красоты, –и на трагически капризные существования, которые совершают свой путь,
Как беззаконная комета В кругу расчисленных светил…Дальше его мы пока не пошли, и словом о нем заключаю я рассуждения о поэте нашей эпохи, в котором с наибольшею полнотою, хотя в иных, соответственных нашей эпохе формах, повторился почти всесторонне его нравственный процесс.
Сноски
1
Ну, ну, мой мальчик… (фр.)
(обратно)2
Это даже очень шикарно (фр.).
(обратно)3
Осторожнее, осторожнее (фр.).
(обратно)4
Прелестный малый (фр.).
(обратно)5
Замирая (ит.).
(обратно)6
Я тоже художник (ит.).
(обратно)7
Цвет (фр.).
(обратно)8
«Здравствуйте»… «как вы поживаете?» (фр. «bonjour», «comment vous portez-vous?»).
(обратно)9
«Декларацию прав человека» (фр.).
(обратно)10
«В законности – добродетель…» (лат.).
(обратно)11
Мой сын (фр.).
(обратно)12
Вы (фр.).
(обратно)13
Моя дочь делает прекрасную партию (нем.).
(обратно)14
Очаровательная мадам Лаврецкая (фр.).
(обратно)15
От шоссе д’Антен до улицы Лилль (фр.).
(обратно)16
Эта знатная русская дама, такая изящная, которая живет на улице П… (фр.)
(обратно)17
Мой дорогой кузен (фр.).
(обратно)18
Теперь уже нет таких слуг, как бывало (фр.).
(обратно)19
Популяризировать идею кадастра (фр.).
(обратно)20
Озлобленный (фр.).
(обратно)21
В конце концов (фр.).
(обратно)22
С которым случилась такая нелепость (фр.).
(обратно)23
Поэтическая натура (фр.).
(обратно)24
И потом (фр.).
(обратно)25
В крупном масштабе (фр.).
(обратно)26
Всё это глупости (фр.).
(обратно)27
Ада, смотри, это твой отец (фр.).
(обратно)28
Проси его вместе со мной (фр.).
(обратно)29
Так это папа (фр.).
(обратно)30
Да, мое дитя, не правда ли, ты его любишь? (фр.)
(обратно)31
Ну как, мадам? (фр.)
(обратно)32
Да так, Жюстина (фр.).
(обратно)33
На войне как на войне (фр.).
(обратно)34
Ваша матушка вас зовет; прощайте навсегда… (фр.)
(обратно)35
Это удивительно (фр.).
(обратно)36
Вы очаровательны (фр.).
(обратно)37
Тетушка (фр.).
(обратно)38
Алфейным (фр.).
(обратно)39
Духи королевы Виктории (англ.).
(обратно)40
Да она прелестна! (фр.)
(обратно)41
Вполне светский молодой человек (фр.).
(обратно)42
Вскоре затем… (ит.)
(обратно)43
Собрат (фр.).
(обратно)44
«Идите!» (фр.).
(обратно)45
Прелестно (фр.).
(обратно)46
У вас сеть стиль (фр.).
(обратно)47
Прелестно, прелестная идея (фр.).
(обратно)48
«Я ревную»… «Дай мне (руку)»… «Смотри, вот бледная луна» (ит.).
(обратно)49
Ну, довольно музыки (фр.).
(обратно)50
«Да, довольно музыки» (фр.).
(обратно)51
Она не изобрела пороха, эта милая дама (фр.).
(обратно)52
Да, я думаю (фр.).
(обратно)53
Как законченная артистка (фр.).
(обратно)54
Моя дорогая (фр.).
(обратно)55
До свидания! (фр.)
(обратно)56
Да, сударь (фр.).
(обратно)57
Совершенно (фр.).
(обратно)58
Тучный бык с Украины (фр.).
(обратно)59
Здесь – забаву общества (фр.).
(обратно)60
Развлечение (фр.).
(обратно)61
Статьи печатаются с сокращениями.
(обратно)62
Речь идет о лубочных романах.
(обратно)63
Г-же Лаврецкой, знатной даме, такой изящной, которая проживает на улице П. (фр.).
(обратно)64
Муж – добрый толстяк (фр.).
(обратно)65
Шедевр (фр.).
(обратно)66
Чистая доска (лат.).
(обратно)67
Человека (фр.).
(обратно)68
Мой сын… вы (фр.).
(обратно)69
Улинька – героиня второго тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.
(обратно)70
Любовь Александровна Круциферская – героиня романа А. И. Герцена «Кто виноват?».
(обратно)


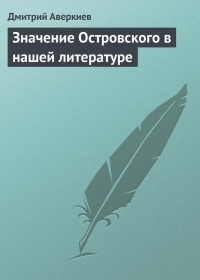

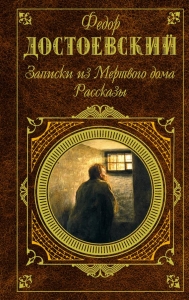


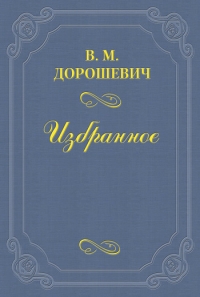
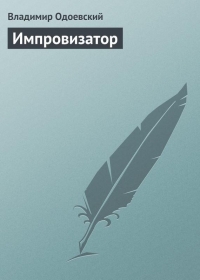


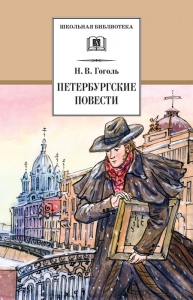
Комментарии к книге «Дворянское гнездо», Иван Сергеевич Тургенев
Всего 0 комментариев