Александр Иванович Куприн Впотьмах
I
На дебаркадере одного из московских вокзалов шумно двигалась взад и вперед пестрая, разноголосая толпа. Окрики артельщиков, быстро и ловко сновавших с тюками и тележками, мимолетные отрывки обыкновенных вокзальных разговоров, шарканье нескольких сот ног о плитяной помост, – все это, вместе с шипением машины, сливалось в утомляющую своим ритмическим однообразием суету.
У дверей вагона второго класса стояли трое молодых людей, в нетерпении ожидая третьего звонка.
Один из них, полный брюнет с выхоленным барским лицом, пробегал газету, дымя дорогой сигарой; другой – высокий, тонкий и гибкий, как хлыст, франтик, который как будто только что сорвался с первой страницы юмористического листка, – так много было в его фигуре, начиная с монокля и красной гвоздики в петлице и кончая удивительно узкими носками желтых ботинок, особенной, свойственной людям этого рода, вычурности, – держал под руку третьего, смуглого красавца в инженерной форме, с дорожной сумкой через плечо.
Все трое, по-видимому, сильно скучали и лишь изредка перебрасывались вялыми замечаниями.
Между ними было очень мало общего: случайно попавши на вокзал, они теперь сильно тяготились друг другом и в особенности неизбежной сценой прощания, где каждому предстояла неприятная обязанность притворяться растроганным.
К тому же они имели несчастье попасть на вокзал за целый час до отхода поезда, и все те разговоры, которые обыкновенно ведутся в этих случаях и которые способны своею неестественностью только раздражать нервы, уже давно были переговорены.
Неловкость этого положения особенно сильно испытывал на себе уезжающий инженер – Александр Егорович Аларин. Он любил шумную, кипучую жизнь вокзалов, любил смешаться с толпой, прислушиваясь и приглядываясь к ней, чувствуя себя в это время бодрым и веселым; но двое приятелей, которые встретились с ним случайно за обедом в «Славянском базаре» и после нескольких бокалов почувствовали, что не могут отпустить его не проводивши, связали его по рукам и ногам и испортили его расположение духа.
Раздался третий звонок, и у каждого из молчаливых приятелей вырвался вздох облегчения.
Суета на платформе заметно усилилась.
– Ну, садись, Саша, садись, пожалуйста, – заторопился внезапно оживившийся франтик с моноклем. – Знаешь ведь, как курьерские поезда трогаются. Пиши же, смотри!..
Но ему стало неловко от собственных слов, так как, даже при самом искреннем желании, у него с Алариным не могло найтись никаких общих интересов. Он замолчал и полез целоваться, оставляя на губах Аларина запах фиксатуара, которым были намазаны его усы.
У полнолицего брюнета нашлось больше такта. Он молча широко улыбнулся, показав великолепные вставные зубы, и крепко стиснул руку Аларина. Он радовался тому, что сейчас кончится тяжелое и неловкое положение и он опять станет господином своего времени. Аларин понял его без слов и отвечал таким же красноречивым рукопожатием.
Паровоз свистнул, шум мгновенно возрос до галдения, застучали буфера вагонов, точно кто-то раза два встряхнул огромными железными цепями, и поезд тронулся.
Аларин высунулся из окошка. Его приятели махали платками, и ему казалось, что он вследствие этого обращает на себя общее внимание, но он, преодолевая смущение, махнул им, в свою очередь, фуражкой.
«И для чего эта комедия? – думалось ему. – Ведь мы все трое очень рады, что отделались друг от друга. Для чего ж это?»
Но в силу чего-то бывшего сильнее его здравого смысла, он продолжал махать фуражкой до тех пор, покуда не затерял своих приятелей в густой толпе, покрывавшей платформу. И как только их совсем не стало видно, он опустился на диван.
Аларин, еще по воспоминаниям детства, инстинктивно избегал заводить знакомства в вагоне, так как на опыте убедился, что человек, долго едущий по железной дороге, ищет постоянно развлечения от сосущей сердце скуки и делается пошло-любопытен, а вследствие этого докучает соседям ненужными расспросами. Поэтому-то и теперь Александр Егорович прислонился к углу дивана, стараясь не привлекать к себе ничьего досужего внимания, закурил папиросу и искоса оглядел своих соседей.
Прямо против него сидела скромно одетая в серенькое драповое пальто и котиковую шапочку, по всей вероятности, барышня: последнее сказывалось в той особенной легкости и воздушности в фигуре, которые свойственны девушкам. Насколько позволяли видеть полутьма вагона и редкий вуаль, закрывавший ее лицо, она была совсем не хороша собою. Лицо с неправильными чертами было болезненно и бледно, тонкие сухие губы почти бескровны. Этих непривлекательных качеств не сглаживали даже синие глаза прекрасного очертания.
«Анемическая особа», – решил Аларин.
Барышня подышала на стекло, протерла его крошечной рукой в желтой перчатке и стала глядеть, не отрываясь, в черневшую перед ней мглу сентябрьской дождливой ночи. Ее лицо было грустно, и вся тоненькая, хрупкая фигурка жалко-беспомощна.
Рядом с бледной барышней помещался грузный мужчина восточного типа. Он обладал носом непомерной длины и толщины, крупными ярко-красными губами, которые никак не могли сойтись вместе, и большими глазами навыкат.
Как только поезд тронулся, восточный человек извлек из кармана золотые часы-луковицу со множеством брелоков, внимательно разглядывал их и вдруг, с шумом захлопнув крышку, уставился с изумленным видом на Аларина, на затылок барышни, в окошко, и затем, неожиданно свесив голову на грудь, поднял оглушительный храп. Он был чрезвычайно противен в эту минуту, с головой, болтавшейся во все стороны, и широко раскрытым ртом, придававшим его лицу идиотское выражение.
Аларин вдруг с озлоблением зевнул и тотчас закрыл глаза. Сначала ухо ловило размеренный ход поезда, но в уме звучал какой-то знакомый мотив, и к нему подбирались, рифмуя друг с другом, нелепые стихи; потом он вспомнил натянутые лица провожавших его приятелей, наконец, мысли его смешались, и он задремал.
Он проснулся через полчаса при остановке поезда. В разных углах слышалось сонное дыхание пассажиров, облака табачного дыма ходили, точно туманные волны. Где-то в конце вагона два голоса – молодой мужской и старушечий – наперерыв лепетали, споря и захлебываясь.
Аларин поглядел на девушку, сидевшую напротив него. Она боязливо забилась в самый угол дивана и даже прижала рукой складки своего пальто, сторонясь от восточного человека, который, по-видимому, уже давно проснулся и теперь не сводил своих масленых глаз с ее испуганного лица. Должно быть, он только что обращался к ней с разговором, но не решался продолжать его из боязни быть услышанным посторонними в то время, когда поезд стоял.
Действительно, только что поезд тронулся, он нагнулся к девушке и с выразительной мимикой заговорил что-то. Девушка ничего не отвечала, но все теснее прижималась к своему уголку.
– Чего, барышня, боишься? Я тебэ нэ мидвед, кусать не хочу. Ну? Поджалуста, прошу: нэ пугайся, – услыхал Аларин хриплый голос.
– Оставьте меня, ради бога, – произнесла в отчаянии барышня.
Ее свежий миленький голосок дрожал от волнения.
Аларин одну секунду подумал было осадить расходившегося в своих аппетитах восточного человека, но боязнь скандала, из-за которого многие порядочные люди стушевываются в то время, когда требуется их помощь, и, наконец, то обстоятельство, что барышня была нехороша собою, заставили его отложить свое намерение. «Сам отстанет», – решил он.
Но восточный человек с удивительным упорством не хотел прекратить свое назойливое ухаживание. На отчаянный протест своей соседки он глупо захихикал.
– Ну, ну, нэ горячись. Слушай, цыпка, что я тебе скажу. Сейчас приедем в К., слезай с вагона, поедем ко мне в гостиницу обедать. Ей-богу, поедем, весело будет! А назад поедешь – я тебе билет куплю. Хорошо?
Девушка молчала, но Аларин заметил, что она вся дрожит.
– Чего молчишь? Хорошо? А? Ну, скажи, душа, хорошо?
И восточный человек вдруг схватил и крепко сжал рукой ее колено.
– Господи! Да что же это такое! – вскакивая с места, вскрикнула барышня. В ее голосе слышались слезы, через секунду она заплакала.
Аларин почувствовал, как у него сразу похолодели руки и по спине забегали мурашки.
– Слушайте, вы! – обратился он к нахалу и почувствовал в то же мгновение, что его голос силен и значителен. – Извольте сейчас же пересесть на другое место и оставить эту барышню в покое!
Из-за спинок диванов стали выглядывать заспанные лица пассажиров, разбуженных восклицанием.
Восточный человек отпустил ногу своей соседки.
– Ва! Ти мнэ началнык? – заговорил он, стараясь показаться дерзким, но, очевидно, порядком струхнув. – Садись сам на свой диван, а я не хочу уходить!
Публика стала волноваться.
– Что такое? В чем дело? Ишь ты, армяшка проклятый, кишмиш… В чем дело-то, господин? – слышалось с разных сторон. Эти восклицания и нагло смеющееся жирное лицо восточного человека привели Аларина в бешенство.
– А-а? Не хочешь? – задыхаясь, воскликнул он. – Не хочешь?.. – И вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, он схватил своего противника за воротник и с силой рванул со скамейки. – Не хочешь?.. – повторял он, чувствуя новый прилив силы и озлобления, когда бархатный воротник затрещал в его руках.
Восточный человек пронзительно завизжал. Он уцепился было за ножку дивана, но после того как Аларин, судорожно стиснув зубы, снова дернул его изо всех сил, он уже не пробовал сопротивляться. Аларин вытащил его на платформу. Мелкий осенний дождик, брызгавший в лицо, и холодный ветер отрезвили его; он выпустил из руки полуоторванный воротник и сказал, тяжело дыша:
– Убирайся живо из вагона, и чтобы духу твоего не было.
Восточный человек сделался кроток, как агнец.
– Чего таскал, – заговорил он укоризненно, – зачем не сказал, что самому тебе барышня понравилась? Горячий человек!..
Александр Егорович повернулся к нему спиной и ушел в вагон, крепко захлопнув за собой дверь.
II
Когда Аларин сел на свое место, пассажиры продолжали волноваться.
– Есть же такие мерзавцы, – негодовал кто-то вроде приказчика, маленький, головастенький человечек, весь обросший черным лесом курчавых волос. – Как же это, помилуйте, вдруг с такими глупостями лезть к одиноко едущей особе! Да им морду следует за это бить, а не то что…
Он обращался как будто к своей собеседнице – старушке, но голову поворачивал по направлению к барышне, с которой произошел этот неприятный эпизод, вероятно ожидая, что она поддержит его негодование.
Однако она была так напугана и возмущена всем происшедшим, что лишь дрожала и молчала.
Аларин почувствовал глубокую жалость к этому беззащитному созданию. «В самом деле, – подумал он, – чем может оградить себя от подобной назойливости эта худенькая девушка? У нее, кроме слез, нет никакого оружия, да и те не на всякого действуют».
Однако в то же время, хотя ему и было неловко от обращенных на него со всех сторон глаз, он все-таки в глубине души немножко любовался своей «бешеной вспыльчивостью», с большим удовольствием припоминая ту тишину, которая наступила в вагоне, когда он закричал: «Не хочешь?»
Все это требовало теперь нескольких утешительных, пожалуй, даже великодушных слов, которые должны были окончательно успокоить бедную барышню.
Эти ощущения смешивались весьма странным образом. Аларин, вообще склонный к анализу своих внутренних побуждений, часто замечал в себе подобную двойственность, и если на него находила в это время минута самобичевания, то он называл себя с горечью «раздвоенным человеком».
Когда глазеющие из-за диванов головы мало-помалу скрылись, Аларин наклонился к своей соседке.
– Успокойтесь, ради бога, – ласково и тихо сказал он, стараясь заглянуть ей в лицо, – все подобные господа ужасные трусы и негодяи, и из-за них волноваться не стоит. Может быть, я вас тоже напугал?
– Ах, я действительно так перепугалась! – отвечала девушка, улыбаясь сквозь слезы. – У меня сердце до сих пор еще стучит. Вы были так рассержены, что я думала, вы его убьете. Я не знаю, как благодарить вас.
И она быстро протянула Аларину руку и опять застенчиво улыбнулась.
У нее была очаровательная улыбка, обнаруживавшая ровные и блестящие зубы и образовавшая на каждой щеке по две ямочки. Эта улыбка освещала и делала чрезвычайно симпатичным ее лицо.
– С ним, слава богу, ничего не сделалось, – произнес Аларин, невольно отвечая на ее улыбку, – но это послужит ему на будущее время хорошим уроком. Если такие наглецы, как вот этот, время от времени не получают таких энергичных встрясок, то это обычно располагает их к дальнейшим действиям такого же характера. Интересно, почему он к вам так пристал?
Он сказал это и тотчас же спохватился и сконфузился. Ведь, конечно, эта худенькая девица боялась даже обернуться на своего пылкого соседа и не могла ни одним взглядом дать ему повод к приставаниям. Но она была так далека от понимания всех этих житейских гадостей, что не заметила даже тени неуместности подобного вопроса и горячо ответила:
– Уверяю вас, я сразу испугалась его, как только он сел рядом со мною.
– Но хуже всего, – перебил ее Аларин, – что у нас ни одна женщина не может быть гарантирована от подобного рода неприятностей. Ведь здесь проглядывает самое грубое сознание превосходства физической силы, а между тем я знаю многих образованных и даже гуманных людей, которые не стыдятся проделывать почти то же самое.
– Но ведь это ужасно! – возразила барышня. – Как же порядочный человек может позволить себе?..
– В том-то и дело, что здесь полное отсутствие какой бы то ни было порядочности. Конечно, люди, о которых я сейчас сказал, не выражают так грубо, как этот кавказец, своих низменных инстинктов, но все-таки… Я, право, не могу решить, догнали ли мы в этом отношении чересчур быстро Европу или это остатки старинного русского неуважения к женщине!
Александр Егорович в эту минуту совершенно искренно позабыл о кое-каких своих похождениях.
– Но если некоторые сознают это, почему же они не постараются как-нибудь подействовать на других? – спросила девушка. – Ну, писать, что ли, об этом?
– Пишут, – сказал Александр Егорович, – отовсюду слышатся голоса, ратующие за то, чтобы женщина заняла в обществе принадлежащее ей по праву место, отнятое у нее поработителем-мужчиной. Но это, по-моему, смешно. Здесь нужны коренные реформы в семейном и общественном воспитании целых поколений, а не жалкие возгласы.
Аларин с удовольствием высказывал эти обиходные истины. Он умел и любил говорить только тогда, если вокруг него не было слушателей, которых он инстинктивно считал бы сильнее себя. Сосредоточенное внимание сидевшей перед ним девушки, представлявшей олицетворенную неопытность и наивность, делало его развязным.
Кроме того, он был не чужд любования собою и своим голосом, свойственного очень молодым, в особенности красивым людям, которые, оставаясь даже совершенно одни, постоянно воображают, что на них кто-то с любопытством смотрит, и ведут себя точно на сцене. Они являются перед собою то разочарованными, пресыщенными циниками, то современными дельцами, с полным отсутствием принципов и с девизом «нажива», то светскими денди, свысока глядящими на род человеческий, но всегда чем-нибудь красивым и выдающимся. Та или другая роль зависит от настроения духа или прочитанной книжки, что, впрочем, не мешает в них вырабатываться собственным оригинальным качествам. Теперь вот, разговаривая со своей соседкой, Аларин чувствовал себя пожилым мужчиной, относящимся с симпатией и жалостью к этому наивному ребенку.
– Да, – продолжал он, увлекаясь собственными словами, – у нас вот и электричество, и гипнотизм, и все кричат, что человечество прогрессирует, а поглядите, в каком положении во всех цивилизованных странах находится женщина.
И он легко и быстро очертил современное положение женщины, черпая мотивы из недавно прочитанной модной повести. Он с эффектной, деланной злобой говорил о том, к чему готовят ее с пеленок, как извращают воображение и приучают к роскоши.
Для его собеседницы все это было совершенной новостью, она ловила каждое слово и притом невольно любовалась красивым лицом Аларина с его блестящими от оживления, черными, притягивающими глазами. Это, после институтских учителей и швейцаров, был первый «настоящий» мужчина, которого она видела. Аларин коснулся тех «жалких обрывков познаний, которые западают в юную женскую головку». Он описывал все это очень удачно в карикатурных гиперболах и вдруг перебил самого себя.
– Извините, – сказал он смущенно, – вы, если я не ошибаюсь, бывшая институтка! Поверьте, что я не хотел сказать ничего обидного…
– Нет, нет, пожалуйста, продолжайте, – возразила девушка, – вы все это так хорошо знаете. Представьте себе, у нас даже русским языком никто не интересовался.
– А занимались тем, что сшивали тетрадки розовыми ленточками с надписью «Souvenir». Или приклеивали на первой странице целующихся голубков? Да?
– Вы и это даже знаете?
– Знаю. А в библиотеке ничего, кроме произведений madame Жанлис, конечно, не было?
– Ах, эта противная Жанлис. Мы просто ненавидели ее и называли ее именем одну сердитую классную даму. Пушкина нам только в первом классе стали давать и Тургенева кое-что. Правда, прелесть Тургенев?
– Как вам сказать, – не утерпел Аларин, – у него, пожалуй, многое и в архив можно сдать?
– О нет! Не говорите так! – протестовала она. – «Записки охотника» – это… я вам не сумею передать, это – божественно! Я «Накануне» читала летом на загородной даче, целые дни читала. Утром из-под подушки выну и целый день не расстаюсь с ними. Даже за обед ухитрялась приносить, конечно, потихоньку, чтобы не заметила madame Швейгер…
Но Аларина мало занимали ее рассказы, потому что он сам говорил не для нее, а для собственного удовольствия.
Его поразил ее свежий, серебристый голос.
– Скажите, пожалуйста, вы не поете? – неожиданно спросил он.
Барышня вспыхнула и, как-то совсем по-институтски, взглянув на него исподлобья, спросила:
– Почему вы это узнали?
– У вас такой чистый и полный голос, и тембр такой богатый. Я только поэтому и предположил. Но вы все-таки поете?
– Да, я немного училась. Monsieur Орлов, наш учитель пения, говорил мне, что если я поработаю над голосом, то могу выступить на сцену. Но я ужасно стыжусь петь. У нас на масленице был концерт, и я пела в мендельсоновском дуэте: «Хотел бы в единое слово излить…» Вы слыхали его?
Аларин в музыке ровно ничего не понимал, но ответил, что, к сожалению, этого дуэта не слышал, хотя обожает Мендельсона.
– Это очень известный романс, – заторопилась барышня. – Вы, верно, слыхали…
Хотел бы в единое слово излить Я, что на сердце есть! —пропела она вполголоса первые две строчки и вдруг, спохватившись, покраснела до слез.
Аларина эти десять нежных, дрожащих нот привели в восторг.
– У вас чудный голос, – сказал он совершенно чистосердечно, – на меня пение еще никогда не производило такого впечатления, как эти несколько звуков. Как бы я хотел услышать вас с аккомпанементом!.. Вы, впрочем, извините, я до сих пор не знаю вашего имени!.. – прибавил он полувопросительно.
Они назвали друг другу свои имена и фамилии. Барышню звали Зинаидой Павловной.
– Вы до какой станции едете, Зинаида Павловна? – спросил Аларин.
– Я прямо в Р*.
– Неужели? Представьте себе, мы едем в один город. Ведь это положительно судьба, что мы с вами попали в один и тот же вагон и так хорошо разговорились. Он, конечно, сказал про судьбу единственно «для красоты слога», но, склонная к мечтательности, Зинаида Павловна серьезно увидела в этих случайностях действие предопределения и внезапно после его слов ощутила какую-то тихую, бессознательную радость. Точно она узнала, что там, в далеком, чужом городе у нее будет близкий человек, который поддержит и защитит в случае надобности.
– И вы, по всей вероятности, едете в Р* к родным? – продолжал расспрашивать Аларин.
– Нет, – отвечала она и запнулась. – Я еду туда гувернанткой…
И, быстро вскинув на него глаза, точно желая удостовериться, нет ли на его лице улыбки, она продолжала:
– Вы знаете, к нам в институт присылают для пепиньерок предложения, но я от многих больших городов отказалась, потому что думала поступить в консерваторию; только это ужасно дорого, а для стипендии надо иметь большую протекцию. А у меня мама… совсем без средств…
По институтским традициям, Зинаиде Павловне было тяжело признаться в бедности матери, но Александр Егорович производил на нее впечатление такого хорошего, сердечного человека, которому можно было рассказать «все».
– Так вам и улыбнулась консерватория? – спросил Аларин.
– Да, так и улыбнулась. Моя подруга Посникова поступила, ее тоже Зиной зовут… У нее самый простой комнатный голос, но она… хорошенькая… понятно, ей нетрудно…
Последние слова барышни звучали самой неподдельной, наивной грустью.
– Ну вот, и я должна была принять первое попавшееся место, – продолжала она, – хотя даже не знаю условий. Вы, может быть, знакомы с этим господином… фамилия его Кашперов?..
Аларин, живший в Р* уже два года, не мог не знать Кашперова.
– Скажите, пожалуйста, что это за человек, то есть кто он такой? Чем он занимается? Много у него детей? – засыпала она вопросами Александра Егоровича.
– Да не торопитесь так, я не знаю, на что отвечать. Кашперов, про которого вы спрашиваете, вдовец, у него есть маленькая дочка, необыкновенно капризное насекомое, которое раз укусило меня за палец. Сам Кашперов человек безусловно честный и собою красив, так что за ним до сих пор барыни бегают: представьте себе, седые волосы и черная борода. Какой он образ жизни ведет? Конечно, как подобает вдовцу и богатому человеку; ведь он, между прочим, страшно богат, но денег своих не прячет и делает на них много добра. Вообще он человек не совсем обыкновенного десятка. Впрочем, вы это сами увидите.
– Да, – задумчиво произнесла Зинаида Павловна, – воспитание – очень серьезное дело!
– Ну, что касается воспитания, то я положительно отвергаю его, – сказал Аларин.
– Как отвергаете? У нас сам инспектор читал педагогику и столько говорил об ее великих задачах.
– Поверьте, что он сам в это время над собой смеялся, – шутливо перебил Александр Егорович.
– Какой вы злой!.. Ну, так не будем говорить о воспитании. Вы давно живете в Р*?
– Нельзя сказать, чтобы особенно давно, но мне каждый камешек в нем опротивел. Притом вы, должно быть, слыхали о нашей грязи. У нас однажды исправник с целой тройкой лошадей утонул в грязи перед городским клубом, только об этом запретили в газетах печатать. Но у нас и кроме грязи много замечательного. Во-первых, рысаки, похожие на выкормленных купцов, и, во-вторых, купцы, близкие к первобытному состоянию. Замечательно, что в этом богоспасаемом граде живешь, как в фонарике. Представьте себе, я не только всех жителей, но даже их собак знаю по кличкам. Точно так же всему городу известно, что у меня к обеду готовится и о чем я вчера разговаривал по секрету со своим приятелем. Зато уж если наши провинциальные премьерши примутся кому-нибудь перемывать косточки, то делают это с неподражаемым совершенством, тем более что тем для такого занятия бывает много, ибо город изобилует легкими и приятными нравами.
– А вы сами, кажется, служите? Что это у вас за форма? – осведомилась Зинаида Павловна.
– Я больше по инженерной части состою… говорю «больше», так как на пристани, в порту, где, собственно, и есть место моих занятий, я существую только в виде декорации. Но у меня много частных работ; вот Кашперов ко мне тоже часто обращается.
Аларин любил говорить о себе и потому с удовольствием посвятил новую знакомую в подробности своей жизни, но когда он вскользь упомянул о матери и Зинаида Павловна наивно спросила, кто был его «рара», он осекся и кровь бросилась ему в лицо.
Однако вдруг им овладело неудержимое желание сейчас, сию минуту рассказать все до мельчайших подробностей этому чистому существу.
– Знаете ли, – произнес он медленно и значительно, – я этого никому еще не говорил, но вы, я знаю, добрая, вам не будет смешно… Я – незаконнорожденный!
Она сначала не поняла его, но потом ей стало жаль Александра Егоровича той особенной, болезненной жалостью, которую возбуждает калека или тяжелобольной человек. Она поняла, что этого пункта нельзя касаться, и продолжала молчать.
А он, преодолев первую неловкость, рассказал ей подробно всю свою биографию, причем говорил так горячо, искренно и жалея в эту минуту самого себя, что у Зинаиды Павловны сжималось сердце.
– Ну вот, вы теперь все знаете обо мне, – закончил Аларин свой рассказ. – Это я только вам одной говорил, потому что вы не употребите во зло моего доверия… Поглядите, какая чудная ночь! – воскликнул он вдруг, заглянув в окошко.
Они оба прислонились к окну, так что их головы почти касались. А ночь действительно была необыкновенно хороша. Ветер разогнал тучи, и луна сияла на чистом темно-синем своде. В ночном пейзаже было что-то сказочное. Лужайки, окруженные кустами и залитые потоками лунного света, казались бездонными озерами; стройные прозрачные березы дремали, точно заколдованные тихою ночью. И все это призрачное, обольстительно-прекрасное царство света и теней показывалось на одну минуту и исчезало, давая место новым картинам.
– Чудная ночь, – почти шепотом повторил Александр Егорович, – не правда ли, в ней есть что-то таинственное?
– Да, таинственное… и грустное, – отвечала Зинаида Павловна, и Аларин услыхал в ее голосе дрожь.
– Нет, зачем же грустное, – перебил он, – в этакие ночи мною, наоборот, овладевает прилив какой-то неудержимой отваги; теперь бы коня, и – мчаться где-нибудь в степи так, чтоб захватывало дух… Однако скоро будет светать, и вот уже огоньки нашего Р* виднеются. Собирайтесь, Зинаида Павловна, почти домой приехали.
Поезд подходил к Р*. На станции, где сходились три ветви железных дорог, была страшная суматоха. Аларин вывел растерянную и озябшую Зинаиду Павловну на крыльцо вокзала.
– Телеграфировали вы Кашперову о приезде? – спросил он, останавливаясь.
– Да.
– В таком случае должен быть экипаж! – И он закричал во все горло: – Лошади Кашперова!
– Здесь! – ответил чей-то голос. К крыльцу подъехала щегольская коляска, запряженная парой серых видных лошадей.
– Барышня приехали? – осведомился кучер, приподнимая шапку.
Зинаида Павловна, пожимаясь от ночного холода, стала прощаться с Алариным. Ей вдруг стало жалко и этой так быстро промелькнувшей ночи, и этого красивого лица, казавшегося совсем бледным при свете луны.
– Прощайте, Александр Егорович, – грустно сказала она, протягивая ему руку. – Как мне благодарить вас?
– Самой лучшей благодарностью для меня будет, – ответил Аларин, ласково смеясь, – если вы обратитесь ко мне в случае надобности.
– Непременно!
Лошади дружно тронули, и коляска загремела по камням мостовой.
III
Зинаида Павловна проснулась раньше всех в доме, несмотря на то, что накануне легла очень поздно. Проснувшись, она не могла сразу сообразить, каким образом попала в эту уютную, нарядную, как бонбоньерка, комнату, обитую розовым кретоном. Вчера она так была утомлена дорогой, что едва только коснулась головой подушки, как в ту же минуту заснула крепким сном усталого человека.
Ей не хотелось тотчас же одеваться, потому что ленивая утренняя нега овладела всем ее существом, и в памяти носилось бесформенное воспоминание чего-то светлого и хорошего.
«Что ж такое у меня есть приятного? – старалась припомнить Зинаида Павловна, – может быть, эта комнатка?»
Комната действительно была очень красива, но от изящной отделки веяло чем-то совершенно чуждым; этот кокетливый будуар не выдерживал никакого сравнения с тесной, обитой дешевенькими обоями комнатой Зинаиды Павловны в Москве… Может быть, рояль, который она видела вчера, проходя ряд больших, со вкусом обставленных комнат, произвел на нее такое приятное впечатление? Нет, не рояль, – она тогда же подумала, что будет неловко перед хозяином часто играть на нем… Или те шесть новеньких полуимпериалов – подарок мамы при последнем прощанье, – которые она так часто пересматривала, любуясь их ярким блеском?
И вдруг в воображении девушки мелькнуло бледное от лунного света, прекрасное лицо с черными смеющимися глазами.
«Это – Аларин!» – чуть не вскрикнула, обрадовавшись, Зинаида Павловна, и сама тихо улыбнулась тому, что назвала его по фамилии.
– Милый, хорошенький, красавчик мой! – прошептала она, прижимаясь лицом к подушке с неопределенной улыбкой. – Какой у него голос славный: мягкий такой и задушевный. Любят ли его женщины? Да, конечно, любят! Разве можно его не любить? Когда он говорит или смеется, его глаза так и смотрят в душу, точно ласкают… Он, видно, очень, очень умный; когда он говорит, его можно заслушаться…
Зинаида Павловна была мечтательницей по призванию. Природа снабдила ее такой пылкой и широкой фантазией, перед необузданными размахами которой стушевывалась самая яркая действительность. Еще будучи в низших классах института, она пристрастилась к чтению. По вечерам, когда классная дама пространно и скучно объясняла ученицам заданный к завтрашнему дню урок математики, Зинаида Павловна тихонько вынимала из стола описание какого-нибудь фантастического путешествия по девственным лесам Америки или пустыням Африки, раскладывала его на коленях и жадно погружалась в чтение, причем этот таинственный, сказочный мир увлекательного рассказа, полный жизни и благоуханий, заставлял ее забывать не только страх остаться на целый месяц без передника за невнимание к научным истинам классной дамы, но и все, что только хоть немного напоминало действительность, переставало существовать для нее в эти блаженные минуты. Стены класса раздвигаются на бесконечное пространство… звезды… громадная кровавая луна показывается из-за горизонта безбрежной пустыни, и везде одна и та же нескончаемая даль, покрытая горячим желтым песком… Луна выплывает в самую середину неба… пустыня кажется окутанной белым туманом… Мертвая тишина не нарушается ни единым звуком… И вдруг рев льва, могучий и величественный, потрясает воздух…
– Колосова, повторите все, что я сейчас объяснила, – раздается в то же время скрипучий голос.
Зина вскакивает, растерянная, ничего не понимающая…
Перед ее глазами опять грязная, измазанная мелом комната, тускло освещенная шестью казенными лампами; несколько десятков утомленных детских лиц с улыбкой глядят на ее замешательство, пред нею зеленая, повязанная косынкой физиономия наставницы.
– Извините, я не поняла… мне было не слышно, – пробует оправдаться Зина.
– А! Вам неугодно слушать мои объяснения, – скрипит классная дама, – покажите мне ту книгу, которая была у вас на коленях!..
С летами грезы Зинаиды Павловны приняли более жгучий характер; особенно сильно повлияли на нее в этом отношении лекции истории, которую увлекательно читал симпатичный, знающий учитель. Зина слушала его со сверкающими глазами и полуоткрытым ртом, а он в минуты своих горячих импровизаций обращался к ней одной. Его объяснения не прошли даром для Зинаиды Павловны. По ночам она до мельчайших подробностей переживала все то, что ей приходилось узнать днем. Описание блеска и роскоши средневековой жизни, победы и завоевания римских цезарей гораздо меньше шевелили ее воображение, чем пассивный героизм мучеников идеи. Она так живо вызвала в своем воображении казнь Иоанна Гуса, что плакала и молилась всю ночь до утра. Она обожала Жанну д'Арк и иногда находила в ее образе и поступках много общего с собой; ей тогда начинало казаться, что и в ее груди таятся и зреют до нужной минуты могущественные силы, назначенные судьбой для каких-то великих целей. Ею овладевала тогда страшная жажда самопожертвования, желание совершить неслыханно-громадный подвиг, радостно отдать свою молодую жизнь во имя чего-то далекого и прекрасного.
Иногда Зинаида Павловна проводила целые ночи, не отрывая взора от какой-нибудь яркой звезды, между тем как в ней самой трепетали такие фантастические мечты, в которых она сама не сумела бы дать себе отчета. Весь день после такой ночи она ходила бледная, точно разбитая, на вопросы подруг говорила, что у нее болит голова, но своих задушевных грез никогда никому не поверяла. Вообще она никогда не была слишком откровенна, но каждый, кто только встречался с ней, невольно чувствовал в ней присутствие ее собственного внутреннего мира, а также то, что она в это святое святых, наверно, никого не пустит.
Зинаида Павловна долго лежала неподвижно, погруженная в свои неясные грезы, и все время задумчивая улыбка не сходила с ее лица. Она думала о том, сколько оскорблений вынес Аларин вследствие каприза своего пресыщенного, развратного отца. Он боится насмешки; да разве можно смеяться над этим? Ведь это все равно что смеяться над человеком с оторванной ногой, над уродом от рождения! У него в речах слышится злобное презрение к людям… Он, верно, не встречал еще ни разу любящей, нежной души, которая сумела бы понять и оценить его и заставить забыть все оскорбления!.. Что, если бы Бог подарил это счастье ей!.. Какими заботами, какой нежной предупредительностью окружила бы она Аларина!..
И ее пылкое воображение в одну минуту нарисовало сцену безмятежного счастья.
Он возвращается со службы веселый и проголодавшийся. Она ждет его, с нетерпением поглядывая на часы; она нарочно заказала к обеду его любимые кушанья. За обедом он рассказывает ей все, что видел днем, пересыпая свой разговор веселыми шутками и красноречивыми взглядами. Она его внимательно слушает, не забывая, однако, о своих хозяйственных обязанностях. Когда они встают из-за стола, уже начинает темнеть. Они привыкли проводить в это время полчаса перед горящим камином… Здесь так тепло, дрова так весело трещат и сыплют тучи искр, так приятно ведутся задушевные беседы!..
Зинаиду Павловну вывел из этого состояния задумчивости легкий стук в дверь, сопровождаемый молодым женским голосом, спрашивавшим, можно ли войти. В комнату влетела хорошенькая, кокетливо одетая горничная и предложила свои услуги. Однако Зинаида Павловна, не привыкшая к тому, чтобы ей помогали одеваться, отказалась от этого.
– Благодарю вас, – сказала она, – если понадобится, я позову.
– А чай прикажете вам в комнату принести, – приставала горничная, – или изволите сойти вниз? Барин и барышня всегда в это время кушают чай в столовой.
Зинаида Павловна предпочла сойти вниз.
«Ну, каково-то будет наше первое знакомство? – думала она не без волнения. – Во всяком случае, надо поставить себя с самого начала так, чтобы он никогда не осмелился глядеть на меня, как на „наемную“!..»
Когда она вошла в просторную, светлую столовую, навстречу ей поднялся и вышел из-за стола представительный мужчина высокого роста. У него было умное лицо с высоким белым лбом, обрамленным волнами совсем седых волос, с живыми, как у юноши, блестящими глазами и свежим чувственным ртом. В черных же усах и в бороде не виднелось ни одного седого волоса. Кашперов был одет в широкий домашний вестон[1], сидевший на нем просторно и изящно. Каждое движение этого человека отличалось твердой, самоуверенной грацией, свойственной сильно развитым мышцам. На вид ему было лет сорок пять, но если бы он надел шапку и скрыл этим свою седину, то никто не дал бы ему более тридцати пяти-шести лет. Однако его видная наружность не понравилась Зинаиде Павловне; ее нежному, болезненному вкусу было неприятно в мужчине преобладание грубой силы и здоровья.
«Однако ж ты, бедненькая, не из красавиц, да, кажется, еще и с характерцем», – решил, в свою очередь, после обмена обыкновенных в этих случаях фраз, Кашперов, окидывая девушку с ног до головы зорким взглядом опытного женолюбца.
Он почему-то непременно воображал себе новую гувернантку смазливой брюнеткой с бойкой речью и разбитными манерами, которая при случае с удовольствием выслушает пикантный анекдот, и похохочет, и пококетничает. При благоприятных условиях совместная жизнь с такой особой обещала много соблазнительных удовольствий.
Но перед ним стояла бледная девушка с некрасивым лицом и невинными глазами, смотревшими холодно и в то же время вполне независимо…
Пристальный, бесцеремонный взгляд Кашперова подействовал на Зинаиду Павловну самым неблагоприятным образом. Он почему-то внезапно напомнил ей вчерашнего нахала соседа, и это обстоятельство еще более усилило первое неблагоприятное впечатление. Но тем не менее она глаз своих не опустила, хотя и чувствовала себя неловко.
В то время, когда эти мысли и сравнения быстро проносились в головах у обоих, Сергей Григорьевич предупредительно расспрашивал Зинаиду Павловну, благополучно ли она доехала, нашла ли все необходимое у себя в комнате, и предложил ей место за столом.
– Вы, я думаю, не откажетесь иногда похозяйничать за чаем, – произнес он, стараясь казаться любезным, – у меня до сих пор все это делала Лиза, но у нее мало терпения и умелости. Позвольте представить вам вашу будущую ученицу…
Он показал на девочку лет четырнадцати, худую и нескладную, как всегда бывают девочки в этом возрасте; она все время осторожно, одним глазом, выглядывала из-за стоявшего перед ней самовара и при обращенных к ней словах поспешила совсем спрятаться за него.
– Только надо вам сказать, она у меня страшный дичок, – продолжал Кашперов, – и при чужих ее ни за что не вытащишь из какого-нибудь угла… Лиза, подойди к Зинаиде Павловне!.. Нет, ни за что не послушается!..
– Лиза, отчего вы не хотите подойти познакомиться со мною? – спросила Зинаида Павловна, впрочем, невольно обращаясь больше к самовару, чем к спрятавшейся за ним дикарке. – Она у вас, может быть, немного… запугана? – спросила она Кашперова.
Тот вдруг громко расхохотался и сквозь смех едва проговорил:
– Мне смешно, как вы сразу уже начинаете свои педагогические наблюдения и притом таким деловым тоном. Но что касается Лизы, – продолжал он уже серьезно, – то заранее говорю вам, что никакие средства, если она чего не захочет, не помогут. К вам она еще долго будет избегать подходить…
Но в это время девочка, робко выглянув еще раз из-за своего убежища, совершенно неожиданно встала и подошла к Зинаиде Павловне, краснея от замешательства. Она некоторое время постояла в нерешительности и вдруг, вероятно уже окончательно побежденная ласковой улыбкой своей будущей гувернантки, быстро обвила руками ее шею и поцеловала в самые губы.
– Правда, Лиза, мы с вами будем друзьями? – шепнула ей на ухо растроганная этой лаской Зинаида Павловна. – Вы ведь не будете от меня бегать? Да?
– Нет, не буду никогда, – еще тише ответила девочка, глядя в землю, – вы… добрая…
– Браво, Зинаида Павловна! Однако вы сразу сделали уже громадный успех, завоевав расположение этой капризницы! – воскликнул Кашперов. – Поверите ли, я в первый раз вижу, чтобы Лиза сама подошла к кому-нибудь, кроме двух существ в мире: своей старой няньки и собачонки Крошки. У вас, должно быть, необыкновенно добрая душа, – дети на это ведь чуткий народ. Или вы владеете, может быть, каким-нибудь педагогическим секретом? – И он опять расхохотался.
Зинаида Павловна ничего не отвечала. Ее коробили и пристальный взгляд, и громкий, действительно неприятный смех, и насмешливо-снисходительный тон Кашперова. «Почему он говорит со мной как с девочкой? – думала она. – Или он уже глядит на меня, как на свою собственность, как на „что-то“ закупленное им, над чем можно беспрепятственно практиковать дешевое остроумие?»
Она, конечно, ошиблась, потому что Кашперов вообще был деликатен с чужим самолюбием, но у него уже давно выработалась манера говорить со всеми женщинами несколько небрежно и самоуверенно, а чуткое ухо Зинаиды Павловны, не изведавшей еще настоящих жизненных передряг, готово было в каждом слове находить намек на обиду.
Кашперов пытался поддержать неклеившийся разговор: он рассказывал о городе, о бирже, о своем заводе и о новой, выписанной из-за границы динамо-электрической машине, расспрашивал о Москве и институтской жизни. Но ему приходилось все время говорить одному. Зинаида Павловна совершенно ушла в себя и на все вопросы отвечала короткими «да» и «нет».
Они в молчании допили свой чай и разошлись, вынеся друг о друге неприятное впечатление.
«Странная девчонка, – думал Кашперов, садясь в пролетку, чтобы ехать на завод, – только что сорвалась со скамейки, нищая, а держит себя совсем недотрогой.
Жалко, однако, будет, если мы с ней поссоримся. Лизку сразу к ней потянуло… может быть, и вправду какой-нибудь прок выйдет. Душонка у ней добренькая, это что говорить… да собой-то она уж очень не того…»
В то же время, хотя Кашперов и не терпел ни в ком подобострастия, но спокойная независимость, которая невольно чувствовалась в этой гувернантке – существе обыкновенно жалком и подвластном, – сильно его удивляла.
Зинаида Павловна, выйдя из-за стола, хотела пойти в свою комнату, чтобы написать письмо. Она уже поднималась по лестнице, как услышала за собою торопливые шаги и, обернувшись, увидела бегущую к ней Лизу.
– Милая Зинаида Павловна, – сказала девочка, обхватывая ее за талию, – я у вас хочу кое-что спросить, только вы обещайте, что не рассердитесь…
– Ну, хорошо, не рассержусь, – ответила Зинаида Павловна, рассмеявшись. – Что же это за важная вещь? Спрашивайте.
– Скажите мне, пожалуйста: ведь мой папа не понравился вам?
– Нет, Лиза, это вам только показалось, – поспешила разуверить девочку Зинаида Павловна, удивляясь в то же время ее детской прозорливости, – наоборот, ваш папа произвел на меня очень приятное впечатление…
– Ах, зачем же говорить неправду? Я знаю, вам папа показался таким… нет, не злым, а грубым… ну, да я не умею объяснить…
– С чего это вы взяли?
– Нет, я наверно знаю, потому что у вас было такое же лицо, как бывало у мамы, когда папа скажет что-нибудь резкое, а она замолчит и на все его вопросы не отвечает…
– Давно ваша мама умерла?
Девочка задумалась: видно было, что какое-то обстоятельство затрудняет ее в ответе.
– Видите ли, – сказала она вдруг с внезапным порывом откровенности, – я вам расскажу, только никому не говорите, потому что это рассказывать нельзя. Моя мама жива, но она уже давно уехала куда-то, и когда я спрашиваю про нее у папы, то он на меня сердится…
Это открытие поразило Зинаиду Павловну. Для нее, смотревшей на брак как на таинственные, священные узы, муж и жена, живущие врозь, были каким-то чудовищным явлением, и она мысленно поспешила обвинить во всем Кашперова. Конечно, несчастная женщина не могла ужиться с этим неприятным человеком; может быть, она теперь мучится всю жизнь и проклинает ту минуту, когда связала с ним свою судьбу… Разговаривая таким образом, они дошли до дверей комнаты Зинаиды Павловны.
– Можно мне к вам зайти? – спросила Лиза, умильно заглядывая в лицо своей гувернантки.
Конечно, она получила согласие. Тогда она осторожно пересмотрела все вещи Зинаиды Павловны, расспросила, для чего употребляется каждый флакончик, каждый клочок бумажки; затем, все время, пока Зинаида Павловна писала письмо, она сидела, не сводя с нее взора.
– Вы кончили? – спросила она, когда Зинаида Павловна стала заклеивать конверт.
– Кончила, а что?
– Я все время смотрела на вас, и, знаете, вы – ужасно милая! Можно мне поцеловать вас?
IV
Однажды Кашперов приехал к обеду в самом сияющем расположении духа: дела на заводе шли прекрасно, погода была ясная и холодная, и, проехавшись с завода верхом, Сергей Григорьевич чувствовал сильный аппетит.
Когда Зинаида Павловна налила ему полную тарелку горячего супа, он совсем развеселился: действительно, эта девушка обладала удивительной способностью придавать всему, за что только она ни бралась, отпечаток той свежести и женской аккуратности, которой было полно все ее существо.
– Знаете ли, великая вещь, если за столом хозяйничает хорошенькая женщина, – сказал Кашперов весело и дружелюбно, – ведь на первый взгляд кажется, что это – предрассудок, а между тем, ей-богу, все приобретает особенно приятный вкус и даже аппетит удесятеряется.
Кашперов хотел своим полушутливым, полудружеским обращением хотя немного расположить к живому разговору Зинаиду Павловну, эту «диконькую барышню», которая, как он инстинктивно чувствовал, боялась и избегала его. Сегодня, когда яркие солнечные лучи так весело заливали столовую, когда в душе у Кашперова так сильно сказывалось радостное ощущение жизни, ему неприятно было видеть хмурое лицо гувернантки.
– Да что ж вы молчите, точно в воду опущенная, Зинаида Павловна? – досадливо прибавил он, не дождавшись ответа. – Вы, кажется, с первых шагов уже имеете что-то против меня. Оставьте, голубушка моя; ведь это – институтство!.. Я даже не могу понять: щекотливость ли заставляет вас так относиться ко мне или же вы просто-напросто капризничаете!..
Зинаида Павловна подняла на него с упреком взор своих детских глаз.
– Для чего вы смеетесь надо мной, Сергей Григорьевич? – с упреком произнесла она внезапно дрогнувшим голосом.
– Как смеюсь?! – удивился Кашперов. – Да у меня и мысли такой в голове не было, чтобы смеяться. Когда? В чем вы могли усмотреть насмешку? Я, право, отказываюсь понимать вас.
– Да вот вы сейчас нарочно упомянули про каких-то хорошеньких женщин… Поверьте, я никогда не обольщалась своей наружностью и знаю о том, что некрасива… Но с какой стати вам было напоминать об этом?..
– Позвольте, Зинаида Павловна, успокойтесь, ради бога, – почти в отчаянии сказал Сергей Григорьевич, – ведь это же, наконец, ужасно, что вы обо мне думаете!.. Ну, если хотите, я с вами никогда не буду ни о чем, кроме дела, говорить. Мне страшно неприятно, что вы с первых же дней видите во мне врага. Уверяю вас, я вовсе не такое чудовище, каким кажусь.
Зинаида Павловна ничего не ответила, но, как только обед кончился, тотчас же встала, ушла в свою комнату и со слезами бросилась лицом в подушку.
Скоро жизнь в доме Кашперова потекла обычным, размеренным ходом. Он приезжал только на минуточку и при встречах с Зинаидой Павловной был официально вежлив, в остальное же время совершенно позабывал об ее существовании.
Она, в свою очередь, все время посвящала исключительно Лизе. В девочке складывалась богатая натура, стремительная в своих побуждениях и отзывчивая на все хорошее. Зинаида Павловна без всякого труда, исподволь приохотила ее к музыке и рисованию; ученье же шло у них довольно вяло, потому что ни гувернантка, ни воспитанница не имели достаточно выдержки… Но один случай неожиданно возмутил однообразное спокойствие этой жизни и совершенно перевернул вверх дном судьбу всех ее участников.
В начале декабря у Кашперова выдался свободный вечер, который он не знал, куда употребить. Он ходил без цели по комнатам, заложив руки в карманы, и производил в уме какое-то математическое вычисление для своего завода.
Было то странное время дня, когда потухающий день слабо борется с надвигающеюся темнотою, придавая всему какое-то грустное освещение, располагающее к тихой мечтательности.
Случайно проходя мимо дверей залы, Кашперов услышал, что кто-то берет на рояле мягкие аккорды, и хотел было войти туда, но в это время до него донесся голос Зинаиды Павловны, разговаривавшей с Лизой. Кашперов остановился за портьерой и стал прислушиваться.
– Ну, что же я вам спою, Лиза? У меня, кажется, больше ничего не осталось, чего бы вы не слышали, – сказала Зинаида Павловна.
– Душечка, ну спойте, что вам первое придет в голову! – горячо упрашивала Лиза.
– Помните, вы пели что-то из «Фауста»? Ну, теперь еще один разик; я уж больше не буду приставать…
– Ну, хорошо, хорошо, не теребите только меня, а то зацелуете до смерти, – ответила Зинаида Павловна, смеясь и отбиваясь от порывистых ласк своей воспитанницы.
– Вам темно, Зинаида Павловна! Может быть, зажечь свечи? – спросила Лиза.
– Не надо, прошу вас, не зажигайте, я буду наизусть играть… Ну, слушайте… И она начала играть второй акт, изредка объясняя содержание музыки.
– Вот это – народный праздник во время ярмарки… Мефистофель приводит туда и Фауста… Слушайте, какой чудный вальс, лучше его нет ни одного вальса в мире… Маргарита проходит с молитвенником… Фауст поражен ее красотой… Он долго смотрит в восхищении издали, а затем подходит к ней…
И она запела на низких нотах своего голоса известные слова: «Позвольте предложить, прелестная, вам руку…»
– Маргарита взглянула на него, потупилась и тихо отвечает: «Ах, не блещу я красотою и потому не стою рыцарской руки…»
Кашперов хорошо знал оперу «Фауст», слышал ее в исполнении европейских знаменитостей и всегда любил ее. Но теперь фраза, так нежно пропетая серебристым голосом Зинаиды Павловны, совершенно потрясла его.
Из таинственной полутьмы, царившей в зале, лились один за другим звуки мелодии, полные наивной грусти, и в уме Кашперова с поразительной ясностью восстал образ Зинаиды Павловны, с ее девственным молодым обликом и спокойными глазами, ясными, как утреннее небо.
«Да, она Маргарита, – невольно пронеслось у него в уме, – только кто же будет ее Фаустом?»
Сергей Григорьевич, часто и близко сталкиваясь с различными женскими характерами, так изучил все перипетии любви, все мельчайшие оттенки в тоне и взгляде, что почти никогда не ошибался в своих заключениях на этот счет, и теперь, когда голос Зинаиды Павловны дрожал, замирая на последней ноте, он сказал себе: «Да, у нее есть Фауст, потому что никакая выучка не может придать музыке такой глубины чувства… Вероятно, кузен… какой-нибудь юнкер или гимназист…»
Зинаида Павловна замолкла. Настала такая тишина, что Кашперову казалось, будто стук его сердца раздается по всему дому.
– Ну, дальше, Зинаида Павловна, – взволнованным шепотом проговорила Лиза, – милая Зиночка, дальше!..
– А дальше то, – тихо отозвалась через некоторое время Зинаида Павловна, – что Фауст скоро позабыл о Маргарите, а она… она никак не может позабыть о нем…
«Я не ошибся, – решил Кашперов, услыхав, сколько затаенной грусти прозвучало в последних словах, – да притом еще, кажется, ее Фауст не подает никакой надежды на взаимность».
– Ну, слушайте еще, – заговорила опять Зинаида Павловна, – только уж в самый последний раз. Маргарита сидит за прялкой и поет.
И опять, вместе со сказкой о фульском короле, полился этот чистый, хватающий за сердце голос.
«Боже мой, какая прелесть, – думал Кашперов, с жадностью ловя каждую ноту. – Вот оно, истинное наслаждение. Но где же эта бедная девушка могла обрести такие чудные звуки?..»
Он чувствовал, что у него в глазах стоят слезы. В то же время им овладел прилив какой-то безграничной, смутной злобы… «Уж не ее ли Фауст так огорчает меня?» – насмешливо спросил он себя и не мог ответить на этот вопрос.
– Ну, теперь довольно, – сказала Зинаида Павловна, окончив сказку и громко захлопнув ноты, – нервы расстраивать не годится. Ловите меня, Лиза!
И она побежала, сопровождаемая Лизой, и откуда-то, издалека, донесся до слуха Кашперова ее смех, рассыпавшийся в серебристых трелях.
«Однако я размяк порядком», – с озлоблением решил Сергей Григорьевич и тотчас же велел закладывать себе лошадь. Он очень долго остался в этот вечер на заводе, особенно тщательно наблюдал за его ходом, бессознательно стараясь как можно больше угомониться.
Ему удалось привести себя в уравновешенное состояние, но, когда поздно ночью он уже окончательно улегся в постель и потушил свечу, из темноты вдруг нежно и задумчиво прозвучало: «Ах, не блещу я красотою…»
– Тьфу ты, черт побери! – сердито отплюнулся Сергей Григорьевич. – Нужно же было этой итальянщины наслушаться!
Хотя Кашперов и отплевывался так энергично, тем не менее на другой день, едва только начало смеркаться, он уже стоял на том же месте за портьерой… Он прождал около получаса, пока наконец пришла Зинаида Павловна и села за рояль.
На этот раз Лизы с ней не было. Она долго брала рассеянные аккорды, потом заиграла бурную интродукцию шубертовского «Erlkönig»[2] и запела. Но она не кончила баллады и, оборвав ее на середине, перешла сразу в С-mol'ный вальс Шопена.
Когда она перестала играть и сидела, задумчиво трогая пальцами клавиши, Кашперов нечаянно скрипнул дверью. Звуки прекратились совсем: по-видимому, Зинаида Павловна прислушалась. Оставаться долее за портьерой становилось неудобно, и Сергей Григорьевич предпочел войти в залу.
– Извините, Зинаида Павловна, – мягко сказал он, – я подслушивал вас. Но вы ведь не стали бы при мне играть? А между тем я получил столько наслаждения, стоя вот здесь… за дверью.
Зинаида Павловна, при виде этого человека, с которым она всегда избегала встречаться, быстро встала с своего места.
– Извините, кажется, я своей музыкой помешала вам заниматься? Я постараюсь больше не делать этого!
И она направилась к дверям, стараясь обойти его подальше.
– Да подождите же, ради самого бога, Зинаида Павловна! – почти закричал Кашперов, хватая ее руку. – Неужели вам даже быть со мною в одной комнате гадко? Поймите вы наконец, – умоляю вас, – что между нами лежит какое-то чудовищное недоразумение… Разве я не вижу, что если бы не Лиза, которая к вам привязалась, то вы давно оставили бы мой дом…
– Да, вы не ошибаетесь в этом, – отвечала Зинаида Павловна, не глядя на него и вырывая свою руку из его горячей, сильной руки, – но если вам только хотелось напомнить об этом, то вы могли бы не трудиться начинать издалека…
– Ну вот, опять точно так же, как и в первый раз, вы нарочно не хотите понять меня, – досадливо перебил ее Кашперов и быстро заговорил, боясь, что она уйдет, не выслушав его, – вы смотрите на меня с предубеждением, почему-то отказываете мне даже в таком человеческом чувстве, как любовь к музыке… Да где же здесь кроется моя вина? Поверите ли, я – сильный человек, я лошадиные подковы гну, я никогда не знал, что такое нервы, но вчера, стоя за портьерой, чувствовал на своих глазах слезы. И, раз вы обладаете силой действовать так своим искусством, вам грешно было враждебно отнестись к моему восторгу! Вы не имели права отказывать мне в этом наслаждении!.. Наконец, все это – ломание, все это – страшно неестественно!
В его голосе слышалось волнение. Зинаида Павловна внимательно и пытливо взглянула ему в лицо своими невинными глазами.
Нет, он не лгал, потому что его щеки пылали и глаза горели, но ей это горячее увлечение было и чуждо и непонятно.
– Я не понимаю вас, Сергей Григорьевич, – холодно произнесла она и быстро вышла из залы.
Между ними действительно лежало недоразумение.
«Что мне в этой девчонке? – злился через несколько часов Кашперов, ворочаясь на своей кровати. – Отчего я не могу ни о чем думать, кроме нее? Ведь не мог же я влюбиться? Правда, в ней есть что-то влекущее: эти ясные глаза, эта женственность… Да что же мне-то до нее за дело? „В Фуле жил да был король…“ Да, с таким голосом можно совсем перевернуть человека! Откуда у нее эта выразительность? Кто с ней занимался? Или, может быть, она уже любила и мучилась? „И до самой своей смерти он…“ Ах, черт побери, да засну ли я наконец в эту проклятую ночь?.. Вот тебе и хваленое равновесие… Недостает еще, чтобы я начал принимать валерьяновые капли!..»
Кашперов влюбился. Он уже давно, лет десять тому назад, оставил всякие любовные глупости, пресытившись женским вниманием, которое ему давалось чересчур легко, и стал исключительно человеком дела. Но в былое время самые опытные в деле ведения интриг, прошедшие сквозь огонь и воду женщины всегда говорили, что в нем есть «что-то магнетическое».
Действительно, он тогда в своих желаниях не признавал препятствий: чем больше их было, тем сильнее разгоралось в нем желание достигнуть заветной цели, и он смело шагал через них, обольщая дерзостью и порабощая слабую волю женщины своей дикой, необузданной волей. Но как только цель бывала достигнута, ему становилось скучно; впереди рисовались другие заманчивые перспективы, иные соблазны. И судьба, как будто умышленно, покровительствовала ему, все предприятия этого человека носили на себе печать необыкновенного успеха. Он играл, рискуя последним, и всегда был баснословно счастлив; ударился в коммерческие предприятия и неожиданно для всех разбогател. В любви, как и во всем остальном, он не знал проигрыша, но шатание по женским сердцам интересовало его только до тех пор, пока он не убедился, что, в сущности, нового ни в одном из них не встретишь.
А теперь перед ним, как живой, стоял нежный образ бледной девушки, с синими прозрачными глазами и пленительным голосом, и он не знал, как к нему приступиться, с чего начать.
– Нет, врешь, я тебя пересилю, – озлобленно шептал уже на рассвете Кашперов, весь охваченный взрывом запоздалой любви, – я заставлю тебя! Пусть ты чиста, я в тебе разбужу такие инстинкты, в которых ты сама себя не узнаешь! Он говорил эти слова, полные безумной страсти, и в то же время ни одной секунды не верил себе, а в душе его грустный голос пел: «Ах, не блещу я красотою!»
V
Почти во всяком городе, среди так называемого «общества», есть личности, которые хотя и пользуются всеми внешними знаками уважения, но существование которых, подверженное разным неожиданным превратностям, не может не быть подозрительным даже для самого близорукого наблюдателя. Конечно, никто даже в мыслях не подумает назвать их «темными личностями», потому что темная личность ходит обыкновенно в отрепьях, одна штанина навыпуск, другая – в сапоге, говорит возвышенным слогом, называя себя благородным офицером, пострадавшим за правду, и не выдерживает более двух секунд внимательно устремленного на нее взгляда. Но зато каждый мирный обыватель, который вчера только видел одного из них в самом бедственном положении, а нынче застает его в шикарном ресторане, бросающего без счета совершенно новенькими кредитками, невольно начинает терзаться смутной мыслью: не придется ли ему, ни в чем не повинному обывателю, и даже в самом непродолжительном времени, расплачиваться за этот бесшабашный кутеж?
К числу таких загадочных личностей принадлежал Павел Афанасьевич Круковский, у которого вечером на второй день Нового года собралось все, что было хоть немного похоже на интеллигенцию в городе Р*. Павел Афанасьевич давал такие вечера раза четыре в год, иногда положительно без всякого повода, и нигде с таким удовольствием не веселилась молодежь, нигде за ужином не лилось столько шампанского и нигде после ужина не велась такая сумасшедшая игра, рассказы о которой долгое время ходили потом по всей губернии, как у него. Между тем никто из посещавших вечера Круковского никогда не мог бы дать себе отчета, на какие средства все это делается. Правда, Круковский уверял, что у него в Пензенской губернии есть огромное имение, куда он на будущий год собирается уехать, потому что «нельзя же полагаться на подлеца управляющего», но это доброе намерение так и оставалось всегда невыполненным. Его изредка видали на бирже, озабоченно шепчущимся с «зайцами», видали за карточным столом, где он выигрывал и проигрывал совершенно хладнокровно огромные суммы, но каков был специальный род его занятий, оставалось покрыто непроницаемым мраком неизвестности.
На этот раз съезд у Круковского был громадный: трое городовых работали в поте лица перед его домом, тщетно стараясь восстановить порядок, беспрестанно нарушаемый подъезжающими каретами, «семейными» санками и такими экипажами, не известными нигде – кроме Р-ской губернии, для которых нет названий ни на каком языке.
Из ярко освещенных окон неслись красивые звуки военной музыки, игравшей веселую польку, в окнах виднелись, привлекая внимание толпы, собравшейся на улице, разряженные фигуры гостей.
К крыльцу подъехали низенькие сани Кашперова. Кучер едва сдерживал великолепного черного рысака, который храпел, косясь испуганным глазом на сияющий подъезд, и в нетерпении бил передними ногами.
Сергей Григорьевич быстро выскочил из саней и помог выбраться сначала Зинаиде Павловне, а потом дочери.
Это был первый бал, на который Зинаида Павловна уговорила поехать свою воспитанницу. Лиза ужасно волновалась. При одеванье, всегда сдержанная с прислугой, она закричала на горничную, неловко затягивавшую шнуровку корсета, а когда Сергей Григорьевич, совсем уже одетый, крикнул через дверь, что пора ехать, ею вдруг овладел такой страх, что она в изнеможении опустилась на стул. Всю дорогу девочка ехала молча, тревожно выглядывая из-под окутывавшего ее большого коврового платка. Теперь же, когда, слегка вздрагивая от волнения и не прошедшего еще ощущения холода, она раздевалась в уборной, страх совершенно неожиданно исчез. Блеск и шум, господствовавшие в уборной, смешанный запах разных духов, красивые туалеты дам, подмывающий мотив польки, глухо доносившийся сверху, – одним словом, все эта опьяняющая атмосфера первого бала лихорадочно оживила Лизу, и когда она в сопровождении Зинаиды Павловны входила в залу, то какое-то внутреннее ощущение говорило ей, что она чрезвычайно мила в эту минуту. Действительно, ее заметили и в один миг расхватали у нее все танцы… Усталая, задыхающаяся, со сбившимися волосами, она сияла счастливой улыбкой и едва только присаживалась на место, как новый кавалер увлекал ее в круг танцующих.
Зинаида Павловна с удовольствием следила глазами за своей любимицей. Она знала, что ее, одетую чуть ли не в домашнее простенькое платьице, бледную и некрасивую, никто не станет приглашать (она привыкла к этому еще в институте), и потому скромно заняла один из тех дальних уголков залы, которые самой судьбой предназначены для разного рода безличных существ: маменек в невозможных чепцах и озлобленно зевающих наперсниц. Успех Лизы искренне радовал Зинаиду Павловну, но хотя она и была чужда мелочной завистливости кисейных барышень, тем не менее не могла избавиться от грустного сознания, что ей не место среди этого праздника красоты и молодости, счастливых улыбок, нежных фраз, грациозных, согласных движений.
Какой-то пестрый «молодой человек», по всем признакам мелкий канцелярский чиновник с дряблым, испитым лицом, украшенным нафабренными усами и огненным галстуком, потеряв случайно даму на кадриль, разлетелся впопыхах к Зинаиде Павловне и пригласил ее, но, увидев незнакомое лицо, скучное и некрасивое, в смущении заегозил на месте. Это не укрылось от Зинаиды Павловны, и едва только она отказала акцизнику, он радостно вздохнул и побежал дальше той развязной иноходью, которая до сих пор еще употребляется на вечерах провинциальными «львами» как несомненный признак щегольства и хорошего тона.
– Зинаида Павловна! Наконец-то я нашел вас! – раздался над нею приветливый голос.
Она вся радостно вздрогнула и подняла голову: перед ней стоял, дружелюбно улыбаясь и протягивая руку, Аларин. Он был удивительно хорош в эту минуту; безукоризненного покроя фрак ловко обрисовывал его изящную фигуру, черные волосы живописно вились вокруг его красивого открытого лица.
Зинаида Павловна вспыхнула от неожиданного прилива громадного, еще ни разу не изведанного счастья. Этот красавец, постоянный предмет ее ночных девических грез, о мимолетной встрече с которым она вспоминала как о волшебном, прекрасном сне, опять был подле нее, все такой же обаятельный, с тем же чарующим взглядом своих черных глаз.
Она ничего не могла ответить, кроме взволнованного «здравствуйте», хотя на язык ей и просились горячие, полные восторга слова.
– Я как только увидел Кашперова, – заговорил Аларин, опускаясь рядом с нею на стул, – так сейчас же подумал, что вы здесь, но насилу мог отыскать, так вы далеко запрятались.
– Я не танцую, – ответила Зинаида Павловна, не сводя с него восхищенного взора.
– А наблюдаете только? Действительно, здесь для наблюдения обильная пища. Знаете ли, что меня постоянно смешит на балах? Это – страшная неестественность, которая всеми овладевает. Да и не на балах только, а и на гуляньях, в театрах, в суде, – одним словом, перед лицом публики.
– Отчего же вы думаете, что все чувствуют себя неловко? Посмотрите, вот, например, пара; разве можно предположить, что сегодняшний вечер не самый веселый в их жизни? – И Зинаида Павловна указала глазами на полную даму с лицом пожилой певицы или цыганки из кафешантана, одетую в розовое шелковое платье, вырезанное до последних границ приличия, проходившую под руку с высоким бакенбардистом в очках и заливавшуюся непринужденным хохотом.
– Вот вы и ошиблись, – возразил Аларин, – у этой пары на уме вовсе не смех, а самое пылкое желание вцепиться друг другу в глаза. Дама в розовом платье, видите ли, жена нашего исправника, а ее кавалер – здешний прокурор. А прокурор и исправник поклялись взаимно в такой непримиримой вражде, что если даже опустеет весь мир, то они все-таки не перестанут истреблять друг друга до тех пор, пока от обоих не останутся только кончики хвостов. И выходит, что этот заразительный смех – те же крокодиловы слезы!
– Ну, это, положим, частный случай; но поглядите кругом, разве вы мало видите веселых лиц?
– Уверяю вас, настоящего веселья нет ни капли, все это страшно фальшиво и натянуто. Человек улыбается и заботится о том, чтобы его телячья улыбка произвела впечатление, разговаривает и старается делать грациозные жесты. Посмотрите, вот идут два офицера, – ведь они как будто горячо спорят между собою о чем-то, а, в сущности, оба городят страшный вздор и изо всех сил стараются привлечь на себя общее внимание. Ну разве бывают у людей, собравшихся повеселиться, такие выпяченные груди и такая неправдоподобная походка? Так ведь только ходят короли и военачальники в операх…
Зинаида Павловна поглядела на офицеров и не могла не улыбнуться удачному сравнению Аларина.
– Однако же вы беспощадны, Александр Егорович. Неужели вы надо всеми так зло издеваетесь? – спросила она.
– Надо всеми, потому что это – лучшее средство не быть никогда самому осмеянным.
– Но для чего же вы бываете на балах, если они в вас ничего, кроме насмешки, не возбуждают?
– А вот именно для того, чтобы посмеяться; так или иначе, а это похвальное желание свойственно каждому из нас, грешных. Но, кроме того, меня тянет еще вон та комнатка, в которой можно испытать самые сильные ощущения в мире, – и Аларин показал рукой на растворенные двери кабинета, где среди облаков дыма виднелись солидные фигуры почтенных представителей дворянства, чинно сидящих за зелеными столиками.
– Неужели вы играете в карты? Ведь это, должно быть, ужасно скучно?
– Я играю только в азартные игры.
– Какие это азартные? Объясните, пожалуйста, я не понимаю.
– Самый простой способ наживы: я беру в руку сторублевую кредитку, подхожу к вам и говорю: «В какой руке?» Вы говорите: «В правой». Угадали – сторублевка ваша, не угадали – позвольте мне столько же. Это, собственно говоря, идея, но, конечно, умные люди додумались до множества вариантов ее и даже до целых теорий о счастье!
Зинаида Павловна широко раскрыла глаза.
– Но ведь это возмутительно, – произнесла она, пораженная его объяснением, – это… извините меня, пожалуйста, но ведь это похоже на грабеж… А если я увлекусь, проиграю больше, чем у меня есть?
Аларин заметил ужас Зинаиды Павловны, и им овладело желание порисоваться.
– Разные бывают способы, – ответил он, щеголяя напускным хладнокровием, – некоторые предпочитают в этих случаях спасаться бегством, другие – пускают себе в лоб пулю… Да вообще сильные ощущения даром не даются, – человек во время игры становится самым опасным из всех диких зверей.
– Господи, неужели и вы?..
– Зинаида Павловна, не судите меня так строго: вам жизнь – новинка, а между тем она так мелка, так ничтожна, так бедна чем-нибудь шевелящим воображение… А в игре – страсть!.. Каждый нерв живет… чувствуешь биение каждой жилы… И вовсе не деньги влекут… а счастье, счастье, одно только милое, нелепое счастье. Ведь я – добрый человек, я готов со всяким нищим поделиться, но вы не поймете, что это за необъяснимое блаженство пустить в один вечер по миру два или три почтенных семейства.
При последних словах Зинаида Павловна побледнела.
– Не говорите так, Александр Егорович, прошу вас, – сказала она с грустным упреком, – вы не можете быть таким… вы клевещете на себя!..
Аларин поглядел на нее с изумлением: от него не ускользнули ни ее бледность, ни то глубокое чувство, с которым она произнесла эти слова.
– Да вы не подумайте, Зинаида Павловна, – воскликнул он веселым, добродушным голосом, – что я какой-нибудь драматический злодей… я просто, как художник, увлекся картиной, и больше ничего. Пойдемте танцевать вальс!
И он встал, приглашая ее красивым поклоном. Аларин прекрасно вальсировал. Зинаида Павловна совершенно отдалась в его волю, и они быстро закружились под плавные, упоительные звуки. Ей казалось, что горевшие по стенам бра сливаются в один громадный огненный круг… голова кружилась… глаза ничего не различали. Она чувствовала на своих волосах горячее, прерывистое дыхание Аларина, чувствовала его сильную руку, плотно лежащую на ее талии. Какие-то волны блаженства подняли и несли ее все выше и выше… Это было какое-то чудное, сладкое забытье, – состояние, подобного которому она еще никогда не испытывала.
– Мерси! – едва могла, наконец, проговорить Зинаида Павловна, еле дыша от утомления. – Пожалуйста, уведите меня куда-нибудь из залы, здесь ужасно душно.
Они пошли по направлению к дверям, но вдруг Зинаида Павловна, как будто вследствие внезапного толчка, который испытывает человек, если ему упорно глядят в затылок, быстро обернулась назад.
Из глубокой амбразуры окна на нее жадно и пристально смотрели два сверкающих глаза. Девушка вся сжалась от ощущения инстинктивного страха и, прильнув к локтю своего кавалера, торопливо прошептала:
– Ради бога, скорее… скорее…
Они дошли до маленькой, никем не занятой гостиной. В этой комнате, заставленной роскошной мягкой мебелью и залитой розовым полусветом, струившимся из висячего фонарика, было тихо и прохладно.
– Чего вы так испугались, Зинаида Павловна? – спросил Аларин, когда они уселись на диван. – Я начинаю предполагать здесь что-то таинственное. Может быть, вам понадобится, как в старинных сказках, храбрый рыцарь, который избавил бы свою даму от каких-нибудь магических чар?
Он видел замешательство Зинаиды Павловны и хотел разогнать его веселой шуткой.
– Благодарю вас, – ответила она, все еще не оправившись от овладевшего ею волнения, – мне просто стало очень нехорошо, потому что я отвыкла от вальса… – И вдруг у нее совершенно неожиданно сорвалось с языка: – Кроме того… эти ужасные глаза…
«Ага! – подумал Аларин, – стало быть, действительно что-то есть», – и он спросил серьезно и значительно:
– Помните, Зинаида Павловна, наш уговор?
– Какой уговор?
Она отлично знала, что напоминает Аларин, но ей казалось, что если бы она ответила прямо, то ее тон выдал бы то радостное волнение, которое охватило ее при этом вопросе.
– Когда мы прощались после нашей первой встречи, вы обещали обратиться ко мне в затруднительных обстоятельствах. Может быть, это время уже настало?
– Не… не знаю, – тихо ответила она, опустив низко голову.
– Значит, я не ошибся, Зинаида Павловна! Скажите мне правду: ответите ли вы на один мой вопрос?
Она уже почувствовала, что он понял ее, знала даже, в чем будет заключаться его вопрос.
«Если верно, то „да“», – подумала она про себя, не сознавая, впрочем, ясно, в чем будет заключаться это «да».
– Хорошо, я отвечу вам, – сказала она, с замиранием сердца ожидая вопроса. Аларин произнес только одно слово:
– Кашперов?
«Да!» – пронеслось быстрее молнии в голове Зинаиды Павловны, но она не сказала ни одного слова, а только еще ниже опустила свое лицо, загоревшееся ярким румянцем. Ей казалось, что Аларин читает в сокровенных тайниках ее души. Прошло несколько минут в молчании.
– Он преследует вас? – спросил Аларин, стараясь произнести эти слова по возможности мягче и деликатнее. – Давно?
Зинаида Павловна не могла больше сдерживаться и, нервно сжав руки, так что ее тонкие пальцы хрустнули, горячо заговорила:
– Я не знаю, что ему надо от меня! С того несчастного вечера, когда я играла на рояле и пела что-то из «Фауста», он не дает мне покоя. Он ничего не говорит, да и не может сказать, потому что я избегаю его… но он смотрит на меня такими ужасными глазами, что у меня теперь постоянно предчувствие чего-то очень нехорошего… Я боюсь этого человека, – добавила она дрогнувшим голосом.
– Я понимаю вас, – задумчиво сказал Аларин. – Но вы, должно быть, с самой первой встречи отнеслись к нему сухо и враждебно?
– Да.
– Это ничего доброго не обещает. Кашперов один из тех людей, про которых Гейне сказал: «Сударыня, если вы хотите заслужить мою любовь, то должны обращаться со мной, как с канальей!» Их тянет к себе только невозможное, а препятствия еще сильнее раздражают. Мой искренний совет вам: ехать как можно скорее домой. Кашперов – такая сила, с которой считаться вам, слабой и нежной девушке, – трудно. Я знаю, что ни с вашей, ни с его стороны никакие компромиссы немыслимы, а чем может все это кончиться – трудно даже предположить… Уезжайте, ради бога, скорее.
Аларин очень жалел эту девушку, которая с первой же встречи завоевала его симпатию своею беззащитностью.
– Разве я об этом не думала раньше? – возразила Зинаида Павловна, – но мне все как-то жаль было оставить Лизу, – девочка очень полюбила меня. Да и маму надо было бы предупредить, а то она бог знает что подумает…
– Позвольте вам предложить одну услугу, Зинаида Павловна?
– Что такое?
– Если вам будет уж очень тяжело, черкните мне словечка два. Адрес самый простой: пристань, контора правления, такому-то… Хорошо? Я около самой пристани и живу.
Ласковый тон его голоса действовал на Зинаиду Павловну успокоительно; в нем было так много почти родственного участия.
– Нет, в самом деле, я об этом прошу вас серьезно, – настаивал Аларин. – Если нужно будет, я попрошу своих хороших знакомых приютить вас недельки на две… И, боясь, чтобы она не нашла его последние слова обидными, он добавил:
– Они рады будут для меня сделать что-нибудь приятное. Так обещаете?
– Обещаю.
– Ну, вот и отлично, большое вам спасибо за доверие… Дайте мне в залог вашу руку…
– Pardon. Я, кажется, несколько помешал вам? – раздался в дверях насмешливый голос.
Они вздрогнули и, точно пойманные в чем-нибудь дурном, быстро отдернули свои руки: на пороге гостиной, заложив руки в карманы и презрительно щуря глаза, стоял Кашперов.
Бывают иногда такие внезапно обостряющиеся положения, когда люди каким-то внутренним чутьем постигают не только слова или выражение лиц друг друга, но и самые темные, сокровенные мысли… Таким образом и у этих трех людей мгновенно выяснились и определились взаимные отношения. Кашперов по устремленным на него взглядам тотчас же догадался, что речь шла о нем. Он даже знал, что именно говорилось: от него не укрылось ни участливое, растроганное лицо Аларина, ни протянутая рука Зинаиды Павловны.
Аларин, возмущенный всем только что слышанным про этого человека, поднялся ему навстречу с вызывающим взглядом, ища и не находя дерзкого ответа на насмешливо-небрежное извинение.
– Я отыскал вас, Зинаида Павловна, – продолжал Кашперов тем же тоном, – чтобы узнать, когда вам будет угодно ехать домой. Я уже отвез Лизу; у нее болела голова.
– Напрасно вы мне не сказали этого раньше, я тоже поехала бы с вами, – сухо ответила Зинаида Павловна, глядя в сторону.
– Извините, пожалуйста, я не хотел мешать вашей увлекательной беседе с господином Аларьевым, – умышленно переврал Кашперов фамилию Александра Егоровича.
Аларин хотел бросить ему гневное замечание, но самоуверенная, спокойно-дерзкая манера Кашперова совершенно парализовала его обычную смелость и находчивость.
– Потрудитесь отвезти меня, – сказала Зинаида Павловна и пошла из гостиной, сопровождаемая Кашперовым, который предварительно отвесил Аларину насмешливый поклон.
Но у дверей она вдруг остановилась, как будто что-то припомнив, и, быстро повернувшись, подошла к Александру Егоровичу.
– Прощайте, – произнесла она быстрым шепотом. – Пожалуйста, исполните мою просьбу, не играйте сегодня. Это для меня очень, очень важно… – И вдруг, взглянув ему прямо в глаза, с порывом внезапной страсти она прибавила: – Ради бога, родной мой, у меня сердце за вас неспокойно…
Аларин был поражен ее словами. «Что с ней сделалось? Неужели это любовь? – подумал он, следя глазами за удаляющейся девушкой. – Вот чего я никак не ожидал!» И, пожав плечами, Александр Егорович медленными шагами направился в карточную комнату.
VI
Едва только успел Кашперов усесться в сани и застегнуть полость, как застоявшийся и промерзший на холоде рысак, которого уже не в силах был сдерживать бородатый кучер, рванулся вперед всей своей могучей грудью, и целая туча искристой морозной пыли в одно мгновение обдала лицо Зинаиды Павловны.
– Гони! – крикнул Кашперов, когда сани выехали на широкую безлюдную улицу. Кучер быстро нагнулся вперед, пустил вожжи, гикнул, и рысак понесся, как бешеный, вскидывая широким крупом и покачивая высоко поднятой головой. Это был тот самый знаменитый Барс, который взял два первых приза на московских бегах. Он ни одного движения не тратил даром; со страшной силой выбрасывая вперед саженными взмахами свои длинные, в белых чулочках, ноги, жеребец точно расстилался по земле и нес, как игрушку, легкие сани. Комья грязного снега далеко летели из-под его копыт, с дробным стуком разбиваясь о передок. Ветер свистал в уши и захватывал дыхание. Пустынные улицы тонули в темноте зимней ночи и казались какими-то совсем незнакомыми, широкими и бесконечными. В этой сумасшедшей езде среди тишины и мрака было что-то и жуткое, и веселое, и таинственное.
– Куда вы везете меня, Сергей Григорьевич?.. Я просила вас отвезти меня домой!
– Теперь это вам уже решительно все равно, – ответил со смехом Кашперов, – мне нужно было украсть у вас несколько минут… Я вас не выпущу.
В тоне его голоса слышалось злое торжество успеха.
– Сергей Григорьевич, – воскликнула Зинаида Павловна, – я, по крайней мере, считала вас до сих пор за честного человека… Если вы что-нибудь позволите себе, я выскочу из саней!
– Нет, не выскочите, – возразил Кашперов и вдруг крепко охватил ее талию. – Не выскочите! Вы – в моей власти! Я давно ждал этой минуты… Я знаю, вы завтра же оставите мой дом, но сегодня вы – моя…
Он говорил неразборчиво, точно пьяный, задыхаясь от страшного волнения.
– Пустите меня, слышите, сейчас же пустите! – крикнула Зинаида Павловна, тщетно стараясь освободиться из железных рук своего спутника. – Это бесчеловечно, пустите меня, говорю вам!.. Я не хочу!..
– Не пу-щу! – резко отчеканил он сквозь стиснутые зубы. – Вы не понимаете, что значит разбудить такого зверя, которого вы заставили проснуться во мне. Нет? О! Я не похож на того сладкого студентика, с которым вы сейчас так нежно ворковали. Если я поклялся, что вы будете моей, то отдам жизнь, пойду на каторгу, уничтожу всякого, кто станет мне на дороге, а вы все-таки будете моею… Да, моей! Слышите ли: моей любовницей, моей вещью…
И вдруг, сразу переменив этот страстный тон, он заговорил медленно и тяжело, как человек, истомленный долгим страданием:
– Не верьте, Зинаида Павловна, тому, что я сейчас говорил. Это – страсть… Здесь нет ни одного слова, которое бы принадлежало мне! Пожалейте же меня! Ведь вы – женщина, у вас сердце доброе. Отчего же вы надо мной-то не хотите сжалиться? Если бы вы знали, как я люблю вас! Ах, да где же вам понять это! Это – не любовь даже, это – ад, это – такая дьявольская мука, о которой вы, чистая, невинная, даже представления не можете иметь! Так слушайте, я вам все расскажу… Вы пели тогда… Поймите, этот мотив не оставляет меня… точно кто выжег его огнем в моей памяти… И ночью, и днем, и за работой мне мерещится ваш голос… Если бы вы не избегали меня, если бы хотя даже просто оставались ко мне совершенно равнодушны, ничего и не случилось бы! Но я увидел одно только отвращение. Да, я был противен вам. И началось… И чем больше вы боитесь меня, чем гаже я для вас становлюсь, тем…
Кашперов, говоря эти странные слова, все ближе и ближе привлекал к себе слабое тело Зинаиды Павловны и вдруг, прикоснувшись пылающими губами к ее холодной щеке, совершенно обезумел. Он свободной левой рукой отогнул назад голову Зинаиды Павловны и впился в ее губы страстным, продолжительным поцелуем. Она пробовала сопротивляться, кричать, но мало-помалу воля этого человека совершенно обессилила ее… Ей стало душно… кровь прилила к внезапно закружившейся голове… Пред глазами со страшной быстротой завертелись громадные огненные круги, и ею овладело какое-то полное фантастических грез забытье, похожее на гипнотическое состояние или на бред морфиниста.
«Что со мной? Где я? – проносились в ее голове обрывки мыслей. – Зачем он держит меня так близко? Ах да! Это – вальс с Алариным. Какие у него чудные глаза… глубокие-глубокие… можно в них глядеть целый день и не добраться до дна… Боже мой… так близко… так жутко… Милый, еще, еще!..»
И она, вздрагивая под жгучими поцелуями Кашперова, покорно опустила ему на грудь свою голову.
– Дорогая моя, деточка милая, – шептал еле слышно Сергей Григорьевич, трясясь, точно в ознобе, – не отталкивай меня!..
Кашперов взглянул в лицо Зинаиды Павловны; ее глаза были полузакрыты, губы, на которых блуждала томная улыбка, шептали непонятные слова. Одна мысль, точно молния, мелькнула в голове Кашперова.
– Слушайте! – сказал он резким, повелительным тоном, грубо освобождая девушку из своих объятий. – Вы думаете об этом инженере?
Зинаида Павловна мгновенно очнулась и произнесла спокойно и твердо:
– Да, я думала о нем.
– Ступай домой, – крикнул Сергей Григорьевич кучеру, – живо!
Всю дорогу Кашперов и Зинаида Павловна не сказали ни одного слова, и, как только кучер сдержал перед подъездом взмыленного Барса, она поспешно вышла из саней, не воспользовавшись протянутой рукой Сергея Григорьевича. Она быстро бежала по лестнице, торопясь добраться до своей комнаты, но он догнал ее в полутемной гостиной и остановил, крепко схватив за руку. Он был страшен в эту минуту, с глазами, сверкающими бешенством, и с багровыми пятнами на щеках.
– Я вас в последний раз спрашиваю, – проговорил он, с усилием выпуская одно слово за другим, – будете ли вы моей добровольно? Не делайте глупостей… Вы – нищая, вы еще не знаете цены деньгам, я осыплю вас ими… Я вас повезу за границу, и вы со своим голосом приобретете славу!.. Я отдам вам все… все, что у меня есть… Не доводите меня до крайности… В этой комнате вашего крика ни один дьявол не услышит.
– Вы – подлец! – едва могла произнести Зинаида Павловна, чувствуя уже приближение обморока. – Вы… мне… противны!..
– А-а! Противен?
И с диким воплем, ничего уже не видя, не слыша и не сознавая, Кашперов рванулся к ней, обвил ее своими могучими руками и вдруг остановился точно вкопанный: в дверях, высоко подняв над головой горящую свечу, стояла Лиза, с ужасом глядя на происходящую перед ней картину.
Кашперов скрипнул зубами и выбежал из гостиной.
– Зиночка, что с вами? – вскрикнула Лиза, подбегая к своей гувернантке.
Но Зинаида Павловна уже ничего не слыхала. Все помутилось перед ее глазами, быстро пронеслось в какую-то бездонную пропасть, и она упала, крепко ударившись головой о паркет.
В то самое время, когда происходила эта безобразная сцена, к дому Круковского подъезжал, страшно волнуясь и ежеминутно подгоняя извозчика, Александр Егорович Аларин. Ему все казалось, что лошадь бежит слишком медленно, и он, чтобы обмануть свое нетерпение, изо всех сил старался помогать ей, упираясь руками в облучок. Как только извозчик остановился перед подъездом, Аларин быстро соскочил, сунув ему в руку первую попавшуюся ассигнацию. «Ванька» долго в немом изумлении следил за своим седоком, взбегающим по лестнице, и вдруг, как ошалелый, принялся нахлестывать клячонку.
Как только уехала с вечера Зинаида Павловна, Аларин, несмотря на всю свою выдержку, которой он так хвастался, проиграл все наличные деньги. Но ему не хотелось отходить от стола; он верил в повороты счастья и продолжал играть уже на запись до тех пор, пока банкомет не заметил с неудовольствием:
– Пришлите, за вами ровно тысяча!
Александр Егорович, краснея, стал просить подождать полчаса. У него не было больше ни копейки своих денег, и он уже мысленно решил заплатить эту тысячу из тех казенных денег, которые лежали в его шкатулке на квартире.
«Займу завтра у жида, пополню», – думал он, упрашивая банкомета об отсрочке.
Аларин, как сумасшедший, прилетел домой, вынул из-под кровати большую несгораемую шкатулку и стал отпирать ее. Но рука дрожала, и ключик никак не хотел попасть в замочную щелочку. Наконец Аларину удалось сделать это; он ощупью отыскал пачку с казенными деньгами и развернул ее. Надо было зажечь огонь, потому что в комнате со спущенными шторами была непроницаемая темнота, а спички, как нарочно, не находились.
«А, не один ли черт!» – решил, рассердясь, Аларин и, сунув всю толстую пачку в боковой карман сюртука, поспешно отправился в дом Круковского.
Александр Егорович вошел в игральную комнату и со странным чувством окинул ее глазами. Столы, исчерченные мелом, запах табачного дыма – все это неприятно поразило его после того, как он успел подышать свежим воздухом.
Вокруг одного из столов сбились в кучу, следя в жадном молчании за руками банкомета, десять или двенадцать игроков с бледными, измятыми лицами, которые казались совсем мертвыми при слабом утреннем освещении.
Метал сам Круковский, невысокий, худой, но крепкий, как сталь, и жилистый мужчина, совершенно неопределенного возраста. Он был плешив, и все его лицо было изборождено глубокими морщинами, но ясные голубые глаза навыкате глядели смело и твердо. Он мог проводить без сна, в самых страшных попойках и бесчинствах, несколько ночей напролет и ничуть не изменялся в лице: природа отпустила ему громадные силы.
Увидя подошедшего Аларина, Круковский, не прерывая талии, быстро вскинул на него взор и кивнул головой. Он уже по лицу знал, что Александр Егорович привез деньги, и даже больше, – что он будет отыгрываться.
Действительно, Алариным внезапно овладело страстное желание отыграться.
«Не может же быть, чтобы мне теперь не повезло, – соображал он, – счастье идет полосами… Я должен вернуть свое… и баста!»
И ему живо представилось, какое будет счастье, если он избавится от тяжелой необходимости платить казенными деньгами. «Господи, только бы тысячу воротить, больше и играть не буду, – проносилось в его голове. – Ах, какое было бы наслаждение уехать из этого вертепа и лечь спать со спокойной совестью!»
Аларин долго глядел на игру, бледнея и вздрагивая от волнения: он уже знал, что будет играть, но старался продолжить то жгучее ощущение, которое испытывает страстный игрок, имеющий возможность поставить крупный куш и медлящий сделать это.
«Начну с тридцати рублей, – думал Александр Егорович, – конечно, возьму, затем угол и десять мазу, а потом мирандолями и мирандолями… две карты маленьких, две больших…»
Круковский стал тасовать карты для новой талии и искоса кинул взгляд на Аларина.
– Сколько в банке? – спросил Александр Егорович таким внезапно охрипшим голосом, что все игроки обернулись к нему.
Круковский пристально посмотрел ему в глаза и, переставая тасовать, сказал:
– Послушайте, Аларин, я не советую вам играть.
– Как не советуете? Что вам до меня за дело? – возразил Александр Егорович резким тоном, но невольно опуская взор.
– А то, что есть известная примета: кто отыгрывается или рискует на казенные, – всегда проигрывает.
Он произнес это внушительно и отчетливо, продолжая так же внимательно глядеть в глаза Аларину. Круковский вовсе не хотел, чтобы Александр Егорович отказался от игры, но ему нужно было, чтобы он публично, при свидетелях, признал принесенные деньги своими.
Расчет был совершенно верен, потому что Аларин густо покраснел и сказал с деланной иронией:
– Я думаю, вы не сомневаетесь, что деньги принадлежат мне?
– Спаси господи! – хладнокровно отпарировал Круковский, уже окончательно убедившись, что Аларин взял казенные деньги. – Я просто вижу, что вы хотите отыграться, ну, и сообщаю вам мудрое житейское правило: не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался. А впрочем, как угодно-с… В банке около четырех тысяч.
«Красные – сто, черные – двести», – подумал Александр Егорович и снял с колоды несколько карт. Вышла красная…
И вдруг среди мертвой тишины глухо, но явственно раздался его голос: «Ва-банк!»
– и он вытащил из колоды карту, стараясь сам не видеть ее.
– Со входящими? – спросил совершенно хладнокровно Круковский.
– Ва-банк! – озлобленно повторил Аларин. Банкомет перевернул колоду; Александр Егорович посмотрел на свою карту: оказалась дама бубен, и в его уме почему-то быстро мелькнул и скрылся образ Зинаиды Павловны.
Круковский отчетливо выкидывал каждую карту, пристукивая по столу костяшкой среднего пальца, и с каждым ударом сердце Аларина крепко и болезненно билось об грудную клетку, а в виски, точно два громадных молота, ударили попеременно: «бита, дана, бита, дана».
– Бита! – шумно вырвалось у всех зрителей.
– А-а! – медленно протянул Аларин, и им сразу овладело безразличное спокойствие…
VII
Александр Егорович проснулся в два часа дня и долго не мог сообразить: утро теперь или вечер. Он лежал на кровати во всей той одежде, которая была на нем вчера; голова, точно налитая ртутью, страшно болела, глаза, с красными от утомления веками, мигали и слезились от света, во рту ощущался какой-то неприятный вкус… Сердце Аларина тревожно ныло ожиданием большого несчастья, но он никак не мог припомнить, что такое с ним вчера произошло, и усиленно тер переносицу.
Случайно его взгляд упал на шкатулку: она, как была ночью вытащена из-под кровати, так и лежала, раскрытая, на середине комнаты. Возле валялись лист газетной бумаги и конец английского шпагата, которым были обмотаны деньги.
Аларин в один миг, точно кто толкнул его, с поразительною ясностью припомнил до мельчайших подробностей картину своей последней ставки: грязная комната, совершенно залитая ослепительно-яркими лучами холодного зимнего солнца, десяток желтых лиц, нагнувшихся над столом с хищно сверкающими глазами, проклятая пятерка червей с надломленным углом и спокойный, ненавистный голос, медленно произносящий: «Больше не мечу… Не угодно ли, господа, кому-нибудь занять мое место?» Аларин вспомнил еще, как он тотчас же после этого бессмысленно рассмеялся и начал хвастливо уверять, что хотя он и проиграл уже одиннадцать тысяч, но что ему «наплевать» и что сильные ощущения даром не даются… Но этот деревянный смех и эти нелепые слова принадлежали не ему, не Аларину, а как будто совершенно чужому, незнакомому человеку; настоящий же Аларин слушал с трепетом самого себя, между тем как истерические спазмы душили его горло. Игроки, толпившиеся вокруг стола, глядели на его судорожную развязность, близкую к умопомешательству, с тем холодным и вполне безучастным любопытством, с которым некогда смотрели римские гладиаторы на смерть своих товарищей.
Потом откуда-то появилось шампанское, кого-то поздравляли и кричали «ура». Каждый из присутствующих с жадностью пил, точно желая забыться от долгого созерцания целых ворохов кредиток, переходивших в одно мгновение из рук в руки.
Пил и Аларин… Он теперь, точно сквозь сон, вспоминал, как с пьяными слезами он лез целовать Круковского и божился, больно ударяя себя в грудь кулаком, что проиграл казенные деньги, а Круковский с неожиданно вспыхнувшим взором резко оттолкнул его и сказал: «Ты бы, братец, домой ехал спать, а не болтал пустяков!» Затем все впечатления слились, перед глазами заколыхался какой-то синий туман, и больше он ничего не помнил.
Пока все эти бессвязные сцены проносились перед глазами Аларина, он сидел в оцепенении на своей кровати и, не отрываясь, глядел в угол. Какая-то громадная тяжесть обрушилась на него, завладела всем его существом и сковала ледяным холодом ужаса все его нервы, все умственные способности… Это было состояние, похожее на кошмар, когда человек чувствует, что ему что-то надо сделать, бежать или крикнуть, но язык онемел, ноги не могут шевелиться, а грозящая опасность надвигается все ближе и ближе.
– Что же это такое? – растерянно шептал Аларин, вперяя в какую-то далекую точку свой неподвижный, точно стеклянный взгляд. – Неужели все, все пропало? И честь, и молодость, и свобода!.. Неужели мне, Александру Егоровичу Аларину, такому славному и красивому молодому человеку, на которого всегда с удовольствием заглядывались женщины, – неужели мне теперь всякий писарь, всякий уличный бродяга может сказать в глаза: «Ты – вор! Да, ты – вор, потому что украл казенные деньги»? Да нет же, нет! Это – неправда! Я никогда чужой копейкой не воспользовался; я, когда еще мальчишкой был, куска сахару не брал без спросу… я – не вор! Вор крадет из нужды или из нежелания работать, вор крадет каждый день, и если его выбрасывают из общества, то это так и нужно, потому что иначе никто спокойно не мог бы спать. Разве я похож на вора? На меня только вчера нашло проклятое затмение, но я остался тот же, мне ничто не мешает жить со всеми и приносить свою долю пользы… Не смейте отворачиваться от меня! О господи, помоги же мне, помоги! Устрой так, чтобы все это был сон, ужасный… ужасный сон! Я сейчас проснусь… все окажется по-прежнему… Ну вот, я просыпаюсь…
И, жадно ухватившись за последнюю мысль, он, как безумный, кинулся к шкатулке, вывернул на пол все заключавшиеся в ней бумаги и письма и принялся перерывать их дрожащими руками. Ему на глаза попалась прежде всего довольно толстая, перевязанная розовой атласной лентой пачка, заключавшая в себе целую любовную эпопею в письмах, начиная от официально-любезного приглашения к обеду и кончая теми лаконически страстными записками, поспешно набросанными неочиненным карандашом на первом попавшемся лоскутке, содержание которых не решится прочесть вслух самый испорченный человек. Все эти письма со следами слез и чернильных брызгов, пропитанные тонким запахом духов и написанные безобразнейшим почерком, принадлежали перу одной хорошенькой вдовы, очень эксцентричной и непостоянной особы, два года до безумия любившей Александра Егоровича, чтобы потом сменить его на капельмейстера гвардейского полка, которого, в свою очередь, заменил красавец бас из архиерейских певчих. Аларин часто, с тайной и сладкой грустью вспоминая прошедшее, любил перечитывать эти послания, но теперь они вдруг показались ему такими ничтожными до пошлости, что, внезапно обозлившись, он с силой швырнул всю пачку под кровать. Он заглядывал в такие уголки шкатулки, где не только не могли уместиться одиннадцать тысяч рублей, но было трудно спрятать простой почтовый конверт. Холодный пот выступил уже давно на его лбу, ноги затекли и сильно болели, а он все стоял на коленях перед шкатулкой, в десятый раз переворачивая высыпанные вещи. Его действия были похожи на движения утопающего, который судорожно, но тщетно ищет руками какой-нибудь твердой точки.
Дверь тихо скрипнула и отворилась, и из нее показалась голова рассыльного с пристани.
– Чего тебе нужно? – закричал Аларин со злостью в голосе и в ту же минуту покраснел, как уличенный преступник: ему казалось, что рассыльному уже известно все и он понимает, чем занимался Аларин, стоя посреди комнаты на коленях.
– Письмо вашему благородию, – отвечал рассыльный, подавая Александру Егоровичу большой форменный конверт и в недоумении приготовляясь на всякий случай к быстрой ретираде, – приказано отдать в собственные руки.
Аларин быстро оборвал края конверта. Он уже чувствовал смутно, что в этом письме кроется последний, самый страшный удар.
«Ревизионная комиссия правления просит вас пожаловать в шесть часов пополудни с имеющимися у вас на руках казенными суммами и шнуровыми книгами для производства гласной поверки».
Аларин читал с трудом, потому что буквы сливались в мутные полосы и строчки прыгали перед его глазами. Он не понял ни одной из этих казенных фраз, не мог даже сообразить, какую связь имеют они с происшествиями вчерашнего дня, но из глубины его души какой-то внутренний голос внятно и уверенно произнес «баста», и письмо вывалилось из рук.
Рассыльный сначала хотел было спросить, можно ли ему идти, но, увидев, что впечатление произведено письмом довольно сильное, счел более благоразумным и уместным удалиться после этого опроса.
Аларин не мог стоять, потому что его ноги дрожали и подгибались; он через силу доплелся до кровати и лег. Он знал, что ему надо немедленно собрать разбегающиеся мысли, уяснить, обдумать свое положение и предпринять что-нибудь. Но рассудок совсем не повиновался; в голове царил невообразимый хаос; все, что думалось, было чрезвычайно незначительно и совершенно не относилось к делу. Аларин лежал, повернувшись лицом к стене, и машинально обводил пальцем узор, нарисованный на обоях, а перед его глазами, как это бывает после долгой игры, одна за другою ярко обрисовывались различные карты: короли грозно хмурили брови, дамы с изумленными лицами протягивали желтые цветки… Аларин даже позабыл о своем тяжелом положении, ему начало казаться, что это безразличное состояние покоя и полудремоты, лишенное всяких мыслей, продолжится навсегда. Но вскоре холод, наполнявший комнату, отрезвил его, и он мало-помалу возвратился к действительности. Мысли опять стали вертеться около необходимости принять какое-нибудь решение.
«Взять взаймы? Да ведь ни один дурак не поверит; ведь это не десять рублей, а одиннадцать тысяч! Всякий в глаза насмеется, да еще за сумасшедшего сочтет. Украсть? Ограбить кого-нибудь? Он, пожалуй, и таким средством не побрезговал бы, но как же это делается?
Надо идти куда-то, подслушивать, подсматривать, подстерегать, но куда же идти?» – Нет, нет, все равно, надо бежать, разыскивать, хотя, может быть, и ничего не выйдет! – воскликнул Аларин, вдруг охватив мысленно всю безвыходность своего положения, и поспешно начал одеваться, не попадая в рукава пальто и страшно злясь на это.
VIII
Когда Александр Егорович вышел из дома, короткий зимний день уже потухал и на улице кое-где зажигали фонари.
Первая мысль, за которую уцепился Аларин, было пойти к Гойдбергу, известному во всем городе ростовщику, снабжавшему его деньгами в некоторые критические моменты жизни. Хотя Гойдберг и брал невозможные проценты, а Аларин был весьма неаккуратен, но и кредитор и должник никогда не имели основания жаловаться друг на друга: первый во всякое время дня и ночи готов был предложить свои услуги, а второй беспрекословно соглашался на самые трудновыполнимые условия. Александр Егорович напрасно старался отыскать в карманах какой-нибудь завалявшийся двугривенный. Ему пришлось идти пешком на самый конец города, и когда он подходил к невзрачной хатенке, в которой обитал Гойдберг, то насилу держался на ногах от усталости. Прежде чем войти, он заглянул в окно. Самуил Исаакович Гойдберг, красивый, типичный еврей с умными чертами матового лица, сидел, нагнувшись над письменным столом, и внимательно заносил в какую-то очень толстую книгу длинные столбцы цифр.
Аларин на мгновение закрыл глаза, им овладела внезапная слабость духа, сердце перестало биться. Но это продолжалось очень короткое время. «Э! Не все ли равно, – подумал он, с отчаянием махнув рукой, – хуже не будет!» – и стукнул два раза в стекло. Гойдберг вздрогнул и устремил беспокойный взгляд по направлению окошка, заслоняясь рукой от света. Он долго смотрел таким образом, стараясь проникнуть в темноту ночи, и только когда Аларин повторил стук, нерешительно поднялся с места и пошел отворять дверь.
Александр Егорович вошел в комнату, стараясь казаться спокойным и самоуверенным, но от опытного взгляда ростовщика не укрылись ни бледность его лица, ни нервное движение нижней челюсти, ни тревожно бегающие по сторонам глаза. Умный еврей тотчас же понял, что этого всегда беззаботного, веселого красавца скрутили самые затруднительные обстоятельства…
Они уселись к столу и несколько минут в молчании не отрывали взоров друг от друга.
Гойдберг в своей специальности был тонким психологом и довел до виртуозности искусство незаметным, но подавляющим образом влиять на нуждающегося человека. Он никогда не начинал первый щекотливого разговора о деньгах, наблюдая лишь, как его клиент мнется, конфузится, еле нанизывает одно на другое слова и междометия и, наконец, радостно соглашается на все предложения, чтобы только покончить с этим тяжелым состоянием неловкости.
– Видите ли, почтеннейший Самуил Исаакович, – робко начал Аларин, не выдержавший пристального взгляда и уже окончательно смущенный этим, – мне нужно… видите ли… не можете ли вы одолжить мне некоторую… небольшую сумму денег?..
Ростовщик уже по одному тону, которым было сказано «небольшую», догадался, что Аларину нужна громадная сумма, но лицо его не выдало этого ни одним мускулом.
– Ну, зачем же не одолжить? – ответил он подобострастно. – Я вам с удовольствием могу дать сколько угодно!.. Вы такой аккуратный и никогда не торгуетесь. Дай бог, чтобы со всеми было так приятно вести дела, как с вами. Сколько же вам надо?
И он, вопросительно глядя на Аларина, уже отпирал письменный стол, как будто приготовляясь достать вексельную бумагу…
Алариным опять овладел припадок трусости; ему почему-то показалось невозможным назвать целиком такую большую сумму, как одиннадцать тысяч рублей.
– Мне… мне… девять тысяч, – солгал он, потупясь и одновременно с этим поняв, как нелепа была мысль обратиться к Гойдбергу.
– Гм… девять тысяч рублей? – протянул еврей, который сам не ожидал ничего подобного. – Да у меня никогда и денег-то таких в руках не бывало! – прибавил он, быстро захлопывая ящик и запирая его на ключ. – Нет, это невозможно, поищите где-нибудь в другом месте.
После такого категорического отказа Аларину сразу стало легче, и он почувствовал себя развязнее.
– Слушайте, Гойдберг, вы должны дать мне… понимаете – должны. Иначе… черт знает, что будет иначе… Я вам подпишу доверенность на все свое жалованье.
Тонкая усмешка появилась на губах еврея.
– Ну, зачем же вам надо столько тысяч? Аларин растерялся… Он тщетно старался солгать, сочинить какую-нибудь историю; как нарочно, ни одна правдоподобная мысль не лезла в голову.
– Ах, черт побери! – воскликнул он грубо, – да не все ли тебе равно, дьявол! Давай или не давай, это твое дело, а не смей расспрашивать…
– Пхе! Господин инженер думает, верно, что я – совсем дурак! Я вам говорю, поищите в другом месте, где деньги на полу валяются…
Нервы Аларина не выдержали. Кровь со страшной силой прилила к голове.
«А что, если я схвачу его за горло, – быстрее молнии пронеслось в его голове, – ни одна душа не услышит!»
И вдруг, с помутившимися глазами, ничего не чувствуя, кроме ужасного озлобления, он кинулся на Гойдберга и в один миг обвил своими гибкими пальцами его шею.
– Постойте, постойте, – захрипел побледневший еврей, – отпустите меня, господин инженер! Я вам дам деньги… я сейчас дам!
Аларин отнял руки, с необыкновенной быстротой перейдя от безумного отчаяния к еще более безумной радости.
– Ну, давай, голубчик, давай! Неси скорее… Ах, боже мой!.. Чего же ты меня раньше-то мучил? – бессмысленно твердил он, еле переводя дух.
Гойдберг подошел к двери, ведущей в другую комнату, и спрятался за нее так, что виднелась только одна его голова.
– Вы с ума сошли! – закричал он визгливым голосом. – Разве я осел, чтобы бросать деньги? Разве я не знаю, что вы вчера проигрались? А если вы будете орать, как пьяница, я позову полицию. Убирайтесь вон из моего дома!
Аларин вскочил со своего места, но дверь моментально захлопнулась, и когда он схватился за ручку, то услыхал, как в замке зазвенел ключ.
IX
Едва держась на ногах и шатаясь, точно расслабленный, вышел Александр Егорович на улицу. Было почти совершенно темно. Холодный ветер дул ему в лицо, а он, не разбирая дороги, шел бессознательно вперед в расстегнутом пальто и криво надетой шапке, из-под которой выбивались пряди мокрых волос. Его губы бормотали бессвязные слова, и встречавшиеся с ним прохожие невольно останавливались, провожая его взорами.
Аларин дошел до бульвара и только тогда почувствовал страшную физическую усталость. Идти далее было некуда, да и зачем? Везде та же холодная, пустая темнота. Он уселся на полузанесенную снегом скамью и замер; нелепые фантастические мысли беспорядочно теснились в его мозгу.
«Как зябнут ноги!.. И спать хочется. Никуда бы отсюда не пошел; так бы и остался здесь навсегда… Говорят, приятно замерзнуть!.. Ах, если бы и мне!.. Вот так сидел бы, сидел бы, потом заснул бы и ничего уже, совсем ничего не чувствовал бы… А завтра подойдет ко мне городовой; сначала он все только сбоку будет посматривать, а потом тронет за плечо и… отскочит. Интересно, пожалеют ли „они“, когда об этом услышат!»
Аларин не сознавал ясно, кто это «они», которые услышат об его смерти, но в его воображении нарисовалась яркая картина. Он лежит в белом глазетовом гробу, и не в церкви и не у себя дома, а в той зале правления, где обыкновенно собирались всякие комиссии. Его красивое лицо бледно и торжественно-спокойно… Кругом громадная толпа… У всех на лицах жалость, всякий как будто хочет сказать: «Вот мы не понимали его страданий, не хотели подать ему руку помощи… а теперь уже поздно… теперь он больше ни в чем не нуждается».
«Нет, зачем же умирать?.. – подумал дальше Аларин. – Лучше достать деньги… это ведь так просто… может быть, я найду на улице; другие находят же!»
Ему казалось, что он входит в ярко освещенную залу, ощущая около груди присутствие толстой пачки… За длинным столом, накрытым зеленым сукном, сидят знакомые члены правления… Все лица со злыми улыбками поворачиваются к нему… все уверенно ждут, как он упадет на колени и, рыдая, начнет молить о пощаде и оправдываться. Неуловимая тень презрения мелькает в его глазах, но губы не произносят ни одного звука. Он скрещивает руки на груди и молча слушает обвинение. Когда же один из присутствующих, ободренный его молчаливой неподвижностью, решается вставить пошлое, оскорбительное замечание, под общий смех, Аларин не выдерживает больше: крупными шагами подходит он к столу, его глаза сверкают восхитительным бешенством… Недоконченный смех мгновенно стихает, всем становится жутко… неловкий остряк робко прячется за спины своих товарищей… Александр Егорович отвечает на оскорбление громовым словом, швыряет на стол пачку денег и с гордостью навсегда отказывается от этого развратного, безобразного общества… Впечатление громадно. Все, кто только есть в зале, кидаются к нему, жмут ему руки, извиняются, просят не покидать их, уверяют в дружбе… На глазах у многих видны искренние слезы… но он, хотя и растроган общим участием, почти выбегает из комнаты.
Погрузившийся в свои грезы Аларин не слыхал, что кто-то уже три раза назвал его по имени, и только когда к его плечу тихо прикоснулась чья-то рука, он весь задрожал от неожиданности и вскочил со скамейки. Перед ним стояла Зинаида Павловна. На ее лице, освещенном тусклым светом уличного фонаря, были видны тревога и нежность.
Болезненно-приятные картины мгновенно потускнели, и из-за них выглянула грозная действительность. Это раздражило Аларина.
– Что вам надо от меня? – слезливо закричал он. – Оставьте меня в покое!
После вчерашней бурной сцены с Кашперовым Зинаида Павловна окончательно решила ехать домой. Она уложила все свои вещи, но Лиза упросила ее остаться еще на один день. С самого утра Зинаида Павловна чувствовала себя плохо: тоскливое предчувствие беды сжимало ее сердце. К вечеру это угнетенное состояние так усилилось, что она, не сказав никому ни слова, тихонько оделась и вышла из дома, думая, что свежий воздух хоть немного ободрит ее. Ей пришлось пересекать бульвар. На скамейке около будки, где летом продавали сельтерскую воду, сидел какой-то человек, который уперся локтями в колени и опустил на ладони лицо. Зинаида Павловна, не отдавая себе отчета в своем поступке, движимая каким-то неясным внутренним побуждением, быстро и решительно подошла к этому человеку. Это был Аларин. Она сильно удивилась его раздражительному окрику, но не испугалась. Увидев его расстроенное лицо, услышав страдание в его голосе, она поняла, что Александра Егоровича постигло какое-то страшное несчастие.
– Зачем вы гоните меня? – спросила она с трогательной грустью. – Я знаю, что вам именно теперь нужно участие.
Она села рядом, почти прижавшись к Аларину, и осторожно положила руку на его плечо. Но ее задушевный тон, ее заботливое лицо совсем взорвали Аларина, и он грубо отодвинулся от нее.
– Ах, не надо мне вашего участия, не нуждаюсь я в нем! – почти крикнул он. – Не шубу же мне шить из вашего участия. Оставьте меня!..
– Александр Егорович, что с вами, скажите, ради бога? Ведь не из любопытства же я спрашиваю… Может быть, я в силах…
Он истерически расхохотался.
– Ха-ха-ха! Боже мой, как все это глупо! Ну, чем же вы поможете мне, если я украл казенные деньги? А? Чем, я вас спрашиваю? Или, может быть, вы пойдете и заявите в полиции, что деньги взяли вы, а не я? Так и то вам никто не поверит…
– Александр Егорович!
– О, черт побери! Да наконец это неделикатно. Наблюдаете вы за мной, что ли? Иначе я не могу объяснить, очень ли вы наивны или уж вовсе глупы до святости.
– Александр Егорович, неужели вы… украли?
Зинаида Павловна не обиделась на его брань; ее гораздо больше мучила мысль, что он, ее бог, ее идеал, мог быть вором.
– Да вы, кажется, хотите, черт вас возьми, испытывать мое терпение?! – крикнул Аларин. – Что вам до меня? Ну да, украл… проиграл одиннадцать тысяч рублей. Ну, довольны вы? Если вам так нравится языком разводы разводить, то выбирайте хоть другое время, а меня, пожалуйста, увольте!
Зинаида Павловна медленно поднялась со скамейки, в ее глазах показались слезы. Но Аларин уже не мог остановиться. Он только что вошел во вкус того неизъяснимого наслаждения, которое доставляется возможностью излить всю накопившуюся злобу на какое-нибудь беззащитное существо.
– И вы суетесь с помощью! Да если бы вы даже вздумали продать себя, понимаете, продать себя, то ведь никакой идиот не дал бы вам и двадцатой части того, что я проиграл в одну ставку… Что? Поняли? В другой раз, я думаю, уж не станете великодушничать…
И, неожиданно сорвавшись со своего места, он пошел по бульвару торопливыми шагами.
Зинаида Павловна глядела в ту сторону, куда ушел Аларин, до тех пор, пока в морозном воздухе совершенно не стихли его шаги.
«Куда же он пойдет теперь? – подумала она с ужасом. – Что он станет делать?» И вдруг, точно отвечая на ее вопрос, в уме пронеслась вчерашняя самоуверенная фраза Аларина: «Некоторые предпочитают в этих случаях спасаться бегством, другие пускают себе в лоб пулю».
«Спасаться бегством? – мелькнуло у нее. – Но ведь он не побежит… он такой гордый, самолюбивый… Он не сможет и не сумеет сделать сознательно ничего бесчестного; он не унизится до того, чтобы выпутаться при помощи унижения или подлости… Значит… значит, остается второе!»
И, вся охваченная внезапным, потрясающим страхом за жизнь дорогого человека, уже позабыв те грубые оскорбления, которые он ей наносил за минуту перед тем, Зинаида Павловна почти побежала в ту сторону, где еще слышались смутно удаляющиеся шаги Аларина, но тотчас же остановилась.
«Зачем? – безнадежно мелькнуло в ее голове. – Чем я могу утешить его? Он опять так же злобно засмеется… Господи, какую страшную муку должен он испытывать! Но чем же я могу помочь ему? Если мне даже и удастся собрать какую-нибудь тысячу рублей… то ведь это будет каплей в море!.. Господи! Научи меня, просвети мой разум! Он для меня дороже всего в мире, и я ничем не в состоянии удержать его… „Пулю в лоб…“ Он сам рассмеялся, когда я спросила, не могу ли помочь… О, какой это был ужасный хохот!.. „Если вы даже продадите себя…“ Он не понял и не хотел поверить тому, что я с наслаждением отдала бы жизнь за него, вот сию секунду отдала бы… А что, если и в самом деле не жизнь… а… Тот ужасный человек вчера… Нет, нет, это мерзко! Этот так гадко, что Аларин сам от меня с отвращением отвернется, если узнает… Разве можно отдаваться человеку, которого… да, которого ненавидишь? О нет! Это – гадость, об этом даже думать противно!..»
И Зинаида Павловна почувствовала, что ее всю охватила дрожь отвращения. Но тотчас же в ней снова заработала мысль.
«Ну так что же? Противно, и я уж испугалась… А это – самый верный путь… Лиза говорила, что Сергей Григорьевич получил утром из банка много денег… Он не задумается; он вчера говорил, что отдаст все, и, конечно, нынче от своих слов не откажется… Значит, можно еще спасти Аларина… Страшно? Но ведь я собиралась даже жизнь отдать? Жизнь отдать так легко, это даже приятно и красиво – умереть за любимого человека. Да, кроме того, кто же потребует от меня моей жизни? Значит, я хвасталась? А здесь… отдать свою честь на поругание, навеки потерять уважение любимого человека, но спасти его, – спасти от ужасной смерти, которая позором ляжет на его имя… Можно ли сделать больше? А чем тяжелее жертва, чем меньше в ней блеска и шума, тем достойнее она будет… Значит, и бесчестья нет никакого… И разве это не все, что может сделать женщина? Значит, это можно… и даже необходимо совершить!..» Когда Зинаида Павловна дошла до последнего вывода, ей сразу стало легко, точно с ее плеч скатилось громадное, тяжелое бремя, которое долго давило ее и от которого не было возможности избавиться… И, с бесповоротно созревшим решением, она быстро пошла по направлению к дому Кашперова.
Х
Сергей Григорьевич, точно раненый лев, метался по своему кабинету. Со вчерашнего вечера он ни на одну секунду не сомкнул глаз, и чудовищные мысли, одна другой нелепее, одна другой фантастичнее, теснились в его пылающей голове. Он то вспоминал с горечью и стыдом свое вчерашнее безумное поведение, мысленно называя себя подлецом, то терзался сожалением, что устроил все так неловко и неумело, «как мальчишка, как школьник». Он осыпал проклятиями ни в чем не повинную, кроткую девушку и тотчас затем готов был молиться на ее чистый, светлый образ, всю ночь с яркостью носившийся пред его духовными очами. У него, умевшего всю свою жизнь подчинять всех своей воле, никогда не колебавшегося и всегда знавшего наперед, что ему надо предпринять в каких бы то ни было случайностях, теперь сбились в одну безобразную кучу понятия о честном и нечестном, о возможном и невозможном. И над всем этим хаосом господствовало одно тяжелое сознание того, что Зинаида Павловна уезжает из его дома, унося с собою одно только гадливое чувство к нему.
«Ну чем же можно остановить ее? – думал Кашперов, нервно шагая взад и вперед по кабинету и злобно отшвыривая ногой попадавшиеся по дороге стулья. – Ведь не могу же я запереть ее? Извиниться? Невозможно! – она меня и слушать не станет; она охотнее будет объясняться с бешеным волком, чем со мною. Да и я не сдержусь, я знаю… ведь от одних ее шагов меня уже бросает в лихорадочную дрожь. Разве написать ей?..»
Эта мысль была самой подходящей к теперешнему положению дела, и Кашперов тотчас же принялся за ее исполнение.
Но едва только он обмакнул перо в чернильницу, как дверь кабинета быстро отворилась. Кашперов, недовольно нахмурив брови, обернулся назад, готовясь крикнуть на вошедшего не вовремя лакея, но так и остолбенел с полуоткрытым ртом: перед ним, бледная и взволнованная, с горящими глазами, стояла сама Зинаида Павловна.
Кашперов сразу, инстинктивно догадался, что сейчас произойдет нечто особенное и неожиданное. У него захватило дыхание.
– Что с вами, Зинаида Павловна? – тревожно спросил он, поднимаясь со своего места. – Вы чем-то потрясены?
Она хотела, не медля ни секунды, сказать ему о цели своего прихода, но ее губы шевелились, не издавая ни одного звука…
«Неужели я сама скажу об „этом“? – в немом страхе думала Зинаида Павловна. – Так прямо, глядя ему в глаза… громко? Как это подействует на него? Что он скажет? А вдруг он расхохочется мне в лицо или, может быть, как и вчера, бросится ко мне, красный, с мутными глазами, с пеной у рта?»
Однако отступать было уже поздно, и хотя сознание неизбежности объяснения ужасало Зинаиду Павловну, но она уже знала, что от принятого решения не откажется.
– Да скажите же, ради бога, Зинаида Павловна, что с вами случилось? Не мучьте меня! – продолжал взволнованным голосом спрашивать Сергей Григорьевич, не дождавшись ответа.
Силы совершенно покинули Зинаиду Павловну, она не могла больше стоять и невольно опустилась, почти упала в кресло.
– Вот что, Сергей Григорьевич, – раздался, наконец, ее слабый, совсем больной голос, – вы вчера… предлагали мне одну вещь… Это правда… я не понимала, что значит богатство… а теперь… я согласна… Делайте со мной, что хотите. Только, ради бога, скорей… мне нужны деньги… очень, очень много денег…
Она говорила точно в бреду, все более и более бледнея, и когда кончила, то до крови закусила нижнюю губу и с страшным выражением мольбы и отвращения на лице подняла взор на Кашперова… Их взоры встретились и, точно повинуясь какой-то очаровывающей магнетической силе, в продолжение нескольких секунд не могли разойтись… Сергей Григорьевич был бы гораздо меньше ошеломлен, если бы в этот пасмурный январский вечер над его головою ударил раскат грома… Сидевшая перед ним бледная, как смерть, девушка, которую он считал такой чистой и недосягаемой, такой чуждой будничной житейской грязи, сама пришла к нему в комнату и предложила себя за деньги. Или, может быть, он страшно ошибался в ней? Может быть, ей уже не чуждо сознание всесильности денег и она, как и все, пресмыкается перед ними? Неужели она, ничем не запятнанная физически, уже дошла одним своим развратным воображением до падения, до позора?..
Кашперов с напряженной пытливостью впился в глаза Зины, как будто желая ворваться через них в душу и прочесть там все, – все, до тех темных, мелькающих лишь на мгновение в человеческом мозгу мыслей и ощущений, которые, как подводные гады, шевелятся в самой глубине ее тайников.
«Сколько в ее лице страдания, – быстро пронеслось в его голове, – верно, она тяжелым путем дошла до своего ужасного поступка, путем борьбы, бессонных ночей… Понятно, ей нелегко; ведь она не знает, рассмеюсь ли я над ней или даже обойдусь, как с продажной тварью… Хорошо! Но почему же такое брезгливое выражение? Точно наступила ногой на змею… Господи! Да ведь она и не хочет скрывать своего отвращения ко мне… Нет! Это что-то не так. Точно жертва, ведомая на заклание, да еще такая жертва, что своего палача всеми силами души презирает и вовсе не боится… А что, если действительно кому-нибудь эта жертва понадобилась, а она по своей святости обрадовалась и…» И Кашперова неожиданно охватило злое чувство. Ему страстно захотелось грубой насмешкой оскорбить Зинаиду Павловну, отомстить и за отвращение, против воли выражавшееся на ее лице, и за острое ощущение стыда и замешательства, которое он испытывал целые сутки.
– Сколько же вам, собственно нужно?
Вопрос был предложен холодным, совершенно безучастным тоном.
Кашперов скорее догадался по движению губ Зинаиды Павловны, чем услышал ее ответ.
– Одиннадцать тысяч? Гм… гм… у вас недурные аппетиты… Интересно, для какой цели они вам понадобились и почему вы выбрали именно эту маленькую, но определенную сумму? Я должен сказать вам только одно, что вы себя очень дешево оценили; надо было взять дороже…
Кашперов с мучительной ясностью сознавал, сколько грошового мещанства, сколько животного сознания своей минутной силы слышалось в его тоне. Он сам глубоко страдал от этого тона и в то же время чувствовал необыкновенную жалость к оскорбляемой девушке; но какой-то слепой и беспощадный дух самовольно управлял в нем его поступками.
Зинаида Павловна продолжала молчать и только все крепче и крепче прижимала руки к шибко бьющемуся сердцу.
– Говорите же, для чего вам нужны деньги? – простонал Кашперов.
– Этого я вам никогда не скажу!
Ее слова звучали твердой решительностью. Она охотнее позволила бы изрезать себя на куски, чем присоединить к своему позору дорогое имя.
Но Кашперов все понял и весь задрожал от внезапного прилива жгучей ревности. Губы его закривились злобной улыбкой…
– Хорошо, я исполню ваше желание. – Он быстро подошел к столу, взял с него запечатанную и завернутую в бумагу колоду карт и протянул ее Зинаиде Павловне.
– Здесь немного более, чем вам нужно. Только, пожалуйста, не благодарите…
Но он не успел еще сознательно насладиться торжеством этой грубой мести, как произошло что-то совсем необыкновенное. Зинаида Павловна вдруг вся неестественно перегнулась, порывисто упала с кресла на колени, и в то же мгновение Кашперов ощутил на своей правой руке горячее прикосновение ее губ. Густая краска стыда залила лицо Сергея Григорьевича, – он сразу понял и перечувствовал на себе всю гнусную жестокость, всю неуместность своего озлобленного издевательства и, весь охваченный порывом безграничного раскаяния, повалился на диван лицом, крепко охватив руками голову. Все его могучее тело сначала только тряслось и вздрагивало; потом он не в силах был сдерживаться, и Зинаида Павловна услышала громкие судорожные рыдания, вырвавшиеся из его груди.
– Простите… Простите меня… – задыхаясь и захлебываясь, воскликнул Кашперов, – дорогая моя! Я точно палач, точно убийца… Как я мог?.. Вы… святая… святая… Она ничего не могла понять и растерянно глядела то на него, то на колоду карт. – Я вас обманул! – продолжал сквозь рыдания Кашперов, – обманул так пошло, так бессмысленно… Простите ли вы меня?
Если слезы всегда способны вызывать сочувствие, то слезы крепкого, сильного мужчины производят положительно потрясающее впечатление. Зинаида Павловна подошла к нему и осторожно провела рукой по его голове… Сергей Григорьевич справился наконец со своими нервами и поднялся с дивана. Его заплаканные и несколько опухшие от слез глаза смотрели на Зинаиду Павловну с такой ласковой грустью, что она невольно почувствовала жалость.
Кашперов выдвинул один из ящиков письменного стола, и несколько времени в кабинете среди гробового молчания слышалось только шуршание бумаги. Он отсчитал из полученных утром денег требуемую сумму, обернул ее в лист белой бумаги и перевязал шнурком.
– Вот, возьмите, здесь ровно одиннадцать тысяч, – сказал он, протягивая пачку Зинаиде Павловне и глядя куда-то в сторону, – идите… идите скорее…
У Зинаиды Павловны кружилась голова и перед глазами ходил какой-то туман. Она машинально взяла деньги и направилась к двери, но Кашперов остановил ее.
– Послушайте! Я, конечно, не смею ни о чем расспрашивать, но, прошу вас, скажите этому человеку: если он не сумеет оценить ваш поступок, значит… Понимаете ли вы, – добавил он с горячим чувством, – это – великий подвиг, самый великий, на который когда-либо решалась женщина.
Зинаида Павловна без слов протянула ему руку, и они оба в первый раз смело и дружелюбно взглянули друг другу в глаза.
XI
Зинаида Павловна вышла на улицу. Все предшествовавшие обстоятельства так сильно и удручающе повлияли на нее, что она двигалась, точно во сне, крепко прижимая к груди пачку с деньгами. Она совершенно не различала дороги и, наверно, шла бы вперед до изнеможения, если бы ей не попался навстречу извозчик.
– Барышня! Прокатайте на шведочке полтинничек!
Зинаида Павловна только тогда вспомнила, что ей должно быть дорого каждое мгновение; она села в сани и заторопила извозчика:
– На пристань! Только, ради бога, скорее… скорее!.. Вы получите на чай.
«Ванька» принялся усердно нахлестывать свою лошаденку. Тревожно-мучительные думы овладели Зинаидой Павловной и, точно вихрь, закружились в ее голове.
«Господи! Только бы ей не опоздать! А вдруг… она входит, а на кровати лежит Аларин… скорчившийся, с окровавленным лбом. Но, может быть, он из гордости отвергнет ее помощь, и его кровь вечным, несмываемым пятном ляжет ей на душу?.. О нет, нет! Она расскажет ему, как он дорог и близок для нее, она найдет такие слова, против которых нельзя устоять… Имейте веру с горчичное зерно… Господи! Что, если я опоздаю?»
– Да погоняйте же, пожалуйста, – беспрестанно твердила она извозчику, который вместе с клячонкой надрывался из последних сил, удивляясь нетерпению барышни.
Наконец сани остановились перед громадным домом портового управления. Зинаида Павловна быстро выскочила, сунула в руку извозчику рубль и остановилась в раздумье на тротуаре. Она не знала, куда ей идти.
У ворот, завернувшись в новый дубленый полушубок, точно каменное изваяние, неподвижно сидел дремавший дворник. Зинаида Павловна решилась подойти к нему.
– Послушайте, любезный, где здесь квартира инженера Аларина?
Дворник, не приподнимаясь с места, пробормотал что-то непонятное.
– Послушайте! Я вас спрашиваю, где живет Александр Егорович Аларин?
В голосе Зинаиды Павловны слышалось столько настойчивости, столько страстного нетерпения, что дворник удостоил наконец ее более внимательным взглядом; но, по-видимому, впечатление, произведенное этим осмотром, было не из благоприятных, потому что изваяние в тулупе произнесло заржавленным голосом:
– А тебе чего нужно?
Зинаида Павловна, всегда робкая и неумелая в обращении с прислугой, совсем вышла из себя.
– Как вы смеете разговаривать? Это не ваше дело, наконец… Я вас спрашиваю, и вы должны ответить!
Дворник почему-то нашел необходимым оскорбиться до глубины души и вознегодовать.
– Ишь ты, какая строгая, подумаешь! Как это так не мое дело? Вашего брата много к холостым господам бегает, а потом, глядишь, пропадет ложка серебряная или часы, кто отвечает? Небось не ты! Тебя и след давно простыл, а меня по шапке! Не мое дело!.. Нет, брат, шалишь, коли я здесь соблюдать приставлен…
Зинаида Павловна быстро вынула из кармана портмоне и высыпала на ладонь все имевшиеся в нем монеты.
– Вот нате вам, возьмите, – сказала она, желая прервать поток его красноречия, – только прошу вас показать квартиру господина Аларина.
– Это другое дело, – произнес, неожиданно смягчаясь, строгий блюститель порядка. – Вы, барышня, ступайте, значит, прямо все и в первый проулочек сверните. Отсчитаете по левой руке седьмой домик, там и есть их квартира. Домик эфтот, значит, пароходного машиниста, а они, то есть господин Аларин, у него квартиру снимают. На ихней двери дощечка такая с чином и фамилией прибита, увидите сами…
Зинаида Павловна, дрожа от волнения, быстро пошла по указанному направлению. Она страшно боялась опоздать; ей казалось, что в этом случае на нее одну падет вся ответственность в чудовищном деле, которое она сама боялась назвать настоящим именем. Наконец она достигла указанного дворником невзрачного одноэтажного дома. Вот и дверь… Только есть ли дощечка с фамилией? На дворе такая темнота, что в двух шагах ничего невозможно разобрать.
Она протянула руку, ощупала чугунную дощечку и ручку звонка и сказала себе: «Значит, здесь!»
Медлить было некогда; Зинаида Павловна два раза кряду дернула изо всех сил ручку. За дверью послышалось быстрое шлепанье туфель, и старческий голос, прерываемый удушливым кашлем, спросил:
– Кто там?
– Мне надо немедленно видеть Александра Егоровича Аларина, – нетерпеливо крикнула Зинаида Павловна, – отворите, я не могу стоять на морозе. Послышались стук и визжание отодвигаемого засова, и дверь отворилась… Перед Зинаидой Павловной предстала в ночном белье и туфлях на босую ногу старая, но бодрая и чрезвычайно худая женщина, с горящею свечой в руке. Из-под коричневого платка торчали по плечам две жиденькие зеленовато-седые косички.
– Для чего это вам понадобился в такую пору Александр Егорович? – недружелюбно спросила старуха, искоса подозрительно оглядев с ног до головы вошедшую.
Это любопытство окончательно взорвало Зинаиду Павловну.
– Ах, не все ли вам равно? – крикнула она сердито. – Конечно, если бы не было нужно, так я в такую пору не приехала бы.
Старуха недоверчиво и грустно покачала головой.
– Пожалуйте, – сказала она, тяжело вздыхая и указывая на небольшую, обитую войлоком дверь, – идите прямо, они еще не спят в это время…
Зинаида Павловна, не останавливаясь ни на одну секунду, быстро подошла к двери и еще быстрее отворила ее.
XII
Аларин, покинув на бульваре оскорбленную им Зинаиду Павловну, шел машинально, без всякой определенной цели, до тех пор, пока не очутился против своей собственной квартиры, и невольно удивился этому. Он ни теперь, ни в более позднее время не мог понять и разобраться в безобразном хаосе мыслей, которые теснились в его голове, когда он шел домой. Растрата казенных денег… суд… арестантский халат… каторга и, наконец, что было ужаснее всего, полнейшая беспомощность.
В глубине души Аларин смутно чувствовал, что какой-то выход есть, что из этого тяжелого положения можно выбраться, но сам боялся отнестись к этому неясному представлению сознательно. Он весь содрогнулся от ужаса, когда наконец понял, в чем заключается выход, как-то сразу обрисовавшийся в его воображении в той странной вещи, которая висела на стенном ковре над его кроватью. Это был револьвер Смита и Вессона, подарок одного гвардейского офицера, хорошего приятеля Александра Егоровича.
Аларин содрогнулся, но тотчас с жадностью уцепился за мысль о самоубийстве.
«Разве это так трудно? – размышлял он, подвигаясь бессознательно вперед, – боль мгновенная, зуб вырвать, пожалуй, больнее, потому что если человек живет, то еще долго чувствует нервное отражение боли. Вот те, которых на войне ранили, говорят, как будто сильный толчок, а потом горячо сделается, как если бы облили рану кипятком. Значит, нужно только усилие – надавить на собачку: удар, блеск – и кончено. А потом? Потом ничего, совсем как есть ничего! Ведь приятно после долгой, трудной дороги лечь на кровать и вытянуть ноги… Нет в мире лучшего ощущения! А здесь покой еще глубже, еще блаженнее… Чего же метаться и отчаиваться? Кому меня будет жаль? Без матери, без отца, один… Кому же до меня есть дело? Разве только эта малокровная барышня? Да что она мне? Если бы эта девчонка умерла, я и ухом не повел бы. Мало ли народу каждый день умирает?»
Он вошел в свою комнату, не снимая пальто и фуражки, зажег лампу и тотчас же снял с гвоздя большой, вороненой стали, револьвер. Во всех шести гнездах торчали медные шляпки патронов.
«Писать ли записку? Нужно что-нибудь оригинальное… Ведь завтра все будут читать в газетах… Как это будет неожиданно для всех! Жил между ними человек, ходил, смеялся, разговаривал, принимал участие в их бессмысленном прозябании, – и вдруг стал безмолвной, холодной вещью… А главное, умер, презирая всю эту жестокую, суетную толпу… Что подумает Круковский? Ему, наверно, станет совестно и страшно. Разве и про него упомянуть в записке? Нет, это гадко, это будет ненужной местью, – пусть он сам считается со своей совестью».
Аларин схватил лист почтовой бумаги и быстро, без помарок, написал предсмертную записку:
«Я, вследствие рокового сцепления обстоятельств, проиграл казенные одиннадцать тысяч рублей. Как это ни покажется странным, но виновным я себя не признаю. Прощаться не с кем и не для чего. Александр Аларин».
Эта записка была его местью тому обществу, которое он почему-то обвинял в своем несчастии. Он перечитал ее два раза и с удовольствием нашел свои слова выразительными по их силе и сжатой краткости.
Неугомонное воображение опять принялось рисовать другие картины. Аларин как будто уже видел то впечатление, которое произведет его самоубийство, видел, как знакомые будут толковать об этом, говоря таинственным шепотом и удивляясь громадной воле Александра Егоровича, а он сам, никем не зримый, присутствует среди них, наслаждаясь их разговорами.
Взводимый курок два раза сухо и коротко щелкнул. Аларин кистью левой руки крепко охватил дуло, чтобы оно не дрожало, положил большой палец правой руки на собачку и прикоснулся холодной сталью к правому виску. Это ощущение холода мгновенно передалось всему телу.
«Неужели всегда будет так же холодно? – весь содрогнувшись, подумал Аларин. – Холодно… темно… словно в закрытом погребе… брр… жутко! Не лучше ли в сердце? Говорят, бывали случаи, что выстрел происходил как раз в то время, когда сердце сжималось. Пуля только на волос пролетит, не тронув… жив останешься… Да, в сердце лучше. Или, может быть, взять немного выше? Не такая верная смерть».
И вдруг, поймав себя на этих гаденьких мыслях, Аларин покраснел и обозлился.
«Эх ты, шарлатан, – обругал он себя, – в эту минуту без хвастовства и ломания не обойдешься! Куда тебе стреляться, трусишка? Да ведь ты согласился бы влачить жизнь цепной собаки, только бы жить… О впечатлении заботишься! Нет, брат, коли хочешь умереть, так всоси в себя мысль о ничтожестве, привыкни к тому, что не только темноты погреба, а ровно ничего не будет, – ничего, ни света, ни темноты, ни времени, ни пустоты даже. Ничего! О, какой ужас!»
Он медленно положил на стол револьвер и, опершись подбородком на ладони, уставился на огонь лампы. Блестящая точка приковала его взгляд. Он не мог отвести от нее неподвижных глаз, между тем как все окружающие предметы темнели, сливались в однообразную серую массу и уходили куда-то далеко.
За стеной послышался пьяный голос машиниста, хозяина домика, в котором квартировал Александр Егорович. Этот честный, но подверженный слабости к обильным возлияниям малый считал своим священным долгом напиваться каждый свободный вечер до состояния полного блаженства и горланить самые чувствительные песни.
Аларин стал прислушиваться.
Ах, распился, разгулялся Молодой приказчик; Он склонил свою головку На хозяйский ящик, —пел машинист.
Лицо Александра Егоровича искривилось злобой. Он слышал не раз и хорошо знал эту безобразную трактирную песню, в которой описывались приключения молодого приказчика, ограбившего хозяйскую кассу.
Он расчету не сдавал: Сколько кому на-адо! —продолжал гнусавить машинист, с пьяной отчетливостью выделывая каждую ноту.
– О, черт побери! – дико прошептал Аларин, глядя на огонь очарованными, немигающими глазами. – Ведь и я – такой же приказчик. Распился и разгулялся. И мне теперь всякий пьяный машинист плюнет в лицо, а может быть, и песню еще сложит: что вот-де проигрался молодой инженерик… Да разве я теперь инженер? Ведь я – кандидат в арестантские роты. Нет, так нельзя! Неужели у меня не хватит духа? Ведь только одно незначительное усилие, а там уже все равно, что будут петь, что будут говорить… Надо только поймать в себе момент решимости… и баста!
Он опять взял револьвер и приставил его к виску.
– Ну, раз, два…
Он по-прежнему, не отрывая взора от яркой огненной точки, медлил сказать «три», еще сам не знал: действительно ли в нем созрела решимость или он опять только ломал комедию.
В это время сзади его послышался отчаянный, потрясающий крик. Чья-то рука быстро выхватила револьвер, тот с грохотом покатился по полу, и Аларин увидел Зинаиду Павловну, почти в обмороке, бессильно опустившуюся на диван. Прошло несколько минут напряженного молчания.
– Чего вы хотите от меня дождаться? – закричал наконец вне себя Александр Егорович и ударил по столу кулаком с такой силой, что стоявшая на нем лампа закачалась и задребезжала.
Зинаида Павловна молча положила на стол бумажную пачку, которую до тех пор крепко сжимала в руке.
Аларин с недоумением поглядел сначала на пачку, потом на нее, потом снова на пачку; он еще не понимал, в чем дело, но в его душу вдруг хлынула волна безотчетной восторженной радости.
– Что же это такое? – спросил он сдавленным шепотом, дрожащими руками развязывая шнурок.
И вдруг, уже совсем не владея собою, Александр Егорович разразился захлебывающимся, безумно-радостным смехом. Перед его глазами мелькали одна за другой и шелестели в руках пестрые радужные сторублевки, красные и серые процентные бумаги с крупными тысячными надписями, серии… Он несколько раз принимался пересчитывать, сбивался, начинал считать снова и совершенно позабыл о присутствии Зинаиды Павловны. Для него в эти блаженные минуты возвращения от смерти и отчаяния к жизни все в мире, кроме лежавших перед ним денег, потеряло стоимость и значение. Его лицо приняло жадное, почти зверское выражение, глаза сверкали, на лбу выступили крупные капли пота. Зинаида Павловна с пытливым вниманием наблюдала за всеми изменениями физиономии Аларина; она с ужасом чувствовала, что в ней, в самой глубине ее души, зарождается и шевелится какое-то смутное чувство презрения к этому необузданному проявлению инстинкта жизни. Ее щепетильная натура восставала против чего-то животного, низменного, так неожиданно проявившегося в человеке, которого она возвела на самую высокую ступень идеала. Она еще не умела разобраться в своих новых ощущениях, не могла оформить их как следует, но в эти две или три минуты разрушалось и гибло ее увлечение, – увлечение, вызванное скорее рассудком и жалостью, чем силой страсти.
Аларин наконец с трудом пересчитал билеты: их было на сто рублей больше, чем нужно, и только тогда у него мелькнула мысль: «Откуда же они взялись?» Он вспомнил о присутствии Зинаиды Павловны, порывисто подошел к ней, желая высказать свою великую радость, но вспомнил сцену на бульваре и весь побагровел.
– Зинаида Павловна, эти деньги… – Александр Егорович хотел было спросить, кому они предназначаются, но этот вопрос показался ему чересчур грубым. – Откуда вы достали их? – добавил он и, уже произнеся эти слова, сообразил, что сделал еще большую бестактность.
Голова Зинаиды Павловны горела, руки были холодны, как лед. Нервы положительно отказывались слушаться, и ее ответ, против воли, вышел сух, почти презрителен:
– Возьмите их себе. И прошу вас об одном – никогда о них не вспоминайте!
Но Аларин, обыкновенно чуткий ко всякому оттенку в тоне и всегда умевший за словами улавливать истинное настроение человека, на этот раз совершенно утратил и эту способность, и ту границу в изъявлении чувства, которая отделяет истинное увлечение от натянутой фальши.
– Как мне благодарить вас? – заговорил он с неправдоподобным жаром, схватив и крепко сжав обе руки Зинаиды Павловны. – Знаете ли вы, что вы для меня сделали? Вы спасли меня от суда, от вечного позора. Значит, я недаром в вас чувствовал с первого же знакомства что-то родственное. Господи! Вы мне жизнь возвратили, жизнь! Поймите, что я снова стану в глазах общества порядочным человеком, а не вором…
Смутное чувство презрения все более и более нарастало в душе Зинаиды Павловны.
Аларин начинал казаться ей чем-то маленьким, жалким и лживым.
«Для чего же он про родственное участие говорит? Лучше бы вспомнил, как гадко смеялся на бульваре…» – мелькнуло у нее.
Она неожиданно вырвала у него свои руки и поднялась с дивана.
– Я вас просила не говорить об этом больше…
Аларин опять не понял ни ее брезгливого жеста, ни сухого тона.
– Ах, нет, нет! Дорогая моя, вы должны выслушать меня, я не могу не говорить. Мне кажется, я готов кричать на весь мир от радости. Если только найдется хоть что-нибудь, чем бы я мог…
Зинаида Павловна не слушала его, занятая новой мыслью, которая пришла ей в голову.
– Позвольте, я предложу вам один вопрос, – холодно прервала она расходившегося Аларина.
– Говорите, говорите, ради бога!..
Он лицом и всей своей фигурой изобразил неестественное, подобострастное внимание, которое показалось Зинаиде Павловне чрезвычайно гадким.
– Вы, конечно, возвратите эти деньги, – сказала она значительно, – но, я думаю, вы также признаетесь во всем, расскажете о своем проигрыше?
Она ухватилась за этот вопрос, как за последнее средство, чтобы убедить себя в ошибочности нового мучительного впечатления, которое производил на нее Аларин. «Может быть, он только в первое время так гадко обрадовался деньгам и не умел справиться с этим чувством?» – думала она, с нетерпением дожидаясь его ответа. Александр Егорович совсем вытаращил глаза. Он серьезно подумал, что эта девушка начинает сходить с ума.
– Зачем? Деньги я, конечно, возвращу, но ведь никто не знает, что я вчера проиграл казенные деньги. Для чего же мне портить свою репутацию?
– Репутацию? – с горькой иронией переспросила Зинаида Павловна едва слышным голосом и, окинув Аларина с ног до головы презрительным взглядом, повернулась и, шатаясь, пошла к дверям.
– Куда вы, Зинаида Павловна? Что с вами? – заторопился изумленный Аларин. – Позвольте, я вам хоть извозчика отыщу!
– Оставьте меня! – резко оборвала Зинаида Павловна. – Вы такой же, как и все… Вы гадки мне… Оставьте меня!
Аларин так и застыл на месте, прислушиваясь к ее частым, неровным шагам, раздававшимся в коридоре.
XIII
Ни одного извозчика, ни одного прохожего не попадалось на пустынных улицах. Суровый, пронизывающий до костей ветер с бешеной силой обдавал все лицо Зинаиды Павловны колючими ледяными иглами; давно промокшие калоши и ботинки едва держались на ногах, а она в каком-то забытьи шла машинально той же дорогой, по которой приехала на квартиру Аларина. Ее голова сильно болела, кровь напряженно билась в висках, руки и ноги отказывались повиноваться, и мысли путались самым фантастическим образом. Она не помнила, как дошла до дому и как позвонила у подъезда. Навстречу ей выбежал сам Кашперов. Он с самого ухода Зинаиды Павловны ходил не переставая по комнатам в тревожном беспокойстве, которое все усиливалось по мере того, как продолжалось ее отсутствие. По телефону он уже узнал подробно о вчерашнем проигрыше инженера и теперь строил разные предположения, беспокоясь за ее слабость и неопытность, терзался ревностью, воображая себе картину ее свидания с Алариным, и уже собирался идти разыскивать ее, как вдруг в передней послышался слабый звонок. Сергей Григорьевич, не успев даже надеть шляпу, сбежал с лестницы и как раз вовремя выскочил на крыльцо. Едва только он отворил дверь, как Зинаида Павловна, бледная, дрожащая, в горячечном ознобе, со стоном упала ему на грудь. Он, как перышко, поднял ее на руки и один, без помощи сбежавшейся прислуги, понес ее по лестнице. Только в эту ужасную минуту, чувствуя на своей шее прикосновение ее холодной щеки, Кашперов понял, что эта девушка для него дороже собственной жизни, дороже жизни любимой дочери…
Зинаида Павловна лежала в тяжелой неподвижной полудремоте, между тем как ее воображением овладели лихорадочные грезы… Ей все казалось, что где-то далеко-далеко перед ее глазами тянется длинная, ровная проволока, тянется страшно медленно, с каким-то монотонным жужжанием. Вместе с этим жужжанием что-то томительное и тягучее охватывает все ее тело, все мысли, все ощущения. Это состояние тоски и замирания продолжается очень долго, до тех пор, пока где-то, в том же чудовищном отдалении, не показывается какая-то быстро вертящаяся точка.
Что она представляет собою, Зинаида Павловна не может решить, но ее сердце сжимается зловещим предчувствием. Точка, вертясь все быстрее, приближается и увеличивается. Наконец она превращается в бешеный вихрь, в целый хаотический океан, который вздымается до неба и охватывает целый мир своими грозными валами… Потом наступает одно мгновение жуткого покоя. И вдруг вся эта безыменная громоздящаяся масса обрывается, рушится и с быстротой падающего камня несется на Зинаиду Павловну. Она мечется в предсмертной тоске, обливаясь холодным потом, но внезапно – и это самый страшный момент – вся масса рассеивается и только остается одна тягучая, бесконечная проволока. Эта мучительная фантазия повторялась десятки раз, после чего грезы Зинаиды Павловны принимали более реальный характер. Ей все казалось, что около ее кровати на столике стоит тарелка со свежей замороженной клюквой. Она видела эту красную сочную клюкву с поразительной ясностью, чувствовала даже во рту ее кислый, утоляющий жажду вкус…
И ко всем этим грезам примешивалось постоянно одно и то же доброе, удивительно знакомое лицо, с тревожной заботливостью склонявшееся над ее изголовьем. Зинаида Павловна иногда старалась припомнить, кого она видела с таким лицом, и думала до тех пор, пока опять лихорадочные грезы не начинали играть ее воображением.
Заботливое лицо принадлежало Кашперову. Он, как только уложил Зинаиду Павловну при помощи горничной в кровать, так и не отходил ни на минуту, не зная, чем помочь больной девушке.
Часа через два прибыл доктор. Это был коротенький, толстый человечек, с уверенно-приятными округлыми манерами, который одним своим видом мог успокоить больного. Он тщательно осмотрел Зинаиду Павловну и покачал головой. Кашперов отвел его в сторону и произнес каким-то деревянным, беззвучно-спокойным голосом:
– Доктор, скажите, будет она жива?
Доктор пытливо поглядел ему в лицо. Он своим опытным ухом слышал, что этот вопрос – вопрос жизни и смерти для самого Кашперова, и нерешительно молчал.
– Скажите правду, – настаивал Сергей Григорьевич тем же странным голосом, – я должен предупредить вас, что не переживу ее, понимаете?
– Зачем же отчаиваться? – попробовал успокоить его доктор. – Даже и в самом худшем случае не надо терять голову…
– Я вас не об этом спрашиваю! – резко крикнул вдруг Кашперов, сверкнув глазами. – Будет ли она жива, черт побери?
Доктор и обиделся этим криком, и немного испугался.
– Я могу определить болезнь, могу принять кое-какие меры, – ответил он недружелюбно и сухо, – но предрекать не берусь… особенно в такой болезни, как нервная горячка. Имею честь кланяться.
XIV
На одной из северных железных дорог в вагоне третьего класса ехал Аларин. Но это не был тот прежний веселый красавец с открытым лицом и заразительным смехом: щеки Александра Егоровича ввалились и пожелтели от забот и бессонных ночей, в волосах серебрились седые волосы. Он, как пришел в вагон, так и забился в самый дальний угол, почти не отвечая на вопросы своего соседа, словоохотливого толстого священника в зеленой рясе… Батюшка наконец угомонился и, почувствовав «склонение ко сну», предложил Аларину газету, которую он до сих пор, не читая, держал в руках; Александр Егорович машинально взял и, скользнув глазами по рубрике: «Нам пишут из провинции», внезапно выронил газету, издав слабый крик удивления, смешанного с ужасом. Он прочел в корреспонденции из того проклятого города:
«На днях у нас разыгралась тяжелая драма: местный богатый заводчик К. лишил себя жизни, приняв сильный раствор синильной кислоты. Смерть была, по-видимому, мгновенна. Причины ее…» Дальше Аларин не читал, – он теперь лучше всех в мире знал об этих причинах.
1892Примечания
1
пиджак (от франц. veston)
(обратно)2
«Лесного царя» (нем.)
(обратно)






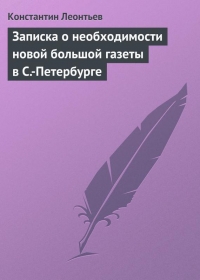
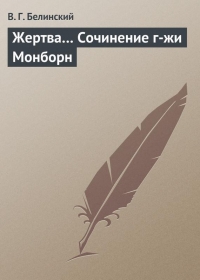
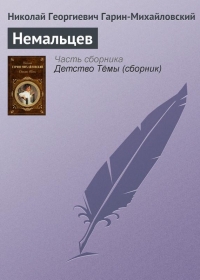
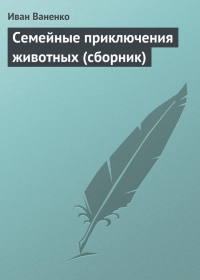

Комментарии к книге «Впотьмах», Александр Иванович Куприн
Всего 0 комментариев