Николай Константинович Михайловский Еще о г. Максиме Горьком и его героях
Рассказы г. Максима Горького обратили на себя общее внимание. О них говорят, пишут и, кажется, все более или менее признают за автором и дарование, и оригинальность тем. Однако «более или менее», и если одни, например, восторгаясь писаниями г. Горького вообще, подчеркивают господствующий будто бы в них художественный такт, то другие – и, надо признаться, с гораздо большим правом – утверждают, что именно художественного такта ему и не хватает{1}.
Интересен отзыв литературного обозревателя «Русских ведомостей» г. И – т{2}. От почтенного критика не укрылась часто впадающая в фальшь идеализация г. Горьким его излюбленных персонажей. Но мне кажется, что представленная критиком общая схема этой идеализации не совсем верна. Лермонтовская царица Тамара была «прекрасна, как ангел небесный, как демон – коварна и зла». Такой же контраст между внешностью и внутренним содержанием представляют собою, по мнению критика, и персонажи г. Горького, «только с обратным математическим знаком». Там, где у Тамары стоит плюс, у босяков г. Горького – минус, и обратно. Внешний облик и, так сказать, внешняя сторона поведения босяков – безобразны: они грязны, пьяны, грубы, неряшливы, но зато коварство и злоба Тамары заменены у чандалов г. Горького «стремлением к добру, к истинной нравственности, к большей справедливости, к заботе об уничтожении зла». В этом-то контрасте á la Тамара навыворот и заключается главный интерес действующих лиц рассказов г. Горького. Чтобы вполне понять мысль критика, надо обратить внимание на его сопоставление босяков г. Горького с героем драмы Жана Ришпена{3} «Le chemineau»[1]. Герой этот есть «прежде всего рыцарь свободы». Оковы общества, семьи, каких бы то ни было привязанностей к месту, домашнему очагу, одним и тем же впечатлениям, одной и той же страсти – ненавистны ему. Из всех сильных чувств у него постоянно живет только одно – любовь к передвижениям, к воле, «к простору полей, больших дорог, беспредельных пространств и постоянных изменений». Не сила обстоятельств создала из него блуждающего оборванца, сегодня отдающегося одному занятию, завтра остающегося без дела, полуголодного и бесприютного; но собственной волей он «взял свою судьбу» и сделал из себя бродягу по принципу («Русские ведомости». N 170). Эту черту мы знаем и в чандалах г. Горького; и им, как мы видели в прошлый раз, не «силою обстоятельств» – по крайней мере эти обстоятельства остаются в тумане, – а каким-то внутренним голосом предписано, как Агасферу: ходи, ходи, ходи!{4}Но, судя по изложению г. И-т, герой драмы Ришпена (мне она, к сожалению, неизвестна) совершенно чужд другой стороне их быта и психологии – той стороне, которая ставит их в тесное соприкосновение с «тюрьмами, кабаками и домами терпимости». По словам критика, le chemineau – не загнанный бродяга, к которому подозрительно относятся лица, вступающие с ним в сношение, не нищий, получающий подаяние и злобою отвечающий на презрение других. Как истинный рыцарь, он благороден, смел и откровенен; двери каждого дома открыты для него, потому что его ум, таланты, выдающиеся достоинства делают из него превосходного работника, общего благодетеля, устранителя зол и надежного покровителя слабых. Не таковы, как мы видели, пьяные, циничные, всеми презираемые герои г. Горького. В связи с этим находится и другое различие: le chemineau гуляет по белому свету бодрый и жизнерадостный, а в босяках г. Горького это настроение «заменяется постоянным беспокойством, затаенной тоской, скрытой заботой, находящей исход в пьянстве». В конце концов г. И-т, возвращаясь к контрасту между безобразной внешностью и красивым внутренним миром, говорит, что в отношении этого внутреннего мира герои г. Горького распадаются на три разновидности: в одних преобладает искание истины и невозможность найти ее, в других – деятельное стремление к водворению справедливости на земле, в третьих – разъедающий скептицизм. Все это вместе взятое лишает их жизненности и правдивости, хотя и не в такой мере, в какой лишен этих качеств chemineau Ришпена. Таков окончательный вывод г. И-т.
При всем остроумии и соблазнительной законченности этой критики я не могу с ней вполне согласиться. Герои г. Горького много философствуют, слишком много, и в этих их философствованиях, часто превращающих их из живых, от себя говорящих людей в какие-то фонографы, механически воспроизводящие то, что в них вложено, – в этих философствованиях можно действительно иногда усмотреть намеки на указанные три категории. Но большинство их, да и общий их характер никак в эти категории не затиснешь. Да и самая противоположность между внешностью и внутренним миром едва ли может быть в данном случае установлена с такою ясностью и определенностью, как в лермонтовской Тамаре. Там дело действительно ясно и просто: прекрасна телом, коварна и зла душой, и отсюда вытекает все остальное, со включением эстетического эффекта. В данном случае свет и тени, располагающиеся, по мнению критика, просто в обратном порядке, на самом деле гораздо сложнее. Прежде всего речь здесь не о теле идет и вообще не о наружности в буквальном смысле слова. Герои г. Горького не Квазимодо какие-нибудь. Если, например, Сережка довольно-таки безобразен, то Коновалов чуть не красавец, и, читая описание его наружности, я невольно вспомнил фразу из какого-то французского романа: «он обнажил свою руку, мускулистую, как рука кузнеца, и белую, как рука герцогини»{5}. Или Кузька Косяк: «он стоял в свободно сильной позе; из-под расстегнутой красной рубахи видна была широкая, смуглая грудь, дышавшая глубоко и ровно, рыжие усы насмешливо пошевеливались, белые частые зубы сверкали из-под усов, синие, большие глаза хитро прищурились» (I, 90). Это, конечно, не пара Тамаре, не «ангел небесный», но в своем роде очень все-таки красиво. Старуха Изергиль и сама когда-то была красавицей, и очень ценит красоту. Она уверена даже, что «только красавцы могут хорошо петь» (II, 306) и что «красивые всегда смелы» (317). Безобразна внешняя обстановка босяков, но и то не совсем верно, потому что г. Горький часто помещает их на море и в степи и вместе с ними восторгается красотою открывающихся при этом горизонтов. А кабаки, публичные дома, ночлежки, конечно, безобразны, равно как и лохмотья, в которые облечены босяки вместо «парчи и жемчуга» царицы Тамары, но ведь иначе они и не были бы босяками. А во всем остальном слишком трудно провести пограничную линию между внешностью и внутренним миром. Кабаки, тюрьмы, дома терпимости – бесспорно, внешность, но почему внешность то, что к ним приводит и в них совершается? Почему внешность – пьянство, цинизм, злоба, драки? Правда, из-за всего этого у г. Горького часто выглядывает нечто иное, что приподнимает босяков; но с какой точки зрения можно отнести ну хоть, например, ограбление и убийство «студентом» прохожего столяра («В степи») – к «исканию истины», или к «стремлению водворить справедливость на земле», или к «разъедающему скептицизму»? Дело в том, что взгляды босяков г. Горького на нравственность и справедливость не имеют ничего общего со взглядами, исповедуемыми огромным большинством современников. Недаром Аристид Кувалда говорит, что он должен «смарать в себе все чувства и мысли», воспитанные прежнею жизнью, и что «нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства, нужно что-то такое новое». Эти люди стоят на точке «переоценки всех ценностей»{6} и jenseits von gut und bòse[2], как сказал бы Ницше.
Столь обаятельная личность, какою Ришпен изобразил своего chemineau, естественно притягивает к себе женские сердца, и он не отказывается от радостей любви. Но, повинуясь инстинкту бродяги, он оставляет одну за другою осчастливленных им женщин, хотя и «с болью в сердце». Под старость, утомленный терниями жизни, он попадает в то место, где двадцать с лишним лет тому назад он любил одну девушку и был любим. Плод этой любви, до сих пор не изжитой, стал уже взрослым парнем, и бродягу манит перспектива отдыха в кругу семьи, у постоянного очага. Но после некоторого колебания, он «с рыданиями» уходит куда глаза глядят, и драма оканчивается словами: va, chemineau, chemine![3] Этим мелодраматическим концом, в сущности просто комическим, подчеркивается присутствие в бродяге того внутреннего, почти мистически властного голоса, который обрекает его на существование Агасфера. Босяки г. Горького хотя и не обладают достоинствами chemineau, но тоже очень счастливы в любви. Правда, по показанию автора, они на эту тему много врут, хвастают, и скверно хвастают, но, например, Коновалову он безусловно верит. А у того «их», то есть женщин, «много было разных». И оставлял он их не потому, чтобы узы любви сами собою обрывались с той или другой стороны, и не потому, чтобы манила новая любовь, а в силу того же мистического внутреннего приказа, какой и chemineau не давал усесться. Разница, однако, в том, что герои г. Горького порывают узы любви без колебаний и без sanglots[4]. Самый чувствительный из них, Коновалов, только впадает при расставании в некоторую грусть и меланхолию, но и то потому, что ему, при его чувствительности, жалко покидаемую, жалко ее горя и слез, а сам он нимало не колеблется в выборе между домашним очагом и бродяжничеством. Был у Коновалова роман с богатой купчихой Верой Михайловной, прекраснейшей женщиной; все шло прекрасно, шло бы и дальше так же хорошо, «кабы не планета моя», говорит Коновалов, «все-таки ушел от нее – потому тоска! тянет меня куда-то». В другой раз Коновалов, по той же чувствительности своего сердца, помог одной проститутке выбраться из публичного дома. Но когда девушка поняла это в таком смысле, что он возьмет ее жить с ним «вроде жены», то, при всем своем к ней расположении, Коновалов даже испугался: «я есть бродяга и не могу на одном месте жить». Но Коновалов все-таки хоть грустит при расставании. А вот как утешает свою возлюбленную Кузька Косяк, уходя – без какой-нибудь особенной надобности – на Кубань: «Э, Мотря! Многие меня уже любили, со всеми я распрощался, и ничего себе – повыходили замуж да позакисли в работе! Встретишь иной раз, посмотришь – своим глазам веры нет! Да разве это они – те самые, которых я целовал да миловал? Ну-ну! Одна другой ведьмистей. Нет уж, Мотря, не мне на роду писано жениться, да, дурашка, не мне. Волю мою ни на какую жену, ни на какие хаты не сменяю… На одном месте скучно мне». Случайно подслушавший этот разговор хозяин Кузьмы, мельник Тихон Павлович, о котором у нас еще будет речь, говорит ему, что нехорошо он с девками поступает: «ежели, к примеру, ребенок? бывало ведь, а?» – «Чай, бывало; кто их знает», – отвечает Кузьма и на дальнейшие замечания мельника о «грехе» возражает: «Да ведь ребята-то, поди-ка, одним порядком родятся, что от мужа, что от прохожего». Мельник напоминает о разнице в данном случае между положением мужчины и положением женщины, и Кузьма на это уже не дает прямого ответа, а «серьезно и сухо» говорит: «Коли покрепче подумать, так выходит, что как ни живи, все грешно! И так грешно, и вот этак грешно. Сказал – грешно, промолчал – грешно, сделал – грешно и не сделал – грешно. Рази тут разберешь? В монастырь, что ли, идти? Чай, неохота». – «Легкая, веселая твоя жизнь», – замечает с некоторою смесью зависти и уважения мельник…
Такую же легкую и веселую жизнь ведут и некоторые героини г. Горького. Старуха Изергиль рассказывает, «как она любила». Ей было пятнадцать лет, когда она сошлась с каким-то черноусым «рыбаком с Прута», но он ей скоро надоел и она ушла с рыжим бродягой гуцулом; гуцула повесили (за что Изергиль сожгла хутор доносчика); она полюбила немолодого уже турка и жила у него в гареме, из которого убежала с сыном турка; затем следовали поляк, венгерец, опять поляк, еще поляк, молдаванин… Мальва, героиня рассказа, озаглавленного ее именем, живет с рыбаком Василием, заигрывает и кокетничает с его сыном Яковом и наконец, перессорив отца с сыном, сходится с удалым забулдыгой Сережкой, с которым, судя по некоторым признакам, и раньше была одно время близка…
Мальва – фигура чрезвычайно любопытная, и нам тем более надо на ней остановиться, что едва ли не во всех женщинах г. Горького есть так или иначе немножко Мальвы. Это тот самый женский тип, который мелькал перед Достоевским в течение чуть не всей его жизни: сложный тип, тоже находящийся jenseits von gut und bòse, так как к нему решительно неприменимы обычные понятия о добром и злом – одна из вариаций на сочетание двух знаменитых тезисов Достоевского: «человек деспот от природы и любит быть мучителем», «человек до страсти любит страдание». Мужские вариации на эту тему, как бы ни были они исключительны и болезненны, часто поражают у Достоевского своею яркостью и силой, но женские – в «Игроке», в «Идиоте», в «Братьях Карамазовых»– решительно ему не удавались. Все эти Полины, Грушеньки, Настасьи Филипповны и проч. оставляют вас в каком-то недоумении, хотя Достоевский сводит иногда даже по две представительницы этого загадочного типа (Настасья Филипповна и княжна Аглая{7} в «Идиоте», Грушенька и Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых»). Вы только чувствуете, что у автора был какой-то сложный замысел, с которым, однако, не справился его жестокий талант. И недаром наша критика, много занимавшаяся женскими типами Тургенева, Гончарова, Толстого, Островского, обходила молчанием женщин Достоевского: это в художественном смысле наименее интересный пункт его мрачного творчества. Мальва г. Горького принадлежит к этому же типу, но она яснее, понятнее загадочных женщин Достоевского. Я, конечно, далек от мысли сравнивать изобразительную силу г. Горького с мощью одного из истинно великих художников, и дело здесь не в силе г. Горького, а в той грубой и сравнительно простой среде, в которой выросла и живет его Мальва и благодаря которой ее психология элементарнее, яснее, сохраняя, однако, те же типические черты, которые тщетно старался уловить Достоевский.
Один русский философ разделял женщин на «змеистых» и «коровистых»{8}. В этой не лишенной остроумия юмористической классификации Мальве нет места (как, впрочем, и многим другим женским типам). О сходстве с коровой не может быть и речи: для этого Мальва слишком жива, гибка и изворотлива, да и нет на ней той всегдашней печати материнства, которая лежит на корове. Со змеей же мы привыкли соединять представление о чем-то красивом и вместе с тем неизменно злобном. А Мальва вовсе не неизменно злобная женщина, да и вообще в ней нет ничего неизменного. Вся она состоит из переливов одного настроения или чувства в другое, часто противоположное, но быстро переходящее, причем сама она не могла бы не только определить причины этих переливов, но даже указать их границы, моменты перехода одного настроения или чувства в другое. И если нужно искать для нее зоологической параллели, которая бы выпуклее представила ее основные черты, я сказал бы, что она, как и загадочные героини Достоевского, напоминает собой кошку. Та же привлекательность, объясняющаяся сочетанием силы и мягкости (собственно Мальва, циничная и грязная, привлекательна только для героев г. Горького и в людях с более тонкими требованиями вызвала бы, конечно, совсем иные чувства; но я говорю о типе, оставляя пока в стороне специально босяцкие черты); та же лукавая изворотливость и ловкость, та же самостоятельность и всегдашняя готовность к самозащите иногда бегством, но иногда открытым и упорным сопротивлением, переходящим и в наступление; та же игривая ласковость и нежность, незаметно переливающаяся в озлобление, с которым кошка, играючи, придерживает ласкающую ее руку передними лапами, а задними царапает и зубами грызет: ради этой смеси ощущений, она, как и кошка, сама вызывает известную примесь жестокости, и даже до боли, в ласке…
Я вспоминаю, что Гейне поставил в преддверии своей «Книги песен» женского сфинкса{9} – существо с женской головой и грудью и с львиным туловищем и львиными, то есть преувеличенными кошачьими, когтями. И этот сфинкс в одно и то же время счастливит и мучит поэта, ласкает и терзает когтями:
Umschlang sie mich, meinen armen Leib
Mit den Löwentatzen zerfleischend.
Entzëckende Marter und wonniges Weh,
Der Schmerz wie die Lust unermesslich!
Die weilen des Mundes Kuss mich beglückt,
Verwunden die Tatzen mich grüsslich.[5]
Читатель, который, может быть, только что возмутился не только вышеприведенным юмористическим разделением женщин на змеистых и коровистых, но и моим уподоблением известного человеческого типа кошке, теперь, пожалуй, подумает: с какой стати подниматься в высоты гейневской поэзии по поводу какой-то отверженной, грубой Мальвы? Не слишком ли это много чести для нее? Может ли она сама ощущать и в других возбуждать те тонкие оттенки сложных душевных движений, которые описаны Гейне? Я думаю, однако, что читатель не сказал бы этого, если бы у нас шла речь о Грушеньке «Братьев Карамазовых» или Настасье Филипповне «Идиота», а между тем фактически ведь это продажные женщины, хотя им и доступны высшие колебания и тяготения. Но всякому своя слеза солона. Да и, наконец, повторяю, не о Мальве собственно в эту минуту и речь. Несмотря на грязь, в которой она купается, в ней живут некоторые черты душевной жизни, которыми занимались люди высокого ума и сильного художественного дарования, но которые доселе мало изучены и недостаточно ясны. Черты эти сводятся главным образом к неопределенности границ между наслаждением и страданием, которые мы привыкли резко противопоставлять одно другому, вследствие чего вкладываем слишком абсолютный смысл в ходячее положение: человек ищет наслаждения и бежит страдания. Мрачный гений Достоевского стремился вывернуть этот афоризм на изнанку, придавая ему в этом вывороченном виде столь же безусловный смысл. Это ему не удалось, конечно, но и многими своими образами и картинами, и своим собственным примером, характером своего творчества он дал блестящие иллюстрации той entzëckende Marter и того wonniges Weh, той смеси страдания и наслаждения, которая несомненно существует. Вопрос этот слишком обширный и сложный, чтобы трактовать его в заметках об очерках и рассказах г. Максима Горького, и мы подойдем теперь прямо к Мальве. В таланте г. Горького нет ни силы, ни жестокости, ни бесстрашия Достоевского, но зато он вводит нас в среду, где не стесняются в словах и жестах, поют откровенные песни, ругаются крепкими словами, походя дерутся и где поэтому известные душевные движения получают осязательное, почти животное выражение.
Мальва живет с рыбаком Василием. Василий – пожилой мужик, покинувший для заработков пять лет тому назад деревню, где у него остались жена и дети. Живет он с Мальвой весело, но внезапно является к ним его сын, Яков, взрослый уже парень, с которым Мальва тотчас же начинает заигрывать. Делает она это, не только не стесняясь присутствием своего любовника, но еще поддразнивая его, и разговор кончается тем, что Василий ее жестоко бьет.
«Она, не ахнув, молчаливая и спокойная, упала на спину, растрепанная, красная и все-таки красивая. Ее зеленые глаза смотрели на него из-под ресниц и горели холодной грозной ненавистью. Но он, отдуваясь от возбуждения и приятно удовлетворенный исходом своей злобы, не видал ее взгляда, а когда с торжеством и презрением взглянул на нее – она тихонько улыбалась. Сначала чуть-чуть дрогнули ее полные губы, потом вспыхнули глаза, на щеках ее явились ямки, и она засмеялась». Затем Мальва ластится к Василию, уверяет его, что она довольна его побоями, а что дразнила его – «так ведь это я нарочно… пытала тебя, – и, успокоительно усмехнувшись, она прижалась к нему плечом. А он покосился в сторону шалаша (где оставался сын) и обнял ее. – Эх ты… пытала! Чего пытать? Вот и допыталась. – Ничего, – уверенно сказала Мальва, щуря глаза. – Я не сержусь… ведь любя побил? А я тебе за это заплачу… – Она в упор посмотрела на него, вздрогнула и, понизив голос, повторила: ах, как заплачу!»
Простодушный Василий видит в этом обещании нечто для себя приятное, но читатель может догадываться, что Мальва затаила злобу и месть. Мальва и действительно делает большую неприятность Василию: ссорит его с сыном и доводит дело до того, что он уходит домой, в деревню. Но план этот она задумывает уже позже, по совету забулдыги Сережки, а перед тем у нее происходит с этим Сережкой такой разговор. Она сообщила Сережке, что ее прибил Василий; Сережка подивился – как это она далась. «Кабы захотела, не далась бы, – возразила она с сердцем. – Так что же ты? – Не захотела. – Крепко, значит, любишь седого кота? – насмешливо сказал Сережка и обдал ее дымом своей папиросы. – Ну дела! а я было думал, что ты не из таких. – Никого я вас не люблю, – снова уже равнодушно говорила она, отмахиваясь рукой от дыма. – Врешь, поди-ка? – Для чего мне врать? – спросила она, и по ее голосу Сережка понял, что врать ей действительно не для чего. – А ежели ты его не любишь, как же ты ему позволяешь бить тебя? – серьезно спросил он. – Да разве я знаю? Чего ты пристаешь?»
Герои г. Горького вообще много дерутся, часто и баб своих бьют. Самые умеренные из них в этом отношении советуют: «никогда не следует бить беременных женщин по животу, по груди, и бокам… бей по шее или возьми веревку и по мягким местам» (II, 219). И бабы не всегда протестуют против этих правил. Жена Орлова говорит мужу: «очень уж ты по животу и по бокам больно бьешь… хотя бы ногами-то не бил» (I, 265). Бывает, однако, и так, что прекрасный пол переходит в наступление. В числе «бывших людей» есть старик Симцов, необыкновенно счастливый на амурные похождения: он «всегда имел двух-трех любовниц из проституток, содержавших его по два и три дня кряду на свои скудные заработки. Они часто били его, но он относился к этому стоически – сильно избить его они почему-то не могли – может быть, жалеючи» (II, 235). Но кто бы кого ни бил у г. Горького – мужчина женщину или женщина мужчину, – а эти физические упражнения и сопровождающие их озлобление, обида, страдание, боль так или иначе оказываются в какой-то связи с лаской, любовью, наслаждением. И, читая описания этих битв, поневоле вспомнишь героя «Записок из подполья» Достоевского и его изречения{10}. «Иная сама, чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает: так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй…» «Знаешь ли, что из любви нарочно человека мучить можно». Или: «Любовь-то и состоит в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать». Оттого-то «Игрок» и Полина, как и многие другие пары Достоевского, никак не могут разобраться – любят они друг друга или ненавидят, как не знает и Мальва, любит она или ненавидит Василия. Но у Достоевского люди «тиранствуют» и «мучат» друг друга утонченно, при помощи разных кусательных слов, мучительного давления на воображение и проч., а здесь, у г. Горького, просто дерутся. Эта грубая форма не только, однако, не мешает проявлениям того же переплета наслаждения со страданием, но даже особенно ярко подчеркивает его. Не одна Мальва додразнивает мужа или любовника до драки, за которою следуют нежные ласки. Вот и Матрена, жена Орлова («Супруги Орловы»): «Побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю ее душу, и она, вместо того чтобы двумя словами угасить его ревность, еще более подзадоривала его, улыбаясь ему в лицо странными улыбками. Он бесился и бил ее, беспощадно бил». А потом, когда злоба, достаточно насыщенная, утихала в нем и его брало раскаяние, он пробовал заговаривать с женой и допытываться, зачем она его дразнила. «Она молчала, но она знала зачем, знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидают его ласки, страстные и нежные ласки примирения. За это она готова была ежедневно платить болью в избитых боках. И она плакала уже от одной только радости ожидания, прежде чем муж успевал прикоснуться к ней» (I, 267).
Сюда же относятся следующие, например, случаи. Когда Коновалов объявил своей любовнице, Вере Михайловне, что он больше с ней жить не может, потому что его «тянет куда-то», она сначала стала кричать, ругаться, потом примирилась с его решением, а на прощанье – рассказывает Коновалов – «обнажила мне руку по локоть, да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал. Так целый кусок и выхватила почти… недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел» (II, 13). Старуха Изергиль рассказывает про одного из своих многочисленных любовников: «Был он такой печальный, ласковый иногда, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо. А я, как кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку… С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее» (II, 304).
Старуха Изергиль называет свою жизнь «жадной жизнью» (II, 312). Буквально то же самое говорит в рассказе «На плотах» одно из действующих лиц про Марью: «жадна жить» (I, 63). Так же характеризуется и Мальва и др. Но таковы не только женщины г. Горького. И у Челкаша «натура жадная на впечатления» (I, 19), и Кузька Косяк учит: «жить надо и так, и эдак – вовсю чтобы» (I, 88). И т. д. Этим объясняется многое. Этим прежде всего снимается мистический покров с внутреннего голоса, предписывающего неустанное бродяжество. В условиях жизни героев г. Горького везде «тесно», везде «яма», как они беспрестанно, даже несколько надоедливо-однообразно повторяют. Является желание если не расширить и углубить сферу впечатлений, то менять их в пространстве, и даже до того, что хоть хуже, да иначе. А если и это почему-нибудь невозможно, то оказывается необходимость искусственного возбуждения. Дается оно, конечно, пьянством, но не одним пьянством. Достойна внимания отметка г. Горького о чувствах избиваемой жены Орлова: «побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю ее душу». Вся душа Матрены Орловой требует работы, хотя бы и мучительной, лишь бы жить «вовсю». Эта потребность всесторонней душевной деятельности, покупаемой ценою примеси страдания к наслаждению, интересно иллюстрируется рассказом «Тоска». Это – «страничка из жизни одного мельника».
Мельник Тихон Павлович не босяк какой-нибудь. Он богат, пользуется уважением и почетом и наслаждается «ощущением своей сытости и здоровья». Но вдруг он с чего-то загрустил: тоска обуяла, скука, совесть за разные кулацкие успехи начала угнетать. И Тихон Павлович стал вспоминать, с какого это времени на него нашло. Был он в городе и наткнулся на похороны, в которых его поразила смесь бедности с торжественностью: много венков, много провожатых. Оказалось, что хоронят писателя, и на могиле его один из провожавших сказал речь, которая растревожила Тихона Павлыча. Оратор, воздавая хвалу почившему, говорил, что он был не понят при жизни, потому что «засыпали мы наши души хламом повседневных забот и привыкли жить без души» и т. д. Красноречие ли оратора, особенности ли обстановки похорон или еще что-нибудь повлияло, но с этих пор Тихона Павлыча засосала тоска, тяжелое раздумье о своей «засыпанной хламом повседневных забот душе». Затем Тихон Павлыч нечаянно подслушал вышеприведенный разговор своего работника Кузьки Косяка с девушкой Мотрей и сам имел с Кузькой беседу, в которой старался сохранять вид «нравоучительный и чинный», но в душе завидовал «легкой жизни» веселого собеседника. Заговорил было Тихон Павлыч с женой на тему о душе, заваленной хламом; та посоветовала в церковь что-нибудь пожертвовать, сироту в дом взять, за доктором послать, но все это не удовлетворяло мельника. Он решил ехать в соседнее село Ямки к школьному учителю, который еще недавно обличил в газете одну его кулацкую каверзу. Кузька советует ему иное: «вы бы, хозяин, поехали до города, да и кутнули там вовсю; вот вам и помогло бы». Однако мельник даже несколько обижается этим советом и едет к учителю. Но тот, больной и желчный, не может вникнуть в состояние души обличенного им кулака и понять его бессвязные речи. Мельник едет в город, бессознательно исполняя совет босяка Кузьки, и там, в городе, закучивает. Все подробности этой оргии для нас неинтересны, но некоторые из них надо припомнить.
Грязный трактир. Разные пьяные, пропащие люди. Собираются петь, музыка есть – гармоника. И вот как один из компании учит гармониста: «Нужно начинать с грусти, чтобы привести душу в порядок, заставить ее прислушаться… Она чувствительна к грусти… Понимаете? Вот вы ей сейчас и закиньте удочку – „Лучинушкой“, к примеру, или „Заходило солнце красное“– она и приостановится, замрет. А тут вы ее хватите сразу „Чоботами“ или „Во лузях“, да с дробью, с пламенем, с плясом, чтобы ожгло! Ожгете ее, она и встрепенется! Тогда и пошло все в действие. Тут уж начнется прямо бешенство: чего-то хочется и ничего не надо! Тоска и радость – так все и заиграет радугой…» Запели… Описание собственно этого пения (I, 128–133) принадлежит к числу лучших страниц в обоих томах рассказов г. Горького. Здесь нет и тени той фальши и тех досадных нарушений меры вещей, которые слишком часто оскорбляют и эстетическое чувство читателей, и их требование правды. Из знакомых мне изображений эффекта пения с этими страницами можно поставить рядом «Певцов» Тургенева, и за г. Горького не стыдно будет от этого сравнения. И вы понимаете, что пьяный трактир действительно затих при звуках этой песни и что мельник действительно «давно уже неподвижно сидел на стуле, низко свесив на грудь голову и жадно вслушиваясь в звуки песни. Они снова будили в нем тоску, но теперь к ней примешивалось что-то едко-сладкое, щекочущее сердце… Было что-то жгучее и щиплющее во всех этих ощущениях – оно было в каждом из них и, соединяясь, образовало в душе мельника странную сладкую боль, точно большая, давившая его сердце льдина таяла, распадаясь на куски, и они кололи его там, внутри».
«Сладкая боль»! – ведь это буквально гейневские entzëckende Marter и wonniges Weh («сладкая мука, блаженная боль» в переводе М. Л. Михайлова). Она одновременно счастливит и мучит мельника, и это состояние он старается выразить отрывистыми восклицаниями: «Братцы! Больше не могу! Христа ради, больше не могу!», «Душу мою пронзили! Будет – тоска моя! Тронули вы меня за больное сердце, то есть часу у меня такого не было еще в жизни!», «Тронули вы мне душу и очистили ее. Чувствую я теперь себя – ах, как! В огонь бы полез».
После четырех дней безобразного кутежа Тихон Павлович возвращается домой мрачный, недовольный. Автор в эту именно минуту покидает его, не сообщая ничего о его дальнейшей судьбе, но можно догадываться, что, вернувшись домой, он вернулся и к прежнему образу жизни, лишь изредка вспоминая мгновенья мучительно-сладких ощущений, пережитых им по рецепту босяка Кузьки…
Таковы окольные пути, которыми «жадные жить» герои г. Горького добывают нужные им полноту и разнообразие впечатлений. Пути эти, очевидно, должны быть поставлены отдельно от пьянства, хотя и соприкасаются с ним, – Матрена Орлова не в пьяном виде додразнивает своего мужа до взаимного озлобления, в котором находит, однако, источник некоторой «сладкой боли». Но и самое пьянство этих людей, помимо его скотски-грубых проявлений, может получить то объяснение, которое Тургенев влагает в уста Веретьеву в «Затишье»: «Посмотрите-ка вон на эту ласточку… Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом, куда хочет, туда и бросит! Вон взвилась, вон ударилась книзу, даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью, – чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка. Швыряй себя куда хочешь, несись куда вздумается…»
Пойдем дальше. Чтобы «швырять себя куда хочешь и нестись куда вздумается» в пьяном виде, то есть мысленно облетать миры фантазии и действительности, требуется только водка. Но чтобы реально шагать с места на место по всей земле, как этого хотят герои г. Горького, нужна свобода. Не свобода передвижения только, засвидетельствованная законным документом, подлежащими властями выданным, а свобода от всяких постоянных обязанностей, от всяких уз, налагаемых существующими общественными отношениями, происхождением, принадлежностью к известной группе, законами, обычаями, предрассудками, правилами общепринятой морали и т. д. Мы и видим, что герои г. Горького все отличаются свободолюбием в этом широчайшем, безграничном смысле. Макар Чудра объявляет рабом всякого, кто не бродит по земле куда глаза глядят, а усаживается на месте и так или иначе пускает корни: такой человек «раб, как только родился и во всю жизнь раб». Для «жадного на впечатления» Челкаша Гаврила есть «жадный раб», и Челкашу обидно, что этот раб смеет по-своему «любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна». Значит, есть жадность и жадность. Жадный Гаврила, набрав денег, зароется в свою деревенскую «яму», а жадный Челкаш сейчас же разменяет эти деньги на острые и разнообразные впечатления севера и юга, востока и запада. На всякого рода границы, как географические, так и моральные, реальные и идеальные, эти отверженные или, вернее, как я уже говорил, отвергнувшие смотрят сверху вниз, с высоты своего «жадного жить» я, как на нечто, урезывающее это я до непереносимости. Правда, некоторые из них иногда с грустью и даже с умилением вспоминают о своем прошлом, когда они еще входили в состав того или другого определенного общественного целого и сознательно или бессознательно подчинялись его распорядкам, но это настроение посещает их редко и ненадолго, и вернуться к прошлому они все равно не хотят и не могут. В настоящем их ничто не объединяет в какое-нибудь прочное, постоянное целое. «Народ… он огромный, но я ему чужой и он мне чужой… Вот в чем трагедия моей жизни», – говорит «учитель» в «Бывших людях» (II, 205). Образцы отношений к другим общественным узам мы уже в прошлый раз видели и дальше опять встретим. Для одних из этого проистекает трагедия, для других комедия или даже водевиль, как для Кузьки Косяка, но это дело темперамента, и суть отношений от этого не изменяется.
Иные из героев г. Горького временами как будто «грядущего града взыскуют», но это только разговоры, одна словесность, притом нисколько для них не характерная. Гораздо более свойственные им идеалы и мечты сводятся, как мы видели, к полному отчуждению от людей, полному отсутствию «града», в смысле какого бы то ни было общежития, или к совершенно особому виду отношений, о котором сейчас поговорим подробнее, или же, наконец, к планам всеобщего разрушения. Замечательно однообразие, с которым (как и многое другое) высказывают эти планы люди г. Горького, в других отношениях, казалось бы, очень различные. Так, мы видели, Мальва «избила бы весь народ и потом себя страшною смертью». Так, Орлов мечтает «отличиться на чем-нибудь», хотя бы даже «раздробить всю землю в пыль», «вообще что-нибудь этакое, чтобы встать выше всех людей и плюнуть на них с высоты и потом вниз тормашками – и вдребезги!» А вот еще Аристид Кувалда: «Мне, – говорит он, – было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась бы вдребезги. Лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других» (II, 234). Погибнуть, совершив нечто большое, огромное, грозное, не справляясь с существующей моральной оценкой или даже вопреки ей, – такова мечта.
Но, кроме жития на манер Робинзона (причем и Пятницы не надо, и его можно за ненадобностью убить) и планов всеобщего разрушения, у героев г. Горького есть и еще одна мечта, быть может, самая интересная. Они «жадны жить», для чего им нужна безграничная свобода и никому и ничему они не согласны подчиняться. Но из этого не следует, чтобы каждый из них в отдельности не хотел и других подчинять. Напротив, в подчинении и порабощении других они находят особое наслаждение. Челкаш «наслаждался, чувствуя себя господином другого»– Гаврилы. Он «наслаждался страхом парня и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек». Он «наслаждался своей силой, которой он поработил этого молодого, свежего парня». Оттого-то и Орлов мечтает «встать выше всех людей» и сделать им всем огромную пакость. Но встать выше людей можно не только пакостью, а и благодеянием. И тот же Орлов одно время был одолеваем «жаждой бескорыстного подвига»– вот по каким мотивам: «Он чувствовал себя человеком особых свойств. И в нем забилось желание сделать что-то такое, что обратило бы на него внимание всех, всех поразило бы и заставило убедиться в его праве на самочувствие» (I, 303). Поневоле опять и опять вспомнишь Достоевского с его Ставрогиным{11}, который не знал разницы между величайшим подвигом самоотвержения и каким-нибудь зверским делом, и с его многочисленными иллюстрациями наслаждения властью, мучительством, тиранством. Жажда благородного подвига сказалась в Орлове, когда он вместе с Матреной поступил на службу в холерную больницу. Но и там ему скоро показалось «тесно», и это место болезни, печали и воздыхания, поманившее его радостью любовного труда, оказалось «ямой». В кратковременный же период увлечения мечтой о подвиге он рассуждал, например, так: «То есть если бы эта холера да преобразилась в человека… в богатыря… хоть в самого Илью Муромца, – сцепился бы я с ней! Иди на смертный бой! Ты сила, и я, Гришка Орлов, сила, – ну, кто кого? И придушил бы я ее и сам бы лег… Крест надо мной в поле и надпись: „Григорий Андреев Орлов. Спас Россию от холеры“. Больше ничего не надо». Но когда ему показалось «тесно», он опять принялся за Матрену, постоянно переходя от страстных ласк к жестокой драке. Однажды, например, он было «поддался» жене – покорно выслушал ее упреки и признал, что нехорошо делает, что дерется. Но на другой же день раскаялся в этом душевном движении и «пришел с определенным намерением победить жену. Вчера, во время столкновения, она была сильнее его, он это чувствовал, и это унижало его в своих глазах. Непременно нужно было, чтобы она опять подчинилась ему: он не понимал почему, но твердо знал – нужно». Подобные же черты читатель найдет и в других героях и героинях г. Горького. И, как бы проникаясь этим настроением своих созданий, сам автор от себя кладет в одном месте следующую психологическую резолюцию: «Как бы низко ни пал человек, он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее, хотя бы даже сытее своего ближнего» (II, 211).
Я написал: «как бы проникаясь настроением своих созданий». В действительности может быть совершенно наоборот: не автор, увлеченный самым процессом творчества, проникается настроением своих персонажей, а, напротив, автор творит людей по своему образу и подобию, вкладывая в них нечто свое, задушевное. Во всяком случае, только что приведенная авторская резолюция показывает, что, как бы мы тщательно ни всматривались в босяков г. Горького, мы их не поймем и, в частности, не оценим степени их подлинности, пока не приглядимся к самому г. Горькому.
До сих пор мы видели босяков, может быть и подкрашенных, но, во всяком случае, реальных. Но в собрании очерков и рассказов г. Горького есть и такие, в которых изображаются босяки, так сказать, отвлеченные, очищенные или даже иносказательные, аллегории и символы босячества. Таковы в первом томе «Песня о Соколе» и то, что Макар Чудра рассказывает про Лойка Зобара и Радду, а во втором – рассказ «О чиже, который лгал, и о дятле – любителе истины» и то, что старуха Изергиль рассказывает про Данко. Герои этих рассказов – существа фантастические или полуфантастические – столь же вольнолюбивы и жадны жить, как и заправские босяки в освещении г. Горького, но совершенно чужды другой стороны реальной босяцкой жизни – мира тюрем, кабаков и домов терпимости. Понятно, какой интерес представляют эти отвлеченные, фантастические существа для уразумения точки зрения автора. Та скорбь и то отвращение, которые он часто не может сдержать при описании пьянства, грубости, цинизма, драк реальных босяков, при этом, естественно, отпадают, и мы можем рассчитывать получить в чистом виде то, что поднимает отверженцев над общим уровнем, как в их собственных глазах, так и в глазах автора.
Начнем с рассказа Макара Чудры про Лойка Зобара и Радду. Это рассказывает старый цыган о молодых цыгане и цыганке, и рассказ его блещет роскошью восточных красок, гиперболических сравнений, сказочных подробностей, но я должен признаться, что он производит на меня впечатление неудачной подделки. Дело, впрочем, теперь не в этом. Зобар – красавец писаный, притом смел, умен, силен, вдобавок поэт и играет на скрипке так, что когда в таборе, к которому принадлежала Радда, в первый раз услыхали, еще издали, его музыку, то произошло следующее: «Всем нам, – рассказывает Чудра, – мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего и жить уж не нужно было или, коли жить, так царями над всей землей». Характерно уже это «или – или»: или ничто, небытие, или вершина вершин. Но Макар Чудра может испытывать это настроение во всей полноте только в минуты экстаза, вызванного чудодейственною музыкой. Другое дело Зобар. И Радда ему под пару: она тоже писаная красавица, тоже умна, сильна, смела. Естественное дело, что, когда судьба сталкивает молодого человека и молодую девушку таких исключительных и многоразличных достоинств, между ними возгорается любовь со всем радужным блеском страсти и нежности. Зобар и Радда действительно полюбили друг друга, но, как и у реальных босяков г. Горького, любовь их до боли колюча – даже до смерти. Радда – та же Мальва, только поднятая на некоторую поэтическую высоту. Отношения начинаются с того, что Зобар, привыкший «играть с девушками, как кречет с утками», получает от Радды жесткий и язвительный отпор. Она зло издевается над ним, но он или провидит под этим издевательством нечто иное, или уж очень в себе уверен, а только, при всем честном народе, обращается к ней с такой речью: «Много я вашей сестры видел, эге много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну, что же? Чему быть, так то будет, и нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно бы было. Беру тебя в жены перед Богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь, я все-таки свободный человек и буду жить так, как я хочу!» И с этими словами подошел к Радде, «стиснув зубы и сверкая глазами». Но Радда вместо ответа свалила его наземь, ловко захлестнув ему за ногу ременное кнутовище, а сама смеется. Зобар, пристыженный и огорченный, ушел в степь и там замер в мрачном раздумье. Через несколько времени к нему подошла Радда. Он схватился было за нож, но она пригрозила разбить ему голову пистолетной пулей и затем объяснилась в любви; однако, говорит, «волю-то я, Лойко, люблю больше тебя; а без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня; так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой, и телом». «Все равно, как ты ни вертись, я тебя одолею», – продолжает она и требует, чтобы он завтра же «покорился» и выразил эту покорность внешними знаками: публично, перед всем табором поклонился бы ей в ноги и поцеловал ей руку. Зобар на другой день является и держит перед табором речь, в которой объясняет, что Радда любит свою волю больше, чем его, а он, напротив, любит Радду больше, чем волю, и потому согласен на поставленные ею условия, но, говорит, «остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала». С этими словами он вонзает нож в сердце Радды, и она умирает, «улыбаясь и говоря громко и внятно: „Прощай, богатырь Лойко Зобар! Я знала, что ты так сделаешь“». Выходит затем отец Радды и убивает Зобара, но убивает, так сказать, почтительно, как уплачивают долг уважаемому кредитору.
Такова любовь в тех фантастических, так сказать, надземных сферах, где герои г. Горького являются очищенными от всего, чем грязнит их мир кабаков, домов терпимости и тюрем. Пролита кровь, но не в какой-нибудь пьяной драке и не из корыстных видов: г. Горький так обставил дело, что кровь Радды проливается с ее согласия и она умирает «улыбаясь» и воздавая хвалу убийце, а ее отец и Зобар просто – один отдает, а другой получает долг. Зобар и Радда жадны жить. Как в короле Лире «каждый вершок – король», так и в них каждый вершок жить хочет. Поэтому они хотят быть совершенно свободными, а любовь, они чувствуют, уже урезывает эту свободу: «смотрел я, – говорит Зобар, – этой ночью в свое сердце и не нашел места в нем старой вольной жизни моей». Если любовь с их точки зрения и не совсем совпадает с определением героя Достоевского («добровольно дарованное от любимого предмета право над ним тиранствовать»), то, во всяком случае, элемент господства, преобладания, власти играет в ней существенную роль. А так как Зобар и Радда равноценны, то задача покорения оказывается невозможною, и они на этой невозможности погибают. Но они не уклоняются от этой погибели и не жалеют о ней.
Не жалеет о своей погибели и сокол в «Песне о Соколе». Он расшибся, падая с высоты на камень (а потом в море), но на вопрос ужа презрительно и гордо отвечает: «Да, умираю!.. Я славно пожил… Я много прожил… Я храбро бился… И видел небо. Ты не увидишь его так близко… Эх ты, бедняга!» Заинтересованный этими словами, уж в меру своих сил тоже попробовал было подняться к небу, но «рожденный ползать – летать не может», и уж рассуждает: «Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она – в паденьи… Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу». И т. д. Однако песня или сказка («Песня о Соколе» есть будто бы народная крымско-татарская песня-сказка) не согласна с ужом и поет хвалу жадному жить, свободному соколу: «О, смелый сокол! Ты, живший в небе, бескрайном небе, любимец солнца! О, смелый сокол, нашедший в море, безмерном море, себе могилу! Пускай ты умер! Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь призывом громким к свободе, к свету!»
Чиж («О чиже, который лгал, и о дятле – любителе истины»), чиж – не сокол. Он птица маленькая и слабокрылая. Однако у него хватило силы и смелости смутить на некоторое время птиц своей рощи песнями о свободе, просторе, призывами «вперед». Но ученый дятел скоро отвратил от него общественное мнение, доказав птицам, что путь, предлагаемый чижом, полон опасностей и ни к чему хорошему привести не может. Бедный чиж, оставленный всеми, горько задумался: «Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо! Я же только и хотел пробудить веру и надежду – и вот почему я солгал… Он, дятел, может быть и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья и не позволяет высоко взлетать на небеса?» Чиж предпринял ни больше ни меньше как возбудить в птицах уверенность, что «мы не должны уставать и должны всегда бороться и все победить, чтобы оправдать самих себя в своих глазах, чтобы иметь право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее – это мы, а не слепая сила стихий». Он был тоже жаден жить, этот маленький чиж. Дятел же отстаивал противоположный тезис: «все мы – не более как только крошечные факты, подтверждающие грандиозный факт мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, как дети подчиняются матери». Чиж был жаден жить, но слаб и не сумел парировать аргументы дятла, и толпа отхлынула от него и оставила его в мрачном одиночестве, а автор резюмирует всю историю так: «Чиж благороден, но не имеет веры и поэтому нищ духом; дятел благоразумен, но пошл, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они в сущности черствы сердцем и мелки, мелки, позорно мелки…»
Черствы сердцем и мелки, позорно мелки не только птицы той рощи, которую было взбудоражил чиж и утихомирил дятел. Старуха Изергиль рассказывает такую легенду. Где-то, когда-то жили какие-то люди. Нахлынуло на них чужое племя и оттеснило в глухой, дремучий, болотистый лес. Плохо пришлось людям: назад идти нельзя – там сильные и злые враги, а впереди лес все дремучее, болота все непроходимее. Стали люди болеть, умирать. «Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар себя и волю свою, и никто уж, испуганный смертью, не боялся рабской жизни». Но среди этой запуганной толпы был Данко. Изергиль особенно напирает на его красоту и смелость – должно быть, он был похож на Лойко Зобара. Данко взялся вести своих товарищей по несчастию. Не то чтобы он знал какие-нибудь безопасные или удобные дороги – нет, единственно, на что он сослался, это то, что должен же быть у этого страшного леса где-нибудь конец, потому что ведь всему на свете бывает конец. Но он заявил это с такой уверенностью, что в сердцах слушателей заиграла надежда и они пошли за Данко. Но лес становился все гуще, мрачнее, люди стали роптать и, наконец, даже грозить Данко смертью. Негодование и жалость к этим презренным людям овладели Данко, «и вот его сердце вспыхнуло ярким огнем желания спасти их и вывести на легкий путь… И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно же пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота». Руководимые этим факелом люди прошли сквозь лес в степь, но тут Данко, «кинув радостный взор на развернувшуюся перед ним свободную землю», умер. «Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло…»
Данко совершает подвиг самопожертвования, причем оказывается одиноким сначала впереди смущенной толпы, потом одиноким перед разъяренной толпой, потом опять одиноким впереди толпы обнадеженной, спасенной и неблагодарной. Ларра (это имя, по объяснению старухи Изергиль, значит «отверженный, выкинутый вон») тоже одинок в толпе соплеменников, но он не совершает подвига самопожертвования. Напротив… Ларра – сын орла и похищенной им женщины. Орел умер («когда он стал слаб, то поднялся в последний раз высоко на небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы гор»), его невольная жена вернулась к своему племени с двадцатилетним сыном, сильным, гордым и смелым красавцем, опять-таки вроде Зобара или Данко. Он сразу встал в дурные отношения к старейшинам племени, отказавшись им повиноваться и объявив, что «таких, как он, нет больше». Затем он подошел к одной красивой девушке и обнял ее; она его оттолкнула, а он «ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, встал так, что из ее уст кровь брызнула к небу и она вздохнула тяжко, извилась змеей и умерла». Его связали и хотели казнить, но сначала попытались добиться, зачем он убил девушку. Он отказался отвечать связанный, а когда его развязали, сказал следующее: «Я, может быть, сам не верно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, что меня оттолкнула она; а мне было нужно ее». Из дальнейшего разговора выяснилось, что «он считает себя первым на земле и что, кроме себя, он не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни подвигов, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого». И когда поняли это, то мудрейший из старейшин племени придумал ему страшное наказание: «Наказание ему в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание». Юноша весело ушел и стал жить «свободный, как отец его; но его отец не был человеком, а этот был человек». Он был ловок, силен, хищен, жесток; он приходил время от времени к людям и брал все, что ему нужно было. В него стреляли, но стрелы «не могли пронизать его тела, обвитого невидимым человеку покрывалом высшей кары». Многие, многие годы жил он так, но наконец это ему надоело. «Нельзя всегда наслаждаться – потеряешь цену наслаждению и захочется страдать». Он и пошел к людям с этой целью, но они не тронули его, он покушался убить себя, но смерть не брала его. «В глазах его было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. И так с той поры остался он один, свободный и ищущий смерти. И вот он ходит, ходит, повсюду…»
Лойко Зобар, Радда, Сокол, Чиж, Данко, Ларра – вот вся портретная галерея идеальных, очищенных от грязи босяков г. Горького. Что это именно они – преображенные Челкаши, Мальвы, Кувалды, Косяки и проч.,– в этом едва ли кто-нибудь усомнится. Мы видим в них ту же «жадность жить»; то же стремление к ничем не ограниченной свободе; то же фатальное одиночество и отверженность, причем не легко установить – отверженные они или отвергнувшие; ту же высокую самооценку и желание первенствовать, покорять, находящие себе оправдание в выраженном или молчаливом признании окружающих; то же тяготение к чему-нибудь чрезвычайному, пусть даже невозможному, за чем должна последовать гибель; ту же жажду наслаждения, соединенную с готовностью как причинить страдание, так и принять его; ту же неуловимость границы между наслаждением и страданием.
Но это не трафареты, а варианты, иногда, в отдельных чертах, даже слишком близкие между собою, иногда расходящиеся довольно далеко, но, во всяком случае, так сказать, вращающиеся около одной оси. Если, например, Орлов сегодня мечтает о спасении России от холеры ценою собственной жизни, а завтра об избиении «всех до единого жидов» или даже о раздроблении всей земли в пыль, то в коллекции очищенных босяков подвиг самопожертвования предоставлен Данко, а злодейские подвиги – Ларре; но, несмотря на эту разницу, и тот и другой являются нам в некотором ореоле гордой силы и красоты. Если Чиж слабокрыл и вообще слаб сам, то он все же зовет других к свободе, простору и по крайней мере на некоторое время покоряет сердца призывом птиц к великому делу. Если Коновалов находит ненужным присутствие даже Пятницы на острове Робинзона, а Ларре одиночество досталось в виде страшной кары, то с течением времени Коновалов, надо думать, пожалел бы, что убил «дикого», хотя бы уже потому, что оказался бы в «яме»; а Мальве, тоже мечтающей об одиночестве, люди, наверное, понадобились бы, чтобы «вертеть» ими. С другой стороны, Ларра далеко не сразу почувствовал боль и скорбь одиночества: он наслаждался им «не один десяток длинных годов», и вернулся он к людям потому, что его потянуло к страданию. В целом получается нечто смутное, загадочное, как бы еще только прорезывающееся и, по-видимому, оправдывающее претензию Аристида Кувалды… мы новость в истории, нам нужны новые воззрения на жизнь…
Появлению таких ли, сяких ли «новых людей», не в виде одиноких ласточек, которые весны не делают, а в виде целого «класса», как это утверждает относительно своих босяков г. Горький, должно соответствовать известное изменение общественных условий. Но после всего сказанного едва ли есть какая-нибудь надобность доказывать, что герои г. Горького «класса» не составляют, как в силу неопределенности их положения, так и в особенности в силу проникающего все их существо индивидуализма, исключающего возможность прочной группировки. Это, однако, еще ничего не говорит против их «новости». Но мы видели, что г. Горький даже не коснулся тех внешних, объективных условий, которые действительно только в наше время создают босяков; что, вследствие этого, его «новые» босяки по происхождению ничем не отличаются от старых гулящих людей и голи кабацкой и даже напоминают собою времена кочевого быта. Это подтверждается еще и тем обстоятельством, что в рядах героев г. Горького есть настоящие кочевники, ничем, собственно, из них резко не выделяясь. Зобар, Радда, Данко, Ларра – существа фантастические или по крайней мере легендарные; поэтому их, пожалуй, и нельзя брать в счет, хотя и то уже достойно внимания, что эти создания фантазии помещены в условия кочевого быта. Но Изергиль, Макар Чудра – цыгане, из тех, которые «шумною толпой по Бессарабии кочуют», то есть настоящие, живые кочевники, насколько они удержались в условиях современной европейской жизни. А между тем их мысли, чувства, поступки в общем совершенно те же, что у Мальвы, Гришки, Кузьки Косяка и проч. Значит, какая же это «новость»? Это, напротив, нечто очень старое, давно пережитое историей, лишь кое-где сохранившееся в урезанном виде и не имеющее никакой связи со вступительной картиной рассказа «Челкаш», где «гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди – все дышит мощными звуками бешено-страстного гимна Меркурию».
Если, однако, «новость» героев г. Горького ни единою чертою не оправдана с точки зрения их происхождения, порождающего их исторического процесса, то, как я уже говорил, в их психологии есть нечто действительно новое. Но в таком случае можно ожидать, что в психологию кочевников – Изергили, Макара Чудры и их отражений в мире фантазии и легенды, то есть Зобара, Ларры и проч. – автор ввел некоторые произвольные, не соответствующие действительности черты. Так оно и есть.
Слово «чандалы», подвернувшееся мне для обозначения наших босяков и европейского Lumpenproletariat'a[6], наводит на некоторые любопытные сближения. Существует мнение, что цыгане суть потомки индийских чандалов, когда-то выселившихся или выселенных из родины. Чандалы же индийские суть отверженцы разных каст, цементированные национальным элементом туземного, доарийского населения и затем строгими постановлениями суровых индусских законов и обычаев. Действительно ли цыгане их потомки или нет, но они, во всяком случае, представляют собою отверженное (или отвергнувшее) племя, распадающееся, как и все кочевники, не непосредственно на индивидуальные атомы, а на орды, таборы, роды, семьи. Сообразно этому, свобода и свободолюбие кочевого человека представляют собою нечто очень относительное: он с трудом переносит ограничения, налагаемые условиями цивилизованной жизни, но вместе с тем крепко стиснут теми общественными единицами, в состав которых входит. Об цыганской вольной жизни мы имеем совершенно фантастические представления, основанные главным образом на разных «цыганских романсах». В действительности, цыган и особенно цыганка находятся в полной власти своего табора, что сохранилось даже в тех цыганских «хорах», которые дают нам свои концерты; и не только находятся во власти, но и не тяготятся этими узами, доколе остаются настоящими, типическими цыганами. Кочевник любит свободу, но совсем не так и не такую, как современный босяк, и обратно – какой-нибудь Кузька Косяк, или Сережка, или Коновалов, при всей своей склонности к бродяжеству, почувствовали бы себя очень плохо в таборе, в котором так хорошо уживается Макар Чудра, тоже исповедующий принцип вечного бродяжества. Кочевник бродяжит целой ордой, табором, стадом, с которым связан самыми тесными узами, а Сережка и Кузька бродяжат в одиночку и никаких уз не знают или не хотят знать. В этом и состоит их «новость», но не только в этом.
Слово «чандалы» наводит еще на одну справку. Выше были указаны некоторые точки соприкосновения г. Горького с Достоевским. А в 1894 году, излагая на этих же страницах с некоторою подробностью учение Фр. Ницше{12}, я отметил подобные же точки соприкосновения с Достоевским несчастного немецкого мыслителя. Указывал я и на необыкновенное уважение, с которым Ницше относился к нашему художнику, знакомому ему, по-видимому, только по «Запискам из мертвого дома»{13}. В одном из своих сочинений («Götzen Dëmmerung»), восторгаясь силою психологического анализа, с которою Достоевский проникает в душу обитателей Мертвого дома, Ницше говорит о «чувстве чандала», чувстве «ненависти, мести и восстания против всего существующего»{14}, каковое чувство, дескать, живет в душе каждого сильного человека, не нашедшего себе места в современном «покорном, посредственном, кастрированном обществе».
Думаю, что читатель не затруднится усмотреть это чувство в героях г. Горького. Но соблазнительная возможность сближения с идеями Ницше идет гораздо дальше. Предупреждаю, что я отнюдь не думаю доказывать, что свое освещение жизни г. Горький заимствовал у Ницше, – он нигде о нем не упоминает (хотя нашел же случай упомянуть, например, о Шопенгауэре{15}) и, может быть, совсем не знаком с ним. Но тем интереснее совпадение, свидетельствующее о том, что известные идеи носятся в воздухе, не только кристаллизуясь в виде все растущего множества поклонников Ницше в Европе, но вот и у нас прорезывающихся самостоятельно, не говоря о людях, прямо заимствующих свой свет от Ницше. Во всяком случае, Ницше со всем своим нравственно-политическим учением не был бы чужим среди философствующих босяков г. Горького.
Начать с того, что одиночество играет в соображениях Ницше не меньшую роль, чем в мечтах и в жизни босяков г. Горького. Ницше слагает настоящие гимны одиночеству и даже предлагает установить новую научную дисциплину: рядом с наукой об обществе, Gesellschaftslehre, – науку об одиночестве, Einsamkeitslehre{16}. Но одиночество не только драгоценно и как таковое составляет законный предмет мечтаний – оно неизбежно для всякого сильного человека, так как любая общественная форма требует от него уступок хоть какой-нибудь части его я, а он на подобные уступки согласиться по самой своей природе не может[7].
Но, кроме сильных, существуют и слабые, охотно подчиняющиеся многоразличным ограничениям свободы, да и для сильных Einsamkeitslehre не исключает надобности в Gesellschaftslehre – не потому, чтобы одиночество было невозможно: Ницше не знает ничего лучшего, как «погибнуть на великом и невозможном»{17}; и не потому, чтобы одиночество доставляло страдания: Ницше готов принять страдание, и высшее наслаждение для него состоит в борьбе со всеми ее положительными и отрицательными шансами; но главным образом потому, что в сильных живет Wille zur Macht, «воля к власти»{18}, как у нас буквально переводят. Эта жажда власти, могущества есть, по мнению Ницше, главный двигатель истории и тесно связана с одним из коренных свойств человеческой природы – жестокостью: «вид страдания доставляет удовольствие, причинение страдания доставляет еще большее удовольствие{19}; таков жестокий, но старый и могущественный закон» (Genealogie der Moral). Аскетическая практика самоистязания в ее свирепых формах имеет тот же источник: за отсутствием или недосягаемостью других индийский фанатик и т. п. терзает свое собственное тело и при том наслаждается своим превосходством над теми, кто не в силах это делать. Слабость, трусость, лицемерие часто заслоняют эти коренные свойства человеческой природы и в настоящее время у цивилизованных народов создали «мораль рабов» в противоположность «морали господ»{20}, которую некогда исповедывали сильные, жизнерадостные, жестокие, чувственные, властные люди – «великолепные, жаждущие победы и добычи животные». То было время торжества красоты, силы, время здоровых инстинктов, не изъеденных рассудочным анализом и мертвящей рефлексией[8]. Ныне торжествует «мораль рабов», в основании которой лежит кротость, смирение, покорность, умеренность и аккуратность, не воздействие на обстоятельства, а подчинение им. Но временами прокидываются экземпляры прирожденных «господ», которым принадлежит будущее. Они суть прообразы «сверхчеловека», имеющего наследовать землю. В настоящее же время они суть чандалы, отверженные или отвергнувшие носители чувств мести и ненависти ко всему существующему, не уживающиеся в тех, если угодно, «ямах», которые им предлагаются существующими условиями, и населяющие Мертвый дом Достоевского. Но этот исход не единственный, это только случай победы прирожденного «господина» рабским обществом; возможен и противоположный исход, когда чандал, преступивший все законы и всю мораль рабского общества, становится его действительным господином: таков был Наполеон. (Напомню, что и для Раскольникова в «Преступлении и наказании», считавшего себя необыкновенным, из ряда вон выходящим человеком, имеющим право «преступить», Наполеон был идеалом.)
Я не думаю, конечно, излагать здесь все взгляды Ницше и оставляю в стороне многое, очень многое, в том числе подробности о «сверхчеловеке», о проповеди «любви к дальнему» взамен «любви к ближнему»{21}и т. п. Все это не имеет своей параллели в произведениях г. Горького. Для нас интересна здесь только психология чандалов. И, полагаю, никто не усомнится признать разительное сходство ее с психологией героев г. Горького. Кто, как не ницшевские прирожденные господа этот Челкаш в противоположность рабу Гавриле, Сокол в противоположность Ужу, Кузька Косяк в противоположность мельнику, Данко в противоположность всему табору, удалец Сережка в противоположность разной деревенщине, даже отчасти Чиж в противоположность Дятлу или Макар Чудра, который учит автора: «Что ж, он родился затем, что ли, чтобы поковырять землю да и умереть, не успев даже могилы себе выковырять? Ведома ему воля? Жизнь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Эге! Он раб, как только родился, и во всю жизнь раб».
Отмечу некоторые любопытные детали. Ницше рекомендовал (в «Morgenrëthe») всем, кому тесно в Европе и кто, конечно, чувствует себя «господином», удаляться в дикие места и там основывать новые государства{22}, становясь во главе их. Ницше, как сообщают его биографы, и сам одно время мечтал о подобной роли. Не напоминает ли это читателю мысленное переселение Коновалова на остров Робинзона? Хотя Коновалов устранял оттуда даже Пятницу, но, как я уже говорил, по всей вероятности, скоро пожалел бы об этом. По крайней мере Мальва мечтает или жить далеко в море в полном одиночестве и, следовательно, никому не подчиняться, или «завертеть бы каждого человека, да и пустить волчком вокруг себя», то есть себе подчинить.
Мы видели, что босяки г. Горького не особенно мягко относятся к своим дамам и бьют их. А Ларра, осужденный на одиночество, приходил брать у своих соплеменников силком «скот, девушек, все, что хотел». Значит, присутствие женщин не нарушало его одиночества, женщина в счет не идет. Для Ницше женщина «изящная и опасная игрушка»{23}, высшею мечтою которой должна быть надежда родить сверхчеловека. А мудрая старушка советует Заратустре: «если ты идешь к женщине, не забудь захватить кнут»{24}. Но, конечно, и мудрая старушка, и сам Заратустра сделали бы исключение, например, для Радды, которая, будучи прирожденной «госпожой», столь же мало способна подчиниться Зобару, как и он ей.
Еще одно – и последнее – мелкое замечание, оправдать которое предоставляю самому читателю: кто читал статью Ницше «Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben»[9], тот может принять рассказ г. Горького о Чиже и Дятле чуть не за художественный комментарий к этой статье…
Что из всего этого следует? Прежде всего то, что больной немецкий мыслитель-художник, произведения которого переполнены странностями, противоречиями, произвольными положениями и выводами, но тем не менее высокообразованный и высокодаровитый, а некоторые утверждают – даже гениальный, что этот мыслитель-художник может занять место среди русских Челкашей, Сережек, Кузек и прочих грубых, пьяных, преступных, невежественных героев г. Горького. Это не так странно, как может показаться с первого взгляда. С одной стороны, сам Ницше различает чандалов – обитателей Мертвого дома и чандалов-Наполеонов{25}, причем различие это устанавливает не по существу, а по случайностям судьбы тех и других; с другой стороны, и в коллекции г. Горького есть не только Сережки и Кузьки, а и облитые поэтическим ореолом Зобары, Данки, Соколы, Ларры. Наконец, мы имеем еще промежуточное звено в лице многих героев Достоевского, каковы не только обитатели Мертвого дома, приближающиеся к Сережкам и Челкашам, а и Став-рогины, Раскольниковы и проч., приближающиеся к Зобарам, Ларрам, Наполеонам.
Повторяю, я отнюдь не утверждаю, что на г. Горького имел влияние Ницше, и склонен, напротив, думать, что это именно совпадение, а не сознательное усвоение или бессознательное подражание. Влияние Достоевского может быть достовернее. Но, во всяком случае, мы имеем трех писателей, весьма различных, по-видимому, и по совокупности образа мыслей, и по степени таланта, и по форме работы, но сосредоточивших свое внимание на одних и тех же явлениях душевной жизни, весьма мало изученных. И, по-видимому, эти явления становятся все ярче, заметнее, потому что вот по крайней мере в Европе они нашли себе теоретическое обоснование и апологию в учении Ницше.
Надо, однако, заметить, что физиономия Ницше представляет собою нечто чрезвычайно сложное и противоречивое, ввиду чего в Европе, несомненно переживающей ныне некоторый духовный кризис, им интересуются, желают опереться на него или причислить его к своим люди чрезвычайно различных направлений. Не говорю о тех, кто гонится за всякой новинкой, какова бы она ни была, лишь бы это было хронологически «последнее слово», и кого ни к чему не обязывает это последнее слово, из которого они, впрочем, и корысти никакой не извлекают, а так себе, как перо на шляпе носят. Но вот, например, нравственно распущенные люди, люди sans foi ni loi[10] пожелали опереться на «имморализм» Ницше; и совершенно напрасно, потому что хотя он и сам называл себя «имморалистом», но, в сущности, он настоящий моралист, притом очень строгий, только его мораль резко отличается от ныне общепризнанной. В Европе все растет разочарование в общественных формах, выработанных ее историей, и не только реальных, но и в тех грядущих формах, которые вырабатываются различными социалистическими системами. Одним из плодов этого разочарования является анархизм. Некоторые из исповедующих анархизм и приветствовали Ницше. Они имели для этого некоторое основание в той части его учения, которая беспощадно разрушает все, как реальные, так и идеальные общественные формы, дескать, стесняющие и урезывающие личность, а также и еще кое в чем. Но, узнав об этом, Ницше вложил в уста своему Заратустре такие слова: «Есть люди, проповедующие мое учение о жизни;{26} и в то же время это проповедники равенства и тарантулы. Я не хочу, чтобы меня смешивали с этими проповедниками равенства». И действительно, трудно найти большего ненавистника идеи равенства, чем Ницше. Его учение – аристократическое durch und durch[11], как говорят немцы. О рабочих он выражается так: «побрал бы их черт и статистика»{27}; к толпе, партии, большинству, множеству, массам, народу он относится с величайшим презрением, не примыкая, однако, ни к одному из существующих аристократических течений и, напротив, громя наличные аристократии рода и капитала. Однако и в этом отношении есть в европейской литературе явления, которые можно поставить в связь с учением Ницше. Это, во-первых, некоторые отроги дарвинизма (как читатель мог видеть хотя бы из недавней нашей беседы о книге «Von Darwin bis Nietzsche»[12]). Это, во-вторых, ряд если не прямо аристократических, то, во всяком случае, антидемократических толкований вопроса о «героях и толпе»[13]. Наконец, и некоторые декаденты не без основания признают Ницше своим, хотя должны бы это делать с большими оговорками.
Все это я говорю как вообще ввиду растущего у нас интереса к учению Ницше[14], так, в частности, для убеждения читателя в том, что усвоение той или другой стороны этого учения, а тем более совпадение с одной из них, отнюдь не обязательно ведет к принятию всего Ницше. В данном случае у нас речь идет главным образом о некоторых темных явлениях душевной жизни, которые в нашей литературе разрабатывались Достоевским совершенно самостоятельно и раньше Ницше; причем общее мировоззрение Достоевского резко отличается от мировоззрения Ницше и во многих отношениях даже прямо противоположно: если бы Ницше знал всего Достоевского, то, конечно, не отзывался бы о нем с такой восторженностью, как теперь.
Что касается г. Максима Горького, то он еще слишком молод (разумею, конечно, литературную молодость) и недостаточно определился, чтобы можно было судить как о его общем мировоззрении, так и о его дальнейшей литературной карьере. Его талантливость, наблюдательность и оригинальность не подлежат сомнению. Но все это может в будущем и расцвесть пышным цветком и если не иссякнуть, то затеряться в погоне за психологическими тонкостями, в своего рода психологической гастрономии, презирающей здоровое и питательное и ищущей острого, пряного, редкого и исключительного. Конечно, и редкое вполне достойно нашего внимания, тем более что оно часто оттеняет собою и, следовательно, уясняет общие душевные процессы. Но психологические гастрономы, к числу которых Достоевский принадлежал, склонны, во-первых, придавать исключительному слишком общее значение, а во-вторых, искусственно и произвольно составлять разные пикантные комбинации.
«Декаденты – тонкие люди. Тонкие и острые, как иглы, они глубоко вонзаются в неизвестное». Это говорит у г. Горького один из героев рассказа «Ошибка» (II, 350). Я до сих пор не касался этого странного рассказа, стоящего особняком в двух томиках г. Горького, но ясно указывающего, мне кажется, на те опасности, которые грозят автору на его дальнейшем литературном пути. Декаденты (конечно, искренние, потому что есть и просто ломающиеся, ради интересной позы) желали бы быть подобны тонким и острым иглам, глубоко вонзающимся в неизвестное, но в действительности закутывают туманом и извращают вычурностью часто даже вполне известное. И вот этот-то туман и эта вычурность вместо искомой тончайшей правды грозит и г. Горькому. Он может считать себя неответственным за приведенную хвалу декадентам, потому что выказывает ее психически больной Кирилл Иванович Ярославцев. Но вместе с тем как Ярославцеву, так и другому действующему лицу, тоже психически больному, Марку Даниловичу Кравцову, приписаны мысли и настроения, общие всем босякам г. Горького (хотя и Ярославцев, и Кравцов не босяки) и, очевидно, очень занимающие автора. Тут и «человек, к жизни не причастный и от нее отторгнутый», и жажда подвига, и афоризм: «жалость и жестокость! да ведь это два совершенно однородные слова»; и желание «вывести вон из жизни всех тех людей, которые, несмотря на свои пятна, все-таки самые светлые люди жизни», и предложение «выйти за границы жизни в песчаные необитаемые пустыни», и т. д. Сомневаясь, чтобы специалист-психиатр нашел картины болезни Ярославцева и Кравцова соответствующими действительности, думаю, что это совершенно произвольная психиатрия. А вместе с тем не выясняются и так занимающие г. Горького мысли и настроения, потому что двое сумасшедших, конечно, могут только запутать дело.
Остановимся хоть на одном пункте. «Жалость и жестокость – два совершенно однородные слова», и Ярославцеву «удивительно, как это до сей поры никто не замечал, что это синонимы по смыслу». Это одна из вариаций на тему о границах наслаждения и страдания. Но вот как иллюстрирует свой афоризм Ярославцев. Однажды в деревне он был свидетелем следующей сцены: телка упала в овраг и сломала себе передние ноги; собралась толпа; она «стояла вокруг телки и больше с любопытством, чем с состраданием, наблюдала за ее движениями и слушала ее стоны»; подошел кузнец Матвей и, обругав «дурачьем» «любующихся» на страдания телки, ударил ее по голове железной полосой и тем прекратил страдания. Ярославцев заключает: «Вот он как жалел, этот Матвей! Может быть, он так же бы поступил и с человеком безнадежно больным. Морально это или не морально? Во всяком случае, это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо. Я люблю хорошее, и это морально; я слаб и, значит, я хорош! Вот как!» Я уже не говорю о полной бессмыслице последних слов, тут даже и разобрать ничего нельзя. Но возьмем самый факт, иллюстрирующий положение о тождественности жалости и жестокости. Ясно, что жестока была толпа, если она «любовалась» зрелищем страданий телки, и тут можно подозревать загадочную смесь жестокости и сострадания, но кузнец Матвей, очевидно, не годится для иллюстрации тождества жалости и жестокости. Жестокость причиняет страдание или любуется на него, а кузнец обругал любующихся и прекратил страдание. Нет, значит, никакого повода делать из этого простого и ясного факта что-то загадочное, таинственное, для проникновения в которое требуются тонкие и острые иглы декадентства.
Интереснее изречение Ярославцева: «это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Это говорит психически больной человек, и, следовательно, опять-таки автор за эти слова не ответствен. Но то, что поднимает над окружающими всех босяков г. Горького – очищенных и неочищенных, реальных и легендарных или символических, – есть сила, и именно «прежде всего сила». Куда она направится – на величайший ли подвиг самоотвержения или на величайшее, даже фантастическое злодейство, – это вопрос второй и даже, может быть, безразличный: «это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Так склонны смотреть все босяки г. Горького, стирая общепризнанные, по крайней мере на словах, границы между добром и злом и требуя, устами философствующего отставного ротмистра Аристида Кувалды, «новых» критериев морали. Смелость и откровенность, с которыми отверженцы ставят и даже практически разрешают этот вопрос, импонируют окружающим, а босяков очищенных, легендарных даже окружают блеском поэтического ореола. Очевидно, однако, что, признав вместе с ними «прежде всего силу» верховным критерием морали, мы оказались бы во власти целой сети недоразумений, из которых остановимся на одном. Герои г. Горького «жадны жить», ищут «возбуждения всей души». Формы, в которых проявляется эта жадность, обусловливаются обстоятельствами времени и места; если бы, например, жизнь предлагала героям г. Горького не «ямы», а достаточное «возбуждение всей души» на месте, то им незачем было бы бродяжить. Как бы мы ни относились, однако, ко всем этим частностям, нельзя не остановиться на том, что из разнообразных отношений к людям, какие могут «возбуждать душу», они выше всего ставят мотивы властного, повелительного воздействия, которое способны доводить до жестокости и мучительства, и, следовательно, роют другим возмутительнейшие «ямы»; а нет почему-нибудь поприща для такого воздействия – так и совсем не надо людей, можно и в одиночку прожить, или же – смерть (вместе со всем человечеством, как в мечтах Кувалды и Орлова, или вместе с непокоряющимся субъектом, как в случае Зобара и Радды). «Жадность жить», требующая «возбуждения всей души», есть явление законное и желательное, действительно способное образовать собою психологический фундамент высокой морали. Жалки люди, не знающие этой жадности и соглашающиеся быть инструментами с оборванными струнами; но если и признать, что Wille zur Macht – жажда власти, превосходства есть необходимая струна человеческой души, то все же она лишь одна из струн и при «возбуждении всей души» ее звуки должны гармонически умеряться иными звуками. Раз мы это признаем, мы тотчас увидим несостоятельность тезиса: «Это прежде всего сильно и потому морально и хорошо»; увидим и разницу между действиями Данко, с одной стороны, и Ларры – с другой, между мечтой Орлова спасти Россию от холеры и его же мечтой перебить всех жидов или раздробить землю в пыль. Пусть Данко руководился жаждою первенства и власти, когда шел впереди своих людей из лесу, освещая им путь своим горящим сердцем, но он вместе с тем сострадал этим людям, переживал их жизнь; следовательно, в его душе звенела по крайней мере одна лишняя струна по сравнению с Ларрой, который оказался не способным переживать чужую жизнь и только желал «быть первым». Пусть честолюбие было одним из мотивов Орлова, когда он хотел насмерть схватиться с холерой, но он вместе с тем переживал жизнь виденных им в холерной больнице страдальцев; следовательно, его жизнь была в этот момент полнее, богаче, чем тогда, когда он, именно от пустоты жизни, мечтал об избиении жидов и раздроблении земли. Разница, кажется, достаточно ясная для того, чтобы мы могли, именно с точки зрения «жадности», отвергнуть положение: «это прежде всего сильно, а потому морально и хорошо». «Учитель» в «Бывших людях» не забыл римской истории и знает, что «гольтепа создала Рим». Согласился ли бы он с приведенным положением, если бы его ему иллюстрировали так: Нерон сжег Рим, распинал и отдавал на съедение зверям разную «гольтепу», не отказывая себе, впрочем, в удовольствии казнить и знатных, и богатых, – это было сильно, а потому морально и хорошо; Спартак сплотил разную «гольтепу» и три года держал миродержавный Рим в страхе – это было сильно, а потому морально и хорошо. Боюсь, что, по пристрастию к «гольтепе», довольно, впрочем, в его положении естественному, «учитель» нашел бы, что никакие декадентские иглы, как бы они ни были остры и тонки, не сошьют эти два явления в однородное целое.
Мне кажется, что г. Горького одолевает некоторая не совсем для него самого ясная идея; именно одолевает, несмотря на свою неясность, а может быть, благодаря этой неясности. И только когда он от ее гнета так или иначе освободится – совсем ли ее отбросит или вполне овладеет ею, – мы получим возможность окончательно судить о размерах и значении приобретения, сделанного в его лице нашей литературой. Как ни несомненно его знакомство с изображаемым им миром, но слишком подозрительна эта частая повторяемость одних и тех же (очень, впрочем, интересных) мотивов, даже одних и тех же выражений, слов; тем более подозрительна, что эти мотивы и выражения г. Горький предоставляет и не босякам: существам фантастическим и аллегорическим, а также двум сумасшедшим. Это свидетельствует, я думаю, что к своим наблюдениям г. Горький прибавляет кое-что им не наблюдавшееся, но его самого очень занимающее. Это бы еще не беда, но – да простится мне грубоватое и, может быть, не совсем удачное слово – г. Горький еще не переварил того, что его так занимает, не усвоил настолько, чтобы претворять в образы и картины. Идея, занимающая автора, не сливается в одно органическое целое с его наблюдениями, автор ее подсовывает своим действующим лицам. Отсюда многие художественные бестактности, о которых я уже упоминал и распространяться о которых мне не хочется.
К сожалению, г. Горькому грозит в будущем нечто гораздо худшее, чем эти досадные бестактности, а именно – «тонкие и острые иглы декадентства», которые в действительности не только не тонки и не остры, а, напротив, очень грубы и тупы.
Но в двух томиках г. Горького есть и совсем иного рода задатки. Босяки занимают в этих двух томиках столько места и автор такими усиленными эффектами привлекает к ним внимание читателей, что неудивительно, если критика просто даже не заметила двух рассказов или очерков, не имеющих к босякам никакого отношения, ни прямого, ни косвенного, ни реального, ни аллегорического. Это, во-первых, «Ярмарка в Голтве»– маленький очерк, написанный без претензий на какую-нибудь глубину или «проникновение», безделка, но вся пропитанная каким-то мягким, светлым юмором, производящим тем большее впечатление, что этого элемента совсем нет в других произведениях г. Горького. Это, во-вторых, рассказ «Скуки ради», гораздо более серьезный и значительный по замыслу и истинно превосходный по исполнению. Самое чуткое ухо не услышит здесь ни одной фальшивой ноты, самая строгая рука не вычеркнет и не прибавит ни одного слова. И хотя тут нет ни одного босяка и никто не жалуется на «яму», но читатель и без авторского подсказывания сам скажет: какая яма! какая ужасная яма эта жизнь, в которой «скуки ради» проделывается возмутительнейшее издевательство над людьми! Проделывается не злобно, а именно только скуки ради, как суррогат настоящей жизни. И сами эти жестокие забавники, творящие издевательство, но не ведающие, что творят, вызывают, несмотря на свою отупелость, едва ли даже не больше сожаления, чем их жертвы; ибо и они, эти жестокие забавники, – жертвы «ямы»… Рассказ этот так целен и в цельности своей хорош, что я не стану передавать его содержание или приводить отрывки из него – и то и другое может только ослабить впечатление. Если к этим двум задаткам, очень разной цены, но одинаково цельным и законченным, прибавить отдельные страницы вроде вышеупомянутой сцены пения в «Тоске» и превосходные пейзажи, рассыпанные в произведениях г. Горького, то станет ясно, что мы имеем дело с большой художественной силой. И неужели же этой силе суждено не заглохнуть в какой-нибудь нашей «яме» или уверовать в тонкость и остроту декадентских игол?
Примечания
1
«Бродяга» (фр.) – Ред.
(обратно)2
– По ту сторону добра и зла (нем) – Ред.
(обратно)3
– Иди, бродяга, бродяжничай! (фр.) – Ред.
(обратно)4
Рыданий (фр.) – Ред.
(обратно)5
В переводе М. Л. Михайлова:
Вот замерла – и меня обняла, Когти мне в тело вонзая Сладкая мука! блаженная боль! Нега и скорбь без предела! Райским блаженством поит поцелуй, Когти терзают мне тело. (обратно)6
Люмпен-пролетариат (нем.). – Ред.
(обратно)7
Когда Ларру спросили, зачем он убил девушку (см. выше), он отвечал: «она оттолкнула меня, а мне было нужно ее». «„Но ведь она не твоя?“ – сказали ему. – „Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет своего только речь, руки и ноги, а владеет он животными, женщинами, землей и многим еще“ – Ему сказали на это, что за все, что человек берет, он платит собой – своим умом и силой, своей свободой и жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым» (Горький, II, 297–298).
(обратно)8
Г-н Горький в одном месте раздумывается «о великом горящем сердце Данко (а почему бы и не о Зобаре и Ларре? – H. M.) и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд, о старине, в которой были герои и подвиги, и о печальном времени, бедном сильными людьми и крупными событиями, богатом холодным недоверием, смеющимся надо всем, – жалким временем мизерных людей с мертворожденными сердцами» (II, 322).
(обратно)9
«О пользе и вреде истории для жизни» (нем.). – Ред.
(обратно)10
Без чести и совести (фр.). – Ред.
(обратно)11
Насквозь (нем). – Ред.
(обратно)12
«От Дарвина к Ницше» (нем.). – Ред.
(обратно)13
Вопрос этот очень занимает европейскую литературу. Не говоря об известных и русским читателям сочинениях Тарда, Сигеле, Лебона, то и дело появляются на эту тему новые книги и журнальные статьи.
(обратно)14
В самое последнее время, кроме журнальных статей, появились Алоиз Риль и Г. Зиммель «Фридрих Ницше» (очерк Риля появился и раньше, в другом издании); Герман Тюрк. «Философия эгоизма» (сокращенный и довольно произвольный перевод отрывка из книги «Der geniale Mensch»); «Граф Л. Н. Толстой и Фридрих Ницше: Очерк философско-нравственного их мировоззрения» проф. В. Г. Щеглова.
(обратно)(обратно)Комментарии
1
…одни… восторгаясь писаниями г. Горького. подчеркивают… художественный такт… другие… утверждают, что именно художественного такта ему и не хватает. – А. И. Богданович в рецензии, подписанной инициалами А. Б., писал: «Автор с истинно художественным тактом сумел везде удержаться от преувеличений, представляя героям говорить за себя» (Мир божий. 1897. № 7. С. 231). В неподписанной рецензии библиографического отдела журнала «Русская мысль» (1897. № 9. С. 427) о Горьком говорилось, что это «натура резкая, мятущаяся, неуравновешенная».
(обратно)2
Имеется в виду статья И. Н. Игнатьева, опубликованная в газете 22 августа 1898 г.
(обратно)3
Ж. Ришпен (1849–1926), французский поэт, прозаик, драматург. Его роман «В смутное время» был опубликован в «Русском богатстве» (1889. № 3–9). Пьеса «Бродяга» написана в 1897 г.
(обратно)4
…предписано, как Агасферу: ходи, ходи, ходи! – Сюжет легенды об Агасфере, послуживший материалом для многих литературных произведений, состоит, примерно, в следующем: иудей ремесленник, мимо дома которого вели на распятие Христа, оттолкнул Иисуса, когда тот попросил позволения отдохнуть у его дома, за что был осужден на вечное скитание по земле и вечное презрение со стороны людей.
(обратно)5
…я невольно вспомнил фразу из какого-то французского романа… – Установить источник цитаты не удалось.
(обратно)6
Эти люди стоят на точке «переоценки всех ценностей»… – эту формулу Ницше выносит в подзаголовок своей книги «По ту сторону добра и зла». См.: Ницше Ф. Собр. соч. М., (б. г.) Т. 2.
(обратно)7
Михайловский ошибается: Аглая не была княжной.
(обратно)8
Один русский философ разделял женщин на «змеистых» и «коровистых». – О каком философе идет речь, установить не удалось.
(обратно)9
…Гейне поставил в преддверии своей «Книги песен» женского сфинкса… – Михайловский имеет в виду стихотворное «Предисловие к третьему изданию» «Книги песен», где изображается встреча героя со сфинксом.
(обратно)10
…вспомнишь… Достоевского и его изречения. – Следующие ниже цитаты были приведены в качестве эпиграфа в статье Михайловского «Жестокий талант».
(обратно)11
…вспомнишь Достоевского с его Ставрог иным… – См.: Достоевский Ф. М. Т. 10. С. 201.
(обратно)12
А в 1894 г., излагая на этих же страницах… учение Фр. Ницше… – Михайловский отсылает к своим статьям «О Максе Штирнере и Фридрихе Ничше», «Еще о Фридрихе Ничше». «И еще о Ничше» (Рус. богатство. 1894. № 8, 11, 12).
(обратно)13
…уважение, с которым Ницше относился к нашему художнику, знакомому ему, по-видимому, только по «Запискам из Мертвого дома». – В действительности первое знакомство Ницше с творчеством Достоевского состоялось в 1887 г., когда он прочел во французском переводе «Записки из подполья» и «Хозяйку», объединенные в сборник «Подпольный гений». Эта книга вызвала у Ницше интерес, и он прочел во французском переводе роман «Униженные и оскорбленные» и «Записки из Мертвого дома». В переписке Ницше упоминает также ряд повестей и рассказов Достоевского, прочтенных уже по-немецки, и роман «Преступление и наказание». Кроме того, сохранился его конспект французского перевода романа «Бесы». О знакомстве Ницше с творчеством Достоевского см.: Фридлендер Г. Достоевский и мировая литература. М., 1970. С. 233–235.
(обратно)14
…Ницше говорит о «чувстве чандала», чувстве ненависти, мести и восстания против всего существующего… – «Все духовные новаторы имеют некоторое время на челе бледное, фатальное клеймо чандала: не потому, что на них так смотрят, а потому, что они сами чувствуют страшную пропасть, отделяющую их от всего обычного и находящегося в чести. Почти каждому гению знакомо, как одна из фаз его развития, „катилинарное состояние“, чувство ненависти, мести и бунта против всего, что уже есть, что больше не становится… Катилина – форма предшествования всякого Цезаря» (Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом. СПб., 1907. С. 127).
(обратно)15
В рассказе «Коновалов».
(обратно)16
…рядом с наукой об обществе… науку об одиночестве… – Об этом Ницше писал в книге «Сумерки богов».
(обратно)17
…Ницше не знает ничего лучшего, как «погибнуть на великом и невозможном»… – Имеется в виду следующее утверждение Ницше в «Несвоевременных мыслях»: «…для чего существует отдельный человек – вот что ты должен спросить самого себя, и если бы никто не сумел бы тебе ответить на это, то ты должен попытаться найти оправдание твоему существованию… ставя себе самому известные задачи, известные цели, известное „для того“, высокое и благородное „для того“. Пусть тебя ждет на этом пути даже гибель – я не знаю лучшего жизненного жребия, как погибнуть на великом и невозможном…» (Ницше Ф. Полн. собр. соч. М., 1909. Т. 2. С. 163).
(обратно)18
«Воля к власти» – одна из основных категорий философии Ницше (см.: Ницше Ф. Воля к власти. Собр. соч. М., 1910. Т. 9).
(обратно)19
«…вид страдания доставляет удовольствие…» – См.: Ницше Ф. Происхождение морали. «Сама месть приводит опять к той же проблеме: „Каким образом причинение страдания может быть удовлетворением?“ Современному человеку, этому изнеженному, прирученному и приученному к тонким кушаньям домашнему животному, противно представить, до какой степени жестокость была радостью и удовольствием древнейшего человечества, составляя необходимую и главную составную часть каждой его радости; и как наивна, как невинна была его потребность жестокости, являясь как бы нормальным свойством человека…» (Ницше Ф. Собр. соч. М., (б. г.) Т. 9. С. 140).
(обратно)20
…«мораль рабов» в противоположность «морали господ»… – Ницше Ф. Происхождение морали. С. 51–57. В статье «И еще о Ницше» Михайловский так разъяснял эти положения Ницше:
«Когда-то где-то жили люди (иногда это греки, иногда римляне, иногда германцы), по своим инстинктам подобные хищным зверям… В конце концов, однако, их мораль, то есть их понятия о добре и зле, о нравственно одобрительном и неодобрительном, резко отличалась от наших теперешних. Злое, то есть злобное, отнюдь не означало для них „дурное“, равно как „доброе“ не значило „хорошее“. Совсем даже напротив. И вот они столкнулись с другой расой, более слабой, победили ее и обратили в рабство. Мораль рабов, слабых, придавленных, естественно отличалась от морали господ… они должны были жаться друг к другу и воспитывать в себе так называемую любовь к ближнему, мягкость, осторожность, умеренность, хитрость… Им удалось, неизвестными путями, произвести „переоценку всех ценностей“ или, вернее, навязать человечеству свою „рабскую“ мораль смирения, самоотречения, воздержания, кротости, сострадания и вытеснить ею мораль „господ“» (Рус. богатство. 1894. № 13).
(обратно)21
…о проповеди «любви к дальнему» взамен «любви к ближнему»… – См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра. СПб, 1913. С. 81–83.
(обратно)22
Ницше рекомендовал… удаляться в дикие места и там основывать новые государства… – Имеется в виду следующее рассуждение Ницше: «Не должен ли был бы… каждый из вас думать про себя: „Лучше уйти отсюда и стать властелином какой-нибудь дикой, девственной страны, прежде всего стать властелинами над самими собой; менять место до тех пор, пока грозит малейший призрак рабства…“» (Ницше Ф. Утренняя заря. М, (б. г.) С. 195).
(обратно)23
Для Ницше женщина «изящная и опасная игрушка»… – Имеется в виду высказывание: «Двух вещей хочет истинный мужчина: опасности и игры. И поэтому он хочет женщины как самой опасной игрушки» (Н и ц ш е Ф. Так говорил Заратустра. СПб., 1913. С. 87).
(обратно)24
…«если ты идешь к женщине, не забудь захватить кнут»– из книги Ницше «Так говорил Заратустра» (СПб., 1913. С. 89).
(обратно)25
Ницше различает чандалов – обитателей Мертвого домаи чандалов-Наполеонов. – Он пишет: «Тип преступника – это тип сильного человека при неблагоприятных условиях, это сильный человек, сделанный больным… Это в обществе, в нашем смирном, посредственном, оскопленном обществе сын природы, пришедший из гор или из морских похождений, необходимо вырождается в преступника… ибо бывают случаи, когда такой человек оказывается сильнее общества: корсиканец Наполеон самый знаменитый тому пример. Для проблемы, являющейся перед нами здесь, важно свидетельство Достоевского… он принадлежит к самым счастливым случаям моей жизни… Этот глубокий человек… нашел сибирских каторжников, в среде которых он долго жил, всё тяжких преступников, для которых уже не было возврата в общество, совершенно иными, чем сам ожидал – как бы выточенными из самого лучшего, самого твердого и драгоценнейшего дерева, какое только растет на русской земле. Обобщим случай преступника: представим себе натуры, которые по какой-либо причине лишены общественного сочувствия, которые знают, что их не считают благодетельными, полезными, – то чувство чандала, что считаешься не равным, а отверженным, недостойным, марающим». (Н и ц ш е Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом. СПб. 1907. С. 125–126).
(обратно)26
…«Есть люди, проповедующие мое учение о жизни…»– Имеется в виду высказывание: «Есть такие, что проповедуют мое учение о жизни, и вместе с тем они проповедники равенства и тарантулы. Они говорят об оправдании жизни, эти ядовитые пауки, а сами сидят в норах своих, отвратившись от жизни» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра. СПб., 1913. С 123).
(обратно)27
О рабочих он выражается так: «побрал бы их черт и статистика»… – В «Несвоевременных размышлениях» Ницше писал: «Массы представляются мне достойными внимания только в трех отношениях: прежде всего как плохие копии великих людей, изготовленные на плохой бумаге со стертых негативов, затем как противодействие великим людям и, наконец, как орудие великих людей; в остальном же побери их черт и статистика!» (Ницше Ф. Полн… собр. соч. М., 1909. Т. 2. С. 164).
(обратно)(обратно)

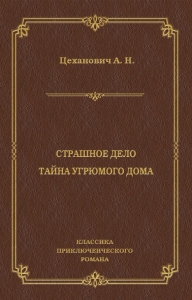
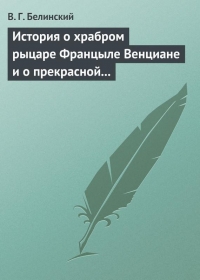
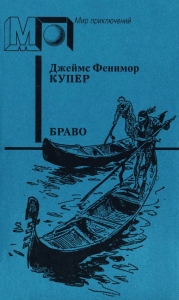
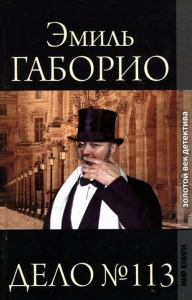
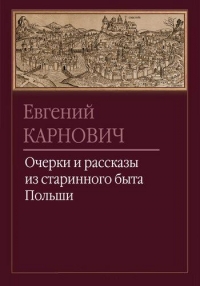
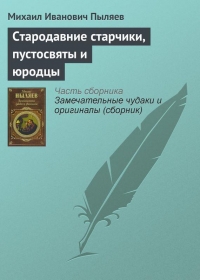

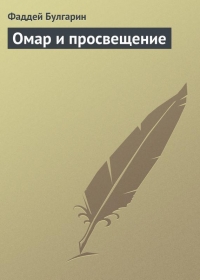
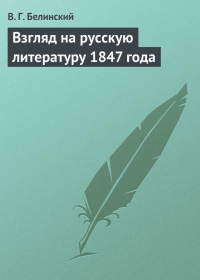

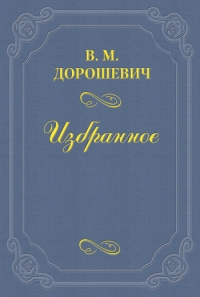

Комментарии к книге «Еще о г. Максиме Горьком и его героях», Николай Константинович Михайловский
Всего 0 комментариев