Александр Николаевич Радищев Путешествие из Петербурга в Москву: Очерки. Стихотворения (сборник)
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».
«Тилемахида», том II, кн. XVIII, стих 514Путешествие из Петербурга в Москву
А. М. К.
Любезнейшему другу.
Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! сочувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно – и ты мой друг.
Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. «Отыми завесу с очей природного чувствования – и блажен буду». Сей глас природы раздавался громко в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и – веселие неизреченное! – я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благоденствии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь. Но если, говорил я сам себе, я найду кого-либо, кто намерение мое одобрит, кто ради благой цели не опорочит неудачное изображение мысли; кто состраждет со мною над бедствиями собратии своей, кто в шествии моем меня подкрепит, – не сугубый ли плод произойдет от подъятого мною труда?.. Почто, почто мне искать далеко кого-либо? Мой друг! ты близ моего сердца живешь – и имя твое да озарит сие начало.
Выезд
Отужинав с моими друзьями, я лег в кибитку. Ямщик по обыкновению своему поскакал во всю лошадиную мочь, и в несколько минут я был уже за городом. Расставаться трудно хотя на малое время с тем, кто нам нужен стал на всякую минуту бытия нашего. Расставаться трудно; но блажен тот, кто расстаться может не улыбаяся; любовь или дружба стрегут его утешение. Ты плачешь, произнося «прости»; но воспомни о возвращении твоем, и да исчезнут слезы твои при сем воображении, яко роса пред лицом солнца. Блажен возрыдавший, надеяйся на утешителя; блажен живущий иногда в будущем; блажен живущий в мечтании. Существо его усугубляется, веселия множатся, и спокойствие упреждает нахмуренность грусти, распложая образы радости в зерцалах воображения. – Я лежу в кибитке. Звон почтового колокольчика, наскучив моим ушам, призвал наконец благодетельного Морфея. Горесть разлуки моея, преследуя за мною в смертоподобное мое состояние, представила меня воображению моему уединенна. Я зрел себя в пространной долине, потерявшей от солнечного зноя всю приятность и пестроту зелености; не было тут источника на прохлаждение, не было древесныя сени на умерение зноя. Един, оставлен, среди природы пустынник! Вострепетал. – Несчастной, – возопил я, – где ты? где девалося все, что тебя прельщало? где то, что жизнь твою делало тебе приятною? Неужели веселости, тобою вкушенные, были сон и мечта? – По счастию моему случившаяся на дороге рытвина, в которую кибитка моя толкнулась, меня разбудила. Кибитка моя остановилась. Приподнял я голову. Вижу: на пустом месте стоит дом в три жилья. – Что такое? – спрашивал я у повозчика моего. – Почтовый двор. – Да где мы? – В Софии, – и между тем выпрягал лошадей.
София
Повсюду молчание. Погруженный в размышлениях, не приметил я, что кибитка моя давно уже без лошадей стояла. Привезший меня извозчик извлек меня из задумчивости. – Барин-батюшка, на водку! – Сбор сей хотя не законной, но охотно всякой его платит, дабы не ехать по указу. – Двадцать копеек послужили мне в пользу. Кто езжал на почте, тот знает, что подорожная есть оберегательное письмо, без которого всякому кошельку, – генеральской, может быть, исключая, – будет накладно. Вынув ее из кармана, я шел с нею, как ходят иногда для защиты своей со крестом.
Почтового комиссара нашел я храпящего; легонько взял его за плечо. – Кого черт давит? Что за манер выезжать из города ночью. Лошадей нет; очень еще рано; взойди, пожалуй, в трактир, выпей чаю или усни. – Сказав сие, г. комиссар отворотился к стене и паки захрапел. Что делать? Потряс я комиссара опять за плечо. – Что за пропасть, я уже сказал, что нет лошадей, – и, обернув голову одеялом, г. комиссар от меня отворотился. – Если лошади все в разгоне, – размышлял я, – то несправедливо, что я мешаю комиссару спать. А если лошади в конюшне… – Я вознамерился узнать, правду ли г. комиссар говорил. Вышел на двор, сыскал конюшню и нашел в оной лошадей до двадцати; хотя, правду сказать, кости у них были видны, но меня бы дотащили до следующего стана. Из конюшни я опять возвратился к комиссару; потряс его гораздо покрепче. Казалось мне, что я к тому имел право, нашед, что комиссар солгал. Он второпях вскочил и, не продрав еще глаз, спрашивал: – Кто приехал? не… – но опомнившись, увидя меня, сказал мне: – Видно, молодец, ты обык так обходиться с прежними ямщиками. Их бивали палками; но ныне не прежняя пора. – Со гневом г. комиссар лег спать в постелю. Мне его так же хотелось попотчевать, как прежних ямщиков, когда они в обмане приличались; но щедрость моя, давая на водку городскому повозчику, побудила софийских ямщиков запрячь мне поскорее лошадей, и в самое то время, когда я намерялся сделать преступление на спине комиссарской, зазвенел на дворе колокольчик. Я пребыл доброй гражданин. И так двадцать медных копеек избавили миролюбивого человека от следствия, детей моих от примера невоздержания во гневе, и я узнал, что рассудок есть раб нетерпеливости.
Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. – На сем музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захочет разгнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обагренный кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской.
Извозчик мой поет. – Третий был час пополуночи. Как прежде колокольчик, так теперь его песня произвела опять во мне сон. – О природа, объяв человека в пелены скорби при рождении его, влача его по строгим хребтам боязни, скуки и печали чрез весь его век, дала ты ему в отраду сон. – Уснул, и все скончалось. Несносно пробуждение несчастному. О, сколь смерть для него приятна. А есть ли она конец скорби? – Отче всеблагий, неужели отвратишь взоры свои от скончевающего бедственное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, тебе ее и возвращаю; на земли она стала уже бесполезна.
Тосна
Поехавши из Петербурга, я воображал себе, что дорога была наилучшая. Таковою ее почитали все те, которые ездили по ней вслед государя. Такова она была действительно, но на малое время. Земля, насыпанная на дороге, сделав ее гладкою в сухое время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лета и сделала ее непроходимою… Обеспокоен дурною дорогою, я, встав из кибитки, вошел в почтовую избу, в намерении отдохнуть. В избе нашел я проезжающего, который, сидя за обыкновенным длинным крестьянским столом в переднем углу, разбирал бумаги и просил почтового комиссара, чтобы ему поскорее велел дать лошадей. На вопрос мой – кто он был? – узнал я, что то был старого покрою стряпчий, едущий в Петербург с великим множеством изодранных бумаг, которые он тогда разбирал. Я немедля вступил с ним в разговор, и вот моя с ним беседа: – Милостивый государь! Я, нижайший ваш слуга, быв регистратором при разрядном архиве, имел случай употребить место мое себе в пользу. Посильными моими трудами я собрал родословную, на ясных доводах утвержденную, многих родов российских. Я докажу княжеское или благородное их происхождение за несколько сот лет. Я восстановлю нередкого в княжеское достоинство, показав от Владимира Мономаха или от самого Рюрика его происхождение. Милостивый государь! – продолжал он, указывая на свои бумаги, – все великороссийское дворянство долженствовало бы купить мой труд, заплатя за него столько, сколько ни за какой товар не платят. Но, с дозволения вашего высокородия, благородия или высокоблагородия, не ведаю, как честь ваша, они не знают, что им нужно. Известно вам, сколько блаженныя памяти благоверный царь Федор Алексеевич российское дворянство обидел, уничтожив местничество. Сие строгое законоположение поставило многие честные княжеские и царские роды наравне с новогородским дворянством. Но благоверный же государь император Петр Великий совсем привел их в затмение своею табелью о рангах. Открыл он путь через службу военную и гражданскую всем к приобретению дворянского титла и древнее дворянство, так сказать, затоптал в грязь. Ныне всемилостивейше царствующая наша мать утвердила прежние указы высочайшим о дворянстве положением, которое было всех степенных наших востревожило, ибо древние роды поставлены в дворянской книге ниже всех. Но слух носится, что в дополнение вскоре издан будет указ и тем родам, которые дворянское свое происхождение докажут за 200 или 300 лет, приложится титло маркиза или другое знатное, и они пред другими родами будут иметь некоторую отличность. По сей причине, милостивейший государь! труд мой должен весьма быть приятен всему древнему благородному обществу; но всяк имеет своих злодеев.
В Москве завернулся я в компанию молодых господчиков и предложил им мой труд, дабы благосклонностию их возвратить хотя истраченную бумагу и чернилы; но вместо благоприятства попал в посмеяние и, с горя оставив столичный сей град, вдался пути до Питера, где, известно, гораздо больше просвещения. – Сказав сие, поклонился мне об руку и, вытянувшись прямо, стоял передо мною с величайшим благоговением. Я понял его мысль, вынул из кошелька… и, дав ему, советовал, что, приехав в Петербург, он продал бы бумагу свою на вес разносчикам для обвертки; ибо мнимое маркизство скружить может многим голову, и он причиною будет возрождению истребленного в России зла – хвастовства древния породы.
Любани
Зимою ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может быть, и зимою и летом. Нередко то бывает с путешественниками: поедут на санях, а возвращаются на телегах. – Летом. – Бревешками вымощенная дорога замучила мои бока; я вылез из кибитки и пошел пешком. Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира. Отделяяся душевно от земли, казалося мне, что удары кибиточные были для меня легче. – Но упражнения духовные не всегда нас от телесности отвлекают; и для сохранения боков моих пошел я пешком. – В нескольких шагах от дороги увидел я пашущего ниву крестьянина. Время было жаркое. Посмотрел я на часы. – Первого сорок минут. Я выехал в субботу. Сегодня праздник. – Пашущий крестьянин принадлежит, конечно, помещику, которой оброку с него не берет. – Крестьянин пашет с великим тщанием. – Нива, конечно, не господская. Соху поворачивает с удивительною легкостию. – Бог в помощь, – сказал я, подошед к пахарю, которой, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду. – Бог в помощь, – повторил я. – Спасибо, барин, – говорил мне пахарь, отряхая сошник и перенося соху на новую борозду. – Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям? – Нет, барин, я прямым крестом крещусь, – сказал он, показывая мне сложенные три перста. – А бог милостив, с голоду умирать не велит, когда есть силы и семья. – Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и в самый жар? – В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечером возим оставшее в лесу сено на господский двор, коли погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды. Дай бог, – крестяся, – чтоб под вечер сегодня дожжик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того же у господа молят. – У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет. Велика ли у тебя семья? – Три сына и три дочки. Перьвинькому-то десятый годок. – Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным? – Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает; а как эта устанет, возьмусь за другую; дело-то и споро. – Так ли ты работаешь на господина своего? – Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя растянись на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит; ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика. Правда, что иногда и добрые господа берут более трех рублей с души; но все лучше барщины. Ныне еще поверье заводится – отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это отдавать головой. Голый наемник дерет с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет. Зимою не пускает в извоз, ни в работу в город; все работай на него, для того что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому? – Друг мой, ты ошибаешься, мучить людей законы запрещают. – Мучить? Правда; но небось, барин, не захочешь в мою кожу. – Между тем пахарь запряг другую лошадь в соху и, начав новую борозду, со мною простился.
Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей. Первое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил я крестьян казенных с крестьянами помещичьими. Те и другие живут в деревнях; но одни платят известное, а другие должны быть готовы платить то, что господин хочет. Одни судятся своими равными; а другие в законе мертвы, разве по делам уголовным. Член общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей! Сия мысль всю кровь во мне воспалила. – Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение. – Углубленный в сих размышлениях, я нечаянно обратил взор мой на моего слугу, который, сидя на кибитке передо мной, качался из стороны в сторону. Вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровь мою, и, прогоняя жар к вершинам, нудил его распростираться по лицу. Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал. – Ты во гневе твоем, – говорил я сам себе, – устремляешься на гордого господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве своей; а сам не то же ли или еще хуже того делаешь? Какое преступление сделал бедный твой Петрушка, что ты ему воспрещаешь пользоваться усладителем наших бедствий, величайшим даром природы несчастному – сном? Он получает плату, сыт, одет, никогда я его не секу ни плетьми, ни батожьем (о умеренный человек!), – и ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право поступать с подобным тебе существом, как с кубарем, и тем ты только хвастаешь, что не часто подсекаешь его в его вертении. Ведаешь ли, что в первенственном уложении, в сердце каждого написано? Если я кого ударю, тот и меня ударить может. – Вспомни тот день, как Петрушка пьян был и не поспел тебя одеть. Вспомни о его пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяной, опомнился и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу! – А кто тебе дал власть над ним? – Закон. – Закон? И ты смеешь поносить сие священное имя? Несчастный!.. – Слезы потекли из глаз моих; и в таковом положении почтовые клячи дотащили меня до следующего стана.
Чудово
Не успел я войти в почтовую избу, как услышал на улице звук почтового колокольчика, и чрез несколько минут вошел в избу приятель мой Ч… Я его оставил в Петербурге, и он намерения не имел оттуда выехать так скоро. Особливое происшествие побудило человека нраву крутого, как то был мой приятель, удалиться из Петербурга, и вот что он мне рассказал.
– Ты был уже готов к отъезду, как я отправился в Петергоф. Тут я препроводил праздники столь весело, сколько в шуму и чаду веселиться можно. Но, желая поездку мою обратить в пользу, вознамерился съездить в Кронштат и на Систербек, где, сказывали мне, в последнее время сделаны великие перемены. В Кронштате прожил я два дня с великим удовольствием, насыщаяся зрением множества иностранных кораблей, каменной одежды крепости Кронштатской и строений, стремительно возвышающихся. Любопытствовал посмотреть нового Кронштату плана и с удовольствием предусматривал красоту намереваемого строения; словом, второй день пребывания моего кончился весело и приятно. Ночь была тихая, светлая, и воздух благорастворенной вливал в чувства особую нежность, которую лучше ощущать, нежели описать удобно. Я вознамерился в пользу употребить благость природы и насладиться еще один хотя раз в жизни великолепным зрелищем восхождения солнца, которого на гладком водяном горизонте мне еще видеть не удавалось. Я нанял морскую 12-весельную шлюпку и отправился на С…
Версты с четыре плыли мы благополучно. Шум весел единозвучностию своею возбудил во мне дремоту, и томное зрение едва ли воспрядало от мгновенного блеска падающих капель воды с вершины весел. Стихотворческое воображение преселяло уже меня в прелестные луга Пафоса и Амафонта. Внезапу острый свист возникающего вдали ветра разгнал мой сон, и отягченным взорам моим представлялися сгущенные облака, коих черная тяжесть, казалось, стремила их нам на главу и падением устрашала. Зерцаловидная поверхность вод начинала рябеть, и тишина уступала место начинающемуся плесканию валов. Я рад был и сему зрелищу; соглядал величественные черты природы и не в чванство скажу: что других устрашать начинало, то меня веселило. Восклицал изредка, как Вернет: – Ах, как хорошо! – Но ветр, усиливаяся постепенно, понуждал думать о достижении берега. Небо от густоты непрозрачных облаков совсем померкло. Сильное стремление валов отнимало у кормила направление, и порывистый ветр, то вознося нас на мокрые хребты, то низвергая в утесистые рытвины водяных зыбей, отнимал у гребущих силу шественного движения. Следуя поневоле направлению ветра, мы носилися наудачу. Тогда и берега начали бояться; тогда и то, что бы нас при благополучном плавании утешать могло, начинало приводить в отчаяние. Природа завистливою нам на сей час казалася, и мы на нее негодовали теперь за то, что не распростирала ужасного своего величества, сверкая в молнии и слух тревожа громовым треском. Но надежда, преследуя человека до крайности, нас укрепляла, и мы, елико нам возможно было, ободряли друг друга.
Носимые валами, внезапу судно наше остановилось недвижимо. Все наши силы, совокупно употребленные, не были в состоянии совратить его с того места, на котором оно стояло. Упражняясь в сведении нашего судна с мели, как то мы думали, мы не приметили, что ветр между тем почти совсем утих. Небо помалу очистилося от затмевавших синеву его облаков. Но восходящая заря вместо того, чтоб принести нам отраду, явила нам бедственное наше положение. Мы узрели ясно, что шлюпка наша не на мели находилась, но погрязла между двух больших камней, и что не было никаких сил для ее избавления оттуда невредимо. Вообрази, мой друг, наше положение; все, что я ни скажу, все слабо будет в отношении моего чувствия. Да и если б я мог достаточные дать черты каждому души моея движению, то слабы еще были бы они для произведения в тебе подобного тем чувствованиям, какие в душе моей возникали и теснилися тогда. Судно наше стояло на средине гряды каменной, замыкающей залив, до С… простирающийся. Мы находилися от берега на полторы версты. Вода начинала проходить в судно наше со всех сторон и угрожала нам совершенным потоплением. В последний час, когда свет от нас преходить начинает и отверзается вечность, ниспадают тогда все степени, мнением между человеков воздвигнутые. Человек тогда становится просто человек: так, видя приближающуюся кончину, забыли все мы, кто был какого состояния, и помышляли о спасении нашем, отливая воду, как кому споручно было. Но какая была в том польза? Колико воды союзными нашими силами было исчерпаемо, толико во мгновение паки накоплялося. К крайнему сердец наших сокрушению, ни вдали, ни вблизи не видно было мимоидущего судна. Да и то, которое бы подало нам отраду, явясь взорам нашим, усугубило бы отчаяние наше, удаляясь от нас и избегая равныя с нами участи. Наконец, судна нашего правитель, более нежели все другие к опасностям морских происшествий обыкший, взиравший поневоле, может быть, на смерть хладнокровно в разных морских сражениях в прошедшую турецкую войну в Архипелаге, решился или нас спасти, спасаяся сам, или погибнуть в сем благом намерении: ибо, стоя на одном месте, погибнуть бы нам должно было. Он, вышед из судна и перебираяся с камня на камень, направил шествие свое к берегу, сопровождаем чистосердечнейшими нашими молитвами. Сначала продолжал он шествие свое весьма бодро, прыгая с камня на камень, переходя воду, где она была мелка, переплывая ее, где она глубже становилась. Мы с глаз его не спускали. Наконец увидели, что силы его начали ослабевать, ибо он переходил камни медлительнее, останавливаяся почасту и садяся на камень для отдохновения. Казалося нам, что он находился иногда в размышлении и нерешимости о продолжении пути своего. Сие побудило одного из его товарищей ему преследовать, дабы подать ему помощь, если он увидит его изнемогающа в достижении берега, или достигнуть оного, если первому в том будет неудача. Взоры наши стремилися вослед то за тем, то за другим, и молитва наша о их сохранении была нелицемерна. Наконец последний из сих подражателей Моисея в прохождении без чуда морския пучины своими стопами остановился на камне недвижим, а первого совсем мы потеряли из виду.
Сокровенные доселе внутренние каждого движения, заклепанные, так сказать, ужасом, начали являться при исчезании надежды. Вода между тем в судне умножалася, и труд наш, возрастая в отливании оной, утомлял силы наши приметно. Человек ярого и нетерпеливого сложения рвал на себе волосы, кусал персты, проклинал час своего выезда. Человек робкия души и чувствовавший долго, может быть, тягость удручительныя неволи рыдал, орошая слезами своими скамью, на которой ниц распростерт лежал. Иной, воспоминая дом свой, детей и жену, сидел яко окаменелый, помышляя не о своей, но о их гибели, ибо они питалися его трудами. Каково было моей души положение, мой друг, сам отгадывай, ибо ты меня довольно знаешь. Скажу только тебе то, что я прилежно молился богу. Наконец начали мы все предаваться отчаянию, ибо судно наше более половины водою натекло, и мы стояли все в воде по колено. Нередко помышляли мы вытти из судна и шествовать по каменной гряде к берегу, но пребывание одного из наших сопутников на камне уже несколько часов и скрытие другого из виду представляло нам опасность перехода более, может быть, нежели она была в самом деле. Среди таковых горестных размышлений увидели мы близ противоположного берега, в расстоянии от нас каком то было, точно определить не могу, два пятна черные на воде, которые, казалося, двигалися. Зримое нами нечто черное и движущееся, казалося, помалу увеличивалось; наконец, приближаяся, представило ясно взорам нашим два малые судна, прямо идущие к тому месту, где мы находилися среди отчаяния, во сто крат надежду превосходящего. Как в темной храмине, свету совсем неприступной, вдруг отверзается дверь и луч денный, влетев стремительно в среду мрака, разгоняет оный, распростирался по всей храмине до дальнейших ее пределов, – тако, увидев суда, луч надежды ко спасению протек наши души. Отчаяние превратилося в восторг, горесть в восклицание, и опасно было, чтобы радостные телодвижения и плескания не навлекли нам гибели скорее, нежели мы будем исторгнуты из опасности. Но надежда жития, возвращаяся в сердца, возбудила паки мысли о различии состояний, в опасности уснувшие. Сие послужило на сей раз к общей пользе. Я укротил излишнее радование, во вред обратиться могущее. По нескольком времени увидели мы две большие рыбачьи лодки, к нам приближающиеся, и, при настижении их до нас, увидели в одной из них нашего спасителя, который, прошед каменною грядою до берега, сыскал сии лодки для нашего извлечения из явной гибели. Мы, не мешкав нимало, вышли из нашего судна и поплыли в приехавших судах к берегу, не забыв снять с камня сотоварища нашего, которой на оном около семи часов находился. Не прошло более получаса, как судно наше, стоявшее между камней, облегченное от тяжести, всплыло и развалилося совсем. Плывучи к берегу среди радости и восторга спасения, Павел, – так звали спасшего нас сопутника, – рассказал нам следующее.
– Я, оставя вас в предстоящей опасности, спешил по камням к берегу. Желание вас спасти дало мне силы чрезъестественные; но сажен за сто до берега силы мои стали ослабевать, и я начал отчаиваться в вашем спасении и моей жизни. Но, полежав с полчаса на камени, вспрянув с новою бодростию и не отдыхая более, дополз, так сказать, до берега. Тут я растянулся на траве и, отдохнув минут десять, встал и побежал вдоль берега к С…, что имел мочи. И хотя с немалым истощением сил, но, воспоминая о вас, добежал до места. Казалось, что небо хотело испытать вашу твердость и мое терпение, ибо я не нашел ни вдоль берега, ни в самом С… никакого судна для вашего спасения. Находясь почти в отчаянии, я думал, что нигде не можно мне лучше искать помощи, как у тамошнего начальника. Я побежал в тот дом, где он жил. Уже был седьмой час. В передней комнате нашел я тамошней команды сержанта. Рассказав ему коротко, зачем я пришел и ваше положение, просил его, чтобы он разбудил г…, которой тогда еще почивал. Г. сержант мне сказал: – Друг мой, я не смею. – Как, ты не смеешь? Когда двадцать человек тонут, ты не смеешь разбудить того, кто их спасти может? Но ты, бездельник, лжешь, я сам пойду… – Г. сержант, взяв меня за плечо не очень учтиво, вытолкнул за дверь. С досады чуть я не лопнул. Но, помня более о вашей опасности, нежели о моей обиде и о жестокосердии начальника с его подчиненным, я побежал к караульной, которая была версты с две расстоянием от проклятого дома, из которого меня вытолкнули. Я знал, что живущие в ней солдаты содержали лодки, в которых, ездя по заливу, собирали булыжник на продажу для мостовых; я и не ошибся в моей надежде. Нашел сии две небольшие лодки, и радость теперь моя несказанна: вы все спасены. Если бы вы утонули, то я бы бросился за вами в воду. – Говоря сие, Павел обливался слезами. Между тем достигли мы берега. Вышед из судна, я пал на колени, возвел руки на небо. – Отче всесильный, – возопил я, – тебе угодно, да живем; ты нас водил на испытание, да будет воля твоя. – Се слабое, мой друг, изображение того, что я чувствовал. Ужас последнего часа прободал мою душу, я видел то мгновение, что я существовать перестану. Но что я буду? Не знаю. Страшная неизвестность. Теперь чувствую: час бьет; я мертв; движение, жизнь, чувствие, мысль – все исчезнет мгновенно. Вообрази себя, мой друг, на краю гроба, не почувствуешь ли корчащий мраз, лиющийся в твоих жилах и завременно жизнь пресекающий. О, мой друг! – Но я удалился от моего повествования.
Совершив мою молитву, ярость вступила в мое сердце. Возможно ли, говорил я сам себе, чтоб в наш век, в Европе, подле столицы, в глазах великого государя совершалося такое бесчеловечие! Я воспомянул о заключенных агличанах в темнице бенгальского субаба.[1]
Воздохнул я во глубине души. – Между тем дошли мы до С… Я думал, что начальник, проснувшись, накажет своего сержанта и претерпевшим на воде даст хотя успокоение. С сею надеждою пошел я прямо к нему в дом. Но поступком его подчиненного столь был раздражен, что я не мог умерить своих слов. Увидев его, сказал: – Государь мой! Известили ли вас, что за несколько часов пред сим двадцать человек находились в опасности потерять живот свой на воде и требовали вашея помощи? – Он мне отвечал с наивеличайшею холодностию, куря табак: – Мне о том сказали недавно, а тогда я спал. – Тут я задрожал в ярости человечества. – Ты бы велел себя будить молотком по голове, буде крепко спишь, когда люди тонут и требуют от тебя помощи. – Отгадай, мой друг, какой его был ответ. Я думал, что мне сделается удар от того, что я слышал. Он мне сказал: – Не моя то должность. – Я вышел из терпения: – Должность ли твоя людей убивать, скаредный человек; и ты носишь знаки отличности, ты начальствуешь над другими!.. – Окончать не мог моея речи, плюнул почти ему в рожу и вышел вон. Я волосы драл с досады. Сто делал расположений, как отмстить сему зверскому начальнику не за себя, но за человечество. Но, опомнясь, убедился воспоминовением многих примеров, что мое мщение будет бесплодно, что я же могу прослыть или бешеным, или злым человеком; смирился.
Между тем люди мои сходили к священнику, который нас принял с великою радостию, согрел нас, накормил, дал отдохновение. Мы пробыли у него целые сутки, пользуясь его гостеприимством и угощением. На другой день, нашед большую шлюпку, доехали мы до Ораниенбаума благополучно. В Петербурге я о сем рассказывал тому и другому. Все сочувствовали мою опасность, все хулили жестокосердие начальника, никто не захотел ему о сем напомнить. Если бы мы потонули, то бы он был нашим убийцею. – Но в должности ему не предписано вас спасать, – сказал некто. – Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие – грызть друг друга; отрада их – томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтоб я поселился в городе. Нет, мой друг, – говорил мой повествователь, вскочив со стула, – заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что есть человек, где имя его неизвестно. Прости, – сел в кибитку и поскакал.
Спасская полесть
Я вслед за моим приятелем скакал так скоро, что настиг его еще на почтовом стану. Старался его уговорить, чтоб возвратился в Петербург, старался ему доказать, что малые и частные неустройства в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в пространство моря, не может возмутить поверхности воды. Но он мне сказал наотрез: – Когда бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, конечно, на Финском заливе бури не сделалось, а я бы пошел жить с тюленями. – И, с видом негодования простясь со мною, лег в свою кибитку и поехал поспешно.
Лошади были уже впряжены; я уже ногу занес, чтобы влезть в кибитку, как вдруг дождь пошел. – Беда невелика, – размышлял я, – закроюсь ценовкою и буду сух. – Но едва мысль сия в мозге моем пролетела, то как будто меня окунули в пролубь. Небо, не спросясь со мною, разверзло облако, и дождь лил ведром. – С погодою не сладишь; по пословице: тише едешь – дале будешь, – вылез я из кибитки и убежал в первую избу. Хозяин уже ложился спать, и в избе было темно, но я и в потемках выпросил позволение обсушиться. Снял с себя мокрое платье и, что было посуше положив под голову, на лавке скоро заснул. Но постеля моя была не пуховая, долго нежиться не позволила. Проснувшись, услышал я шепот. Два голоса различить я мог, которые между собою разговаривали. – Ну, муж, расскажи-тка, – говорил женской голос. – Слушай, жена.
– Жил-был… – И подлинно на сказку похоже; да как же сказке верить, – сказала жена вполголоса, зевая ото сна, – поверю ли я, что были Полкан, Бова или Соловей-разбойник. – Да кто тебя толкает в шею, верь, коли хочешь. Но то правда, что в старину силы телесные были в уважении и что силачи оные употребляли во зло. Вот тебе Полкан. А о Соловье-разбойнике читай, мать моя, истолкователей русских древностей. Они тебе скажут, что он Соловьем назван красноречия своего ради. Не перебивай же моей речи. Итак, жил-был где-то государев наместник. В молодости своей таскался по чужим землям, выучился есть устерсы и был до них великий охотник. Пока деньжонок своих мало было, то он от охоты своей воздерживался, едал по десятку, и то когда бывал в Петербурге. Как скоро полез в чины, то и число устерсов на столе его начало прибавляться. А как попал в наместники и когда много стало у него денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он к устерсам как брюхатая баба. Спит и видит, чтобы устерсы кушать. Как пора их приходит, то нет никому покою. Все подчиненные становятся мучениками. Но во что бы то ни стало, а устерсы есть будет. – В правление посылает приказ, чтобы наряжен был немедленно курьер, которого он имеет в Петербург отправить с важными донесениями. Все знают, что курьер поскачет за устерсами, но куда ни вертись, а прогоны выдавай. На казенные денежки дыр много. Гонец, снабженный подорожною, прогонами, совсем готов, в куртке и чикчерах явился пред его высокопревосходительство. – Поспешай, мой друг, – вещает ему унизанный орденами, – поспешай, возьми сей пакет, отдай его в Большой Морской. – Кому прикажете? – Прочти адрес. – Его… его… – Не так читаешь. – Государю моему гос… – Врешь… господину Корзинкину, почтенному лавошнику, в С. Петербурге в Большой Морской. – Знаю, ваше высокопревосходительство. – Ступай же, мой друг, и как скоро получишь, то возвращайся поспешно и нимало не медли; я тебе скажу спасибо не одно.
И ну-ну-ну, ну-ну-ну: по всем по трем, вплоть до Питера, к Корзинкину прямо на двор. – Добро пожаловать. Куды какой его высокопревосходительство затейник, из-за тысячи верст шлет за какою дрянью. Только барин доброй. Рад ему служить. Вот устерсы теперь лишь с биржи. Скажи, не меньше ста пятидесяти бочка, уступить нельзя, самим пришли дороги. Да мы с его милостию сочтемся. – Бочку взвалили в кибитку; поворотя оглобли, курьер уже опять скачет; успел лишь зайти в кабак и выпить два крючка сивухи.
Тинь-тинь… Едва у городских ворот услышали звон почтового колокольчика, караульный офицер бежит уже к наместнику (то ли дело, как где все в порядке) и рапортует ему, что вдали видна кибитка и слышен звон колокольчика. Не успел выговорить, как шасть курьер в двери: – Привез, выше высокопревосходительство. – Очень кстати. (Оборотясь к предстоящим:) Право, человек достойной, исправен и не пьяница. Сколько уже лет по два раза в год ездит в Петербург; а в Москву сколько раз, упомнить не могу. Секретарь, пиши представление. За многочисленные его в посылках труды и за точнейшее оных исправление удостоиваю его к повышению чином…
В расходной книге у казначея записано: по предложению его высокопревосходительства дано курьеру Н. Н., отправленному в С.-П. с наинужнейшими донесениями, прогонных денег в оба пути на три лошади из экстраординарной суммы… Книга казначейская пошла на ревизию, но устерсами не пахнет.
По представлению господина генерала и проч. ПРИКАЗАЛИ: быть сержанту Н. Н. прапорщиком. – Вот, жена, – говорил мужской голос, – как добиваются в чины, а что мне прибыли, что я служу беспорочно, не подамся вперед ни на палец. По указам велено за добропорядочную службу награждать. Но царь жалует, а псарь не жалует. Так-то наш г. казначей; уже другой раз по его представлению меня отсылают в уголовную палату. Когда бы я с ним был заодно, то бы было не житье, а масленица. – И… полно, Клементьич, пустяки-то молоть. Знаешь ли, за что он тебя не любит? За то, что ты промен берешь со всех, а с ним не делишься. – Потише, Кузьминична, потише; неравно кто подслушает. – Оба голоса умолкли, и я опять заснул.
Поутру узнал я, что в одной избе со мною ночевал присяжный с женою, которые до света отправились в Новгород.
Между тем как в моей повозке запрягали лошадей, приехала еще кибитка, тройкою запряженная. Из нее вышел человек, закутанный в большую япанчу, и шляпа с распущенными полями, глубоко надетая, препятствовала мне видеть его лицо. Он требовал лошадей без подорожной; и как многие повозчики, окружив его, с ним торговались, то он, не дожидаясь конца их торга, сказал одному из них с нетерпением: – Запрягай поскорей, я дам по четыре копейки на версту. – Ямщик побежал за лошадьми. Другие, видя, что договариваться уже было не о чем, все от него отошли.
Я находился от него не далее как в пяти саженях. Он, подошед ко мне и не снимая шляпы, сказал: – Милостивый государь, снабдите чем ни есть человека несчастного. – Меня сие удивило чрезмерно, и я не мог вытерпеть, чтоб ему не сказать, что я удивляюсь просьбе его о вспоможении, когда он не хотел торговаться о прогонах и давал против других вдвое. – Я вижу, – сказал он мне, – что в жизнь вашу поперечного вам ничего не встречалося. – Столь твердый ответ мне очень понравился, и я, не медля нимало, вынув из кошелька…: – Не осудите, – сказал, – более теперь вам служить не могу, но если доедем до места, то, может быть, сделаю что-нибудь больше. – Намерение мое при сем было то, чтобы сделать его чистосердечным; я и не ошибся. – Я вижу, – сказал он мне, – что вы имеете еще чувствительность, что обращение света и снискание собственной пользы не затворили вход ее в ваше сердце. Позвольте мне сесть на вашей повозке, а служителю вашему прикажите сесть на моей.
Между тем лошади наши были впряжены, я исполнил его желание – и мы едем.
– Ах, государь мой, не могу себе представить, что я несчастлив. Не более недели тому назад я был весел, в удовольствии, недостатка не чувствовал, был любим или так казалося; ибо дом мой всякий день был полон людьми, заслужившими уже знаки почестей; стол мой был всегда как великолепное некое торжество. Но если тщеславие толикое имело удовлетворение, равно и душа наслаждалася истинным блаженством. По многих сперва бесплодных стараниях, предприятиях и неудачах наконец получил я в жену ту, которую желал. Взаимная наша горячность, услаждая и чувства и душу, все представляла нам в ясном виде. Не зрели мы облачного дня. Блаженства нашего достигали мы вершины. Супруга моя была беременна, и приближался час ее разрешения. Все сие блаженство определила судьба, да рушится одним мгновением.
У меня был обед, и множество так называемых друзей, собравшись, насыщали праздный свой голод на мой счет. Один из бывших тут, который внутренне меня не любил, начал говорить с сидевшим подле него, хотя вполголоса, но довольно громко, чтобы говоренное жене моей и многим другим слышно было.
– Неужели вы не знаете, что дело нашего хозяина в уголовной палате уже решено… —
– Вам покажется мудрено, – говорил сопутник мой, обращая ко мне свое слово, – чтобы человек неслужащий и в положении, мною описанном, мог подвергнуть себя суду уголовному. И я так думал долго, да и тогда, когда мое дело, прошед нижние суды, достигло до высшего. Вот в чем оно состояло: я был в купечестве записан; пуская капитал мой в обращение, стал участником в частном откупу. Неосновательность моя причиною была, что я доверил лживому человеку, который, лично попавшись в преступлении, был от откупу отрешен, и, по свидетельству будто его книг, сделался, по-видимому, на нем большой начет. Он скрылся, я остался в лицах, и начет положено взыскать с меня. Я, сделав выправки сколько мог, нашел, что начету на мне или совсем бы не было или бы был очень малый, и для того просил, чтобы сделали расчет со мною, ибо я по нем был порукою. Но вместо того, чтобы сделать должное по моему прошению удовлетворение, велено недоимку взыскать с меня. Первое неправосудие. Но к сему присовокупили и другое. В то время как я сделался в откупу порукою, имения за мною никакого не было, но по обыкновению послано было запрещение на имение мое в гражданскую палату. Странная вещь – запрещать продавать то, чего не существует в имении! После того купил я дом и другие сделал приобретения. В то же самое время случай допустил меня перейти из купеческого звания в звание дворянское, получа чин. Наблюдая свою пользу, я нашел случай продать дом на выгодных кондициях, совершив купчую в самой той же палате, где существовало запрещение. Сие поставлено мне в преступление; ибо были люди, которых удовольствие помрачалось блаженством моего жития. Стряпчий казенных дел сделал на меня донос, что я, избегая платежа казенной недоимки, дом продал, обманул гражданскую палату, назвавшись тем званием, в коем я был, а не тем, в котором находился при покупке дома. Тщетно я говорил, что запрещение не может существовать на то, чего нет в имении, тщетно я говорил, что по крайней мере надлежало бы сперва продать оставшееся имение и выручить недоимку сей продажею, а потом предпринимать другие средства; что я звания своего не утаивал, ибо в дворянском уже купил дом. Все сие было отринуто, продажа дому уничтожена, меня осудили за ложной мой поступок лишить чинов, – и требуют теперь, – говорил повествователь, – хозяина здешнего в суд, дабы посадить под стражу до окончания дела. —
Сие последнее повествуя, рассказывающий возвысил свой голос. – Жена моя, едва сие услышала, обняв меня, вскричала: – Нет, мой друг, и я с тобою. – Более выговорить не могла. Члены ее все ослабели, и она упала бесчувственна в мои объятия. Я, подняв ее со стула, вынес в спальную комнату и не ведаю, как обед окончался.
Пришед чрез несколько времени в себя, она почувствовала муки, близкое рождение плода горячности нашей возвещающие. Но сколь ни жестоки они были, воображение, что я буду под стражею, столь ее тревожило, что она только и твердила: – И я пойду с тобою. – Сие несчастное приключение ускорило рождение младенца целым месяцем, и все способы бабки и доктора, для пособия призванных, были тщетны и не могли воспретить, чтобы жена моя не родила чрез сутки. Движения ее души не токмо с рождением младенца не успокоились, но усилившись гораздо, сделали ей горячку. – Почто распространяться мне в повествовании? Жена моя на третий день после родов своих умерла. Видя ее страдание, можете поверить, что я ее не оставлял ни на минуту. Дело мое и осуждение в горести позабыл совершенно. За день до кончины моей любезной недозрелый плод нашея горячности также умер. Болезнь матери его занимала меня совсем, и потеря сия была для меня тогда невелика. Вообрази, – говорил повествователь мой, взяв обеими руками себя за волосы, – вообрази мое положение, когда я видел, что возлюбленная моя со мною расставалася навсегда. – Навсегда! – вскричал он диким голосом. – Но зачем я бегу? Пускай меня посадят в темницу; я уже нечувствителен; пускай меня мучат, пускай лишают жизни. О варвары, тигры, змеи лютые, грызите сие сердце, пускайте в него томный ваш яд. – Извините мое исступление, я думаю, что я лишусь скоро ума. Сколь скоро воображу ту минуту, когда любезная моя со мною расставалася, то я все позабываю и свет в глазах меркнет. Но окончу мою повесть. В толико жестоком отчаянии, лежащу мне над бездыханным телом моей возлюбленной, один из искренних моих друзей прибежал ко мне: – Тебя пришли взять под стражу, команда на дворе. Беги отсель, кибитка у задних ворот готова, ступай в Москву или куда хочешь и живи там, доколе можно будет облегчить твою судьбу. – Я не внимал его речам, но он, усилясь надо мною и взяв меня с помощию своих людей, вынес и положил в кибитку; но вспомня, что надобны мне деньги, дал мне кошелек, в котором было только пятьдесят рублей. Сам пошел в мой кабинет, чтобы найти там денег и мне вынести; но, нашед уже офицера в моей спальне, успел только прислать ко мне сказать, чтобы я ехал. Не помню, как меня везли первую станцию. Слуга приятеля моего, рассказав все происшедшее, простился со мною, а я теперь еду, по пословице, – куда глаза глядят.
Повесть сопутника моего тронула меня несказанно. Возможно ли, говорил я сам себе, чтобы в толь мягкосердое правление, каково ныне у нас, толикие производилися жестокости? Возможно ли, чтобы были столь безумные судии, что для насыщения казны (можно действительно так назвать всякое неправильное отнятие имения для удовлетворения казенного требования) отнимали у людей имение, честь, жизнь? Я размышлял, каким бы образом могло сие происшествие достигнуть до слуха верховныя власти. Ибо справедливо думал, что в самодержавном правлении она одна в отношении других может быть беспристрастна. – Но не могу ли я принять на себя его защиту? Я напишу жалобницу в высшее правительство. Уподроблю все происшествие и представлю неправосудие судивших и невинность страждущего. – Но жалобницы от меня не примут. Спросят, какое я на то имею право; потребуют от меня верющего письма. – Какое имею право? Страждущее человечество. Человек, лишенный имения, чести, лишенный половины своея жизни, в самовольном изгнании, дабы избегнуть поносительного заточения. И на сие надобно верющее письмо? От кого? Ужели сего мало, что страждет мой согражданин? – Да и в том нет нужды. Он человек: вот мое право, вот верющее письмо. – О богочеловек! Почто писал ты закон твой для варваров? Они, крестяся во имя твое, кровавые приносят жертвы злобе. Почто ты для них мягкосерд был? Вместо обещания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую и, совесть возжигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денноночно, доколь страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. – Таковые размышления толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и не просыпался долго.
Возмущенные соки мыслию стремилися, мне спящу, к голове и, тревожа нежный состав моего мозга, возбудили в нем воображение. Несчетные картины представлялись мне во сне, но исчезали, как легкие в воздухе пары. Наконец, как то бывает, некоторое мозговое волокно, тронутое сильно восходящими из внутренних сосудов тела парами, задрожало долее других на несколько времени, и вот что я грезил.
Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, султан или какое-то сих названий нечто седящее во власти на престоле.
Место моего восседания было из чистого злата и хитро искладенными драгими разного цвета каменьями блистало лучезарно. Ничто сравниться не могло со блеском моих одежд. Глава моя украшалася венцом лавровым. Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие. Здесь меч лежал на столпе, из сребра изваянном, на коем изображалися морские и сухопутные сражения, взятие городов и прочее сего рода; везде видно было вверху имя мое, носимое Гением славы, над всеми сими подвигами парящим. Тут виден был скипетр мой, возлежащий на снопах, обильными класами отягченных, изваянных из чистого злата и природе совершенно подражающих. На твердом коромысле возвешенные зрелися весы. В единой из чаш лежала книга с надписью «Закон милосердия»; в другой – книга же с надписью «Закон совести». Держава, из единого камня иссеченная, поддерживаема была грудою младенцев, из белого мрамора иссеченных. Венец мой возвышен был паче всего и возлежал на раменах сильного исполина, воскраие же его поддерживаемо было истиною. Огромной величины змия, из светлыя стали искованная, облежала вокруг всего седалища при его подножии и, конец хвоста в зеве держаща, изображала вечность.
Но не единые бездыханные изображения возвещали власть мою и величество. С робким подобострастием и взоры мои ловящи, стояли вокруг престола моего чины государственные. В некотором отдалении от престола моего толпилося бесчисленное множество народа, коего разные одежды, черты лица, осанка, вид и стан различие их племени возвещали. Трепетное их молчание уверяло меня, что они все воле моей подвластны. По сторонам, на несколько возвышенном месте, стояли женщины в великом множестве в прелестнейших и великолепнейших одеждах. Взоры их изъявляли удовольствие на меня смотреть и желания их стремились на предупреждение моих, если бы они возродились.
Глубочайшее в собрании сем присутствовало молчание; казалося, что все в ожидании были важного какого происшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели. Обращенный сам в себя и чувствуя глубоко вкоренившуюся скуку в душе моей, от насыщающего скоро единообразия происходящую, я долг отдал естеству и, рот разинув до ушей, зевнул во всю мочь. Все вняли чувствованию души моей. Внезапу смятение распростерло мрачной покров свой по чертам веселия, улыбка улетала со уст нежности и блеск радования с ланит удовольствия. Искаженные взгляды и озирание являли нечаянное нашествие ужаса и предстоящие беды. Слышны были вздохи, колющие предтечи скорби; и уже начинало раздаваться задерживаемое присутствием страха стенание. Уже скорыми в сердца всех стопами шествовало отчаяние и смертные содрогания, самыя кончины мучительнее. – Тронутый до внутренности сердца толико печальным зрелищем, ланитные мышцы нечувствительно стянулися ко ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление, улыбке подобное, за коим я чхнул весьма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную, проникает полуденный солнца луч, летит от жизненной его жаркости сгущенная парами влага и, разделенная в составе своем, частию, улегчася, стремительно возносится в неизмеримое пространство эфира и частию, удержав в себе одну только тяжесть земных частиц, падает низу стремительно, мрак, присутствовавший повсюду в небытии светозарного шара, исчезает весь вдруг и, сложив поспешно непроницательной свой покров, улетает на крылех мгновенности, не оставляя по себе ниже знака своего присутствования, – тако при улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания поселившийся; радость проникла сердца всех быстротечно, и не осталося косого вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать: – Да здравствует наш великий государь, да здравствует навеки. – Подобно тихому полуденному ветру, помавающему листвия дерев и любострастное производящему в дубраве шумление, тако во всем собрании радостное шептание раздавалось. Иной вполголоса говорил: – Он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества, покорил тысячи разных народов своей державе. Другой восклицал: – Он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю, он любит науки и художества, поощряет земледелие и рукоделие. – Женщины с нежностию вещали: – Он не дал погибнуть тысячам полезных сограждан, избавя их до сосца еще гибельныя кончины. – Иной с важным видом возглашал: – Он умножил государственные доходы, народ облегчил от податей, доставил ему надежное пропитание. – Юношество, с восторгом руки на небо простирая, рекло: – Он милосерд, правдив, закон его для всех равен, он почитает себя первым его служителем. Он законодатель мудрый, судия правдивый, исполнитель ревностный, он паче всех царей велик, он вольность дарует всем.
Речи таковые, ударяя в тимпан моего уха, громко раздавалися в душе моей. Похвалы сии истинными в разуме моем изображалися, ибо сопутствуемы были искренности наружными чертами. Таковыми их приемля, душа моя возвышалася над обыкновенным зрения кругом; в существе своем расширялась и, вся объемля, касалася степеней божественной премудрости. Но ничто не сравнилося с удовольствием самоодобрения при раздавании моих приказаний. Первому военачальнику повелевал я идти с многочисленным войском на завоевание земли, целым небесным поясом от меня отделенной. – Государь, – ответствовал он мне, – слава единая имени твоего победит народы, оную землю населяющие. Страх предшествовать будет оружию твоему, и возвращуся, приносяй дань царей сильных. – Учредителю плавания я рек: – Да корабли мои рассеются по всем морям, да узрят их неведомые народы; флаг мой да известен будет на Севере, Востоке, Юге и Западе. – Исполню, государь, – и полетел на исполнение, яко ветр, определенный надувать ветрила корабельные. – Возвести до дальнейших пределов моея области, – рек я хранителю законов, – се день рождения моего, да ознаменится он в летописях навеки отпущением повсеместным. Да отверзутся темницы, да изыдут преступники и да возвратятся в домы свои, яко заблудшие от истинного пути. – Милосердие твое, государь! есть образ всещедрого существа. Бегу возвестити радость скорбящим отцам по чадех их, супругам по супругах их. – Да воздвигнутся, – рек я первому зодчию, – великолепнейшие здания для убежища мусс, да украсятся подражаниями природы разновидными; и да будут они ненарушимы, яко небесные жительницы, для них же они уготовляются. – О премудрый, – отвечал он мне, – егда велениям твоего гласа стихии повиновалися и, совокупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности; колико маловажен будет сей труд для ревностных исполнителей твоих велений. Ты рек, и грубые строения припасы уже гласу твоему внемлют. – Да отверзется ныне, – рек я, – рука щедроты, да излиются остатки избытка на немощствующих, сокровища ненужные да возвратятся к их источнику. – О всещедрый владыко, всевышним нам дарованный, отец своих чад, обогатитель нищего, да будет твоя воля. – При всяком моем изречении все предстоящие восклицали радостно, и плескание рук не токмо сопровождало мое слово, но даже предупреждало мысль. Единая из всего собрания жена, облегшаяся твердо о столп, испускала вздохи скорби и являла вид презрения и негодования. Черты лица ее были суровы и платье простое. Голова ее покрыта была шляпою, когда все другие обнаженными стояли главами. – Кто сия? – вопрошал я близ стоящего меня. – Сия есть странница, нам неизвестная, именует себя Прямовзорой и глазным врачом. Но есть волхв опаснейший, носяй яд и отраву, радуется скорби и сокрушению; всегда нахмуренна, всех презирает и поносит; даже не щадит в ругании своем священныя твоея главы. – Почто ж злодейка сия терпима в моей области? Но о ней завтра. Сей день есть день милости и веселия. Приидите, сотрудники мои в ношении тяжкого бремени правления, приимите достойное за труды и подвиги ваши воздаяние. – Тогда, восстав от места моего, возлагал я различные знаки почестей на предстоящих; отсутствующие забыты не были, но те, кои приятным видом словам моим шли во сретение, имели большую во благодеяниях моих долю.
По сем продолжал я мое слово: – Пойдем, столпы моей державы, опоры моей власти, пойдем усладиться по труде. Достойно бо, да вкусит трудившийся плода трудов своих. Достойно царю вкусити веселия, он же изливает многочисленные всем. Покажи нам путь к уготованному тобою празднеству, – рек я к учредителю веселий. – Мы тебе последуем. – Постой, – вещала мне странница от своего места, – постой и подойди ко мне. Я – врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очищу зрение твое. Какие бельма! – сказала она с восклицанием. Некая невидимая сила нудила меня идти пред нее, хотя все меня окружавшие мне в том препятствовали, делая даже мне насилие.
– На обоих глазах бельма, – сказала странница, – а ты столь решительно судил о всем. – Потом коснулася обоих моих глаз и сняла с них толстую плену, подобну роговому раствору. – Ты видишь, – сказала она мне, – что ты был слеп и слеп всесовершенно. Я есмь Истина. Всевышний, подвигнутый на жалость стенанием тебе подвластного народа, ниспослал меня с небесных кругов, да отжену темноту, проницанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представятся днесь в естественном их виде взорам твоим. Ты проникнешь во внутренность сердец. Не утаится более от тебя змия, крыющаяся в излучинах душевных. Ты познаешь верных своих подданных, которые вдали от тебя не тебя любят, но любят отечество; которые готовы всегда на твое поражение, если оно отметит порабощение человека. Но не возмутят они гражданского покоя безвременно и без пользы. Их призови себе в друзей. Изжени сию гордую чернь, тебе предстоящую и прикрывшую срамоту души своей позлащенными одеждами. Они-то истинные твои злодеи, затмевающие очи твои и вход мне в твои чертоги воспрещающие. Един раз являюся я царям во все время их царствования, да познают меня в истинном моем виде; но я никогда не оставляю жилища смертных. Пребывание мое не есть в чертогах царских. Стража, обсевшая их вокруг и бдящая денноночно стоглазно, воспрещает мне вход в оные. Если когда проникну сию сплоченную толпу, то, подняв бич гонения, все тебя окружающие тщатся меня изгнать из обиталища твоего; бди убо, да паки не удалюся от тебя. Тогда словеса ласкательства, ядовитые пары издыхающие, бельма твои паки возродят, и кора, светом непроницаемая, покрыет твои очи. Тогда ослепление твое будет сугубо; едва на шаг один взоры твои досязать будут. Все в веселом являться тебе будет виде. Уши твои не возмутятся стенанием, но усладится слух сладкопением ежечасно. Жертвенные курения обыдут на лесть отверстую душу. Осязанию твоему подлежать будет всегда гладкость. Никогда не раздерет благотворная шероховатость в тебе нервов осязательности. Вострепещи теперь за таковое состояние. Туча вознесется над главой твоей, и стрелы карающего грома готовы будут на твое поражение. Но я, вещаю тебе, поживу в пределах твоего обладания. Егда восхощешь меня видети, егда, осажденная кознями ласкательства, душа твоя взалкает моего взора, воззови меня из твоея отдаленности; где слышен будет твердый мой глас, там меня и обрящешь. Не убойся гласа моего николи. Если из среды народныя возникнет муж, порицающий дела твоя, ведай, что той есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твердым гласом возвестит меня тебе. Блюдись и не дерзай его казнити, яко общего возмутителя. Призови его, угости его, яко странника. Ибо всяк, порицающий царя в самовластии его, есть странник земли, где все пред ним трепещет. Угости его, вещаю, почти его, да возвратившися возможет он паче и паче глаголати нельстиво. Но таковые твердые сердца бывают редки; едва един в целом столетии явится на светском ристалище. А дабы бдительность твоя не усыплялася негою власти, се кольцо дарую тебе, да возвестит оно тебе твою неправду, когда на нее дерзать будешь. Ибо ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общия тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если мать восплачет о сыне своем, убиенном на ратном поле, и жена о муже своем; ибо опасность плена едва оправдать может убийство, войною называемое. Ты виною будешь, если запустеет нива, если птенцы земледелателя лишатся жизни у тощего без здравыя пищи сосца матерня. Но обрати теперь взоры свои на себя и на предстоящих тебе, воззри на исполнение твоих велений, и если душа твоя не содрогнется от ужаса при взоре таковом, то отыду от тебя, и чертог твой загладится навсегда в памяти моей.
Изрекшия странницы лице казалося веселым и вещественным сияющее блеском. Воззрение на нее вливало в душу мою радость. Уже не чувствовал я в ней зыбей тщеславия и надутлости высокомерия. Я ощущал в ней тишину; волнение любочестия и обуревание властолюбия ее не касалися. Одежды мои, столь блестящие, казалися замараны кровию и омочены слезами. На перстах моих виделися мне остатки мозга человеческого; ноги мои стояли в тине. Вокруг меня стоящие являлися того скареднее. Вся внутренность их казалась черною и сгораемою тусклым огнем ненасытности. Они метали на меня и друг на друга искаженные взоры, в коих господствовали хищность, зависть, коварство и ненависть. Военачальник мой, посланный на завоевание, утопал в роскоши и веселии. В войсках подчиненности не было; воины мои почиталися хуже скота. Не радели ни о их здравии, ни прокормлении; жизнь их ни во что вменялася; лишались они установленной платы, которая употреблялась на ненужное им украшение. Большая половина новых воинов умирали от небрежения начальников или ненужныя и безвременныя строгости. Казна, определенная на содержание всеополчения, была в руках учредителя веселостей. Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого раболепия. Я зрел пред собою единого знаменитого по словесам военачальника, коего я отличными почтил знаками моего благоволения; я зрел ныне ясно, что все его отличное достоинство состояло в том только, что он пособием был в насыщении сладострастия своего начальника; и на оказание мужества не было ему даже случая, ибо он издали не видал неприятеля. От таких-то воинов я ждал себе новых венцов. Отвратил я взор мой от тысячи бедств, представившихся очам моим.
Корабли мои, назначенные да прейдут дальнейшие моря, видел я плавающими при устье пристанища. Начальник, полетевший для исполнения моих велений на крылех ветра, простерши на мягкой постеле свои члены, упоялся негою и любовию в объятиях наемной возбудительницы его сладострастия. На изготованном велением его чертеже совершенного в мечтании плавания уже видны были во всех частях мира новые острова, климату их свойственными плодами изобилующие. Обширные земли и многочисленные народы израждалися из кисти новых сих путешествователей. Уже при блеске нощных светильников начерталося величественное описание сего путешествия и сделанных приобретений слогом цветущим и великолепным. Уже златые дски уготовлялися на одежду столь важного сочинения. О Кук! почто ты жизнь свою провел в трудах и лишениях? Почто скончал ее плачевным образом? Если бы воссел на сии корабли, то, в веселиях начав путешествие и в веселиях его скончая, столь же бы много сделал открытий, сидя на одном месте (и в моем государстве), толико же бы прославился; ибо ты бы почтен был твоим государем.
Подвиг мой, коим в ослеплении моем душа моя наиболее гордилася, – отпущение казни и прощение преступников едва видны были в обширности гражданских деяний. Веление мое или было совсем нарушено, обращаяся не в ту сторону, или не имело желаемого действия превратным оного толкованием и медлительным исполнением. Милосердие мое сделалося торговлею, и тому, кто давал больше, стучал молот жалости и великодушия. Вместо того чтобы в народе моем чрез отпущение вины прослыть милосердым, я прослыл обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом. – Удержи свое милосердие, – вещали тысячи гласов, – не возвещай нам его великолепным словом, если не хощешь его исполнити. Не соплощай с обидою насмешку, с тяжестию ее ощущение. Мы спали и были покойны, ты возмутил наш сон, мы бдеть не желали, ибо не над чем. – В созидании городов видел я одно расточение государственныя казны, нередко омытой кровию и слезами моих подданных. В воздвижении великолепных зданий к расточению нередко присовокуплялося и непонятие о истинном искусстве. Я зрел расположение их внутреннее и внешнее без малейшего вкуса. Виды оных принадлежали веку готфов и вандалов. В жилище, для мусс уготованном, не зрел я лиющихся благотворно струев Касталии и Ипокрены, едва пресмыкающееся искусство дерзало возводить свои взоры выше очерченной обычаем округи. Зодчие, согбенные над чертежом здания, не о красоте оного помышляли, но как приобретут ею себе стяжание. Возгнушался я моего пышного тщеславия и отвратил очи мои. – Но паче всего язвило душу мою излияние моих щедрот. Я мнил в ослеплении моем, что ненужная казна общественная на государственные надобности не может лучше употребиться, как на вспоможение нищего, на одеяние нагого, на прокормление алчущего, или на поддержание погибающего противным случаем, или на мзду не радящему о стяжании достоинству и заслуге. Но сколь прискорбно было видеть, что щедроты мои изливалися на богатого, на льстеца, на вероломного друга, на убийцу иногда тайного, на предателя и нарушителя общественной доверенности, на уловившего мое пристрастие, на снисходящего моим слабостям, на жену, кичащуюся своим бесстыдством. Едва-едва досязали слабые источники моея щедроты застенчивого достоинства и стыдливыя заслуги. Слезы пролились из очей моих и сокрыли от меня толь бедственные представления безрассудной моей щедроты. – Теперь ясно я видел, что знаки почестей, мною раздаваемые, всегда доставалися в удел недостойным. Достоинство неопытное, пораженное первым блеском сих мнимых блаженств, вступало в единый путь с ласкательством и подлостию духа, на снискание почестей, вожделенной смертных мечты; но, влача косвенно стопы свои, всегда на первых степенях изнемогало и довольствоваться было осуждаемо собственным своим одобрением, во уверении, что почести мирские суть пепл и дым. Видя во всем толикую превратность, от слабости моей и коварства министров моих проистекшую, видя, что нежность моя обращалася на жену, ищущую в любви моей удовлетворения своего только тщеславия и внешность только свою на услаждение мое устрояющую, когда сердце ее ощущало ко мне отвращение, – возревел я яростию гнева: – Недостойные преступники, злодеи! вещайте, почто во зло употребили доверенность господа вашего? предстаньте ныне пред судию вашего. Вострепещите в окаменелости злодеяния вашего. Чем можете оправдать дела ваши? Что скажете во извинение ваше? Се он, его же призову из хижины уничижения. – Прииди, – вещал я старцу, коего созерцал в крае обширныя моея области, кроющегося под заросшею мхом хижиною, – прииди облегчить мое бремя; прииди и возврати покой томящемуся сердцу и востревоженному уму. – Изрекши сие, обратил я взор мой на мой сан, познал обширность моея обязанности, познал, откуду проистекает мое право и власть. Вострепетал во внутренности моей, убоялся служения моего. Кровь моя пришла в жестокое волнение, и я пробудился. – Еще не опомнившись, схватил я себя за палец, но тернового кольца на нем не было. О, если бы оно пребывало хотя на мизинце царей!
Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается.
Подберезье
Насилу очнуться я мог от богатырского сна, в котором я столько сгрезил. – Голова моя была свинцовой тяжелее, хуже, нежели бывает с похмелья у пьяниц, которые по неделе пьют запоем. Не в состоянии я был продолжать пути и трястися на деревянных дрогах (пружин у кибитки моей не было). Я вынул домашний лечебник; искал, нет ли в нем рецепта от головной дурноты, происходящей от бреду во сне и наяву. Лекарство со мною хотя всегда ездило в запасе, но, по пословице: на всякого мудреца довольно простоты, – против бреду я себя не предостерег, и оттого голова моя, приехав на почтовый стан, была хуже болвана.
Вспомнил я, что некогда блаженной памяти нянюшка моя Клементьевна, по имени Прасковья, нареченная Пятница, охотница была до кофею и говаривала, что помогает он от головной боли. Как чашек пять выпью, – говаривала она, – так и свет вижу, а без того умерла бы в три дни.
Я взялся за нянюшкино лекарство, но, не привыкнув пить вдруг по пяти чашек, попотчевал излишне для меня сваренным молодого человека, который сидел на одной со мной лавке, но в другом углу у окна. – Благодарю усердно, – сказал он, взяв чашку с кофеем. – Приветливый вид, взгляд неробкий, вежливая осанка, казалось, не кстати были к длинному полукафтанью и к примазанным квасом волосам. Извини меня, читатель, в моем заключении, я родился и вырос в столице, и если кто не кудряв и не напудрен, того я ни во что не чту. Если ты и деревенщина и волос не пудришь, то не осуди, буде я на тебя не взгляну и пройду мимо.
Слово за слово я с новым моим знакомцем поладил. Узнал, что он был из новогородской семинарии и шел пешком в Петербург повидаться с дядею, который был секретарем в губернском штате. Но главное его намерение было, чтоб сыскать случай для приобретения науки. – Сколь великой недостаток еще у нас в пособиях просвещения, – говорил он мне. – Одно сведение латинского языка не может удовлетворить разума, алчущего науки. Виргилия, Горация, Тита Ливия, даже Тацита почти знаю наизусть, но когда сравню знания семинаристов с тем, что я имел случай по счастию моему узнать, то почитаю училище наше принадлежащим к прошедшим столетиям. Классические авторы нам все известны, но мы лучше знаем критические объяснения текстов, нежели то, что их доднесь делает приятными, что вечность для них уготовало. Нас учат философии, проходим мы логику, метафизику, ифику, богословию, но, по словам Кутейкина в «Недоросле», дойдем до конца философского учения и возвратимся вспять. Чему дивиться: Аристотель и схоластика доныне царствуют в семинариях. Я, по счастию моему, знаком стал в доме одного из губернских членов, в Новегороде, имел случай приобрести в оном малое знание во французском и немецком языках и пользовался книгами хозяина того дома. Какая разница в просвещении времен, когда один латинский язык был в училищах употребителен, с нынешним временем! Какое пособие к учению, когда науки не суть таинства, для сведущих латинский язык токмо отверстые, но преподаются на языке народном! – Но для чего, – прервав он свою речь, продолжал, – для чего не заведут у нас вышних училищ, в которых бы преподавалися науки на языке общественном, на языке российском? Учение всем бы было внятнее; просвещение доходило бы до всех поспешнее, и одним поколением позже за одного латинщика нашлось бы двести человек просвещенных; по крайней мере в каждом суде был бы хотя один член, понимающий, что есть юриспруденция или законоучение. – Боже мой! – продолжал он с восклицанием, – если бы привести примеры из размышлений и разглагольствований судей наших о делах! Что бы сказали Гроций, Монтескью, Блекстон! – Ты читал Блекстона? – Читал первые две части, на российский язык переведенные. Не худо бы было заставлять судей наших иметь сию книгу вместо святцов, заставлять их чаще в нее заглядывать, нежели в календарь. Как не потужить, – повторил он, – что у нас нет училищ, где бы науки преподавалися на языке народном.
Вошедший почталион помешал продолжению нашей беседы. Я успел семинаристу сказать, что скоро желание его исполнится, что уже есть повеление о учреждении новых университетов, где науки будут преподаваться по его желанию. – Пора, государь мой, пора…
Между тем как я платил почталиону прогонные деньги, семинарист вышел вон. Выходя, выронил небольшой пук бумаги. Я поднял упадшее и не отдал ему. Не обличи меня, любезный читатель, в моем воровстве; с таким условием я и тебе сообщу, что я подтибрил. Когда же прочтешь, то знаю, что кражи моей наружу не выведешь; ибо не тот один вор, кто крал, но и тот, кто принимал, – так писано в законе русском. Признаюсь, я на руку нечист; где что немного похожее на рассудительное увижу, то тотчас стяну; смотри, ты не клади мыслей плохо. – Читай, что мой семинарист говорит:
Кто мир нравственный уподобил колесу, тот, сказав великую истину, не иное что, может быть, сделал, как взглянул на круглый образ земли и других великих в пространстве носящихся тел, изрек только то, что зрел. Поступая в познании естества, откроют, может быть, смертные тайную связь веществ духовных или нравственных с веществами телесными или естественными; что причина всех перемен, превращений, превратностей мира нравственного или духовного зависит, может быть, от кругообразного вида нашего обиталища и других к солнечной системе принадлежащих тел, равно, как и оно, кругообразных и коловращающихся… – На мартиниста похоже, на ученика Шведенборга… Нет, мой друг! я пью и ем не для того только, чтоб быть живу, но для того, что в том нахожу немалое услаждение чувств. И покаюся тебе, как отцу духовному, я лучше ночь просижу с пригоженькою девочкою и усну упоенный сладострастием в объятиях ее, нежели, зарывшись в еврейские или арабские буквы, в цифири или египетские иероглифы, потщуся отделить дух мой от тела и рыскать в пространных полях бредоумствований, подобен древним и новым духовным витязям. Когда умру, будет время довольно на неосязательность, и душенька моя набродится досыта.
Оглянись назад, кажется, еще время то за плечами близко, в которое царствовало суеверие и весь его причет: невежество, рабство, инквизиция и многое кое-что. Давно ли то было, как Вольтер кричал против суеверия до безголосицы; давно ли Фридрих неутолимой его был враг не токмо словом своим и деяниями, но, что для него страшнее, державным своим примером. Но в мире сем все приходит на прежнюю степень, ибо все в разрушении свое имеет начало. Животное, прозябаемое, родится, растет, дабы произвести себе подобных, потом умереть и уступить им свое место. Бродящие народы собираются во грады, основывают царства, мужают, славятся, слабеют, изнемогают, разрушаются. Места пребывания их не видно; даже имена их погибнут. Христианское общество вначале было смиренно, кротко, скрывалося в пустынях и вертепах, потом усилилось, вознесло главу, устранилось своего пути, вдалося суеверию; в исступлении шло стезею, народам обыкновенною; воздвигло начальника, расширило его власть, и папа стал всесильный из царей. Лутер начал преобразование, воздвиг раскол, изъялся из-под власти его и много имел последователей. Здание предубеждения о власти папской рушиться стало, стало исчезать и суеверие; истина нашла любителей, попрала огромный оплот предрассуждений, но недолго пребывала в сей стезе. Вольность мыслей вдалася необузданности. Не было ничего святого, на все посягали. Дошед до краев возможности, вольномыслие возвратится вспять. Сия перемена в образе мыслей предстоит нашему времени. Не дошли еще до последнего края беспрепятственного вольномыслия, но многие уже начинают обращаться к суеверию. Разверни новейшие таинственные творения, возмнишь быти во времена схоластики и словопрений, когда о речениях заботился разум человеческий, не мысля о том, был ли в речении смысл; когда задачею любомудрия почиталося и на решение исследователей истины отдавали вопрос, сколько на игольном острии может уместиться душ.
Если потомкам нашим предлежит заблуждение, если, оставя естественность, гоняться будут за мечтаниями, то весьма полезной бы был труд писателя, показавшего нам из прежних деяний шествие разума человеческого, когда, сотрясший мглу предубеждений, он начал преследовать истину до выспренностей ее и когда, утомленный, так сказать, своим бодрствованием, растлевать начинал паки свои силы, томиться и ниспускаться в туманы предрассудков и суеверия. Труд сего писателя бесполезен не будет, ибо, обнажая шествие наших мыслей к истине и заблуждению, устранит хотя некоторых от пагубныя стези и заградит полет невежества; блажен писатель, если творением своим мог просветить хотя единого, блажен, если в едином хотя сердце посеял добродетель.
Счастливыми назваться мы можем: ибо не будем свидетели крайнего посрамления разумныя твари. Ближние наши потомки счастливее нас еще быть могут. Но пары, в грязи омерзения почившие, уже воздымаются и предопределяются объяти зрения круг. Блаженны, если не узрим нового Магомета; час заблуждения еще отдалится. Внемли, когда в умствованиях, когда в суждениях о вещах нравственных и духовных начинается ферментация и восстает муж твердый и предприимчивый на истину или на прельщение, тогда последует премена царств, тогда премена в исповеданиях.
На лествице, по которой разум человеческий нисходить долженствует во тьму заблуждений, если покажем что-либо смешное и улыбкою соделаем добро, блаженны наречемся.
Бродя из умствования в умствование, о возлюбленные, блюдитеся, да не вступите на путь следующих исследований.
Вещал Акиба: вошед по стезе равви Иозуа в сокровенное место, и я познал тройственное. Познал 1-е: не на восток и не на запад, но на север и юг обращатися довлеет. Познал 2-е: не на ногах стоящему, но восседая надлежит испражняться. Познал 3-е: не десницею, но шуйцею отирать надлежит задняя. На сие возразил Бен Газас: дотоле обесстудил еси чело свое на учителя, да извергающего присматривал? Ответствовал он: сии суть таинства закона; и нужно было, да сотворю сотворенное и их познаю.[2]
Новгород
Гордитеся, тщеславные созидатели градов, гордитесь, основатели государств; мечтайте, что слава имени вашего будет вечна; столпите камень на камень до самых облаков; иссекайте изображения ваших подвигов и надписи, дела ваши возвещающие. Полагайте твердые основания правления законом непременным. Время с острым рядом зубов смеется вашему кичению. Где мудрые Солоновы и Ликурговы законы, вольность Афин и Спарты утверждавшие? – В книгах. – А на месте их пребывания пасутся рабы жезлом самовластия. – Где пышная Троя, где Карфага? – Едва ли видно место, где гордо они стояли. – Курится ли таинственно единому существу нетленная жертва во славных храмах Древнего Египта? Великолепные оных остатки служат убежищем блеющему скоту во время средиденного зноя. Не радостными слезами благодарения всевышнему отцу они орошаемы, но смрадными извержениями скотского тела. О! гордость, о! надменность человеческая, воззри на сие и познай, колико ты ползуща!
В таковых размышлениях подъезжал я к Новугороду, смотря на множество монастырей, вокруг оного лежащих.
Сказывают, что все сии монастыри, даже и на пятнадцать верст расстоянием от города находящиеся, заключалися в оном; что из стен его могло выходить до ста тысяч войска. Известно по летописям, что Новгород имел народное правление. Хотя у их были князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалася в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем на вече был истинный государь. Область Новогородская простиралася на севере даже за Волгу. Сие вольное государство стояло в Ганзейском союзе. Старинная речь: кто может стать против бога и великого Новагорода – служить может доказательством его могущества. Торговля была причиною его возвышения. Внутренние несогласия и хищный сосед совершили его падение.
На мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться зрелищем течения Волхова. Не можно было, чтобы не пришел мне на память поступок царя Ивана Васильевича по взятии Новагорода. Уязвленный сопротивлением сея республики, сей гордый, зверский, но умный властитель хотел ее разорить до основания. Мне зрится он с долбнею на мосту стоящ, так иные повествуют, приносяй на жертву ярости своей старейших и начальников новогородских. Но какое он имел право свирепствовать против них; какое он имел право присвоять Новгород? То ли, что первые великие князья российские жили в сем городе? Или что он писался царем всея Русии? Или что новогородцы были славенского племени? Но на что право, когда действует сила? Может ли оно существовать, когда решение запечатлеется кровию народов? Может ли существовать право, когда нет силы на приведение его в действительность? Много было писано о праве народов; нередко имеют на него ссылку; но законоучители не помышляли, может ли быть между народами судия. Когда возникают между ими вражды, когда ненависть или корысть устремляет их друг на друга, судия их есть меч. Кто пал мертв или обезоружен, тот и виновен; повинуется непрекословно сему решению, и апелляции на оное нет. – Вот почему Новгород принадлежал царю Ивану Васильевичу. Вот для чего он его разорил и дымящиеся его остатки себе присвоил. – Нужда, желание безопасности и сохранности созидают царства; разрушают их несогласие, ухищрение и сила. – Что ж есть право народное? – Народы, говорят законоучители, находятся один в рассуждении другого в таком же положении, как человек находится в отношении другого в естественном состоянии. – Вопрос: в естественном состоянии человека какие суть его права? Ответ: взгляни на него. Он наг, алчущ, жаждущ. Все, что взять может на удовлетворение своих нужд, все присвояет. Если бы что тому воспрепятствовать захотело, он препятствие удалит, разрушит и приобретет желаемое. Вопрос: если на пути удовлетворения нуждам своим он обрящет подобного себе, если, например, двое, чувствуя голод, восхотят насытиться одним куском, – кто из двух большее к приобретению имеет право? Ответ: тот, кто кусок возьмет. Вопрос: кто же возьмет кусок? Ответ: кто сильнее. – Неужели сие есть право естественное, неужели се основание права народного? – Примеры всех времян свидетельствуют, что право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом. – Вопрос: что есть право гражданское? Ответ: кто едет на почте, тот пустяками не занимается и думает, как бы лошадей поскорее промыслить.
Из летописи новогородской
Новогородцы с великим князем Ярославом Ярославичем вели войну и заключили письменное примирение. —
Новогородцы сочинили письмо для защищения своих вольностей и утвердили оное пятидесятью осьмию печатьми. —
Новогородцы запретили у себя обращение чеканной монеты, введенной татарами в обращение. —
Новгород в 1420 году начал бить свою монету. —
Новгород стоял в Ганзейском союзе. —
В Новегороде был колокол, по звону которого народ собирался на вече для рассуждения о вещах общественных. —
Царь Иван письмо и колокол у новогородцев отнял. —
Потом – в 1500 году – в 1600 году – в 1700 году – году – году – Новгород стоял на прежнем месте.
Но не все думать о старине, не все думать о завтрашнем дне. Если беспрестанно буду глядеть на небо, не смотря на то, что под ногами, то скоро споткнусь и упаду в грязь… размышлял я. Как ни тужи, а Новагорода по-прежнему не населишь. Что бог даст вперед. Теперь пора ужинать. Пойду к Карпу Дементьичу.
– Ба! ба! ба! добро пожаловать, откуды бог принес, – говорил мне приятель мой Карп Дементьич, прежде сего купец третьей гильдии, а ныне именитой гражданин. – По пословице, счастливой к обеду. Милости просим садиться. – Да что за пир у тебя? – Благодетель мой, я женил вчера парня своего. – Благодетель твой, – подумал я, – не без причины он меня так величает. Я ему, как и другие, пособил записаться в именитые граждане. Дед мой будто должен был по векселю 1000 рублей, кому, того не знаю, с 1737 году. Карп Дементьич в 1780 вексель где-то купил и какой-то приладил к нему протест. Явился он ко мне с искусным стряпчим, и в то время взяли они с меня милостиво одни только проценты за 50 лет, а занятой капитал мне весь подарили. – Карп Дементьич человек признательной. – Невестка, водки нечаянному гостю. – Я водки не пью. – Да хотя прикушай. Здоровья молодых… – и сели ужинать.
По одну сторону меня сел сын хозяйский, а по другую посадил Карп Дементьич свою молодую невестку… Прервем речь, читатель. Дай мне карандаш и листочек бумашки. Я тебе во удовольствие нарисую всю честную компанию и тем тебя причастным сделаю свадебной пирушки, хотя бы ты на Алеутских островах бобров ловил. Если точных не спишу портретов, то доволен буду их силуэтами. Лаватер и по них учит узнавать, кто умен и кто глуп.
Карп Дементьич – седая борода, в восемь вершков от нижней губы. Нос кляпом, глаза ввалились, брови как смоль, кланяется об руку, бороду гладит, всех величает: благодетель мой.
Аксинья Парфентьевна, любезная его супруга. В шестьдесят лет бела как снег и красна как маков цвет, губки всегда сжимает кольцом; ренского выпьет перед обедом полчарочки при гостях да в чулане стаканчик водки. Приказчик мужнин хозяину на счете показывает… По приказанию Аксиньи Парфентьевны куплено годового запасу 3 пуда белил ржевских и 30 фунтов румян миртовых… Приказчики мужнины – Аксиньины камердинеры. – Алексей Карпович, сосед мой застольной. Ни уса, ни бороды, а нос уже багровый, бровями моргает, в кружок острижен, кланяется гусем, отряхая голову и поправляя волосы. В Петербурге был сидельцем. На аршин когда меряет, то спускает на вершок; за то его отец любит, как сам себя; на пятнадцатом году матери дал оплеуху – Парасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы как уголь. Брови в нитку, чернее сажи. В компании сидит, потупя глаза, но во весь день от окошка не отходит и пялит глаза на всякого мужчину. Под вечерок стоит у калитки. – Глаз один подбит. Подарок ее любезного муженька для первого дни, – а у кого догадка есть, тот знает, за что.
Но, любезный читатель, ты уже зеваешь. Полно, видно, мне снимать силуэты. Твоя правда; другого не будет, как нос да нос, губы да губы. Я и того не понимаю, как ты на силуэте белилы и румяна распознаешь.
– Карп Дементьич, чем ты ныне торгуешь? В Петербург не ездишь, льну не привозишь, ни сахару, ни кофе, ни красок не покупаешь. Мне кажется, что торг твой тебе был не в убыток. – От него-то было я и разорился. Но насилу бог спас. Получив одним годом изрядный барышок, я жене построил здесь дом. На следующий год был льну неурожай, и я не мог поставить, что законтрактовал. Вот отчего я торговать перестал. – Помню, Карп Дементьич, что за тридцать тысяч рублей, забранных вперед, ты тысячу пуд льну прислал должникам на раздел. – Ей, больше не можно было, поверь моей совести. – Конечно, и на заморские товары был в том году неурожай. Ты забрал тысяч на двадцать… Да, помню: на них пришла головная боль. – Подлинно, благодетель, у меня голова так болела, что чуть не треснула. Да чем могут заимодавцы мои на меня жаловаться? Я им отдал все мое имение. – По три копейки на рубль. – Никак нет-ста, по пятнадцати. – А женин дом? – Как мне до него коснуться; он не мой. – Скажи же, чем ты торгуешь? – Ничем, ей, ничем. С тех пор, как я пришел в несостояние, парень мой торгует. Нынешним летом, слава богу, поставил льну на двадцать тысяч. – На будущее, конечно, законтрактует на пятьдесят, возьмет половину денег вперед и молодой жене построит дом… – Алексей Карпович только что улыбается. – Старинной шутник, благодетель мой. Полно молоть пустяки; возьмемся за дело. – Я не пью, ты знаешь. – Да хоть прикушай.
Прикушай, прикушай, – я почувствовал, что у меня щеки начали рдеть, и под конец пира я бы, как и другие, напился пьян. Но, по счастию, век за столом сидеть нельзя, так как всегда быть умным невозможно. И по той самой причине, по которой я иногда дурачусь и брежу, на свадебном пиру я был трезв.
Вышед от приятеля моего Карпа Дементьича, я впал в размышление. Введенное повсюду вексельное право, то есть строгое и скорое по торговым обязательствам взыскание, почитал я доселе охраняющим доверие законоположением; почитал счастливым новых времен изобретением для усугубления быстрого в торговле обращения, чего древним народам на ум не приходило. Но отчего же, буде нет честности в дающем вексельное обязательство, отчего оно тщетная только бумажка? Если бы строгого взыскания по векселям не существовало, ужели бы торговля исчезла? Не заимодавец ли должен знать, кому он доверяет? О ком законоположение более пещися долженствует, о заимодавце ли или о должнике? Кто более в глазах человечества заслуживает уважения, заимодавец ли, теряющий свой капитал, для того что не знал, кому доверил, или должник в оковах и в темнице? С одной стороны – легковерность, с другой – почти воровство. Тот поверил, надеялся на строгое законоположение, а сей… А если бы взыскание по векселям не было столь строгое? Не было бы места легковерию, не было бы, может быть, плутовства в вексельных делах… Я начал опять думать, прежняя система пошла к черту, и я лег спать с пустою головою.
Бронницы
Между тем как в кибитке моей лошадей переменяли, я захотел посетить высокую гору, близ Бронниц находящуюся, на которой, сказывают, в древние времена до пришествия, думаю, славян, стоял храм, славившийся тогда издаваемыми в оном прорицаниями, для слышания коих многие северные владельцы прихаживали. На том месте, повествуют, где ныне стоит село Бронницы, стоял известный в северной древней истории город Холмоград. Ныне же на месте славного древнего капища построена малая церковь.
Восходя на гору, я вообразил себя преселенного в древность и пришедшего, да познаю от державного божества грядущее и обрящу спокойствие моей нерешимости. Божественный ужас объемлет мои члены, грудь моя начинает воздыматься, взоры мои тупеют, и свет в них меркнет. Мне слышится глас, грому подобный вещаяй: – Безумный! почто желаешь познати тайну, которую я сокрыл от смертных непроницаемым покровом неизвестности? Почто, о дерзновенный! познати жаждешь то, что едина мысль предвечная постигать может? Ведай, что неизвестность будущего соразмерна бренности твоего сложения. Ведай, что предузнанное блаженство теряет свою сладость долговременным ожиданием, что прелестность настоящего веселия, нашед утомленные силы, немощна произвести в душе столь приятного дрожания, какое веселие получает от нечаянности. Ведай, что предузнанная гибель отнимает безвременно спокойствие, отравляет утехи, ими же наслаждался бы, если бы скончания их не предузнал. Чего ищеши, чадо безрассудное? Премудрость моя все нужное насадила в разуме твоем и сердце. Вопроси их во дни печали и обрящешь утешителей. Вопроси их во дни радости и найдешь обуздателей наглого счастия. Возвратись в дом свой, возвратись к семье своей; успокой востревоженные мысли; вниди во внутренность свою, там обрящешь мое божество, там услышишь мое вещание. – И треск сильного удара гремящего во власти Перуна раздался в долинах далеко. – Я опомнился. Достиг вершины горы и, узрев церковь, возвел я руки на небо. – Господи, – возопил я, – се храм твой, се храм, вещают, истинного, единого бога. На месте сем, на месте твоего ныне пребывания, повествуют, стоял храм заблуждения. Но не могу поверить, о всесильный! чтобы человек мольбу сердца своего воссылал ко другому какому-либо существу, а не к тебе. Мощная десница твоя, невидимо всюду простертая, и самого отрицателя всемогущия воли твоея нудит признавати природы строителя и содержателя. Если смертный в заблуждении своем странными, непристойными и зверскими нарицает тебя именованиями, почитание его, однако же, стремится к тебе, предвечному, и он трепещет пред твоим могуществом. Егова, Юпитер, Брама; бог Авраама, бог Моисея, бог Конфуция, бог Зороастра, бог Сократа, бог Марка Аврелия, бог христиан, о бог мой! ты един повсюду. Если в заблуждении своем смертные, казалося, не тебя чтили единого, но боготворили они твои несравненные силы, твои неуподобляемые дела. Могущество твое, везде и во всем ощущаемое, было везде и во всем поклоняемо. Безбожник, тебя отрицающий, признавая природы закон непременный, тебе же приносит тем хвалу, хваля тебя паче нашего песнопения. Ибо, проникнутый до глубины своея изящностию твоего творения, ему предстоит трепетен. Ты ищешь, отец всещедрый, искреннего сердца и души непорочной; они отверсты везде на твое пришествие. Сниди, господи, и воцарися в них. – И пребыл я несколько мгновений отриновен окрестных мне предметов, нисшед во внутренность мою глубоко. Возвед потом очи мои, обратив взоры на близстоящие селения: – Се хижины уничижения, – вещал я, – на месте, где некогда град великий гордые возносил свои стены. Ни малейшего даже признака оных не осталося. Рассудок претит имети веру и самой повести: столь жаждущ он убедительных и чувственных доводов. И все, что зрим, прейдет; все рушится, все будет прах. Но некий тайный глас вещает мне, пребудет нечто вовеки живо.
С течением времен все звезды помрачатся, померкнет солнца блеск; природа, обветшав лет дряхлостью, падет. Но ты во юности бессмертной процветешь, незыблемый среди сражения стихиев, развалин вещества, миров всех разрушенья.[3]Зайцово
В Зайцове на почтовом дворе нашел я давнишнего моего приятеля г. Крестьянкина. Я с ним знаком был с ребячества. Редко мы бывали в одном городе; но беседы наши, хотя не часты, были, однако же, откровенны. Г. Крестьянкин долго находился в военной службе и, наскучив жестокостями оной, а особливо во время войны, где великие насилия именем права войны прикрываются, перешел в статскую. По несчастию его, и в статской службе не избегнул того, от чего, оставляя военную, удалиться хотел. Душу он имел очень чувствительную и сердце человеколюбивое. Дознанные его столь превосходные качества доставили ему место председателя уголовной палаты. Сперва не хотел он на себя принять сего звания, но, помыслив несколько, сказал он мне: – Мой друг, какое обширное поле отверзается мне на удовлетворение любезнейшей склонности моея души! какое упражнение для мягкосердия! Сокрушим скипетр жестокости, который столь часто тягчит рамена невинности; да опустеют темницы и да не узрит их оплошливая слабость, нерадивая неопытность, и случай во злодеяние да не вменится николи. О мой друг! исполнением моея должности источу слезы родителей о чадах, воздыхания супругов; но слезы сии будут слезы обновления во благо; но иссякнут слезы страждущей невинности и простодушия. Колико мысль сия меня восхищает. Пойдем, ускорим отъезд мой. Может быть, скорое прибытие мое там нужно. Замедля, могу быть убийцею, не предупреждая заключения или обвинения прощением или разрешением от уз.
С таковыми мыслями поехал приятель мой к своему месту. Сколь же много удивился я, узнав от него, что он оставил службу и намерен жить всегда в отставке.
– Я думал, мой друг, – говорил мне г. Крестьянкин, – что услаждающую рассудок и обильную найду жатву в исполнении моея должности. Но вместо того нашел я в оной желчь и терние. Теперь, наскучив оною, не в силах будучи делать добро, оставил место истинному хищному зверю. В короткое время он заслужил похвалу скорым решением залежавшихся дел; а я прослыл копотким. Иные почитали меня иногда мздоимцем за то, что не спешил отягчить жребия несчастных, впадающих в преступление нередко поневоле. До вступления моего в статскую службу приобрел я лестное для меня название человеколюбивого начальника. Теперь самое то же качество, коим сердце мое толико гордилося, теперь почитают послаблением или непозволительною поноровкою. Видел я решения мои осмеянными в том самом, что их изящными делало; видел их оставляемыми без действия. С презрением взирал, что для освобождения действительного злодея и вредного обществу члена или дабы наказать мнимые преступления лишением имения, чести, жизни начальник мой, будучи не в силах меня преклонить на беззаконное очищение злодейства или обвинение невинности, преклонял к тому моих сочленов, и нередко я видел благие мои расположения исчезавшими, яко дым в пространстве воздуха. Они же, во мзду своего гнусного послушания, получили почести, кои в глазах моих столь же были тусклы, сколь их прельщали своим блеском. Нередко в затруднительных случаях, когда уверение в невинности названного преступником меня побуждало на мягкосердие, я прибегал к закону, дабы искати в нем подпору моей нерешимости; но часто в нем находил вместо человеколюбия жестокость, которая начало свое имела не в самом законе, но в его обветшалости. Несоразмерность наказания преступлению часто извлекала у меня слезы. Я видел (да и может ли быть иначе), что закон судит о деяниях, не касаяся причин, оные производивших. И последний случай, к таковым деяниям относящийся, понудил меня оставить службу. Ибо, не возмогши спасти винных, мощною судьбы рукою в преступление вовлеченных, я не хотел быть участником в их казни. Не возмогши облегчить их жребия, омыл руки мои в моей невинности и удалился жестокосердия.
В губернии нашей жил один дворянин, который за несколько уже лет оставил службу. Вот его послужной список. Начал службу свою при дворе истопником, произведен лакеем, камер-лакеем, потом мундшенком; какие достоинства надобны для прехождения сих степеней придворныя службы, мне неизвестно. Но знаю то, что он вино любил до последнего издыхания. Пробыв в мундшенках лет 15, отослан был в герольдию, для определения по его чину. Но он, чувствуя свою неспособность к делам, выпросился в отставку и награжден чином коллежского асессора, с которым он приехал в то место, где родился, то есть в нашу губернию, лет шесть тому назад. Отличная привязанность к своей отчизне нередко основание имеет в тщеславии. Человек низкого состояния, добившийся в знатность, или бедняк, приобретший богатство, сотрясши всю стыдливости застенчивость, последний и слабейший корень добродетели, предпочитает место своего рождения на распростертие своея пышности и гордыни. Там скоро асессор нашел случай купить деревню, в которой поселился с немалою своею семьею. Если бы у нас родился Гогард, то бы обильное нашел поле на карикатуры в семействе г. асессора. Но я худой живописец; или если бы я мог в чертах лица читать внутренности человека с Лаватеровою проницательностию, то бы и тогда картина асессоровой семьи была примечания достойна. Не имея сих свойств, заставлю вещать их деяния, кои всегда истинные суть черты душевного образования.
Г. асессор, произошед из самого низкого состояния, зрел себя повелителем нескольких сотен себе подобных. Сие вскружило ему голову. Не один он жаловаться может, что употребление власти вскружает голову. Он себя почел высшего чина, крестьян почитал скотами, данными ему (едва не думал ли он, что власть его над ними от бога проистекает), да употребляет их в работу по произволению. Он был корыстолюбив, копил деньги, жесток от природы, вспыльчив, подл, а потому над слабейшими его надменен. Из сего судить можешь, как он обходился с крестьянами. Они у прежнего помещика были на оброке, он их посадил на пашню; отнял у них всю землю, скотину всю у них купил по цене, какую сам определил, заставил работать всю неделю на себя, а дабы они не умирали с голоду, то кормил их на господском дворе, и то по одному разу в день, а иным давал из милости месячину. Если который казался ему ленив, то сек розгами, плетьми, батожьем или кошками, смотря по мере лености; за действительные преступления, как-то кражу не у него, но у посторонних, не говорил ни слова. Казалося, будто хотел в деревне своей возобновить нравы древнего Лакедемона или Запорожской сечи. Случилось, что мужики его для пропитания на дороге ограбили проезжего, другого потом убили. Он их в суд за то не отдал, но скрыл их у себя, объявя правительству, что они бежали; говоря, что ему прибыли не будет, если крестьянина его высекут кнутом и сошлют в работу за злодеяние. Если кто из крестьян что-нибудь украл у него, того он сек как за леность или за дерзкий или остроумный ответ, но сверх того надевал на ноги колодки, кандалы, а на шею рогатку. Много бы мог я тебе рассказать его мудрых распоряжений; но сего довольно для познания моего ироя. Сожительница его полную власть имела над бабами. Помощниками в исполнении ее велений были ее сыновья и дочери, как то и у ее мужа. Ибо сделали они себе правилом, чтобы ни для какой нужды крестьян от работы не отвлекать. Во дворе людей было один мальчик, купленный им в Москве, парикмахер дочернин, да повариха старуха. Кучера у них не было, ни лошадей; разъезжал всегда на пахотных лошадях. Плетьми или кошками секли крестьян сами сыновья. По щекам били или за волосы таскали баб и девок дочери. Сыновья в свободное время ходили по деревне или в поле играть и бесчинничать с девками и бабами, и никакая не избегала их насилия. Дочери, не имея женихов, вымещали свою скуку над прядильницами, из которых они многих изувечили. Суди сам, мой друг, какой конец мог быть таковым поступкам. Я приметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость. Сие самое и случилось с асессором. Случай к тому подал неистовый и беспутный или, лучше сказать, зверский поступок одного из его сыновей.
В деревне его была крестьянская девка, недурна собою, сговоренная за молодого крестьянина той же деревни. Она понравилась середнему сыну асессора, который употребил все возможное, чтобы ее привлечь к себе в любовь; но крестьянка верна пребывала в данном жениху ее обещании, что хотя редко в крестьянстве случается, но возможно. В воскресенье должно было быть свадьбе. Отец жениха, по введенному у многих помещиков обычаю, пошел с сыном на господский двор и понес повенечные два пуда меду к своему господину. Сию-то последнюю минуту дворянчик и хотел употребить на удовлетворение своея страсти. Взял с собой обоих своих братьев и, вызвав невесту чрез постороннего мальчика на двор, потащил ее в клеть, зажав ей рот. Не будучи в силах кричать, она сопротивлялася всеми силами зверскому намерению своего молодого господина. Наконец, превозможенная всеми тремя, принуждена была уступить силе; и уже сие скаредное чудовище начинал исполнением умышленное, как жених, возвратившись из господского дома, вошел на двор и, увидя одного из господчиков у клети, усумнился о их злом намерении. Кликнув отца своего к себе на помощь, он быстрее молнии полетел ко клети. Какое зрелище представилося ему! При его приближении затворилась клеть; но совокупные силы двух братьев немощны были удержать стремления разъяренного жениха. Он схватил близлежащий кол и, вскоча в клеть, ударил вдоль спины хищника своея невесты. Они было хотели его схватить, но, видя отца женихова, бегущего с колом же на помощь, оставили свою добычу, выскочили из клети и побежали. Но жених, догнав одного из них, ударил его колом по голове и ее проломил. Сии злодеи, желая отмстить свою обиду, пошли прямо к отцу и сказали ему, что, ходя по деревне, они встретились с невестою, с ней пошутили; что, увидя, жених ее начал их бить, будучи вспомогаем своим отцом. В доказательство показывали проломленную у одного из братьев голову. Раздраженный до внутренности сердца болезнию своего рождения, отец воскипел гневом ярости. Немедля велел привести пред себя всех трех злодеев – так он называл жениха, невесту и отца женихова. Представшим им пред него первый вопрос его был о том, кто проломил голову его сыну. Жених в сделанном не отперся, рассказав все происшествие. – Как ты дерзнул, – говорил старый асессор, – поднять руку на твоего господина? А хотя бы он с твоею невестою и ночь переспал накануне твоея свадьбы, то ты ему за то должен быть благодарен. Ты на ней не женишься; она у меня останется в доме, а вы будете наказаны. – По таковом решении, жениха велел он сечь кошками немилосердо, отдав его в волю своих сыновей. Побои вытерпел он мужественно; неробким духом смотрел, как начали над отцом его то же производить истязание. Но не мог вытерпеть, как он увидел, что невесту господские дети хотели вести в дом. Наказание происходило на дворе. В одно мгновение выхватил он ее из рук, ее похищающих, и освобожденные побежали оба со двора. Сие видя, барские сыновья перестали сечь старика и побежали за ними в погоню. Жених, видя, что они его настигать начали, выхватил заборину и стал защищаться. Между тем шум привлек других крестьян ко двору господскому. Они, соболезнуя о участи молодого крестьянина и имея сердце озлобленное против своих господ, его заступили. Видя сие, асессор, подбежав сам, начал их бранить и первого, кто встретился, ударил своею тростию столь сильно, что упал бесчувствен на землю. Сие было сигналом к общему наступлению. Они окружили всех четверых господ и, коротко сказать, убили их до смерти на том же месте. Толико ненавидели они их, что ни один не хотел миновать, чтобы не быть участником в сем убийстве, как то они сами после призналися. В самое то время случилось ехать тут исправнику той округи с командою. Он был частию очевидным свидетелем сему происшествию. Взяв виновных под стражу, а виновных было половина деревни, произвел следствие, которое постепенно дошло до уголовной палаты. Дело было выведено очень ясно, и виновные во всем признавалися, в оправдание свое приводя только мучительские поступки своих господ, о которых уже вся губерния была известна. Таковому делу я обязан был по долгу моего звания положить окончательное решение, приговорить виновных к смерти и вместо оной к торговой казни и вечной работе.
Рассматривая сие дело, я не находил достаточной и убедительной причины к обвинению преступников. Крестьяне, убившие господина своего, были смертоубийцы. Но смертоубийство сие не было ли принужденно? Не причиною ли оного сам убитый асессор? Если в арифметике из двух данных чисел третие следует непрекословно, то и в сем происшествии следствие было необходимо. Невинность убийц, для меня по крайней мере, была математическая ясность. Если, идущу мне, нападет на меня злодей и, вознесши над головою моею кинжал, восхочет меня им пронзить, – убийцею ли я почтуся, если я предупрежду его в его злодеянии и бездыханного его к ногам моим повергну? Если нынешнего века скосырь, привлекший должное на себя презрение, восхочет оное на мне отомстить и, встретясь со мною в уединенном месте, вынув шпагу, сделает на меня нападение, да лишит меня жизни или, по крайней мере, да уязвит меня, – виновен ли я буду, если, извлекши мой меч на защищение мое, я избавлю общество от тревожащего спокойствие его члена? Можно ли почесть деяние оскорбляющим сохранность члена общественного, если я исполню его для моего спасения, если оно предупредит мою пагубу, если без того благосостояние мое будет плачевно навеки?
Исполнен таковыми мыслями, можешь сам вообразить терзание души моей при рассмотрении сего дела. С обыкновенною откровенностью сообщил я мои мысли моим сочленам. Все возопили против меня единым гласом. Мягкосердие и человеколюбие почитали они виновным защищением злодеяний; называли меня поощрителем убийства; называли меня сообщником убийцев. По их мнению, при распространении моих вредных мнений исчезнет домашняя сохранность. Может ли дворянин, говорили они, отныне жить в деревне покоен? Может ли он видеть веления его исполняемы? Если ослушники воли господина своего, а паче его убийцы невинными признаваемы будут, то повиновение прервется, связь домашняя рушится, будет паки хаос, в начальных обществах обитающий. Земледелие умрет, орудия его сокрушатся, нива запустеет и бесплодным порастет злаком; поселяне, не имея над собою власти, скитаться будут в лености, тунеядстве и разыдутся. Города почувствуют властнодержавную десницу разрушения. Чуждо будет гражданам ремесло, рукоделие скончает свое прилежание и рачительность, торговля иссякнет в источнике своем, богатство уступит место скаредной нищете, великолепнейшие здания обветшают, законы затмятся и порастут недействительностию. Тогда огромное сложение общества начнет валиться на части и издыхати в отдаленности от целого; тогда престол царский, где ныне опора, крепость и сопряжение общества зиждутся, обветшает и сокрушится; тогда владыка народов почтется простым гражданином, и общество узрит свою кончину. Сию достойную адския кисти картину тщилися мои сотоварищи предлагать взорам всех, до кого слух о сем деле доходил. – Председателю нашему, – вещали они, – сродно защищать убийство крестьян. Спросите, какого он происхождения? Если не ошибаемся, он сам в молодости своей изволил ходить за сохою. Всегда новостатейные сии дворянчики странные имеют понятия о природном над крестьянами дворянском праве. Если бы от него зависело, он бы, думаем, всех нас поверстал в однодворцы, дабы тем уравнять с нами свое происхождение. – Такими-то словами мнили сотоварищи мои оскорбить меня и ненавистным сделать всему обществу. Но сим не удовольствовались. Говорили, что я принял мзду от жены убитого асессора, да не лишится она крестьян своих отсылкою их в работу, и что сия-то истинная была причина странным и вредным моим мнениям, право всего дворянства вообще оскорбляющим. Немысленные думали, что посмеяние их меня уязвит, что клевета поругает, что лживое представление доброго намерения от оного меня отвлечет! Сердце мое им было неизвестно. Не знали они, что нетрепетен всегда предстою собственному моему суду, что ланиты мои не рдели багровым румянцем совести.
Мздоимство мое основали они на том, что асессорша за мужнину смерть мстить не желала, а, сопровождаемая своею корыстию и следуя правилам своего мужа, желала крестьян избавить от наказания, дабы не лишиться своего имения, как то она говорила. С таковою просьбою она приезжала и ко мне. На прощение за убиение ее мужа я с ней был согласен; но разнствовали мы в побуждениях. Она уверяла меня, что сама довольно их накажет, а я уверял ее, что, оправдывая убийцев ее мужа, не надлежало их подвергать более той же крайности, дабы паки не были злодеями, как то их называли несвойственно.
Скоро наместник известен стал о моем по сему делу мнении, известен, что я старался преклонить сотоварищей моих на мои мысли и что они начинали колебаться в своих рассуждениях, к чему, однако же, не твердость и убедительность моих доводов способствовали, но деньги асессорши. Будучи сам воспитан в правилах неоспоримой над крестьянами власти, с моими рассуждениями он не мог быть согласен и вознегодовал, усмотрев, что они начинали в суждении сего дела преимуществовать, хотя ради различных причин. Посылает он за моими сочленами, увещевает их, представляет гнусность таких мнений, что они оскорбительны для дворянского общества, что оскорбительны для верховной власти, нарушая ее законоположения; обещает награждение исполняющим закон, претя мщением не повинующимся оному; и скоро сих слабых судей, не имеющих ни правил в размышлениях, ни крепости духа, преклоняет на прежние их мнения. Не удивился я, увидев в них перемену, ибо не дивился и прежде в них воспоследовавшей. Сродно хвилым, робким и подлым душам содрогаться от угрозы власти и радоваться ее приветствию.
Наместник наш, превратив мнения моих сотоварищей, вознамерился и ласкал себя, может быть, превратить и мое. Для сего намерения позвал меня к себе поутру в случившийся тогда праздник. Он принужден был меня позвать, ибо я не хаживал никогда на сии безрассудные поклонения, которые гордость почитает в подчиненных должностию, лесть нужными, а мудрец мерзительными и человечеству поносными. Он избрал нарочно день торжественный, когда у него много людей было в собрании; избрал нарочно для слова своего публичное собрание, надеяся, что тем разительнее убедит меня. Он надеялся найти во мне или боязнь души, или слабость мыслей. Против того и другого устремил он свое слово. Но я за нужное не нахожу пересказывать тебе все то, чем надменность, ощущение власти и предубеждение к своему проницанию и учености одушевляло его витийство. Надменности его ответствовал я равнодушием и спокойствием, власти – непоколебимостию, доводам – доводами и долго говорил хладнокровно. Но наконец содрогшееся сердце разлияло свое избыточество. Чем больше видел я угождения в предстоящих, тем порывистее становился мой язык. Незыблемым гласом и звонким произношением возопил я наконец сице: – Человек родится в мир равен во всем другому. Все одинаковые имеем члены, все имеем разум и волю. Следственно, человек без отношения к обществу есть существо, ни от кого не зависящее в своих деяниях. Но он кладет оным преграду, согласуется не во всем своей единой повиноваться воле, становится послушен велениям себе подобного, словом, становится гражданином. Какия же ради вины обуздывает он свои хотения? почто поставляет над собою власть? почто, беспределен в исполнении своея воли, послушания чертою оную ограничивает? Для своея пользы, – скажет рассудок; для своея пользы, – скажет внутреннее чувствование; для своея пользы, – скажет мудрое законоположение. Следственно, где нет его пользы быть гражданином, там он и не гражданин. Следственно, тот, кто восхощет его лишить пользы гражданского звания, есть его враг. Против врага своего он защиты и мщения ищет в законе. Если закон или не в силах его заступить, или того не хочет, или власть его не может мгновенное в предстоящей беде дать вспомоществование, тогда пользуется гражданин природным правом защищения, сохранности, благосостояния. Ибо гражданин, становяся гражданином, не перестает быть человеком, коего первая обязанность, из сложения его происходящая, есть собственная сохранность, защита, благосостояние. Убиенный крестьянами асессор нарушил в них право гражданина своим зверством. В то мгновение, когда он потакал насилию своих сыновей, когда он к болезни сердечной супругов присовокуплял поругание, когда на казнь подвигался, видя сопротивление своему адскому властвованию, – тогда закон, стрегущий гражданина, был в отдаленности, и власть его тогда была неощутительна; тогда возрождался закон природы, и власть обиженного гражданина, неотъемлемая законом положительным в обиде его, приходила в действительность; и крестьяне, убившие зверского асессора, в законе обвинения не имеют. Сердце мое их оправдает, опираяся на доводах рассудка, и смерть асессора, хотя насильственная, есть правильна. Да не возмнит кто-либо искать в благоразумии политики, в общественной тишине довода к осуждению на казнь убийцев в злобе дух испустившего асессора. Гражданин, в каком бы состоянии небо родиться ему ни судило, есть и пребудет всегда человек; а доколе он человек, право природы, яко обильный источник благ, в нем не иссякнет никогда; и тот, кто дерзнет его уязвить в его природной и ненарушимой собственности, тот есть преступник. Горе ему, если закон гражданский его не накажет. Он замечен будет чертою мерзения в своих согражданах, и всяк, имеяй довольно сил, да отметит на нем обиду, им соделанную. – Умолк. Наместник не говорил мне ни слова; изредка подымал на меня поникшие взоры, где господствовала ярость бессилия и мести злоба. Все молчали в ожидании, что, оскорбитель всех прав, я взят буду под стражу. Изредка из уст раболепия слышалося журчание негодования. Все отвращали от меня свои очи. Казалося, что близстоящих меня объял ужас. Неприметно удалилися они, как от зараженного смертоносною язвою. Наскучив зрелищем толикого смешения гордыни с нижайшею подлостию, я удалился из сего собрания льстецов.
Не нашед способов спасти невинных убийц, в сердце моем оправданных, я не хотел быть ни сообщником в их казни, ниже оной свидетелем; подал прошение об отставке и, получив ее, еду теперь оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния и услаждать мою скуку обхождением с друзьями. – Сказав сие, мы рассталися и поехали всяк в свою сторону.
Сей день путешествие мое было неудачно; лошади были худы, выпрягались поминутно; наконец, спускаяся с небольшой горы, ось у кибитки переломилась, и я далее ехать не мог. – Пешком ходить мне в привычку. Взяв посошок, отправился я вперед к почтовому стану. Но прогулка по большой дороге не очень приятна для петербургского жителя, не похожа на гулянье в Летнем саду или в Баба, скоро она меня утомила, и я принужден был сесть.
Между тем как я, сидя на камне, чертил на песке фигуры кой-какие, нередко кривобокие и кривоугольные, думал я и то и се, скачет мимо меня коляска. Сидящий в ней, увидев меня, велел остановиться, – и я в нем узнал моего знакомого. – Что ты делаешь? – сказал он мне. – Думу думаю. Времени довольно мне на размышление: ось переломилась. Что нового? – Старая дрянь. Погода по ветру, то слякоть, то ведро. А!.. Вот новенькое, Дурындин женился. – Неправда. Ему уже лет с восемьдесят. – Точно так. Да вот к тебе письмо… Читай на досуге; а мне нужно поспешать. Прости, – и расстались.
Письмо было от моего приятеля. Охотник до всяких новостей, он обещал меня в отсутствии снабжать оными и сдержал слово. Между тем к кибитке моей подделали новую ось, которая, по счастию, была в запасе. Едучи, я читал:
Петербург.
Любезный мой!
На сих днях совершился здесь брак между 78-летним молодцом и 62-летней молодкою. Причину толь престарелому спарению отгадать тебе трудненько, если оной не скажу. Распусти уши, мой друг, и услышишь. Госпожа Ш… – витязь в своем роде не последний, 62 лет, вдова с 25-летнего своего возраста. Была замужем за купцом, неудачно торговавшим; лицом смазлива; оставшись после мужа бедною сиротою и ведая о жестокосердии собратий своего мужа, не захотела прибегнуть к прошению надменной милостыни, но за благо рассудила кормиться своими трудами. Доколе красота юности водилась на ее лице, во всегдашней была работе и щедрую получала от охотников плату. Но сколь скоро приметила, что красота ее начинала увядать и любовные заботы уступили место скучливому одиночеству, то взялась она за ум и, не находя больше покупщиков на обветшалые свои прелести, начала торговать чужими, которые, если не всегда имели достоинство красоты, имели хотя достоинство новости. Сим способом нажив себе несколько тысяч, она с честию изъялась из презрительного общества сводень и начала в рост отдавать деньги, своим и чужим бесстыдством нажитые. По времени забыто прежнее ее ремесло; и бывшая сводня стала нужная в обществе мотов тварь. Прожив покойно до 62 лет, нелегкое надоумило ее собраться замуж. Все ее знакомые тому дивятся. Приятельница ее ближняя Н… приехала к ней. – Слух носится, душа моя, – говорит она поседелой невесте, – что ты собралась замуж. Мне кажется, солгано. Какой-нибудь насмешник выдумал сию басню.
Ш. Правда совершенная. Завтра сговор, приезжай пировать с нами.
Н. Ты с ума сошла. Неужели старая кровь разыгралась; неужели какой молокосос подбился к тебе под крылышко?
Ш. Ах, матка моя! некстати ты меня наравне с молодыми считаешь ветреницами. Я мужа беру по себе…
Н. Да то я знаю, что придет по тебе. Но вспомни, что уже нас любить нельзя и не для чего, разве для денег.
Ш. Я такого не возьму, который бы мне мог изменить. Жених мой меня старее 16 годами.
Н. Ты шутишь!
Ш. По чести правда: барон Дурындин.
Н. Нельзя этому статься.
Ш. Приезжай завтра ввечеру; ты увидишь, что лгать не люблю.
Н. А хотя и так, ведь он не на тебе женится, но на твоих деньгах.
Ш. А кто ему их даст? Я в первую ночь так не обезумею, чтобы ему отдать все мое имение; уже то время давно прошло. Табакерочка золотая, пряжки серебряные и другая дрянь, оставшаяся у меня в закладе, которой с рук нельзя сбыть. Вот весь барыш любезного моего женишка. А если он неугомонно спит, то сгоню с постели.
Н. Ему хоть табакерочка перепадет, а тебе в нем что проку?
Ш. Как, матка? Сверх того, что в нынешние времена не худо иметь хороший чин, что меня называть будут: ваше высокородие, а кто поглупее – ваше превосходительство; но будет-таки кто-нибудь, с кем в долгие зимние вечера можно хоть поиграть в бирюльки. А ныне сиди, сиди, все одна; да и того удовольствия не имею, когда чхну, чтоб кто говорил: здравствуй. А как муж будет свой, то какой бы насморк ни был, все слышать буду: здравствуй, мой свет, здравствуй, моя душенька…
Н. Прости, матушка.
Ш. Завтра сговор, а через неделю свадьба.
Н. (Уходит).
Ш. (Чхает). Небось не воротится. То ли дело, как муж свой будет!
Не дивись, мой друг! на свете все колесом вертится. Сегодня умное, завтра глупое в моде. Надеюсь, что и ты много увидишь дурындиных. Если не женитьбою всегда они отличаются, то другим чем-либо. А без дурындиных свет не простоял бы трех дней.
Крестьцы
В Крестьцах был я свидетелем расстания у отца с детьми, которое меня тем чувствительнее тронуло, что я сам отец и скоро, может быть, с детьми расставаться буду. Несчастный предрассудок дворянского звания велит им идти в службу. Одно название сие приводит всю кровь в необычайное движение! Тысячу против одного держать можно, что изо ста дворянчиков, вступающих в службу, 98 становятся повесами, а два под старость или, правильнее сказать, два в дряхлые их, хотя нестарые лета становятся добрыми людьми. Прочие происходят в чины, расточают или наживают имение и проч… Смотря иногда на большого моего сына и размышляя, что он скоро войдет в службу или, другими сказать словами, что птичка вылетит из клетки, у меня волосы дыбом становятся. Не для того, чтобы служба сама по себе развращала нравы; но для того, чтобы со зрелыми нравами надлежало начинать службу. – Иной скажет: а кто таких молокососов толкает в шею? – Кто? Пример общий. Штаб-офицер семнадцати лет; полковник двадцатилетний, генерал двадцатилетний; камергер, сенатор, наместник, начальник войск. И какому отцу не захочется, чтобы дети его, хотя в малолетстве, были в знатных чинах, за которыми идут вслед богатство, честь и разум. Смотря на сына моего, представляется мне: он начал служить, познакомился с вертопрахами, распутными, игроками, щеголями. Выучился чистенько наряжаться, играть в карты, картами доставать прокормление, говорить обо всем, ничего не мысля, таскаться по девкам или врать чепуху барыням. Каким-то образом фортуна, вертясь на курьей ножке, приголубила его; и сынок мой, не брея еще бороды, стал знатным боярином. Возмечтал он о себе, что умнее всех на свете. Чего доброго ожидать от такого полководца или градоначальника? Скажи по истине, отец чадолюбивый, скажи, о истинный гражданин! не захочется ли тебе сынка твоего лучше удавить, нежели отпустить в службу? Не больно ли сердцу твоему, что сынок твой, знатный боярин, презирает заслуги и достоинства, для того, что их участь пресмыкаться в стезе чинов, пронырства гнушаяся? Не возрыдаешь ли ты, что сынок твой любезный с приятною улыбкою отнимать будет имение, честь, отравлять и резать людей, не своими всегда боярскими руками, но посредством лап своих любимцев.
Крестицкой дворянин, казалося мне, был лет пятидесяти. Редкие седины едва пробивались сквозь светло-русые власы главы его. Правильные черты лица его знаменовали души его спокойствие, страстям неприступное. Нежная улыбка безмятежного удовольствия, незлобием рождаемого, изрыла ланиты его ямками, в женщинах столь прельщающими; взоры его, когда я вошел в ту комнату, где он сидел, были устремлены на двух его сыновей. Очи его, очи благорастворенного рассудка, казалися подернуты легкою пленою печали; но искры твердости и упования пролетали оную быстротечно. Пред ним стояли два юноши, возраста почти равного, единым годом во времени рождения, но не в шествии разума и сердца они разнствовали между собою. Ибо горячность родителя ускоряла во младшем развержение ума, а любовь братня умеряла успех в науках во старшем. Понятия о вещах были в них равные, правила жизни знали они равно, но остроту разума и движения сердца природа в них насадила различно. В старшем взоры были тверды, черты лица незыбки, являли начатки души неробкой и непоколебимости в предприятиях. Взоры младшего были остры, черты лица шатки и непостоянны. Но плавное движение оных необманчивый был знак благих советов отчих. На отца своего взирали они с несвойственною им робостию, от горести предстоящей разлуки происходящею, а не от чувствования над собою власти или начальства. Редкие капли слез точилися из их очей. – Друзья мои, – сказал отец, – сегодня мы расстанемся, – и, обняв их, прижал возрыдавших к перси своей. Я уже несколько минут был свидетелем сего зрелища, стоя у дверей неподвижен, как отец, обратясь ко мне: – Будь свидетелем, чувствительный путешественник, будь свидетелем мне перед светом, сколь тяжко сердцу моему исполнять державную волю обычая. Я, отлучая детей моих от бдящего родительского ока, единственное к тому имею побуждение, да приобретут опытности, да познают человека из его деяний и, наскучив гремлением мирского жития, да оставят его с радостию; но да имут отишие в гонении и хлеб насущный в скудости. А для сего-то остаюся я на ниве моей. Не даждь, владыко всещедрый, не даждь им скитатися за милостынею вельмож и обретати в них утешителя! Да будет соболезнуяй о них их сердце; да будет им творяй благостыню их рассудок. – Воссядите и внемлите моему слову, еже пребывати во внутренности душ ваших долженствует. Еще повторю вам, сегодня мы разлучимся. С неизреченным услаждением зрю слезы ваши, орошающие ланиты вашего лица. Да отнесет сие души вашей зыбление совет мой во святая ее, да восколеблется она при моем воспоминовении и да буду отсутствен оградою вам от зол и печалей.
Прияв вас даже от чрева матерня в объятия мои, не восхотел николи, чтобы кто-либо был рачителем в исполнениях, до вас касающихся. Никогда наемная рачительница не касалася телеси вашего и никогда наемный наставник не коснулся вашего сердца и разума. Неусыпное око моея горячности бдело над вами денноночно, да не приближится вас оскорбление; и блажен нарицаюся, доведши вас до разлучения со мною. Но не воображайте себе, чтобы я хотел исторгнуть из уст ваших благодарность за мое о вас попечение или же признание, хотя слабое, ради вас мною соделанного. Вождаем собственныя корысти побуждением, предприемлемое на вашу пользу имело всегда в виду собственное мое услаждение. И так изжените из мыслей ваших, что вы есте под властию моею. Вы мне ничем не обязаны. Не в рассудке, а меньше еще в законе хощу искати твердости союза нашего. Он оснуется на вашем сердце. Горе вам, если его в забвении оставите! Образ мой, преследуя нарушителю союза нашея дружбы, поженет его в сокровенности его и устроит ему казнь несносную, дондеже не возвратится к союзу. Еще вещаю вам, вы мне ничем не должны. Воззрите на меня, яко на странника и пришельца, и если сердце ваше ко мне ощутит некую нежную наклонность, то поживем в дружбе, в сем наивеличайшем на земли благоденствии. Если же оно без ощущения пребудет – да забвени будем друг друга, яко же нам не родитися. Даждь, всещедрый, сего да не узрю, отошед в недра твоя сие предваряяй! Не должны вы мне ни за воскормление, ни за наставление, а меньше всего за рождение. – За рождение? – Участники были ли вы в нем? Вопрошаемы были ли, да рождени будете? На пользу ли вашу родитися имели или во вред? Известен ли отец и мать, рождая сына своего, блажен будет в житии или злополучен? Кто скажет, что, вступая в супружество, помышлял о наследии и потомках; а если имел сие намерение, то блаженства ли их ради произвести их желал или же на сохранение своего имени? Как желать добра тому, кого не знаю, и что сие? Добром назваться может ли желание неопределенное, помаваемое неизвестностию? – Побуждение к супружеству покажет и вину рождения. Прельщенный душевною паче добротою матери вашея, нежели лепотою лица, я употребил способ верный на взаимную горячность, любовь искренную. Я получил мать вашу себе в супруги. Но какое было побуждение нашея любви? Взаимное услаждение; услаждение плоти и духа. Вкушая веселие, природой повеленное, о вас мы не мыслили. Рождение ваше нам было приятно, но не для вас. Произведение самого себя льстило тщеславию; рождение ваше было новый и чувственный, так сказать, союз, союз сердец подтверждающий. Он есть источник начальной горячности родителей к сынам своим; подкрепляется он привычкою, ощущением своея власти, отражением похвал сыновних к отцу. – Мать ваша равного со мною была мнения о ничтожности должностей наших, от рождения проистекающих. Не гордилася она пред вами, что носила вас во чреве своем, не требовала признательности, питая вас своею кровию; не хотела почтения за болезни рождения, ни за скуку воскормления сосцами своими. Она тщилася благую вам дать душу, яко же и сама имела, и в ней хотела насадить дружбу, но не обязанность, не должность или рабское повиновение. Не допустил ее рок зрети плодов ее насаждений. Она нас оставила с твердостию хотя духа, но кончины еще не желала, зря ваше младенчество и мою горячность. Уподобляяся ей, мы совсем ее не потеряем. Она поживет с нами, доколе к ней не отыдем. Ведаете, что любезнейшая моя с вами беседа есть беседовати о родшей вас. Тогда, мнится, душа ее беседует с нами, тогда становится она нам присутственна, тогда в нас она является, тогда она еще жива. – И отирал вещающий капли задержанных в душе слез.
Сколь мало обязаны вы мне за рождение, толико же обязаны и за воскормление. Когда я угощаю пришельца, когда питаю птенцов пернатых, когда даю пищу псу, лижущему мою десницу, – их ли ради сие делаю? Отраду, увеселение или пользу в том нахожу мою собственную. С таковым же побуждением производят воскормление детей. Родившиеся в свет, вы стали граждане общества, в коем живете. Мой был долг вас воскормить; ибо если бы допустил до вас кончину безвременную, был бы убийца. Если я рачительнее был в воскормлении вашем, нежели бывают многие, то следовал чувствованию моего сердца. Власть моя, да пекуся о воскормлении вашем или небрегу о нем; да сохраню дни ваши или расточителем в них буду; оставлю вас живых или дам умрети завременно – есть ясное доказательство, что вы мне не обязаны в том, что живы. Если бы умерли от моего о вас небрежения, как то многие умирают, мщение закона меня бы не преследовало. – Но, скажут, обязаны вы мне за учение и наставление. Не моей ли я в том искал пользы, да благи будете. Похвалы, воздаваемые доброму вашему поведению, рассудку, знаниям, искусству вашему, распростираяся на вас, отражаются на меня, яко лучи солнечны от зеркала. Хваля вас, меня хвалят. Что успел бы я, если бы вы вдалися пороку, чужды были учения, тупы в рассуждениях, злобны, подлы, чувствительности не имея? Не только сострадатель был бы я в вашем косвенном хождении, но жертва, может быть, вашего неистовства. Но ныне спокоен остаюся, отлучая вас от себя; разум прям, сердце ваше крепко, и я живу в нем. О друзья мои, сыны моего сердца! родив вас, многие имел я должности в отношении к вам, но вы мне ничем не должны; я ищу вашей дружбы и любови; если вы мне ее дадите, блажен отыду к началу жизни и не возмущуся при кончине, оставляя вас навеки, ибо поживу на памяти вашей.
Но, если я исполнил должность мою в воспитании вашем, обязан сказати ныне вам вину, почто вас так, а не иначе воспитывал и для чего сему, а не другому вас научил; и для того услышите повесть о воспитании вашем и познайте вину всех моих над вами деяний.
Со младенчества вашего принуждения вы не чувствовали. Хотя в деяниях ваших вождаемы были рукою моею, не ощущали, однако же, николи ее направления. Деяния ваши были предузнаты и предваряемы; не хотел я, чтобы робость или послушание повиновения малейшею чертою ознаменовала на вас тяжесть своего перста. И для того дух ваш, не терпящ веления безрассудного, кроток к совету дружества. Но если, младенцам вам сущим, находил я, что уклонился от пути, мною назначенного, устремляемы случайным ударением, тогда остановлял я ваше шествие или, лучше сказать, неприметно вводил в прежний путь, яко поток, оплоты прорывающий, искусною рукою обращается в свои берега.
Робкая нежность не присутствовала во мне, когда, казалося, не рачил об охранении вас от неприязненности стихий и погоды. Желал лучше, чтобы на мгновение тело ваше оскорбилося преходящею болью, нежели дебелы пребудете в возрасте совершенном. И для того почасту ходили вы босы, непокровенную имея главу; в пыли, в грязи возлежали на отдохновение на скамии или на камени. Не меньше старался я удалить вас от убийственной пищи и пития. Труды наши лучшая была приправа в обеде нашем. Вспомните, с каким удовольствием обедали мы в деревне, нам неизвестной, не нашед дороги к дому. Сколь вкусен нам казался тогда хлеб ржаной и квас деревенской!
Не ропщите на меня, если будете иногда осмеяны, что не имеете казистого восшествия, что стоите, как телу вашему покойнее, а не как обычай или мода велят; что одеваетеся не со вкусом, что волосы ваши кудрятся рукою природы, а не чесателя. Не ропщите, если будете небрежены в собраниях, а особливо от женщин, для того что не умеете хвалить их красоту; но вспомните, что вы бегаете быстро, что плаваете не утомляяся, что подымаете тяжести без натуги, что умеете водить соху, вскопать гряду, владеете косою и топором, стругом и долотом; умеете ездить верхом, стрелять. Не опечальтеся, что вы скакать не умеете как скоморохи. Ведайте, что лучшее плясание ничего не представляет величественного; и если некогда тронуты будете зрением оного, то любострастие будет тому корень, все же другое оному постороннее. Но вы умеете изображать животных и неодушевленных, изображать черты царя природы, человека. В живописи найдете вы истинно услаждение не токмо чувств, но и разума. Я вас научил музыке, дабы дрожащая струна согласно вашим нервам возбуждала дремлющее сердце; ибо музыка, приводя внутренность в движение, делает мягкосердие в нас привычкою. Научил я вас и варварскому искусству сражаться мечом. Но сие искусство да пребудет в вас мертво, доколе собственная сохранность того не востребует. Оно, уповаю, не сделает вас наглыми; ибо вы твердый имеете дух и обидою не сочтете, если осел вас улягнет или свинья смрадным до вас коснется рылом. Не бойтесь сказать никому, что вы корову доить умеете, что шти и кашу сварите или зажаренный вами кусок мяса будет вкусен. Тот, кто сам умеет что сделать, умеет заставить сделать и будет на погрешности снисходителен, зная все в исполнении трудности.
Во младенчестве и отрочестве не отягощал я рассудка вашего готовыми размышлениями или мыслями чуждыми, не отягощал памяти вашей излишними предметами. Но, предложив вам пути к познаниям, с тех пор, как начали разума своего ощущати силы, сами шествуете к отверстой вам стезе. Познания ваши тем основательнее, что вы их приобрели не твердя, как то говорят по пословице, как сорока Якова. Следуя сему правилу, доколе силы разума не были в вас действующи, не предлагал я вам понятия о всевышнем существе и еще менее об откровении. Ибо то, что бы вы познали прежде, нежели были разумны, было бы в вас предрассудок и рассуждению бы мешало. Когда же я узрел, что вы в суждениях ваших вождаетесь рассудком, то предложил вам связь понятий, ведущих к познанию бога; уверен во внутренности сердца моего, что всещедрому отцу приятнее зрети две непорочные души, в коих светильник познаний не предрассудком возжигается, но что они сами возносятся к начальному огню на возгорение. Предложил я вам тогда и о законе откровенном, не сокрывая от вас все то, что в опровержение оного сказано многими. Ибо желал, чтобы вы могли сами избирать между млеком и желчию, и с радостию видел, что восприняли вы сосуд утешения неробко.
Преподавая вам сведения о науках, не оставил я ознакомить вас с различными народами, изучив вас языкам иностранным. Но прежде всего попечение мое было, да познаете ваш собственной, да умеете на оном изъяснять ваши мысли словесно и письменно, чтобы изъяснение сие было в вас непринужденно и поту на лице не производило. Английский язык, а потом латинский старался я вам известнее сделать других. Ибо упругость духа вольности, переходя в изображение речи, приучит и разум к твердым понятиям, столь во всяких правлениях нужным.
Но если рассудку вашему предоставлял я направлять стопы ваши в стезях науки, тем бдительнее тщился быть во нравственности вашей. Старался умерять в вас гнев мгновения, подвергая рассудку гнев продолжительный, мщение производящий. Мщение!.. душа ваша мерзит его. Вы из природного сего чувствительныя твари движения оставили только оберегательность своего сложения, поправ желание возвращать уязвления.
Ныне настало то время, что чувствы ваши, дошед до совершенства возбуждения, но не до совершенства еще понятия о возбуждаемом, начинают тревожиться всякою внешностию и опасную производить зыбь во внутренности вашей. Ныне достигли времени, в которое, как то говорят, рассудок становится определителем делания и неделания; а лучше сказать, когда чувства, доселе одержимые плавностию младенчества, начинают ощущать дрожание или когда жизненные соки, исполнив сосуд юности, превышать начинают его воскраия, ища стезю свойственным для них стремлениям. Я сохранил вас неприступными доселе превратным чувств потрясениям, но не сокрыл от вас неведения покровом пагубных следствий совращения от пути умеренности в чувственном услаждении. Вы свидетели были, сколь гнусно избыточество чувственного насыщения, и возгнушалися; свидетели были страшного волнения страстей, превысивших брега своего естественного течения, познали гибельные их опустошения и ужаснулися. Опытность моя, носяся над вами, яко новый Егид, охраняла вас от неправильных уязвлений. Ныне будете сами себе вожди, и хотя советы мои будут всегда светильником ваших начинаний, ибо сердце и душа ваша мне отверсты, но яко свет, отдаляяся от предмета, менее его освещает, тако и вы, отриновенны моего присутствия, слабое ощутите согрение моея дружбы. И для того преподам вам правила единожития и общежития, дабы по усмирении страстей не возгнушалися деяний, во оных свершенных, и не познали, что есть раскаяние.
Правила единожития, елико то касаться может до вас самих, должны относиться к телесности вашей и нравственности. Не забывайте никогда употреблять ваших телесных сил и чувств. Упражнение оных умеренное укрепит их не истощевая и послужит ко здравию вашему и долгой жизни. И для того упражняйтеся в искусствах, художествах и ремеслах, вам известных. Совершенствование в оных иногда может быть нужно. Неизвестно нам грядущее. Если неприязненное счастие отымет у вас все, что оно вам дало, – богаты пребудете во умеренности желаний, кормяся делом рук ваших. Но если во дни блаженства все небрежете, поздно о том думать во дни печали. Нега, изленение и неумеренное чувств услаждение губят и тело и дух. Ибо, изнуряяй тело невоздержанностию, изнуряет и крепость духа. Употребление же сил укрепит тело, а с ним и дух. Если почувствуешь отвращение к яствам и болезнь постучится у дверей, воспряни тогда от одра твоего, на нем же лелеешь чувства твои, приведи уснувшие члены твои в действие упражнением и почувствуешь мгновенное сил обновление; воздержи себя от пищи, нужной во здравии, и глад сделает пищу твою сладкою, огорчавшую от сытости. Помните всегда, что на утоление глада нужен только кусок хлеба и ковш воды. Если благодетельное лишение внешних чувствований, сон, удалится от твоего возглавия и не возможешь возобновить сил разумных и телесных, – беги из чертогов твоих и, утомив члены до усталости, возляги на одре твоем и почиешь во здравие.
Будьте опрятны в одежде вашей; тело содержите в чистоте; ибо чистота служит ко здравию, а неопрятность и смрадность тела нередко отверзает неприметную стезю к гнусным порокам. Но не будьте и в сем неумеренны. Не гнушайтесь пособить, поднимая погрязшую во рве телегу, и тем облегчить упадшего; вымараете руки, ноги и тело, но просветите сердце. Ходите в хижины уничижения; утешайте томящегося нищетою; вкусите его брашна, и сердце ваше усладится, дав отраду скорбящему.
Ныне достигли вы, повторю, того страшного времени и часа, когда страсти пробуждаться начинают, но рассудок слаб еще на их обуздание. Ибо чаша рассудка без опытности на весах воли воздымется, а чаша страстей опустится мгновенно долу. И так к равновесию не иначе приближиться можно, как трудолюбием. Трудитеся телом; страсти ваши не столь сильное будут иметь волнение; трудитеся сердцем, упражняяся в мягкосердии, чувствительности, соболезновании, щедроте, отпущении, и страсти ваши направятся ко благому концу. Трудитеся разумом, упражняяся в чтении, размышлении, разыскании истины или происшествий; и разум управлять будет вашею волею и страстьми. Но не возмните в восторге рассудка, что можете сокрушить корени страстей, что нужно быть совсем бесстрастну. Корень страстей благ и основан на нашей чувствительности самою природою. Когда чувствы наши, внешние и внутренние, ослабевают и притупляются, тогда ослабевают и страсти. Они благую в человеке производят тревогу, без нее же уснул бы он в бездействии. Совершенно бесстрастный человек есть глупец и истукан нелепый, невозмогаяй ни благого, ни злого. Не достоинство есть воздержатися от худых помыслов, не могши их сотворить. Безрукий не может уязвить никого, но не может подать помощи утопающему, ни удержати на бреге падающего в пучину моря. – И так умеренность во страсти есть благо; шествие во стезе средою есть надежно. Чрезвычайность во страсти есть гибель; бесстрастие есть нравственная смерть. Яко же шественник, отдаляяся среды стези, вдается опасности ввергнутися в тот или другой ров, таково бывает шествие во нравственности. Но буде страсти ваши опытностию, рассудком и сердцем направлены к концу благому, скинь с них бразды томного благоразумия, не сокращай их полета; мета их будет всегда величие; на нем едином остановиться они умеют.
Но, если я вас побуждаю не быть бесстрастными, паче всего потребно в юности вашей умеренность любовныя страсти. Она природою насаждена в сердце нашем ко блаженству нашему. И так в возрождении своем никогда ошибиться не может, но в своем предмете и неумеренности. И так блюдитеся, да не ошибетеся в предмете любви вашея и да не почтете взаимною горячностию оныя образ. С благим же предметом любви неумеренность страсти сея будет вам неизвестна. Говоря о любви, естественно бы было говорить и о супружестве, о сем священном союзе общества, коего правила не природа в сердце начертала, но святость коего из начального обществ положения проистекает. Разуму вашему, едва шествие свое начинающему, сие бы было непонятно, а сердцу вашему, не испытавшему самолюбивую в обществе страсть любви, повесть о сем была бы вам неощутительна, а потому и бесполезна. Если желаете о супружестве иметь понятие, воспомяните о родшей вас. Представьте меня с нею и с вами, возобновите слуху вашему глаголы наши и взаимные лобызания и приложите картину сию к сердцу вашему. Тогда почувствуете в нем приятное некое содрогание. Что оно есть? Познаете со временем; а днесь довольны будьте оного ощущением.
Приступим ныне вкратце к правилам общежития. Предписать их не можно с точностию, ибо располагаются они часто по обстоятельствам мгновения. Но, дабы колико возможно менее ошибаться, при всяком начинании вопросите ваше сердце; оно есть благо и николи обмануть вас не может. Что вещает оно, то и творите. Следуя сердцу в юности, не ошибетеся, если сердце имеете благое. Но следовати возмнивый рассудку, не имея на браде власов, опытность возвещающих, есть безумец.
Правила общежития относятся ко исполнению обычаев и нравов народных, или ко исполнению закона, или ко исполнению добродетели. Если в обществе нравы и обычаи не противны закону, если закон не полагает добродетели преткновений в ее шествии, то исполнение правил общежития есть легко. Но где таковое общество существует? Все известные нам многими наполнены во нравах и обычаях, законах и добродетелях противоречиями. И оттого трудно становится исполнение должности человека и гражданина, ибо нередко они находятся в совершенной противуположности.
Понеже добродетель есть вершина деяний человеческих, то исполнение ее ничем не долженствует быть препинаемо. Небреги обычаев и нравов, небреги закона гражданского и священного, столь святыя в обществе вещи, буде исполнение оных отлучает тебя от добродетели. Не дерзай николи нарушения ее прикрывати робостию благоразумия. Благоденствен без нее будешь во внешности, но блажен николи.
Последуя тому, что налагают на нас обычаи и нравы, мы приобретем благоприятство тех, с кем живем. Исполняя предписание закона, можем приобрести название честного человека. Исполняя же добродетель, приобретем общую доверенность, почтение и удивление, даже и в тех, кто бы не желал их ощущать в душе своей. Коварный афинский сенат, подавая чашу с отравою Сократу, трепетал во внутренности своей пред его добродетелию.
Не дерзай никогда исполнять обычая в предосуждение закона. Закон, каков ни худ, есть связь общества. И если бы сам государь велел тебе нарушить закон, не повинуйся ему, ибо он заблуждает себе и обществу во вред. Да уничтожит закон, яко же нарушение оного повелевает, тогда повинуйся, ибо в России государь есть источник законов.
Но если бы закон или государь или бы какая-либо на земли власть подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою; и если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти благородных душ до скончания веков. Убойся заранее именовать благоразумием слабость в деяниях, сего первого добродетели врага. Сегодня нарушишь ее уважения ради какового, завтра нарушение ее казаться будет самою добродетелию; и так порок воцарится в сердце твоем и исказит черты непорочности в душе и на лице твоем.
Добродетели суть или частные, или общественные. Побуждения к первым суть всегда мягкосердие, кротость, соболезнование, и корень всегда их благ. Побуждения к добродетелям общественным нередко имеют начало свое в тщеславии и любочестии. Но для того не надлежит остановляться в исполнении их. Предлог, над ним же вращаются, придает им важности. В спасшем Курции отечество свое от пагубоносныя язвы никто не зрит ни тщеславного, ни отчаянного или наскучившего жизнию, но ироя. Если же побуждения наши к общественным добродетелям начало свое имеют в человеколюбивой твердости души, тогда блеск их будет гораздо больший. Упражняйтеся всегда в частных добродетелях, дабы могли удостоиться исполнения общественных.
Еще преподам некоторые исполнительные правила жизни. – Старайтеся паче всего во всех деяниях ваших заслужить собственное свое почтение, дабы, обращая во уединении взоры свои вовнутрь себя, не токмо не могли бы вы раскаяваться о сделанном, но взирали бы на себя со благоговением.
Следуя сему правилу, удаляйтеся, елико то возможно, даже вида раболепствования. Вошед в свет, узнаете скоро, что в обществе существует обычай посещать в праздничные дни по утрам знатных особ; обычай скаредный, ничего не значащий, показующий в посетителях дух робости, а в посещаемом дух надменности и слабый рассудок. У римлян было похожее сему обыкновение, которое они называли амбицио, то есть снискание или обхождение; а оттуда и любочестие названо амбицио, ибо поселениями именитых людей юноши снискивали себе путь к чинам и достоинствам. То же делается и ныне. Но если у римлян обычай сей введен был для того, чтобы молодые люди обхождением с испытанными научалися, то сомневаюсь, чтобы цель в обычае сем всегда непорочна сохранилася. В наши же времена, посещая знатных господ, учения целию своею никто не имеет, но снискание их благоприятства. Итак, да не преступит нога ваша порога, отделяющего раболепство от исполнения должности. Не посещай николи передней знатного боярина, разве по долгу звания твоего. Тогда среди толпы презренной и тот, на кого она взирает с подобострастием, в душе своей тебя хотя с негодованием, но от нее отличит.
Если случится, что смерть пресечет дни мои прежде, нежели в благом пути отвердеете, и, юны еще, восхитят вас страсти из стези рассудка, – то не отчаивайтеся, соглядая иногда превратное ваше шествие! В заблуждении вашем, в забвении самих себя, возлюбите добро. Распутное житие, безмерное любочестие, наглость и все пороки юности оставляют надежду исправления, ибо скользят по поверхности сердца, его не уязвляя. Я лучше желаю, чтобы во младых летах ваших вы были распутны, расточительны, наглы, нежели сребролюбивы или же чрезмерно бережливы, щеголеваты, занимаяся более убранством, нежели чем другим. Систематическое, так сказать, расположение в щегольстве означает всегда сжатый рассудок. Если повествуют, что Юлий Кесарь был щеголь, но щегольство его имело цель. Страсть к женщинам в юности его была к сему побуждением. Но он из щеголя облекся бы мгновенно во смраднейшее рубище, если бы то способствовало к достижению его желаний.
Во младом человеке не токмо щегольство преходящее простительно, но и всякое почти дурачество. Если же наикраснейшими деяниями жизни прикрывать будете коварство, ложь, вероломство, сребролюбие, гордость, любомщение, зверство, – то хотя ослепите современников ваших блеском ясной наружности, хотя не найдете никого столь любящего вас, да представит вам зерцало истины, не мните, однако же, затмить взоры прозорливости. Проникнет она светозарную ризу коварства, и добродетель черноту души вашей обнажит. Возненавидит ее сердце твое, и яко чувственница увядать станет прикосновением твоим, не мгновенно, но стрелы ее издалека язвить тебя станут и терзать.
Простите, возлюбленные мои, простите, друзья души моей; днесь при сопутном ветре отчальте от брега чуждыя опытности ладью вашу; стремитеся по валам жития человеческого, да научитеся управляти сами собою. Блажени, не претерпев крушения, если достигнете пристанища, его же жаждем. Будьте счастливы во плавании вашем. Се искреннее мое желание. Естественные силы мои, истощав движением и жизнию, изнемогут и угаснут; оставлю вас навеки; но се мое вам завещание. Если ненавистное счастие истощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земли не останется, если, доведенну до крайности, не будет тебе покрова от угнетения, – тогда воспомни, что ты человек, воспомяни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. – Умри. – В наследие вам оставляю слово умирающего Катона. – Но если во добродетели умрети возможешь, умей умреть и в пороке и будь, так сказать, добродетелен в самом зле. Если, забыв мои наставления, поспешать будешь на злые дела, обыкшая душа добродетели востревожится; явлюся тебе в мечте. – Воспряни от ложа твоего, преследуй душевно моему видению. – Если тогда источится слеза из очей твоих, то усни паки; пробудишься на исправление. Но если среди злых твоих начинаний, воспоминая обо мне, душа твоя не зыбнется и око пребудет сухо… Се сталь, се отрава. – Избавь меня скорби; избавь землю поносныя тяжести. – Будь мой еще сын. – Умри на добродетель.
Вещавшу сие старцу, юношеский румянец покрыл сморщенные ланиты его; взоры его испускали лучи надежного радования, черты лица сияли сверхъестественным веществом. Он облобызал детей своих и, проводив их до повозки, пребыл тверд до последнего расстания. Но едва звон почтового колокольчика возвестил ему, что они начали от него удаляться, упругая сия душа смягчилася. Слезы проникли сквозь очей его, грудь его воздымалася; он руки свои простирал вслед за отъезжающими; казалося, будто желает остановить стремление коней. Юноши, узрев издали родшего их в такой печали, возрыдали столь громко, что ветр доносил жалостный их стон до слуха нашего. Они простирали также руки к отцу своему; и казалося, будто его к себе звали. Не мог старец снести сего зрелища; силы его ослабели, и он упал в мои объятия. Между тем пригорок скрыл отъехавших юношей от взоров наших; пришед в себя, старец стал на колени и возвел руки и взоры на небо. – Господи, – возопил он, – молю тебя, да укрепишь их в стезях добродетели, молю, блажени да будут. Веси, николи не утруждал тебя, отец всещедрый, бесполезною молитвою. Уверен в душе моей, яко благ еси и правосуден. Любезнейшее тебе в нас есть добродетель; деяния чистого сердца суть наилучшая для тебя жертва… Отлучил я ныне от себя сынов моих… Господи, да будет на них воля твоя. – Смущен, но тверд в надеянии своем отъехал он в свое жилище.
Слово крестицкого дворянина не выходило у меня из головы. Доказательства его о ничтожестве власти родителей над детьми казалися мне неоспоримы. Но если в благоучрежденном обществе нужно, чтобы юноши почитали старцев и неопытность – совершенство, то нет, кажется, нужды власть родительскую делать беспредельною. Если союз между отцом и сыном не на нежных чувствованиях сердца основан, то он, конечно, нетверд; и будет нетверд, вопреки всех законоположений. Если отец в сыне своем видит своего раба и власть свою ищет в законоположении, если сын почитает отца наследия ради, то какое благо из того обществу? Или еще один невольник в прибавок ко многим другим, или змия за пазухой… Отец обязан сына воскормить и научить и должен наказан быть за его проступки, доколе он не войдет в совершеннолетие; а сын должности свои да обрящет в своем сердце. Если он ничего не ощущает, то виновен отец, почто ничего не насадил. Сын же вправе требовати от отца вспомоществования, доколе пребывает немощен и малолетен; но в совершеннолетии естественная сия и природная связь рушится. Птенец пернатых не ищет помощи от произведших его, когда сам начнет находить пищу. Самец и самка забывают о птенцах своих, когда сии возмужают. Се есть закон природы, если гражданские законы от него удалятся, то производят всегда урода. Ребенок любит своего отца, мать или наставника, доколе любление его не обратится к другому предмету. Да не оскорбится сим сердце твое, отец чадолюбивый; естество того требует. Единое в том тебе утешение да будет, воспоминая, что и сын сына твоего возлюбит отца до совершенного только возраста. Тогда же от тебя зависеть будет обратить его горячность к тебе. Если ты в том успеешь, блажен и почтения достоин. – В таковых размышлениях доехал я до почтового стана.
Яжелбицы
Сей день определен мне был судьбою на испытание. Я отец, имею нежное сердце к моим детям. Для того то слово крестицкого дворянина меня столь тронуло. Но потрясши меня до внутренности, излияло некое усладительное чувствование надежды, что блаженство наше в отношении детей наших зависит много от нас самих. Но в Яжелбицах определено мне было быть зрителем позорища, которое глубокий корень печали оставило в душе моей, и нет надежды на его истребление. О юность! Услыши мою повесть; познай свое заблуждение; воздержись от произвольныя гибели и пресеки путь к будущему раскаянию.
Я проезжал мимо кладбища. Необыкновенный вопль терзающего на себе власы человека понудил меня остановиться. Приближась, увидел я, что там совершалось погребение. Надлежало уже гроб опускать в могилу, но тот, которого я издали зрел терзающего на себе власы, повергся на гроб и, ухватясь за оной весьма крепко, не дозволял оной опускать в землю. С великим трудом отвлекли его от гроба и, опустя оной в могилу, зарыли ее поспешно. Тут страждущий вещал к предстоящим: – Почто вы меня его лишили, почто меня с ним не погребли живого и не скончали моей скорби и раскаяния? Ведайте, ведайте, что я есмь убийца возлюбленного моего сына, его же мертва предали земле. Не дивитеся сему. Я не прекратил жизни его ни мечом, ни отравою. Нет, я более сего сделал. Я смерть его уготовал до рождения его, дав жизнь ему отравленную. Я есмь убийца, каковых много, но есмь убийца лютейший других. Убийца сына моего до рождения его. Я, я един прекратил дни его, излияв томный яд в начало его. Он воспретил укрепиться силам тела его. Во все время жития своего не наслаждался он здравием ни дня единого; и томящегося в силах своих разверстие яда пресекло течение жизни. Никто, никто меня не накажет за мое злодеяние! – Отчаяние ознаменовалося на лице его, и бездыханна почти отнесли его с сего места…
Нечаянный хлад разлиялся в моих жилах. Я оцепенел. Казалося мне, я слышал мое осуждение. Воспомянул дни распутныя моея юности. Привел на память все случаи, когда востревоженная чувствами душа гонялася за их услаждением, почитая мздоимную участницу любовныя утехи истинным предметом горячности. Воспомянул, что невоздержание в любострастии навлекло телу моему смрадную болезнь. О, если бы не далее она корень свой испускала! О, если бы она с утолением любострастия прерывалася! Прияв отраву сию в веселии, не токмо согреваем ее в недрах наших, но даем ее в наследие нашему потомству. О друзья мои возлюбленные, о чада души моей! Не ведаете вы, колико согреших пред вами. Бледное ваше чело есть мое осуждение. Страшусь возвестить вам о болезни, иногда вами ощущаемой. Возненавидите, может быть, меня и в ненависти вашей будете справедливы. Кто уверит вас и меня, что вы не носите в крови вашей сокровенного жала, определенного, да скончает дни ваши безвременно? Прияв сей смрадный яд в тело мое в совершенном возрасте, затверделость моих членов противилася его распространению и борется с его смертоносностию. Но вы, прияв его от рождения вашего, нося его в себе как нужную часть сложения, – как воспротивитесь разрушительному его сожжению? Все ваши болезни суть следствия сея отравы. О возлюбленные мои! плачьте о заблуждении моего юношества, призовите на помощь врачебное искусство и, если можете, не ненавидьте меня.
Но теперь отверзается очам моим все пространство сего любострастного злодеяния. Согрешил предо мною, навлекши себе безвременную старость и дряхлость в юношеских еще летах. Согрешил пред вами, отравив жизненные ваши соки до рождения вашего, и тем уготовил вам томное здравие и безвременную, может быть, смерть. Согрешил, и сие да будет мне в казнь. Согрешил в горячности моей, взяв в супружество мать вашу. Кто мне порукою в том, что не я был причиною ее кончины? Смертоносный яд, источаяся в веселии, преселился в чистое ее тело и отравил непорочные ее члены. Тем смертоноснее он был, чем был сокровеннее. Ложная стыдливость воспретила мне ее в том предостеречь; она же не остерегалася отравителя своего в горячности своей к нему. Воспаление, ей приключившееся, есть плод, может быть, уделенной ей мною отравы… О возлюбленные мои, колико должны вы меня ненавидеть!
Но кто причиною, что сия смрадная болезнь во всех государствах делает столь великие опустошения, не токмо пожиная много настоящего поколения, но сокращая дни грядущих? Кто причиною, разве не правительство? Оно, дозволяя распутство мздоимное, отверзает не токмо путь ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан. Публичные женщины находят защитников и в некоторых государствах состоят под покровительством начальства. Если бы, говорят некоторые, запрещено было наемное удовлетворение любовныя страсти, то бы нередко были чувствуемы сильные в обществе потрясения. Увозы, насилия, убийство нередко бы источник свой имели в любовной страсти. Могли бы они потрясти и самые основания обществ. – И вы желаете лучше тишину и с нею томление и скорбь, нежели тревогу и с нею здравие и мужество. Молчите, скаредные учители, вы есте наемники мучительства; оно, проповедуя всегда мир и тишину, заключает засыпляемых лестию в оковы. Боится оно даже посторонния тревоги. Желало бы, чтоб везде одинако с ним мыслили, дабы надежно лелеяться в величестве и утопать в любострастии… Я не удивляюся глаголам вашим. Сродно рабам желати всех зреть в оковах. Одинаковая участь облегчает их жребий, а превосходство чье-либо тягчит их разум и дух.
Валдаи
Новой сей городок, сказывают, населен при царе Алексее Михайловиче взятыми в плен поляками. Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних.
Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия. Сравнивая нравы жителей сея в города произведенныя деревни со нравами других российских городов, подумаешь, что она есть наидревнейшая и что развратные нравы суть единые токмо остатки ее древнего построения. Но как немного более ста лет, как она населена, то можно судить, сколь развратны были и первые его жители.
Бани бывали и ныне бывают местом любовных торжествований. Путешественник, условясь о пребывании своем с услужливою старушкою или парнем, становится на двор, где намерен приносить жертву всеобожаемой Ладе. Настала ночь. Баня для него уже готова. Путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные члены; омывают его грязь. Сие производят, совлекши с себя одежды, возжигают в нем любострастный огнь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время. Бывало, сказывают, что оплошного и отягченного любовными подвигами и вином путешественника сии любострастные чудовища предавали смерти, дабы воспользоваться его имением. Не ведаю, правда ли сие, но то правда, что наглость валдайских девок сократилася. И хотя они не откажутся и ныне удовлетворить желаниям путешественника, но прежней наглости в них не видно.
Валдайское озеро, над которым построен сей город, достопамятно останется в повествованиях жертвовавшего монаха жизнию своею ради своей любовницы. В полуторе версте от города, среди озера, на острове находится Иверский монастырь, славным Никоном патриархом построенный. Один из монахов сего монастыря, посещая Валдаи, влюбился в дочь одного валдайского жителя. Скоро любовь их стала взаимною, скоро стремились они к совершению ее. Единожды насладившися ее веселием, не в силах они были противиться ее стремлению. Но состояние их полагало оному преграду. Любовнику нельзя было отлучаться часто из монастыря своего; любовнице нельзя было посещать кельи своего любовника. Но горячность их все преодолела; из любострастного монаха она сделала неустрашимого мужа и дала ему силы почти чрезъестественные. Сей новый Леандр, дабы наслаждаться веселием ежедневно в объятиях своей любовницы, едва ночь покрывала черным покровом все зримое, выходил тихо из своей кельи и, совлекая свои ризы, преплывал озеро до противустоящего берега, где восприемлем был в объятия своей любезной. Баня и в ней утехи любовные для него были готовы; и он забывал в них опасность и трудность переплывания и боязнь, если бы отлучка его стала известна. За несколько часов до рассвета возвращался он в свою келью. Тако препроводил он долгое время в сих опасных преплытиях, награждая веселием ночным скуку дневного заключения. Но судьба положила конец его любовным подвигам. В одну из ночей, когда сей неустрашимый любовник отправился чрез валы на зрение своей любезной, внезапу восстал ветр, ему противной, будущу ему на среде пути его. Все силы его немощны были на преодоление разъяренных вод. Тщетно он утомлялся, напрягая свои мышцы; тщетно возвышал глас свой, да услышан будет в опасности. Видя невозможность достигнуть берега, вознамерился он возвратиться к монастырю своему, дабы, имея попутный ветр, тем легче оного достигнуть. Но едва обратил он шествие свое, как валы, осилив его утомленные мышцы, затопили его в пучине. Наутрие тело его найдено на отдаленном берегу. Если бы я писал поэму на сие, то бы читателю моему представил любовницу его в отчаянии. Но сие было бы здесь излишнее. Всяк знает, что любовнице, хотя на первое мгновение, скорбно узнать о кончине любезного. Не ведаю и того, бросилась ли сия новая Геро в озеро или же в следующую ночь паки топила баню для путешественника. Любовная летопись гласит, что валдайские красавицы от любви не умирали… разве в больнице.
Нравы валдайские переселилися и в близлежащий почтовый стан, Зимногорье. Тут для путешественника такая же бывает встреча, как и в Валдаях. Прежде всего представятся взорам разрумяненные девки с баранками. Но как молодые мои лета уже прошли, то я поспешно расстался с мазаными валдайскими и зимногорскими сиренами.
Едрово
Доехав до жилья, я вышел из кибитки. Неподалеку от дороги над водою стояло много баб и девок. Страсть, господствовавшая во всю жизнь надо мною, но уже угасшая, по обыкшему ее стремлению направила стопы мои к толпе сельских сих красавиц. Толпа сия состояла более нежели из тридцати женщин. Все они были в праздничной одежде, шеи голые, ноги босые, локти наруже, платье заткнутое спереди за пояс, рубахи белые, взоры веселые, здоровье на щеках начертанное. Приятности, загрубевшие хотя от зноя и холода, но прелестны без покрова хитрости; красота юности в полном блеске, в устах улыбка или смех сердечный; а от него виден становился ряд зубов белее чистейшей слоновой кости. Зубы, которые бы щеголих с ума свели. Приезжайте сюда, любезные наши боярыньки московские и петербургские, посмотрите на их зубы, учитесь у них, как их содержать в чистоте. Зубного врача у них нет. Не сдирают они каждый день лоску с зубов своих ни щетками, ни порошками. Станьте, с которою из них вы хотите, рот со ртом; дыхание ни одной из них не заразит вашего легкого. А ваше, ваше, может быть, положит в них начало… болезни… боюсь сказать какой; хотя не закраснеетесь, но рассердитесь. – Разве я говорю неправду? – Муж одной из вас таскается по всем скверным девкам; получив болезнь, пьет, ест и спит с тобою же; другая же сама изволит иметь годовых, месячных, недельных, или, чего боже упаси, ежедневных любовников. Познакомясь сегодня и совершив свое желание, завтра его не знает; да и того иногда не знает, что уже она одним его поцелуем заразилася. А ты, голубушка моя, пятнадцатилетняя девушка, ты еще непорочна, может быть; но на лбу твоем я вижу, что кровь твоя вся отравлена. Блаженной памяти твой батюшка из докторских рук не выхаживал; а государыня матушка твоя, направляя тебя на свой благочестивый путь, нашла уже тебе женишка, заслуженного старика генерала, и спешит тебя выдать замуж для того только, чтобы не сделать с тобой визита воспитательному дому. А за стариком-то жить нехудо, своя воля; только бы быть замужем, дети все его. Ревнив он будет, тем лучше: более удовольствия в украденных утехах; с первой ночи приучить его можно не следовать глупой старой моде с женою спать вместе.
И не приметил, как вы, мои любезные городские сватьюшки, тетушки, сестрицы, племянницы и проч., меня долго задержали. Вы, право, того не стоите. У вас на щеках румяна, на сердце румяна, на совести румяна, на искренности… сажа. Все равно румяна или сажа. Я побегу от вас во всю конскую рысь к моим деревенским красавицам. Правда, есть между ими на вас похожие, но есть такие, каковых в городах слыхом не слыхано и видом не видано… Посмотрите, как все члены у моих красавиц круглы, рослы, не искривлены, не испорчены. Вам смешно, что у них ступни в пять вершков, а может быть, и в шесть. Ну, любезная моя племянница, с трехвершковою твоею ножкою стань с ними рядом, и бегите взапуски; кто скорее достигнет высокой березы, по конец луга стоящей? А-а – это не твое дело. – А ты, сестрица моя голубушка, с трехчетвертным своим станом в охвате, ты изволишь издеваться, что у сельской моей русалки брюшко на воле выросло. Постой, моя голубушка, посмеюсь и я над тобою. Ты уж десятый месяц замужем, и уж трехчетвертной твой стан изуродовался. А как то дойдет до родов, запоешь другим голосом. Но дай бог, чтобы обошлось все смехом. Дорогой мой зятюшка ходит повеся нос. Уже все твои шнурованья бросил в огонь. Кости из всех твоих платьев повытаскал, но уже поздно. Сросшихся твоих накриво составов тем не спрямит. – Плачь, мой любезный зять, плачь. Мать наша, следуя плачевной и смертию разрешающихся от бремени жен ознаменованной моде, уготовала за многие лета тебе печаль, а дочери своей болезнь, детям твоим слабое телосложение. Она теперь возносит над главою ее смертоносное острие; и если оно не коснется дней твоея супруги, благодари случай; а если веришь, что провидение божие о том заботилося, то благодари и его, коли хочешь. Но я еще с городскими боярыньками. Вот что привычка делает; отвязаться от них не хочется. И, право, с вами бы не расстался, если бы мог довести вас до того, чтобы вы лица своего и искренности не румянили. Теперь прощайте.
Покуда я глядел на моющих платье деревенских нимф, кибитка моя от меня уехала. Я намерялся идти за нею вслед, как одна девка, по виду лет двадцати, а, конечно, не более семнадцати, положа мокрое свое платье на коромысло, пошла одною со мной дорогою. Поравнявшись с ней, начал я с нею разговор. – Не трудно ли тебе нести такую тяжелую ношу, любезная моя, как назвать, не знаю? – Меня зовут Анною, а ноша моя не тяжела. Хотя бы и тяжела была, я бы тебя, барин, не попросила мне пособить. – К чему такая суровость, Аннушка, душа моя? я тебе худого не желаю. – Спасибо, спасибо; часто мы видим таких щелкунов, как ты; пожалуй, проходи своею дорогою. – Анютушка, я, право, не таков, как я тебе кажуся, и не таков, как те, о которых ты говоришь. Те, думаю, так не начинают разговора с деревенскими девками, а всегда поцелуем; но я хотя бы тебя поцеловал, то, конечно бы, так, как сестру мою родную. – Не подъезжай, пожалуй; рассказы таковые я слыхала; а коли ты худого не мыслишь, чего же ты от меня хочешь? – Душа моя, Аннушка, я хотел знать, есть ли у тебя отец и мать, как ты живешь, богато ли или убого, весело ли, есть ли у тебя жених? – А на что это тебе, барин? Отроду в первый раз такие слышу речи. – Из сего судить можешь, Анюта, что я не негодяй, не хочу тебя обругать или обесчестить. Я люблю женщин для того, что они соответственное имеют сложение моей нежности; а более люблю сельских женщин или крестьянок для того, что они не знают еще притворства, не налагают на себя личины притворныя любви, а когда любят, то любят от всего сердца и искренно. – Девка в сие время смотрела на меня, выпяля глаза с удивлением. Да и так быть должно; ибо кто не знает, с какою наглостию дворянская дерзкая рука поползается на непристойные и оскорбительные целомудрию шутки с деревенскими девками. Они в глазах дворян старых и малых суть твари, созданные на их угождение. Так они и поступают; а особливо с несчастными, подвластными их велениям. В бывшее Пугачевское возмущение, когда все служители вооружились на своих господ, некакие крестьяне (повесть сия нелжива), связав своего господина, везли его на неизбежную казнь. Какая тому была причина? Он во всем был господин добрый и человеколюбивый, но муж не был безопасен в своей жене, отец в дочери. Каждую ночь посланные его приводили к нему на жертву бесчестия ту, которую он того дня назначил. Известно в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности. Наехавшая команда выручила сего варвара из рук на него злобствовавших. Глупые крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! но почто не поведали вы сего законным судиям вашим? Они бы предали его гражданской смерти, и вы бы невинны осталися. А теперь злодей сей спасен. Блажен, если близкий взор смерти образ мыслей его переценил и дал жизненным его сокам другое течение. Но крестьянин в законе мертв, сказали мы… Нет, нет, он жив, он жив будет, если того восхочет…
– Если, барин, ты не шутишь, – сказала мне Анюта, – то вот что я тебе скажу: у меня отца нет, он умер уже года с два, есть матушка да маленькая сестра. Батюшка нам оставил пять лошадей и три коровы. Есть и мелкого скота и птиц довольно; но нет в дому работника. Меня было сватали в богатый дом за парня десятилетнего; но я не захотела. Что мне в таком ребенке; я его любить не буду. А как он придет в пору, то я состареюсь, и он будет таскаться с чужими. Да сказывают, что свекор сам с молодыми невестками спит, покуда сыновья вырастают. Мне для того-то не захотелось идти к нему в семью. Я хочу себе ровню. Мужа буду любить, да и он меня любить будет, в том не сомневаюсь. Гулять с молодцами не люблю, а замуж, барин, хочется. Да знаешь ли для чего? – говорила Анюта, потупя глаза. – Скажи, душа моя Анютушка, не стыдись; все слова в устах невинности непорочны. – Вот что я тебе скажу. Прошлым летом, год тому назад, у соседа нашего женился сын на моей подруге, с которой я хаживала всегда в посиделки. Муж ее любит, а она его столько любит, что на десятом месяце после венчанья родила ему сынка. Всякий вечер она выходит пестовать его за ворота. Она на него не наглядится. Кажется, будто и паренек-то матушку свою уж любит. Как она скажет ему: агу, агу, он и засмеется. Мне то до слез каждый день; мне бы уж хотелось самой иметь такова же паренька… Я не мог тут вытерпеть и, обняв Анюту, поцеловал ее от всего моего сердца. – Смотри, барин, какой ты обманщик, ты уж играешь со мною. Поди, сударь, прочь от меня, оставь бедную сироту, – сказала Анюта, заплакав. – Кабы батюшка жив был и это видел, то бы, даром, что ты господин, нагрел бы тебе шею. – Не оскорбляйся, моя любезная Анютушка, не оскорбляйся, поцелуй мой не осквернит твоей непорочности. Она в глазах моих священна. Поцелуй мой есть знак моего к тебе почтения и был исторгнут восхищением глубоко тронутыя души. Не бойся меня, любезная Анюта, не подобен я хищному зверю, как наши молодые господчики, которые отъятие непорочности ни во что вменяют. Если бы я знал, что поцелуй мой тебя оскорбит, то клянусь тебе богом, что бы не дерзнул на него. – Рассуди сам, барин, как не осердиться за поцелуй, когда все они уже посулены другому. Они заранее все уж отданы, и я в них не властна. – Ты меня восхищаешь. Ты уже любить умеешь. Ты нашла сердцу своему другое, ему соответствующее. Ты будешь блаженна. Ничто не развратит союза вашего. Не будешь ты окружена соглядателями, в сети пагубы уловить тебя стрегущими. Не будет слух сердечного друга твоего уязвлен прельщающим гласом, на нарушение его к тебе верности призывающим. Но почто же, моя любезная Анюта, ты лишена удовольствия наслаждаться счастием в объятиях твоего милого друга? – Ах, барин, для того, что его не отдают к нам в дом. Просят ста рублей. А матушка меня не отдает, я у ней одна работница. – Да любит ли он тебя? – Как же не так. Он приходит по вечерам к нашему дому, и мы вместе смотрим на паренька моей подруги… Ему хочется такого же паренька. Грустно мне будет; но быть терпеть. Ванюха мой хочет идти на барках в Питер в работу и не воротится, покуда не выработает ста рублей для своего выкупа. – Не пускай его, любезная Анютушка, не пускай его; он идет на свою гибель. Там он научится пьянствовать, мотать, лакомиться, не любить пашню, а больше всего он и тебя любить перестанет. – Ах, барин, не стращай меня, – сказала Анюта, почти заплакав. – А тем скорее, Анюта, если ему случится служить в дворянском доме. Господский пример заражает верхних служителей, нижние заражаются от верхних, а от них язва разврата достигает и до деревень. Пример есть истинная чума; кто что видит, тот то и делает. – Да как же быть? Так мне и век за ним не бывать замужем. Ему пора уже жениться; по чужим он не гуляет; меня не отдают к нему в дом; то высватают за него другую, а я, бедная, умру с горя… – Сие говорила она, проливая горькие слезы. – Нет, моя любезная Анютушка, ты завтра же будешь за ним. Поведи меня к своей матери. – Да вот наш двор, – сказала она, остановясь. – Проходи мимо, матушка меня увидит и худое подумает. А хотя она меня и не бьет, но одно ее слово мне тяжелее всяких побоев. – Нет, моя Анюта, я пойду с тобою… – и, не дожидаясь ее ответа, вошел в ворота и прямо пошел на лестницу в избу, Анюта мне кричала вслед: – Постой, барин, постой. – Но я ей не внимал. В избе я нашел Анютину мать, которая квашню месила; подле нее на лавке сидел будущий ее зять. Я без дальних околичностей ей сказал, что я желаю, чтобы дочь ее была замужем за Иваном, и для того принес ей то, что надобно для отвлечения препятствия в сем деле. – Спасибо, барин, – сказала старуха, – в этом теперь уж нет нужды. Ванюха теперь пришед сказывал, что отец уж отпускает его ко мне в дом. И у нас в воскресенье будет свадьба. – Пускай же посуленное от меня будет Анюте в приданое. – И на том спасибо. Приданого бояре девкам даром не дают. Если ты над моей Анютой что сделал и за то даешь ей приданое, то бог тебя накажет за твое беспутство; а денег я не возьму. Если же ты добрый человек и не ругаешься над бедными, то, взяв от тебя деньги, лихие люди мало ли что подумают. – Я не мог надивиться, нашед толико благородства в образе мыслей у сельских жителей. Анюта между тем вошла в избу и матери своей меня расхвалила. Я было еще попытался дать им денег, отдавая их Ивану на заведение дому; но он мне сказал: – У меня, барин, есть две руки, я ими дом и заведу. – Приметив, что им мое присутствие было не очень приятно, я их оставил и возвратился к моей кибитке.
Едущу мне из Едрова, Анюта из мысли моей не выходила. Невинная ее откровенность мне нравилась безмерно. Благородный поступок ее матери меня пленил. Я сию почтенную мать с засученными рукавами за квашнею или с подойником подле коровы сравнивал с городскими матерями. Крестьянка не хотела у меня взять непорочных, благоумышленных ста рублей, которые в соразмерности состояний долженствуют быть для полковницы, советницы, майорши, генеральши пять, десять, пятнадцать тысяч или более; если же госпоже полковнице, майорше, советнице или генеральше (в соразмерности моего посула едровской ямщичихе), у которой дочка лицом недурна или только что непорочна, и того уже довольно, знатной боярин седмидесятой, или, чего боже сохрани, седмьдесят второй пробы, посулит пять, десять, пятнадцать тысяч, или глухо знатное приданое, или сыщет чиновного жениха, или выпросит в почетные девицы, то я вас вопрошаю, городские матушки, не ёкнет ли у вас сердечко? не захочется ли видеть дочку в позлащенной карете, в бриллиантах, едущую четвернею, если она ходит пешком, или едущую цугом вместо двух заморенных кляч, которые ее таскают? Я согласен в том с вами, чтобы вы обряд и благочиние сохранили и не так легко сдалися, как феатральные девки. Нет, мои голубушки, я вам даю сроку на месяц или на два, но не более. А если доле заставите воздыхать первостатейного бесплодно, то он, будучи занят делами государственными, вас оставит, дабы не терять с вами драгоценнейшего времени, которое он лучше употребить может на пользу общественную. – Тысяча голосов на меня подымаются; ругают меня всякими мерзкими названиями: мошенник, плут, кан… бес и пр., и пр. – Голубушки мои, успокойтесь; я вашей чести не поношу. Ужели все таковы? Поглядитесь в сие зеркало; кто из вас себя в нем узнает, то брани меня без всякого милосердия. Жалобницы и на ту я не подам, суда по форме говорить с ней не стану.
Анюта, Анюта, ты мне голову скружила! Для чего я тебя не узнал лет 15 тому назад. Твоя откровенная невинность, любострастному дерзновению неприступная, научила бы меня ходить во стезях целомудрия. Для чего первый мой в жизни поцелуй не был тот, который я на щеке твоей прилепил в душевном восхищении? Отражение твоея жизненности проникнуло бы во глубину моего сердца, и я бы избегнул скаредностей, житие мое исполнивших. Я бы удалился от смрадных наемниц любострастия, почтил бы ложе супружества, не нарушил бы союза родства моею плотскою несытостию; девственность была бы для меня святая святых, и ее коснутися не дерзнул бы. О моя Анютушка! сиди всегда у околицы и давай наставления твоею незастенчивою невинностию. Уверен, что обратишь на путь доброделания начинающего с оного совращатися и укрепишь в нем к совращению наклонного. Не востревожься, если закоренелый в развратности, поседевший в объятиях бесстыдства мимо тебя пройдет и тебя презрит; не тщися воспретить его шествию услаждением твоего разговора. Сердце его уже камень; душа его покрылася алмазною корою. Не может благодетельное жало невинныя добродетели положить на нем глубокие черты. Конец ее скользнет по поверхности гладко затверделого порока. Блюди, да о нее острие твое не притупится. Но не пропусти юношу, опасными лепоты прелестями облеченного; улови его в твои сети. Он горд, надменен, порывист, нагл, дерзновенен, обидящ, уязвляющ кажется. Но сердце его уступит твоему впечатлению и отверзется на восприятие твоего благотворного примера. – Анюта, я с тобой не могу расстаться, хотя уже вижу двадцатый столп от тебя. —
Но что такое за обыкновение, о котором мне Анюта сказывала? Ее хотели отдать за десятилетнего ребенка. Кто мог такой союз дозволить? Почто не ополчится рука, законы хранящая, на искоренение толикого злоупотребления? В христианском законе брак есть таинство, в гражданском – соглашение или договор. Какой священнослужитель может неравный брак благословить или какой судия может его вписать в свой дневник? Где нет соразмерности в летах, там и брака быть не может. Сие запрещают правила естественности, яко вещь бесполезную для человека, сие запрещать долженствовал бы закон гражданский, яко вредное для общества. Муж и жена в обществе суть два гражданина, делающие договор, в законе утвержденный, которым обещеваются прежде всего на взаимное чувств услаждение (да не дерзнет здесь никто оспорить первейшего закона сожития и основания брачного союза, начало любви непорочнейшия и твердый камень основания супружнего согласия), обещеваются жить вместе, общее иметь стяжание, возращать плоды своея горячности и, дабы жить мирно, друг друга не уязвлять. При неравенстве лет можно ли сохранить условие сего соглашения? Если муж десяти лет, а жена двадцати пяти, как то бывает часто во крестьянстве; или если муж пятидесяти, а жена пятнадцати или двадцати лет, как то бывает во дворянстве, – может ли быть взаимное чувств услаждение? Скажите вы мне, мужья-старички, но скажите по совести, стоите ли вы названия мужа? Вы можете только возжечь огнь любовный, не в состоянии его утушить. Неравенством лет нарушается единый из первейших законов природы; то может ли положительной закон быть тверд, если основания не имеет в естественности? Скажем яснее: он и не существует. – Возращать плоды взаимной горячности. – Но может ли тут быть взаимность, где с одной стороны пламя, а с другой нечувствительность? Может ли быть тут плод, если насажденное древо лишается благодетельного дождя и питающия росы? А если плод когда и будет, но будет он тощ, невзрачен и скорому подвержен тлению. – Не уязвлять друг друга. – Се правило предвечное, верное; буде счастливою в супругах симпатиею чувства их равномерно услаждаются, то союз брачный будет благополучен; малые домашние волнения скоро утихают при нашествии веселия. И, когда мраз старости подернет чувственное веселие непроницаемою корою, тогда напоминовение прежних утех успокоит брюзгливую древность лет. – Одно условие брачного договора может и в неравенстве быть исполняемо: жить вместе. – Но будет ли в том взаимность? Один будет начальник самовластный, имея в руках силу, другой будет слабый подданник и раб совершенный, веление господа своего исполнять только могущий. – Вот, Анюта, благие мысли, тобою мне внушенные. Прости, любезная моя Анютушка, поучения твои вечно пребудут в сердце моем впечатленны, и сыны сынов моих наследят в них.
Хотиловской ям был уже в виду, а я еще размышлял о едровской девке и в восторге души моей воскликнул громко: – О Анюта! Анюта! – Дорога была негладка, лошади шли шагом; повозчик мой вслушался в мою речь, оглянувшись на меня. – Видно, барин, – говорил он мне, улыбаясь и поправляя шляпу, – что ты на Анютку нашу призарился. Да уж и девка! Не одному тебе она нос утерла… Всем взяла… На нашем яму много смазливых, но перед ней все плюнь. Какая мастерица плясать! всех за пояс заткнет, хоть бы кого… А как пойдет в поле жать… загляденье. Ну… брат Ванька счастлив. – Иван брат тебе? – Брат двоюродной. Да веть и парень! Трое вдруг молодцов стали около Анютки свататься; но Иван всех отбоярил. Они и тем и сем, но не тут-та. А Ванюха тотчас и подцепил… (Мы уже въезжали в околицу…) То-то, барин! Всяк пляшет, да не как скоморох. – И к почтовому двору подъехал.
– Всяк пляшет, да не как скоморох, – твердил я, вылезая из кибитки… – Всяк пляшет, да не как скоморох, – повторил я, наклоняяся и подняв, развертывая…
Хотилов Проект в будущем
Доведя постепенно любезное отечество наше до цветущего состояния, в котором оное ныне находится; видя науки, художества и рукоделия, возведенные до высочайшия совершенства степени, до коей человеку достигнути дозволяется; видя в областях наших, что разум человеческий, вольно распростирая свое крылие, беспрепятственно и незаблужденно возносится везде к величию и надежным ныне стал стражею общественных законоположений. Под державным его покровом свободно и сердце наше, в молитвах ко всевышнему творцу воссылаемых, с неизреченным радованием сказати можем, что отечество наше есть приятное божеству обиталище; ибо сложение его не на предрассудках и суевериях основано, но на внутреннем нашем чувствовании щедрот отца всех. Неизвестны нам вражды, столь часто людей разделявшие за их исповедание, неизвестно нам в оном и принуждение. Родившись среди свободы сей, мы истинно братьями друг друга почитаем, единому принадлежа семейству, единого имея отца, бога.
Светильник науки, носяся над законоположением нашим, отличает ныне его от многих земных законоположений. Равновесие во властях, равенство в имуществах отъемлют корень даже гражданских несогласий. Умеренность в наказаниях, заставляя почитать законы верховныя власти, яко веления нежных родителей к своим чадам, предупреждает даже и бесхитростные злодеяния. Ясность в положениях о приобретении и сохранении имений не дозволяет возродиться семейным распрям. Межа, отделяющая гражданина в его владении от другого, глубока, и всеми зрима, и всеми свято почитаема. Оскорбления частные между нами редки и дружелюбно примиряются. Воспитание народное пеклося о том, да кротки будем, да будем граждане миролюбивые, но прежде всего да будем человеки.
Наслаждался внутреннею тишиною, внешних врагов не имея, доведя общество до высшего блаженства гражданского сожития, – неужели толико чужды будем ощущению человечества, чужды движениям жалости, чужды нежности благородных сердец, любви чужды братния и оставим в глазах наших на всегдашнюю нам укоризну, на поношение дальнейшего потомства треть целую общников наших, сограждан нам равных, братий возлюбленных в естестве, в тяжких узах рабства и неволи? Зверский обычай порабощать себе подобного человека, возродившийся в знойных полосах Ассии, обычай, диким народам приличный, обычай, знаменующий сердце окаменелое и души отсутствие совершенное, простерся на лице земли быстротечно, широко и далеко. И мы, сыны славы, мы, именем и делами словуты в коленах земнородных, пораженные невежества мраком, восприяли обычай сей; и ко стыду нашему, ко стыду прошедших веков, ко стыду сего разумного времяточия, сохранили его нерушимо даже до сего дня.
Известно вам из деяний отцов ваших, известно всем из наших летописей, что мудрые правители нашего народа, истинным подвизаемы человеколюбием, дознав естественную связь общественного союза, старалися положить предел стоглавному сему злу. Но державные их подвиги утщетилися известным тогда гордыми своими преимуществами в государстве нашем чиносостоянием, но ныне обветшалым и в презрение впавшим, дворянством наследственным. Державные предки наши среди могущества сил скипетра своего немощны были на разрушение оков гражданския неволи. Не токмо они не могли исполнити своих благих намерений, но ухищрением помянутого в государстве чиносостояния подвигнуты стали на противные рассудку их и сердцу правила. Отцы наши зрели губителей сих; со слезами, может быть, сердечными, сожимающих узы и отягчающих оковы наиполезнейших в обществе сочленов. Земледельцы и доднесь между нами рабы; мы в них не познаем сограждан нам равных, забыли в них человека! О возлюбленные наши сограждане! о истинные сыны отечества! воззрите окрест вас и познайте заблуждение ваше. Служители божества предвечного, подвизаемые ко благу общества и ко блаженству человека, единомыслием с нами изъясняли вам в поучениях своих во имя всещедрого бога, ими проповедуемого, колико мудрости его и любви противно властвовати над ближним своим самопроизвольно. Старалися они доводами, в природе и сердцем нашем почерпнутыми, доказать вам жестокость вашу, неправду и грех. Еще глас их торжественно во храмах живого бога вопиет громко: опомнитесь, заблудшие, смягчитеся, жестокосердые; разрушите оковы братии вашей, отверзите темницу неволи и дайте подобным вам вкусити сладости общежития, к нему же всещедрым уготованы, яко же и вы. Они благодетельными лучами солнца равно с вами наслаждаются, одинаковые с вами у них члены и чувства, и право в употреблении оных должно быть одинаково.
Но если служители божества представили взорам вашим неправоту порабощения в отношении человека, за долг наш вменяем мы показать вам вред оной в обществе и неправильность оного в отношении гражданина. Излишне, казалось бы, при возникшем столь уже давно духе любомудрия изыскивать или поновлять доводы о существенном человеков, а потому и граждан, равенстве. Возросшему под покровом свободы, исполненному чувствиями благородства, а не предрассуждениями, доказательства о первенственном равенстве суть движения его сердца обыкновенные. Но се несчастие смертного на земли: заблуждати среди света и не зрети того, что прямо взорам его предстоит.
В училищах, юным вам сущим, преподали вам основания права естественного и права гражданского. Право естественное показало вам человеков, мысленно вне общества, приявших одинаковое от природы сложение и потому имеющих одинаковые права, следственно, равных во всем между собою и единые другим не подвластных. Право гражданское показало вам человеков, променявших беспредельную свободу на мирное оныя употребление. Но если все они положили свободе своей предел и правило деяниям своим, то все равны от чрева матерня в природной свободе, равны должны быть и в ограничении оной. Следственно, и тут один другому не подвластен. Властитель первый в обществе есть закон; ибо он для всех один. Но какое было побуждение вступати в общество и полагати произвольные пределы деяниям? Рассудок скажет: собственное благо; сердце скажет: собственное благо, нерастленный закон гражданский скажет: собственное благо. Мы в обществе живем, уже многие степени усовершенствования протекшем, и потому запамятовали мы начальное оного положение. Но воззрите на все новые народы и на все общества естества, если так сказать можно. Во-первых, порабощение есть преступление; во-вторых, един злодей или неприятель испытует тягость неволи. Соблюдая сии понятия, познаем мы, колико удалилися мы от цели общественной, колико отстоим еще вершины блаженства общественного далеко. Все сказанное нами вам есть обычно, и правила таковые иссосали вы со млеком матерним. Един предрассудок мгновения, единая корысть (да не уязвитеся нашими изречениями), единая корысть отъемлет у нас взор и в темноте беснующим нас уподобляет.
Но кто между нами оковы носит, кто ощущает тяготу неволи? Земледелец! кормилец нашея тощеты, насытитель нашего глада, тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распоряжати ни тем, что обработывает, ни тем, что производит. Кто же к ниве ближайшее имеет право, буде не делатель ее? Представим себе мысленно мужей, пришедших в пустыню для сооружения общества. Помышляя о прокормлении своем, они делят поросшую злаком землю. Кто жребий на уделе получает? Не тот ли, кто ее вспахать возможет; не тот ли, кто силы и желание к тому имеет достаточные? Младенцу или старцу, расслабленному, немощному и нерадивому, удел в ниве будет бесполезен. Она пребудет в запустении, и ветр класов на ней не возвеет. Если она бесполезна делателю ее, то бесполезна и обществу; ибо избытка своего делатель обществу не отдаст, не имея нужного. Следственно, в начале общества тот, кто ниву обработать может, тот имел на владение ею право, и обработывающий ее пользуется ею исключительно. Но колико удалилися мы от первоначального общественного положения относительно владения! У нас тот, кто естественное имеет к оному право, не токмо от того исключен совершенно, но, работая ниву чуждую, зрит пропитание свое, зависящее от власти другого! Просвещенным вашим разумам истины сии не могут быть непонятны, но деяния ваши в исполнении сих истин препинаемы, сказали уже мы, предрассуждением и корыстию. Неужели сердца ваши, любовию человечества полные, предпочтут корысть чувствованиям, сердце услаждающим? Но какая в том корысть ваша? Может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частию в законе мертвы, назваться блаженным? Можно ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России? Ненасытец кровей один скажет, что он блажен, ибо не имеет понятия о лучшем состоянии.
Мы постараемся опровергнуть теперь сии зверские властителей правила, яко же их опровергали некогда предшественники наши деяниями своими неуспешно.
Блаженство гражданское в различных видах представиться может. Блаженно государство, говорят, если в нем царствует тишина и устройство. Блаженно кажется, когда нивы в нем не пустеют и во градех гордые воздымаются здания. Блаженно, называют его, когда далеко простирает власть оружия своего и властвует оно вне себя не токмо силою своею, но и словом своим над мнением других. Но все сии блаженства можно назвать внешними, мгновенными, преходящими, частными и мысленными.
Воззрим на предлежащую взорам нашим долину. Что видим мы? Пространный воинский стан. Царствует в нем тишина повсюду. Все ратники стоят в своем месте. Наивеличайший строй зрится в рядах их. Единое веление, единое руки мановение начальника движет весь стан и движет его стройно. Но можем ли назвать воинов блаженными? Превращенные точностию воинского повиновения в куклы, отъемлется у них даже движения воля, толико живым веществам свойственная. Они знают толико веление начальника, мыслят, что он хощет, и стремятся, куда направляет. Толико всесилен жезл над могущественнейшею силою государства. Совокупны, возмогут вся, но разделенны и на едине, пасутся, яко скоты, амо же пастырь пожелает. Устройство на счет свободы столь же противно блаженству нашему, как и самые узы. Сто невольников, пригвожденных ко скамьям корабля, веслами двигаемого в пути своем, живут в тишине и устройстве; но загляни в их сердце и душу. Терзание, скорбь, отчаяние. Желали бы они нередко променять жизнь на кончину; но и ту им оспоривают. Конец страдания их есть блаженство; а блаженство неволе не сродно, и потому они живы. И так да и не ослепимся внешним спокойствием государства и его устройством и для сих только причин да не почтем оное блаженным. Смотри всегда на сердца сограждан. Если в них найдешь спокойствие и мир, тогда сказать можешь воистину: се блаженны.
Европейцы, опустошив Америку, утучнив нивы ее кровию природных ее жителей, положили конец убийствам своим новою корыстию. Запустелые нивы сего обновленного сильными природы потрясениями полукружия почувствовали соху, недра их раздирающую. Злак, на тучных лугах выраставший и иссыхавший бесплодно, почувствовал былие свое острием косы подсекаемо. Валятся на горах гордые древеса, издревле вершины их осенявшие. Леса бесплодные и горные дебри претворяются в нивы плодоносные и покрываются стовидными произращениями, единой Америке свойственными или удачно в оную преселенными. Тучные луга потаптываются многочисленным скотом, на яству и работу человеком определяемым. Везде видна строящая рука делателя, везде кажется вид благосостояния и внешний знак устройства. Но кто же столь мощною рукою нудит скупую, ленивую природу давать плоды свои в толиком обилии? Заклав индейцев единовременно, злобствующие европейцы, проповедники миролюбия во имя бога истины, учители кротости и человеколюбия, к корени яростного убийства завоевателей прививают хладнокровное убийство порабощения приобретением невольников куплею. Сии-то несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенегала, отринутые своих домов и семейств, преселенные в неведомые им страны, под тяжким жезлом благоустройства вздирают обильные нивы Америки, трудов их гнушающейся. И мы страну опустошения назовем блаженною для того, что поля ее не поросли тернием и нивы их обилуют произращениями разновидными. Назовем блаженною страною, где сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысячи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза укрова. О, дабы опустети паки обильным сим странам! дабы терние и волчец, простирая корень свой глубоко, истребил все драгие Америки произведения! Вострепещите, о возлюбленные мои, да не скажут о вас: «премени имя, повесть о тебе вещает».
Мы дивимся и ныне еще огромности египетских зданий. Неуподобительные пирамиды чрез долгое время доказывать будут смелое в созидании египтян зодчество. Но для чего сии столь нелепые кучи камней были уготованы? На погребение надменных фараонов. Кичливые сии властители, жаждая бессмертия, и по кончине хотели отличествовати внешностию своею от народа своего. И так огромность зданий, бесполезных обществу, суть явные доказательства его порабощения. В остатках погибших градов, где общее блаженство некогда водворялось, обрящем развалины училищ, больниц, гостиниц, водоводов, позорищ и тому подобных зданий; во градах же, где известнее было «я», а не «мы», находим остатки великолепных царских чертогов, пространных конюшен, жилища зверей. Сравните то и другое: выбор наш не будет затруднителен.
Но что обретаем в самой славе завоевания? Звук, гремление, надутлость и истощение. Я таковую славу применю к шарам, в 18-м столетии изобретенным: из шелковой ткани сложенные, наполняются они мгновенно горючим воздухом и возлетают с быстротою звука до выспренних пределов эфира. Но то, что их составляло силу, источается из среды тончайшими скважинами непрестанно; тяжесть, горе́ вращавшаяся, приемлет естественный путь падения долу; и то, что месяцы целые сооружалося со трудом, тщанием и иждивением, едва часов несколько может веселить взоры зрителей.
Но вопроси, чего жаждет завоеватель, чего он ищет, опустошая страны населенные или покоряя пустыни своей державе? Ответ получим мы от яростнейшего из всех, от Александра, Великим названного, – но велик поистине не в делах своих, но в силах душевных и разорениях. «О афиняне! – вещал он, – колико стоит мне быть хвалиму вами». Несмысленной! воззри на шествие твое. Крутой вихрь твоего полета, преносяся чрез твою область, затаскивает в вертение свое жителей ее и, влача силу государства во своем стремлении, за собою оставляет пустыню и мертвое пространство. Не рассуждаешь ты, о ярый вепрь, что, опустошая землю свою победою, в завоеванной ничего не обрящешь, тебя услаждающего. Если приобрел пустыню, то она соделается могилою для твоих сограждан, в коей они сокрыватися будут; населяя новую пустыню, превратишь страну обильную в бесплодную. Какая же прибыль, что из пустыни соделал селитьбы, если другие населения тем сделал пустыми? Если же приобрел населенную страну, то исчисли убийства твои и ужаснися. Искоренить долженствуешь ты все сердца, тебя в громоносности твоей возненавидевшие; не мни убо, что любити можно, его же бояться нудятся. По истреблении мужественных граждан останутся и будут подвластны тебе робкие души, рабства иго восприяти готовые; но и в них ненависть к подавляющей твоей победе укоренится глубоко. Плод твоего завоевания будет, – не льсти себе, – убийство и ненависть. Мучитель пребудешь на памяти потомков; казниться будешь, ведая, что мерзят тебя новые рабы твои и от тебя кончины твоея просят.
Но, нисходя к ближайшим о состоянии земледелателей понятиям, колико вредным его находим мы для общества. Вредно оно в размножении произрастений и народа, вредно примером своим и опасно в неспокойствии своем. Человек, в начинаниях своих двигаемый корыстию, предприемлет то, что ему служить может на пользу, ближайшую или дальную, и удаляется того, в чем он не обретает пользы, ближайшей или дальновидной. Следуя сему естественному побуждению, все начинаемое для себя, все, что делаем без принуждения, делаем с прилежанием, рачением, хорошо. Напротив того, все то, на что несвободно подвизаемся, все то, что не для своей совершаем пользы, делаем оплошно, лениво, косо и криво. Таковых находим мы земледелателей в государстве нашем. Нива у них чуждая, плод оныя им не принадлежит. И для того обработывают ее лениво, и не радеют о том, не запустеет ли среди делания. Сравни сию ниву с данною надменным владельцем на тощее прокормление делателю. Не жалеет сей о трудах своих, ее ради предпринимаемых. Ничто не отвлекает его от делания. Жестокость времени он одолевает бодрственно; часы, на упокоение определенные, проводит в трудах; во дни, на веселие определенные, оного чуждается. Зане рачит о себе, работает для себя, делает про себя. И так нива его даст ему плод сугубый; и так все плоды трудов земледелателей мертвеют или паче не возрождаются, они же родились бы и были живы на насыщение граждан, если бы делание нив было рачительно, если бы было свободно.
Но если принужденная работа дает меньше плода, то не достигающие своея цели земные произведения толико же препятствуют размножению народа. Где есть нечего, там, хотя бы и было кому есть, не будет; умрут от истощения. Тако нива рабства, неполный давая плод, мертвит граждан, им же определены были природою избытки ее. Но сим ли одним препятствуется в рабстве многоплодие? К недостатку прокормления и одежд присовокупили работу до изнеможения. Умножь оскорбления надменности и уязвления силы, даже в любезнейших человека чувствованиях; тогда с ужасом узришь возникшее губительство неволи, которое тем только различествует от побед и завоеваний, что не дает тому родиться, что победа посекает. Но от нее вреда больше. Легко всяк усмотрит, что одна опустошает случайно, мгновенно; другая губит долговременно и всегда; одна, когда прейдет полет ее, скончаевает свое свирепство; другая там только начнется, где сия кончится, и премениться не может, разве опасным всегда потрясением всея внутренности.
Но нет ничего вреднее, как всегдашнее на предметы рабства воззрение. С одной стороны родится надменность, а с другой – робость. Тут никакой не может быть связи, разве насилие. И сие, собираяся в малую среду, властнодержавное свое действие простирает всюду тяжко. Но поборники неволи, власть и острие в руках имеющие, – сами ключимые во узах наияростнейшие оныя бывают проповедники. Кажется, что дух свободы толико в рабах иссякает, что не токмо не желают скончать своего страдания, но тягостно им зрети, что другие свободствуют. Оковы свои возлюбляют, если возможно человеку любити свою пагубу. Мне мнится в них зрети змию, совершившую падение первого человека. – Примеры властвования суть заразительны. Мы сами, признаться должно, мы, ополченные палицею мужества и природы на сокрушение стоглавного чудовища, иссосающего пищу общественную, уготованную на прокормление граждан, мы поползнулися, может быть, на действия самовластия, и хотя намерения наши были всегда благия и к блаженству целого стремились, но поступок наш державный полезностию своею оправдаться не может. И так ныне молим вас отпущения нашего неумышленного дерзновения.
Но ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим свободы мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувствование. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем. Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение колико яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут ему вослед и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз.
Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится гор́е постепенно, и опасность уже вращается над главами нашими. Уже время, вознесши косу, ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникши на пробуждение несчастных, ускорит его мах. Блюдитеся.
Но если ужас гибели и опасность потрясения стяжаний подвигнуть может слабого из вас, неужели не будем мы толико мужественны в побеждении наших предрассуждений, в попрании нашего корыстолюбия и не освободим братию нашу из оков рабства и не восстановим природное всех равенство? Ведая сердец ваших расположение, приятнее им убедиться доводами, в человеческом сердце почерпнутыми, нежели в исчислениях корыстолюбивого благоразумия, а менее еще в опасности. Идите, возлюбленные мои, идите в жилища братии вашей, возвестите о премене их жребия. Вещайте с ощущением сердечным: подвигнутые на жалость вашею участию, соболезнуя о подобных нам, дознав ваше равенство с нами и убежденные общею пользою, пришли мы, да лобзаем братию нашу. Оставили мы гордое различие, нас толико времени от вас отделявшее, забыли мы существовавшее между нами неравенство, восторжествуем ныне о победе нашей, и сей день, в он же сокрушаются оковы сограждан нам любезных, да будет знаменитейший в летописях наших. Забудьте наше прежнее злодейство на вас, и да возлюбим друг друга искренне. Се будет глагол ваш, се слышится он уже во внутренности сердец ваших. Не медлите, возлюбленные мои. Время летит; дни наши преходят в недействии. Да не скончаем жизни нашея, возымев только мысль благую и не возмогши ее исполнить. Да не воспользуется тем потомство наше, да не пожнет венца нашего и с презрением о нас да не скажет: они были.
Вот что я прочел в замаранной грязию бумаге, которую поднял я перед почтовою избою, вылезая из кибитки моей.
Вошед в избу, я спрашивал, кто были проезжие незадолго передо мною. – Последний из проезжающих, – говорил мне почталион, – был человек лет пятидесяти; едет по подорожной в Петербург. Он у нас забыл связку бумаг, которую я теперь за ним вслед посылаю. – Я попросил почталиона, чтобы он дал мне сии бумаги посмотреть, и, развернув их, узнал, что найденная мною к ним же принадлежала. Уговорил я его, чтобы он бумаги сии отдал мне, дав ему за то награждение. Рассматривая их, узнал, что они принадлежали искреннему моему другу, а потому не почел я их приобретение кражею. Он их от меня доселе не требовал, а оставил мне на волю, что я из них сделать захочу.
Между тем как лошадей моих перепрягали, я любопытствовал, рассматривая доставшиеся мне бумаги. Множество нашел я подобных той, которую читал. Везде я обретал расположения человеколюбивого сердца, везде видел гражданина будущих времен. Более всего видно было, что друг мой поражен был несоразмерностию гражданских чиносостояний. Целая связка бумаг и начертаний законоположений относилася к уничтожению рабства в России. Но друг мой, ведая, что высшая власть недостаточна в силах своих на претворение мнений мгновенно, начертал путь повременным законоположениям к постепенному освобождению земледельцев в России. Я здесь покажу шествие его мыслей. Первое положение относится к разделению сельского рабства и рабства домашнего. Сие последнее уничтожается прежде всего, и запрещается поселян и всех, по деревням в ревизии написанных, брать в домы. Буде помещик возьмет земледельца в дом свой для услуг или работы, то земледелец становится свободен. Дозволить крестьянам вступать в супружество, не требуя на то согласия своего господина. Запретить брать выводные деньги. Второе положение относится к собственности и защите земледельцев. Удел в земле, ими обработываемой, должны они иметь собственностию; ибо платят сами подушную подать. Приобретенное крестьянином имение ему принадлежать долженствует; никто его оного да не лишит самопроизвольно. Восстановление земледельца во звание гражданина. Надлежит ему судиму быть ему равными, то есть в расправах, в кои выбирать и из помещичьих крестьян. Дозволить крестьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю. Дозволить невозбранное приобретение вольности, платя господину за отпускную известную сумму. Запретить произвольное наказание без суда. – Исчезни варварское обыкновение, разрушься власть тигров! – вещает нам законодатель… За сим следует совершенное уничтожение рабства.
Между многими постановлениями, относящимися к восстановлению по возможности равенства во гражданах, нашел я табель о рангах. Сколь она была некстати нынешним временам и оным несоразмерна, всяк сам может вообразить. Но теперь дуга коренной лошади звенит уже в колокольчик и зовет меня к отъезду; и для того я за благо положил лучше рассуждать о том, что выгоднее для едущего на почте, чтобы лошади шли рысью или иноходью, или что выгоднее для почтовой клячи, быть иноходцем или скакуном – нежели заниматься тем, что не существует.
Вышний Волочок
Никогда не проезжал я сего нового города, чтобы не посмотреть здешних шлюзов. Первый, которому на мысль пришло уподобиться природе в ее благодеяниях и сделать реку рукодельною, дабы все концы единыя области в вящее привести сообщение, достоин памятника для дальнейшего потомства. Когда нынешние державы от естественных и нравственных причин распадутся, позлащенные нивы их порастут тернием и в развалинах великолепных чертогов гордых их правителей скрываться будут ужи, змеи и жабы, любопытный путешественник обрящет глаголющие остатки величия их в торговле. Римляне строили большие дороги, водоводы, коих прочности и ныне по справедливости удивляются; но о водяных сообщениях, каковые есть в Европе, они не имели понятия. Дороги, каковые у римлян бывали, наши не будут никогда; препятствует тому наша долгая зима и сильные морозы, а каналы и без обделки не скоро заровняются.
Немало увеселительным было для меня зрелищем вышневолоцкий канал, наполненный барками, хлебом и другим товаром нагруженными и приуготовляющимися к прохождению сквозь шлюз для дальнейшего плавания до Петербурга. Тут видно было истинное земли изобилие и избытки земледелателя; тут явен был во всем своем блеске мощный побудитель человеческих деяний – корыстолюбие. Но если при первом взгляде разум мой усладился видом благосостояния, при раздроблении мыслей скоро увяло мое радование. Ибо воспомянул, что в России многие земледелатели не для себя работают; и так изобилие земли во многих краях России доказывает отягченный жребий ее жителей. Удовольствие мое переменилося в равное негодование с тем, какое ощущаю, ходя в летнее время по таможенной пристани, взирая на корабли, привозящие к нам избытки Америки и драгие ее произращения, как-то: сахар, кофе, краски и другие, не осушившиеся еще от пота, слез и крови, их омывших при их возделании.
– Вообрази себе, – говорил мне некогда мой друг, – что кофе, налитый в твоей чашке, и сахар, распущенный в оном, лишали покоя тебе подобного человека, что они были причиною превосходящих его силы трудов, причиною его слез, стенаний, казни и поругания; дерзай, жестокосердой, усладить гортань твою. – Вид прещения, сопутствовавший сему изречению, поколебнул меня до внутренности. Рука моя задрожала, и кофе пролился.
А вы, о жители Петербурга, питающиеся избытками изобильных краев отечества вашего, при великолепных пиршествах, или на дружеском пиру, или наедине, когда рука ваша вознесет первый кусок хлеба, определенный на ваше насыщение, остановитеся и помыслите. Не то же ли я вам могу сказать о нем, что друг мой говорил мне о произведениях Америки? Не потом ли, не слезами ли и стенанием утучнялися нивы, на которых оный возрос? Блаженны, если кусок хлеба, вами алкаемый, извлечен из класов, родившихся на ниве, казенною называемой, или по крайней мере на ниве, оброк помещику своему платящей. Но горе вам, если раствор его составлен из зерна, лежавшего в житнице дворянской. На нем почили скорбь и отчаяние; на нем знаменовалося проклятие всевышнего, егда во гневе своем рек: проклята земля в делах своих. Блюдитеся, да не отравлены будете вожделенною вами пищею. Горькая слеза нищего тяжко на ней возлегает. Отрините ее от уст ваших; поститеся, се истинное и полезное может быть пощение.
Повествование о некотором помещике докажет, что человек корысти ради своей забывает человечество в подобных ему и что за примером жестокосердия не имеем нужды ходить в дальние страны, ни чудес искать за тридевять земель; в нашем царстве они в очью совершаются.
Некто, не нашед в службе, как то по просторечию называют, счастия или не желая оного в ней снискать, удалился из столицы, приобрел небольшую деревню, например во сто или в двести душ, определил себя искать прибытка в земледелии. Не сам он себя определял в сохе, но вознамерился наидействительнейшим образом всевозможное сделать употребление естественных сил своих крестьян, прилагая оные к обработыванию земли. Способом к сему надежнейшим почел он уподобить крестьян своих орудиям, ни воли, ни побуждения не имеющим; и уподобил их действительно в некотором отношении нынешнего века воинам, управляемым грудою, устремляющимся на бой грудою, а в единственности ничего не значущим. Для достижения своея цели он отнял у них малый удел пашни и сенных покосов, которые им на необходимое пропитание дают обыкновенно дворяне, яко в воздаяние за все принужденные работы, которые они от крестьян требуют. Словом, сей дворянин некто всех крестьян, жен их и детей заставил во все дни года работать на себя. А дабы они не умирали с голоду, то выдавал он им определенное количество хлеба, под именем месячины известное. Те, которые не имели семейств, месячины не получали, а по обыкновению лакедемонян пировали вместе на господском дворе, употребляя для соблюдения желудка в мясоед пустые шти, а в посты и постные дни хлеб с квасом. Истинные розговины бывали разве на святой неделе.
Таковым урядникам производилася также приличная и соразмерная их состоянию одежда. Обувь для зимы, то есть лапти, делали они сами; онучи получали от господина своего; а летом ходили босы. Следственно, у таковых узников не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволение держать их господин у них не отымал, но способы к тому. Кто был позажиточнее, кто был умереннее в пище, тот держал несколько птиц, которых господин иногда бирал себе, платя за них цену по своей воле.
При таковом заведении неудивительно, что земледелие в деревне г. некто было в цветущем состоянии. Когда у всех худой был урожай, у него родился хлеб сам-четверт; когда у других хороший был урожай, то у него приходил хлеб сам-десять и более. В недолгом времени к двумстам душам он еще купил двести жертв своему корыстолюбию; и поступая с сими равно, как и с первыми, год от году умножал свое имение, усугубляя число стенящих на его нивах. Теперь он считает их уже тысячами и славится как знаменитый земледелец.
Варвар! недостоин ты носить имя гражданина. Какая польза государству, что несколько тысяч четвертей в год более родится хлеба, если те, кои его производят, считаются наравне с волом, определенным тяжкую вздирати борозду? Или блаженство граждан в том почитаем, чтоб полны были хлеба наши житницы, а желудки пусты? Чтобы один благословлял правительство, а не тысящи? Богатство сего кровопийца ему не принадлежит. Оно нажито грабежом и заслуживает строгого в законе наказания. И суть люди, которые, взирая на утучненные нивы сего палача, ставят его в пример усовершенствования в земледелии. И вы хотите называться мягкосердыми, и вы носите имена попечителей о благе общем. Вместо вашего поощрения к таковому насилию, которое вы источником государственного богатства почитаете, прострите на сего общественного злодея ваше человеколюбивое мщение. Сокрушите орудия его земледелия, сожгите его риги, овины, житницы и развейте пепл по нивам, на них же совершалося его мучительство, ознаменуйте его яко общественного татя, дабы всяк, его видя, не только его гнушался, но убегал бы его приближения, дабы не заразиться его примером.
Выдропуск
Здесь я опять принялся за бумаги моего друга. В руки мне попалося начертание положения о уничтожении придворных чинов.
Проект в будущем
Вводя нарушенное в обществе естественное и гражданское равенство постепенно паки, предки наши не последним способом почли к тому умаление прав дворянства. Полезно государству в начале своем личными своими заслугами, ослабело оно в подвигах своих наследственностию, и, сладкий при насаждении, его корень произнес наконец плод горький. На месте мужества водворилася надменность и самолюбие, на месте благородства души и щедроты посеялися раболепие и самонедоверение, истинные скряги на великое. Жительствуя среди столь тесных душ и подвигаемые на милости ласкательством наследственных достоинств и заслуг, многие государи возмнили, что они суть боги и вся, его же коснутся, блаженно сотворят и пресветло. Тако и быть долженствует в деяниях наших, но токмо на пользу общую. В таковой дремоте величания власти возмечтали цари, что рабы их и прислужники, ежечасно предстоя взорам их, заимствуют их светозарности; что блеск царский, преломляяся, так сказать, в сих новых отсветках, многочисленнее является и с сильнейшим отражением. На таковой блуждения мысли воздвигли цари придворных истуканов, кои, истинные феатральные божки, повинуются свистку или трещотке. Пройдем степени придворных чинов и с улыбкою сожаления отвратим взоры наши от кичащихся служением своим; но возрыдаем, видя их предпочитаемых заслуге. Дворецкой мой, конюший и даже конюх и кучер, повар, крайчий, птицелов с подчиненными ему охотниками, горничные мои прислужники, тот, кто меня бреет, тот, кто чешет власы главы моея, тот, кто пыль и грязь отирает с обуви моей, о многих других не упоминая, равняются или председают служащим отечеству силами своими душевными и телесными, не щадя ради отечества ни здравия своего, ни крови, возлюбляя даже смерть ради славы государства. Какая вам в том польза, что в доме моем господствуют чистота и опрятность? Сытее ли вы накормитеся, буде кушанье мое лучше вашего приготовлено и в сосудах моих лиется вино изо всех концов вселенныя? Укроетеся ли в шествии вашем от неприязненности погоды, буде колесница моя позлащенна и кони мои тучны? Лучший ли даст нива вам плод, луга ваши больше ли позеленеют, буде потопчутся на ловитве зверей в мое увеселение? Вы улыбнетеся с чувствованием жалости. Но нередкий в справедливом негодовании своем скажет нам: тот, кто рачит о устройстве твоих чертогов, тот, кто их нагревает, тот, кто огненную пряность полуденных растений сочетает с хладною вязкостию северных туков для услаждения расслабленного твоего желудка и оцепенелого твоего вкуса; тот, кто воспеняет в сосуде твоем сладкий сок африканского винограда; тот, кто умащает окружие твоей колесницы, кормит и напояет коней твоих; тот, кто во имя твое кровавую битву ведет со зверями дубравными и птицами небесными, – все сии тунеядцы, все сии лелеятели, как и многие другие, твоея надменности высятся надо мною: над источившим потоки кровей на ратном поле, над потерявшим нужнейшие члены тела моего, защищая грады твои и чертоги, в них же сокрытая твоя робость завесою величавости мужеством казалася; над провождающим дни веселий, юности и утех во сбережении малейшия полушки, да облегчится, елико то возможно, общее бремя налогов; над не рачившим о имении своем, трудяся деннонощно в снискании средств к достижению блаженств общественных; над попирающим родством, приязнь, союз сердца и крови, вещая правду на суде во имя твое, да возлюблен будеши. Власы белеют в подвигах наших, силы истощеваются в подъемлемых нами трудах, и при воскраии гроба едва возмогаем удостоиться твоего благоволения; а сии упитанные тельцы сосцами нежности и пороков, сии незаконные сыны отечества наследят в стяжании нашем.
Тако и более еще по справедливости возглаголют от вас многие. Что дадим мы, владыки сил, в ответ? Прикроем бесчувствием уничижение наше, и видится воспаленна ярость в очах наших на вещающих сице. Таковы бывают нередко ответы наши вещаниям истины. И никто да не дивится сему, когда наилучший между нами дерзает таковая: он живет с ласкателями, беседует с ласкателями, спит в лести, хождает в лести. И лесть и ласкательство соделают его глуха, слепа и неосязательна.
Но да не падет на нас таковая укоризна. С младенчества нашего возненавидев ласкательство, мы соблюли сердце наше от ядовитой его сладости, даже до сего дня; и ныне новый опыт в любви нашей к вам и преданности явен да будет. Мы уничтожаем ныне сравнение царедворского служения с военным и гражданским. Истребися на памяти обыкновение, во стыд наш толико лет существовавшее. Истинные заслуги и достоинства, рачение о пользе общей да получают награду в трудах своих и едины да отличаются.
Сложив с сердца нашего столь несносное бремя, долговременно нас теснившее, мы явим вам наши побуждения на уничтожение толь оскорбительных для заслуги и достоинства чинов. Вещают вам, и предки наши тех же были мыслей, что царский престол, коего сила во мнении граждан коренится, отличествовати долженствует внешним блеском, дабы мнение о его величестве было всегда всецело и ненарушимо. Оттуда пышная внешность властителей народов, оттуда стадо рабов, их окружающих. Согласиться всяк должен, что тесные умы и малые души внешность поражать может. Но чем народ просвещеннее, то есть чем более особенников в просвещении, тем внешность менее действовать может. Нума мог грубых еще римлян уверить, что нимфа Егерия наставляла его в его законоположениях. Слабые перуанцы охотно верили Манко Капаку, что он сын солнца и что закон его с небеси истекает. Магомет мог прельстить скитающихся аравитян своими бреднями. Все они употребляли внешность, даже Моисей принял скрыжали заповедей на горе среди блеску молнии. Но ныне, буде кто прельстити восхощет, не блистательная нужна ему внешность, но внешность доводов, если так сказать можно, внешность убеждений. Кто бы восхотел ныне послание свое утвердить свыше, тот употребит более наружность полезности, и тою все тронутся. Мы же, устремляя все силы наши на пользу всех и каждого, почто нам блеск внешности? не полезностию ли наших постановлений, ко благу государства текущею, облистает наше лицо? Всяк, взирающий на нас, узрит наше благомыслие, узрит в подвиге нашем свою пользу и того ради нам поклонится не яко во ужасе шествующему, но седящему во благости. Если бы древние персы управлялися всегда щедротою, не бы возмечтали быти Ариману или ненавистному началу зла. Но если пышная внешность нам бесполезна, колико вредны в государстве быть могут ее оберегатели. Единственною должностию во служении своем имея угождение нам, колико изыскательны будут они во всем том, что нам нравиться может. Желание наше будет предупреждено; но не токмо желанию не допустят возродиться в нас, но даже и мысли, зане готово уже ей удовлетворение. Воззрите со ужасом на действие таковых угождений. Наитвердейшая душа во правилах своих позыбнется, приклонит ухо ласкательному сладкопению, уснет. И се сладостные чары обыдут разум и сердце. Горесть и обида чуждые едва покажутся нам преходящими недугами; скорбети о них почтем или неприличным, или же противным и воспретим даже жаловатися о них. Язвительнейшие скорби и раны и самая смерть покажутся нам необходимыми действиями течения вещей, и являяся нам позади непрозрачныя завесы, едва возмогут ли в нас произвести то мгновенное движение, какое производят в нас феатральные представления. Зане стрела болезни и жало зла не в нас дрожит вонзенное.
Се слабая картина всех пагубных следствий пышного царей действия. Не блаженны ли мы, если возмогли укрыться от возмущения благонамерений наших? Не блаженны ли, если и заразе примера положили преграду? Надежны в благосердии нашем, надежны не в разврате со вне, надежны во умеренности наших желаний, возблагоденствуем снова и будем примером позднейшему потомству, како власть со свободою сочетать должно на взаимную пользу.
Торжок
Здесь, на почтовом дворе, встречен я был человеком, отправляющимся в Петербург на скитание прошения. Сие состояло в снискании дозволения завести в сем городе свободное книгопечатание. Я ему говорил, что на сие дозволения не нужно, ибо свобода на то дана всем. Но он хотел свободы в ценсуре, и вот его о том размышлении.
– Типографии у нас всем иметь дозволено, и время то прошло, в которое боялися поступаться оным дозволением частным людям; и для того, что в вольных типографиях ложные могут печатаны быть пропуски, удерживались от общего добра и полезного установления. Теперь свободно иметь всякому орудия печатания, но то, что печатать можно, состоит под опекою. Ценсура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного. Но где есть няньки, то следует, что есть ребята, ходят на помочах, от чего нередко бывают кривые ноги; где есть опекуны, следует, что есть малолетные, незрелые разумы, которые собою править не могут. Если же всегда пребудут няньки и опекуны, то ребенок долго ходить будет на помочах и совершенный на возрасте будет каляка. Недоросль будет всегда Митрофанушка, без дядьки не ступит, без опекуна не может править своим наследием. Таковы бывают везде следствия обыкновенной ценсуры, и чем она строже, тем следствия ее пагубнее. Послушаем Гердера.
«Наилучший способ поощрять доброе есть непрепятствие, дозволение, свобода в помышлениях. Розыск вреден в царстве науки: он сгущает воздух и запирает дыхание. Книга, проходящая десять ценсур прежде, нежели достигнет света, не есть книга, но поделка святой инквизиции; часто изуродованной, сеченной батожьем, с кляпом во рту узник, а раб всегда. В областях истины, в царстве мысли и духа не может никакая земная власть давать решений и не должна; не может того правительство, менее еще его ценсор, в клобуке ли он или с темляком. В царстве истины он не судия, но ответчик, как и сочинитель. Исправление может только совершиться просвещением; без главы и мозга не шевельнется ни рука, ни нога… Чем государство основательнее в своих правилах, чем стройнее, светлее и тверже оно само в себе, тем менее может оно позыбнуться и стрястися от дуновения каждого мнения, от каждой насмешки разъяренного писателя; тем более благоволит оно в свободе мыслей и в свободе писаний, а от нее под конец прибыль, конечно, будет истине. Губители бывают подозрительны; тайные злодеи робки. Явной муж, творяй правду и твердый в правилах своих, допустит о себе глагол всякий. Хождает он во дни и на пользу себе строит клевету своих злодеев. Откупы в помышлениях вредны… Правитель государства да будет беспристрастен во мнениях, дабы мог объяти мнения всех и оные в государстве своем дозволять, просвещать и наклонять к общему добру: оттого-то истинно великие государи столь редки».
Правительство, дознав полезность книгопечатания, оное дозволило всем; но, паче еще дознав, что запрещение в мыслях утщетит благое намерение вольности книгопечатания, поручило ценсуру или присмотр за изданиями управе благочиния. Долг же ее в отношении сего может быть только тот, чтобы воспрещать продажу язвительных сочинений. Но и сия ценсура есть лишняя. Один несмысленный урядник благочиния может величайший в просвещении сделать вред и на многие лета остановку в шествии разума; запретит полезное изобретение, новую мысль и всех лишит великого. Пример в малости. В управу благочиния принесен для утверждения перевод романа. Переводчик, следуя автору, говоря о любви, назвал ее лукавым богом. Мундирный ценсор, исполненный духа благоговения, сие выражение почернил, говоря: «неприлично божество называть лукавым». Кто чего не разумеет, тот в то да не мешается. Если хочешь благорастворенного воздуха, удали от себя коптильню; если хочешь света, удали затмевание; если хочешь, чтобы дитя не было застенчиво, то выгони лозу из училища. В доме, где плети и бато– жье в моде, там служители пьяницы, воры и того еще хуже.[4]
Пускай печатают все, кому что на ум ни взойдет. Кто себя в печати найдет обиженным, тому да дастся суд по форме. Я говорю не смехом. Слова не всегда суть деяния, размышлении же не преступлении. Се правила Наказа о новом уложении. Но брань на словах и в печати всегда брань. В законе никого бранить не велено, и всякому свобода есть жаловаться. Но если кто про кого скажет правду, бранью ли то почитать, того в законе нет. Какой вред может быть, если книги в печати будут без клейма полицейского? Не токмо не может быть вреда, но польза; польза от первого до последнего, от малого до великого, от царя до последнейшего гражданина.
Обыкновенные правила ценсуры суть: почеркивать, марать, не дозволять, драть, жечь все то, что противно естественной религии и откровению, все то, что противно правлению, всякая личность, противное благонравию, устройству и тишине общей. Рассмотрим сие подробно. Если безумец в мечтании своем не токмо в сердце, но громким гласом речет: «несть бога», в устах всех безумных раздается громкое и поспешное эхо: «несть бога, несть бога». Но что ж из того? Эхо – звук; ударит в воздух, позыбнет его и исчезнет. На разуме редко оставит черту, и то слабую; на сердце же никогда. Бог всегда пребудет бог, ощущаем и неверующим в него. Но если думаешь, что хулением всевышний оскорбится, – урядник ли благочиния может быть за него истец? Всесильный звонящему в трещотку или биющему в набат доверия не даст. Возгнушается метатель грома и молнии, ему же все стихии повинуются, возгнушается колеблющий сердца из-за пределов вселенныя дать мстити за себя и самому царю, мечтающему быти его на земли преемником. – Кто ж может быть судиею в обиде отца предвечного? – Тот его обижает, кто мнит: возможет судити о его обиде. Тот даст ответ пред ним.
Отступники откровенной религии более доселе в России делали вреда, нежели непризнаватели бытия божия, афеисты. Таковых у нас мало; ибо мало у нас еще думают о метафизике. Афеист заблуждает в метафизике, а раскольник в трех пальцах. Раскольниками называем мы всех россиян, отступающих в чем-либо от общего учения греческия церкви. Их в России много, и для того служение им дозволяется. Но для чего не дозволять всякому заблуждению быть явному? Явнее оно будет, скорее сокрушится. Гонения делали мучеников; жестокость была подпорою самого христианского закона. Действия расколов суть иногда вредны. Воспрети их. Проповедуются они примером. Уничтожь пример. От печатной книги раскольник не бросится в огонь, но от ухищренного примера. Запрещать дурачество есть то же, что его поощрять. Дай ему волю; всяк увидит, что глупо и что умно. Что запрещено, того и хочется. Мы все Евины дети.
Но, запрещая вольное книгопечатание, робкие правительства не богохуления боятся, но боятся сами иметь порицателей. Кто в часы безумия не щадит бога, тот в часы памяти и рассудка не пощадит незаконной власти. Не бояйся громов всесильного смеется виселице. Для того-то вольность мыслей правительствам страшна. До внутренности потрясений вольнодумец прострет дерзкую, но мощную и незыбкую руку к истукану власти, сорвет ее личину и покров и обнажит ее состав. Всяк узрит бренные его ноги, всяк возвратит к себе данную им ему подпору, сила возвратится к источнику, истукан падет. Но если власть не на тумане мнений восседает, если престол ее на искренности и истинной любви общего блага возник, – не утвердится ли паче, когда основание его будет явно; не возлюбится ли любящий искренно? Взаимность есть чувствование природы, и стремление сие почило в естестве. Прочному и твердому зданию довольно его собственного основания; в опорах и контрфорсах ему нужды нет. Если позыбнется оно от ветхости, тогда только побочные тверди ему нужны. Правительство да будет истинно, вожди его нелицемерны; тогда все плевелы, тогда все изблевания смрадность свою возвратят на извергателя их; а истина пребудет всегда чиста и беловидна. Кто возмущает словом (да назовем так в угодность власти все твердые размышления, на истине основанные, власти противные), есть такой же безумец, как и хулу глаголяй на бога. Буде власть шествует стезею, ей назначенной, то не возмутится от пустого звука клеветы, яко же господь сил не тревожится хулением. Но горе ей, если в жадности своей ломит правду. Тогда и едина мысль твердости ее тревожит, глагол истины ее сокрушит, деяние мужества ее развеет.
Личность, но язвительная личность, есть обида. Личность в истине столь же дозволительна, как и самая истина. Если ослепленный судия судит в неправду и защитник невинности издаст в свет его коварный приговор, если он покажет его ухищрение и неправду, то будет сие личность, но дозволенная; если он его назовет судиею наемным, ложным, глупым – есть личность, но дозволить можно. Если же называть его станет именованиями смрадными и бранными словами поносить, как то на рынках употребительно, то сие есть личность, но язвительная и недозволенная. Но не правительства дело вступаться за судию, хотя бы он поносился и в правом деле. Не судия да будет в том истец, но оскорбленное лицо. Судия же пред светом и пред поставившим его судиею да оправдится едиными делами[5]. Тако должествует судить о личности. Она наказания достойна, но в печатании более пользы устроит, а вреда мало. Когда все будет в порядке, когда решения всегда будут в законе, когда закон основан будет на истине и заклеплется удручение, тогда разве, тогда личность может сделать разврат. Скажем нечто о благонравии и сколько слова ему вредят.
Сочинения любострастные, наполненные похотливыми начертаниями, дышащие развратом, коего все листы и строки стрекательною наготою зияют, вредны для юношей и незрелых чувств. Распламеняя воспаленное воображение, тревожа спящие чувства и возбуждая покоящееся сердце, безвременную наводят возмужалость, обманывая юные чувства в твердости их и заготовляя им дряхлость. Таковые сочинения могут быть вредны; но не они разврату корень. Если, читая их, юноши пристрастятся к крайнему услаждению любовной страсти, то не могли бы того произвести в действие, не бы были торгующие своею красотою. В России таковых сочинений в печати еще нет, а на каждой улице в обеих столицах видим раскрашенных любовниц. Действие более развратит, нежели слово, и пример паче всего. Скитающиеся любовницы, отдающие сердца свои с публичного торга наддателю, тысячу юношей заразят язвою и все будущее потомство тысящи сея; но книга не давала еще болезни. И так ценсура да останется на торговых девок, до произведений же, развратного хотя разума, ей дела нет.
Заключу сим: ценсура печатаемого принадлежит обществу, оно дает сочинителю венец или употребит листы на обвертки. Равно как одобрение феатральному сочинению дает публика, а не директор феатра, так и выпускаемому в мир сочинению ценсор ни славы не даст, ни бесславия. Завеса поднялась, взоры всех устремились к действованию; нравится – плещут; не нравится – стучат и свищут. Оставь глупое на волю суждения общего; оно тысящу найдет ценсоров. Наистрожайшая полиция не возможет так запретить дряни мыслей, как негодующая на нее публика. Один раз им воньмут, потом умрут они и не воскреснут вовеки. Но если мы признали бесполезность ценсуры или паче ее вред в царстве науки, то познаем обширную и беспредельную пользу вольности печатания.
Доказательства сему, кажется, не нужны. Если свободно всякому мыслить и мысли свои объявлять всем беспрекословно, то естественно, что все, что будет придумано, изобретено, то будет известно; великое будет велико, истина не затмится. Не дерзнут правители народов удалиться от стези правды и убоятся, ибо пути их, злость и ухищрение обнажатся. Вострепещет судия, подписывая неправедный приговор, и его раздерет. Устыдится власть имеющий употреблять ее на удовлетворение только своих прихотей. Тайный грабеж назовется грабежом, прикрытое убийство – убийством. Убоятся все злые строгого взора истины. Спокойствие будет действительное, ибо заквасу в нем не будет. Ныне поверхность только гладка, но ил, на дне лежащий, мутится и тмит прозрачность вод.
Прощаяся со мною, порицатель ценсуры дал мне небольшую тетрадку. Если, читатель, ты нескучлив, то читай, что перед тобою лежит. Если же бы случилось, что ты сам принадлежишь к ценсурному комитету, то загни лист и скачи мимо.
Краткое повествование о происхождении ценсуры
Если мы скажем и утвердим ясными доводами, что ценсура с инквизициею принадлежат к одному корню; что учредители инквизиции изобрели ценсуру, то есть рассмотрение приказное книг до издания их в свет, то мы хотя ничего не скажем нового, но из мрака протекших времен извлечем, вдобавок многим другим, ясное доказательство, что священнослужители были всегда изобретатели оков, которыми отягчался в разные времена разум человеческий, что они подстригали ему крылие, да не обратит полет свой к величию и свободе.
Проходя протекшие времена и столетия, мы везде обретаем терзающие черты власти, везде зрим силу, возникающую на истину, иногда суеверие, ополчающееся на суеверие. Народ афинский, священнослужителями возбужденный, писания Протагоровы запретил, велел все списки оных собрать и сжечь. Не он ли в безумии своем предал смерти, на неизгладимое вовеки себе поношение, вочеловеченную истину – Сократа? В Риме находим мы больше примеров такого свирепствования. Тит Ливий повествует, что найденные во гробе Нумы писания были сожжены повелением сената. В разные времена случалося, что книги гадательные велено было относить к претору. Светоний повествует, что кесарь Август таковых книг велел сжечь до двух тысяч. Еще пример несообразности человеческого разума! Неужели, запрещая суеверные писания, властители сии думали, что суеверие истребится? Каждому в особенности своей воспрещали прибегнуть к гаданию, совершаемому нередко на обуздание токмо мгновенное грызущей скорби, оставляли явные и государственные гадания авгуров и аруспициев. Но если бы во дни просвещения возмнили книги, учащие гаданию или суеверие проповедующие, запрещать или жечь, не смешно ли бы было, чтобы истина приняла жезл гонения на суеверие? чтоб истина искала на поражение заблуждения опоры власти и меча, когда вид ее один есть наижесточайший бич на заблуждение?
Но кесарь Август не на гадания одни простер свои гонения, он велел сжечь книги Тита Лабиения. «Злодеи его, – говорит Сенека ритор, – изобрели для него сие нового рода наказание. Неслыханное дело и необычайное – казнь извлекать из учения. Но, по счастию государства, сие разумное свирепствование изобретено после Цицерона. Что быть бы могло, если бы троеначальники за благо положили осудить разум Цицерона?» Но мучитель скоро отмстил за Лабиения тому, кто исходатайствовал сожжение его сочинений. При жизни своей видел он, что и его сочинения преданы были огню[6]. «Не злому какому примеру тут следовано, – говорит Сенека, – его собственному»[7]. Даждь небо, чтобы зло всегда обращалося на изобретателя его и чтобы воздвигший гонение на мысль зрел всегда свои осмеянными, в поругании и на истребление осужденными! Если мщение когда-либо извинительно быть может, то разве сие.
Во времена народного правления в Риме гонения такового рода обращалися только на суеверие, но при императорах простерлося оно на все твердые мысли. Кремуций Корд в истории своей назвал Кассия, дерзнувшего осмеять мучительство Августово на Лабиениевы сочинения, последним римлянином. Римский сенат, ползая пред Тиверием, велел во угождение ему Кремуциеву книгу сжечь. Но многие с оной осталися списки. «Тем паче, – говорит Тацит, – смеяться можно над попечением тех, кои мечтают, что всемогуществом своим могут истребить воспоминовение следующего поколения. Хотя власть бешенствует на казнь рассудка, но свирепствованием своим себе устроила стыд и посрамление, им славу».
Не избавилися сожжения книги иудейские при Антиохе Епифане, царе Сирском. Равной с ними подвержены были участи сочинения христиан. Император Диоклитиан книги священного писания велел предать сожжению. Но христианский закон, одержав победу над мучительством, покорил самих мучителей и ныне остается во свидетельство неложное, что гонение на мысли и мнения не токмо не в силах оные истребить, но укореняет их и распространяет. Арнобий справедливо восстает противу такового гонения и мучительства. «Иные вещают, – говорит он, – полезно для государства, чтобы сенат истребить велел писания, в доказательство христианского исповедания служащие, которые важность опровергают древния религии. Но запрещать писания и обнародованное хотеть истребить не есть защищать богов, но бояться истины свидетельствования». Но по распространении христианского исповедания священнослужители оного толико же стали злобны против писаний, которые были им противны и не в пользу. Недавно порицали строгость сию в язычниках, недавно почитали ее знаком недоверения к тому, что защищали, но скоро сами ополчилися всемогуществом. Греческие императоры, занимаяся более церковными прениями, нежели делами государственными, а потому управляемые священниками, воздвигли гонение на всех тех, кто деяния и учения Иисусовы понимал с ними различно. Таковое гонение распростерлося и на произведение рассудка и разума. Уже мучитель Константин, Великим названный, следуя решению Никейского собора, предавшему Ариево учение проклятию, запретил его книги, осудил их на сожжение, а того, кто оные книги иметь будет, – на смерть. Император Феодосий II проклятые книги Нестория велел все собрать и предать огню. На Халкидонском соборе то же положено о писаниях Евтихия. В Пандектах Юстиниановых сохранены некоторые таковые решения. Несмысленные! не ведали, что, истребляя превратное или глупое истолкование христианского учения и запрещая разуму трудитися в исследовании каких-либо мнений, они остановляли его шествие; у истины отнимали сильную опору, различие мнений, прения и невозбранное мыслей своих изречение. Кто может за то поручиться, что Несторий, Арий, Евтихий и другие еретики быть бы могли предшественниками Лутера и, если бы вселенские соборы не были созваны, что бы Декарт родиться мог десять столетий прежде? Какой шаг вспять сделан ко тьме и невежеству!
По разрушении Римския империи монахи в Европе были хранители учености и науки. Но никто у них не оспоривал свободы писать, что они желали. В 768 году Амвросий Оперт, монах бенедиктинский, посылая толкование свое на Апокалипсис к папе Стефану III и прося дозволения о продолжении своего труда и о издании его в свет, говорит, что он первый из писателей просит такового дозволения. «Но да не исчезнет, – продолжает он, – свобода в писании для того, что уничижение поклонилося непринужденно». Собор Санский в 1140 году осудил мнения Абелардовы, а папа сочинения его велел сжечь.
Но ни в Греции, ни в Риме, нигде примера не находим, чтобы избран был судия мысли, чтобы кто дерзнул сказать: у меня просите дозволения, если уста ваши отверзать хотите на велеречие; у нас клеймится разум, науки и просвещение, и все, что без нашего клейма явится в свет, объявляем заранее глупым, мерзким, негодным. Таковое постыдное изобретение предоставлено было христианскому священству, и ценсура была современна инквизиции.
Нередко, проходя историю, находим разум суеверию, изобретения наиполезнейшие современниками грубейшему невежеству. В то время как боязливое недоверие к вещи утверждаемой побудило монахов учредить ценсуру и мысль истреблять в ее рождении, в то самое время дерзал Колумб в неизвестность морей на искание Америки; Кеплер предузнавал бытие притяжательной в природе силы, Ньютоном доказанной; в то же время родился начертавший в пространстве путь небесным телесам Коперник. Но к вящему сожалению о жребии человеческого умствования скажем, что мысль великая рождала иногда невежество. Книгопечатание родило ценсуру; разум философский в XVIII столетии произвел иллуминатов.
В 1479 году находим древнейшее доселе известное дозволение на печатание книги. На конце книги под заглавием: «Знай сам себя», печатанной в 1480 году, присоединено следующее: «Мы, Матфей Жирардо, божиим милосердием патриарх Венецианский, первенствующий в Далматии, по прочтении вышеписанных господ, свидетельствующих о вышеписанном творении, и по таковому же оного заключению и присоединенному доверению так же свидетельствуем, что книга сия православна и богобоязлива». Древнейший монумент ценсуры, но не древнейший безумия!
Древнейшее о ценсуре узаконение, доселе известное, находим в 1486 году, изданное в самом том городе, где изобретено книгопечатание. Предузнавали монашеские правления, что оно будет орудием сокрушения их власти, что оно ускорит развержение общего рассудка, и могущество, на мнении, а не на пользе общей основанное, в книгопечатании обрящет свою кончину. Да позволят нам здесь присовокупить памятник, ныне еще существующий на пагубу мысли и на посрамление просвещения.
Указ о неиздании книг греческих, латинских и пр. на народном языке без предварительного ученых удостоения 1486 года.[8]
«Бертольд, божиею милостию святыя Майнцкия епархии архиепископ, в Германии архиканцлер и курфирст. Хотя для приобретения человеческого учения чрез божественное печатания искусство возможно с изобилием и свободнее получать книги, до разных наук касающиеся, но до сведения нашего дошло, что некоторые люди, побуждаемые суетныя славы или богатства желанием, искусство сие употребляют во зло и данное для научения в житии человеческом обращают на пагубу и злоречие.
Мы видели книги, до священных должностей и обрядов исповедания нашего касающиеся, переведенные с латинского на немецкий язык и неблагопристойно для святого закона в руках простого народа обращающиеся; что ж сказать наконец о предписаниях святых правил и законоположений; хотя они людьми искусными в законоучении, людьми мудрейшими и красноречивейшими писаны разумно и тщательно, но наука сама по себе толико затруднительна, что красноречивейшего и ученейшего человека едва на оную достаточна целая жизнь.
Некоторые глупые, дерзновенные и невежды попускаются переводить на общий язык таковые книги. Многие ученые люди, читая переводы сии, признаются, что ради великой несвойственности и худого употребления слов они непонятнее подлинников. Что же скажем о сочинениях, до других наук касающихся, в которые часто вмешивают ложное, надписывают ложными названиями и тем паче славнейшим писателям приписывают свои вымыслы, чем более находится покупщиков.
Да вещают таковые переводчики, если возлюбляют истину, с каким бы намерением то ни делали, с добрым или худым, до того нет нужды; да вещают, немецкий язык удобен ли к преложению на оной того, что греческие и латинские изящные писатели о вышних размышлениях христианского исповедания и о науках писали точнейше и разумнейше? Признаться надлежит, скудости ради своей, язык наш на сказанное недостаточен весьма, и нужно для того, чтобы они неизвестные имена вещам в мозгу своем сооружали; или, если употребят древние, то испортят истинный смысл, чего наипаче опасаемся в писаниях священных в рассуждении их важности. Ибо грубым и неученым людям и женскому полу, в руки которых попадутся книги священные, кто покажет истинный смысл? Рассмотри святого Евангелия строки или Послания апостола Павла, всяк разумный признается, что много в них прибавлений и исправлений писцовых.
Сказанное нами довольно известно. Что же помыслим о том, что в писаниях кафолическия церкви находится зависящее от строжайшего рассмотрения? Многое в пример поставить можем, но для сего намерения довольно уже нами сказанного.
Понеже начало сего искусства в славном нашем граде Майнце, скажем истинным словом, божественно явилося и ныне в оном исправленно и обогащенно пребывает, то справедливо, чтобы мы в защиту нашу приняли важность сего искусства. Ибо должность наша есть сохранять святые писания в нерастленной непорочности. Сказав таким образом о заблуждениях и о продерзостях людей наглых и злодеев, желая, елико нам возможно, пособием господним, о котором дело здесь, предупредить и наложить узду всем и каждому, церковным и светским нашей области подданным и вне пределов оныя торгующим, какого бы они звания и состояния ни были, – сим каждому повелеваем, чтобы никакое сочинение, в какой бы науке, художестве или знании ни было, с греческого, латинского или другого языка переводимо не было на немецкий язык или уже переведенное, с переменою токмо заглавия или чего другого, не было раздаваемо или продаваемо явно или скрытно, прямо или посторонним образом, если до печатания или после печатания до издания в свет не будет иметь отверстого дозволения на печатание или издание в свет от любезных нам светлейших и благородных докторов и магистров университетских, а именно: во граде нашем Майнце – от Иоганна Бертрама де Наумбурха в касающемся до богословии, от Александра Дидриха в законоучении, от Феодорика де Мешедя во врачебной науке, от Андрея Елера во словесности, избранных для сего в городе нашем Ерфурте докторов и магистров. В городе же Франкфурте, если таковые на продажу изданные книги не будут смотрены и утверждены почтенным и нам любезным одним богословия магистром и одним или двумя докторами и лиценциатами, которые от думы оного города на годовом жалованье содержимы быть имеют.
Если кто сие наше попечительное постановление презрит или против такового нашего указа подаст совет, помощь или благоприятство своим лицом или посторонним, – тем самым подвергает себя осуждению на проклятие, да сверх того лишен быть имеет тех книг и заплатит сто золотых гульденов пени в казну нашу. И сего решения никто без особого повеления да нарушить не дерзает. Дано в замке С. Мартына, во граде нашем Майнце, с приложением печати нашей. Месяца януария, в четвертый день 1486 года».
Его же о предыдущем, каким образом отправлять ценсуру: «Лета 1486 Бертольд и пр. Почтеннейшим, ученейшим и любезнейшим нам во Христе И. Бертраму богословия, А. Дидриху законоучения, Ф. де Мешеде врачевания докторам и А. Елеру словесности магистру здравие и к нижеписанному прилежание.
Известившись о соблазнах и подлогах, от некоторых в науках переводчиков и книгопечатников происшедших, и желая оным предварить и заградить путь по возможности, повелеваем, да никто в епархии и области нашей не дерзает переводить книги на немецкий язык, печатать или печатные раздавать, доколе таковые сочинения или книги в городе нашем Майнце не будут рассмотрены вами и касательно до самой вещи, доколе не будут в переводе и для продажи вами утверждены, согласно с вышеобъявленным указом.
Надеяся твердо на ваше благоразумие и осторожность, мы вам поручаем: когда назначаемые к переводу, печатанию или продаже сочинения или книги к вам принесены будут, то вы рассмотрите их содержание, и если нелегко можно дать им истинный смысл или могут возродить заблуждения и соблазны или оскорбить целомудрие, то оные отвергните; те, которые вы отпустите свободными, имеете вы подписать своеручно, а именно на конце двое от вас, дабы тем виднее было, что те книги вами смотрены и утверждены. Богу нашему и государству любезную и полезную должность отправляйте. Дан в замке С. Мартына. 10 януария 1486 года».
Рассматривая сие новое по тогдашнему времени законоположение, находим, что оно клонилося более на запрещение, чтобы мало было книг печатано на немецком языке или, другими словами, чтобы народ пребывал всегда в невежестве. На сочинения, на латинском языке писанные, ценсура, кажется, не распространялася. Ибо те, которые были сведущи в языке латинском, казалось, были уже ограждены от заблуждения, ему неприступны и, что читали, понимали ясно и некриво[9]. И так священники хотели, чтобы одни причастники их власти были просвещенны, чтобы народ науку почитал божественного происхождения, превыше его понятия и не смел бы оныя коснуться. И так изобретенное на заключение истины и просвещения в теснейшие пределы, изобретенное недоверяющею властию ко своему могуществу, изобретенное на продолжение невежества и мрака, ныне во дни наук и любомудрия, когда разум отряс несродные ему пути суеверия, когда истина блистает столично паче и паче, когда источник учения протекает до дальнейших отраслей общества, когда старания правительств стремятся на истребление заблуждений и на отверстие беспреткновенных путей рассудку к истине, – постыдное монашеское изобретение трепещущей власти принято ныне повсеместно, укоренено и благою приемлется преградою блуждению. Неистовые! осмотритесь, вы стяжаете превратностию дать истине опору, вы заблуждением хотите просвещать народы. Блюдитеся убо, да не возродится тьма. Какая вам польза, что властвовати будете над невеждами, тем паче загрубелыми, что не от недостатка пособий к просвещению невежды пребыли в невежестве природы или паче в естественной простоте, но, сделав уже шаг к просвещению, остановлены в шествии и обращены вспять, во тьму гонимы? Какая в том вам польза боротися самим с собою и исторгать шуйцею, что десницею насадили? Воззрите на веселящееся о сем священство. Вы заранее уже ему служите. Прострите тьму и почувствуйте на себе оковы, – если не всегда оковы священного суеверия, то суеверия политического, не столь хотя смешного, но столь же пагубного.
По счастию, однако же, общества, что не изгнали из областей ваших книгопечатание. Яко древо, во всегдашней весне насажденное, не теряет своея зелености, тако орудия книгопечатания остановлены могут быть в действии, но не разрушены.
Папы, уразумев опасность их власти, от свободы печатания родиться могущей, не укоснили законоположить о ценсуре, и сие положение прияло силу общего закона на бывшем вскоре потом соборе в Риме. Священный Тиверий, папа Александр VI, первый из пап законоположил о ценсуре в 1501 году. Сам согбенный под всеми злодеяниями, не устыдился пещися о непорочности исповедания христианского. Но власть когда краснела! Буллу свою начинает он жалобою на диавола, который куколь сеет во пшенице, и говорит: «Узнав, что посредством сказанного искусства многие книги и сочинения, в разных частях света, наипаче в Кельне, Майнце, Триере, Магдебурге напечатанные, содержат в себе разные заблуждения, учения пагубные, христианскому закону враждебные, и ныне еще в некоторых местах печатаются, желая без отлагательства предварить сей ненавистной язве, всем и каждому сказанного искусства печатникам и к ним принадлежащим и всем, кто в печатном деле обращается в помянутых областях, под наказанием проклятия и денежныя пени, определяемой и взыскиваемой почтенными братиями нашими, Кельнским, Майнцким, Триерским и Магдебургским архиепископами или их наместниками в областях, их, в пользу апостольской камеры, апостольскою властию наистрожайше запрещаем, чтобы не дерзали книг, сочинений или писаний печатать или отдавать в печать без доклада вышесказанным архиепископам или наместникам и без их особливого и точного безденежно испрошенного дозволения; их же совесть обременяем, да прежде, нежели дадут таковое дозволение, назначенное к печатанию прилежно рассмотрят или чрез ученых и православных велят рассмотреть и да прилежно пекутся, чтобы не было печатано противного вере православной, безбожное и соблазн производящего». А дабы прежние книги не соделали более несчастий, то велено было рассмотреть все о книгах реестры и все печатные книги, а которые что-либо содержали противное кафолическому исповеданию, те сжечь.
О! вы, ценсуру учреждающие, воспомните, что можете сравниться с папою Александром VI, и устыдитеся.
В 1515 году Латеранский собор о ценсуре положил, чтобы никакая книга не была печатана без утверждения священства.
Из предыдущего видели мы, что ценсура изобретена священством и ему была единственно присвоена. Сопровождаемая проклятием и денежным взысканием, справедливо в тогдашнее время казаться могла ужасною нарушителю изданных о ней законоположений. Но опровержение Лутером власти папской, отделение разных исповеданий от римския церкви, прения различных властей в продолжение Тридесятилетней войны произвели много книг, которые явилися в свет без обыкновенного клейма ценсуры. Везде, однако же, духовенство присвояло себе право производить ценсуру над изданиями; и когда в 1650 году учреждена была во Франции ценсура гражданская, то богословский факультет Парижского университета новому установлению противуречил, ссылаяся, что двести лет он пользовался сим правом.
Скоро по введении[10] книгопечатания в Англии учреждена ценсура. Звездная палата, не меньше ужасная в свое время в Англии, как в Испании инквизиция или в России Тайная канцелярия, определила число печатников и печатных станов; учредила освобождателя, без дозволения которого ничего печатать не смели. Жестокости ее против писавших о правительстве несчетны, и история ее оными наполнена. Итак, если в Англии суеверие духовное не в силах было наложить на разум тяжкую узду ценсуры, возложена она суеверием политическим. Но то и другое пеклися, да власть будет всецела, да очи просвещения покрыты всегда пребудут туманом обаяния и да насилие царствует на счет рассудка.
Со смертию графа Страфорда рушилась Звездная палата; но ни уничтожение сего, ни судебная казнь Карла I не могли утвердить в Англии вольности книгопечатания. Долгий парламент возобновил прежние положения, против ее сделанные. При Карле II и при Якове I они паки возобновлены. Даже по совершении премены в 1692 году узаконение сие подтверждено, но на два только года. Скончавшись в 1694 году, вольность печатания утверждена в Англии совершенно, и ценсура, зевнув в последний раз, издохла.[11]
Американские правительства приняли свободу печатания между первейшими законоположениями, вольность гражданскую утверждающими. Пенсильванская область в основательном своем законоположении, в главе 1, в предложительном объявлении прав жителей пенсильванских, в 12 статье говорит: «Народ имеет право говорить, писать и обнародовать свои мнения; следовательно, свобода печатания никогда не долженствует быть затрудняема». В главе 2, о образе правления, в отделении 35: «Печатание да будет свободно для всех, кто хощет исследовать положения законодательного собрания или другой отрасли правления». В проекте о образе правления в Пенсильванском государстве, напечатанном, дабы жители оного могли сообщать свои примечания, в 1776 году в июле, отделение 35: «Свобода печатания отверста да будет всем, желающим исследовать законодательное правительство, и общее собрание да не коснется оныя никаким положением. Никакой книгопечатник да не потребуется к суду за то, что издал в свет примечания, цененея, наблюдения о поступках общего собрания, о разных частях правления, о делах общих или о поведении служащих, поколику оное касается до исполнения их должностей». Делаварское государство в объявлении изъяснительном прав, в 23 статье говорит: «Свобода печатания да сохраняема будет ненарушимо». Мариландское государство в 38 статье теми же словами объясняется. Виргинское в 14 статье говорит сими словами: «Свобода печатания есть наивеличайшая защита свободы государственной».
Книгопечатание до перемены 1789 года, во Франции последовавшей, нигде толико стесняемо не было, как в сем государстве. Стоглазный Арг, сторучный Бриарей, парижская полиция свирепствовала против писаний и писателей. В Бастильских темницах томилися несчастные, дерзнувшие охуждать хищность министров и их распутство. Если бы язык французский не был толико употребителен в Европе, не был бы всеобщим, то Франция, стеня под бичом ценсуры, не достигла бы до того величия в мыслях, какое явили многие ее писатели. Но общее употребление французского языка побудило завести в Голландии, Англии, Швейцарии и Немецкой земле книгопечатницы, и все, что явиться не дерзало во Франции, свободно обнародовано было в других местах. Тако сила, кичася своими мышцами, осмеяна была и не ужасна; тако свирепства пенящиеся челюсти праздны оставалися, и слово твердое ускользало от них непоглощенно.
Но дивись несообразности разума человеческого. Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безначалие дошли до края возможного, ценсура во Франции не уничтожена. И хотя все там печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали, – да восплачут французы о участи своей и с ними человечество! – мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафает был исполнителем сего приговора. О Франция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей.
Размножение книгопечатниц в Немецкой земле, сокрывая от власти орудия оных, отъемлет у нее возможность свирепствовать против рассудка и просвещения. Малые немецкие правления хотя вольности книгопечатания стараются положить преграду, но безуспешно. Векерлин хотя мстящею властию посажен был под стражу, но «Седое чудовище» осталося у всех в руках. Покойный Фридрих II, король прусской, в землях своих печатание сделал почти свободным. Не каким-либо законоположением, но дозволением токмо и образом своих мыслей. Чему дивиться, что он не уничтожил ценсуры; он был самодержец, коего любезнейшая страсть была всесилие. Но воздержись от смеха. – Он узнал, что указы, им изданные, некто намерен был, собрав, напечатать. Он и к оным приставил двух ценсоров или, правильнее сказать, браковщиков. О властвование! о всесилие! ты мышцам своим не доверяешь. Ты боишься собственного своего обвинения, боишься, чтобы язык твой тебя не посрамил, чтобы рука твоя тебя не заушила! – Но какое добро сии насильствованные ценсоры произвести могли? Не добро, но вред. Скрыли они от глаз потомства нелепое какое-либо законоположение, которое на суд будущий власть оставить стыдилась, которое, оставшися явным, было бы, может быть, уздою власти, да не дерзает на уродливое. Император Иосиф II рушил отчасти преграду просвещения, которая в Австрийских наследных владениях в царствование Марии-Терезии тяготила рассудок; но не мог он стрясти с себя бремени предрассуждений и предлинное издал о ценсуре наставление. Если должно его хвалить за то, что не возбранял опорочивать свои решения, находить в поведении его недостатки и таковые порицания издавать в печати, но похулим его за то, что на свободе в изъяснении мыслей он оставил узду. Сколь легко употребить можно оную во зло!..[12] Чему дивиться, скажем и теперь, как прежде: он был царь. Скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей, если не в царской?
В России… Что в России с ценсурою происходило, узнаете в другое время. А теперь, не производя ценсуры над почтовыми лошадьми, я поспешно отправился в путь.
Медное
«Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, ой люли, люли, люли, люли»… Хоровод молодых баб и девок – пляшут – подойдем поближе, – говорил я сам себе, развертывая найденные бумаги моего приятеля. Но я читал следующее. Не мог дойти до хоровода. Уши мои задернулись печалию, и радостный глас нехитростного веселия до сердца моего не проник. О мой друг! где бы ты ни был, внемли и суди.
Каждую неделю два раза вся Российская империя извещается, что Н. Н. или Б. Б. в несостоянии или не хочет платить того, что занял, или взял, или чего от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, пропито, про… или раздарено, потеряно в огне или воде, или Н. Н. или Б. Б. другими какими-либо случаями вошел в долг или под взыскание. То и другое наравне в ведомостях приемлется. Публикуется: «Сего… дня пополуночи в 10 часов, по определению уездного суда или городового магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г… недвижимое имение, дом, состоящий в… части, под №… и при нем шесть душ мужеского и женского полу; продажа будет при оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно».
На дешевое охотников всегда много. Наступил день и час продажи. Покупщики съезжаются. В зале, где оная производится, стоят неподвижны на продажу осужденные. Старик лет в 75, опершись на вязовой дубинке, жаждет угадать, кому судьба его отдаст в руки, кто закроет его глаза. С отцом господина своего он был в Крымском походе, при фельдмаршале Минихе; в Франкфуртскую баталию он раненого своего господина унес на плечах из строю. Возвратясь домой, был дядькою своего молодого барина. Во младенчестве он спас его от утопления, бросясь за ним в реку, куда сей упал, переезжая на пароме, и с опасностию своей жизни спас его. В юношестве выкупил его из тюрьмы, куда посажен был за долги в бытность свою в гвардии унтер-офицером. – Старуха 80 лет, жена его, была кормилицею матери своего молодого барина; его была нянькою и имела надзирание за домом до самого того часа, как выведена на сие торжище. Во все время службы своея ничего у господ своих не утратила, ничем не покорыстовалась, никогда не лгала, а если иногда им досадила, то разве своим праводушием. – Женщина лет в 40, вдова, кормилица молодого своего барина. И доднесь чувствует она еще к нему некоторую нежность. В жилах его льется ее кровь. Она ему вторая мать, и ей он более животом своим обязан, нежели своей природной матери. Сия зачала его в веселии, о младенчестве его не радела. Кормилица и нянька его были его воспитанницы. Они с ним расстаются, как с сыном. – Молодица 18 лет, дочь ее и внучка стариков. Зверь лютый, чудовище, изверг! Посмотри на нее, посмотри на румяные ее ланиты, на слезы, лиющиеся из ее прелестных очей. Не ты ли, не возмогши прельщением и обещаниями уловить ее невинности, ни устрашить ее непоколебимости угрозами и казнию, наконец употребил обман, обвенчав ее за спутника твоих мерзостей, и в виде его насладился веселием, которого она делить с тобой гнушалася. Она узнала обман твой. Венчанный с нею не коснулся более ее ложа, и ты, лишен став твоея утехи, употребил насилие. Четыре злодея, исполнители твоея воли, держа руки ее и ноги… но сего не окончаем. На челе ее скорбь, в глазах отчаяние. Она держит младенца, плачевный плод обмана или насилия, но живой слепок прелюбодейного его отца. Родив его, позабыла отцово зверство, и сердце начало чувствовать к нему нежность. Она боится, чтобы не попасть в руки ему подобного. – Младенец… Твой сын, варвар, твоя кровь. Иль думаешь, что где не было обряда церковного, тут нет и обязанности? Иль думаешь, что данное по приказанию твоему благословение наемным извещателем слова божия сочетование их утвердило, иль думаешь, что насильственное венчание во храме божием может назваться союзом? Всесильный мерзит принуждением, он услаждается желаниями сердечными. Они одни непорочны. О! колико между нами прелюбодейств и растлений совершается во имя отца радостей и утешителя скорбей, при его свидетелях, недостойных своего сана. – Детина лет в 25, венчанный ее муж, спутник и наперсник своего господина. Зверство и мщение в его глазах. Раскаивается о своих к господину своему угождениях. В кармане его нож; он его схватил крепко; мысль его отгадать нетрудно… Бесплодное рвение. Достанешься другому. Рука господина твоего, носящаяся над главою раба непрестанно, согнет выю твою на всякое угождение. Глад, стужа, зной, казнь – все будет против тебя. Твой разум чужд благородных мыслей. Ты умереть не умеешь. Ты склонишься и будешь раб духом, как и состоянием. А если бы восхотел противиться, умрешь в оковах темною смертию. Судии между вами нет. Не захочет мучитель твой сам тебя наказывать. Он будет твой обвинитель. Отдаст тебя градскому правосудию. – Правосудие! – где обвиняемый не имеет почти власти оправдаться. – Пройдем мимо других несчастных, выведенных на торжище.
Едва ужасоносный молот испустил тупой свой звук и четверо несчастных узнали свою участь, – слезы, рыдание, стон пронзили уши всего собрания. Наитвердейшие были тронуты. Окаменелые сердца! почто бесплодное соболезнование? О квакеры! если бы мы имели вашу душу, мы бы сложилися и, купив сих несчастных, даровали бы им свободу. Жив многие лета в объятиях один другого, несчастные сии к поносной продаже восчувствуют тоску разлуки. Но если закон иль, лучше сказать, обычай варварский, ибо в законе того не писано, дозволяет толикое человечеству посмеяние, какое право имеете продавать сего младенца? Он незаконнорожденный. Закон его освобождает. Постойте, я буду доноситель; я избавлю его. Если бы с ним мог спасти и других! О счастие! почто ты так обидело меня в твоем разделе? Днесь жажду вкусити прелестного твоего взора, впервые ощущать начинаю страсть к богатству. – Сердце мое столь было стеснено, что, выскочив из среды собрания и отдав несчастным последнюю гривну из кошелька, побежал вон. На лестнице встретился мне один чужестранец, мой друг. – Что тебе сделалось? ты плачешь! – Возвратись, – сказал я ему, – не будь свидетелем срамного позорища. Ты проклинал некогда обычай варварский в продаже черных невольников в отдаленных селениях твоего отечества; возвратись, – повторил я, – не будь свидетелем нашего затмения и да не возвестиши стыда нашего твоим согражданам, беседуя с ними о наших нравах. – Не могу сему я верить, – сказал мне мой друг, – невозможно, чтобы там, где мыслить и верить дозволяется всякому кто как хочет, столь постыдное существовало обыкновение. – Не дивись, – сказал я ему, – установление свободы в исповедании обидит одних попов и чернецов, да и те скорее пожелают приобрести себе овцу, нежели овцу во Христово стадо. Но свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения.
Тверь
– Стихотворство у нас, – говорил товарищ мой трактирного обеда, – в разных смыслах как оно приемлется, далеко еще отстоит величия. Поэзия было пробудилась, но ныне паки дремлет, а стихосложение шагнуло один раз и стало в пень.
Ломоносов, уразумев смешное в польском одеянии наших стихов, снял с них несродное им полукафтанье. Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул. По несчастию, случилося, что Сумароков в то же время был; и был отменный стихотворец. Он употреблял стихи по примеру Ломоносова, и ныне все вслед за ними не воображают, чтобы другие стихи быть могли, как ямбы, как такие, какими писали сии оба знаменитые мужи. Хотя оба сии стихотворцы преподавали правила других стихосложений, а Сумароков и во всех родах оставил примеры, но они столь маловажны, что ни от кого подражания не заслужили. Если бы Ломоносов преложил Иова или псалмопевца дактилями или если бы Сумароков «Семиру» или «Дмитрия» написал хореями, то и Херасков вздумал бы, что можно писать другими стихами опричь ямбов, и более бы славы в семилетнем своем приобрел труде, описав взятие Казани свойственным эпопеи стихосложением. Не дивлюсь, что древний треух на Виргилия надет ломоносовским покроем; но желал бы я, чтобы Омир между нами не в ямбах явился, но в стихах, подобных его, – ексаметрах, – и Костров, хотя не стихотворец, а переводчик, сделал бы эпоху в нашем стихосложении, ускорив шествие самой поэзии целым поколением.
Но не одни Ломоносов и Сумароков остановили российское стихосложение. Неутомимый возовик Тредиаковский немало к тому способствовал своею «Тилемахидою». Теперь дать пример нового стихосложения очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихосложении глубокий пустили корень. Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни задумал писать дактилями, тому тотчас Тредиаковского приставят дядькою, и прекраснейшее дитя долго казаться будет уродом, доколе не родится Мильтона, Шекеспира или Вольтера. Тогда и Тредиаковского выроют из поросшей мхом забвения могилы, в «Тилемахиде» найдутся добрые стихи и будут в пример поставляемы.
Долго благой перемене в стихосложении препятствовать будет привыкшее ухо ко краесловию. Слышав долгое время единогласное в стихах окончание, безрифмие покажется грубо, негладко и нестройно. Таково оно и будет, доколе французский язык будет в России больше других языков в употреблении. Чувства наши, как гибкое и молодое дерево, можно вырастить прямо и криво, по произволению. Сверх же того в стихотворении, так, как и во всех вещах, может господствовать мода, и если она хотя несколько имеет в себе естественного, то принята будет без прекословия. Но все модное мгновенно, а особливо в стихотворстве. Блеск наружный может заржаветь, но истинная красота не поблекнет никогда. Омир, Виргилий, Мильтон, Расин, Вольтер, Шекеспир, Тассо и многие другие читаны будут, доколе не истребится род человеческий.
Излишним почитаю я беседовать с вами о разных стихах, российскому языку свойственных. Что такое ямб, хорей, дактиль или анапест, всяк знает, если немного кто разумеет правила стихосложения. Но то бы было не излишнее, если бы я мог дать примеры в разных родах достаточные. Но силы мои и разумение коротки. Если совет мой может что-либо сделать, то я бы сказал, что российское стихотворство, да и сам российский язык гораздо обогатились бы, если бы переводы стихотворных сочинений делали не всегда ямбами. Гораздо бы эпической поэме свойственнее было, если бы перевод «Генриады» не был в ямбах, а ямбы некраесловные хуже прозы.
Все вышесказанное изрек пирной мой товарищ одним духом и с толикою поворотливостию языка, что я не успел ничего ему сказать на возражение, хотя много кой-чего имел на защищение ямбов и всех тех, которые ими писали.
– Я и сам, – продолжал он, – заразительному последовал примеру и сочинял стихи ямбами, но то были оды. Вот остаток одной из них, все прочие сгорели в огне; да и оставшуюся та же ожидает участь, как и сосестр ее постигшая. В Москве не хотели ее напечатать по двум причинам: первая, что смысл в стихах неясен и много стихов топорной работы, другая, что предмет стихов несвойствен нашей земле. Я еду теперь в Петербург просить о издании ее в свет, ласкаяся, яко нежный отец своего дитяти, что ради последней причины, для коей ее в Москве печатать не хотели, снисходительно воззрят на первую. Если вам не в тягость будет прочесть некоторые строфы, – сказал он мне, подавая бумагу. Я ее развернул и читал следующее: – Вольность… Ода… – За одно название отказали мне издание сих стихов. Но я очень помню, что в Наказе о сочинении нового уложения, говоря о вольности, сказано: «Вольностию называть должно то, что все одинаковым повинуются законам». Следственно, о вольности у нас говорить вместно.
1
О! дар небес благословенный, Источник всех великих дел; О вольность, вольность, дар бесценный! Позволь, чтоб раб тебя воспел. Исполни сердце твоим жаром, В нем сильных мышц твоих ударом Во свет рабства тьму претвори, Да Брут и Телль еще проснутся, Седяй во власти, да смятутся От гласа твоего цари.Сию строфу обвинили для двух причин; за стих «во свет рабства тьму претвори». Он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы Т и ради соития частого согласных букв, «бства тьму претв.», – на десять согласных три гласных, а на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на италианском… Согласен… хотя иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия… Но вот другой: «да смятутся от гласа твоего цари». Желать смятения царю есть то же, что желать ему зла; следовательно… Но я не хочу вам наскучить всеми примечаниями, на стихи мои сделанными. Многие, признаюсь, из них были справедливы. Позвольте, чтобы я вашим был чтецом.
2
Я в свет исшел, и ты со мною…Сию строфу пройдем мимо. Вот ее содержанье: Человек во всем от рождения свободен…
3
Но что ж претит моей свободе? Желаньям зрю везде предел; Возникла обща власть в народе, Соборный всех властей удел. Ей общество во всем послушно, Повсюду с ней единодушно. Для пользы общей нет препон. Во власти всех своей зрю долю, Свою творю, творя всех волю, — Вот что есть в обществе закон.4
В средине злачныя долины, Среди тягченных жатвой нив, Где нежны процветают крины, Средь мирных под сеньми олив, Паросска мармора белее, Яснейша дня лучей светлее Стоит прозрачный всюду храм. Там жертва лжива не курится, Там надпись пламенная зрится: «Конец невинности бедам».5
Оливной ветвию венчанно, На твердом камени седяй, Безжалостно и хладнонравно Глухое божество…………………и пр.; изображается закон в виде божества во храме, коего стражи суть истина и правосудие.
6
Возводит строгие зеницы, Льет радость, трепет вкруг себя; Равно на все взирает лицы, Ни ненавидя, ни любя. Он лести чужд, лицеприятства, Породы, знатности, богатства, Гнушаясь жертвенныя тли; Родства не знает, ни приязни, Равно делит и мзду, и казни; Он образ божий на земли.7
И се чудовище ужасно, Как гидра, сто имея глав, Умильно и в слезах всечасно, Но полны челюсти отрав, Земные власти попирает, Главою неба досязает. «Его отчизна там», – гласит; Призраки, тьму повсюду сеет, Обманывать и льстить умеет И слепо верить всем велит.8
Покрывши разум темнотою И всюду вея ползкий яд…Изображение священного суеверия, отъемлющего у человека чувствительность, влекущее его в ярем порабощения и заблуждения, во броню его облекшее:
Бояться истины велел…Власть называет оное изветом божества; рассудок – обманом.
9
Воззрим мы в области обширны, Где тусклый трон стоит рабства…В мире и тишине суеверие священное и политическое, подкрепляя друг друга,
Союзно общество гнетут. Одно сковать рассудок тщится, Другое волю стерть стремится; «На пользу общую», – рекут.10
Покоя рабского под сенью Плодов златых не возрастет; Где все ума претит стремленью, Великость там не прозябет.И все злые следствия рабства, как-то: беспечность, леность, коварство, голод и пр.
11
Чело надменное вознесши, Схватив железный скипетр, царь, На громком троне властно севши, В народе зрит лишь подлу тварь. Живот и смерть в руке имея: «По воле, – рек, – щажу злодея, Я властию могу дарить; Где я смеюсь, там все смеется; Нахмурюсь грозно – все смятется. Живешь тогда, велю коль жить».12
И мы внимаем хладнокровно… —как алчный змий, ругаяся всем, отравляет дни веселия и утех. Но хотя вокруг твоего престола все стоят преклонше колена, – трепещи, се мститель грядет, прорицая вольность…
13
Возникнет рать повсюду бранна, Надежда всех вооружит; В крови мучителя венчанна Омыть свой стыд уж всяк спешит. Меч остр, я зрю, везде сверкает; В различных видах смерть летает, Над гордою главой паря. Ликуйте, склепанны народы; Се право мщенное природы На плаху возвело царя.14
И нощи се завесу лживой Со треском мощно разодрав, Кичливой власти и строптивой Огромный истукан поправ, Сковав сторучна исполина, Влечет его, как гражданина, К престолу, где народ воссел: «Преступник власти, мною данной! Вещай, злодей, мною венчанный, Против меня восстать как смел?15
Тебя облек я во порфиру Равенство в обществе блюсти, Вдовицу призирать и сиру, От бед невинность чтоб спасти, Отцом ей быть чадолюбивым, Но мстителем непримиримым Пороку, лже и клевете; Заслуги честью награждати, Устройством зло предупреждати, Хранити нравы в чистоте.16
Покрыл я море кораблями…Дал способ к приобретению богатств и благоденствия. Желал я, чтобы земледелец не был пленник на своей ниве и тебя бы благословлял…
17
Своих кровей я без пощады Гремящую воздвигнул рать; Я медны изваял громады, Злодеев внешних чтоб карать. Тебе велел повиноваться, С тобою к славе устремляться. Для пользы всех мне можно все. Земные недра раздираю, Металл блестящий извлекаю На украшение твое.18
Но ты, забыв мне клятву данну, Забыв, что я избрал тебя Себе в утеху быть венчанну, Возмнил, что ты господь, не я; Мечом мои расторг уставы, Безгласными поверг все правы, Стыдиться истине велел, Расчистил мерзостям дорогу, Взывать стал не ко мне, но к богу, А мной гнушаться восхотел.19
Кровавым потом доставая Плод, кой я в пищу насадил, С тобою крохи разделяя, Своей натуги не щадил. Тебе сокровищей всех мало! На что ж, скажи, их недостало, Что рубище с меня сорвал? Дарить любимца, полна лести! Жену, чуждающуся чести! Иль злато богом ты признал?20
В отличность знак изобретенный Ты начал наглости дарить; В злодея меч мой изощренный Ты стал невинности сулить. Сгружденные полки в защиту На брань ведешь ли знамениту За человечество карать? В кровавых борешься долинах, Дабы, упившися в Афинах: „Ирой!“ – зевав, могли сказать.21
Злодей, злодеев всех лютейший…Ты все совокупил злодеяния и жало свое в меня устремил…
Умри! умри же ты стократ!» —Народ вещал…
22
Великий муж, коварства полный, Ханжа, и льстец, и святотать, Един ты в свет столь благотворный Пример великий мог подать. Я чту, Кромвель, в тебе злодея, Что, власть в руке своей имея, Ты твердь свободы сокрушил. Но научил ты в род и роды, Как могут мстить себя народы: Ты Карла на суде казнил…23
И се глас вольности раздается во все концы…
На вече весь течет народ; Престол чугунный разрушает, Самсон как древле сотрясает Исполненный коварств чертог; Законом строит твердь природы, Велик, велик ты, дух свободы, Зиждителен, как сам есть бог!24
В следующих одиннадцати строфах заключается описание царства свободы и действия ее, то есть сохранность, спокойствие, благоденствие, величие…
34
Но страсти, изощряя злобу…превращают спокойствие граждан в пагубу…
Отца на сына воздвигают, Союзы брачны раздирают,и все следствия безмерного желания властвовати…
35, 36, 37
Описание пагубных следствий роскоши. Междоусобии. Гражданская брань. Марий, Сулла, Август…
Тревожну вольность усыпил. Чугунный скиптр обвил цветами…Следствие того – порабощение…
38, 39
Таков есть закон природы: из мучительства рождается вольность, из вольности рабство…
40
На что сему дивиться? и человек родится на то, чтобы умереть…
Следующие 8 строф содержат прорицания о будущем жребии отечества, которое разделится на части, и тем скорее, чем будет пространнее. Но время еще не пришло. Когда же оно наступит, тогда
Встрещат заклепы тяжкой ночи.Упругая власть при издыхании приставит стражу к слову и соберет все свои силы, дабы последним махом раздавить возникающую вольность…
49
Но человечество возревет в оковах и, направляемое надеждою свободы и неистребимым природы правом, двинется… И власть приведена будет в трепет. Тогда всех сил сложение, тогда тяжелая власть
Развеется в одно мгновенье.О день, избраннейший всех дней!
50
Мне слышится уж глас природы, Начальный глас, глас божества.Мрачная твердь позыбнулась, и вольность воссияла.
– Вот и конец, – сказал мне новомодной стихотворец.
Я очень тому порадовался и хотел было ему сказать, может быть, неприятное на стихи его возражение, но колокольчик возвестил мне, что в дороге складнее поспешать на почтовых клячах, нежели карабкаться на Пегаса, когда он с норовом.
Городня
Въезжая в сию деревню, не стихотворческим пением слух мой был ударяем, но пронзающим сердца воплем жен, детей и старцев. Встав из моей кибитки, отпустил я ее к почтовому двору, любопытствуя узнать причину приметного на улице смятения.
Подошед к одной куче, узнал я, что рекрутской набор был причиною рыдания и слез многих толпящихся. Из многих селений казенных и помещичьих сошлися отправляемые на отдачу рекруты.
В одной толпе старуха лет пятидесяти, держа за голову двадцатилетнего парня, вопила: – Любезное мое дитетко, на кого ты меня покидаешь? Кому ты поручаешь дом родительской? Поля наши порастут травою, мохом – наша хижина. Я, бедная престарелая мать твоя, скитаться должна по миру. Кто согреет мою дряхлость от холода, кто укроет ее от зноя? Кто напоит меня и накормит? Да все то не столь сердцу тягостно: кто закроет мои очи при издыхании? Кто примет мое родительское благословение? Кто тело предаст общей нашей матери, сырой земле? Кто придет воспомянуть меня над могилою? Не канет на нее твоя горячая слеза; не будет мне отрады той.
Подле старухи стояла девка уже взрослая. Она так же вопила: – Прости, мой друг сердечной, прости, мое красное солнушко. Мне, твоей невесте нареченной, не будет больше утехи, ни веселья. Не позавидуют мне подруги мои. Не взойдет надо мною солнце для радости. Горевать ты меня покидаешь ни вдовою, ни мужнею женою. Хотя бы бесчеловечные наши старосты хоть дали бы нам обвенчатися; хотя бы ты, мой милой друг, хотя бы одну уснул ноченьку, уснул бы на белой моей груди. Авось ли бы бог меня помиловал и дал бы мне паренька на утешение.
Парень им говорил: – Перестаньте плакать, перестаньте рвать мое сердце. Зовет нас государь на службу. На меня пал жеребей. Воля божия. Кому не умирать, тот жив будет. Авось-либо я с полком к вам приду. Авось-либо дослужуся до чина. Не крушися, моя матушка родимая. Береги для меня Прасковьюшку. – Рекрута сего отдавали из экономического селения.
Совсем другого рода слова внял слух мой в близстоящей толпе. Среди оной я увидел человека лет тридцати, посредственного роста, стоящего бодро и весело на окрест стоящих взирающего.
– Услышал господь молитву мою, – вещал он. – Достигли слезы несчастного до утешителя всех. Теперь буду хотя знать, что жребий мой зависеть может от доброго или худого моего поведения. Доселе зависел он от своенравия женского. Одна мысль утешает, что без суда батожьем наказан не буду!
Узнав из речей его, что он господской был человек, любопытствовал от него узнать причину необыкновенного удовольствия. На вопрос мой о сем он ответствовал: – Если бы, государь мой, с одной стороны поставлена была виселица, а с другой глубокая река и, стоя между двух гибелей, неминуемо бы должно было идти направо или налево, в петлю или в воду, что избрали бы вы, чего бы заставил желать рассудок и чувствительность? Я думаю, да и всякой другой избрал бы броситься в реку, в надежде, что, преплыв на другой брег, опасность уже минется. Никто не согласился бы испытать, тверда ли петля, своей шеею. Таков мой был случай. Трудна солдатская жизнь, но лучше петли. Хорошо бы и то, когда бы тем и конец был, но умирать томною смертию, под батожьем, под кошками, в кандалах, в погребе, нагу, босу, алчущу, жаждущу, при всегдашнем поругании; государь мой, хотя холопей считаете вы своим имением, нередко хуже скотов, но, к несчастию их горчайшему, они чувствительности не лишены. Вам удивительно, вижу я, слышать таковые слова в устах крестьянина; но, слышав их, для чего не удивляетесь жестокосердию своей собратии, дворян?
И поистине не ожидал я сказанного от одетого в смурой кафтан, со бритым лбом. Но, желая удовлетворить моему любопытству, я просил его, чтобы он уведомил меня, как, будучи толь низкого состояния, он достиг понятий, недостающих нередко в людях, несвойственно называемых благородными.
– Если вы не поскучаете слышать моей повести, то я вам скажу, что я родился в рабстве; сын дядьки моего бывшего господина. Сколь восхищаюсь я, что не назовут уже меня Ванькою, ни поносительным именованием, ни позыва не сделают свистом. Старый мой барин, человек добросердечный, разумный и добродетельный, нередко рыдавший над участию своих рабов, хотел за долговременные заслуги отца моего отличить и меня, дав мне воспитание наравне с своим сыном. Различия между нами почти не было, разве только то, что он на кафтане носил сукно моего потоне. Чему учили молодого боярина, тому учили и меня, наставления нам во всем были одинаковы, и без хвастовства скажу, что во многом я лучше успел своего молодого господина.
– Ванюша, – говорил мне старой барин, – счастие твое зависит совсем от тебя. Ты более к учености и нравственности имеешь побуждений, нежели сын мой. Он по мне будет богат и нужды не узнает, а ты с рождения с нею познакомился. Итак, старайся быть достоин моего о тебе попечения. – На семнадцатом году возраста молодого моего барина отправлен был он и я в чужие краи с надзирателем, коему предписано было меня почитать сопутником, а не слугою. Отправляя меня, старой мой барин сказал мне: – Надеюся, что ты возвратишься к утешению моему и своих родителей. Раб ты в пределах сего государства, но вне оных ты свободен. Возвратясь же в оное, уз, рождением твоим на тебя наложенных, ты не обрящешь. – Мы отсутственны были пять лет и возвращалися в Россию; молодой мой барин в радости видеть своего родителя, а я, признаюсь, ласкаяся пользоваться сделанным мне обещанием. Сердце трепетало, вступая опять в пределы моего отечества. И поистине предчувствие его было не ложно. В Риге молодой мой господин получил известие о смерти своего отца. Он был оною тронут, я приведен в отчаяние. Ибо все мои старания приобрести дружбу и доверенность молодого моего барина всегда были тщетны. Он не только меня не любил, из зависти, может быть, тесным душам свойственной, но ненавидел.
Приметив мое смятение, известием о смерти его отца произведенное, он мне сказал, что сделанное мне обещание не позабудет, если я того буду достоин. В первый раз он осмелился мне сие сказать, ибо, получив свободу смертию своего отца, он в Риге же отпустил своего надзирателя, заплатив ему за труды его щедро. Справедливость надлежит отдать бывшему моему господину, что он много имеет хороших качеств, но робость духа и легкомыслие оные помрачают.
Чрез неделю после нашего в Москву приезда бывший мой господин влюбился в изрядную лицом девицу, но которая с красотою телесною соединяла скареднейшую душу и сердце жестокое и суровое. Воспитанная в надменности своего происхождения, отличностию почитала только внешность, знатность, богатство. Чрез два месяца она стала супруга моего барина и моя повелительница. До того времени я не чувствовал перемены в моем состоянии, жил в доме господина моего как его сотоварищ. Хотя он мне ничего не приказывал, но я предупреждал его иногда желания, чувствуя его власть и мою участь. Едва молодая госпожа переступила порог дому, в котором она определялася начальствовать, как я почувствовал тягость моего жребия. Первой вечер по свадьбе и следующий день, в которой я ей представлен был супругом ее как его сотоварищ, она занята была обыкновенными заботами нового супружества; но ввечеру, когда при довольно многолюдном собрании пришли все к столу и сели за первый ужин у новобрачных и я, по обыкновению моему, сел на моем месте на нижнем конце, то новая госпожа сказала довольно громко своему мужу: если он хочет, чтоб она сидела за столом с гостями, то бы холопей за оной не сажал. Он, взглянув на меня и движим уже ею, прислал ко мне сказать, чтобы я из-за стола вышел и ужинал бы в своей горнице. Вообразите, колико чувствительно мне было сие уничижение. Я, скрыв, однако же, исступающие из глаз моих слезы, удалился. На другой день не смел я показаться. Не наведываяся обо мне, принесли мне обед мой и ужин. То же было и в следующие дни. Чрез неделю после свадьбы в один день после обеда новая госпожа, осматривая дом и распределяя всем служителям должности и жилище, зашла в мои комнаты. Они для меня уготованы были старым моим барином. Меня не было дома. Не повторю того, что она говорила, будучи в оных, мне в посмеяние, но, возвратясь домой, мне сказали ее приказ, что мне отведен угол в нижнем этаже с холостыми официантами, где моя постеля, сундук с платьем и бельем уже поставлены; все прочее она оставила в прежних моих комнатах, в коих поместила своих девок.
Что в душе моей происходило, слыша сие, удобнее чувствовать, если кто может, нежели описать. Но дабы не занимать вас излишним, может быть, повествованием, госпожа моя, вступив в управление дома и не находя во мне способности к услуге, поверстала меня в лакеи и надела на меня ливрею. Малейшее мнимое упущение сея должности влекло за собою пощечины, батожье, кошки. О государь мой, лучше бы мне не родиться! Колико крат негодовал я на умершего моего благодетеля, что дал мне душу на чувствование. Лучше бы мне было возрасти в невежестве, не думав никогда, что есмь человек, всем другим равный. Давно бы, давно бы избавил себя ненавистной мне жизни, если бы не удерживало прещение вышнего над всеми судии. Я определил себя сносить жребий мой терпеливо. И сносил не токмо уязвления телесные, но те, коими она уязвляла мою душу. Но едва не преступил я своего обета и не отъял у себя томные остатки плачевного жития при случившемся новом души уязвлении.
Племянник моей барыни, молодец семнадцати лет, сержант гвардии, воспитанный во вкусе московских щегольков, влюбился в горнишную девку своей тетушки и, скоро овладев опытною ее горячностию, сделал ее матерью. Сколь он ни решителен был в своих любовных делах, но при сем происшествии несколько смутился. Ибо тетушка его, узнав о сем, запретила вход к себе своей горнишной, а племянника побранила слегка. По обыкновению милосердых господ, она намерилась наказать ту, которую жаловала прежде, выдав ее за конюха замуж. Но как все они были уже женаты, а беременной для славы дома надобен был муж, то хуже меня из всех служителей не нашла. И о сем госпожа моя в присутствии своего супруга мне возвестила яко отменную мне милость. Не мог я более терпеть поругания. – Бесчеловечная женщина! во власти твоей состоит меня мучить и уязвлять мое тело; говорите вы, что законы дают вам над нами сие право. Я и сему мало верю; но то твердо знаю, что вступать в брак никто принужден быть не может. – Слова мои произвели в ней зверское молчание. Обратясь потом к супругу ее: – Неблагодарный сын человеколюбивого родителя, забыл ты его завещание, забыл и свое изречение; но не доводи до отчаяния души, твоея благороднейшей, страшись! – Более сказать я не мог, ибо по повелению госпожи моей отведен был на конюшню и сечен нещадно кошками. На другой день едва я мог встать от побоев с постели; и паки приведен был пред госпожу мою. – Я тебе прощу, – говорила она, – твою вчерашнюю дерзость; женись на моей Маврушке, она тебя просит, и я, любя ее в самом ее преступлении, хочу это для нее сделать. – Мой ответ, – сказал я ей, – вы слышали вчера, другого не имею. Присовокуплю только то, что просить на вас буду начальство в принуждении меня к тому, к чему не имеете права. – «Ну, так пора в солдаты», – вскричала яростно моя госпожа… – Потерявший путешественник в страшной пустыне свою стезю меньше обрадуется, сыскав опять оную, нежели обрадован был я, услышав сии слова. – В солдаты, – повторила она, и на другой день то было исполнено. – Несмысленная! она думала, что так, как и поселянам, поступление в солдаты есть наказание. Мне было то отрада, и как скоро мне выбрили лоб, то я почувствовал, что я переродился. Силы мои обновилися. Разум и дух паки начали действовать. О! надежда, сладостное несчастному чувствие, пребуди во мне! – Слеза тяжкая, но не слеза горести и отчаяния исступила из очей его. – Я прижал его к сердцу моему. Лицо его новым озарилось веселием. – Не все еще исчезло; ты вооружаешь душу мою, – вещал он мне, – против скорби, дав чувствовать мне, что бедствие мое не бесконечно…
От сего несчастного я подошел к толпе, среди которой увидел трех скованных человек крепчайшими железами. – Удивления достойно, – сказал я сам себе, взирая на сих узников, – теперь унылы, томны, робки, не токмо не желают быть воинами, но нужна даже величайшая жестокость, дабы вместить их в сие состояние; но, обыкнув в сем тяжком во исполнении звании, становятся бодры, предприимчивы, гнушаяся даже прежнего своего состояния. Я спросил у одного близстоящего, которой по одежде своей приказным служителем быть казался: – Конечно, бояся их побегу, заключили их в толь тяжкие оковы? – Вы отгадали. Они принадлежали одному помещику, которому занадобилися деньги на новую карету, и для получения оной он продал их для отдачи в рекруты казенным крестьянам.
Я. Мой друг, ты ошибаешься, казенные крестьяне покупать не могут своей братии.
Он. Не продажею оно и делается. Господин сих несчастных, взяв по договору деньги, отпускает их на волю; они, будто по желанию, приписываются в государственные крестьяне к той волости, которая за них платила деньги, а волость по общему приговору отдает их в солдаты. Их везут теперь с отпускными для приписания в нашу волость.
Вольные люди, ничего не преступившие, в оковах, продаются как скоты! О законы! премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге! Не явное ли се вам посмеяние? Но паче еще того посмеяние священного имени вольности. О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровию нашею обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишенны. Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие. – С негодованием отошел я от толпы.
Но склепанные узники теперь вольны. Если бы хотя немного имели твердости, утщетили бы удручительные помыслы своих тиранов… Возвратимся… – Друзья мои, – сказал я пленникам в отечестве своем, – ведаете ли вы, что если вы сами не желаете вступить в воинское звание, никто к тому вас теперь принудить не может? – Перестань, барин, шутить над горькими людьми. И без твоей шутки больно было расставаться одному с дряхлым отцом, другому с малолетными сестрами, третьему с молодою женою. Мы знаем, что господин нас продал для отдачи в рекруты за тысячу рублей. – Если вы до сего времени не ведали, то ведайте, что в рекруты продавать людей запрещается; что крестьяне людей покупать не могут; что вам от барина дана отпускная и что вас покупщики ваши хотят приписать в свою волость будто по вашей воле. – О, если так, барин, то спасибо тебе; когда нас поставят в меру, то все скажем, что мы в солдаты не хотим и что мы вольные люди. – Прибавьте к тому, что вас продал ваш господин не в указное время и что отдают вас насильным образом[13]. Легко себе вообразить можно радость, распростершуюся на лицах сих несчастных. Вспрянув от своего места и бодро потрясая свои оковы, казалося, что испытывают свои силы, как бы их свергнуть. Но разговор сей ввел было меня в великие хлопоты: отдатчики рекрутские, вразумев моей речи, воспаленные гневом, прискочив ко мне, говорили: – Барин, не в свое мешаешься дело, отойди, пока сух, – и сопротивляющегося начали меня толкать столь сильно, что я с поспешностию принужден был удалиться от сея толпы.
Подходя к почтовому двору, нашел я еще собрание поселян, окружающих человека в разодранном сюртуке, несколько, казалося, пьяного, кривляющегося на предстоящих, которые, глядя на него, хохотали до слез. – Что тут за чудо? – спросил я у одного мальчика, – чему вы смеетеся? – А вот рекрут иноземец, по-русски не умеет пикнуть. – Из редких слов, им изреченных, узнал я, что он был француз. Любопытство мое паче возбудилося, и желал узнать, как иностранец мог отдаваем быть в рекруты крестьянами? Я спросил его на сродном ему языке: – Мой друг, какими судьбами ты здесь находишься?
Фран. Судьбе так захотелось; где хорошо, тут и жить должно.
Я. Да как ты попался в рекруты?
Фран. Я люблю воинскую жизнь, мне она уже известна, я сам захотел.
Я. Но как то случилося, что тебя отдают из деревни в рекруты? Из деревень берут в солдаты обыкновенно одних крестьян и русских, а ты, я вижу, не мужик и не русский.
Фран. А вот как. Я в Париже с ребячества учился перукмахерству. Выехал в Россию с одним господином. Чесал ему волосы в Петербурге целый год. Ему мне заплатить было нечем. Я, оставив его, не нашед места, чуть не умер с голоду. По счастию, мог попасть в матрозы на корабль, идущий под российским флагом. Прежде отправления в море приведен я к присяге как российский подданный и отправился в Любек. На море часто корабельщик бил меня линьком за то, что был ленив. По неосторожности моей упал с вантов на палубу и выломил себе три пальца, что меня навсегда сделало неспособным управлять гребнем. Приехав в Любек, попался прусским наборщикам и служил в разных полках. Нередко за леность и пьянство был бит палками. Заколов, будучи пьяной, своего товарища, ушел из Мемеля, где я находился в гарнизоне. Вспомнил, что я обязан в России присягою; и, яко верный сын отечества, отправился в Ригу с двумя талерами в кармане. Дорогою питался милостынею. В Риге счастие и искусство мое мне послужили; выиграл в шинке рублей с двадцать и, купив себе за десять изрядной кафтан, отправился лакеем с казанским купцом в Казань. Но, проезжая Москву, встретился на улице с двумя моими земляками, которые советовали мне оставить хозяина и искать в Москве учительского места. Я им сказал, что худо читать умею. Но они мне отвечали: – Ты говоришь по-французски, то и того довольно. – Хозяин мой не видал, как я на улице от него удалился, он продолжал путь свой, а я остался в Москве. Скоро мне земляки мои нашли учительское место за сто пятьдесят рублей, пуд сахару, пуд кофе, десять фунтов чаю в год, стол, слуга и карета. Но жить надлежало в деревне. Тем лучше. Там целый год не знали, что я писать не умею. Но какой-то сват того господина, у которого я жил, открыл ему мою тайну, и меня свезли в Москву обратно. Не нашед другого подобного сему дурака, не могши отправлять мое ремесло с изломанными пальцами и боясь умереть с голоду, я продал себя за двести рублей. Меня записали в крестьяне и отдают в рекруты. Надеюсь, – говорил он важным видом, – что сколь скоро будет война, то дослужуся до генеральского чина; а не будет войны, то набью карман (коли можно) и, увенчан лаврами, отъеду на покой в мое отечество.
Пожал я плечами не один раз, слушав сего бродягу, и с уязвленным сердцем лег в кибитку, отправился в путь.
Завидово
Лошади уже были впряжены в кибитку, и я приготовлялся к отъезду, как вдруг сделался на улице великий шум. Люди начали бегать из краю в край по деревне. На улице видел я воина в гранодерской шапке, гордо расхаживающего и, держа поднятую плеть, кричащего: – Лошадей скорее; где староста? его превосходительство будет здесь чрез минуту; подай мне старосту… – Сняв шляпу за сто шагов, староста бежал во всю прыть на сделанной ему позыв. – Лошадей скорея! – Тотчас, батюшка; пожалуйте подорожную. – На. Да скорее же, а то я тебя… – говорил он, подняв плеть над головою дрожащего старосты. Недоконченная сия речь столь же была выражения исполнена, как у Виргилия в «Энеиде» речь Эола к ветрам: «Я вас!»… и, сокращенной видом плети властновелительного гранодера, староста столь же живо ощущал мощь десницы грозящего воина, как бунтующие ветры ощущали над собою власть сильной Эоловой остроги. Возвращая новому Полкану подорожную, староста говорил: – Его превосходительству с честною его фамилией потребно пятьдесят лошадей, а у нас только тридцать налицо, другие в разгоне. – Роди, старой черт. А не будет лошадей, то тебя изуродую. – Да где же их взять, коли взять негде? – Разговорился еще… А вот лошади у меня будут… – и, схватя старика за бороду, начал его бить по плечам плетью нещадно. – Полно ли с тебя? Да вот три свежие, – говорил строгий судья ямского стана, указывая на впряженных в мою повозку. – Выпряги их для нас. – Коли барин-та их отдаст. – Как бы он не отдал! У меня и ему то же достанется. Да кто он таков? – Невесть какой-то… – как он меня величал, того не знаю.
Между тем я, вышед на улицу, воспретил храброму предтече его превосходительства исполнить его намерение и, выпрягая из повозки моей лошадей, меня заставить ночевать в почтовой избе.
Спор мой с гвардейским Полканом прерван был приездом его превосходительства. Еще издали слышен был крик повозчиков и топот лошадей, скачущих во всю мочь. Частое биение копыт и зрению уже неприметное обращение колес подымающеюся пылью толико сгустили воздух, что колесница его превосходительства закрыта была непроницаемым облаком от взоров ожидающих его, аки громовой тучи, ямщиков. Дон-Кишот, конечно, нечто чудесное бы тут увидел; ибо несущееся пыльное облако под знатною его превосходительства особою, вдруг остановясь, разверзлося, и он предстал нам от пыли серовиден, отродию черных подобным.
От приезду моего на почтовый стан до того времени, как лошади вновь впряжены были в мою повозку, прошло по крайней мере целой час. Но повозки его превосходительства запряжены были не более как в четверть часа… и поскакали они на крылех ветра. А мои клячи, хотя лучше казалися тех, кои удостоилися везти превосходительную особу, но, не бояся гранодерского кнута, бежали посредственною рысью.
Блаженны в единовластных правлениях вельможи. Блаженны украшенные чинами и лентами. Вся природа им повинуется. Даже несмысленные скоты угождают их желаниям, и, дабы им в путешествии зевая не наскучилось, скачут они, не жалея ни ног, ни легкого, и нередко от натуги околевают. Блаженны, повторю я, имеющие внешность, к благоговению всех влекущую. Кто ведает из трепещущих от плети, им грозящей, что тот, во имя коего ему грозят, безгласным в придворной грамматике называется, что ему ни А… ни О… во всю жизнь свою сказать не удалося[14]; что он одолжен, и сказать стыдно кому, своим возвышением; что в душе своей он скареднейшее есть существо; что обман, вероломство, предательство, блуд, отравление, татьство, грабеж, убивство не больше ему стоят, как выпить стакан воды; что ланиты его никогда от стыда не краснели, разве от гнева или пощечины; что он друг всякого придворного истопника и раб едва-едва при дворе нечто значащего. Но властелин и презирающ не ведающих его низкости и ползущества. Знатность без истинного достоинства подобна колдунам в наших деревнях. Все крестьяне их почитают и боятся, думая, что они чрезъестественные повелители. Над ними сии обманщики властвуют по своей воле. А сколь скоро в толпу, их боготворящую, завернется мало кто, грубейшего невежества отчуждившийся, то обман их обнаруживается, и таковых дальновидцев они не терпят в том месте, где они творят чудеса. Равно берегись и тот, кто посмеет обнаружить колдовство вельмож.
Но где мне гнаться за его превосходительством! Он поднял пыль столбом, которая по пролете его исчезла, и я, приехав в Клин, нашел даже память его погибшую с шумом.
Клин
– Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам князь… – Поющий сию народную песнь, называемую Алексеем божиим человеком, был слепой старик, седящий у ворот почтового двора, окруженной толпою по большей части ребят и юношей. Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице его зримого, заставляли взирающих на певца предстоять ему со благоговением. Неискусный хотя его напев, но нежностию изречения сопровождаемый, проницал в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взращенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда клинский певец, дошед до разлуки своего ироя, едва прерывающимся ежемгновенно гласом изрекал свое повествование. Место, на коем были его очи, исполнилося исступающих из чувствительной от бед души слез, и потоки оных пролилися по ланитам воспевающего. О природа, колико ты властительна! Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; со уст юности отлетела сопутница ее, улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественной возраст, к жестокости толико привыкший, вид восприял важности. О! природа, – возопил я паки…
Сколь сладко неязвительное чувствование скорби! Колико сердце оно обновляет и оного чувствительность. Я рыдал вслед за ямским собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером… О мой друг, мой друг! почто и ты не зрел сея картины? ты бы прослезился со мною. И сладость взаимного чувствования была бы гораздо усладительнее.
По окончании песнословия все предстоящие давали старику как будто бы награду за его труд. Он принимал все денежки и полушки, все куски и краюхи хлеба довольно равнодушно, но всегда сопровождая благодарность свою поклоном, крестяся и говоря к подающему: «Дай бог тебе здоровья». Я не хотел отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего, конечно, приятного небу старца. Желал его благословения на совершение пути и желания моего. Казалося мне, да и всегда сие мечтаю, как будто соблагословение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъемлет терние сомнительности. Подошед к нему, я в дрожащую его руку толико же дрожащею от боязни, не тщеславия ли ради то делаю, положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он изрещи обыкновенного своего благословения подающему, отвлечен от того необыкновенностию ощущения лежащего в его горсти. И сие уязвило мое сердце. Колико приятнее ему, – вещал я сам себе, – подаваемая ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям соболезнование человечества, в моем рубле ощущает, может быть, мою гордость. Он не сопровождает его своим благословением. О! колико мал я сам себе тогда казался, колико завидовал давшим полушку и краюшку хлеба певшему старцу. – Не пятак ли? – сказал он, обращая речь свою неопределенно, как и всякое свое слово. – Нет, дедушка, рублевик, – сказал близстоящий его мальчик. – Почто такая милостыня? – сказал слепой, опуская места своих очей и ища, казалося, мысленно вообразити себе то, что в горсти его лежало. – Почто она не могущему ею пользоваться? Если бы я не лишен был зрения, сколь бы велика моя была за него благодарность. Не имея в нем нужды, я мог бы снабдить им неимущего. Ах! если бы он был у меня после бывшего здесь пожара, умолк бы хотя на одни сутки вопль алчущих птенцов моего соседа. Но на что он мне теперь? не вижу, куда его и положить; подаст он, может быть, случай к преступлению. Полушку немного прибыли украсть, но за рублем охотно многие протянут руку. Возьми его назад, добрый господин, и ты и я с твоим рублем можем сделать вора. – О истина! колико ты тяжка чувствительному сердцу, когда ты бываешь в укоризну. – Возьми его назад, мне, право, он не надобен, да и я уже его не стою; ибо не служил изображенному на нем государю. Угодно было создателю, чтобы еще в бодрых моих летах лишен я был вождей моих. Терпеливо сношу его прещение. За грехи мои он меня посетил… Я был воин; на многих бывал битвах с неприятелями отечества; сражался всегда неробко. Но воину всегда должно быть по нужде. Ярость исполняла всегда мое сердце при начатии сражения: я не щадил никогда у ног моих лежащего неприятеля и просящего, безоруженному помилования не дарил. Вознесенный победою оружия нашего, когда устремлялся на карание и добычу, пал я ниц, лишенный зрения и чувств пролетевшим мимо очей в силе своей пушечным ядром. О! вы, последующие мне, будьте мужественны, но помните человечество! – Возвратил он мне мой рубль и сел опять на место свое покойно.
– Прими свой праздничный пирог, дедушка, – говорила слепому подошедшая женщина лет пятидесяти. С каким восторгом он принял его обеими руками. – Вот истинное благодеяние, вот истинная милостыня. Тридцать лет сряду ем я сей пирог по праздникам и по воскресеньям. Не забыла ты своего обещания, что ты сделала во младенчестве своем. И стоит ли то, что я сделал для покойного твоего отца, чтобы ты до гроба моего меня не забывала? Я, друзья мои, избавил отца ее от обыкновенных нередко побой крестьянам от проходящих солдат. Солдаты хотели что-то у него отнять; он с ними заспорил. Дело было за гумнами. Солдаты начали мужика бить; я был сержантом той роты, которой были солдаты, прилучился тут; прибежал на крик мужика и его избавил от побой; может быть, чего и больше, но вперед отгадывать нельзя. Вот что вспомнила кормилица моя нынешняя, когда увидела меня здесь в нищенском состоянии. Вот чего не позабывает она каждый день и каждый праздник. Дело мое было невеликое, но доброе. А доброе приятно господу; за ним никогда ничего не пропадает.
– Неужели ты меня столько пред всеми обидишь, старичок, – сказал я ему, – и одно мое отвергнешь подаяние? Неужели моя милостыня есть милостыня грешника? Да и та бывает ему на пользу, если служит к умягчению его ожесточенного сердца. – Ты огорчаешь давно уже огорченное сердце естественною казнию, – говорил старец, – не ведал я, что мог тебя обидеть, не приемля на вред послужить могущего подаяния; прости мне мой грех, но дай мне, коли хочешь мне что дать, дай, что может мне быть полезно… Холодная у нас была весна, у меня болело горло – платчишка не было чем повязать шеи, – бог помиловал, болезнь миновалась… Нет ли старенького у тебя платка? Когда у меня заболит горло, я его повяжу; он мою согреет шею; горло болеть перестанет; я тебя вспоминать буду, если тебе нужно воспоминовение нищего. – Я снял платок с моей шеи, повязал на шею слепого… И расстался с ним.
Возвращаяся чрез Клин, я уже не нашел слепого певца. Он за три дни моего приезда умер. Но платок мой, сказывала мне та, которая ему приносила пирог по праздникам, надел, заболев перед смертию, на шею, и с ним положили его во гроб. О! если кто чувствует цену сего платка, тот чувствует и то, что во мне происходило, слушав сие.
Пешки
Сколь мне ни хотелось поспешать в окончании моего путешествия, но, по пословице, голод – не свой брат – принудил меня зайти в избу и, доколе не доберуся опять до рагу, фрикасе, паштетов и прочего французского кушанья, на отраву изобретенного, принудил меня пообедать старым куском жареной говядины, которая со мною ехала в запасе. Пообедав сей раз гораздо хуже, нежели иногда обедают многие полковники (не говорю о генералах) в дальних походах, я, по похвальному общему обыкновению, налил в чашку приготовленного для меня кофию и услаждал прихотливость мою плодами пота несчастных африканских невольников.
Увидев предо мною сахар, месившая квашню хозяйка подослала ко мне маленького мальчика попросить кусочек сего боярского кушанья. – Почему боярское? – сказал я ей, давая ребенку остаток моего сахара, – неужели и ты его употреблять не можешь? – Потому и боярское, что нам купить его не на что, а бояре его употребляют для того, что не сами достают деньги. Правда, что и бурмистр наш, когда ездит к Москве, то его покупает, но также на наши слезы. – Разве ты думаешь, что тот, кто употребляет сахар, заставляет вас плакать? – Не все; но все господа дворяне. Не слезы ли ты крестьян своих пьешь, когда они едят такой же хлеб, как и мы? – говоря сие, показывала она мне состав своего хлеба. Он состоял из трех четвертей мякины и одной части несеяной муки. – Да и то слава богу при нынешних неурожаях. У многих соседей наших и того хуже. Что ж вам, бояре, в том прибыли, что вы едите сахар, а мы голодны? Ребята мрут, мрут и взрослые. Но как быть, потужишь, потужишь, а делай то, что господин велит. – И начала сажать хлебы в печь.
Сия укоризна, произнесенная не гневом или негодованием, но глубоким ощущением душевныя скорби, исполнила сердце мое грустию. Я обозрел в первый раз внимательно всю утварь крестьянския избы. Первый раз обратил сердце к тому, что доселе на нем скользило. – Четыре стены, до половины покрытые, так, как и весь потолок, сажею; пол в щелях, на вершок, по крайней мере, поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь смеркающийся в полдень пропускал свет; горшка два или три (счастливая изба, коли в одном из них всякий день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Корыто кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К счастию, кадка с квасом, на уксус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода. – Вот в чем почитается по справедливости источник государственного избытка, силы, могущества; но тут же видны слабость, недостатки и злоупотреблении законов и их шероховатая, так сказать, сторона. Тут видна алчность дворянства, грабеж, мучительство наше и беззащитное нищеты состояние. – Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? то, чего отнять не можем, – воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отъяти у него жизнь. Но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у него постепенно! С одной стороны – почти всесилие; с другой – немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему, истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребий заклепанного во узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола во ярме…
Жестокосердый помещик! посмотри на детей крестьян, тебе подвластных. Они почти наги. Отчего? не ты ли родших их в болезни и горести обложил сверх всех полевых работ оброком? Не ты ли несотканное еще полотно определяешь себе в пользу? На что тебе смрадное рубище, которое к неге привыкшая твоя рука подъяти гнушается? едва послужит оно на отирание служащего тебе скота. Ты собираешь и то, что тебе не надобно, несмотря на то, что неприкрытая нагота твоих крестьян тебе в обвинение будет. Если здесь нет на тебя суда, – но пред судиею, не ведающим лицеприятия, давшим некогда и тебе путеводителя благого, совесть, но коего развратный твой рассудок давно изгнал из своего жилища, из сердца твоего. Но не ласкайся безвозмездием. Неусыпной сей деяний твоих страж уловит тебя наедине, и ты почувствуешь его кары. О! если бы они были тебе и подвластным тебе на пользу… О! если бы человек, входя почасту во внутренность свою, исповедал бы неукротимому судии своему, совести, свои деяния. Претворенный в столп неподвижный громоподобным ее гласом, не пускался бы он на тайные злодеяния; редки бы тогда стали губительствы, опустошении… и пр. и пр. и пр.
Черная грязь
Здесь я видел также изрядный опыт самовластия дворянского над крестьянами. Проезжала тут свадьба. Но вместо радостного поезда и слез боязливой невесты, скоро в радость претвориться определенных, зрелись на челе определенных вступать в супружество печаль и уныние. Они друг друга ненавидят и властию господина своего влекутся на казнь, к алтарю отца всех благ, подателя нежных чувствований и веселий, зиждителя истинного блаженства, творца вселенныя. И служитель его приимет исторгнутую властию клятву и утвердит брак! И сие назовется союзом божественным! И богохуление сие останется на пример другим! И неустройство сие в законе останется ненаказанным!.. Почто удивляться сему? Благословляет брак наемник; градодержатель, для охранения закона определенный, – дворянин. Тот и другой имеют в сем свою пользу. Первый ради получения мзды; другой, дабы, истребляя поносительное человечеству насилие, не лишиться самому лестного преимущества управлять себе подобным самовластно. – О! горестная участь многих миллионов! конец твой сокрыт еще от взора и внучат моих…
Я тебе, читатель, позабыл сказать, что парнасский судья, с которым я в Твери обедал в трактире, мне сделал подарок. Голова его над многим чем испытывала свои силы. Сколь опыты его были удачны, коли хочешь, суди сам; а мне скажи на ушко, каково тебе покажется. Если, читая, тебе захочется спать, то сложи книгу и усни. Береги ее для бессонницы.
Слово о ломоносове
Приятность вечера после жаркого летнего дня выгнала меня из моей кельи. Стопы мои направил я за Невский монастырь и долго гулял в роще, позади его лежащей[15]. Солнце лице свое уже сокрыло, но легкая завеса ночи едва-едва ли на синем своде была чувствительна[16]. Возвращаяся домой, я шел мимо Невского кладбища. Ворота были отверсты. Я вошел… На сем месте вечного молчания, где наитвердейшее чело поморщится несомненно, помыслив, что тут долженствует быть конец всех блестящих подвигов; на месте незыблемого спокойствия и равнодушия непоколебимого могло ли бы, казалося, совместно быть кичение, тщеславие и надменность? Но гробницы великолепные? Суть знаки несомненные человеческия гордыни, но знаки желания его жити вечно. Но се ли вечность, которыя человек толико жаждущ?.. Не столп, воздвигнутый над тлением твоим, сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего принесет славу твою в будущие столетия. Слово твое, живущее присно и вовеки в творениях твоих, слово российского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит во устах народных за необозримый горизонт столетий. Пускай стихии, свирепствуя сложенно, разверзнут земную хлябь и поглотят великолепный сей град, откуда громкое твое пение раздавалося во все концы обширныя России; пускай яростный некий завоеватель истребит даже имя любезного твоего отечества; но доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умрети. Но если кто умеет исчислить меру сего продолжения, если перст гадания назначит предел твоему имени, то не се ли вечность?.. Сие изрек я в восторге, остановясь пред столпом, над тлением Ломоносова воздвигнутым. – Нет, не хладный камень сей повествует, что ты жил на славу имени российского, не может он сказать, что ты был. Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, почто ты славен.
Где ты, о! возлюбленный мой! где ты? Прииди беседовати со мною о великом муже. Прииди, да соплетем венец насадителю российского слова. Пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу.
Михайло Васильевич Ломоносов родился в Холмогорах… Рожденной от человека, который не мог дать ему воспитания, дабы посредством оного понятие его изострилося и украсилося полезными и приятными знаниями; определенный по состоянию своему препровождать дни свои между людей, коих окружность мысленная области не далее их ремесла простирается; сужденный делить время свое между рыбным промыслом и старанием получить мзду своего труда, – разум молодого Ломоносова не мог бы достигнуть той обширности, которую он приобрел, трудясь в испытании природы, ни глас его – той сладости, которую он имел от обхождения чистых мусс. От воспитания в родительском доме он принял маловажное, но ключ учения: знание читать и писать, а от природы – любопытство. И се, природа, твое торжество. Алчное любопытство, вселенное тобою в души наши, стремится к познанию вещей; а кипящее сердце славолюбием не может терпеть пут, его стесняющих. Ревет оно, клокочет, стонет и, махом прерывая узы, летит стремглав (нет преткновения) к предлогу своему. Забыто все, один предлог в уме; им дышим, им живем.
Не выпуская из очей своих вожделенного предмета, юноша собирает познание вещей в слабейших ручьях протекшего наук источника до нижайших степеней общества. Чуждый руководства, столь нужного для ускорения в познаниях, он первую силу разума своего, память, острит и украшает тем, что бы рассудок его острить долженствовало. Сия тесная округа сведений, кои он мог приобресть на месте рождения своего, не могла усладить жаждущего духа, но паче возжгла в юноше непреодолимое к учению стремление. Блажен! что в возрасте, когда волнение страстей изводит нас впервые из нечувствительности, когда приближаемся степени возмужалости, стремление его обратилося к познанию вещей.
Подстрекаем науки алчбою, Ломоносов оставляет родительский дом; течет в престольный град, приходит в обитель иноческих мусс и вмещается в число юношей, посвятивших себя учению свободных наук и слову божию.
Преддверие учености есть познание языков; но представляется яко поле, тернием насажденное, и яко гора, строгим каменем усеянная. Глаз не находит тут приятности расположения, стопы путешественника – покойныя гладости на отдохновение, ни зеленеющегося убежища утомленному тут нет. Тако учащийся, приступив к неизвестному языку, поражается разными звуками. Гортань его необыкновенным журчанием исходящего из нее воздуха утомляется, и язык, новообразно извиваться принужденный, изнемогает. Разум тут цепенеет, рассудок без действия ослабевает, воображение теряет свое крылие; единая память бдит и острится и все излучины и отверстия свои наполняет образами неизвестных доселе звуков. При учении языков все отвратительно и тягостно. Если бы не подкрепляла надежда, что, приучив слух свой к необыкновенности звуков и усвоив чуждые произношения, не откроются потом приятнейшие предметы, то неуповательно, восхотел ли бы кто вступить в столь строгий путь. Но, превзошед сии трудности, коликократно награждается постоянство в понесенных трудах. Новые представляются тогда естества виды, новая цепь воображений. Познанием чуждого языка становимся мы гражданами тоя области, где он употребляется, собеседуем с жившими за многие тысячи веков, усвояем их понятия; и всех народов и всех веков изобретения и мысли сочетоваем и приводим в единую связь.
Упорное прилежание в учении языков сделало Ломоносова согражданином Афин и Рима. И се наградилося его постоянство. Яко слепец, от чрева матерня света не зревший, когда искусною глазоврачевателя рукою воссияет для него величество дневного светила, – быстрым взором протекает он все красоты природы, дивится ее разновидности и простоте. Все его пленяет, все поражает. Он живее обыкших всегда во зрении очей чувствует ее изящности, восхищается и приходит в восторг. Тако Ломоносов, получивши сведение латинского и греческого языков, пожирал красоты древних витий и стихотворцев. С ними научался он чувствовать изящности природы; с ними научался познавать все уловки искусства, крыющегося всегда в одушевленных стихотворством видах, с ними научался изъявлять чувствия свои, давать тело мысли и душу бездыханному.
Если бы силы мои достаточны были, представил бы я, как постепенно великий муж водворял в понятие свое понятия чуждые, кои, преобразовавшись в душе его и разуме, в новом виде явилися в его творениях или родили совсем другие, уму человеческому доселе недоведомые. Представил бы его, ищущего знания в древних рукописях своего училища и гоняющегося за видом учения везде, где казалося быть его хранилище. Часто обманут бывал в ожидании своем, но частым чтением церковных книг он основание положил к изящности своего слога, какое чтение он предлагает всем желающим приобрести искусство российского слова.
Скоро любопытство его щедро получило удовлетворение. Он ученик стал славного Вольфа. Отрясая правила схоластики или паче заблуждения, преподанные ему в монашеских училищах, он твердые и ясные полагал степени к восхождению во храм любомудрия. Логика научила его рассуждать; математика – верные делать заключения и убеждаться единою очевидностию; метафизика преподала ему гадательные истины, ведущие часто к заблуждению; физика и химия, к коим, может быть, ради изящности силы воображения прилежал отлично, ввели его в жертвенник природы и открыли ему ее таинства; металлургия и минералогия, яко последственницы предыдущих, привлекли на себя его внимание; и деятельно хотел Ломоносов познать правила, в оных науках руководствующие.
Изобилие плодов и произведений понудило людей менять их на таковые, в коих был недостаток. Сие произвело торговлю. Великие в меновном торгу затруднения побудили мыслить о знаках, всякое богатство и всякое имущество представляющих. Изобретены деньги. Злато и сребро, яко драгоценнейшие по совершенству своему металлы и доселе украшением служившие, преображены стали в знаки, всякое стяжание представляющие. И тогда только, поистине тогда возгорелась в сердце человеческом ненасытная сия и мерзительная страсть к богатствам, которая, яко пламень, вся пожирающий, усиливается, получая пищу. Тогда, оставив первобытную свою простоту и природное свое упражнение, земледелие, человек предал живот свой свирепым волнам или, презрев глад и зной пустынный, претекал чрез оные в недоведомые страны для снискания богатств и сокровищ. Тогда, презрев свет солнечный, живый нисходил в могилу и, расторгнув недра земная, прорывал себе нору, подобен земному гаду, ищущему в нощи свою пищу. Тако человек, сокрываясь в пропастях земных, искал блестящих металлов и сокращал пределы своея жизни наполовину, питался ядовитым дыханием паров, из земли исходящих. Но как и самая отрава, став иногда привычкою, бывает необходимою человеку в употреблении, так и добывание металлов, сокращая дни ископателей, не отвергнуто ради своея смертоносности; а паче изысканы способы добывать легчайшим образом большее число металлов по возможности.
Сего-то хотел познать Ломоносов деятельно и для исполнения своего намерения отправился в Фрейберх. Мне мнится, зрю его пришедшего к отверстию, чрез которое истекает исторгнутый из недр земных металл. Приемлет томное светило, определенное освещать его в ущелинах, куда солнечные лучи досязать не могут николи. Исполнил первый шаг; – что делаешь? – вопиет ему рассудок. – Неужели отличила тебя природа своими дарованиями для того только, чтобы ты употреблял их на пагубу своея собратии? Что мыслишь, нисходя в сию пропасть? Желаешь ли снискать вящее искусство извлекати сребро и злато? Или не ведаешь, какое в мире сотворили они зло? Или забыл завоевание Америки?.. Но нет, нисходи, познай подземные ухищрения человека и, возвратясь в отечество, имей довольно крепости духа подать совет зарыть и заровнять сии могилы, где тысящи в животе сущие погребаются.
Трепещущ нисходит в отверстие и скоро теряет из виду живоносное светило. Желал бы я последовать ему в подземном его путешествии, собрать его размышления и представить их в той связи и тем порядком, какими они в разуме его возрождалися. Картина его мыслей была бы для нас увеселительною и учебною. Проходя первой слой земли, источник всякого прозябения, подземный путешественник обрел его несходственным с последующими, отличающимся от других паче всего своею плодоносною силою. Заключал, может быть, из того, что поверхность сия земная не из чего иного составлена, как из тления животных и прозябений, что плодородие ее, сила питательная и возобновительная, начало свое имеет в неразрушимых и первенственных частях всяческого бытия, которые, не переменяя своего существа, переменяют вид только свой, из сложения случайного рождающийся. Проходя далее, подземный путешественник зрел землю всегда расположенную слоями. В слоях находил иногда остатки животных, в морях живущих, находил остатки растений и заключать мог, что слоистое расположение земли начало свое имеет в наплавном положении вод и что воды, переселяяся из одного края земного шара к другому, давали земле тот вид, какой она в недрах своих представляет. Сие единовидное слоев расположение, теряяся из его зрака, представляло иногда ему смешение многих разнородных слоев. Заключал из того, что свирепая стихия, огнь, проникнув в недра земные и встретив противуборствующую себе влагу, ярясь, мутила, трясла, валила и метала все, что ей упорствовать тщилося своим противодействием. Смутив и смешав разнородные, знойным своим дохновением возбудила в первобытностях металлов силу притяжательную и их соединила. Там узрел Ломоносов сии мертвые по себе сокровища в природном их виде, воспомянул алчбу и бедствие человеков и с сокрушенным сердцем оставил сие мрачное обиталище людской ненасытности.
Упражняяся в познании природы, он не оставил возлюбленного своего учения стихотворства. Еще в отечестве своем случай показал ему, что природа назначила его к величию, что в обыкновенной стезе шествия человеческого он скитаться не будет. Псалтирь, Симеоном Полоцким в стихи преложенная, ему открыла о нем таинство природы, показала, что и он стихотворец. Беседуя с Горацием, Виргилием и другими древними писателями, он давно уже удостоверился, что стихотворение российское весьма было несродно благогласию и важности языка нашего. Читая немецких стихотворцев, он находил, что слог их был плавнее российского, что стопы в стихах были расположены по свойству языка их. И так он вознамерился сделать опыт сочинения новообразными стихами, поставив сперва российскому стихотворению правила, на благогласии нашего языка основанные. Сие исполнил он, написав оду на победу, одержанную российскими войсками над турками и татарами, и на взятие Хотина, которую из Марбурга он прислал в Академию наук. Необыкновенность слога, сила выражения, изображения, едва не дышащие, изумили читающих сие новое произведение. И сие первородное чадо стремящегося воображения по непроложенному пути в доказательство с другими купно послужило, что когда народ направлен единожды к усовершенствованию, он ко славе идет не одной тропинкою, но многими стезями вдруг.
Сила воображения и живое чувствование не отвергают разыскания подробностей. Ломоносов, давая примеры благогласия, знал, что изящность слога основана на правилах, языку свойственных. Восхотел их извлечь из самого слова, не забывая, однако же, что обычай первой всегда подает в сочетании слов пример, и речения, из правила исходящие, обычаем становятся правильными. Раздробляя все части речи и сообразуя их с употреблением их, Ломоносов составил свою грамматику. Но не довольствуяся преподавать правила российского слова, он дает понятие о человеческом слове вообще яко благороднейшем по разуме даровании, данном человеку для сообщения своих мыслей. Се сокращение общей его грамматики: слово представляет мысли; орудие слова есть голос; голос изменяется образованием или выговором; различное изменение голоса изображает различие мыслей; итак, слово есть изображение наших мыслей посредством образования голоса чрез органы, на то устроенные. Поступая далее от сего основания, Ломоносов определяет неразделимые части слова, коих изображения называют буквами. Сложение нераздельных частей слова производит склады, кои опричь образовательного различия голоса различаются еще так называемыми ударениями, на чем основывается стихосложение. Сопряжение складов производит речения, или знаменательные части слова. Сии изображают или вещь, или ее деяние. Изображение словесное вещи называется имя; изображение деяния – глагол. Для изображения же сношения вещей между собою и для сокращения их в речи служат другие части слова. Но первые суть необходимы и называться могут главными частями слова, а прочие служебными. Говоря о разных частях слова, Ломоносов находит, что некоторые из них имеют в себе отмены. Вещь может находиться в разных в рассуждении других вещей положениях. Изображение таковых положений и отношений именуется падежами. Деяние всякое располагается по времени; оттуда и глаголы расположены по временам, для изображения деяния, в какое время оное происходит. Наконец Ломоносов говорит о сложении знаменательных частей слова, что производит речи.
Предпослав таковое философическое рассуждение о слове вообще, на самом естестве телесного нашего сложения основанном, Ломоносов преподает правила российского слова. И могут ли быть они посредственны, когда начертавший их разум водим был в грамматических терниях светильником остроумия? Не гнушайся, великий муж, сея хвалы. Между согражданами твоими не грамматика твоя одна соорудила тебе славу. Заслуги твои о российском слове суть многообразны; и ты почитаешися в малопритяжательном сем своем труде яко первым основателем истинных правил языка нашего и яко разыскателем естественного расположения всяческого слова. Твоя грамматика есть преддверие чтения твоея риторики, а та и другая – руководительницы для осязания красот изречения творений твоих. Поступая в преподавании правил, Ломоносов вознамерился руководствовать согражданам своим в стезях тернистых Геликона, показав им путь к красноречию, начертавая правила риторики и поэзии. Но краткость его жизни допустила его из подъятого труда совершить одну только половину.
Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, исторгается из среды народныя. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние, горшее самыя смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен, таков был Цицерон; таков был Пит; таковы ныне Бурк, Фокс, Мирабо и другие. Правила их речи почерпаемы в обстоятельствах, сладость изречения – в их чувствах, сила доводов – в их остроумии. Удивляяся толико отменным в слове мужам и раздробляя их речи, хладнокровные критики думали, что можно начертать правила остроумию и воображению, думали, что путь к прелестям проложить можно томными предписаниями. Сие есть начало риторики. Ломоносов, следуя, не замечая того, своему воображению, исправившемуся беседою с древними писателями, думал также, что может сообщить согражданам своим жар, душу его исполнявший. И хотя он тщетный в сем предприял труд, но примеры, приводимые им для подкрепления и объяснения его правил, могут несомненно руководствовать пускающемуся вслед славы, словесными науками стяжаемой.
Но если тщетной его был труд в преподавании правил тому, что более чувствовать должно, нежели твердить, – Ломоносов надежнейшие любящим российское слово оставил примеры в своих творениях. В них сосавшие уста сладости Цицероновы и Демосфеновы растворяются на велеречие. В них на каждой строке, на каждом препинании, на каждом слоге, почто не могу сказать при каждой букве, слышен стройный и согласный звон столь редкого, столь мало подражаемого, столь свойственного ему благогласия речи.
Прияв от природы право неоцененное действовать на своих современников, прияв от нее силу творения, поверженный в среду народныя толщи, великий муж действует на оную, но и не в одинаком всегда направлении. Подобен силам естественным, действующим от средоточия, которые, простирая действие свое во все точки окружности, деятельность свою присну везде соделовают. Тако и Ломоносов, действуя на сограждан своих разнообразно, разнообразные отверзал общему уму стези на познания. Повлекши его за собою вослед, расплетая запутанный язык на велеречие и благогласие, не оставил его при тощем без мыслей источнике словесности. Воображению вещал: лети в беспредельность мечтаний и возможности, собери яркие цветы одушевленного и, вождаяся вкусом, украшай оными самую неосязательность. И се паки гремевшая на Олимпических играх Пиндарова труба возгласила хвалу всевышнего вослед псальмопевца. На ней возвестил Ломоносов величие предвечного, восседающего на крыле ветренней, предшествуемого громом и молниею и в солнце являя смертным свою существенность, жизнь. Умеряя глас трубы Пиндаровой, на ней же он воспел бренность человека и близкий предел его понятий. В бездне миров беспредельной, как в морских волнах малейшая песчинка, как во льде, не тающем николи, искра едва блестящая, в свирепейшем вихре как прах тончайший, что есть разум человеческий? – Се ты, о Ломоносов, одежда моя тебя не сокроет.
Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но ниже гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах Елисавете. И если бы можно было без уязвления истины и потомства, простил бы я то тебе ради признательныя твоея души ко благодеяниям. Но позавидует не могущий вослед тебе идти писатель оды, позавидует прелестной картине народного спокойствия и тишины, сей сильной ограды градов и сел, царств и царей утешения; позавидует бесчисленным красотам твоего слова; и если удастся когда-либо достигнуть непрерывного твоего в стихах благогласия, но доселе не удалося еще никому. И пускай удастся всякому превзойти тебя своим сладкопением, пускай потомкам нашим покажешься ты нестроен в мыслях, неизбыточен в существенности твоих стихов!.. Но воззри: в пространном ристалище, коего конца око не досязает, среди толпящейся многочисленности, на возглавии, впереди всех, се врата отверзающ к ристалищу, – се ты. Прославиться всяк может подвигами, но ты был первый. Самому всесильному нельзя отъять у тебя того, что дал. Родил он тебя прежде других, родил тебя в вожди, и слава твоя есть слава вождя. О! вы, доселе бесплодно трудившиеся над познанием существенности души и как сия действует на телесность нашу, се трудная вам предлежит задача на испытание. Вещайте, как душа действует на душу, какая есть связь между умами? Если знаем, как тело действует на тело прикосновением, поведайте, как неосязаемое действует на неосязаемое, производя вещественность; или какое между безвещественностей есть прикосновение. Что оно существует, то знаете. Но если ведаете, какое действие разум великого мужа имеет над общим разумом, то ведайте еще, что великий муж может родить великого мужа; и се венец твой победоносный. О! Ломоносов, ты произвел Сумарокова.
Но если действие стихов Ломоносова могло размашистой сделать шаг в образовании стихотворческого понятия его современников, красноречие его чувствительного или явного ударения не сделало. Цветы, собранные им в Афинах и в Риме и столь удачно в словах его пресажденные, сила выражения Демосфенова, сладкоречие Цицероново, бесплодно употребленные, повержены еще во мраке будущего. И кто? он же, пресытившися обильным велеречием похвальных твоих слов, возгремит не твоим хотя слогом, но будет твой воспитанник. Далеко ли время сие или близко, блудящий взор, скитаяся в неизвестности грядущего, не находит подножия остановиться. Но если мы непосредственного от витийства Ломоносова не находим отродия, действие его благогласия и звонкого препинания бесстопной речи было, однако же, всеобщее. Если не было ему последователя в витийстве гражданском, но на общий образ письма оно распространилося. Сравни то, что писано до Ломоносова, и то, что писано после его, – действие его прозы будет всем внятно.
Но не заблуждаем ли мы в нашем заключении? Задолго до Ломоносова находим в России красноречивых пастырей церкви, которые, возвещая слово божие пастве своей, ее учили и сами словом своим славилися. Правда, они были; но слог их не был слог российский. Они писали, как можно было писать до нашествия татар, до сообщения россиян с народами европейскими. Они писали языком славенским. Но ты, зревший самого Ломоносова и в творениях его поучаяся, может быть, велеречию, забвен мною не будешь. Когда российское воинство, поражая гордых оттоманов, превысило чаяние всех, на подвиги его взирающих оком равнодушным или завистливым, ты, призванный на торжественное благодарение богу браней, богу сил, о! ты, в восторге души твоей к Петру взывавший над гробницею его, да приидет зрети плода своего насаждения: «Восстани, Петр, восстани»; когда очарованное тобою ухо очаровало по чреде око, когда казалося всем, что приспевый ко гробу Петрову, воздвигнути его желаешь, силою высшею одаренный, – тогда бы и я вещал к Ломоносову: зри, зри, и здесь твое насаждение. Но если он слову мог тебя научить… В Платоне душа Платона, и да восхитит и увидит нас, тому учило его сердце.
Чужды раболепствования не токмо в том, что благоговение наше возбуждать может, но даже и в люблении нашем, мы, отдавая справедливость великому мужу, не возмним быти ему богом всезиждущим, не посвятим его истуканом на поклонение обществу и не будем пособниками в укоренении какого-либо предрассуждения или ложного заключения. Истина есть высшее для нас божество, и если бы всесильный восхотел изменить ее образ, являяся не в ней, лице наше будет от него отвращенно.
Следуя истине, не будем в Ломоносове искать великого дееписателя, не сравним его с Тацитом, Реналем или Робертсоном, не поставим его на степени Маркграфа или Ридигера, зане упражнялся в химии. Если сия наука была ему любезна, если многие дни жития своего провел он в исследовании истин естественности, но шествие его было шествие последователя. Он скитался путями проложенными, и в нечисленном богатстве природы не нашел он ни малейшия былинки, которой бы не зрели лучшие его очи, не соглядал он ниже грубейшия пружины в вещественности, которую бы не обнаружили его предшественники.
Ужели поставим его близ удостоившегося наилестнейшия надписи, которую человек низ изображения своего зреть может? Надпись, начертанная не ласкательством, но истиною, дерзающею на силу: «Се исторгнувший гром с небеси и скиптр из руки царей». За то ли Ломоносова близ его поставим, что преследовал электрической силе в ее действиях; что не отвращен был от исследования о ней, видя силою ее учителя своего пораженного смертно. Ломоносов умел производить электрическую силу, умел отвращать удары грома, но Франклин в сей науке есть зодчий, а Ломоносов рукодел.
Но если Ломоносов не достиг великости в испытаниях природы, он действия ее великолепные описал нам слогом чистым и внятным. И хотя мы не находим в творениях его, до естественныя науки касающихся, изящного учителя естественности, найдем, однако же, учителя в слове и всегда достойный пример на последование.
И так, отдавая справедливость великому мужу, поставляя имя Ломоносова в достойную его лучезарность, мы не ищем здесь вменить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действовал; или только, распложая неистовое слово, вождаемся исступлением и пристрастием. Цель наша не сия. Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил, есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог. Бакон Веруламский не достоин разве напоминовения, что мог токмо сказать, как можно размножать науки? Не достойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие, для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения? И мы не почтем Ломоносова для того, что не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопее, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проницателен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей. Но внемли: прежде начатия времен, когда не было бытию опоры и вся терялося в вечности и неизмеримости, все источнику сил возможно было, вся красота вселенныя существовала в его мысли, но действия не было, не было начала. И се рука всемощная, толкнув вещественность в пространство, дала ей движение. Солнце воссияло, луна прияла свет, и телеса крутящиеся горе образовалися. Первый мах в творении всесилен был; вся чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как понимаю я действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю действие разума над разумом. В стезе российской словесности Ломоносов есть первый. Беги, толпа завистливая, се потомство о нем судит, оно нелицемерно.
Но, любезный читатель, я с тобою закалякался… Вот уже Всесвятское… Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы, мы повидаемся на возвратном пути. Теперь прости. – Ямщик, погоняй.
МОСКВА! МОСКВА!!!
С дозволения Управы благочиния.
<О самодержавстве>
Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников опричь права собственныя сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не для того, что мы оное делать долженствуем неотменно; но для того, что мы находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества.
Письмо к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего
Санкт-петербург, 8 августа 1782-го года.
Вчера происходило здесь с великолепием посвящение монумента, Петру Первому в честь воздвигнутого: то есть открытие его статуи, работы г. Фальконета. Любезной друг, побеседуем о сем в отсутствии. Пребывая в отдаленном отечества нашего краю, отлученный от твоих ближних, среди людей не известных тебе ни со стороны качеств разума и сердца; не нашед еще, может быть, в краткое время твоего пребывания, не токмо друга, но ниже приятеля, с коим бы ты мог сетовать во дни печали и скорби и радоваться в часы веселия и утех: ибо печаль и скорбь исчисляются днями и годами, веселие часами, утехи же мгновением, – ты охотно, думаю, употребишь час, хотя единый, отдохновения твоего на беседование с делившим некогда с тобою горесть и радовавшимся о твоей радости, с кем ты юношеские провел дни свои.
Вокруг места, где сооружался сокровенно через 15 лет образ изваянный императора Петра, воздвигнута была рисованная на полотне заслона, а хоромина, бывшая над ним, неприметно сломана, и место вокруг все очищено.
В день, назначенный для торжества, во втором уже часу пополудни, толпы народа стекалися к тому месту, где зреть желали лице обновителя своего и просветителя. Полки гвардии Преображенский и Семеновский, бывшие некогда сотоварищи опасностей Петровых и его побед, также и другие полки гвардии, тут бывшие, под предводительством начальников своих окружили места позорища, артиллерия, кирасирской Новотроицкой полк и Киевской пехотной заняли места на близлежащих улицах. Все было готово, тысящи зрителей на сделанных для того возвышениях и толпа народа, рассеянного по всем близлежащим местам и кровлям, ожидали с нетерпением зрети образ того, которого предки их в живых ненавидели, а по смерти оплакивали. Истинно бо есть и непреложно: достоинство заслуги и добродетель привлекают ненависть нередко и самих тех, кои причины не имеют их ненавидеть; когда же вина и предлог ненависти исчезает, то и она не отрицает им должного и слава великого мужа утверждается по смерти. Сооружившая монумент славы Петра императрица Екатерина, сев на суда у летнего своего дома, прибыла к пристани; вышед на берег, шествовала на уготованное при сенате ей место, между строя воев своих. Едва вступить она успела на оное, как бывшая вокруг статуи заслона, помалу и неприметно как, опустилася. И се явился, паки взорам нашим, седящ на коне борзом в древней отцов своих одежде, муж, основание града сего положивший, и первый, которой на невских и финских водах воздвиг российский флаг, доселе не существовавший. Явился он взорам любезных чад своих сто лет спустя, когда впервые трепещущая его рука, младенцу ему сущу, прияла скипетр обширныя России, пределы коея он расширил столь славно.
– Благословенно да будет явление твое, – речет преемница престола его и дел и преклоняет главу. Все следуют ее примеру. И се слезы радости орошают ланиды. О Петр! – Когда громкие дела твои возбуждали удивление и почтение к тебе, из тысящи удивлявшихся великости твоего духа и разума был ли хотя един, кто от чистоты сердца тебя возносил? Половина была ласкателей, кои во внутренности своей тебя ненавидели и дела твои порицали, другие, объемлемые ужасом беспредельно самодержавныя власти, раболепно пред блеском твоея славы опускали зеницы своих очей. Тогда был ты жив, царь, всесилен. Но днесь, когда ты ни казнить, ни миловать не можешь, когда ты бездыханен, когда ты меньше силен, нежели последние из твоих воинов, шестьдесят лет по смерти, хвалы твои суть истинны, благодарность нелестна. Но колико крат более признание наше было живее и тебя достойнее, когда бы оно не следовало примеру твоея преемницы, достойному хотя примеру, но примеру того, кто смерть и жизнь миллионов себе подобных в руке своей имеет. Признание наше было бы свободнее, и чин открытия изваянного твоего образа превратился бы в чин благодарственного молебствия, каковое в радости своей народ воссылает к предвечному отцу.
Из тысящей бывших тут зрителей, известных было три человека, кои Петра I видели. Но неприметно было, ощутили ли они при явлении его образа то благоговение, которое ощущаем, увидев мужа славна, нам известного. – Действие продолжалося. Пушечная пальба со стоящих на реке судов, с крепости и адмиралтейства и троекратной беглой огонь возвещали отсутственным явление образа, приведшего силы пространные России в действие. – Стоявшие в строю полки ударили поход, отдавая честь, и с преклонными знаменами шли мимо подавшего им первый пример слепого повиновения воинской подчиненности, показывая учредителю своему плоды его трудов, при продолжающейся военных судов пальбе, которые Сардамскому плотнику в честь украсилися многочисленными флагами. Сей день ознаменован прощением разных преступников и медалию, сделанною в честь обновителя России.
Статуя представляет мощного всадника, на коне борзом, стремящемся на гору крутую, коея вершины он уже достиг, раздавив змею, в пути лежащую и жалом своим быстрое ристание коня и всадника остановить покусившуюся. Узда простая, звериная кожа вместо седла, подпругою придерживаемая, суть вся конская сбруя. Всадник без стремян, в полукафтанье, кушаком препоясан, облеченной багряницею, имеющ главу, лаврами венчанную, и десницу простертую. Из сего довольно можешь усмотреть мысли изваятеля. Если б ты здесь был, любезной друг, если бы ты сам видел сей образ, ты, зная и правилы искусства, ты, упражняяся сам в искусстве сему собратном, ты лучше бы мог судить о нем. Но позволь отгадать мне мысли творца образа Петрова. Крутизна горы суть препятствия, кои Петр имел, производя в действо свои намерения; змея, в пути лежащая, – коварство и злоба, искавшие кончины его за введение новых нравов; древняя одежда, звериная кожа и весь простой убор коня и всадника суть простые и грубые нравы и непросвещение, кои Петр нашел в народе, которой он преобразовать вознамерился; глава, лаврами венчанная, победитель бо был прежде, нежели законодатель; вид мужественной и мощной и крепость преобразователя, простертая рука, покровительствующая, как ее называет Дидеро, и взор веселый, – суть внутренное уверение, достигшее цели, и рука простертая являет, что крепкие, муж, преодолев все стремлению его противившиеся пороки, покров свой дает всем, чадами его называющимся. Вот, любезной друг, слабое изображение того, что, взирая на образ Петров, я чувствую. Прости, буде я ошибаюся в моих суждениях о искусстве, коего правила мне мало известны. Надпись сделана на камне самая простая:
ПЕТРУ ПЕРВОМУ
ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ
ЛЕТА 1782-го
Петр по общему признанию наречен Великим, а Сенатом – отцом отечества. Но за что он может великим назваться? Александр, разоритель полусвета, назван великим; Константин, омывыйся в крови сыновней, назван великим; Карл первой, возобновитель Римския империи, назван великим; Лев, папа римский, покровитель наук и художеств, назван великим; Козма Медицис, герцог Тосканский, назван великим; Генрих, доброй Генрих IV, король французский, назван великим; Людвиг XIV, тщеславный и кичливый Людвиг, король французский, назван великим; Фридрих II, король прусский, еще при жизни своей назван великим. Все сии владетели, о множестве других не упоминая, коих ласкательство великими называет, получили сие название для того, что исступили из числа людей обыкновенных услугами к отечеству, хотя великие имели пороки. Частной человек гораздо скорее может получить название великого, отличаясь какой-либо добродетелию или качеством, но правителю народов мало для приобретения сего лестного названия иметь добродетели или качества частных людей. Предметы, над коими разум и дух его обращается, суть многочисленны. – Посредственной царь исполнением одной из должностей своего сана был бы, может быть, великий муж в частном положении; но он будет худой государь, если для одной пренебрежет многия добродетели. Итак, вопреки женевскому гражданину, познаем в Петре мужа необыкновенного, название великого заслужившего правильно.
И хотя бы Петр не отличился различными учреждениями, к народной пользе относящимися, хотя бы он не был победитель Карла XII, то мог бы и для того великим назваться, что дал первый стремление столь обширной громаде, которая яко первенственное вещество была без действия. – Да не уничижуся в мысли твоей, любезной друг, превознося хвалами столь властного самодержавца, которой истребил последние признаки дикой вольности своего отечества. Он мертв, а мертвому льстити не можно! И я скажу, что мог бы Петр славнея быть, возносяся сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную; но если имеем примеры, что цари оставляли сан свой, дабы жить в покое, что происходило не от великодушия, но от сытости своего сана; то нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своея власти, седяй на престоле.[17]
Житие Федора Васильевича Ушакова с приобщением некоторых его сочинений
Часть первая Житие Федора Васильевича Ушакова
Алексею Михайловичу Кутузову
Не без удовольствия, думаю, любезнейший мой друг, воспоминаешь иногда о днях юности своея; о времени, когда все страсти, пробуждаяся в первый раз, производили в новой душе не стройное хотя волнение, но дни блаженнейшие всея жизни соделывали. Беззаботный дух и разум неопытностию не претили в веселии распростираться чувствам, чуждым скорбного еще нервов содрогания. Да и самая печаль, грусть и отчаяние скользили, так сказать, на юном сердце, не проницая начальную его твердость, когда нередко наиплачевнейший день скончавался веселия исступлением. Отвлеки мысленно невинную часто порочность из деяний юности, найдешь, что после первых восторгов веселия подобных в жизни своей не чувствовал. Первое веселие назвать можно вершиною блаженства, и потому только, что оно первое; последующее уже есть повторение, и нечаянности приятность его не живит. Не с удовольствием ли, мой друг, повторю я, воспомянешь о времени возрождения нашей дружбы, о блаженном сем союзе душ, составляющем ныне мое утешение во дни скорби, и надеяние мое для дней успокоения. Не возрадуешься ли, если узришь паки подавшего некогда нам пример мужества, узришь учителя моего по крайней мере в твердости. Воспомяни, о мой друг! Федора Васильевича, сгораема внутренним огнем, кончину свою слышавшего из уст нельстивого своего врача и к тебе, мой друг, к тебе прибегающего на скончание своего мучения… Воспомяни сию картину и скажи, что делалось тогда в душе твоей. Пиющий Сократ отраву пред друзьями своими наилучшее преподал им учение, какого во всем житии своем не возмог.
Таковые размышления побудили меня описать житие сотоварища нашего Федора Васильевича Ушакова. Я ищу в том собственного моего удовольствия; а тебе, любезнейшему моему другу, хочу отверзти последние излучины моего сердца. Ибо нередко в изображениях умершего найдешь черты в живых еще сущего.
Первые годы жизни Федора Васильевича мало мне известны; и хотя бы охотно и с удовольствием их я начертал, находя в первейших детских и отроческих деяниях начальное образование души его, находя в пятилетнем Ушакове семена твердости, душу его возвышавшей в возмужалых летах, но лучше признаюсь в неведении моем, нежели поставлю что-либо гадательное вместо истины, и единственного да не отыму побуждения ко чтению сего повествования во истине.
Но не гадательным предположением назвать можно, если скажу, что воспитанием своим в Сухопутном кадетском корпусе положил он основательное образование прекрасныя своея души. Ибо в душе своей более предуспеть мог, нежели в разуме, скончав жизнь свою тогда, когда юношескою крепостию мозга представления, воображения и мысли, проницая друг друга, первые полагают украшения верховного нашего члена, главы; когда разум, хотя собрав посредством чувств много понятий, не имел еще довольно времени устроить их в порядок, дабы и последнее возбуждало первое, преходя все между стоящее.
Успехи Федора Васильевича в науках побудили тогда тайного советника Теплова взять его к себе в должность секретаря, с чином титулярного советника. По издании Рижского торгового устава, при составлении которого он много трудился, получил он чин коллежского асессора. Люди, ослепляющиеся внешностию и чтущие в человеке чин, а не человека, завидуя ему и предуказуя его возвышение, обучалися уже его почитать заранее; но сколь не равных с ними он сам о себе был мыслей, доказал то самым делом.
Императрица Екатерина, между многими учреждениями на пользу государства, восхотела, чтобы между людьми, в делах судебных или судопроизводных обращающимися, было некоторое число судей, имеющих понятие, каким образом отличившиеся законоположением своим народы оное сообразовали с деяниями граждан на суде. На сей конец определила послать в Лейпцигской университет двенадцать юношей для обучения юриспруденции и другим к оной относящимся наукам. Будучи извещен о сем благом намерении императрицы, Федор Васильевич прибегнул просьбою к начальнику своему, да участвует в приобретении знаний, сотовариществуя юношам, избранным для отправления в Лейпцигской университет.
Узнав о его предприятии, многие из его друзей увещевали его, да останется при своем месте, и да не предпочтет неверную стезю к почестям, ученость, покровительству своего начальника, и да не подроет тем основания своего возвышения. В делах житейских, говорили они ему, все зависит от расчета и уловки. Кто в них следует единому рассудку и добродетели, тот небрежет о себе. Благоразумие, а иногда один расторопный поступок далее возводят стяжающего почестей, нежели все добродетели и дарования совокупно. Положим, что государь истинное достоинство только награждает и пристрастен не бывает николи; но если бы возможно было ему, хотя одному, быть беспристрастному в своем государстве, все другие начальствующие в его образе таковы не будут; ибо если он возможет чужд быть родству, приязни, дружбе, любви, хотя потому, что равного себе не имеет, то кого найдешь ему подобного. Сверх же того, он малого токмо числа отечеству, или ему служащих, сам по себе знает истинные заслуги, о всех других судит по слуху, награждает того, кого назначают вельможи, казнит нередко того, кто им не нравится. Из нескольких миллионов ему подвластных едва единое сто служат ему; все другие (источая кровавые слезы, признаться в том должно), – все другие служат вельможам. Доказательства для сего не нужны. Скажу только одно: посмотри на поступающих в чины; кто чин, или место, или награждение какого бы рода ни было получит, обязанным себя, да и справедливо, почитает благодарить за то вельможей. Одного благодарит за то, что его рекомендовал государю, другого за то, что не был ему противен, третьего, чтобы вперед не говорил о нем худо. Государь нередко бывает в сем случае не что иное, как корабль, направляемый тем ветром, который других превозмогает. Итак, оставь пустую мысль и тщетное намерение быть известным государю, в низком состоянии следуй начатому пути и предуспеешь.
Положим, что ты пребыванием своим в училище приобретешь знания превосходнейшие, что достоин будешь управлять не токмо важным отделением, но достоин будешь венца; неужели думаешь, что тебя государь поставит на первую по себе степень? Тщетная мечта юного воображения! По возвращении твоем имя твое будет забыто. Вместо того, что ты известен ныне чрез твоего начальника, о тебе тогда и не воспомянут, ибо не удостоит тебя государь, может быть, воззрения, отвлеченный от того или правления заботою, или надменностию сана своего, или завистию вельможей, которые, осаждая непрестанно престол царский, претят проникнуть до него достоинству. А если истекает на него награждение, то уделяют его всегда в виде милости, а не должным за заслуги воздаянием. – Ты поместишься в число таких людей, кои не токмо не равны будут тебе в познаниях, но и душевными качествами иногда ниже скотов почесться могут; гнушаться их будешь, но ежедневно с ними обращаться должен. Окрест себя узришь нередко согбенные разумы и души и самую мерзость. Возненавиден будешь ими; поженут тебя, да оставишь ристание им свободно. А если тогда начальник твой будет таковых же качеств, как и раболепствующие ему, берегись, гибель твоя неизбежна.
Таковыми ужасными представлениями друзья Федора Васильевича старалися отвратить его от его предприятия. Начальник его, хотя другими доводами, то же имел намерение, но все старания их были тщетны. Полагаяся твердо на правосудие своего государя и алкая науки, Федор Васильевич пребыл непоколебим в своем намерении и учения ради сложил с себя мужественный возраст, что степень почестей ему уже давало в обществе, стал неопытный юноша или паче дитя, преклоняяся в управление наставнику, управляв уже собою несколько лет в разных жизни обращениях. Описывая житие столь близкого сердцу моему человека, как то был Федор Васильевич, я не скрою, однако же, и того, чего разум его не мог еще в нем исправить и к чему обращение в большом свете приучило юные его чувства. Сие-то предвременное познание большого общества, где с дядькою казаться уже стыдно, навлекло ему болезнь в летах крепости и смерть безвременную.
Вышед из кадетского корпуса, Федор Васильевич стал управлять сам собою. Семнадцатилетний юноша, наперсник вельможи, коего тогдашний доступ до государя всем был известен, не мог он обойтись без искушения, и сии были различного рода. Большая часть просителей думают, и нередко справедливо, что для достижения своей цели нужна приязнь всех тех, кто хотя мизинцем до дела их касается, и для того употребляют ласки, лесть, ласкательство, дары, угождения и все, что вздумать можно, не только к самому тому, от кого исполнение просьбы их зависит, но ко всем его приближенным, как-то к секретарю его, к секретарю его секретаря, если у него оный есть, к писцам, сторожам, лакеям, любовницам, и если собака тут случится, и ту погладить не пропустят. Таковые же ласкательства, угождения и бог весть что употреблено было от просителей на снискание благоволения Федора Васильевича. Богач сулил злато, но не успевал и долженствовал возвращаться с негодованием. Но если благорасположенная душа его отметала мздоимство, не могла она отметать всегда вида приязни. Трудившись во весь день, охотно езжал он по вечерам в собрания малые и большие, на балы, маскерады, ужины, где нередко просиживал за карточною игрою до полуночи, а иногда и гораздо позже. Возвращался домой, нередко вместо возобновления сил благотворным сном принужден бывал приниматься паки за работу, и светило дневное, восходя на освещение блаженства и несчастия, заставало его согбенного над трудом, не вкушавшего еще сладости успокоения.
В числе множественных просителей бывали иногда женщины, женщины молодые, которые, в жару доводов о справедливой или неправильной их просьбе, забывали иногда, чем были должны целомудрию, а иные, помня леты того, к кому шли на прошение, умышленно употребляли чары красоты своея на приобретение благосклонности Федора Васильевича. Такого рода приключение он сам рассказывал. Се повесть его:
Пробыв гораздо за полночь в веселой беседе с людьми, обыкновенно друзьями называющимися, приехав домой, работал он до пятого часа утра и, утомившись веселием и работою, заснул крепко. Беззаботливая юность не беспокоилась еще колючим тернием опытности, и мечты сна его столь же были исполнены веселия, как и бдение. Ему снилося, что лежал он в объятиях прекрасной жены, упоенный сладострастием, столь державно над юными чувствами властвующим, и среди прелестныя сея мечты отлетел сон от очей его. Но что же представилось просиявшему его взору? Стократ любезнее виденной им во сне зрел он отроковицу почти, сидящую подле одра его, тщательно отгоняющую крылатых насекомых с лица его и распростертым опахалом умеряющую зной солнца, проникшего уже лучом своим в его спальню. Лето было, и час уже десятый. Не вдруг поверил он, что проснулся. Зря его пробудившегося и устремляя взоры пламенного желания, с улыбкой страсти и гласом сирены – «Извините меня, государь мой, – сказала просительница, – что я прервала ваш сон и лишила вас, может быть, приятныя мечты возлюбленной». И проницала вещающая жарким своим взором всю его внутренность. Если бы я писал любовную повесть, колико обильная предлежала бы начертанию жатва. Чувственность была в Федоре Васильевиче при начале своего возничения, просительница жила в разводе со старым мужем, имела нужду в предстательстве Федора Васильевича, провидела его горячее телодвижение, пришла на уловление его и преуспела.
О, если бы и мое пробуждение могло быть иногда таково же, если бы я паки имел не более двадцати лет! Мой друг, жалей, если хочешь, о моей слабости, но се истина.
Сими и сим подобными случаями подсек Федор Васильевич корень своего здравия и, не отъезжая еще в Лейпциг, почувствовал в теле своем болезнь, неизбежное следствие неумеренности и злоупотребления телесных услаждений.
Как со времени начатия нашего путешествия повествование о Федоре Васильевиче сопряжено с повествованием об общем нашем пребывании в Лейпциге, то не удивляйся, мой друг, если оно коснется вообще положения, в котором мы находились, и если найдешь здесь некоторые черты расположения твоих мыслей в тогдашнее время. Ибо забыть того нельзя, колико единомыслие между нами царствовало.
В продолжение нашего пути Федор Васильевич навлек на себя ненависть путеводителя нашего, и самое то качество, которое ему приобрело нашу приверженность, самое то было причиною, что Бокум его возненавидел. Твердость мыслей и вольное оных изречение были в нем противны, и с первого раза, когда они в нем явны стали, начал путеводитель наш помышлять, как бы погубить его. Но дивиться не должно, что противоречие в подчиненном, справедливое хотя противоречие, или, лучше сказать, единое напоминовение справедливости, произвело здесь со стороны сильного негодование и прещение. Сие в самодержавных правлениях почти повсеместно. Пример самовластия государя, не имеющего закона на последование, ниже в расположениях своих других правил, кроме своей воли или прихотей, побуждает каждого начальника мыслить, что, пользуяся уделом власти беспредельной, он такой же властитель частно, как тот в общем. И сие столь справедливо, что нередко правилом приемлется, что противоречие власти начальника[18] есть оскорбление верховной власти. Мысль несчастная, тысячи любящих отечество граждан заключающая в темницу и предающая их смерти, теснящая дух и разум и на месте величия водворяющая робость, рабство и замешательство, под личиною устройства и покоя! Да сие иначе и быть не может по сродному человеку стремлению к самовластию, и Гельвециево о сем мнение ежечасно подтверждается.
Привлекши на себя ненависть путеводителя нашего, Федор Васильевич не возмутился сею мыслию, ибо что вещал ему, то была истина. Бокум рачил более о своей прибыли, нежели о вверенных ему. Федор Васильевич имел более опытности, нежели другие его сотоварищи: довольные причины для приведения корыстолюбца на злобу.
Первой случай к несогласию нашему с нашим путеводителем и первая причина его злобствования против Федора Васильевича было само в себе малозначащее происшествие, но великое имело действие на расположение наше к начальнику нашему. Мы все воспитаны были по русскому обряду и в привычке хотя не сладко есть, но до насыщения. Обыкли мы обедать и ужинать. После великолепного обеда в день нашего выезда ужин наш был гораздо тощ и состоял в хлебе с маслом и старом мясе, ломтями резанном. Таковое кушанье, для немецких желудков весьма обыкновенное, востревожило русские, привыкшие более ко штям и пирогам. И если захочешь без предубеждения внять вине нашего неудовольствия, к несчастию нашему потом обратившегося, то найдешь корень оного в первом нашем ужине. Покажется иному смешно, иному низко, иному нелепо, что благовоспитанные юноши могли начальника своего возненавидеть за таковую малость; но самого умереннейшего человека заставь поговеть неделю, то нетерпение в нем скоро будет приметно. Если сладость наскучить может, кольми паче голод. Худая по большей части пища и великая неопрятность в приуготовлении оной произвели в нас справедливое негодование. Федор Васильевич взялся изъявить оное пред нашим начальником. Умеренное его представление принято почти с презрением, а особливо женою Бокума, которую можно было почитать истинным нашим гофмейстером. Сие произвело словопрение, и кончилось тем, что Федор Васильевич возненавижен стал обоими супругами.
Но не знал наш путеводитель, что худо всегда отвергать справедливое подчиненных требование и что высшая власть сокрушалася иногда от безвременной упругости и безрассудной строгости.
Мы стали отважнее в наших поступках, дерзновеннее в требованиях и от повторяемых оскорблений стали, наконец, презирать его власть. Если бы желание учения не остановляло нас в поступках наших и не умеряло нашего негодования, то Бокум на дороге бы испытал, колико безрассудно даже детей доводить до крайности. Во всех сих зыблениях боязни и отваги младшие предводительствуемы были старшими. Из сих первый был Федор Васильевич. Но если его кто почтет или сварливым, или злобным, или пронырливым, или коварным, или вспыльчивым, тот, конечно, ошибется. Единое негодование на неправду бунтовало в его душе и зыбь свою сообщало нашим, немощным еще тогда самим собою воздыматься на опровержение неправды. Таковыми происшествиями уготовлялися мы к одной из знаменитейших, по моему мнению, эпох нашея жизни. Я говорю о содержании нашем в Лейпциге под стражею.
Ничто, сказывают, толико не сопрягает людей, как несчастие. Сия истина подкрепляется и нашим примером. Худые с нами поступки нашего гофмейстера толико нас сделали единомысленными, что, исключая некоторых из нас, могли бы мы поистине один за другого жертвовать всем на свете. Да сие иначе быть не может, ибо дружба в юном сердце есть, как и все оного чувствования, стремительна. Краткое пребывание наше в Митаве, воззрение неизвестных нам доселе нравов, обрядов, языка загладило в душе Федора Васильевича угрызение печали. Ежедневные оскорбления начинали было производить в нем раскаяние о предпринятом путешествии, но новые предметы отвлекли душу его от горестных мыслей и соделали ее на некоторое время к оскорблениям бесчувственною. Но если новые предметы удобны были загладить в душе Федора Васильевича изрытие печали, то не имел он, однако же, довольно опытности, так сказать, в учении, дабы из путешествия своего извлечь всю возможную пользу. Примечания достойно: человек, достигнув возмужалых лет, когда начинает испытывать силы разума, устремляемый бодростию душевных сил, обращает проницательность свою всегда на вещи, вне зримой округи лежащие, возносится на крылиях воображения за пределы естественности и нередко теряется в неосязаемом, презирая чувственность, столь мощно его вождающую. Все почти юноши, мыслить начинающие, любят метафизику; с другой же стороны, все, чувствовать начинающие, придерживаются правил, народным правлениям приличных. И так Федор Васильевич мысли свои обращал более к умственным предметам и не знал еще, какую полезность извлечь можно из путешествия.
Между людьми, получившими воспитание разного рода, понятия о священных вещах долженствовали быть и были разные. Если бы возможно было определить, какое каждый из нас имел тогда понятие о боге и о должном ему почитании, то бы описание сие показалося взятым из какого-либо путешествия, в коем описывается исповедание веры неизвестных народов. Иной почитал бога не иначе как палача, орудием кары вооруженного, и боялся думать о нем, столь застращен был силою его прещения. Другому казался он вскруженным толпою младенцев, – азбучной учитель, которого дразнить ни во что вменяется, ибо уловкою какою-нибудь можно избегнуть его розги и скоро с ним опять поладить. Иной думал, что не токмо дразнить его можно, но делать все ему на смех и вопреки его велениям. Все мы, однако же, воспитаны были в греческом исповедании, и для сохранения нас в православии отправлен с нами был монах, которому в должность предписано было наставлять нас в христианском законе, отправлять для нас службу церковную и быть нашим духовником.
Отец Павел был в своем роде человек полуученый, знал по-латыне, по-гречески и несколько по-еврейски. В семинарии прошел все нижние и вышние философские и богословские классы и был учителем риторики. Но если ему известны были правила красноречия, древними авторами преподанного, если знал он, что есть метафора, антитезис и прочие риторические фигуры, то никто столь мало не был красноречив, как наш отец Павел. Добродушие было первое в нем качество, другими он не отличался и более способствовал к возродившемуся в нас в то время непочтению к священным вещам, нежели удобен был дать наставление в священном законе. Судить можно из следующего.
Исправление наше (ибо при первом нашем свидании он почел нас богоотступниками, хотя ручаться можно, что ни один из нас в то время ниже повести не читывал о афеистах) – исправление наше начал он тем, что заставил нас при утренних и вечерних на молитве собраниях петь. Если воспомнишь, мой друг, сколь нестройной, несогласной и шумной у нас был всегда концерт, то и теперь еще улыбнешься. Иной тянул очень низко, иной высоко, иной тонко, иной звонко, иной чресчур кудряво, и, наконец, устроенное на приучение ко благоговению превратилося постепенно в шутку и посмеялище.
Отец Павел, если припомнишь, гораздо был смешлив, и если случалося ему во время богослужения видеть что-либо смешное, то, забыв важность своего действия, начинал смеяться, как то случилося ему в Лейпциге, увидев одного из нас, а именно князя Трубецкого, поющего на крылосе, искривив лицо для высокого напева. Для сей-то причины он отправлял богослужение, большею частию зажмурившись.
В Риге на молитве случилось весьма смешное происшествие. Отец Павел, опасаясь увидеть что-либо пред глазами, могущее подвигнуть его на смех, зажмурился, начиная пение. Сим Михаил Ушаков, человек шутливой и проказливой, захотел воспользоваться, дабы рассмешить нашего отца Павла.
Икона, пред коей совершался наш молитвенный напев, стояла в верху довольно просторного стола, на котором раскладены лежали наши шапки, шляпы, муфты, перчатки. Пред столом стоял отец Павел, зажмурившись. М. Ушаков, взяв легонько одну из перчаток, на столе лежавших, и, согнув персты ее образом смешного кукиша, положил оную возвышенно прямо пред поющего нашего духовника. При делании поясных поклонов растворил зажмурившиеся глаза свои, и первое представилася ему сложенная перчатка. Не мог он воздержаться, захохотал громко, и мы все за ним.
Отец Павел, не привыкнув еще к нашим проказам, обретал в них более, нежели простые и юношеские шутки. Оборотясь, наименовал он нас богоотступниками, непотребными и другими в приложении юношества смешными названиями; сделавшего же вину смеха называл неграмматикально, может быть, мошенником, да и того хуже. При первых уже словах М. Ушаков, будучи весьма вспыльчив, восколебался, и столь же смешным деянием, как сей неприличными словами, представили нам позорище, какого ни на каком феатре за рубль купить не можно. М. Ушаков, схватив висящую на стене шпагу и привесив ее к бедре своей, бодро приступил к чернецу; показывая ему ефес с темляком, говорил ему, немного заикаясь от природы: «Забыл разве, батюшка, что я кирасирской офицер». В таком вкусе было продолжение сего действия, которое для нас кончилось смехом, для М. Ушакова мнимою победою, а для отца Павла отъитием с негодованием в свою комнату.
Сие и подобные сему происшествия умалили в нас почтение к духовной над нами власти, так как шутки над нашим гофмейстером некоторого проезжавшего российского гвардии офицера, о чем я скажу после, возбудили к нему в нас совершенное пренебрежение. Еще о красноречии отца Павла: следуя, не ведаю, данному предписанию или по собственному своему побуждению, он каждое воскресение по совершении литургии становился пред царскими дверьми за налоем и преподавал нам толкование о чтенном того дня Евангелии. Вследствие сего обряда в некакой праздник, во Благовещение, если хорошо помню, он объяснить нам старался, что в Священном писании разумеется под ангелом божиим. «Ангел есть слуга господень, которого он посылал для посылок; он то же, что у государя курьер, как то г. Гуляев». Тогда был в Лейпциге приехавший из Петербурга, с некоторыми приказаниями, курьер кабинета и был с нами присутствен на литургии. При изречении сего забыли мы должное к церкви благоговение, забыли ангела, видели действительного курьера, и все захохотали громко. Отец Павел засмеялся за нами вслед, зажмурил глаза, потом заплакал и сказал: «Аминь».
Приехав в Лейпциг, забыл Федор Васильевич все обиды и притеснения своего начальника и вдался учению с наивеличайшим рвением, но как не окоренел еще в трудолюбии сего рода, то на время от оного отвлечен был случившимся с нами неприятным происшествием, которое для всех нас было деятельною наукою нравственности во многих отношениях.
Если иные в повествовании сем найдут что-либо пристрастное, не буду тронут тем, ведая, что они ошибаются; но ты, мой друг, будучи содействователь всего, обрящешь в нем истину.
Имея власть в руке своей и деньги, забыл гофмейстер наш умеренность и, подобно правителям народов, возмнил, что он не для нас с нами; что власть, ему данная над нами, и определенные деньги не на нашу были пользу, но на его. Власть свою хотел он употребить на приведение нас к молчанию о его поступках. Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством сему служат все единоначальства. Глад, жажда, скорбь, темницы, узы и самая смерть мало его трогают. Не доводи его токмо до крайности. Но сего-то притеснители частные и общие, по счастию человечества, не разумеют и, простирая повсеместную тяготу, предел оныя, на коем отчаяние бодрственную возносит главу, зрят всегда в отдаленности, хождая воскрай гибели, покрытой спасительною для человека мглою. Не ведают мучители, и даждь, господи, да в неведении своем пребудут ослепленны навсегда, не ведают, что составляющее несносную печаль сему, другому не причиняет ниже единого скорбного мгновения, да и в оборот то, что в одном сердце ни малейшего не произведет содрогания, во сте других родит отчаяние и исступление. Пребуди благое неведение всецело, пребуди нерушимо до скончания века, в тебе почила сохранность страждущего общества. Да не дерзнет никто совлещи покров сей с очей власти, да исчезнет помышляяй о сем и умрет в семени до рождения своего.
Первое, с чем Бокум по приезде в Лейпциг начал правление свое, было сокращение издержек относительно нас, елико то возможно было. Но не воображай, чтобы домостроительство было тому причиною: что он отчислял от нашего содержания, то удвоял во своем, и принужден был лишать нас даже нужнейших вещей на содержание наше. О сем те, кои из нас были постарее, и в числе оных первой был Федор Васильевич, делали ему весьма краткие представления гораздо кротче, нежели когда-либо парижский парламент делывал французскому королю. Но как таковые представления были частные, как то бывают и парламентские, а не от всех, то Бокум отвергал их толико же самовластно, как и король французской, говоря своему народу: «В том состоит наше удовольствие».
Наскучив представлениями, Бокум захотел их пресечь вдруг, показав пространство своей власти. Придравшись к маловажному проступку князя Трубецкого, он посадил его под стражу, отлучив его от обхождения с нами, и приставил у дверей комнаты, в которую он был посажен, часового с полным оружием, выпросив нарочно для того трех человек солдат. Не довольствуяся таковым наглым поступком, он грозил посаженному под стражу, и нам за ним, если не уймемся, то, по данной ему власти, он будет нас наказывать фуктелем, как то называют, или ударами обнаженного тесака по спине. Сие произвело в нас противное действие тому, которое он ожидал. Ведали мы, что власти таковой ему дано не было, и всякому известно было, что мягкосердие начинало в России писать законы, оставя все изветы лютости прежних, хотя поистине душесильных времен. Негодование в нас возросло до исступления; но мы не забыли еще умеренности, и хотя скопом и заговором, но для ребят довольно правильно и благопристойно, пришли все просить его об отпущении вины князя Трубецкого и об освобождении его из-под стражи. Вместо того, чтобы воспользоваться кротким расположением душ наших и привлечь к себе нашу признательность отпущением вины сотоварища нашего в уважение нашея просьбы, он ее нагло отвергнул и выслал нас с презрением. Сие уязвило сердца наши глубоко, и мы не столько помышлять начали о нашем учении, как о способах освободиться от толико несносного ига.
Подобно как в обществах, где удручение начинает превышать пределы терпения и возникает отчаяние, так и в нашем обществе начиналися сходбища, частые советования, предприятии и все, что при заговорах бывает, взаимные о вспомоществовании обещания, неумеренность в изречениях; тут отважность была похваляема; а робость молчала, но скоро единомыслие протекло всех души, и отчаяние ждало на воспаление случая.
Бокум оного не удалял. Причина нашего неудовольствия была недостаток иногда в нужных для нашего содержания вещах, то есть в пище, одежде и прочем. Вторая зима по приезде нашем в Лейпциг была жесточее обыкновенных, и с худыми предосторожностями холод чувствительнее для нас был, нежели в самой России при тридцати градусах стужи.
Домостроительство Бокума простиралось и на дрова, и мы более в сем случае терпели недостатка, нежели в чем другом. Хотя запрещено было, как то нам сказывали, присылать к нам деньги из домов наших, но мы, неизвестны будучи о сем запрещении и охотны, особливо на случай нужды, преступить сие повеление, имели при отъезде нашем из России по нескольку собственных денег. Кто их имел, не только удовлетворял необходимым своим нуждам, но снабжал и товарищей своих. Словом, во все продолжение нашего пребывания, кто имел свои деньги, тот употреблял их не токмо на необходимые нужды, как-то на дрова, одежду, пищу, но даже и на учение, на покупку книг; не утаю и того, что деньги, нами из домов получаемые, послужили к нашему в любострастии невоздержанию; но не они к возрождению оного в нас были причиною или случаем. Нерадение о нас нашего начальника и малое за юношами в развратном обществе смотрение были оного корень, как то оно есть и везде, в чем всякий человек без предубеждения признается.
Один из нашего общества, Насакин, не получал из дому своего ни копейки и для того претерпевал более других нужду. В помянутую зиму не в силах более терпеть холода ради болезненного расположения тела, решился сделать гофмейстеру представление. Бокума он нашел играющим на биллиарде с некоим из его единоземцев и главным подстрекателем[19] его надменности. Насакин объявил ему о своем недостатке, прося дать приказание истопить его горницу. За день сего Бокум посадил под стражу князя Трубецкого, который был комнатный товарищ Насакина. На отказ, сделанный Бокумом, Насакин сделал возражение, а Бокум, не хотя оного слушать, а особливо при напоминателе о его власти, оставив свою игру, начал пришедшего толкать неучтиво; а как сей тому противился и, к нему обернувшись, говорил, что требование его о сем справедливо, то Бокум, и паче того раздраженный, ударил Насакина по щеке. Сей мнимый отчасти знак бесчестия столь сильно обезоружил Насакина, что он, не сказав более начальнику нашему ни слова, поклонился и вышел вон.
Отрада несчастному есть убежище на лоне дружбы, беседование о скорби своей. И возвестил нам обиженный о происшедшем с ним. Презрение к начальнику нашему было первое душ наших движение, но скоро к тому присовокупилось и негодование. Всяк боялся такой же участи; иной мечтал уже следствие своего отчаяния в таком случае, другой, изумленный предварительно таковою мыслию, находился в нерешимости, что должно будет ему сделать, если на него падет жребий, равный с Насакиным. Но все единогласно положили, что Бокум, сделав поступок противный не только добрым нравам, но и благопристойности, долженствовал сделать Насакину удовлетворение за обиду. В общежитии, говорил нам Федор Васильевич, если таковой случай произойдет, то оный не иначе заглажен быть может, как кровию. Сие говорил он из опытов и подкреплял примерами, но ни он, ни мы не понимали еще всей гнусности поединков в благоучрежденном обществе и, вождаемые примерами, судили, что настоял бы и теперь к оному случай, если бы дело должно было иметь с посторонним человеком, а не с начальником нашим.
Мы в то время начали только слушать преподавания права естественного и, не объяв еще всю оного связь, остановились при первых движениях, производимых в человеке оскорблением. Не имея в шествии своем ни малейшия преграды, человек в естественном положении при совершении оскорбления, влекомый чувствованием сохранности своей, пробуждается на отражение оскорбления. От сего рождается мщение, или древний закон «око за око»; закон, ощущаемый человеком всечасно, но загражденный и умеряемый законом гражданским. Несовершенное еще расположение мыслей представило уму нашему в естественном нас положении в отношении нашего начальника, и мы заключили, что Насакин долженствовал возвратить Бокуму полученную им пощечину.
Заключительной и общий наш приговор был таков, что Насакин должен идти к Бокуму и в присутствии нашем требовать от него в обиде своей удовлетворения. Если же он не восхочет того исполнить, то надлежит ему пощечину Бокуму возвратить. Долго Насакин размышлял, колебался, не мог решиться на сей поступок; но мы приговор наш подкрепили тем, что если он сего не исполнит, то лишен будет нашея приязни и обхождения с нами. Ничто столь сильного и столь скорого не могло произвести действия в душе оскорбленной Насакина, как наша угроза. Если бы приговор наш был в противную сторону, то он, да и всякий из нас, и кто бы то ни было, в равном токмо с нами положении, терпеливо бы принял еще десять пощечин, нежели бы захотел прийти в презрение у своих сотоварищей.
Собравшися и условившись, каким образом долженствовал Насакин требовать от Бокума удовольствия в обиде ему сделанной, мы пошли к нему, исключая князя Трубецкого, который сидел под стражею.
В комнате, где бывала обыкновенная наша трапеза, дожидались мы его, послав его известить, что мы желаем его видеть. Едва он вошел в комнату, как началось действие, которое при первом шаге нашего жития могло бы превратным жребием ввергнуть нас в совершенную гибель. Столь юность без советов дружества сама себе губительна! Но провидение бдело над нами, ибо превратности в сердце нашем не зрело; и для того щит его носится всегда над неопытностию и блюдет ее в самой пропасти.
Вследствие сделанного между нами положения Насакин, подступив к Бокуму, просил от него удовлетворения в обиде. Приятнее, может быть, будет читателю, приятнее тебе, мой любезный друг, если я употреблю здесь самые почти те слова, которые в то время были изречены; они были кратки, как и действие было мгновенно.
Насакин. Вы меня обидели, и теперь пришел я требовать от вас удовольствия.
Бокум. За какую обиду и какое удовольствие?
Н. Вы мне дали пощечину.
Б. Неправда, извольте идти вон.
Н. А если не так, то вот она, и другая.
Сие говоря, Насакин Бокума ударил и повторил удар.
Опасаясь дальнейшего следствия, Бокум вышел из горницы. Писарь Бокумов, бывший тогда с нами, вообразив себе, что Насакин хочет господина его заколоть, ибо имел при себе шпагу, оторвал у него ее с бедры, за что он был наказан только тем, что М. Ушаков снял с него парик. Но причина, для коей Насакин имел при себе шпагу, была иная; он был в гостях и пришед не имел времени раздеться, и на сражение пришел со шляпою и шпагою; но Бокум в обвинении своем не пропустил сего обстоятельства и сказал, что мы, а паче Насакин, покушались на его жизнь и сей вынул уже шпагу из ножен до половины, но он нас, как ребят, разогнал и раскидал. Итак, в самой клевете, не забывал он хвастовства и никогда не признался, что Насакин возвратил пощечину с лихвою.
Но если бы вздумали располагать великость вины по оружию, которое кто имел, то никого не надлежало обвинить более других, как меня. Ибо у меня были в то время карманные пистолеты, заряженные с дробью, которые я, купив за день пред сим происшествием, зарядил и хотел идти испытать оных действие в определенном к тому месте, но, по счастию, меня тогда не обыскали. Из сего глупыя юности происшествия могло бы произойти, признаюся охотно, что-либо слезное и несмешное, если бы Бокум имел кого-либо при себе, опричь старого своего писаря; и если бы, вождаем мыслию, что мы умышляли убить его, стал бы на нас наступать. В жару исступления чего не могло бы случиться, но, к счастию, М. Ушаков двери запер, и на крик старого писаря никто войти не мог.
По совершении нашего приступа мы, почитая его правильным поступком, заявили о нем университетскому ректору. Возвратяся от него, души наши покойны не были. Мы чувствовали наш проступок, но чувствовали и тягость нашего положения, и на весах правосудия мы осуждены бы быть не могли. Но всякий судия есть человек, нередко вождается внешностию.
Я ныне еще трепещу, воспоминая о намерении нашем при сем происшествии. Мы рассуждали, что наш поступок, конечно, не одобрят, что Бокум расцветит его тусклыми красками клеветы, что, если посадил под стражу за маловажный поступок, может сделать над нами еще более, и мы возвращены будем в Россию для наказания, а более того на посмеяние; и для того многие из нас намерение положили оставить тайно Лейпциг, пробраться в Голландию или Англию, а оттуда, сыскав случай, ехать в Ост-Индию или Америку. Таковы могли быть следствия безрассудной строгости начальника и неопытной юности. Но Бокум предварил умышляемому нами побегу, и не прошло получаса, как он, испросив от тамошнего военного начальника солдат вооруженных, посадил нас под стражу каждого в своей комнате.
В сем тягчительном для нас положении мы прибегнули к российскому в Дрездене министру, описав ему случившееся во всей подробности; но письмо наше до него не дошло, как то мы после того узнали, ибо Бокум тамошнему правительству сказал ложно, что ему велено было все наши письма останавливать и не прежде отправлять в Россию, как он уведомлен будет о их содержании. Таким образом, ни министр нашего двора в Дрездене, ни в Петербурге не могли быть известны о истинном нашем положении, сколько мы о том ни писали. Когда же нашелся человек, нас довольно любящий, из сожаления единственно и на своем иждивении отправившийся в Россию для извещения, кого должно, о происшедшем с нами, то о всем было от министра нашего по представлениям Бокума предварено, и жалобе нашей не внято.
Но я могу тебе наскучить, мой любезный друг, рассказывая о том, что тебе столь же известно, как мне; и для того заключу повествование о сем неприятном тогда для нас происшествии, но, по истине сказать, преподавшем нам много нравоучения деятельно. Намерение мое было показать только то, сколь много ошибаются начальники в употреблении своей власти и коликой вред причиняют безвременною и безрассудною строгостию. Если бы мы исполнили наше намерение и ушли бы из Лейпцига, вообрази, колико горести навлекли бы мы нашим родителям, друзьям, да и всем сердцам, юность возлюбляющим. Если бы государство изгнанием добровольным десяти граждан ничего, казалося, не потеряло, но отечество потеряло бы, конечно, искренно любящих его сынов. Буде кто захочет на сие доказательства, то не дам никакого; но тебе только, мой друг, воспомяну о возвращении нашем в Россию. Воспомни нетерпение наше видеть себя паки на месте рождения нашего, воспомни о восторге нашем, когда мы узрели межу, Россию от Курляндии отделяющую. Если кто бесстрастный ничего иного в восторге не видит, как неумеренность или иногда дурачество, для того не хочу я марать бумаги; но если кто, понимая, что есть исступление, скажет, что не было в нас такового и что не могли бы мы тогда жертвовать и жизнию для пользы отечества, тот, скажу, не знает сердца человеческого. Признаюсь, и ты, мой любезный друг, в том же признаешься, что последовавшее по возвращении нашем жар сей в нас гораздо умерило. О вы, управляющие умами и волею народов властители, колико вы бываете часто кратковидцы и близоруки, коликократно упускаете вы случай на пользу общую, утушая заквас, воздымающий сердце юности. Единожды смирив его, нередко навеки соделаете калекою.
Под стражею содержимы были мы как государственные преступники или отчаянные убийцы. Не токмо отобраны были у нас шпаги, но рапиры, ножи, ножницы, перочинные ножички, и когда приносили нам кушанье, то оно было нарезано кусками, ибо не было при оном ни ножей, ни вилок. Окончины были заколочены, оставлено токмо одно малое отверстие на возобновление воздуха, часовой сидел у нас в предспальной комнате и мог видеть нас лежащих на постеле, ибо дверь в спальную нашу была вынута.
Невзирая на все предосторожности, чтобы воспретить нам между собою сообщение и чтобы мы не могли известить министра нашего о нашем положении, ибо сие и была причина строгого нашего содержания под стражею, мы написали письмо и подписали его все своеручно. Никого к нам не допускали, сидели мы по двое вместе, и потому странно покажется, что все могли подписать письмо. Способ мы к тому употребили особый, и да знают удручители, что не редко строгость их бывает осмеяна в самом том, в чем они усугубляют оную.
Дом, в котором мы жительствовали, был в два жилья и имел четыре отделения вверху и четыре внизу, в каждом отделении было по две комнаты, и мы жили по двое вместе. Шестеро из нас жили вверху и четверо внизу, прочие комнаты занимали учители наши. Письмо написано было Федором Васильевичем. Привязав его на длинную нитку, выпускали его за окно; способный ветр приносил его к отверстию другого окна, в которое оно было приемлемо, и по подписании тем же способом доставляли его в другую комнату; таким образом, мы умели на пользу нашу употребить самые силы естества. На почту относимы письма наши были одним из наших учителей, который из единого человеколюбия жертвовал всем своим тогдашним счастием и отправился в Россию для нашего защищения, взяв от нас на дорогу одни карманные часы, в чем состояло все тогдашнее наше богатство; но в предприятии своем не успел, как то я сказал уже прежде. Великодушный муж! Никто из нас не мог тебе за то воздать достойно, но ты живешь и пребудешь всегда в наших сердцах.
Не довольствуяся тем, что посадил нас под стражу, Бокум испросил от совета университетского, чтобы над нами произвели суд. К допросам возили нас скрытным образом, и судопроизводство было похоже на то, какое бывало в инквизициях или в тайной канцелярии, исключая телесные наказания. Решение сего суда было, что ты и я, Янов и Рубановский были освобождены, а прочие, между которыми был Федор Васильевич, остались еще под стражею, но скоро были освобождены по повелению нашего министра. Конец сему полусмешному и полуплачевному делу был тот, что министр, приехав в Лейпциг, нас с Бокумом помирил, и с того времени жили мы с ним почти как ему не подвластные; он рачил о своем кармане, а мы жили на воле и не видали его месяца по два.
Случилося во время нашего пребывания в Лейпциге проезжать чрез оный генерал-поручику и бывшему потом сенатором Н. Е. Муравьеву с супругою своею. Сотовариществовал ему в путешествии шурин его, гвардии офицер, человек молодой, любящий шутку безвредную, и охотно смеялся насчет глупцов. Совершенно такового нашел он в нашем гофмейстере. Он, пользуясь пристрастием его к хвастовству, вывел его, по пословице, на свежую воду. До того времени не ведали мы, что гофмейстер наш за похвалу себе вменял прослыть богатырем, и если ему не было случая на подвиги, с Бовою равные, то были удальства другого рода, достойные помещения в Дон-Кишотовых странствованиях.
Помянутой гвардии офицер, подстрекая самолюбие Бокума, довел его до того, что он для доказательства своих телесных сил выпивал по его приказанию одним разом по нескольку бутылок воды или пива, давал себя толкать многим лакеям вдруг, упираяся против их усилия совлещи его с места, а сим приказано было не жалеть своих толчков, дивяся о своем против его малосилии, но сего не довольно было. Он его заставил ворочать всякие тяжести, подымать стулья, столы, платя ему за то, не умеряя и не скрывая своего смеха: «Ну, Бокум!»
Примечания достойно, до коликой степени слабость сия в человеке возрасти может, и нередко она в общежитии бывает разными нечаянными случаями поддерживаема и возвышаема. Бокум доведен был до того, что согласился вытерпливать удары довольно сильного электрического орудия. Сперва удары электрической силы были умеренны, и дабы его убедить самого в превосходстве его сил, удары производимы были над многими вдруг. Все по предварительному условию, будто от жестокости удара, падали на землю, он один оставался непоколебим, торжествуя въявь над падающими. Уверив таким образом его самого в превосходстве его сил, удары электрического орудия становилися сильнее, он выдерживал их, не показывая, сколь они для него болезненны; сила ударов столь, наконец, была велика, что едва его с ног не сшибала.
Таковые подвиги производилися ежедневно во все время пребывания сказанных путешественников в Лейпциге. Мы были непрестанные оных зрители, и презрение наше к Бокуму с того времени стало совершенное.
Отправление российских морских сил в Архипелаг, в последнюю войну между Россией и Турцией, доставило нам в Лейпциге случай видеть многих наших соотчичей, проезжавших из России в Италию и оттуда в Россию. Некто (имя его утаю, дабы не произвести в лице его краски стыда или бледности раскаяния), некто в проезд свой чрез Лейпциг оказывал отличное уважение Федору Васильевичу и снискать хотел его дружбу. Последствие показало, сколь мало она была искренна и продолжалася не более, как пребывание в Лейпциге сего мечтанного покровителя учености. Ни одного дня не проходило, скажу охотно, ни одного почти часа во дни, чтобы Федор Васильевич не был с Ф…, вместе упражняяся в рассуждениях большею частию метафизических. Он делал ему уверения, что извлечет его из руки отягощения, обещевая ему мощное свое покровительство. Вняв лестному гласу дружбы, Федор Васильевич отверз ему свое сердце. Луч надежды, казалося, обновился в нем, но скоро сбылася с ним французская пословица: «отсутствующие всегда виноваты». Едва сказанной покровитель уехал из Лейпцига, как забыл Федора Васильевича и деланные ему обещания, да и столь совершенно, что на все письма его не ответствовал ему ни слова. Или ему низко было вступать в переписку с неравным ему состоянием; или благодарить надлежит за то наукам, что среди обиталища их различие состояний нечувствительно и взоров природного равенства не тягчит, и для того в Лейпциге Ф… обходился с Федором Васильевичем как с равным себе. И поистине равен он был тебе, мразная душа, силами разума, но далеко превышал тебя добротою сердца.
Сие происшествие оставило в душе Федора Васильевича некую мрачность, которая пребыла с ним до кончины его; посеяло в душе его справедливую недоверчивость к обещаниям, наипаче знатных, и понудило его вдаться еще более учению, от коего единственный ожидал он себе отрады; в чем он и не ошибался. Ибо желание науки, хотя не навсегда, но паки развеяло темноту грусти, и истина светом своим награждала ему за его скорбь.
Признаться надлежит, что Ф… присутствием своим в Лейпциге и обхождением с нами возбудил как в Федоре Васильевиче, так и во всех нас великое желание к чтению, дав нам случай узнать книгу Гельвециеву «О разуме». Ф… толикое пристрастие имел к сему сочинению, что почитал его выше всех других, да других, может быть, и не знал. По его совету Федор Васильевич и мы за ним читали сию книгу, читали со вниманием, и в оной мыслить научалися. Лестна всякому сочинителю похвала иногда и невежды, но Гельвеций, конечно, равнодушно не принял, узнав, что целое общество юношей в его сочинении мыслить[20] училося. В сем отношении сочинение его немалую может всегда приносить пользу.
Предоставленный сам себе и полагая единственное упование на правосудие государя своего, восчувствовал Федор Васильевич к предстателям мерзение. Он устремил все силы свои и помышления на снискание науки, и в том было единственное его почти упражнение. Сие упорное прилежание к учению ускорило, может быть, его кончину. За год пред смертию приключилась ему болезнь, которая была, можно сказать, преддверием другой, введшей его во гроб. Употребляя действительные и мощные лекарства, он не покидал, вопреки совету своего врача, упражняться денноночно в чтении и в сие время начал писать о книге Гельвециевой письма, коих найдены после него только касающиеся до начала первой книги сочинения «О разуме». Упорным своим к учению прилежанием он остановил в крови своей смертоносной болезни жало, которое следующей весною, воссвирепствовав снова, отверзло ему врата смерти.
Сие пишу я для собственного моего удовольствия, пишу для друга моего, и для того мало нужды мне, если кто наскучит чтением сего, не нашед в повествовании моем ни одного происшествия, достойного памятника и, ради мерзости своея или изящности ради, равно блистающего. Ибо равно имениты для нас Нерон и Марк Аврелий, Калигула и Тит, Аристид и Шемяка, Картуш, Александр, Катилина и Стенька Разин, – все славны, все живут на памяти потомства и не возмущаются тем, что о них мыслят. Не тревожился бы и всяк любящий человечество, если бы добрая или худая слава по смерти во что-либо вменялась; но по несчастию всех, имеяй власть в руках мало рачит о том, что о нем скажут живу ему сущу, и не помышляет нимало о том, что скажут о нем по смерти. Он ищет токмо ободрения своего самолюбия и стяжания своей пользы. Не тревожился Юлий Кесарь о том, что прослывет государственным татем, когда похищал общественную казну, не тревожился Ла, что прослывет общественным злодеем, вводя во Францию мнимое богатство, которое, существовав одно мгновение, повергло часть государства в нищету; не тревожился Лудвиг XIV в величании своем, оставит ли потомство ему титло великого, которое в живых ему прилагало ласкательство; не боятся правители народов прослыть грабителями, налагая на сограждан своих отяготительные подати, ни прослыть убийцами своей собратии и разбойниками в отношении тех, которых неприятелями именуют, вчиняя войну и предавая смерти тысячи воинов.
Сказав сие, может быть, некстати, я возвращусь к умершему нашему другу и постараюся отыскать в его деяниях то, что привлекательно быть может не для ищущих блестящих подвигов в повествованиях и с равным вкусом читающих Квинта Курция и Серванта, но для тех, коих души отверсты на любление юности.
Нам предписано было учиться всем частям философии и правам, присовокупя к оным учение нужных языков, но Федор Васильевич думал, что не излишне для него будет иметь понятие и о других частях учености, и для того имел он в разных частях учителей, платя им за преподавание их собственные свои деньги. При сих способах для приобретения разных знаний он надежнейшим всегда почитал прилежное чтение книг.
Сие располагал он всегда соответственно тому, что преподаваемо нам было в коллегиях[21]. Итак, когда, по общему школьному обыкновению, начали нас учить прежде всего логике, то Федор Васильевич читал Арново искусство мыслить и основания философии С. Травезанда и, соображая их мнения со мнениями своего учителя, старался отыскать истину в среде различия оных.
Между разными упражнениями, к приобретению знаний относящимися, Федор Васильевич отменно прилежал к латинскому языку. Сверх обыкновенных лекций имел он особые. Солнце, восходя на освещение трудов земнородных, нередко заставало его беседующего с римлянами. Наиболее всего привлекала его в латинском языке сила выражений. Исполненные духа вольности, сии властители царей упругость своея души изъявили в своем речении. Не льстец Августов и не лизорук Меценатов прельщали его, но Цицерон, гремящий против Катилины, и колкой сатирик, не щадящий Нерона. Если бы смерть тебя не восхитила из среды друзей твоих, ты, конечно, о бодрственная душа, прилепился бы к языку сих гордых островитян, кои некогда, прельщенные наихитрейшим из властителей, царю своему жизнь отъяти покусилися судебным порядком; кои для утверждения благосостояния общественного изгнали наследного своего царя, избрав на управление постороннего; кои при наивеличайшей развратности нравов, возмеряя вся на весах корысти, и ныне нередко за величайшую честь себе вменяют противоборствовати державной власти и оную побеждать законно.
Между разными науками, коих основания алчная Федора Васильевича душа пожрать, так сказать, хотела вдруг, отменно прилепился он к мафематике. Сходствуя с расположением его разума, точность сей науки услаждала его рассудок. С какою жадностию он проходил все части сей в началах своих столь отвратительныя, так сказать, науки, но столь общеполезной в ее употреблении! Свойственно душе Федора Васильевича было мыслить, что огромнейшие в мире телеса, наиотдаленнейшие от нашего обиталища, коих единое наше зрение, сие наивластительнейшее и великолепнейшее из чувств наших, может постигать при вспоможениях, человеком изобретенных, что сии малейшие точки во зрении, необъятные в действительности громады, повинуются в течении своем исчислению. И как не возгордиться человеку во бренности своей, подчиняя власти своей звук, свет, гром, молнию, лучи солнечные, двигая тяжести необъятные, досязая дальнейших пределов вселенныя, постигая и предузнавая будущее. Таковые размышления побудили некогда сказать Архимеда: если бы возможно было иметь вне земли опору неподвижную, то бы он землю превратил в ее течении. «Дай мне вещество и движение, и мир созижду», – вещал Декарт. Таковые размышления составили все системы о мире, все правдоподобия о нем и все нелепости.
За счастию почесть можно, если удостоишься в течение жития своего беседовати с мужем, в мире прославившимся; удовольствием почитаем, если видим и отличившегося злодея, но отличным счастием почесть должно, если сопричастен будешь беседе добродетелию славимого. Таковым счастием пользовалися мы, хотя не долгое время, в Лейпциге, наслаждаяся преподаваниями в словесных науках известного Геллерта. Ты не позабыл, мой друг, что Федор Васильевич из всех нас был любезнейший Геллертов ученик и что удостоился в сочинениях своих поправляем быть сим славным мужем. Малое знание тогда немецкого языка лишило нас пользоваться его наставлениями самым действием; ибо хотя мы слушателями были его преподаваний, но недостаток в знании немецкого языка препятствовал нам равняться с Федором Васильевичем.
Вращаяся всечасно между разными предметами разумения человеческого, невозможно было, чтобы в учении разум Федора Васильевича пребыл всегда, так сказать, страдательным, упражняяся только в исследовании мнений чуждых. Но в сем-то и состоит различие обыкновенных умов от изящных. Одни приемлют все, что до них доходит, и трудятся над чуждым изданием, другие, укрепив природные силы своя учением, устраняются от проложенных стезей и вдаются в неизвестные и непроложенные. Деятельность есть знаменующая их отличность, и в них-то сродное человеку беспокойствие становится явно. Беспокойствие, произведшее все, что есть изящное, и все уродливое, касающееся обоюдно до пределов даже невозможного и непонятного, возродившее вольность и рабство, веселие и муку, не щадящее ни дружбы, ни любви, терпящее хладнокровно скорбь и кончину, покорившее стихии, родившее мечтание и истину, ад, рай, сатану, бога.
Федор Васильевич, упражняяся в размышлениях о вещах, видел возрождающиеся в разуме его мысли, отличные новостию своею от обретаемых им на пути учености, и для того не мог оставаться в бездействии. Скоро подан был ему случай испытать свои силы в изображении связию своих мыслей. Ежегодно бывал нам экзамен, или испытание о приобретениях наших в учении. Сколь много все таковые испытания имеют смешного и цели, для коей они установлены, не досязающего, всяк, ведающий о них до пряма, признается. Нередко тот, кто более всех знает, почитается невеждою и ленивым, хотя трудится наиприлежнейше и с успехом. Но тем экзамены полезны, что возбуждают тщеславие и устремляют учащегося отличаться пред сотоварищами своими; но дабы и в сем случае не возбуждать тщеславия безуспешно, то нужно, чтобы таковые испытания не были редки, дабы возникшая страсть в обыкновенных душах не угасала. Для назначенных же перстом всевечным к бессмертию в посторонних подстреканиях любочестия нужды нет. Они сами в себе довольно имеют ко стяжанию славы побуждения, и хотя оные небескорыстны, но умовенны всегда в благом источнике.
По прошествии трех лет обязаны мы были к наступившему для нас времени на испытание показать наши успехи в учении, представя письменно связь мыслей о какой-либо материи. Федор Васильевич избрал для сего наиважнейшие предметы, до человека касающиеся в гражданском его отношении.
Человек, живущий в обществе под сению законов для своего спокойствия, зрит мгновенно силу общую, доднесь ему покровительствовавшую, возникающую на его погубление. Друзья его до сего дня, сограждане его возлюбленные, становятся его враги, преследуют ему, и рука сильного подавляет слабого, томит его в оковах и темнице, отдает его на поругание и смерть. Что может оправдать таковое свирепство? Сие-то намерен показать Федор Васильевич в сочинении своем, разыскав следующие задачи:
1. На чем основано право наказания?
2. Кому оное принадлежит?
3. Смертная казнь нужна и полезна ли в государстве?
Цель, для коей он писал сие, не позволяла ему распространиться, но все, что можно сказать в оправдание несчастного права казни, и все, что может ее представить вероятно справедливою, того Федор Васильевич не проронил. Связь его мыслей есть следующая.
Показав, что человек, ощущая себя слабым на удовлетворение своих недостатков в единственном положении, следуя чувствительному своему сложению, для сохранности своей вступает в общество. Дабы общество направляемо было всегда ко благому концу, условием изъявительным или предполагаемым поставляется власть, могущая сие производить и отвращать зло, которое бы могло причинено быть обществу. Лице, власть сию имеющее, именуют государем в единственном и соборном лице. Следственно, тот, кто долг имеет пещися о благе общества, имеет право не дозволять и препятствовать вредить ему; следственно, что тот, что поставляет власть для своего блага, согласуется повиноваться и ее прещению, когда деянии его от благой цели устраняются. Показав, что при определении наказаний иной цели иметь не можно, как исправление преступника или действие примера для воздержания от будущего преступления, Федор Васильевич доказывает ясными доводами, что смертная казнь в обществе не токмо не нужна, но и бесполезна. Сие, ныне почти общеприемлемое правило, утверждает он примером России. Я не намерен преследовать Федору Васильевичу в рассуждениях его. Изображая их здесь, могу или отъять силу его доводов, или только оные распространить без нужды. Тому и другому предварить можно, читая его сочинение, которое ясностию мыслей, краткостию слога и твердостию доводов заставит всякого потужить о безвременной кончине сочинителя на двадцать третьем году его возраста.
Опричь малого сочинения о любви и писем о Гельвециевой книге «О разуме», ничего более не найдено в бумагах Федора Васильевича. Выписки из многих книг, хотя без связи, доказывают, что он располагал свое чтение со вниманием. Кто может определить, что с ним потеряло общество? Определить могу я, что потерял друга; но если судьба позавидовала тогда моему блаженству, наградила она меня с избытком, дав мне, мой друг, тебя.
Последнее время жития своего среди терзания болезни и грусти, от нее рождающейся, Федор Васильевич не забыл учения, и разве истощение сил отвлекало его от упражнения в науке. Наконец наступило время, когда почувствовал он совершенное сил своих изнеможение. За неделю еще пред кончиною своею ходил он с нами на гулянье и наслаждался еще беседою любящих его, но силы его, ослабев, принудили лечь в постелю. Надежда, сие утешительное чувствие в человеке, не покидала его; но за три дни до кончины своея почувствовал он во внутренности своей болезнь несказанную, конечное разрушение тела его предвещающую. Не хотел он пребыть в неведении, призвав своего врача, на искусство коего он справедливо во всем полагался, просил его прилежно, да объявит ему истину, есть ли еще возможность дать ему облегчение, и да не льстит ему напрасною надеждою исцеления, буде само естество положило уже тому преграду. «Не мни, – вещал зрящий кончину своего шествия, томным хотя гласом, но мужественно, – не мни, что, возвещая мне смерть, востревожишь меня безвременно или дух мой приведешь в трепет. Умереть нам должно; днем ранее или днем позже, какая соразмерность с вечностию!»
Долго человеколюбивый врач колебался в мыслях своих, откроет ли ему грозную тайну, ведая, что утешение страждущего есть надежда и что она не покидает человека до последнего издыхания. Но, видя упорное желание в больном ведать истину о своей болезни и понимая его нетрепетность, возвестил ему, что силы его не более одних суток противиться возмогут свирепости болезни, что завтра он жизни не пребудет уже причастен.
Случается, и много имеем примеров в повествованиях, что человек, коему возвещают, что умреть ему должно, с презрением и нетрепетно взирает на шествующую к нему смерть на сретение. Много видали и видим людей, отъемлющих самих у себя жизнь мужественно. И поистине нужна неробость и крепость душевных сил, дабы взирати твердым оком на разрушение свое. Но страсть, действовавшая в умирающем без болезни, пред кончиною его живет в нем до последния минуты и крепит дух. Нередко таковый зрит и за предел гроба и чает возродиться. Когда же в человеке истощением сил телесных истощаются и душевные, сколь трудно укрепить дух противу страха кончины, а тем паче тому, кто, нисходя во гроб, за оным ничего не видит. Сравни умирающего на лобном месте или отъемлющего у себя жизнь насильственно с умирающим нетрепетно по долговременной болезни на одре своем и скажи, кто мужественнее был, испуская дух бодрственно?
Услыша приговор свой из уст врача, Федор Васильевич не востревожился нимало, но, взяв руку его, «нелицемерной твой ответ, – сказал он ему, – почитаю истинным знаком твоея дружбы. Прости в последний раз и оставь меня».
Удостоверенный в близкой кончине своей, Федор Васильевич велел нас всех позвать к себе, да последнюю совершит с нами беседу. «Друзья мои, – вещал он нам, стоящим около его постели, – час приспел, да расстанемся: простите, но простите навеки». Рыдающих облобызал и, не хотев более о сем грустити, выслал всех вон.
Осьмнадцать лет уже совершилося, как мы лишилися Федора Васильевича, но, мой друг, сколь скоро вспомню о нем, то последнее его с нами свидание столь живо существует в моем воображении, что то же и днесь чувствую, что чувствовал тогда. Сердце мое толико уязвлено было тогда скорбию, что впоследствии ни исступление радости и утех, ни величайшая печаль потерянием возлюбленной супруги не истребило чувствование прежния печали.
Спустя несколько времени он призвал меня к себе и вручил мне все свои бумаги. «Употреби их, – говорил он мне, – как тебе захочется. Прости теперь в последний раз; помни, что я тебя любил, помни, что нужно в жизни иметь правила, дабы быть блаженным, и что должно быть тверду в мыслях, дабы умирать бестрепетно». Слезы и рыдание были ему в ответ, но слова его громко раздалися в моей душе и неизгладимою чертою ознаменовалися на памяти. Поживут они всецелы, доколе дыхание в груди моей не исчезнет и не охладеет в жилах кровь. Даждь небо, да мысль присутственна мне будет в преддверии гроба, и да возмогу важное сынам моим оставить наследие, последнее завещание умирающего вождя моея юности, и живого да оставлю им в вожди друга любезнейшего, друга моего сердца, тебя.
Что после сего последовало, тебе, мой друг, более известно, нежели кому другому. Ты последние часы был при нем безотлучен, ты был свидетелем последнего вздымания его груди. Скажи, мой друг, почто и я тут не был. Или слабость моего здоровья, или нетвердость духа, или какая другая причина отлучила меня от умирающего и воспретила мне видеть последние черты его жизни и прехождение ее во смерть. Но ко всем сим причинам совокупно было и недозволение на то умирающего. Или столь мал был жар дружбы в сердце моем, что я не преступил его веления. О мой друг! в минуты благоденствия, когда разум ничем не упрекает сердцу, мысль сия тягчит меня, и я мал становлюся перед собою.
Предвещание врача начало совершаться. Доселе нечувствительным покатом состав жизни спускался ко смерти, но вдруг она повлекла его всесильною рукою. За несколько часов пред кончиною Федор Васильевич почувствовал во внутренности своей болезнь несносную, возвещающую ему отшествие жизни. Доселе уста его не испускали жалобного стона, но, скорбь одолев сопротивлением, страждущий вскричал содрогающимся гласом. Знаки антонова огня, внутренность его объявшего, начали казаться на поверхности тела; в окрестностях желудка видны были черные пятна. Терзаемый паче всякого истязания, суеверием или мучительством на казнь невинности изобретаемого, прибегнул Федор Васильевич к тебе, мой друг, да скончаешь его болезнь, – болезнь, а не жизнь скончати называю, ибо врата кончины ему уже были отверсты. Тебя, мой друг, просил он, да будешь его при издыхании благодетель и дашь ему яду, да скоро пресечется его терзание. Ты сего не исполнил, и я был в приговоре, да не исполнится требование умирающего. Но почто толикая в нас была робость? Или боялися мы почесться убийцами? Напрасно; не есть убийца, избавляяй страждущего от конечного бедствия или скорби. Друг наш долженствовал умереть, и час врачом был ему назначен по нелживым признакам, то не все ли равно было для нас, что болящий скончает жизнь свою мгновенно или продлится она в нем на час еще един; но то не равно, что продолжится в терзании несносном. Мы потерять его были уже осуждены. Скажет некто, что врач мог ошибиться. Согласен; но болящий не ошибался в мучении своем и прав был, желая скончания оного, а мы не правы, дав оному продолжиться.
Мой друг, ты укоснил дать помощь Федору Васильевичу, но не избавился вперед, может быть, от требования такого же рода. Если еще услышишь глас стенящего твоего друга, если гибель ему предстоять будет необходимая и воззову к тебе на спасение мое, не медли, о любезнейший мой; ты жизнь несносную скончаешь и дашь отраду жизнию гнушаемуся и ее возненавидевшему.
Наконец, естественным склонением к разрушению, пресеклась жизнь Федора Васильевича. Он был, и его не стало. Из миллионов единый исторгнутый неприметен в обращении миров. Хотя не можно о нем сказать во всем пространстве, как некогда Тацит говорил о Агриколе и Даламбер о Монтескью: «Конец жизни его для нас скорбен, для отечества печален, чуждым и даже неизвестным не без прискорбия». Но то скажу справедливо, что всяк, кто знал Федора Васильевича, жалел о безвременной его кончине, тот, кто провидит в темноту будущего и уразумеет, что бы он мог быть в обществе, тот чрез многие веки потужит о нем; друзья его о нем восплакали; а ты, если можешь днесь внимать гласу стенящего, приникни, о возлюбленный, к душе моей, ты в ней увидишь себя живого.
Конец первой части.
Часть вторая Размышлении
1. О ПРАВЕ НАКАЗАНИЯ И СМЕРТНОЙ КАЗНИ.
2. О ЛЮБВИ.
3. ПИСЬМЫ О ПЕРВОЙ КНИГЕ ГЕЛЬВЕЦИЕВА СОЧИНЕНИЯ «О РАЗУМЕ».
Разыскание следующих вопросов:
1. На чем основывается право наказания?
2. Кому оное принадлежит?
3. Смертная казнь нужна ли и полезна ли в государстве, то есть в обществе людей, законами управляемом?
Прежде разыскания сих вопросов надлежит определить смысл понятия о наказании. Я под оным разумею зло, соделываемое начальником преступнику закона. Дав таковое изъяснение, мне надлежит, кажется, рассмотреть человека, каков он произведен природою, не коснувшись общества, дабы яснее определить, на чем основывается право наказания. Сие-то я и намерен разыскать столь кратко, сколько то возможно по существу самой вещи и по намерению сего сочинения.
Если мы вообразим первенственное состояние человека, состояние равенства и независимости, то узрим его самовластным судиею своих определений. Если мы рассмотрим его существо, то найдем его одаренного понятием (то есть свойством составлять идеи и оные сравнивать) и физическою или телесною чувствительностию. Понятие делает его удобным ко блаженству, то есть определять хотение свое сходственно со своим благосостоянием; телесная чувствительность повещает ему о его надобностях и показует ему способы, удобнейшие к удовлетворению оным. Любовь самого себя или своего благосостояния есть основание всех человеческих деяний. Сие чувство, природою в нас впечатленное, есть всеобщее и для того не требовало бы доводов, но случается, что наипростейшие и яснейшие истины подвергаются иногда сомнениям. Для того я дам оному доказательство, на самом существе нашего понятия основанное.
Всякое понятием одаренное существо имеет чувство о своем существовании, ибо кто чувствует, тот не может быть бесчувствен. Следственно, он может предпочесть состояние пребывания другому состоянию пребывания, то есть почитать одно счастливее другого; но предпочитать одно состояние другому есть то же, что определять свое хотение и избирать состояние пребывания, счастливейшим почитаемое, – суть одинаковые вещи. Из сего следует, что все права и должности человека из сего проистекают начала и все оному без изъятия суть подчинены. Оттуда право защищать себя или отвращая обиду, или награждая ущерб, или предупреждая своего злодея, если случится быть в грозящей опасности или уверенному о злодейском намерении своего противника. Ибо имеющий право к цели имеет неотменно право к способам позволительным; итак, старание о своей сохранности, будучи средством необходимым для пребывания во благосостоянии, есть право нераздельное от человека. Доселе понятие о наказании исчезло для того, что оное предполагает начальника, истребляет понятие естественныя свободы, а потому и равенства. Но сие состояние независимости и равенства, столь прекрасное в воображении, не могло продлиться вследствие несовершенства человека. Слабость младенчества, немощь старости, природная склонность человека к самовластию, непрестанная боязнь, да не подвергнется насилиям могущественнейших, – словом, препятствия, сохранности каждого в естественном состоянии вредящие, превзошед своим сопротивлением силы, употребляемые каждым для пребывания в сем состоянии, люди принуждены стали пременить внешнее состояние их жития. Но как они не могли произвести новых сил, а совокупить и соединить токмо имевшие, то надлежало установить общество, где каждый подвергался верховному вождению государя и менял свою природную свободу, силами каждого ограниченную, на свободу гражданскую, в житии по законам состоящую. Рассмотрим теперь человека в сем новом положении и начнем объяснением существа государств.
Народ есть общество людей, соединившихся для снискания своих выгод и своея сохранности соединенными силами, подчиненное власти, в нем находящейся; но как все люди от природы суть свободны и никто не имеет права у них отнять сея свободы, следовательно, учреждение обществ предполагает всегда действительное или безмолвное согласие. О сем иные сомневаются, почитая народ собранием единственников. Но оно представляет нравственную особу, общим понятием и хотением одаренную и для того права и обязанности иметь могущую; следовательно, можно ей сделать обиду.
Общество, так сложенное, долженствовало помышлять о таком средстве, которое бы положило всем оного членам необходимость направлять все их деяния сходственно с общим благом; для того-то люди, пременяя образ своего бытия, не пременяют своей природы, и злодеяния, принудившие их составить общество, не истребились бы, беспорядок остался бы, и разрушение государства последовало бы непременно. Но как скорбь и отвращение от зла и притяжательность веселия суть равно всеобщие, то ясно следует, что наидействительнейшее средство подчинить частное хотение хотению всеобщему и принудить граждан поступать только сходственно с намерениями законоположника, есть учреждение награждений и наказаний. Я пред сим доказал, что общество не может быть разве действительным или безмолвным согласием всех единственников. А как установление наказаний есть средство, необходимое для содержания порядка и для направления деяний каждого, сходственно с общим благом, то ясно, что начало права наказаний основывается на их согласии, ибо кто желает цели, тот желает и средства.
Некто возразить может: определяя волю свою к цели блаженства, возможно ли, чтоб человек условился на предосудительное своему благосостоянию? Ответствую: 1) Вступая в общество, никто не мнит о себе, что будет нарушитель закона, а тем общественный злодей; но каждый, обязуяся жить по законам, никто из оных не исключен, и сие никому не предосудительно. 2) Всяк властен вдать опасности не токмо несколько своих прав, но и самую жизнь для сохранения оной. В таковом деянии человека выбор стремится к цели своея выгоды, ибо меняет он зло действительное и настоящее на зло будущее, от коего он легко уклониться может. Сии рассуждения влекут заключении, что человек, обязуяся терпети зло, начальником его ему соделываемое за преступление закона, ничего не терпит, но паче выигрывает: следственно, действие сие, стремящееся единственно к его сохранности, есть законно и твердо.
Положив основание праву наказания, я могу приступить к решению второго моего вопроса, то есть, кому принадлежит право наказания. А понеже сия задача есть дальнее токмо следствие первой, то довольно будет, если утвержу оную одним простым доводом, не входя в дальнейшее рассмотрение.
Состав каждого правления требует государя, или вождя, который бывает нераздельною или соборною особою, одаренною верховною властию для направления всех единственных воль и сил к общественному благу. А как сохранность народа и содержание доброго порядка суть первые предметы его попечения, чего без учреждения наказаний и награждений приобрести не можно, то ясно следует, что право наказания принадлежит единому токмо государю, право, которое он может вручить нижним властям. Но они суть токмо исполнители вышния воли государя, законами определенной и пересуду не подверженной.
Я приступлю теперь к последней задаче. Вопрошается: смертное наказание полезно ли и нужно ли в обществе? Для решения сего надлежит рассмотреть цель наказания вообще.
Цель законодателя при учреждении наказаний есть сохранность граждан, утверждение законного владения их имений, предварение природныя склонности человека присвоять все, что может взять невозмездно, наконец, приведение к должностям уклонившихся от оных. Отсюду истекает примерное наказание, стремящееся к отвращению от беззаконных и злых дел всех, ведающих о болезнях, злодеями претерпеваемых. Иные отметают исправление, которое не что иное есть, как средство к приведению преступника в самого себя истязанием; средство к произведению в душе истинного раскаяния и отвращения от злых дел. Другие мнят быти возмездию, состоящему в соделании зла за зло. Сомневаюсь, чтоб те были правы, а докажу, что сии, конечно, ошибаются.
Представим себе государство нравственною особою, а граждан оного ее членами. То можно ли подумать, что человек, раздробивши себе ногу, восхотел бы воздать зло за зло и преломить себе другую. Положение государства есть сему подобно. Все действия государства должны стремиться к благосостоянию оного: а награждать злом за зло есть то же, что невозвратное зло себе соделать. Желать себе зла противно существу общества, и таковое действие предполагает безумие, но безумие права не составляет. Следовательно, таковое действие не есть законно, ни полезно, а потому и невозможно; да и полагающие возмездие, кажется, похожи на последователей системы беспристрастной свободы, которые, утверждая, что хотение есть хотение и что хочу, для того что хочу, приемлют, очевидно, действие без причины.
Отметающие исправление основываются на невозможности судить об оном и определить время, когда преступник придет в себя. Суд, говорят они, объемлет внешние токмо действии; никто не судит о намерении, и законодатель не может пещися о исправлении.
Дабы ответствовать с точностию на сие заключение, надлежит сперва разыскать, может ли человек исправиться? Для сего рассмотрим его в себе самом и вопросим природу. Человек рождается ни добр, ни зол. Утверждая противное того и другого, надлежит утверждать врожденные понятия, небытие коих доказано с очевидностию. Следственно, злодеянии не суть природны человеку; следственно, люди зависят от обстоятельств, в коих они находятся, а опыты нас удостоверяют, что многие люди повиновалися несчастному соитию странных приключений. Если же человек случайно бывает преступником, то всяк может исправиться. Если он повинуется предметам, его окружающим, и если соитие внешних причин приводит его в заблуждение, то ясно, что, отъемля причину, другие воспоследуют действия. Сверх же того, дабы доказать, что исправление невозможно, надлежало бы определить силу злобы, потребной в преступнике для соделания действия, запрещенного законами. А как может оное быть? Творец действия иногда не ведает сам побуждений, его влекущих, то есть, что он неясно видит соитие обстоятельств, побудивших его к действию. Если же невозможно положить явного предела исправлению, если же, напротив того, очевидно, что человек может исправиться и что люди разнствуют токмо в количестве, то не справедливо ли будет в сем случае клониться к большей вероятности. Сие-то я и намерен рассмотреть, восходя от действия ко причинам.
Представим себе человека, на несколько степеней страсть имеющего и совсем к добродетели равнодушного: добродетелию я называю навык действий, полезных общественному благу. Таковой человек столь же непременно впадает в злодеяние, как брошенный камень падает на землю. Решить должно, можно ли сего человека исправить? Злодеяние в человеке рождается от притяжания веселия и от глупыя надежды безвозмездия, от чего должно воздерживать его болезнию. Злодей, уличенный в своем злодеянии, осуждается на потеряние своея свободы. Утрата невозвратимая, все превосходящая, а паче для человека просвещенного. Вринутый в глубокую темницу и в снедь скуке, отчаяние объемлет его душу; за оным следует ярость на свое непроворство. Ибо трудно неистовству признаться виновным, но немощь соделати зло превращает, так сказать, естество его хотения, равно как невозможность удовлетворить желанию оное истребляет. Дошед до сея степени, он себя рассматривает; а рассуждение человека о известных обстоятельствах всегда бывает справедливо, если разум его не ослеплен страстию. Здесь все его страсти утихли или настоящим страданием, или воображением отсутствия всех веселий. Он познает свое злодеяние. И можно ли, чтоб он его не познал? Если человек наикрепчайший колеблется, если Катон, если Брут, сии строгие стоики, возмогли подвигнуться и пременили намерение, то какой смертный не пременится? К тому же мы охотно последуем в рассуждениях другим людям, дабы избавиться трудности исследования, угождая природному человека недействию или повинуяся общественному рассуждению. Тако преступник, зря себя покрыта бесчестием и срамотою, у всех в презрении, един среди всех и преданный себе самому, прибегает к раскаянию, яко к единой несчастных отраде, которая поистине сильнее, нежели думают.
Но преступник, скажут мне, может затвердеть во злодеянии, он может даже нечувствителен быть к болезни, которую ощущает. Сие невразумительно; но раскаяние, кое неизбежно, производит непременно отвращение к действиям, приведшим в раскаяние, а телесная болезнь делает оные ужасными. Несчастный, чрез долгое время навыкший с ужасом взирать на прошедшие свои дела, отвращается от злодейства, а впечатление сие, всегда и непрерывно пребывающее, столь привычно ему станет, что от единыя мысли злодеяния вострепещет. Если все люди имеют свойство соединять с одинаковыми предметами одинаковые мысли и воображать нераздельными идеи, кои они в одно имели время, так что одна не может возбудиться без другой; если привычка другая есть природа, коли не первая, как то думает Гельвеций, и если чувствование скорби сильнее по себе оставляет впечатление, нежели чувствование, мысленным воображением познаваемое, то я могу утверждать, что в человеке степени порока пременятся в десять лет во столько же степеней добродетели. Дабы смертная казнь производила свое действие, нужно, чтобы преступлении были всечасны; ибо каждое примерное наказание предполагает вновь сделанное преступление; желать сего есть то же, что хотеть, чтоб самая та же вещь была сама по себе купно и другая вещь в одно время, следовательно, желать противоречия.
Но, скажет некто, если телесные болезни, смерти предшествующие, сильнее всего в человеке действуют, то надлежит прибегнуть к изысканным казням? Признаюсь, что они весьма чувствительно и сильно действуют; но и то известно, что они преходящие токмо доставляют выгоды, и сие-то, думаю, доказывает их бесполезность. Какое зверство, какой ужасный вымысел в казнях при Калигуле, Нероне, Диоклитиане! Какое, напротив того, наблюдение в сохранении жизни граждан во время республики. Различие в сии времена во нравах относится всегда к похвале народного правления. Сие и доказывает, что не жестокость казни удерживает преступника или предваряет преступление, но мудрое законоположение и соединение общей корысти с частными корыстьми, поелику то возможно. Свирепость наказаний показует всегда народное повреждение и причиняет избежание казни, а надежда укрыться от оныя умаляет ее действие и воспрещает жертвовать злодейским, но настоящим веселием. Владычество привычки есть всеобщее над человеком, и яко веселие исчезает продолжением, тако поражение теряет свою силу частым повторением. Избраннейшая казнь теряет свое действие и становится, наконец, бесплодною; как же соразмерить наказание преступлению? В телесном и нравственном мире все имеет свои пределы, естество человеческое имеет также свой предел во зле и благе; то ясно, что, полагая изысканные казни, надлежит на чем-нибудь остановиться. Тут будет несоразмерность наказания с преступлением; будет сие не правосудно, а потому сумасбродно.
Понеже ясно, что смертная казнь никогда долговременного не производит впечатления и, поражая сильно и мгновенно души, бывает тем недействительною; понеже жестокость казни становится вредною, непременного ради следствия своея бесполезности, то я могу заключить, что смертное наказание не может быть ни полезно, ни нужно в государстве.
Положив сие начальное правило и устремляя внимательное око на сложение государств и на обряд уголовных дел, я покажу два опасных следствия смертныя казни. Образ всякого правления влечет за собою неравенство имений. Монархическое тем и существует, аристократическое оного отвергнуть не может, в демократическом хотя бы надлежало быть равенству имений, но, судя с точностию, не может быть истинной демократии, и сие правление, приличествуя токмо весьма малым и бедным государствам, не может, и по мнению г. Руссо, сделать народа счастливым, по склонности своей к возмущениям. Опыты всех веков и настоящее государств состояние доказывают невозможность равенства имений. А неравенство оных производит с одной стороны нищету, а с другой роскошь; сего ради могу я сделать положение, что в двадцати миллионах жителей найдется, по самой крайней мере, двести, в крайнее убожество поверженных: едва возмогут они добыти дневную пищу, и жизнь непременно будет им в отягощение. Они восхотят оной лишиться; закон им доставит сие благодеяние, которого удостоятся они злодействами: и се уже двести преступников, укрепленных мгновением казни и надеждою нескольких годов услаждения.
Второе следствие, ужаснее первого, истекает из обряда уголовных дел. Люди определяют наиважнейшие действия своея жизни по нравственной ясности; следственно, и знаки, преступление утверждающие, на оной же должны основываться: но и, по мнению самого творца книги «О преступлениях и наказаниях», нравственная ясность не что иное есть, как наивеличайшая вероятность; а как нет вероятности, коея бы противоположность не была возможна, то заключаю, что со всеми осторожностями в осуждении преступления можно ошибиться и осудить невинного и что бывают случаи, коих истина едва чрез долгое течение времени отверзается. Ибо какой человек почтется преступити не могущим? Невежество судии введет его в погрешность, сребролюбие повредит его правоту, отеческая нежность, любовь сыновняя, предстательство вельмож, долговременное дружество и многие малые, сим подобные, причины не возмогут ли его обольстить, и не преступит ли он власти своей на судилище?
Рассмотрим свидетельство. Хотя и говорят, что вера ко свидетелю возрастает по мере умаления его корысти, но можно ли назначить предел, где корысть исчезает; может ли кто проникнуть в тайные излучины сердца человеческого? Или нет уже более душ низких и подлых, всегда личиною прикрытых и тем наименование честных людей приобретших, прельщенных или обоязненных и того ради на ложное свидетельство готовых? Из сего заключаю, что приговор, на свидетельстве основанный, подвержен заблуждению. Признаюсь, что таковые случаи суть редки, но единая их возможность приведет в ужас сердце праведное и от вопля невинного в бедствии содрогатися обыкшее; а если бывают случаи, в коих можно предположить, что невинность разве чрез долгое течение времени открывается, и если опыты доказывают, что часто невинные сопреступниками вменялися и казнены смертию, то благоразумно и праведно иметь готовое всегда средство скончавати мучения невинныя жертвы, а смертная казнь не есть средство таковое.
Сии причины, царствование императрицы Елисаветы Петровны и опыты всех времен, доказующие, како смертное наказание не послужило к удобрению человека, побуждают меня заключить, что установление сей казни совсем в государстве бесполезно, да и казнить смертию для примера надлежит только того, кого без опасности сохранить невозможно. Я тем более подвизаюся на сие рассуждение, что известно, что люди располагают свои деяния по повторяемому действию зол, им известных, а не по действию зол, им неведомых.
Сим образом исправленный и высшим правосудием освобожденный чувствует преисполненна себя благодарностию; но живо чувствующий благодеяние старается явить признание о нем; всяк хочет быть почитаем и скорбит, зря себя в презрении. Итак, желание почтения и скорбь презрения произведут в преступнике стремление ознаменитися, да будет общественного почтения достоин, да воздаст, так сказать, за худые свои дела, и да погрузятся они в вечное забвение. Тако во Греции воины, избавившиеся смерти бегством, храброму мужу всегда постыдным, но срамом и стыдом покрытые, бывали всегда в последующее время наизнаменитейшие; следственно, бывает предел довольно известный, где виновный почесться может обратившимся к должности своей, то не достойно ли о сем наистрожайше исследовать? Сердце мудрого законодателя не источит ли кровь, наказуя невинного. Ибо наказание исправившегося преступника есть заклание невинныя жертвы.
Я не намерен распространять силу сего заключения на убийцов. Жребий нарушителю договора и общественному злодею есть смерть гражданская. Ибо несть свято, несть ненарушимо паче жизни гражданина. Я думаю, однако же, что по оному заключению могу судить о воровствах и о других меньших преступлениях, назначая токмо некоторые пределы, да не войду в скучные подробности. Если бедность, столь всегда близко преступления, ввела человека в заблуждение; если стремление страстей юности, всегда буйственной, но всегда гибкой, вринуло его в преступление, то не побудит ли сие мыслить благосклонно о преступнике? Следовательно, кажется, не можно с основанием исключить исправление из намерений законодателя.
Мы видели, что предметы установления наказаний суть или средства воспретить преступнику впредь вредить обществу, или пример для других, да отвратятся от соделания подобных злодеяний, или, наконец, исправление. Дабы решить теперь, полезно ли и нужно ли в государстве учреждение смертныя казни, рассмотрим каждый из сих предметов особо.
1. Я уже показал, что исправление неотменно входит в расположение законодателя, понеже совершенное разрушение вещи истребляет понятие о исправлении; ибо отъемляй жизнь у преступника разрушает его бытие, его истребляет, то заключаю, что в сем случае смертная казнь предосудительна.
2. Предварить, чтобы преступник впредь не вредил обществу, для сего надлежит сделать его только немощным. Темница для сего избыточна. Следует, что в сем случае смертная казнь не нужна.
3. Наказание для примера отвратить от подобных преступлений согражданина виновного; для сего надлежит изыскать наказание, которое бы сильнее, действительнее и продолжительнее душу поражало. Обыкновенно думают, что законная смерть оставляет по себе впечатление наисильнейшее, или действительнейшее, или долговременнее пребывающее. О сем я сомневаюсь, и вот тому вина.
Смерти всегда предшествует болезнь, жизни сопутствуют всегда какие-нибудь веселии. К жизни мы, следовательно, прилепляемся ради страха болезней и вожделения веселий. Чем жизнь блаженнее, тем страшнее оную оставить. Оттуда ужас в смертный час в довольствии живущих. Напротив того, чем жизнь несчастнее, тем меньше жалеют лишиться оной. Оттуда нечувствительность нищего в ожидании последнего часа. А если любление бытия основано на страхе болезни и вожделении веселия, то следует, что желание быть счастливым сильнее в нас, нежели желание быть. Следует, что пренебрежение жизни есть заключение исчисления, доказующего нам самим, что лучше не быть, нежели быть несчастным. Сей довод не есть воображение умозрительства, но токмо обществование происшествий, на опытах людей мудрых и людей мало просвещенных основанное, что и доказывает оного общественность. Не с охотою ли Катон отъял у себя жизнь из любви к отечеству? Сцевола, влекомый корыстию общего блага, не подвергался ли не токмо смерти, но и острейшей муке? Не терпел ли Регул наижесточайших мучений, да исполнит свое обязательство? Я не могу сравнить с сими великими людьми сих злодеев, сих извергов природы, суеверием упоенных и обагривших руки свои в крови царей своих, и толико же безумных убийцов. Сие доказательство, довольно кажется заключительное, утверждает, что смертная казнь не с наибольшею действительностию поражает разумы и что впечатления ее не наисильнейшие суть; по крайней мере, они не во всех равны бывают, а потому, не будучи наисильнейшие, да и всегда мгновенные, не могут, конечно, быть действительными.
Но положим, что оные впечатления суть наисильнейшие, как то они суть в самом деле во всех не имеющих великих страстей ни к добру, ни ко злу, коих число, конечно, в каждом государстве велико, то утверждаю, что тем самым они и вредны: ибо чем поражение сильнее, тем кратче оно бывает. Правда, что оно объемлет все наши душевные силы, но они подобны изящной музыке; ее действие мгновенно нас восхищает, мгновенно и исчезает. Тогда престает соображение, и человек в совершенное погружается забвение. Смертная казнь удивляет, но не исправляет; она окрепляет, но не трогает; но впечатление медленное и продолжительное оставляет человеку полную власть над собою. Он соображает, сравнивает; следовательно, сие впечатление по существу своему есть действительнее и тем полезнее. А если продолжительное впечатление глубокие в сердце человеческом оставляет черты, то долженствует следовать, что оно действует на человека сильнее. В таковых обстоятельствах был Александр Великий в рассуждении Филота, единого из первейших своих полководцев, ближайшего своего друга и сына Парменионова, великим войском тогда предводительствовавшего; таков же был случай Генриха IV в рассуждении Бирона. Обличенные оба в оскорблении величества (то есть в наивеличайшем преступлении, ибо великость оного измеряется всегда вредом, государству от того происходящим), но оба могущественны, не можно было, по мнению моему, их сохранить без опасности. Сие может быть единое изъятие, а изъятие правила точность оного доказует. Присовокупим к сему: дабы наказание было справедливо, надлежит оному иметь токмо достаточную силу для отвращения людей от злодеяний. Но какой человек восхощет променять потеряние совершенное и невозвратное своея свободы на злодеяние, какия бы он ни ожидал от него выгоды. Из сего следует, что действие наказания вечныя неволи достаточно для отвращения от преступления наиотважнейшую душу.
Я не войду в раздробление преимущества такого положения, ибо оно всякому благоразумному читателю представится очевидно, потому что нет злодея, кой бы к чему-либо не был пригоден, что самой природе совместно. Если соделаешь зло обществу, возмездится за оное злом, то есть принужденною работою, сверх же того ясно, что вечная неволя тем и предпочтительна, что действии ее, в глазах народа всегда обретающиеся, суть поразительнее и долговременнее. Теперь рассмотрим: вечная неволя не жесточее ли самыя смерти? Конечно, жесточее в глазах общества, но не для терпящегося. Общество судит по своей чувствительности о сердце, привычкою закоренелом, а несчастный утешается отсутствием болезней злее тех, кои он ощущает; раскаяние приходит к нему на помощь, и труды его облегчаются упражнением. А как чувствительность в человеке возрастает по мере крепости его рассудка, нежности телосложения или перемены его состояния, то я заключаю: чем человек будет просвещеннее, тем положение сие будет для него несноснее; чем более он мог жить в довольствии, тем более сие состояние его скорбить будет. Тем более заслуживает он облегчения, ибо хотя злодей он, но человек. Сего требует правосудие, ибо наказание долженствует всегда быть соразмерно преступлению. А как весьма редко, чтобы одинаковые предметы одинаковые на разных людей имели действия, к тому же ясно, что человек с разумом или человек, сладострастное житие имевший, гораздо наказание живее восчувствует, нежели невежда или телосильный и крепкий, к нужде и нищете привыкший, – то заключаю: если таковые люди за одинаковые преступления одинаково накажутся, один наказан будет жесточее другого, и казнь вине не будет соразмерна.
О любви
Любовь есть чувство природою в нас впечатленное, которое один пол имеет к другому. Все одушевленные твари чувствуют приятность, горячность, силу и ярость оныя. Но различное сложение тела, следовательно, больше или меньше раздражительности в нервах, различное соитие обстоятельств, воображение воспламеняющих, – словом, различное соитие внешних предметов, на нас действующих, долженствует неотменно производить различное чувствование. Рассматривая любовь при ее источнике, увидим, что сие чувствование равно сродно ленивому ослу и разъяренному льву; португальцу, крепкими напитками и пряным зельем воспаленному, и лопарю, утомленному холодом и трудами. Сие чувствование, следовательно, есть необходимое, для того что оно в нашем природном сложении имеет свое начало. Любовь все употребляет средства к удовлетворению ее служащие, преображает еленей в тигров, умножается от предстоящих препятствий, удовлетворению ее претящих, умаляется, превзошед препоны. Федер справедливо примечает, что любовь в естественном состоянии человека ужасна не была для того, что взаимная похоть ее скоро укрощала, но по восстановлении общества она долженствовала сделаться ужасною, как то она и есть. Самолюбие, со всем себя в сравнение ставящее и себе всегда преимущество дающее, долженствовало неотменно озлоблять самолюбие другого. Оно рождало зависть, а зависть ненависть, и так умножалися все наши страсти. Они столь много произвели божественных дел и столько зла сотворили, что их вообще ни хвалить, ни охуждать не надлежит. Нравоучители, противу страстей восстающие, рассуждают о человеках вообще по человеку, в их воображении сотворенному, или, углубяся в отдаленнейшую метафизику, доказывают весьма велегласными словами, что все, не сходствующее с совершеннейшею совершенностию (которую не объясняют) и с существенным порядком вещей, которого не знают, есть противудобродетель, порок и зло; итак, мы постараемся отступить от понятия отделенного и будем наблюдать действительные отношения. Назовем добродетелию то, что удовольствие и благосостояние всех (а как сие невозможно), по крайней мере многих людей соделывает, и рассмотрим, полезна ли любовь или вредна?
Человек есть хамелеон, принимающий на себя цвет предметов, его окружающих; живущий с мусульманами – мусульманин, с куклами – кукла общества, в коем мы обращаемся. Общежитие вселяет в нас род своих мыслей и побуждает нас то называть добрым, что оно добрым почитает. Мы усвояем помалу страсти, в обществе господствующие; наипаче мы склонны к восприятию того, что нас прельщает, а все, что нам веселие доставляет или обещает, прельщает нас столь действительно, что объемлет все наши душевные силы. Всяк довольно, хотя и не весьма ясно, понимает, что мы благосклонность других людей приобретаем сходствием наших мыслей и деянием с их мыслями и действием, а сие подтверждается опытами. Из того очевидно следует, что двое влюбленных единого составляют человека, единую имеют волю и одинаковые поступки, ибо привычка преображает природу. Случай, имеющий в общежитии свое начало, восхотел, чтобы мужчины были, что женщины суть, на коих они свои взоры обращают, а не женщины то, что суть мужчины.
Итак, любовь, в обществе не на телесных токмо и чувственных основывающаяся чувствованиях, но тысячию чувствованиями производимая, любовь сия, зависящая от предрассуждений, от обыкновений и от состояния, не имеет в себе ничего непозволительного и ничего наказания достойного. Она становится добродетелию или пороком, располагаяся по воспитанию женщин, тот или другой вид приемлющему. У греков, у коих мать слезы проливала, когда сын ее без лавр возвращался, где дева прославившемуся сердце свое дарила, и везде, где благоразумный законоположник женщин определил вперять в сердца юношей ревность к добродетельным и отвращение от порочных поступков, заслуживают они уважение, почтение и любовь; но в нашем веке, где красота, которая ужаснее стихии, ее родившей, воспитывается в играх и забавах, где вся разума ее округа внешним ограничивается блеском, где свобода в убранстве, где прелесть поступи и несколько наизусть выученных модных слов заступают место мыслей и изгоняют природное чувствование, где она принуждена ежечасно притворяться и сокрывать свои невиннейшие склонности, где она злословна для того, что неведуща, честолюбива для того, что не имеет должного к себе почтения, и коварна для того, что живет всегда в принуждении и беспрестанно безделицами упражняется; где она неограниченно обожателями своими управлять желает, – достойна ли она, чтобы быть ее жертвою, в угождение ей наполнять голову свою замысловатыми безделицами, оставить любовь истины, дабы ей понравиться, посвятить ей время свое, коего потеря всегда невозвратна? В наблюдении бесчисленного множества вещей, кои по рассмотрении найдем безделицами, но трудными безделицами, может ли кто без внутреннего отвращения видеть старого, впрочем заслуженного и испытанного министра, которой от чрезмерной нежности невинного осудил на смерть, дабы пощадить злодея, отца своея обладательницы. Кто не возропщет на него! Кто столь сильно объят любовию, что разум его никогда не в состоянии покойно наблюдать вещи, а сердце всегда в движении, и кто своими приобретенными знаниями мог бы свету быть полезен? Но кто может противиться сим голубым глазам, сему томящемуся и восхитительному взору, сему проницательному и привлекающему гласу? Кто может облобызать белую сию и нежную руку, на коей поцелуй впечатлевается, и не потерять своего сердца? Кто может видеть сию непринужденную походку, сию величественную осанку, воровские глазки и, что всего больше, слышать и видеть добродетельные предупреждения и не восхититься и не воспалиться? Тот, кто в младости к тому приуготовлен, кто старается познать истинное определение человека, кто украшает разум свой полезными и приятными знаниями, кто питается противными сим страстями, кто величайшее услаждение находит в том, чтобы быть отечеству полезным и быть известным свету.
Письмы, касающиеся до первой книги Гельвециева сочинения «О разуме»
Письмо 1
Милостивой мой государь.
Я намерен с вами беседовать о вещи, весьма важной и многим трудностям подверженной; ласкаю себя, что вы мне на сие дадите дозволение, ведая довольно, что глубочайшие размышления не токмо вам не наскучат, но возбудят разве ваше любопытство. Вещь сия есть важная, ибо непосредственно касается до человека; трудная, ибо познание сердца человеческого и побуждений к действию и недействию весьма запутано. Сие превзойдет, может быть, мои силы: но самое сие побуждает меня прибегнуть к вашему просвещению, которое, по счастию моему, я узнал и почитаю. Я ищу наставления, следовательно, я сомневаюсь. Но как нерешительность для разума, истину возлюбляющего, есть несноснейшее состояние, то и прошу я вашея помощи. Но не отважно ли сие? И поистине сей мой поступок, от чрезмерного желания познаний происходящий, был бы непростителен, если бы я менее уверен был в милости вашей ко мне; если бы вы, во время пребывания вашего в Лейпциге, не удостоили меня дружеского обхождения и если бы вы мне не дали полезного для меня дозволения прибегать к вам во всем, что до меня касаться может. Я осмеливаюсь почитать себя воспитанником вашим, ибо все, нас наставляющие или дающие нам способы к наставлению, по справедливости истинными родителями почитаться могут. Но сие есть наималейшее из одолжений ваших. Вы извлекли душу мою из бездействия и уныния, в коих она погрязла, и, по несчастию, не без причины. Вы возвратили ей всю ее деятельность, отъемля причину, ее угнетавшую. Вы вселили в меня неутомимое рвение к исследованию всех полезных истин и отвращение непреоборимое ко всем системам, имеющим основание в необузданном воображении их творцов, и мерзение к путанице высокопарных и звонких слов, коими прежде сего я отягощал память мою. Но сколь велика долженствует быть, наконец, моя признательность за то, что от вас познал я удивления достойного сочинителя, коего книгу вы благоволили прочесть со мною? После того я три раза читал ее со всевозможным вниманием и для того только воздерживаюсь хвалить его, что я уверен совершенно, что хвалить такого мужа, как есть сей, должен только тот, кто сам заслужил уже похвалу.
Скажу только то, что, удивляяся его проницательности, ясности и изящности его слова, нередко сожалею о его краткости. Из него-то почерпну содержание сих писем, которые заключать будут сокращение сочинения «О разуме» или, по крайней мере, оного первыя и третия книги. Но исполнение сего предприятия весьма трудное, требует напряжения разума и довольного времени; да и тем паче, что не всегда я с автором одного мнения, по крайней мере, в помянутых двух книгах. Для объяснения моих сомнений в великие нужно войти подробности; и я за нужное почел прежде всего предложить вам со всевозможною краткостию стезю, которою он шествовал во утверждении своих основательных мнений и во извлечении следствий. Цель моя была двояка при сем маловажном труде. Первая, чтобы тот, кто читал сию книгу и о ней уже размышлял, мог бы себе посредством сея выписки мгновенно представить всю цепь мыслей сочинителя; вторая, чтобы начинающий, имея сию выписку пред собою, не был бы от главного предмета отвлекаем окольностями и прекрасными побочными разглагольствованиями сочинителя и не проронил нить умствования его, запутавшись во множестве деяний, им приводимых, где по действию заключается о причине. Вы можете судить, достигнул ли я моего предмета; мне же должно ожидать вашего суждения с почтением пребывания чрез всю жизнь мою наичувствительнейшею благодарностию.
есмь и проч.
Письмо 2
Сочинитель рассматривает разум, яко способность мыслить, которая посему и долженствует быть качеством какого-либо существа, духовного или вещественного, ибо другие роды нам неизвестны. Сия задача, не решенная до сего времени, не может иметь о себе доказательства; тем паче, что сочинитель, полагая все действии нашего разума в чувствовании, сие равно с тем и с другим предположением согласуется. Но сие-то и требует, мне кажется, доказательства. Почитая душу вещественную, рассмотрим, может ли она чувствовать. Я прежде всего замечу, что вещество и тело суть два слова равного значения; ибо сказать можно, что всякое вещество есть тело и всякое тело есть вещество. А понеже пространство, заключающее в себе понятие неразделимости, непроницательность, производящая, что два тела не могут в одно время занимать одного места, бездеятельность – качество тел, посредством которого они тщатся пребывать в настоящем положении, и следствие непременное самой их непроницательности, суть три свойства тел необходимые; понеже тело заключает в себе понятие общее и поелику то, что прилагаем роду, прилагаем всем единственностям, к нему принадлежащим, то следует, что все единственности, поелику суть тела, заключают в себе вышесказанные три качества. Следует, если бы начало чувствующее было телесно, то было бы протяженно и разделимо. Следует, что бы понимать можно было треть и четверть чувствования, что противоречит опытам.
В теле примечаем мы только движение, что не иное есть, как перемена места, быстротечность и направление. Но равное ли видим в нашей душе? И для того-то в каждом ударении чувств две вещи различать надлежит: телесную, или ударение в мозге; духовную, или понятие, в душе от того рождающееся. Кто захочет о сем сделать на самом себе примечание, познает оное непременно. Когда разум напряженно рассматривает некоторые предметы и рассуждает о понятиях, оными производимых, то он не замечает нимало о ударении некоторых предметов на орудие слуха, хотя равное бывает их действие с теми, кои производят звук, и хотя орудие здраво. Причина же тому есть, что душа оному не внимает. Но сочинитель думает, что откровение таковой силы, какова, например, сила притяжения, не долженствует ли побуждать мыслить, что тела имеют еще некоторые свойства неизвестные, как-то: свойство чувствовать. В первом письме моем я намерен разыскать сие выражение.
есмь и проч.
Письмо 3
Все согласуются, что есть во всех телах небесных всеобщая тяжественность; что качество сие, очевидное в магните притяжением железа и стали и, по мнению утвердителей тяжественности, свойственное всякому телу, осязательно становится только в весьма больших телах, в малых же совсем не ощутительно. Истинная же причина, оную производящая, нам неизвестна, и философы доселе в оном несогласны. Одни утверждают с вероятностью, что некое тонкое и невидимое вещество действует на тела, и их одного к другому устремляет, и они называются устремителями. Другие говорят, что есть в телах сила, скрытая и сокровенная, между ими притяжательность производящая. Оные присносущность утверждают на всемогуществе божием и называются притяжателями. Но если бы притяжательность была действие всемогущества божия непосредственное, в существе тел не утвержденное, то можно бы сказать столь же справедливо, что бог тела движет непосредственно, что и было бы непрестанное чудо.
Если мы вообразим два тела без движения и среди их совершенную пустоту, то нелепо будет утверждать, что они могут сблизиться или притянуть одно другое; ибо тела вследствие своея существенности тщатся пребывать в настоящем положении. Не можно приступить к противному мнению для того, что понимать не удобно причины, для чего тело недвижимое будет двигаться в ту, а не в другую сторону; еще же неудобопонятнее, что движущееся тело престает двигаться или пременяет направление или скорость. Итак, если достоверно, что всякое тело по существу своему сохраняет свое положение и что перемена в оном происходит токмо вследствие его непроницательности, то ясно, что тяжественность, то есть сила, тело к центру направляющая, хотя нам неизвестная, не есть свойство в телах присносущее. Да и по мнению тех, которые притяжательность почитают силою в веществе вкорененною, сила сия не в теле, над коим действует. Следует, поелику известны нам силы только двух родов, силы телесные, из непроницательности тел проистекающие, и силы духовные, существующие токмо в животных, то притяжательность долженствовала бы принадлежать к третьему роду сил, но ни к телесным, ни к духовным. Но дабы утверждать сие, то надлежит непрекословно доказать бытие сих сил и что сила притяжания не происходит из тонкого вещества, тело окружающего. Если бы единожды возможно было, чтобы два тела притягивать могли друг друга и расстояние между ними не было бы наполнено тончайшим веществом, то существенность притяжательности была бы неоспорима. Но как сие невозможно, то можно в том сомневаться или совсем отрицать.
Если же довольную имеем причину отметать силу притяжательную, то с лучшим основанием отрицать можем в вещественности свойство чувствовать. Но если верно, что вещественность чувствовать может, где найдем мы чувствующую соединенность и неразделимость? Присвоим ли оную каждой вещества частице или соборным телам? Или присвоим сию соединенность жидкостям и твердостям в сложных и в началах? Говорят: в природе нет опричь единственностей; но каковы они? Единственностью ли назовем камень или сложением единственностей? Чувствительное ли он вещество или содержит столько оных, сколько в нем песчинок? Если каждая начальная порошинка (атом) есть вещество чувственное, то как вообразить сие тесное сообщение, от которого один чувствует себя в другом, и столь совершенно, что оба суть один? Части чувствующие суть протяженны, но существо чувственное неразделимо, одно, всецело или же ничто. Сии непреоборимые трудности с предыдущими причинами совокупно утверждают меня во мнении, что, познав вещественность протяженною и разделимою, надлежит удостовериться, что она чувствовать не может, ибо, утверждая противное, станешь присвоять одному существу свойства, одно другое исключающие.
есмь и проч.
Письмо 4
Сочинитель полагает быть в человеке двум силам страдательным, которых он признает производящими наш разум причинами. Первая – свойство принимать ударения внешних предметов, и сия есть телесная чувствительность. Другая – свойство хранить сделанное на чувствах ударение – называется память. Память, по мнению сочинителя, есть не что иное, как единое от орудий телесной чувствительности и чувствование продолженное, но ослабевшее. То, что в нас чувствует, говорит он, то непременно и воспоминает. Се доказательство его.
Когда я воспоминаю образ дуба, тогда внутренние мои органы находятся почти точно в таком же положении, в каком они были, когда дуб сей представлялся моему зрению. Таковое положение органов производит чувствование. Следовательно, воспоминать есть чувствовать. Сие заключение для меня не кажется убедительным, и здесь доказательство основано на том, что в задаче. Положим, что, воспоминая образ дуба, внутренние мои органы в равном положении находятся с тем, в каком они были, видя сей дуб; однако же сим вопросом не удовлетворится, для чего и как, и довод недостаточен; ибо ясно, что здесь не заключает сочинитель одинаковых действий на одинаковые причины, ибо действия суть разны. Когда дуб находился пред моими глазами, тогда внутренние мои органы, позыбнутые лучами, исходящими от дуба, образ его начертавали в глубине моего глаза на нервенной сети, совокупляющейся с зрящим (оптическим) нервом, которой есть продолжение мозга, и чрез него зыбление доходило до мозга, где душа извлекала понятие. Но, удаленный внешнего предмета, что действует на мои органы? И если бы при воспоминовении внутренние мои органы были в таковом же положении, как при ударении предметов на чувствы, то, не имея ничего пред глазами, я видел бы солнце. Следственно, понятие напоминовенное совершенно разнствует от понятия, возбуждаемого предстоящим предметом. Изъяснение памяти, что она есть чувствование продолженное, но ослабшее, для меня не удовлетворительно. Ибо или чувствование продолжается безостановочно, или когда-либо останавливается и возобновляется. Если бы бывало первое, то бы понятия нам были присутственны непрестанно, чего, однако же, нет; ибо тщетно иногда стараемся возобновить иные понятия, которые мы имели прежде; иногда же совсем их позабываем, но обыкновенно забываем их наполовину. Если бы ударение терялося совсем, как то случается, как бы вещественность могла воспоминать, что было на нее ударение в то время, когда оно на нее бывает вновь? Говоря, что память не что иное есть, как чувствование продолженное, но ослабшее, все присвоим чувствительности, но чувствительность производится движением нервов. Сие движение может умножиться и уменьшиться по мере ударения сильного или слабого всех частей предмета; следовало бы, что когда воспоминаю о солнце, то же было бы, что я вижу луну, коея свет в 200 000 раз слабее света солнечного. Но видеть луну теперь и воспоминать только о солнце суть две совсем разные вещи. А потому ясно, что понятия чувственные представляются нам посредством чувств; воспоминовенные же производим мы сами по образу понятий чувственных, поелику мы об оных воспоминаем. Понимаю я довольно ясно, что понятия, памятию произведенные, суть таковые же, как и настоящие, но сие относится к душе. Что же касается до тела, то всякое настоящее памятию сопряжено с некоторым движением в мозгу, чего не бывает с произведенным памятию.
Признаться надлежит, что истинной источник памяти от нас скрыт совершенно. Ведаем мы, что и тело в оном участвует; но и то верно, что возобновление понятий есть собственное действие души.
Письмо сие окончу я различием, сделанным в воспоминовении. Оно двояко. 1) Сила сохранять на несколько времени понятие настоящее. Локк сие называет рассмотрение. 2) Сила возобновлять и оживлять в разуме понятии, которые, родясь в оном, исчезли и из оного совсем удалилися. Сие собственно назвать можно памятию.
есмь и проч.
Письмо 5
Сочинитель, разыскивая прилежно действия разума человеческого, ограничивает их на способность замечать сходствия и различия, приличность и разнообразность предметов между собою. Слова всех языков, которые почесть можно собранием всех мыслей человеческих, подтверждают сию истину для того, что они представляют нам одни токмо образы внешних предметов, отношений их одного к другому и отношение их к нам. Разум человеческий превыше познания сих отношений не возносится и черты сея не преступает. Но и суждение не что иное есть, как самое сие усмотрение или изъявление оного: то и следует, что все действия разума суть токмо суждения. Но и судить есть не что иное, как усматривать сходство и разность, принадлежность и неприличность наших чувствований и понятий. Следственно, поелику сила сия не что иное есть, как телесная чувствительность, то и судить есть чувствовать; следственно, все действия разума суть чувствовании.
Рассуждение сие нахожу я весьма заключительным. Все предложении в оном ясны и основаны на истине и опытах, одно исключая, то есть, что способность сравнивать понятии наши и чувствовании есть телесная чувствительность. Сие требует рассмотрения, и поелику оно есть главное его предложение, то позвольте мне оное раздробить.
Я за доказанное приемлю, что все действия нашего разума состоят в способности усматривать сходствия и несходствия, принадлежности и разнообразия в предметах. Теперь доказать должно, что для сея способности нужна только телесная чувствительность.
Нет ни малого в том сомнения относительно познания различий между предметами. Получив два чувствования или два понятия, не могу не чувствовать, что то, что чувствую в одном, в другом того не чувствую; или сказать яснее, что одно ударение иначе душу возбуждает, нежели другое. Чувствуя сие, чувствую их различие. Следует, что для усмотрения различия между предметами нужно токмо чувствовать. Но можно ли то же сказать о их сходствии? Определим, что значит сие слово. Что назовем сходствие одного предмета с другим? Сходствие существенное или случайное бывает, когда части, один предмет составляющие, равнородны или разнообразны другому; или когда части одного предмета суть во всем одинаковы с частями другого предмета. Если сие верно, то для познания сего нужна одна чувствительность телесная. Ибо имея два чувствования, разуму присутственные, усматриваю непременно, как они ударяют на мои чувства, одинаким ли образом или разнообразно; следует, оное усмотреть есть чувствовать.
Принадлежностью называем, когда один предмет к другому пристоен, приятен, полезен или нужен или когда таковым нам кажется (в дальнейшее изъяснение сих названий я не вхожу, дабы вместо объяснения их не затмить). Но опыты доказывают, что разные чувствования разнообразно на душу действуют. Иные рассматривает она с удовольствием, на другие взирает с отвращением; и посредством того же опыта мы можем определить принадлежность или разность между предметами. Я из того заключаю, что судить есть то же, что чувствовать.
Для изъяснения сего рассуждения я постараюся отдалить все возражения, которые против него сделать можно.
1) Если душа есть существо страдательное, то или каждый предмет она чувствовать будет раздельно, или будет чувствовать целый предмет, хотя сложной. Но, не имея силы их соблизить, она сравнения между ними сделать не может, не может о них судить. Что значит весь сей вздор? Каждой предмет будет она чувствовать особенно, то есть, что одно чувствование не будет другое или что одно чувствование не существует в другом, равно как одно тело не может занимать одного места с другим в одно время. Весь предмет будет чувствуем, то есть оба чувствовании присутственны будут разуму. Следует, что душа не будет иметь силы их сравнить и что не может судить о их смежности. Но из сказанного мною можно заключить совсем противное и сказать: следовательно, не будет ей нужды их соближать, следовательно, она будет судить об отношениях двух чувствований или иметь их присутственными разуму, то есть будет их чувствовать; но то и другое равно, как то доказано прежде. Но говоря, что душа не имеет силы соближать чувствования одного с другим, если разумеем, что душа не властна устремлять или отвращать своего внимания, продолжать или окончать своего размышления, тогда задача становится важнее и касается до следующей: свободны ли мы или нет? О сем я с вами в особом письме беседовать буду.
2) Понятия уравнительные: больший, меньший; понятия числительные: один, два; понятия отвлеченные: добродетель, красота – конечно, не суть чувствования, хотя разум производит их тогда, когда я чувствую. Дабы удостовериться о слабости сего рассуждения, войдем в некоторые подробности. Что может быть простее понятия, что отношение не что иное есть, как чувствование или изражение чувствования, произведенного во мне рассмотрением двух предметов. Я сооружаю понятие великого; но оно не само по себе, а уравнительное; следственно, кто имеет понятие великого, тот неминуемо имеет понятие малого. Следует, если имею понятие о большой палке и о малой вдруг, то такое нужно сравнение, дабы чувствовать, что большая палка больше маленькой. Но как получил я понятие о большом и малом? Получив два разные ударения и примечая или чувствуя, что один предмет имеет больше частей, нежели другой, я назвал один большим, а другой малым, хотя бы назвал их иначе, вещь в самом деле не переменилась бы. Но как составляем мы численные понятия? Замечая различия чувствований. Например, цветок ударяет на орудие моего обоняния, я чувствую сие ударение и сохраняю его посредством памяти. Другой цветок производит равное ударение; я и оное чувствую. Но, сохранив прежнее ударение, теперь чувствую не токмо ударение настоящее, но чувствую также, что чувствовал подобное. Чувствовать, что было во мне подобное чувствование, есть то же, что иметь понятие о двух чувствованиях; и так далее. Разум следует той же стезе при составлении общих понятий. Ибо очевидно, если ударение разных предметов на мои чувства одинаково, то невозможно мне не чувствовать, что чувствование мое при воззрении какого-либо предмета есть подобное тому, которое имел, видя другой предмет. Но изображение сего чувствования есть составление понятия общего или отвлеченного, которое существовать будет токмо в моей голове и которое, однако же, чувствовал я в самом деле.
3) Если бы в употреблении наших чувств мы были токмо страдательны, то не было бы между нами никакого сообщения, не можно было мне знать, что тело, которое я осязаю, и тело, которое вижу, есть то же. Или мы ничего вне себя чувствовать не будем, или будем чувствовать всегда пять существ отделенно, коих единственности нам приметить невозможно. Возражение сие весьма сильно, в том признаюсь. Но приняв, что в употреблении наших чувств мы действующие (хотя сие мне кажется нелепым, ибо не быть в употреблении чувств страдательным есть то же, чтобы быть властну не чувствовать того, что чувствую), легче ли можем понять сообщение между чувств и как душа замечает единственность понятия. Представь себе слепого, узнавшего опытами, каким образом шар и угольник ударяют на его осязание. Слепой сей, получив зрение, не возможет, конечно, посредством оного различить шар от угольника; ибо, если чувства ударяемы, например, шаром известным образом, не следует из того, чтобы глаза его ударяемы были равномерно. Следственно, опыты нас тому учат, следственно, рассуждение, следственно, и сие есть чувствовать. Хотя совершенного уверения о единственности вещи в нас нет, но для чего тому удивляться, если доводам идеалистов мы опричь брани ничего противупоставить не можем.
4) Наконец, последнее возражение есть сие: если бы суждение об отношениях было простое чувствование и происходило бы единственно от предмета, то суждении мои никогда не были бы ложны, ибо то не ложно, что когда чувствую, то чувствую. Но на сие буду ответствовать в следующем письме, следуя стезям сочинителя, которой доказывает, что все наши заблуждении от наших страстей и от неведения происходят. И если сие последнее возражение достаточно будет опровергнуто, то излишнее будет, да и нелепо утверждать, что сила суждений не есть свойство чувствовать.
есмь и проч.
Примечаниие. Сочинения Федора Васильевича суть токмо в переводе. Первое и последнее из оных писал он на французском языке, прочее же на немецком.
Дневник одной недели
Суббота
Уехали они, уехали друзья души моей в одиннадцать часов поутру… Я вслед за отдаляющеюся каретою устремлял падающие против воли моей к земле взоры. Быстро вертящиеся колеса тащили меня своим вихрем вслед за собою, – для чего, для чего я с ними не поехал?
По обыкновению моему, пошел я к отправлению моей должности. В суете и заботе, не помышляя о себе самом, я пребыл в забвении, и отсутствие друзей моих мне было нечувствительно. Второй уже час, я возвращаюся домой; сердце бьется от радости; облобызаю возлюбленных. Двери отворяются, – никто навстречу ко мне не выходит. О возлюбленные мои! вы меня оставили. – Везде пусто – усладительная тишина! вожделенное уединение! у вас я некогда искал убежища; в печали и унынии вы были сопутники, когда разум преследовать тщился истине; вы мне теперь несносны! —
Не мог я быть один, побежал стремглав из дома и, скитаясь долго по городу без всякого намерения, наконец возвратился домой в поту и усталости. – Я поспешно лег в постелю, и – о, блаженная бесчувственность! едва сон сомкнул мои очи, – друзья мои представились моим взорам, и, хотя спящ, я счастлив был во всю ночь: ибо беседовал с вами.
Воскресение
Утро прошло в обыкновенной суете.
Я еду со двора, еду в дом, где обыкновенно бываю с друзьями моими. Но – и тут я один. Грусть моя, преследуя меня безотлучно, отнимала у меня даже нужное приветствие благопристойности, делала меня почти глухим и немым. С тягостию, несказанною себе самому и тем, с коими беседовал, препроводил я время обеда; спешу домой. – Домой? Ты паки один будешь, – пускай один, но сердце мое не пусто, и я живу не одною жизнию, живу в душе друзей моих, живу стократно.
Мысль сия меня ободрила, и я возвращался домой с веселым духом.
Но я один, – блаженство мое, воспоминание друзей моих было мгновенно, блаженство мое было мечта. Друзей моих нет со мною, где они? Почто отъехали? Конечно, жар дружбы их и любови столь мал был, что могли меня оставить! – Несчастной! что ты произрек? Страшись! Се глагол грома, се смерть благоденствия твоего, се смерть твоей надежды! – Я убоялся сам себя – и пошел искать мгновенного хотя спокойствия вне моего существа.
Понедельник
День ото дня беспокойствие мое усугубляется. На одном часе сто родится предприятий в голове, сто желаний в сердце, и все исчезают мгновенно. – Ужели человек толико раб своея чувствительности, что и разум его едва сверкает, когда она сильно востревожится? О гордое насекомое! дотронись до себя и познай, что ты и рассуждать можешь для того только, что чувствуешь, что разум твой начало свое имеет в твоих пальцах и твоей наготе. Гордись своим рассудком, но прежде воспряни, чтобы острие тебя не язвило и сладость тебе не была приятна.
Но где искать мне утоления хотя мгновенного моей скорби? Где? Рассудок вещает: в тебе самом. Нет, нет, тут-то я и нахожу пагубу, тут скорбь, тут ад; пойдем. – Стопы мои становятся тише, шествие плавнее, – войдем в сад, общее гульбище, – беги, беги, несчастный, все скорбь твою на челе твоем узрят. – Пускай; – но какая в том польза? Они соболезновать с тобою не будут. Те, коих сердца сочувствуют твоему, от тебя отсутственны. – Пойдем мимо. —
Собрание карет – позорище, карают Беверлея, – войдем. Пролием слезы над несчастным. Может быть, моя скорбь умалится. – Зачем я здесь?.. Но представление привлекло мое внимание и прервало нить моих мыслей.
Беверлей в темнице – о! колико тяжко быть обмануту теми, в которых полагаем всю надежду! – он пьет яд – что тебе до того? – Но он сам причина своему бедствию, – кто же поручится мне, что я сам себе злодей не буду?[22] Исчислил ли кто, сколько в мире западней? Измерил ли кто пропасти хитрости и пронырства?.. Он умирает… но он бы мог быть счастлив; – о! беги, беги. – По счастию моему, запутавшиеся лошади среди улицы принудили меня оставить тропину, по которой я шел, разбили мои мысли. – Возвратился домой; жаркой день, утомив меня до чрезвычайности, произвел во мне крепкой сон.
Вторник
Спал я очень долго, – здоровье мое почти расстроилось. Насилу мог встать с постели, – лег опять, – заснул, спал почти до половины дня, – пробудился, едва голову мог приподнять, – должность требует моего выезда, – невозможно, но от оного зависит успех или неудача в делопроизводстве, зависит благосостояние или вред твоих сограждан, – напрасно. Я в такой почти был бесчувственности, что если бы мне пришли возвестить, что комната, в которой я лежал, скоро возгорится, то я бы не шевельнулся. – Пора обедать, – нечаянной приехал гость. – Присутствие его меня выводило почти из терпения. Он просидел у меня вплоть до вечера… и, подивитесь, скука разогнала несколько мою грусть, – сбылася со мною сей день пословица русская: выбивать клин клином.
Среда
Волнение в крови моей уменьшилось, – я целое утро просидел дома. Был весел, читал, – какая нечаянная перемена! что тому причиною? О возлюбленные мои! я читал живое изображение того, что ежечасно, ежемгновенно происходит, когда вы со мною. – О мечта, о очарование! почто ты не продолжительно? – Зовут обедать – мне обедать? С кем? одному! – нет – оставь меня чувствовать всю тяжесть разлуки – оставь меня. Я хочу поститься. Я им принесу в жертву… почто ты лжешь сам себе? Нет никакого в том достоинства. Желудок твой ослабел с твоими силами и пищи не требует, – пойдем, – едва в целой день мог я совершить столько пути, сколько в другое время совершаю в один час, – возвратимся, – я лежу в постеле, – бьет полночь. О успокоитель сокрушений человеческих! где ты? Почто я казнюся? Почто лишен тебя? – Едва заснул на рассвете.
Четверток
Благая мысль, – исполним ее, – зашел в лавочку, купил два апельсина и крендель, – пойдем: куда, несчастной? В Волкову деревню. —
На месте сем, где царствует вечное молчание, где разум затей больше не имеет, ни душа желаний, поучимся заранее взирать на скончание дней наших равнодушно, – я сел на надгробном камне, вынул свой запасной обед и ел с совершенным души спокойствием; приучим заранее зрение наше к тленности и разрушению, воззрим на смерть, – нечаянный хлад объемлет мои члены, взоры тупеют. – Се конец страданию, – готов… мне умирать? – Да не ты ли хотел приучать себя заблаговременно к кончине? Не ты ли сие мгновение хотел ознакомиться?.. мне умирать? Мне, когда тысячи побуждений существуют, чтобы желать жизни!.. Друзья мои! вы, может быть, уже возвратилися, вы меня ждете; вы сетуете о моем отсутствии, – и мне желать смерти? Нет, обманчивое чувствие, ты лжешь, я жить хочу, я счастлив. – Спешу домой, – бегу, – но нет никого, никто меня не ждет. Лучше бы я там остался, там бы препроводил ночь…
Пятница
Велел себя возить, – обедал безо вкуса. —
Ничто не помогает, – уныние, беспокойствие, скорбь, о, как близко отчаяние! но на что толико грустить? еще два дни, – и они, они будут со мною, – два дни, – о ты, что можешь разлуку с друзьями души моей исчислить временем, о ты, злодей, варвар, змий лютый! Прочь толикое хладнокровие, – во мне сердце чувствует, а ты рассуждаешь. —
Едва я уснул… О возлюбленные мои! Я вас вижу, – вы все со мною, сомневаться мне в том не должно, прижмите меня к своему сердцу, почувствуйте, как мое бьется, – но что! вы меня отталкиваете! вы удаляетесь, отворачивая взоры ваши! о пагуба, о гибель! се смерть жизни, се смерть души. – Куда идете, куда спешите? или не узнаете меня, меня, друга вашего? друга… Постойте… мучители удалились, – пробудился. Вон беги, удаляйся, – се разверста пропасть, – они, они меня в нее ввергают, – оставили, – оставь их, будь мужествен. – Кого? друзей моих? Оставить? Несчастной! они в твоей душе.
Суббота
Утро прекрасное, – кажется, природа обновилась, – все твари веселее, – да веселье возрождается в душе моей. Возлюбленные мои возвратятся завтра, – завтра! год целой. Изготовим для них обед, – тут они сядут. Я сяду с ними, о веселие! о надежда! – но их еще здесь нет. Завтра будут они, завтра сердце мое не одно будет биться, – а если не возвратятся – вся кровь остановляется, – какое сомнение! Прочь, прочь, я счастлив быть хочу, я хочу быть блажен, о, нетерпение! о, колико солнце путь свой лениво совершает, – ускорим его шествие, осмеем его завистливость, уснем, – я лег в постелю до заката, заснул; и пробудился.
Воскресение
До восхождения солнца, – о вожделенной день, о день блаженный! скончалося заранее мое терзание. Настал приятный час. Друзья мои! сегодня, сегодня я вас облобызаю.
Пообедал я немного, – ускорим свидание наше, – ускорим, – о, если им толико же скучно, как мне? О, если бы они могли иметь отзвон моего терзания в душах своих, колико приятно будет для них зреть меня несколько часов прежде, – поедем им навстречу, – чем скорее поеду, тем скорее их увижу; в сей льстящей надежде не видал я, как доехал до почтового стана. —
Девятый час, – они еще не едут, может быть, какое препятствие, – подождем. Никто не едет. – Чьим верить словам возможно, когда возлюбленные мои мне данного слова не сдержали? Кому верить на свете? Все миновалось, ниспал обаятельный покров утех и веселий; оставлен. Кем? Друзьями моими, друзьями души моей! Жестокие, ужели толико лет сряду приветствие ваше, ласка, дружба, любовь были обман? – Что изрек? несчастной! А если какая непреоборимая причина положила на сей день препятствие свиданию вашему? Какое хуление! страшись, чтобы не исполнилось! о горесть! о разлука! почто, почто я с ними расстался? Если они меня забыли, забыли друга своего, – о смерть! приди, вожделенная, – как можно человеку быть одному, быть пустыннику в природе!
Но они не едут, – оставим их, – пускай приезжают, когда хотят! приму сие равнодушно, за холодность их заплачу холодностию, за отсутствие отсутствием, – возвратимся в город; – несчастной, ты будешь один; – пускай один; – но кто за мною едет вослед? Они, – нет, их окаменелые сердца чувствительность потеряли; забыли они свое обещание сегодня возвратиться; забыли, что я им поеду во сретение; забыли меня. – Пускай забывают; я их забуду…
Понедельник
Их нет, и я один! кого нет? Друзей… друзей моих? Нет друзей на свете более, коли они друзьями моими быть не захотели; чего их ждать? – Уедем в другой город – пускай они меня ждут; – но сегодня поздно, – исполним завтра.
Вторник
Простите, вероломные, простите, бесчувственные, – простите… Куда едешь, несчастной? Где может быть блаженство, если в своем доме его не обретаешь? – Но я оставлен, – но я один, один – один.
Карета остановилась, – выходят, – о радость! О, блаженство! друзья мои возлюбленные!.. Они!.. Они…
Памятник дактилохореическому витязю, или Драматикоповествовательные беседыюноши с пестуном его, описанные составом нестихословныя речи отрывками из ироическия пиимы славного в ученом свете мужа NN поборником его знаменитого творения
Предисловие, предуведомление, предъизъяснение, пред…и все тому подобное
Для дополнения стихотворного отделения моей библиотеки, вивлиофики, книгохранилища, книгоамбара, я недавно купил «Тилемахиду»; развернул ее некогда (для отдохновения от чтения торжественных песней), перебирал я в ней листы, – и нашел, к удивлению моему, нашел в ней несколько стихов посредственных, множество великое стихов нестерпимо дурных… нашел – подивитесь теперь и вы – нашел стихи хорошие, но мало, очень мало. В сию минуту вошел ко мне знакомый мой N… Он держал в руках «Жизнь моего отца» сочинения Коцебу. Мысль сверкнула в уме моем, и я предпринял, наподобие сказанной книги или несколько на нее похожее, начертать что-либо в честь впадшего в столь уничижительное презрение творца «Тилемахиды»; попросил я моего знакомого взять перо и писать то, что я ему сказывать буду, – а я, перебирая сначала листы сея тяжеловесныя пиимы, следующие произнес слова:
1. Вступление, «Тилемахида» на что-нибудь годится, ни на что не годится. 2. Дядька, буря, мельничная плотина, виноград в бочонке, поля, хрустальная лавка. 3. Сновидение, корабль на парусах, гора, хохолок, мышь, очи ясны, уста красны, се же, бурной и бурой, небесная планисфера, огненный змей, Никола Подкопай, наряды московские, алая телогрея, закусил язык, околица, Фалелеюшка, мой батюшка, овин, пророк Валаам. 4. Портрет Цымбалды, охота к женитьбе, сечь лозою, Дон-Кишот, страшная пещера, подземная держава, кузница, как дураков дразнят, грязь, группа, дрянь, Лукерья, Енкелад, провались вставши, конец. 5. Время, силлогисм in barbara, комментарии, с маху, ирой пчелы, странствование, надворный советник, глава и голова, петух, брысь, Зевес, узел, черти, Овидий, стал в пень и аминь. 6. Заключение, или Апология «Тилемахиды» и шестистопов.
Вместив все сии слова в VI номеров, или отделений, повествованием, из «Тилемахиды» извлеченным, дав всему некоторую связь и сделав несколько примечаний о шестистопных стихах российских, большим поэмам приличных, я составил следующую диссертацию, разыскание, разглагольствие, или… нечто, дрянь… или памятник. – Читатель! если ты раз хотя один улыбнешься, то цели моей я уже достиг.
1 Вступление
«Тилемахида» на что-нибудь годится, ни на что не годится.
Разговор Б. и П.Б. Предубеждение твое против творца «Тилемахиды» чрез меру велико. Если ты рассудишь, что вымысел сея книги не его, что он отвечать не должен ни за ненужное и к ироической песни неприличное, ни за места слабые или растянутые… то о нем должно судить разве как о человеке, полюбившем страстно Фенелонова Телемака, захотевшем одеть его в русской кафтан, но, будучи худой закройщик, он не умел ему дать модного вида и для прикрасы обвесил его колокольчиками.
П. Но его нелепые стихи, переставление речи столь странное, столь глупое, столь смешное. – Невозможно подумать, чтоб книга сия на иное что годилася, как на завивальные бумажки или – на что пожелаешь.
Б. Согласен во всем том, что ты сказал, – да читал ли ты «Тилемахиду»?
П. Читал ли? Можно ли не ради смеха сделать такой вопрос? Или думаешь, что я хочу занемочь?
Б. Занемочь? Разве «Тилемахида» не может служить вместо сиденгамова жидкого лаудана?
П. Нет, конечно. Она ни на что не годна, ниже от бессонницы. Правда, многие российские творения (а паче стихи) могут служить вместо усыпительного зелья, но не «Тилемахида».
Б. Могу и в том согласен быть с тобою. Но ты не читал ее и для того воздержись от решительного приговора и сентенции ее не подписывай, ибо (так говорит какой-то славной писатель), что нет столь худого сочинения, в котором бы не нашлось чего-либо хорошего.
П. Что может быть в «Тилемахиде» хорошее? И тому я не верю, чтобы ты в самом деле противное моему имел о ней мнение.
Б. Я истинно думаю, что она не вовсе бесполезна, – а если можно убедить, что она годится на что-нибудь такое, что доставить может удовольствие, если творец «Тилемахиды» заставит тебя улыбнуться, то венец ему уже готов.
П. Верить не могу, чтобы возможность была заставить с «Тилемахидою» улыбаться. Зевать заставишь, зевать до ушей.
Б. Зевать нас многие заставляют; но иная зевота бывает впору, кстати, иногда похожа быть может на улыбку, – но прочти следующее, потом станем опять говорить о «Тилемахиде».
2
Дядька, язык французский и чухонский, бирюльки, дичь, сказка, буря, роскошная жизнь, мельничная плотина, столпы и кумиры, виноград в бочонке, поля, хрустальная лавка, то есть лавка, где продают хрустальную посуду, зеленая постеля.
Летописи повествуют, что у Митрофана Простякова был меньший брат, не по росту, не по уму, но по рождению меньший, именем Фалелей; что матушка его, видя неудачу в воспитании большого своего сына, вместо няни Еремевны приставила к меньшему дядьку, которого назовем мы именем славнейшего из всех дядек – Цымбалдою; и что госпожа Простякова выгнала предварительно из дома своего всех учителей: Кутейкина для того, что он не знал гражданских письмен и что Цымбалда сам мог Фалелея учить грамоте; Цыфиркина для того, что нужды нет нималой тому в арифметике, кто умеет считать на счетах; Вральмана (выгнали даже Вральмана!) для того, что сыну ее был случай учиться с меньшим иждивением всем наукам и языкам иностранным, хотя не по-французски, но все равно, языку древнего финского народа у пастора лютеранской церкви, где крестьяне Простякова были прихожаны.
Зане ведать надлежит, что Простяковы, избавляяся опеки (под которую отданы были за лютость поступков своих с подчиненными их людьми властию правительства, о чем с «Недорослем» справиться можно), истребовали дозволения продать деревни и на вырученные за то деньги купили в Копорье мызу Наренгоф, где крестьян было половина русских, половина финнов, или чухонцев. Итак, известные лютым своим обхождением с крепостными своими в одном углу Российского пространного государства, жили как добрые люди в другом углу, и, сравнивая обряды новые, которым они училися у своих соседей, с обрядами тех мест, где они жили, они находили (по мнению своему), что они оглашены в жестокостях несправедливо.
Фалелей был избалован, но не столько, как его большой брат. В куклы уже играть перестал, боялся лозы и своей матушки, которой родительская любовь не отымала еще охоту в нем к учению, не сделала его еще болваном совершенным, или, сказать точнее, не поставила его еще на стезе быть дураком или повесою. Цымбалда был дворовой человек г. Простякова, доставшийся ему по наследству. Он когда-то учился грамоте, не пил ни вина, ни водки… но лучшее в нем качество было его простодушие. Прежний его барин был также грамотей, имел несколько книг, которые читывал только в праздное время, занят будучи всегдашнею карточною игрою, но, незадолго перед своею смертию, все книги он проиграл, почитая за ненужное их взять с собою, опричь двух томов «Тилемахиды», которую ни в какой цене разыгрывать не хотели, бояся, что принесет – к тому, кому она достанется, – в дом скуку несносную: столь велико было предубеждение к сему великому Творению. Итак, «Тилемахида» досталася Цымбалде. Он в доме Простяковых был доселе без должности (зане присмотр за певчими птицами и очищение их клеток важным именем должности нарицать нельзя, хотя и то правда, что рачение о чижах и щеглятах доставило ему звание Фалелеева дядьки); без должности Цымбалда, и в скуке почти, читал и перечитывал «Тилемахиду», выучил ее столь твердо наизусть, что если бы цензура строгость свою на нее простерла и чтение ее запретила, то он бы, как Кремуций Корд во время Тиверия-кесаря, сказать мог: «Запрети и меня».
Цымбалда читать мог то только хорошо и твердо, что читывал много раз, что, затвердивши, мог читать без книги; писать не иначе мог он как по линейкам, не иначе как имея всегда пропись пред глазами. Будучи пожалован в дядьки и профессоры к Фалелею, обязан будучи учить его чему-нибудь и не зная ничего, опричь «Тилемахиды», он вознамерился преподавать наставления своему воспитаннику так, как то делывали некоторые древние философы в Афинах, то есть преподавать учение в разговорах во время прогулки. Встретившись, таким образом, мыслию с Руссо и Базедовом, относительно изящности чувственного учения, он с новоманерным своим Эмилем ходил в ясные дни мая и июня гулять вдаль от дома, или когда ненастливая погода не дозволяла им делать эмилеподобные представления по лесам, лугам и нивам, то комната их превращалася в «Филантропину», где недоставало только Вольке и Базедова с их начальною или стихийною книгою и нужных для нее картин, а то бы мыза Наренгоф столь же прославилася в Европе, как и заведенное в Германии училище сими славными педагогами.
Некогда в один осенний день дождливый Фалелей с дядькою не выходил из комнаты своей никуда, и, наскучив играть долго в бирюльки (как употреблять должно бирюльки при чувственном воспитании, о том Цымбалда обещал издать в свет описание), Фалелей и Цымбалда легли спать ранее обыкновенного.
Полежав гораздо долго, повертевшись с боку на бок, Фалелей сказал:
– Дядька, а дядька!
Цымбалда.
Что ты, батюшка, почивать не изволишь? Завтра, кажется, день будет сухой, и дождь перестал; мы утром встанем поранее и пойдем в рощу.
Фалелей.
Не спится, дядька, как ты хочешь. Дичь такая в голову лезет – скажи, пожалуй, мне сказку. Няня Еремевна брата Митрофана всегда усыпляла сказками: какое-то финисно ясно перышко, Фомка, Тимоня, Бова… Дядька! ты ведь читать умеешь. Пожалуй, расскажи, я засну скорее.
Фалелей.
Нет, дядька, в Москве вертепы носят деревянные. Помнишь, мы видели о святках? Куда как хорошо!..
Цымбалда.
«Стены одеты младым виноградом, распускающим всюду гибкие свои отрасли…»
Фалелей.
(вскочив, сел на постели)
Дядька! попроси завтра у матушки винограда, я видел – привезли ей из Москвы целый бочонок; но мне она ныне не дает ничего, говоря: избалуешься так же, как Митрофан.
Цымбалда.
(продолжав)
«Животворны Зефиры блюли от солнечна зноя нежну прохладу. Тихо журча, текли ручьи по полям цветоносным и представляли струи вод чистых, как кристалы».
Фалелей.
Помнишь ли, дядька, как мы были в хрустальной лавке, но воды хрустальной я там не видел.
Цымбалда.
(с нетерпением)
Спи, Фалелей. (Говорит поспешно.) «Множество разных цветов распещряло зелены постели…»
Фалелей.
Знаю, дядька, знаю: у матушки есть приданая штофная зеленая постель.
Цымбалда.
Спи, или я перестану. (Говорит очень скоро.) «В рощу лучи солнца не могли проникнуть. Слышно было в ней пение птичек и шум быстра потока, который устремлял свой бег с верхов многопенисто и, по лугам пресмыкаяся, вдаль убегал».
Цымбалда, приметив, что Фалелей заснул, прервал речь свою. Правду сказать, он не знал, как взяться за рассказы, и для того связи в речах его мало было. Доволен тем, что усыпил Фалелея, он лег. Маковые пары, исторгшиеся из «Тилемахиды», скоро обременили его вежди, и он захрапел столь же звонко, как храпит стих Тредьяковского или… чей еще, то скажем в другое время.
3
Сновидение, корабль на парусах, гора, хохолок, мышь, очи ясны, уста красны, се же, бурной и бурой, небесная планисфера, огненной змей, наряды московские, алая телогрея, закусил язык, околица, Фалелеюшка, мой батюшка, овин, пророк Валаам.
Наутрие… Цымбалда, пробудившися, был смутен. Он видел сон, и сон его беспокоил. Лучшие в историях и сказках ирои смущалися сновидениями, – жаль, что нет предо мною теперь всеобщей какой истории. Лежат на столе моем Расин, Шекеспир и пресловутая «Россияда». Из них возьмем примеры. У Расина, встревоженная виденным ею во сне образом юного Иоаза Афалия, смущенная чрез целой день, не может подкрепить духа своего доводами не верующего в чудодеяния разума. «Ужель, – вещает она, – мне верить сновидению?» Но дух в ней трепещет. У Шекеспира злобной Ричард, убояся сонныя мечты, воспрянул от ложа своего. «Коня, коня!» – вещает. Ему зрится Ричмонд, и он предузнает свою кончину. В «Россияде»… Теперь довольно, а о сновидениях «Россияды» в другое время.
Цымбалда, смущенный духом от сновидения…
Вопрос: Да что же он видел?
Ответ: Подожди немного: Фалелей еще спит – но вижу, что начинает шевелиться и потягиваться; надежда есть, что скоро проснуться изволит. Итак, подожди, ибо Цымбалда не для нас отверзает велеречивые свои уста, не для нас, но для Фалелея, дитяти в семнадцать лет. Ведомо всем да будет только то, что Цымбалда верил снам, почитал тех людей, которые сны толковать умели, и сам выучился немного определять их смысл и значение по печатному соннику. Дарование не малое! которое не иначе приобрести можно, как за двадцать алтын с гривною или же за целый рубль от Гл…ва или Со…ва, у коих в телячьих, златом и разными шарами испещренных ризах хранятся творения Ч…, «Лирическое (в целой том) послание» Н…, «Земледелие» Р…, «Поваренной словарь», «Стихотворения» К… (между которыми прекрасного перевода его «А – ы» печатать, видно, не дозволено), «Тилемахида», «Иерихон» К…ча и пр. и пр.
Фалелей.
(сперва потянулся, потом отверзая глаза)
Дядька! ты меня так напугал вчера бурей или тучей, что мне она и приснилась.
Цымбалда.
Сон? Сон? сударь! – С нами крестная сила! и тебе, батюшка, грезилось?..
Фалелей.
Дядька! что ты глаза так выпялил? Я видел точно такую бурю во сне, как ты мне рассказывал.
Цымбалда.
Не томи меня, дитятко, расскажи поскорее…
Мы уже читателей наших предварили, что Фалелей не столь был болвановат, как брат его Митрофан; рассуждения его, конечно, не были остроумны, но он имел память. Сколько людей, известных нам, которые, выучив только наизусть «Помилуй мя, боже» или… что другое, не последними почитаются в свете. Итак, Фалелей, забрав в память несколько Тилемахидо-дядькиных выражений, начал сон свой рассказывать, как то следует ниже сего:
«Я сидел на хорошем корабле или судне…» – Дядька! что такое корабль или судно? Нет ли чего на них похожего у батюшки в амбаре?
Цымбалда.
Корабль есть… корабль; он похож… сам на себя. А судно… продолжай, Фалелеюшка, когда будешь в Петербурге, то увидишь и корабли и суда. У нас и в песне про суда поют: «По той ли по матушке Камышенке-реке плывут, выплывают два суденышка».
Фалелей.
«Ветр надувал парусы наши…»[23] – Дядька! а что ж такое парусы? Я знаю, у матушки девки носят парусинные юбки, у Тараса-кучера есть парусинный балахон; как он сядет на козлы, то ветер его развевает… Вчера я видел, как ветр надувал юбку у Лукерьи. – Дядька! которой ей год? – Она такая хорошенькая! всегда со мной играет.
Цымбалда.
(про себя)
Как не верить снам!.. (Громко.) Что нам до Лукерьи. Рассказывай, что тебе во сне виделось.
Фалелей.
«Гора уже нам хохолком малым являлась». – Дядька! какие на горах хохлы бывают? Я не видывал. У Митрофановых голубей есть хохлы, у Еремевниных куриц есть также хохлы; в Москве на головах у каретных лошадей хохлы ставят…
Цымбалда.
Не хохолком изволь говорить, но холмиком… хер, он, – хо; люди, мыслете, иже, – лми, холми; како, он, – ко, холмико; мыслете, ер – мъ, холмиком; а холмик – маленькая горка.
Фалелей.
«Всякая мышь…» Дядька! сыщи, пожалуй, кошку, мыши у меня съели кусок миндального пирога, что матушка мне пожаловала.
Цымбалда.
Не мышь, сударь, а мыс.
Фалелей.
Дядька! я не знаю, что такое мыс, ну так: «Всякой мыс и все берега от очей исчезали» (Фалелей, перервав речь свою, поет тихонько.) «Очи ясны, уста красны, личико беленько». (Помолчав немного.) Се… се ж. Дядька! что такое «се»?
Цымбалда.
(важно)
Слово, есть – «се».
Фалелей.
Знаю, дядька, се же. «Се вдруг бурой свистун омрачил синее небо». Как это, дядька, быть может бурой свистун? Семка-повар – свистун великой; а бурой – жеребец, что батюшка купил на ярмонке для завода.
Цымбалда.
Не бурой, а бурной…
Фалелей.
(перерывая речь его поспешно)
Дядька! бывал ли кто на небе?.. Как туда ездят?
Цымбалда.
Как туда ездят, не знаю (извините, если Цымбалда не припомнил о воздушных путешествиях, позабыл Икара, Монгольфиеров, Бланшарда и прочих или их не знал), но посмотри в календарь, там говорят о небе, как будто туда ездили.
Фалелей.
И подлинно чудеса! Ты мне, дядька, рассказывал про ту картину, которая осталась в московском нашем доме после жильца.
Цымбалда.
Помню, подписана «небесная планисфера», а что такое, не знаю. На ней были всякие звери, медведи, змеи…
Фалелей.
Матушка иногда рассказывает, как змеи огненные летают по небу.
Цымбалда.
А сон мы забыли?
Фалелей.
Изволь: «Возмутилась морская вода; день переменился в ночь – смерть предстала…» Видал я, дядька, смерть, сперва написанную, а после видел настоящую смерть у того же московского жильца, который оставил картину. Ах, дядька, как она страшна! Одне ребра, ноги как спицы, руки висят, как плети, голова плешивая, глаза две дыры, нос также, рот страшнее всего, до самых ушей; зубы все наружи; батюшка и матушка так испугались, что матушку вынесли без памяти, а батюшка ушел, боялся, чтобы не съела. То-то страху было! Ну, за то жильца матушка сослала со двора на другой же день; теперь еще мороз по коже подирает. (Задумался.) Дядька! смерть отбила у меня память, и я сон забыл.
Цымбалда.
Изволь вставать с постельки, пора покушать…
Сон не выходил из головы у дядьки. Ему приснилася Лукерья, которая отняла у него Фалелея и с ним исчезла. Цымбалда боялся, не берет ли его воспитанника охота жениться, как то бывало с Митрофаном, и для того он испытать захотел его. В таком намерении, позавтракав немного, повел его гулять вкруг деревни.
Фалелей.
(идучи)
Дядька! что ж ты молчишь? Расскажи что-нибудь.
Цымбалда.
(не спуская с него взоров)
«Мы приплыли на остров Кипр, посвященный богине Афродите».[24]
Фалелей.
Дядька! как мы домой придем, сыщи мне в святцах, в которой день ей празднуют.
Цымбалда.
(не прерывая речи)
«Сшед на остров, почувствовали воздух тихий, вдыхающ нрав веселой и игривой. Поля были плодоносны, прекрасны, но везде впусте, столь все жители были трудам неприятели. Жены и девы, нарядно одетые, шли в ликах, Афродите хвалы воспевая. Шли в ее храм, посвящать ей свои сердца. На лице их красота, приятность, миловидность, но притворны они были; их старание, их мысли всегдашние были токмо о нарядах; заплетенные их космы по хребту распущенны; власы завитые возвышались рядами, переменные рясны в одеждах пестротою блестели цветов».
Фалелей.
Ты что-то хорошо рассказываешь; а кто ж такие нарядные барыни?
Цымбалда.
Нарядные все живут в Москве, а в деревне на крестьянках сарафаны, на дворовых телогреи.
Цымбалда приметил, что Фалелей против своего обыкновения речи его мало перерывал вопросами, глаза его сверкали, дыхание было скорое. Цымбалда хотя был не любомудр, но практическая философия свойственна может быть самому простому человеку; он видел в питомце своем необыкновенную перемену, ясно видел, что хотения начинали тревожить если не его душу, то по крайней мере чувства. Подумав немного, он стал продолжать свое повествование:[25]
На Евхарите одежда Артемиды-богини…»
Фалелей.
Не Артемида, дядька, а Артемий.
Цымбалда.
(не возражая ничего)
«Одежды придавали ей приятности новы…»
Фалелей.
(прерывая)
Ах, дядька, в праздничный день нарядится в алую телогрею и на голову повяжет алой шелковый платок, то лучше всякой твоей богини.
Цымбалда закусил язык и умолк; Фалелей сколько ни просил его, чтобы он ему рассказал еще что-нибудь, но все бесплодно. Дядька сурово на него изредка поглядывал и молчал.
Между тем дошли они до ворот околицы. День был воскресный; деревенские девки в праздничных нарядах, стоя кучкою, пели песни.
Фалелей.
Остановимся послушать песни, я знаю, что ты охотник до них, – иногда, слыхал, поешь: «Горе мне, грешнику сущу».
Но дядька, не ответствуя ни слова, шел мимо. Ему предстоял другой удар, паче прежнего. Фалелей воззрился, как гончий выжлец, что в толпе девичьей была его любимая Лукерья, пустился к ней на всех парусах; обнял ее, хотел целовать; но девка, вырвавшись, побежала, прыгнула через забор; Фалелей за ней в угонку; дядька кричал ему вслед: «Фалелеюшка, мой батюшка! (Старые его ноги бегать уже разучились.) Куда изволишь? Постой!..» Но Фалелей летит на крыльях ветра; он и девка скрылись от его взоров; чрез малое время видит он их на задворье, на огороде, бегут стремительно, только слышно ему было, что Лукерья смеялась громко, видно, что часто оглядывалась на Фалелея. Уже он ее угоняет; дядька в восторге негодования воздымает руки свои горе́…; как некогда лжепророк Валаам, видя спасшийся народ иудейский, воздел руки на небо, да проречет на него проклятие и он да гибнет, тако дядька стоял с простертыми вверх руками, и прещение или проклятие готово излететь из уст его. Он видит Фалелея, настигающа бегущую девку, – и се, он уж ее почти настиг; бегут по гумну и в вертеп, или в пещеру, тут в виде овина стоящую, скрылись. Тут дядька, новый Валаам, не в силах изрещи прещения, возопил гласом велиим: «Помогай бог!»
4
Портрет Цымбалды, охота к женитьбе, кузница, или вход в подземное царство, как дураков дразнят, смерть с косой, грязь, группа, или мала куча, провалитесь вставши, конец.
Цымбалда наш был древен[26], имел главу, власов обнаженну, чело с морщинами; долгая даже за перси брада седая висела; стан его высок, величествен, цвет в лице свеж и румян, проницательны очи; голос тих, слова просты, приятны; благоразумием зрел, будущее прозревал глубиною мудрости своей, знал людей и к чему они преклонны, снисходителен, весел; юность сама толико не имеет приятностей, как он в старых летах любил молодых людей.
Скоро возлюбил Фалелея, звал его чадом, а сей ему почасту говаривал: «Отче мой дражайший! Бог даровал мне тебя».[27]
Он открылся ему, не медля нимало, о склонности сердца. «Будешь бранить меня, – говорил Фалелей, – что склонностям я подвергаюсь. Но непрестанно бы сердце меня укоряло, если б я от тебя утаил, что люблю Лукерью и не льщуся, что мысли наши сретались и сердце весть подало сердцу. Нет, страсть сия не слепая, имени ее не могу произнесть, чтоб сердцем и духом глубоко не возмутиться. Время и отсутствие не загладят ее в памяти, ибо не пристрастна любовь моя. О, коль счастлив бы я был, провождая всю жизнь с нею! Ежели мне родители избрать жену попустят, то она супруга моя будет. Нравится мне в ней молчание, скромность, уединение и к трудам прилежность, радение о доме родителя, после как мать ее скончалась, презрение к суетным всем уборам и незнание красоты своей; счастлив тот человек, кто сопряжется с ней. Буду любить ее, доколе жив буду. Если другому она достанется, то пребуду всегда в горькой печали. Я не хочу говорить о моей любви ни ей самой, ни родителям моим, но тебе единому». Цымбалда дивился, откуда взялось красноречие Фалелеево, не хотел его огорчить, видя, что страсть его была столь уже сильна; но думал, что лучше сделает, если, не противореча ему, а паче потакая, он, делав ему препятствия другого рода и отдаляя о том объявлять отцу его и матери, он успеет, может быть, и отвратить намерение его жениться на Лушке. И для того, вместо угроз или упреков, он начал хвалить Лукерью, превознося ее до небес, желая видеть, какое действие чрезмерная похвала произведет над Фалелеем. Итак, Цымбалда ему ответствовал: «О Фалелей! я не прекословлю: смиренномудра Гликерия твоя; руки ее трудов, конечно, не презирают; умеет молчать; всякий час в упражнении; в родительском доме добрый порядок, и тем более красится, нежели красотою. В деревне всеми любима, ибо в ней нет никакого пристрастия, ни упрямства, ни легкомыслия, ни своенравия; взором одним дает себя разуметь. Правда твоя, Фалелей, Лукерья есть сокровище и достойна женихов достойнейших. Не величается украшением; мысли ее быстры, но воздержны: не говорит она кроме того, что нужно и должно, а когда отверзает уста к вещанию, то из них лиется непритворная и сладкая приятность. Так Лукерья без власти и даже не красотою, но будет владеть сердцем супруга. Я повторяю, Фалелей, любовь твоя к ней праведна; но должно ждать, да родители твои на то согласятся».
Доколе Цымбалда продолжал речь свою, радость живо изображалася на лице Фалелея, и он неоднократно, вспрыгнув на шею к дядьке своему, его целовал от всего своего сердца, но слыша, что, после всего одобрения, дядька сказал, что на то надлежит иметь согласие г. Простякова и его супруги, то он гораздо пригорюнился, бояся, когда о сем скажут любезной его матушке, что она, конечно, изволит его высечь лозою, как дитя, и, может быть, очень больно, а Лушку куда-нибудь ушлет или отдаст замуж в дальное место. От таких мыслей Фалелей повесил голову и шел задумавшись. На пути своем нашли они кузницу, где слышен был стук молотов и искры пламенные возлетали из горна высоко на воздух. Цымбалда, начитавшися много тех книг, которые ему достались после барина, хотя не таков был, как Дон-Кишот, начитавшись рыцарских романов, и не совершалося то в очью его, что находилося только в его воображении, и при всяком случае, где он малейшее находил сходство того, что было пред его глазами, с тем, чего начитался, он читал то сходное место из книги, имея на старости память довольно острую. Итак, увидев кузницу еще издали, он возгласил[28]: «Самая страшная тут находилась пещера[29]. Из пещеры исходил дым черный и густой и делал нощь посреди дня[30]. Серчая мгла дышала непрестанно чрез отверстие то, весь воздух вкруг заражало. Окрест не росло ни былинки, ни травочки…»
Фалелей.
(в грусти идет и с досадой вдруг прерывает речь дядьки)
Врешь ты, Цымбалда, видишь – около кузницы трава.
Цымбалда.
(рад тому, что Фалелей стал заниматься его рассказами, продолжал)
«Прибыв ко входу пещеры, услышал подземну державу, грозно рычащу. Вся земля тряслась под его стопами».[31]
Фалелей.
Дядька! я не слышу, кто рычит, нет тут ни телят, ни коров; я не чувствую, чтоб земля дрожала, но я только дрожу: становится холодно, зайдем в кузницу и погреемся.
Цымбалда.
«Дым густой, бывший при входе в пещеру, когда приближились, исчез, и дух ядовитый престал, вшел один…»
Между тем как Цымбалда сие говорил, Фалелей подошел ко дверям кузницы, когда дядька говорил: «вшел один». Он впрыгнул в кузницу и (половина шуткою, половина, будучи достойное, хоть не совсем, дитя своей матушки, ради мщения за последние слова дядькины) дверь затворил и запер крюком, говоря: «Дядька, ты сказал: „вшел один“, – я один и вошел, а ты там стой и мерзни (полегоньку), мерзни, старой черт!»
Цымбалда.
(приложив рот к щелке на дверях, продолжает, и голос его, проходя сквозь щелку звончее, был свистоват и завывал)
«Сидел на престоле из черного дерева, бледен и суров, сверкающи очи и впадшие; чело браздисто и грозно».[32]
Фалелей оглянулся назад и видит кузнеца, сидевшего на наковальне, между тем как железо калилося в горну. Слышит дядькины слова, и душа в нем дрогнула.
Цымбалда, желая немного проучить своего питомца, зная его трусливой нрав, говорил в щелку вполкрика хриплым голосом:
Внизу на престоле стояла смерть бледная (прибавляя голоса до конца речи, как то в музыке крещендо), чудовище мозгло, мослисто, и глухо, и немо, и слепо, в руках имело преострую косу…»[33]
Фалелей уже дрожал, слыша дядькины речи, от дверей не отходил и давно уже покушался отворить дверь, но, затворив ее с размаха, то не легко было, а в ту минуту, как Цымбалда говорил: «в руках имело косу», – кузнец вынул каленый железный прут, разогревшийся в горну, махнул им поспешно и, положа на наковальну (в то самое время, как Фалелей оглянулся), ударил молотком по железу; каленые искры посыпались и полетели, и одна попала Фалелею на лицо. Он, завизжав от боли и ужаса, размахнул двери, разбил дядьке нос до крови, сам упал чрез порог в бывшую тут грязную лужу почти без чувства. Кузнец, видя барского сына в грязи, дядьку, стоящего в оцепенелости окровавленным, бросил железо в воду и сунулся на помощь к барину. Фалелей, слыша близь ушей клокот и шипенье горячего в воде железа и стремящегося к нему, наклонившись, кузнеца, которого он считал в сию минуту по крайней мере сатаною, а с другой стороны дядьку, наклонившегося с окровавленною рожею, также чтобы поднять его из грязи, кричал кузнецу: «Помилуй, не буду больше, помилуй, не буду!» – вертелся в грязи и барахтался, не даваяся кузнецу или черту в руки. Но, помня свою досаду за прежние речи, протянутую выю дядьки обнял руками крепко и, приближась к его лицу, будто приподымается, укусил его столь больно за нос, приговаривая: «Вот тебе, старой черт, за давешнее», что бедный старик упал без памяти, окровавлен еще больше, упал и сшиб с ног наклонившегося кузнеца, и все трое лежали крест-накрест: Фалелей внизу, кузнец на нем, а Цымбалда наверху.
Прекраснейшая группа, которой ниже тени никогда ни Новерр, ни Анджелини не могли произвести в прекрасных своих балетах, и столпообразный Лаокоон, гордяся своею лепотою в чертогах Ватиканских, был в сравнении сея группы дрянь. Для дополнения сея картины, достойной момической кисти Гогарта, явилась тут из-за угла прекрасная Лукерья с кувшином. Созонт, кузнец, был ее отец, и она ему несла квасу. Вообразите Фалелея, барахтающегося в грязной луже под тяжестию кузнеца и дядьки, – вымаранная рожа, руки и платье, вообразите положение его души, видя чудесное нашествие его любовницы. Лукерья, едва увидела сию неоцененную группу, захохотала и вскричала: «Мала куча!» Фалелей, раздраженный сею колкою насмешкою, поворотился под своею тяжестию паче древнего Енкелада, который мог только заставить Этну, на груди его лежащую, изрыгнуть огнь, дым, камни, пепел и лаву, – Фалелей поворотился сильно, свергнул бремя, в грязи его давившее, и, вскочив, помчался домой, вымаранный в грязи, как черт, без шляпы; Цымбалда, опомнившись, с кровавым лицом и откушенным носом, поспешал, бежал шагом за ним вслед, с обыкновенным своим припевом: «Постой, Фалелеюшка, постой, батюшка!» – а кузнец, вставши, плюнул с негодованием вполсмеха: «Провалитесь вы вставши!»; Лукерья еще усмехнулась, а мы? – Мы скажем: конец.
Апология «Тилемахиды» и шестистопов
П. Согласен в том, что «Тилемахида» может быть поводом к чему-нибудь смешному, но чтобы в ней что-нибудь было хорошее – нет, нельзя.
Б. Да ты ее не читал.
П. Что нужды в том, что я ее не читал от доски до доски; но разверни ее где хочешь, то везде найдешь нелепость.
Б. А я ее читал, правда случайно, и вот что я о ней думаю. Поелику Тредьяковский отвечает только за стихи, то надлежит сказать, во-первых, что, по несчастью его, он писал русским языком прежде, нежели Ломоносов впечатлел россиянам примером своим вкус и разборчивость в выражении и в сочетании слов и речей сам понесся путем непроложенным, где ему вождало остроумие, – словом, прежде, нежели он показал истинное свойство языка российского, нашед оное забыто в книгах церковных; потому Тредьяковскому и невозможно было переучиваться. Тредьяковский разумел очень хорошо, что такое стихосложение, и, поняв нестройность стихов Симеона Полоцкого и Кантемира, писал стихами такими, какими писали греки и римляне, то есть для российского слуха совсем новыми; но, знав лучше язык Виргилиев, нежели свой, он думал, что и преношения в российском языке можно делать такие, как в латинском. Несчастие его было то, что он, будучи муж ученой, вкуса не имел. Он столь упитан был чтением правил стихосложных, употребляемых древними, и столь знал красоты их благогласия, что явственно тому подражал, и в «Тилемахиде» много стихов…
П. Апология – защищение, по речению какого-то автора, и омег можно заглушить медом; ты шутишь, защищая нелепости первого нумера.
Б. Не шучу, и в доказательство разогнем «Тилемахиду»:
«Но на ближних горах зеленели кусты виноградны, Коих листвия, как венки и цепочки, висели, Грозды красней багреца не могли под листом укрыться».П. Правда, стихи изрядные.
Б. Такие, каких очень мало и в лучших сочинениях.
«Пристань и вся земля убегать созади нас казались».П. Стих посредственной.
Б. Изрядной, если бы не было галлицизма: убегать казались.
«Та разлука была мне вместо Перунна удара».П. Хорош.
Б. Не только хорош, но и очень хорош, ибо препинание стиха первое после слова разлука, другое и скорое затем после мне, а потом непрерывно два дактиля, долгая, ударяя или запиная, совсем на у в Перунна, за у повторительное и глухое нна, и за ними привскакивающее краткое у, и наконец падающее, раздающееся в слухе да, с окончанием ра, делают сей стих хорошим; поставь его в другое место, а не в «Тилемахиду», то всяк скажет: хорош.
П. Неужели ты сие говоришь не в шутку?
Б. Не шутка, конечно: повтори чтение, читай по стопам слов, как то велит читать Клопшток, то есть следующим образом:
«Та разлука была мне | вместо Перунна удара».И если разыщешь сей стих еще больше и раздробишь его, то найдешь, что, сверх числительныя звонкости, в нем есть еще сие изящное уподобительное благогласие, коего столь изобильные примеры находятся в Омире, в Виргилии и во всех великих стихотворцах.
«Добрые ждут, | пока не взыщутся и призовутся. Злые ж, | сему напротив, суть смелы, обманчивы, дерзки, Скоро вкрасться, | во всем угождать, притворяться искусны, Сделать | готовы все, | что противно | совести, чести».П. Это не стихи.
Б. Первый, хотя стих, но очень походит на прозу, для того что в нем меры времен (rithme) не суть стихотворны. Ибо стопы слов, в их последовании одна за другою, не суть благогласны, а особливо после долгого ждут читать пока хореем. Если же будешь его читать спондеем, а и призовут не дактилем, а триврахием, что также очень ловко, то стих будет гораздо лучше. Читай сии стихи по сделанным отделениям и поставленным ударениям, то они покажутся благогласнее. Сказать ли тебе мое истинное мнение? У нас разумеют, что есть дактилий, а не шестистоп дактилохореической и дактилоспондеической (да простят мне все школьные учители и все стиходетели употребляемое мною здесь наименование!) и шестистоп дактилотриврахийской, а из шестистопов сих трех названий может быть истинный шестистоп российской, которой можно употреблять с успехом. Читая «Тилемахиду», всегда ищут в ней дактилий и читают ее всегда дактилием. Клопшток сие запрещает именно; и если его «Мессию» читать так же станешь, то вместо его благогласных стихов выйдут скачущие и жесткие дактилохореи. Но читая по стопам слов, то находишь в них благогласие непрерывное, стих в ухе не звенит, и его гармония есть точно та, какую в стихах искали греки и римляне.
П. Я никогда не воображал себе, чтобы в «Тилемахиде» мог быть стих порядочный. Его смерть и Кервер суть смехотворны:
«Дивище мозгло, мослисто, и глухо, и немо, и слепо; Чудище обло, озорно, огромно, с тризевной и лаей».Б. Конечно так; но отчего? Не от дактилия и не от шестистопа, но от нелепых слов: дивище мозгло, ибо то и другое в поэму не годится. И Тредьяковский не дактилиями смешон, но для того, что не имел вкуса; он сделал дактилии смешными, он стихотворец, но не пиит, в чем есть великая разница. Если растряхнуть котомки иных наших славящихся Парнасских рыцарей, то не лучше что из них вылетит, как что излетело из Пандориной коробки, но не зло, не болезни и не недуги, но стихи нелепые дерут слухи и достойны поместиться в «Тилемахиде». Но дабы никого не оскорбить, мы воздержимся от примеров. Знаешь ли верное средство узнать, стихотворен ли стих (если так изъясниться можно)? Сделай из него преложение, не исключая ни единого слова, то есть сделай из него прозу благосклонную. Если в преложении твоем останется поэзия, то стих есть истинный стих, напр.:
«О ты, что в горести напрасно» и пр.Преложи его как хочешь, перенося, но грамматикально, слова сей строфы, то и в прозе будет поэзия. Преложи многие строфы из оды к Фелице, а особливо, где мурза описывает сам себя, без стихов останется почти тоже поэзия, но преложи… и без предубеждения скажи, что вышло? Но мы «Тилемахиду» забыли, а я вижу, ты ее сложил. Разогни опять, и продолжим. Читай здесь:
«Тотчас и хлынул | поток мяснобагр из него издыхавша».П. Какой нелепый стих!
Б. Нелеп совершенно. Но чем же?
П. Да тем, что сказать то же можно лучше:
И се поток багров течет из ран глубоких, Едва он жив, едва он дышит. И се поток багровый вдруг хлынул из ран издыхавша.Б. Согласен. Твое преложение сделано с разборчивостию и со вкусом. Но Тредьяковского стих более картина, но без вкуса; а если бы он у него был, то бы стих его был бы, может, следующий:
«Я не имел уже и утехи бедныя – выбрать Кое-нибудь одно, меж рабством и смертию в горе; Надобно стало быть рабом и сносить терпеливо» и пр.П. Стихи очень слабые!
Б. Не только стихи слабые, но и слабая проза, чего везде довольно. Теперь будь уверен в том, что, читая иначе стихи «Тилемахиды», много найдешь стихов слабых и стихов посредственных, ибо и сама мысль преложить Телемака в стихи есть неудачное нечто. Но теперь постараемся найти стихов, хотя несколько, хороших, где много гармонии; ибо мимоходом заметим, что в «Тилемахиде» есть стихов много нелепых, но благогласных. Вот пример стихов негладких, где благогласия очень много:
«Гор посредине крутых буераки столь преглубоки, Что едва осиять глубь может солнце лучами».Но выслушай следующее:
«Столько ж | грубых, | сколь та вся земля дика и ребриста».Читая первое отделение спондеем, второе хореем, третие полудолгими, если так их назвать можно, кратко-долгими или долго-краткими, то есть как просодия нашего языка требует, и ударяя сильно на последнем слоге сего отделения, читаешь в последнем две кратких и хорей. Сколь от сего произношения, то есть читая стопами по Клопштокову наставлению, стих хорош, столь он дурен, если читаем его размером хореев и дактилий.
«В сeй час | я усмотрел, | что гора колеблется страшно. Дубы и сосны | мне казались сходящи | с хребтов гор».Как хорошо в первом стихе, после начальных спондеев и долгого ударения на конце третьего отделения, следуют четыре одинаково краткие в колеблется и полудлинные спондеи в страшно.
Во втором: в первом отделении дактиль и хорей, во втором столь поспешные пять почти равно кратких и в окончательном три долгие, из коих первая долга, но две последних посредством глухого о от ъ, за ним стоящего, столь же, кажется, тяжелы, как хребет горной.
«Превознесется | слава до самых светил, | до звезд поднебесных».Какой стих! я уверен, что и сам Ломоносов его бы похвалил. Не только в нем числительная красота, красота мерная времени, но и самая изразительная гармония, происходящая от повторения букв е и ь с д и п, сперва в запинательной стопе слова превознесется кратко-долгими, потом ямб с анапестом в окончательном отделении. Я знаю, что, кто бы более имел вкуса, не сказал бы: звезды поднебесные.
(Коя) приводит в лед всю кровь, текущую в жилах».
Не порицай, пожалуй, слабого приводит вместо превращает: ибо первое тянется, мерзнет; а другое, с повторительными р после гласной, скорей сходствует с кипеньем воды на огне, нежели с охлаждением крови в жилах.
«И к воздержанию всех стремлений юности резвой».Нет, кажется, уже нужды замечать красоту от повторений е и ь, и и ю, соединенно со скоростию слов воздержание, а паче стремлений, в средине стоящего.
(«Да и тех положил в сень смерти своими стрелами».)Как томно! Или:
«Праздна уже колесница сама свой бег направляла».Какая легкость!
«Слышимо было | везде | одно щебетание птичек, Иль благовонный дух | от Зефиров | веющих тихо. С ветви на ветвь | древес прелетающих | в шуме прохладном. Иль журчание | чиста ручья, | упадающа с камня».Четыре хороших стиха; после двух хореев, составляющих первое отделение, и запинание легкого спондея (помните, что я говорю о стопах, а не о стихе) второго отделения, шесть кратких, меж которых только три долгие; одну и первую из них произнести надлежит кратко, на вторую чуть опереться и сделать ударение на третие, при помощи повторительных сначала о, а на конце я, и и е, кажется, слышно песни не соловья, не снегиря и не малиновки или пеночки, но чечета, клеста, а может, и дикого чижа и щегленка. Раздробите второй стих и найдете, что его красота происходит от длинного первого отделения, где гласные а, о, о, ый льются, так сказать, в слове благовонный, преломляемые мягкими только согласными, и препинаются плавно на слове дух; потом, прешед тихо дрожание второго отделения, окончавают точно так, что изражают. В третьем стихе посмотрите, сколь изразительны три первые отделения, а в четвертом два первые отделения, где посредством слогов: журч. чис. руч., которые один за одним следуют, не слышится ли то, что автор описывает? А в последнем отделении в слогах, звучностию похожих, и с ними гласное одинаковое па, да, ща, ка, мня, изражают будто падающие воды на камень.
П. Изъяснение твое изрядно, но или я ничего в сих стихах не слышу, или препятствует тому великое предубеждение.
Б. Вероятно последнее.
(И) воздымало волны, катя огромны, что горы».
Если б не было нелепого что, то стих был бы очень хорош.
«Издали гор и холмов верхи пред взором мелькали».Но таких примеров очень много, и, повторяя их, можно наскучить.
П. Еще немного.
Б. Выслушай следующий стих и особливо первую столь изразительную половину стиха:
«Дыбом подняв лев свою косматую гриву».А все сие происходит от повторенного звука дыб– ом – под – няв – лев.
«Зев отворяет сухий и пылко пышущий жаром; Ярки лучи его верхи гор всех позлащали. Гора Ливана, коея верх, сквозь облаки, звезд достигнуть стремится. Вечный лед чело ея покрывает, не тая».Сии два стиха, следуя один за одним и изображая две картины одного и того же предмета, суть хороший пример изразительныя гармонии:
«В нем не находишь теперь кроме печальных останков От величия, уже грозяща падением громким».Вот три стиха, в которых повторение гласной и делает один изящным, а два дурными:
«И мы видели там все страхи близкия смерти. Книга, держима им, была собрание имнов, Яви стези итти премудрости за светом».Отчего же так первый хорош, а два другие дурны? Кажется, всё чародейство изразительной гармонии состоит в повторении единозвучной гласной, но с разными согласными. Во втором стихе в начале има, им и на конце ние, им несносную делают какофонию, так, как и в третьем стези итти… сти.
«Тайна и тиха мною всем овладела расслаба, Я возлюбил яд лестный, лился что из жилы в другую».Какая сладость при дурном выборе слов; или какая легкость в следующем:
«Зрилась сия колесница лететь по наверхности водной».А еще легче действительно, как нечто легкое, виющееся по ветру:
«И трепетались играньми ветра, вьясь, извиваясь».Сказанного мною кажется уже довольно для доказательства, что в «Тилемахиде» находятся несколько стихов превосходных, несколько хороших, много посредственных и слабых, а нелепых столько, что счесть хотя их можно, но никто не возьмется оное сделать. Итак, скажем: «Тилемахида» есть творение человека, ученого в стихотворстве, но не имевшего о вкусе нималого понятия.
Поэзия
Песня
Ужасный в сердце ад, Любовь меня терзает; Твой взгляд Для сердца лютый яд, Веселье исчезает, Надежда погасает, Твой взгляд, Ах, лютый яд. Несчастный, позабудь… Ах, если только можно, Забудь, Что ты когда-нибудь Любил ее неложно; И сердцу коль возможно, Забудь Когда-нибудь. Нет, я ее люблю, Любить вовеки буду; Люблю, Терзанья все стерплю, (Ее не позабуду) «И верен ей пребуду; Терплю, А всё люблю. Ах, может быть, пройдет Терзанье и мученье; Пройдет, Когда любви предмет, Узнав мое терпенье, Скончав мое мученье, Придет, Любви предмет. Любви моей венец Хоть будет лишь презренье, Венец Сей жизни будь конец; Скончаю я терпенье, Прерву мое мученье; Конец Мой будь венец. Ах, как я счастлив был, Как счастлив я казался; Я мнил, В твоей душе я жил, Любовью наслаждался, Я ею величался И мнил, Что счастлив был. Всё было как во сне, Мечта уж миновалась, Ты мне, То вижу не во сне, Жестокая, смеялась, В любови притворялась Ко мне, Как бы во сне. Моей кончиной злой Не будешь веселиться, Рукой Моей, перед тобой, Меч остр во грудь вонзится. Моей кровь претворится Рукой Тебе в яд злой.» Первая половина 1770-х годов (?)Творение мира Песнословие
Хор.
Тако предвечная мысль, осеняясь собою И своего всемогущества во глубине, Тако вещала, егда все покрытые мглою Первенственны семена, опочив в тишине, Действия чужды и жизни восторга лежали, Времени круга миры когда не измеряли.Бог.
Един повсюду и предвечен, Всесилен бог и бесконечен; Всегда я буду, есмь и был, Един везде вся исполняя, Себя в себе я заключая, Днесь всё во мне, во всем я жил. Но неужель всегда пребуду Всесилен мыслью, мыслью бог? И в недрах божества забуду То, что б начати я возмог? Или любовь моя блаженна Во мне пребудет невозженна, Безгласна, томна, лишь во мне Всевечно жар ее пылая, Ужель, бесплодно истлевая, Пребудет божества во дне? Расшири́м себе пределы, Тьмой умножим божество, Совершим совета меры, Да явится вещество.Хор.
Вострепещи днесь, упругое древле ничто! Ветхий се деньми грядет во могуществе стройном, Да сокрушит навсегда смерть во царстве покойном, Всюду да будет жизнь, радость, утехи.Бог.
Но что Начнем? Речем: Возлюбленное слово, О первенец меня! Ты искони готово Во мне, я ты, ты я. Тебе я навсегда вручаю Владычество и власть мою, В тебе любовь я заключаю, Тобою мир да сотворю. Исполнь божественны обеты, Яви твореньем божество, Исполнь премудрости советы, Твори жизнь, силу, вещество. Тобою я прославлюсь, Бездействия избавлюсь, Ты то явишь, что я возмог, А я в себе почию, бог.Хор.
Мертвые днесь развевайтеся сени, Жизни начало зиждитель дает; В жизни всегдашней не будет премены, Мрачна пустыня познает, что свет. Слово Начнем творить – что медлю я? Иль воля вечного бессильна? Иль мысль его не изобильна? Иль зрит препону власть моя? Часть хора Нежная любовь тревожит Бесконечные судьбы, И гаданье скорби множит Мира будущи беды. Часть хора Отверзись, мрачная пучина, Грядущего пади покров, Явися, будуща судьбина, Предел тебе положит бог!Хор.
Се исчезает пред взором всезрящим Века не суща еще темнота, Се знаменуют рок словом горящим Мира грядуща всевечны уста.Бог.
Единым взором всё объемля, Что было, есть и может быть, Закону моему не внемля — Во страхе господа ходить, Я зрю, что тварь не пожелает; Кичася гордостью, взмечтает, Что всей она природы царь. О бренна и немощна тварь! Почто против отца дерзаешь? Или, ослушна, быти чаешь Блаженною сама собой? Я мог бы днесь, предупреждая И мысль мою переменяя, Быть твари повелеть иной. Не ярый слабостей я мститель, Отец всещедрый и зиждитель: Любовию к тебе горю. Чуждаться будешь совершенства, Но корень твоего блаженства В тебе нетленен сотворю.Часть хора.
О любовь несказанна, Прежде века избранна, В тебе жизнь и начало В мире всё восприяло.Хор.
Взора пространства пустыни все с трепетом вечна В сретенье радостным ликом грядут, Бездну безвещия зыблет днесь мочь бесконечна, Мертвые жизнь семена с нетерпением ждут.Часть хора.
Божественна утроба рдеет, Клубя в рожденье вещество, Любовь начально семя греет, Твореньем узришь божество.Слово.
Мысль благая, совершайся, И превечно исполняйся Отца мудрости совет, Да окрепнет в твердь пучина, Неизмерима равнина, Где пространство днесь живет. Оживись, телесно семя, Приими начало, время, И движенье, вещество, Твердость телом, Жизнь движеньем, — Се вещает божество. 1779—1782 (?)Эпитафия
О! если то не ложно, Что мы по смерти будем жить, — Коль будем жить, то чувствовать нам должно; Коль будем чувствовать, нельзя и не любить. Надеждой сей себя питая И дни в тоске препровождая, Я смерти жду, как брачна дня; Умру и горести забуду, В объятиях твоих я паки счастлив буду. Но если ж то мечта, что сердцу льстит, маня, И ненавистный рок отъял тебя навеки, Тогда отрады нет, да льются слезны реки. Тронись, любезная! стенаниями друга, Се предстоит тебе в объятьях твоих чад; Не можешь коль прейти свирепых смерти врат, Явись хотя в мечте, утеши тем супруга… 1783Вольность Ода
1
О! дар небес благословенный, Источник всех великих дел, О вольность, вольность, дар бесценный, Позволь, чтоб раб тебя воспел. Исполни сердце твоим жаром, В нем сильных мышц твоих ударом Во свет рабства тьму претвори, Да Брут и Телль еще проснутся, Седяй во власти да смятутся От гласа твоего цари.2
Я в свет исшел, и ты со мною; На мышцах нет твоих заклеп; Свободною могу рукою Прияти данный в пищу хлеб. Стопы несу, где мне приятно; Тому внимаю, что понятно; Вещаю то, что мыслю я; Любить могу и быть любимым; Творю добро, могу быть чтимым; Закон мой – воля есть моя.3
Но что ж претит моей свободе? Желаньям зрю везде предел; Возникла обща власть в народе, Соборный всех властей удел. Ей общество во всем послушно, Повсюду с ней единодушно; Для пользы общей нет препон; Во власти всех своей зрю долю, Свою творю, творя всех волю, — Вот что есть в обществе закон.4
В средине злачныя долины, Среди тягченных жатвой нив, Где нежны процветают крины, Средь мирных под сеньми олив, Паросска мармора белее, Яснейша дня лучей светлее, Стоит прозрачный всюду храм; Там жертва лжива не курится, Там надпись пламенная зрится: «Конец невинности бедам».5
Оливной ветвию венчанно, На твердом камени седяй, Безжалостно и хладнонравно, Глухое божество судяй. Белее снега во хламиде, И в неизменном всегда виде, Зерцало, меч, весы пред ним. Тут истина стрежет десную, Тут правосудие ошую, — Се храм Закона ясно зрим.6
Возводит строгие зеницы, Льет радость, трепет вкруг себя, Равно на все взирает лицы, Ни ненавидя, ни любя. Он лести чужд, лицеприятства, Породы, знатности, богатства, Гнушаясь жертвенныя тли; Родства не знает, ни приязни; Равно делит и мзду и казни; Он образ божий на земли.7
И се чудовище ужасно, Как гидра, сто имея глав, Умильно и в слезах всечасно, Но полны челюсти отрав, Земные власти попирает, Главою неба досязает, Его отчизна там, – гласит; Призра́ки, тьму повсюду сеет, Обманывать и льстить умеет И слепо верить всем велит.8
Покрывши разум темнотою И всюду вея ползкий яд, Троякою обнес стеною Чувствительность природы чад, Повлек в ярмо порабощенья, Облек их в бро́ню заблужденья, Бояться истины велел. «Закон се божий», – царь вещает; «Обман святый, – мудрец взывает, — Народ давить что ты обрел».9
Сей был, и есть, и будет вечный Источник лют рабства оков: От зол всех жизни скоротечной Пребудет смерть един покров. Всесильный боже, благ податель, Естественных ты благ создатель, Закон свой в сердце основал; Возможно ль, ты чтоб изменился, Чтоб ты, бог сил, столь уподлился, Чужим чтоб гласом нам вещал?10
Воззрим мы в области обширны, Где тусклый трон стоит рабства. Градские власти там все мирны, В царе зря образ божества. Власть царска веру охраняет, Власть царску вера утверждает; Союзно общество гнетут: Одна сковать рассудок тщится, Другая волю стерть стремится, На пользу общую, – рекут.11
Покоя рабского под сенью Плодов златых не возрастет; Где всё ума претит стремленью, Великость там не прозябет. Там нивы запустеют тучны, Коса и серп там неспоручны, В сохе уснет ленивый вол, Блестящий меч померкнет славы, Минервин храм стал обветшавый, Коварства сеть простерлась в дол.12
Чело надменное вознесши, Схватив железный скипетр, царь, На громном троне властно севши, В народе зрит лишь подлу тварь. Живот и смерть в руке имея: «По воле, – рек, – щажу злодея; Я властию могу дарить; Где я смеюсь, там всё смеется; Нахмурюсь грозно – всё смятется; Живешь тогда, велю коль жить».13
И мы внимаем хладнокровно, Как крови нашей алчный гад, Ругаяся всегда бесспорно, В веселы дни нам сеет яд. Вокруг престола все надменна Стоят колена преклоненна. Но мститель, трепещи, грядет. Он молвит, вольность прорекая, — И се молва от край до края, Глася свободу, протечет.14
Возникнет рать повсюду бранна, Надежда всех вооружит; В крови мучителя венчанна Омыть свой стыд уж всяк спешит. Меч остр, я зрю, везде сверкает, В различных видах смерть летает, Над гордою главой паря. Ликуйте, склепанны народы; Се право мщенное природы На плаху возвело царя!15
И нощи се завесу лживой Со треском мощно разодрав, Кичливой власти и строптивой Огромный истукан поправ, Сковав сторучна исполина, Влечет его как гражданина К престолу, где народ воссел. «Преступник власти, мною данной! Вещай, злодей, мною венчанный, Против меня восстать как смел?16
Тебя облек я во порфиру Равенство в обществе блюсти, Вдовицу призирать и сиру, От бед невинность чтоб спасти, Отцом ей быть чадолюбивым, Но мстителем непримиримым Пороку, лже и клевете; Заслуги честью награждати, Устройством зло предупреждати, Хранити нравы в чистоте.17
Покрыл я море кораблями, Устроил пристань в берегах, Дабы сокровища торгами Текли с избытком в городах; Златая жатва чтоб бесслезна Была оратаю полезна; Он мог вещать бы за сохой: „Бразды своей я не наемник, На пажитях своих не пленник, Я благоденствую тобой“.18
Своих кровей я без пощады Гремящую воздвигнул рать; Я медны изваял громады, Злодеев внешних чтоб карать; Тебе велел повиноваться, С тобою к славе устремляться; Для пользы всех мне можно всё; Земные недра раздираю, Металл блестящий извлекаю На украшение твое.19
Но ты, забыв мне клятву данну, Забыв, что я избрал тебя Себе в утеху быть венчанну, Возмнил, что ты господь, не я. Мечом мои расторг уставы, Безгласными поверг все правы, Стыдиться истине велел; Расчистил мерзостям дорогу, Взывать стал не ко мне, но к богу, А мной гнушаться восхотел.20
Кровавым потом доставая Плод, кой я в пищу насадил, С тобою крохи разделяя, Своей натуги не щадил. Тебе сокровищей всех мало! На что ж, скажи, их недостало, Что рубище с меня сорвал? Дарить любимца, полна лести, Жену, чуждающуся чести! Иль злато богом ты признал?21
В отличность знак изобретенный Ты начал наглости дарить; В злодея меч мой изощренный Ты стал невинности сулить. Сгружденные полки в защиту На брань ведешь ли знамениту За человечество карать? В кровавых борешься долинах, Дабы, упившися, в Афинах: „Ирой!“ – зевав, могли сказать.22
Злодей, злодеев всех лютейший, Превзыде зло твою главу, Преступник, изо всех первейший, Предстань, на суд тебя зову! Злодействы все скопил в едино, Да ни едина прейдет мимо Тебя из казней, супостат. В меня дерзнул острить ты жало. Единой смерти за то мало, Умри! умри же ты стократ!»23
Великий муж, коварства полный, Ханжа, и льстец, и святотать, Един ты в свет столь благотворный Пример великий мог подать. Я чту, Кромве́ль, в тебе злодея, Что, власть в руке своей имея, Ты твердь свободы сокрушил; Но научил ты в род и роды, Как могут мстить себя народы: Ты Карла на суде казнил.24
Ниспал призра́к, и мглу густую Светильник истины попрал; Личину, что зовут святую, Рассудок с пагубы сорвал. Уж бог не зрится в чуждом виде, Не мстит уж он своей обиде, Но в действе распростерт своем; Не спасшему от бед нас мнимых, — Отцу предвечному всех зримых Победную мы песнь поем.25
Внезапу вихри восшумели, Прервав спокойство тихих вод, — Свободы гласы так взгремели, На вече весь течет народ, Престол чугунный разрушает, Самсон как древле сотрясает Исполненный коварств чертог; Законом строит твердь природы; Велик, велик ты, дух свободы, Зиждителей, как сам есть бог!26
Сломив опор духовной власти И твердой мщения рукой Владычество расторг на части, Что лжей воздвигнуто святой; Венец трегубый затмевая И жезл священный преломляя, Проклятий молний утушил; Смеяся мнимого прощенья, Подъял луч Лютер просвещенья, С землею небо помирил.27
Как сый всегда в начале века На вся простерту мочь явил, Себе подобна человека Создати с миром положил, Пространства из пустыней мрачных Исторг – и твердых и прозрачных Первейши семена всех тел; Разруша, древню смесь спокоил; Стихиями он всё устроил И солнцу жизнь давать велел.28
И дал превыспренно стремленье Скривленному рассудку лжей; Внезапу мощно потрясенье Поверх земли уж зрится всей; В неведомы страны отважно Летит Колумб чрез поле влажно; Но чудо Галилей творит: Возмог, протекши пустотою, Зиждительной своей рукою Светило дневно утвердить.29
Так дух свободы, разоряя Вознесшейся неволи гнет, В градах и селах пролетая, К величию он всех зовет, Живит, родит и созидает, Препоны на пути не знает, Вождаем мужеством в стезях; Нетрепетно с ним разум мыслит И слово собственностью числит, Невежства что развеет прах.30
Под древом, зноем упоенный, Господне стадо пастырь пас; Вдруг, новым светом озаренный, Вспряну́в, свободы слышит глас; На стадо зверь, он видит, мчится, На бой с ним ревностно стремится; Нечуждый вождь брежет свое, — О стаде сердце не радело, Как чуждо было, не жалело; Но ныне, ныне ты мое.31
Господню волю исполняя, До встока солнца на полях Скупую ниву раздирая, Волы томились на браздах; Как мачеха к чуждоутробным Исходит с видом всегда злобным, Рабам так нива мзду дает. Но дух свободы ниву греет, Бесслезно поле вмиг тучнеет: Себе всяк сеет, себе жнет.32
Исполнив круг дневной работы, Свободный муж домой спешит; Невинно сердце, без заботы, В объятиях супружних спит; Не господа рукой надменна Ему для казни подаренна, Невинных жертв чтоб размножал, — Любовию вождаем нежной, На сердце брак воздвиг надежный, Помощницу себе избрал.33
Он любит, и любим он ею; Труды – веселье, пот – роса, Что жизненностию своею Плодит луга, поля, леса; Вершин блаженства достигают; Горячность их плодом стягчают Всещедры боги к простоте. Безбедны до́йдут до кончины, Не зная алчной десятины, Птенцов что корчит в наготе.34
Воззри на беспредельно поле, Где стерша зверство рать стоит: Не скот тут согнан поневоле, Не жребий мужество дарит, Не груда правильно стремится, — Вождем тут воин каждый зрится, Кончины славной ищет он. О воин непоколебимый, Ты есть и был непобедимый, Твой вождь – свобода, Вашингтон.35
Двулична бога храм закрылся, Свирепство всяк с себя сложил, Се бог торжеств меж нас явился И в рог веселий вострубил. Стекаются тут громки лики, Не видят грозного владыки, Закон веселью кой дает, Свободы зрится тут держава, — Награда тут – едина слава, Во храм бессмертья что ведет.36
Сплетясь веселым хороводом, Различности надменность сняв, Се паки под лазурным сводом Естественный встает устав; Погрязла в тине властна скверность, Едина личная отменность Венец возможет восхитить; Но не пристрастию державну, Опы́тностью лишь старцу славну Его довлеет подарить.37
Венец, Пиндару возложенный, Художества соткан рукой; Венец, наукой соплетенный, Носим Невтоновой главой. Таков, себе всегда мечтая, На крыльях разума взлетая, Дух бодр и тверд возможет вся, Миров до края вознесется И славой новой облечется: Предмет его суть мы, не я.38
Но страсти, изощряя злобу, Враждебный пламенник трясут, Кинжал вонзить себе в утробу Народы пагубно влекут; Отца на сына воздвигают, Союзы брачны раздирают, В сердца граждан лиют боязнь; Рождается несытна власти Алчба, зиждущая напасти, Что обществу устроит казнь.39
Крутяся вихрем громоносным, Обвившись облаком густым, Светилом озарясь поносным, Сияньем яд прикрыт святым. Разя, прельщая, угрожая, Иль казнь, иль мзду ниспосылая — Се меч, се злато: избирай — И, сев на камени ехидны, Лестей облек в взор миловидный, Шлет молнию из края в край.40
Так Марий, Сулла, возмутивши Спокойство шаткое римлян, В сердцах пороки возродивши, В наемну рать вместил граждан, Ругаяся всем, что есть свято, И то, что не было отнято, У римлян откупить возмог; Весы златые мзды позорной, Предательству, убивству сродной, Воздвиг нечестья средь чертог.41
И се, скончав граждански брани И свет коварством обольстив, На небо простирая длани, Тревожну вольность усыпив, Чугунный скиптр обвил цветами; Народы мнили – правят сами, Но Август выю их давил; Прикрыл хоть зверство добротою, Вождаем мягкою душою, — Но царь когда бесстрастен был!42
Сей был и есть закон природы, Неизменимый никогда, Ему подвластны все народы, Незримо правит он всегда; Мучительство, стряся пределы, Отравы полны свои стрелы В себя, не ведая, вонзит; Равенство казнию восставит; Едину власть, валясь, раздавит; Обидой право обновит.43
Дойдешь до меты совершенства, В стезях препоны прескочив, В сожитии найдешь блаженство, Несчастных жребий облегчив, И паче солнца возблистаешь, О вольность, вольность, да скончаешь Со вечностью ты свой полет: Но корень благ твой истощится, Свобода в наглость превратится И власти под ярмом падет.44
Да не дивимся превращенью, Которое мы в свете зрим; Всеобщему вослед стремленью Некосненно стремглав бежим. Огонь в связи со влагой спорит, Стихия в нас стихию борет, Начало тленьем тщится дать; Прекраснейше в миру творенье В веселии начнет рожденье На то, чтоб только умирать.45
О! вы, счастливые народы, Где случай вольность даровал! Блюдите дар благой природы, В сердцах что вечный начертал. Се хлябь разверстая, цветами Усыпанная, под ногами У вас, готова вас сглотить. Не забывай ни на минуту, Что крепость сил в немощность люту, Что свет во тьму льзя претворить.46
К тебе душа моя вспаленна, К тебе, словутая страна, Стремится, гнетом где согбенна, Лежала вольность попрана; Ликуешь ты! а мы здесь страждем!.. Того ж, того ж и мы все жаждем; Пример твой мету обнажил; Твоей я славе непричастен — Позволь, коль дух мой неподвластен, Чтоб брег твой пепл хотя мой скрыл.47
Но нет! где рок судил родиться, Да будет там и дням предел; Да хладный прах мой осенится Величеством, что днесь я пел; Да юноша, взалкавый славы, Пришед на гроб мой обветшавый, Дабы со чувствием вещал: «Под игом власти, сей, рожденный, Нося оковы позлащенны, Нам вольность первый прорицал».48
И будет, вслед гремящей славы Направя бодрственно полет, На запад, юг и всток державы Своей ширить предел, но нет Тебе предела ниотколе, В счастливой ты ликуя доле, Где ты яви́шься, там твой трон; Отечество мое, отечество драгое На чреслах пояс сил, в покое, В окрестность ты даешь закон.49
Но дале чем источник власти, Слабее членов тем союз, Между собой все чужды части, Всяк тяжесть ощущает уз. Лучу, истекшу от светила, Сопутствует и блеск и сила; В пространстве он теряет мощь, В ключе хотя не угасает, Но бег его ослабевает, Ползущего глотает нощь.50
В тебе, когда союз прервется, Стончает мнений крепка власть; Когда закона твердь шатнется, Блюсти всяк будет свою часть; Тогда, растерзанно мгновенно, Тогда сложенье твое бренно, Сдрогаясь внутренно, падет, Но праха вихри не коснутся, Животны семена проснутся, Затускло солнце нов даст свет.51
Из недр развалины огромной, Среди огней, кровавых рек, Средь глада, зверства, язвы томной, Что лютый дух властей возжег, — Возникнут малые светила; Незыблемы свои кормила Украсят дружества венцом, На пользу всех ладью направят И волка хищного задавят, Что чтит слепец своим отцом.52
Но не приспе еще година. Не совершилися судьбы; Вдали, вдали еще кончина, Когда иссякнут все беды! Встрещат заклепы тяжкой ночи; Упруга власть, собрав все мочи, Вскатясь горе, потщится пасть, Да грузным махом вся раздавит, И стражу к словеси приставит, Да будет горшая напасть.53
Влача оков несносно бремя, В вертепе плача возревет. Приидет вожделенно время, На небо смертность воззовет; Направлена в стезю свободой, Десную ополча природой, Качнется в дол – и страх пред ней; Тогда всех сил властей сложенье Развеется в одно мгновенье. О день! избраннейший всех дней! Мне слышится уж глас природы, Начальный глас, глас божества; Трясутся вечна мрака своды, Се миг рожденью вещества. Се медленно и в стройном чине Грядет зиждитель наедине — Рекл… яркий свет пустил свой луч И, ложный плена скиптр поправши, Сгущенную мглу разогнавши, Блестящий день родил из туч. 1783 (?)«Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?»
Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? Я тот же, что и был и буду весь мой век. Не скот, не дерево, не раб, но человек! Дорогу проложить, где не бывало следу, Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах, Чувствительным сердцам и истине я в страх В острог Илимский еду. Начало 1791 (?) г.«Почто, мой друг, почто слеза из глаз катится…»
– Почто, мой друг, почто слеза из глаз катится, Почто безвременно печалью дух крушится? Ты бедствен не один! Иной среди утех Всесчастлив кажется, но знает ли, что смех? Улыбка на устах его воссесть не может, Змия раскаянья преступно сердце гложет, — Властитель мира, царь, он носит в сердце ад. – Мне пользует ли то? Лишен друзей и чад, Скитаться по лесам, в пустынях осужденный, Претящей властию отвсюду окруженный, На что мне жить, когда мой век стал бесполезен? – Воспомни прежни дни, когда ты был любезен Всем знающим тебя, соотчичам, друзьям, Когда во льстящей мгле являлось всё очам, Когда во власти был веселий на престоле; Когда рок следовал твоей, казалось, воле, Когда один твой взор счастливых сделать мог. – Блаженством всё сие я почитать не мог. Богатство, власть моя лишь зависть умножали; В одежде дружества злодеи предстояли; Вслед честолюбию забот собранье шло; Злодейство правый суд и судию кляло; Злоречие, нося бесстрастия личину, И непорочнейшим делам моим причину Коварну, смрадную старалось приписать И добродетели порочный вид придать. Благодеянию возмездьем огорченье. – Среди превратности что ж было в утешенье? – Душа незлобная и сердце непорочно. – Скончай же жалобы, подъятые бессрочно. Или в пороки впал и гнусность возлюбил, Или чувствительность из сердца истребил? – Душа моя во мне, я тот же, что я был. – Дела твои с тобой, душа твоя с тобою. Престань стенать. Кто мог всесильною рукою И сердце любяще, и душу нежну дать, К утехам может тот тебя опять воззвать. А если твоего сна совесть не тревожит И память прежних дел печаль твою не множит, То верь, что всем бедам уж близок стал конец. Закон незыблемый поставил всеотец, Чтоб обновление из недр премен рождалось, Чтоб всё крушением в природе обновлялось, Чтоб смерть давала жизнь и жизнь давала смерть, — То шествие судьбы возможно ли претерть? На восходящую воззри теперь денницу, На лучезарную ее зри колесницу: Из недр густейшей мглы, смертообразна сна, Возобновленну жизнь земле несет она. – Се живоносное светило возблистало И утренни мечты от глаз моих прогнало, Приятный тихий сон телесность обновил, И в сердце паки я надежду ощутил. – Подобно ей печаль в веселье претворится, Оружьем радости вся горесть низложится, На крыльях радости умчится скорбь твоя, Мужайся и будь тверд, с тобой пребуду я. Начало 1791 (?) г.Молитва
Тебя, о боже мой, тебя не признавают, — Тебя, что твари все повсюду возвещают. Внемли последний глас: я если прегрешил, Закон я твой искал, в душе тебя любил; Не колебаяся на вечность я взираю; Но ты меня родил, и я не понимаю, Что бог, кем в дни мои блаженства луч сиял, Когда прервется жизнь, навек меня терзал. 1792 (?)Песнь историческая
Не красна изба углами,
Но красна лишь пирогами.
Пословица Громы, гряньте, потрясися Ось земная в основаньи, Время быстро, ты исчезни, — Книга вечности разверзлась. Я не в будущем читаю, Не пророк я, не волшебник, Не дельфийская пифия, Но я время зрю протекше. Се явился предо мною Муж ума и духа сильна, Что, народ спасая божий, Море Чермное претекши, Во пустыни среди глада, Среди смерти мог устроить Народ шаткий, легковерный. Моисей во имя бога Чудеса творил; законы Дал израильску народу. И по истине, возмогший Управлять толпой народной, Не быв призван на то ею, Не имея пред собою Предрассудка порожденья, Может, может сказать смело, Что посланник есть всевышня. Моисей во имя бога Жезлом правит, и законы Среди молний, среди грома Он со неба получает. Умы шаткие восхитив, Вождь был тверд умом и сердцем (Магомет коварством многим Быть хотел законодавцем, Умы пламенны восхитив Рая лестною картиной, Он смерть сладкою соделал Во объятьях дев небесных; Ученик его столь храбрый Воин был непобедимый. Он пошел струею быстрой На победы, пред собою Он народам удивленным Возвестил: се избирайте Алкоран иль смертоносный Меч, – и света половина Пала пред его законом). Се идет Семирамида, Она кудри свои черны Прикрывает златым шлемом; Своим мужеством на брани, Своим разумом в советах, Твердостью во время смутно Всех сердца, умы пленивши, Она память истребила, Что убийственной рукою Она скиптр правленья держит. Зри Навуходоносора, Несяй бурно пламя браней В стены нового Салема, Сокрушил их, в прах развеял, Разорил храм Иеговы, И повлек он иудеев В плен, неволю, в преселенье. Седяй гордо на престоле, Златом хитро изваянном, Он зрит образ свой во храмах Ко богам причтен; курятся Ароматы драгоценны В честь ему и днем и ночью. Но се мгла густая зверства На верх гордый налетает. Царь царей теряет разум. Он стал скот, в лесах дремучих, В блатах, дебрях ищет пищи… Так надменности на троне Писал суд предвечный в небе. Троя, Тир, Сидон, Карфага, Древни хины и индейцы И неведомы народы Шествуют, покрыты мглою Неизвестности; но блещет Во среде столетий мрака Слава мудрых, яко в туче Молния в сверканьи светлом. Зри, воспетые Омиром, Ахиллес, Парид иль Гектор… Зри, во пурпурных хламидах Жители Сидона, Тира, Алчбой злата устремленны, На крылах несутся ветра Во страны дальнейши мира. Зри, потомки их в Карфаге Накопляют преизбытки Остроумною торговлей. Ганнибал, о вождь предивный… Но зуб времени железный Сокрушил их град и славу… Се потомки мудрых брамов, Узники злодеев наглых, По чреде хранят священной Свой закон в Езурведаме Буквой древнего самскрита — Древней славы их останка И свидетеля их срама!!. О Конфуций, о муж дивный, Твое слово лучезарно В среде страшной бури, браней, На развалинах отчизны Восседало всегда в блеске И чрез целые столетьи Во парении высоком Возносилось и летало… Се идет твой современник Зороастр; он во Персиде Учреждает поклоненье Духа жизни во вселенной И на жертвеннике светлом Огнь возжег, что пламенеет Еще ныне в жертву богу. Тако сила духа мудра, Сохраняясь во потомстве, Пребывает лучезарна И живет, живет на вечность. Се Кир старший, учредитель Царства древния Персиды. Но чему о нем мне верить: Или повести правдивой, Иль Рамзею в слоге красном? Царь царей и царь великий, Погибающий рукою Томириды; отсеченна Глава Кира восплывает В крови; слышу, глас вещает: «Пей, тиран, досыта крови, Коей в жизни столь был жаждущ!» Се Эллада в блеске солнца; Там ирои в лучезарных Подвигах, будто светила, На крылах стремятся ветров Похити́ть руно златое. Зри, Язон в стране волшебной Превозмог в Колхиде страхи Чарований и отравы, И с руном он у Медеи Сердце нежное похитил. Зри, Алкид как сокрушает Выи дерзких и строптивых; Разве богу то возможно, Что он силою десницы Мог исполнить в жизни краткой. Странственных он избавитель, Предал смерти Бузирида; Он дал в снедь коням, обыкшим Поядать дымящи мяса Потребленных чужестранцев, Во Фраки́и Диомида; Вепря злого в Эриманте Обуздать мог вервью лютость; Стрелой легкою пернатой Он чудовищ тех пернатых, Что в Стимфалии гнездились, Сокрушил и предал смерти. Не возмог никто противен Быть ему на брани сильной. В Лерне гидру он стоглаву Поразил; в лесу Немейском Льва ужасного исторгнул Жизнь с дыханием мгновенно, И во знак своей победы Его кожу он космату Возложил на тверды плечи. Медяногу, златорогу, Легкую в бегу он серну Мог настичь; и даже бога В струях живша Архелоя Он, во образе свирепа Тельца сильна, он, поправши, Рог исторг во знак победы. Победитель он чудовищ, Победитель он гигантов; Сильна в мышцах он Анфия Удушил в объятьях крепких. Перед ним кентавры дерзки Как лист легкий возметались. И те храбры жены древле, Ненавистницы супругов, Амазонки побежденны И примером Ипполиты, Своей красныя царицы, Что Алкид Фисею отдал, Научились жить с мужьями. Он, предерзка Промифея, Что с небес похитил пламя, От злой казни избавляя, Убил врана, что терзает На Кавказе его перси; И, пришед к пределам мира, Океан где облегает Шар земной, он столп высокий Силой крепкия десницы Подавил и вдруг раздвинул. Две горы тут вознеслися, Калпе, Абила, подножьем Двух столпов, где начертанно Сие дело баснословно, Се предел, и море с шумом Покатилося волнами Во среду земель и весей. Он, наполнив весь мир славой, Нисшел в царствие Плутона И, привратника тризевна, Обуздал он пса Кервера. Но, платя он долг природе, Полубог, ирой, был слабый Во объятиях Омфалы Смертный; палицу иройску Гнусной пряслицей соделал. Но и в слабостях божествен, Сын царя миров предвечна, Десять он супруг имевши, Был отец потомства славна, Многочисленна; исполнил Наконец чудесный подвиг, Быв единою он ночью Дев пятидесяти юных Супруг нежный и в срок точно Пятьдесят сынов родивши. Подвигов двенадцать дивных Совершил, себя прославив; Быв ироем в жизни краткой, Полубог он стал по смерти. Но, склонясь от баснословных Подвигов иройских в Грецьи, Зри, живот как презирает Кодр в спасение Афинам. Он не злато, не гремушку Мздой поставил дел иройских, Но мечту, мечту любезну, Образ отчества драгого; В нем жить рай, но с ним разлука Есть геенна, ад ужасный. Кодр, сей мыслию исполнен И предвестию поверя, Что потеря драгоценной Вещи для Афин спасенье, Счел, что драгоценней в мире Вещи нет, как царь правдивый, И, себя таким считая, Смерть вкусил к спасенью царства. Афиняне в знак почтенья К подвигу толику славну И считая невозможным Заменить его на троне, Имя царско истребили. Признавая невозможность Без законов быть правленью, Афиняне восхотели, Да Дракон, муж твердый, строгий, Начертал бы им законы. Но он каждо преступленье, Маловажно иль велико, Омывал афинян кровью. Мало время поступали По словам его кровавым, — И Солон законы новы Предписал тогда Афинам. Страсти бурны обуздавши, Он законы дал бессильны Аттике замысловатой. Зря законов власть попранну Властолюбным Пизистратом, Презрил град он и тирана, Град оставил, удалился. Но чему дивиться должно: Иль законам его слабым, Иль тому, что он направил Народ шаткий, остроумный, На стезю побед и славы, На рожденье мужей дивных? Се исходит предо мною И очам моим явился Муж божественный, муж дивный, Что, умом своим объявши Всю народного связь тела, Умел души всех устроить К пользе общей и единой, Подчиняя ум и сердце Всех отечеству любезну. О Ликург, твоим законом Ты нагнувши выи горды, Воспитанием спартанцев Им отечество соделал Всего выше и милее. Времена настали страшны Для свободы всей Эллады. Как стада несметны вранов, Так полки персидски строем На Элладу налетели; Но афиняне, спартане Против их несчетных воев Ставили мужей лишь славных. Милтиад, спаситель Грецьи, Победитель Марафонский, Жизнь скончал в темнице сра́мной. Леонид, царь Спарты смелый, Иссосав любовь к отчизне С млеком матери любезной, Жизнь ему принес на жертву, И с ним триста юнош храбрых Дни скончали в Фермопилах. Аристид се правосудный, Что себе начертавает Суд изгнанья остракизмом; Но он зависти знал жало, Быв соперник Фемистокла. Победитель славный персов В Саламине зрит всех греков, Стекшихся к играм в Олимпе, Перед ним вдруг восстающих. О, награда паче злата, Паче всех венцов лавровых! Но достоин был неложно Сея чести тот, кто Грецью Спас победой в Саламине: Для спасения отчизны Презрел он вождя надменна И вознесшему жезл буйно, Да ударит, отвечает: «Поражай, но токмо слушай». Се Перикл, кой умел хитро Взять кормило во Афинах, И народом, возлюбившим Своевольность до безумья, Он по воле своей правил. Друг Фиди́я, изваявша Образ дивной Афинеи, Друг Аспазии любезной, Что Сократ (иль добродетель Воплощенна) в честь вменяет За учителя имети Себе славну Аспазию; Он друг был Анаксагора, Кой, сотрясши предрассудок, Тяжко бремя мглы священной, И светильником рассудка Сонмы всех богов развеяв, Первый стал среди вселенной, Он дерзнул ее началу Дать вину несуеверну. Алкиви́ад, муж любезный, Богат, статен, умен, знатен, Дарований он великих И пороков преисполнен. Добродетелен, но редко, Разве следуя советам Друга своего любезна И учителя Сократа; В страстях пылок, рдян и буйствен; Облекаясь он, однако ж, В виды, нравы, обыча́и, Кои нужны на то время, Чтоб достичь желанной цели, — Он злой дух и бич Эллады Был и пал сраженной жертвой Любочестья и разврата. Но пройдем мы быстрым оком Ту страну, страну предивну, Где Ликурговы законы Царствуют сильней природы. Там жена не знала страсти Ко супругу нежну, разве Он достоин был награды За свою любовь ко Спарте. Там мать в радости ликует, Когда сын ее, сражаясь, Жертвой пал при Фермопилах. Ты познал то, о Павсаний, Что любовь ко Спарте выше В сердце родшей тебя в Спарте, Нежели к тебе. Развратность Твоих нравов она прежде Всех других в тебе накажет. Ты есть враг Лакедемона; И се, зри, несет уж камень, Чем во храм вход заградится, Где предательна свершится Твоя жизнь во мщенье Спарты. Агес́илай, воин мудрый, Ты достоин еще древней Славы отчества, погасшей В роскоши, в развратных нравах. О, сколь мил ты простотою, Когда, чад своих забава, Ты, конем жезл сотворивши, Рыскал с ними на их пользу. О Лизандер, о муж славный! Воин мудрый, ты б достоин Был отечества любезна, Если б ты родился прежде. Ты в делах твоих иройских Не коварством бы вождаем, Не предатель был бы хитрый, Почитавший меч свой средством Быть всегда со всеми правым. Но разврат, пустя свой корень Сердца в глубь лакедем́онян, Испроверг святы уставы, Что Ликург поставить тщился На подножии незыбком Простоты и бескорыстья Воспитанием суровым, И когда рукою смелой Юный Агий, взревновавший, Восхотел к началу древню Обратить спартански нравы, То плачевною пал жертвой Сребролюбия, разврата. Дух величья, разливаясь В концы дальние Эллады, Возблистал вдруг между фивян; Хоть Пинда́р своей трубою Во отечественном граде Колебал тупые слухи, Но, взгнездившися во Фивах, Грубость их во всей Элладе Отличалась пред другими. И се два велики мужа, Лаврами главы венчая, Возмогли на высшу степень Возвести свою отчизну. Пелопид, мудрец и воин, Муж великий, избавитель Фив от ига, наложенна Гордой Спартою во счастье. Но его блестяща слава Уступала его другу Эпаминонду, что первым Цицерон назвал из греков, Он про коего вещает: Знал всех больше, а глаголал Меньше всех. Он, высший в Фивах, Нищ был, злато презирая. Горду Спарту низлагая, Победитель пал сраженный, И, чад вместо, он оставил Только Левктры, Мантинею. Се Филипп сплетает узы Или сети хитротканны, Где он вольность всей Эллады Уловил и сделал прахом. Учредитель стройна войска, Устроением фаланги Он кровавы приготовил Узы тяжки полусвету. О Филипп, тебе возможно Во ярем нагнуть все выи; Но кто может Демосфена Наклонить велику душу? Тебе тело и труп срамный Демосфенов в корысть будет, Но не дух его свободный. Александр, употребляя Себе в пользу то, что сделал Филипп хитрый, Филипп мудрый, Вихрь порывистый понесся, В бурном духе урагана, Сокрушая все преграды, От смиренной Пеллы даже До брегов счастливых Ганга. Друга своего убийца, Пал сражен болезнью в пьянстве. Необъятные корысти По его достались смерти Вождям войск его надменным, И солдаты Александра Цари стали его смертью. Хоть по смерти Александра Воссиял дух древний паки И союз ахеян видел Возрождающуся вольность, Но то искра была слаба. Ни Арат не мог восставить Падшую Эллады вольность, Ни ты, смертный, столь достойный Нарещись последним греком, Филопемен пал, и вольность, В древней Греции сиявша, Ввек потухла невозвратно. Се сонм светлый мужей славных, Се сенат, се народ римский, Полк царей и их превыше, Се властители народов. Изыдите и предстаньте Моим взорам обаянным! Вы краса и удивленье Человеческого рода, Вы изящну добродетель Вознесли на верх возможный; Но вдруг впали в гнусность, мерзость И затмили злобой, зверством Все народы нам известны. Ромул Риму основанье Дал, устроя свое царство. Нума нимфу Эгерию Призывал давать законы И единый против войска Стал врагов своих строптивых. До Тарквиния старались Все цари пределы Рима Расширять елико можно. Но Тарквиний скиптр железный Простер к буйному народу; Смерть Лукреции воздвигла На него беды ужасны: Он был изгнан – и навеки. Се Брут первый, обагренный Кровью сына и тиранов, Положил угольный камень Зданью римския свободы. Се Коклес, с мечом единый Спасший Рим и его славу; Жертва Деций общей пользы, Ищет смерти он ужасной. Суеверною любовью Ко отечеству пылая, Курций в хлябь земну разверсту Летит, жизни не жалея, Для спасения народа. Зри, се Сцевола, на жертву Принося свою десницу, В безопасность юна Рима, Не содрогшись возлагает На горящи ее угли. Боль несносна не тревожит Души твердой и незыбкой. О Менений бескорыстный! Пред тобой богатство, злато, Как лист в осень, увядают, Постыженны твоим взором. Нищ ты был, седяй в сенате, И по смерти не оставил, Чем бы заступ мог наемный Ископать тебе могилу. Но граждане веледушны, Чувствием сердец водимы, Несут в место свое злато, В честь твою взник столп надгробный! Брозду тяжку прорывая Силою волов яремных, Цинцинат от шумна света В селе малом обитает. Но блестяща добродетель Утаиться не возможет: Возведен на высшу степень Он в дни смутные средь Рима, Своей твердостью и лаской Рушшийся порядок строит; Уже взводится в четверты На первейшее он место; Врагов Рима победивши, Он нисходит в чин простого Гражданина; и приемлет Паки он свое орудье, Чем взорется его нива. Столь же ты велик, муж дивный, Идя вслед сохе на ниве И бичом скота яремна Понуждая ко работе, Велик столь же, как пред войском В прах попрал ты врагов Рима. О Камилий, о муж славный Столь же дивен и единствен Ты во счастьи благоспешном, Как в превратностях и в бедстве. Изгнанный коварством хитрым (Ах! бывало ль, или будет, Чтоб изящна добродетель Не рождала зависть бледну И была б не ненавистна Злобну гнусному пороку), Ты, к отечеству любовью Рдея, строишь во изгнаньи Помощь Риму во злосчастьи. И се Бренн, вождь храбрый, смелый Галлов диких и свирепых, Победитель римских воев, Всюду ужас простирает, Он в бестрепетное сердце Римлян страхи поселяет; Но Рим в бедствах паче счастья Был велик и тверд и дивен. Его стены опустели; Жены, старцы и младенцы Лишь одни остались в граде Зреть победу галлов лютых. Но Камилл жив – и спасенны. Лишь отсутствен он от Рима, Паки бедства возродились, И, наскучивши в осаде, Римляне купить хотели Мир у галлов весом злата. Но Камилл внезапно входит В град, поникший от печали; Зрит поносное он злато На весах, и коромысло (Вес не полн) горе́ восходит. Меч извлек и, в легку чашу Возложивши: «Се, – вещает, — Чем нам галлам платить должно, А не златом сим поносным». Одно слово, и дух прежний Возродился в сердце римлян, Рим свободен, побежденны Галлы, – зри, что может слово; Но се слово мужа тверда, Как то древле слово жизни Во творении явилось, Было слово се Камилла. Мужи славны, украшенье Вы отечества во Риме; Вы, к нему любовью рдея, Всё на жертву приносили, Самую забыв природу. Манлий сына осуждает Вкусить смерть, да подчиненность В войске будет сохраненна; Деций, видя робость в войске, Дав себя в обет подземным Богам, ринулся с размаху Во врагов, – погиб, но славно, Бодрость в души влиял римлян И доставил им победу. Се твой сын, тебя достойный, Уподобясь тебе в славе, То ж творит и погибает. Се и вы предстали взорам, О презрители богатства. О ты, Курий! что вещавший Ко самнитам, приносящим Злато: «Лучше я желаю Повелитель быть над теми, Кто имеет много злата, Нежели иметь сам злато». Ах! возможно ль его блеском Льстить того, кого, пришедши На прошение, посланцы Целого народа видят На древянном блюде яствы Поядающа. – Явился Муж, презритель сребра, злата, Добродетельный Фабриций; Удивленье врагов Рима, Ты достойный был воссести И в том граде и в том сонме, Где Киней, дивяся, мудрый: «Рим, – вещает, – есть храм божий, А сенат – царей собранье». Пирр, со златом посрамленный, Не возмогши добродетель Повредить твою, рек тако: «Нет, удобнее возможно Совратить с теченья солнце, Нежели со стези правды, Добродетели и чести Совратить тебя, Фабриций». Кто сей зрится весь покрытый Ранами, муж строга вида?.. Регул, зная пытки, муки, Что его ждут во Карфаге: «Вам война, не мир довлеет, О сенат, о народ римский!» — И кровавая пал жертва Он совета сего мудра. Но возник тебе на гибель Ганнибал, сей муж предивный, Коим Рим едва не свержен Во полете своей славы, Если б зависть не претила Во парении ирою. Фабий медленностью мудрой Если б бег твой не умерил, То, поверженный во прахе, Во развалинах дымился б Рим, глава земного круга; Там бы зрелися потомки Тех мужей, достойных неба, В поругании злосрамном; На том месте, где венчались Славою их предки дивны, Не воссели б в славе, в блеске На престоле всего мира. Ганнибал, ирой премудрый, Что тебе противустанет? Коль природа не возможет Во походе твоем дивном Положить тебе преграды, Воздвигая верхи льдяны Выше облак, грома, молний; Коль струя шумящей Роны, Эридан или потоки, Звонкошумно ниц звенящи С верхних Альп на камни строги, Заградить твой путь не могут, То Требия, Тразимена Суть лишь следствия неложны Твоих мудрых начертаний. Но се Фабий, скала тверда, Где твое стремленье буйно Заградилось и препято. Ах! тобою Рим спасенный Чуть не зрел свою погибель В Каннах, как Варрон надменный, Сей клеврет безумный Павла, Падшего в спасенье Рима С воинами, что умели Жизнь скончати за отчизну, — Безрассудный вождь, возмнивший Состязаться с Ганнибалом. Уж молва трубою громкой Возвещает гибель Рима; Но напасть его спасенье Устрояет средь развалин; Он воздвиг свой верх ужасный Бедства край, всех восторгало Мужество вновь возродилось; Рим спасен, и что возможет Ганнибал един пред Римом? Его счастье отлетело Перед юным Сципионом. Победитель Ганнибала Видел зависть, видел злобу, Устремленную на славу Его подвигов великих; Обвинен перед народом, Добродетельный муж, твердый, Над врагами Рима скажет Свои славные победы, И, клевет всех в посрамленье: «Народ римский! – он воскликнет. — В сей, в сей день блаженный, с вами Победил я Ганнибала; Отдадим хвалу всевышним», — И, се паки торжествующ, Всем народом провождаем, В Капитолью он восходит, Оставляя площадь римску С клеветой, в стыде шипящей. Славы, имени преемник Сципионов, разрушитель Состязательницы Рима… Ах! се ль слава, се ль иройство? — Разрушать единым мигом, Что столетия создали! Вопль и крик и скрежетанье Умирающих булатом Победителя во гневе… Пламя, всюду разлиянно, Как река, сломив оплоты… Плод изящности – в обломках… Разума твореньи – в щепках… И грабеж, насильство, наглость, Все неистовства, все зверства, — Со бесчувственностью стали Слышать визг и корчи смерти — Се иройство, слава! – можно ль Сердцу, чувствовать обыкшу, И уму, судить умевшу, Поступить на таковая? Нет, рассудок претит мыслить, Что Эмилия сын славный, Лелья друг, и друг Полибья, И любитель муз Эллады, Мог решить погибель зверску Пышной, гордыя Карфаги. Нет, веленье се неисто Властолюбия сурова, Ненасытна духа власти, Духа сильна, Рим воздвигша, Из устен что излетело Древня строгого Катона: «Да разрушится Карфага!» Но ты паки разрушитель, Ты Нуманции несчастной. Иль припев, или прозванье Над тобой толико сильны, Что ты сладость ощущаешь Разрушителем быть только? Но, алкая сильной власти Ты диктатора, стал жертвой Властолюбья непомерна. И се в Риме, удивленном Своей властью и богатством, Возникают страсти бурны И грозят уже паденьем. Асия, Коринф и греки Повергают свои выи Во ярем народа римска. Но во мзду рабства сим мира Повелителям надменным С златом, с серебром, с богатством Изрыгают в Рим все страсти, Что затмят в нем добродетель И созиждут ему гибель. Грахи, Грахи, украшенье Матери своея мудрой, Вы напрасно восхотели Возродить в превратном Риме Нравы древни и равенство. Добродетель не защита Для коварства, буйства, силы. Пали жертвы вы достойны Упадающей свободы. Се возник тот муж суровый, Ненавистник рода знатна, Ненавистник наук, знаний, Храбр, и мужествен, и дерзок, Вождь великий, воин смелый И спаситель Рима, Марий; Горд, суров, алкая власти, Все пути к ее снисканью Были благи; но изгнанный И в побеге, утопая Близ Минтурны в блате жидком, Он вещает ко несущу К нему смерть наемну войну: «Се, я Марий, коль дерзаешь!» Но сей взор велика духа, И велика среди бедствий, Заградил взнесенно жало, И в убийце своем Марий Обретает себе друга; «Странник бедствен, укрываясь, Конец жизни нося тяжкой, Зри картину счастья шатка; Зри величественный образ Мария победоносна, Марья первого во Риме Здесь седящего (вещает) На развалинах Карфаги! О стяжатель власти, чести, Зри там Марья – содрогнися». Колесо, всегда вертящесь, Превратилося Фортуны, Марий паки в Капитольи; Сердце, бедством изъязвленно, Стало жестче стали крепкой, И суровый сей велитель Рим исполнил смерти, казни. День румяный воссиявший Освещал потоки дымны Восструившейся по стогнам Крови римской, – и свершался, Зря в мерцаньи кровь и гибель. Но сей варвар ненасытный Трепетал, воспомня Суллу. Чтоб забыть тот страх, опасность, Он предался гнусну пьянству И в хмелю скончал жизнь срамну. Се совместник Марьев, Сулла, Се мучитель с сердцем нежным, Се счастливым нареченный, Рода знатна и украшен Дарованьями различны; Ум словесностью устроен, В обхожденьи мил и гибок, Но снедаем алчбой славы И снедаем властолюбьем; Храбр, дея́телен, вождь мудрый, Победитель Мифридата. Мифридат, ирой, царь славный, О пример ты зыбка счастья! Враг он римлян, ненавистник Сих тягчателей народов; С юных лет он чует славу Противстать струе сей, рвущей Все оплоты; бодрый разум, Возвышенны чувства сердца, Крепость духа, храбрость, смелость, Мужество, в трудах возросше, Закаленное во славе, Он дал бег душе отважной, Властолюбия алкавшей, На великая возмогшей. Победитель он Асии, Победитель он Эллады, Уступить был принужденный Счастью Рима, счастью Суллы. Но иссунул меч кровавый Паки на погибель Рима, Тридцать лет сопротивлялся Он грабителям вселенной, Римлянам: но в тяжки лета, Зря восставшего Фарнаса, Сына, наущенна Римом, Он мечом свою жизнь славну Ненадежную исторгнул, Не возмогши ее кончить Жалом острым яда сильна: Зане жизнь его, в смятеньи Провождаема, успела Притупить всю едкость яда. Мифридата победивши, Испровергнувши Афины, Победивши всех ахеян, Всех союзников и римлян, Сулла меч свой, обагренный Кровию доселе чуждой, Он простер во сердце Рима. Заградив на жалость сердце, Хладнокровный был убийца Всех, ему врагами бывших, И трепещущие члены Погубленных граждан Рима Его были услажденье. Нет, ничто не уравнится Ему в лютости толикой, Робеспьер дней наших разве. Ах, во дни сии ужасны, Где отец сыновней крови, Где сыны отцовой жаждут, Господу где раб предатель, Средь разврата нагла нравов Может разве самодержец, Властию венчан всесильной, Дать устройство, мир – неволи, — Пусть неволи, но отд́охнет Человечество от тяжких Ран. Стал Сулла всевелитель, Учредил благоустройство Во мятежном сердце Рима. И се муж, кровей столь жаждущ, Погубитель граждан, войнов, Грады, селы испровергший, Наносивший смертны раны Во сердцах семейств толиких, Возгнушался своей властью И дерзнул сойти с престола. Он конец своея жизни Провел мирно и в утехах Сладострастья, неги, хмеля. О властители народов!.. Или паче, сердца смертных О загадка, нерешима Ниже Сфинксу! Будто только Всевластителю угодно Было кровию упиться И возлечь на ложе мирно, Среди Вакха, мусс и Лелы. Истина непостижима, Но то истина, что может Во душе, к любленью нежной При вождении рассудка, Привитать и люто зверство. Где ты, Рим, где ты, отчизна Простоты, смиренья, чести! Добродетели опоры, Потрясенные страстями, Утопилися в ассийской Роскоши; но се явленье, Удивления достойно Всех веков, всея вселенной: Муж богатства неисчетна, Пышностию превзошедший, Роскошью и велелепьем Всех царей роскошна Встока, И среди распутства, буйства, Наглостей, презренья явна Добродетели, законов, Возмужался, явил свету Сердце чистое и разум, Всей изящностью украшен. Воин храбрый и вождь мудрый, Гражданин среди разврата; Ненавистник ухищрений, Скопов, козней, заговоров; Не алкая властолюбьем, Победитель Мифридата Торжеством шел в Капитольи. Сердце, руки непорочны, Судия всегда правдивый, Истина из уст нельстивых Лукулла роскошна, пышна Исходила непорочна. Сын, отец и брат он нежный, Господь щедрый, друг несчастных, Он бы мог стать всех превыше, Кесаря или Помпея, Но иль мало он отважен, Иль не дерзок, иль почтил он Мир, покой средь мусс и неги. Марий, проложив кровавый Путь ко власти высшей в Риме, Сулла, воинов купивши, Показали, что возможно Силой царствовати в Риме; Рим, владыко всех народов, Уж настала та минута, Что ты выю свою горду Под ярем насильства склонишь. Если муж продерзкий, буйный, Вихрь неистовый страстями, Смелый ум, отважно сердце, Сластолюбец, злодей гнусный… (Зри, ступил, ушел и, в бегстве Вырвавшись, мечом дерзает… Но, сражен, он, озираясь, Грозит взором и скрежещет Во отмщение зубами) — Если вольность Катилина Не возможет испровергнуть, То, спасенный Цицероном, В мрежи ты падешь Помпея. Властолюбец, не терпевший Себе равного во Риме, Жажду царствия прикрывши Добродетельной личиной, Он умеренности видом Привлекал сердца и души; Торжества исторгши почесть, Еще юн, не хотел больше, Чтоб его затмил кто в Риме: Победитель и во власти В Рим вступает гражданином, Но он хитростью то будет, Чего силой не желает. Его честь и добродетель На лице токмо сияли, Но душа была бесстыдна. Расширитель он пределов Рима Ассии до сердца, Он неистово гордился, Презрил Юлия, вещая: «Я воздвигну легионы, Ударяя ногой в землю». Во Фарсальских он долинах Испытал превратность счастья, И предательной десницы Стал он жертвою плачевной. Тако зданье, соруженно Хитростью и расточеньем, Властию, умом, стрясется И падет единым махом, Коль найдет во преткновенье Буйнее себя и дерзче. Се возник тот муж предивный, Удивленье веков поздных, В юности распутен, жаждущ Лишь веселья и утехи, Дорогими ароматы Нося кудри умащенны И рача лишь о наряде, — Сей вознесся, да преломит Твердый щит свободы Рима, Но в котором еще Сулла Марьев многих прорицает. Юлий встал – и всё поникло. Ах! что может стать противу, Когда Юлий в селе малом Первым быть желает лучше, Нежели вторым во Риме? Алчба власти необъятна, Совождаема рассудком Твердым, быстрым, и глубокий Ум блестящий, и украшен Всей учености цветами. Слово нежно и приятно, Но и сильно, пылко, стройно, Убеждать равно удобно Душу, сердце жены, война. Предприимчив, смел, отважен, Жив, де́ятелен; чудесны Он намеренья родивши, Исполнял их устремленно; Храбр и мужествен в сраженьи, Мудр, разумен он в советах, Милосерд, прощать обиды Он готов всегда злодеям. Как возможно, чтобы вольность Устоять могла, шатнувшись, Против Юлья? Муж чудесный, Он все качества изящны Ссредоточил, недостатка Ни едина не имевши, Но пороков тьму; рожденный К управленью, где бы ни был, Победитель был бы тамо, Где б случилось вождать войско. Вольности умыслив гибель, В достиженьи сея цели Бдетелен был, трезв, незыблен, Всегда к брани он готовый, Рукой дерзкой и обильной Рассыпал несчетно злато, Покупал наемны души И клевретов своих бранных Делал Крезами, коль нужно. Путь направя ко престолу, Преткновений став превыше, Он себе позволил всё – и, Свято было ль что, не ведал. Так, Помпея победивши, Излиял щедроты всюду И явился царь премудрый. Но, или неосторожно, Или гордостью своею Оскорбив любящих вольность, Сей вождь славный, муж великий Пал, сражен друзей рукою, Пал, ненужная ты жертва Сокрушенныя свободы. И – неслыханное чудо! — Тиран мертв, но где свобода? Во служение поникший Рима дух парить не может. А ты, муж красноречивый, Цицерон, прияв кормило, Не возмог ты Римом править. Ах, Катон, почто исторгнул Жизнь свою ты столь некстате? Ты бы участь зыбку Рима Укрепить мог духом твердым. Стань, сравнись со Цицероном: Монтескье о вас да судит. Цицерон – муж качеств дивных, Но вторым быть, а не первым Был удобен: ум прекрасный, Но душа нередко низка. В Цицероне добродетель Есть побочность, а в Катоне Она верх, подпора ж славы. На себя всегда взор первый Витий славный обращает, А Катон себя не видит; Рим спасти Катон желает, Зане любит он свободу, А муж слова сладка хощет Рим спасти из чванства разве; И сей муж неосторожный И тщеславный, ненавидя Марк Антония, восставил Юлия в Октавиане. Но, обманутый младенцем Почти, пал, опасна жертва Кровожадных триумвиров. Тут воскрес, восстал от гроба Ненасытец граждан крови, Сулла: меч носился в Риме, Пожиная всех, кто н́емил Иль опасен триумвирам. Так, валясь везде на части, Римска вольность исчезала. Брут и Кассий, побежденны В Греции, свой меч вонзают В грудь свою без пользы Риму; Только слава им осталась Римляне последни зваться. Потом, Марка победивши Октавьян в Акцьи, трусливый, Царь он стал огромна Рима. И так сей злодей неистый, Без законов и без правил, Хитр, бесстыден, подл и алчен, Благодарности чужд сердцем, Сластолюбец и бездельник, Кровожаждущ, но с насмешкой, Воевода трус и робкий, Но возлюбленный во́инством, Рим исполнивши насильства, Грабежа, бесстыдства, крови И насытившись надменно Сладострастием позорным, Стал превыше он всех в Риме. Он, в любовь к народу вкравшись, Льстя его свободы видом (Ах, достоин ли свободы Ты, который лишь желаешь Хлеба, хлеба, игр на цирке?), Основал престол железный, Где воссядет злодеянье И с ним гнусные пороки. Тако хитрый сей мучитель, Безмятежным правя царством Долго, был и щедр и кроток И, кончину видя близку, С твердостью вещал стоящим: «Се конец игры, плещите!» Но потомство не обманешь, О неистовый счастливец! Блеском своея державы Одолжен ты Меценату, Или Ливьи, иль Агриппе, Иль льстецам твоим наемным, Иль Горацью, иль Марону. О умы, умы изящны, Та ли участь мусс, чтоб славить, Кто вам жизнь лишь не отъемлет Иль, оставя вам жизнь гнусну, Даст еще кусок, омытый В крови теплой граждан, братьев? Как струя, в своем стремленьи Препинаема оплотом, Роет тихо в основаньи Связь подножья его крепка, Но подрыв и отняв силу У претящия плотины, Ломит махом все преграды И, разлившись с буйным ливом По лугам, долинам, нивам, Жатвы где блюлись и злаки, Всё покрыла волной мутной, — Так при Августе власть высша Подрывала столб свободы, Что Тиверий сринул махом. Тиран мрачный, он подернул Покрывалом тяжким скорби Рим; тогда не злодеянье В злодеяние вменялось, Но злодей – кого Тиверий Ненавидел или думал, Что опасен он быть может. Действие, невинна шутка, Одно слово, знак иль мысли — Все могло быть преступленьем. Там донос, ночное жало, В бритву ядом изощренно, Носят нагло днем во Риме. Сын отцу и отец сыну, Брату брат, супруг супруге, Господину раб, друг другу Чужды стали и опасны. Оком рыси соглядая, Лютость рыскала по стогнам И с улыбкою змеиной То чело знаменовала, Что падет при всходе солнца Иль увянет при закате. Ах, исчезли те сердечны Излиянья меж друзьями, Что всю сладость составляли Бесед тихих, но свободных, Со пиршеств непринужденно Отлетело уж веселье, Скрыв чело блестяще, ало Под покров густой печали; И доверенность в семействах, И в рабах, хоть редка, верность Искаженны превратились В недоверчивость, подобну Стражу люту, что отъемлет У несчастных услажденье В бедстве томном – сон и слово. Дружба там почлась не лучше Скалы скрытой и подводной, Где корабль при дуновеньи Тихого зефира будет В корысть Сцилле иль Харибде. Откровенность и вид правды Поставлялися безумьем. И сама, ах! добродетель Почиталася личиной, Но опасной для тирана, Зане вид ее любезный Мог исторгнуть бы из груди Воздыханье о блаженстве Времен прежних и родилась Мысль, что Рим мог быть иначе. Так вещает муж бессмертный Монтескье, что нет тиранства Злей, лютей, когда хождает Под благой сенью законов И прикрытое шарами Правосудия; подобно, Как бы жалость всю презревши, Отымать спасавшу доску Претерпевших сокрушенье Корабля, да гибнут в бездне. Се лишь слабая картина Царствия Тиверья мрачна. Сей тиран согбенна Рима, Возгнушавшись его лестью Иль боясь, чтоб не воздвигло В нем отчаянье десницу На карание правдиво Всех его мучительств темных, Отдалился во Капрею, Где, когортами стрегомый, Сластям гнусным предавался, Коих образ даже срамный Иль одно напоминанье Омерзенье возбуждают. Тамо отроков во сонме Наслаждался он утехой, Новы сласти вымышляя И названия им новы; Там, откуда его смрадны Слуги, рыская повсюду, Новых жертв всегда искали Его мерзку любострастью; Отрок нежный, возращенный В целомудрии, в смиреньи, Исторгался из объятий Отца, матери иль брата. Ах, почто, почто и память Сих всех гнусностей позорных Едко время пощадило! Время, в царствии драгое, Истощая в сих утехах, Исполненье своей власти Злой тиран отдал Сеяну. Сей, орудье его зверства, Шел во власти и в тиранстве Наравне с каприйским богом. Погубив его семейство, Он уж смелую десницу На трепещуща тирана К поражению возносит, — Но сам пал, и тиран лютый Злей, лютее стал, дотоле, Что, несчастный, избегая Не кончины неизбежной, Но терзаний, муки, пытки, Жизнь заранее преторгши, Извлекал из уст тирана Слово зверское: «Он спасся». Сам Тиверий смертью лютой Жизнь скончал свою поносну. Ах, сия ли участь смертных, Что и казнь тирана люта Не спасает их от бедствий; Коль мучительство нагнуло Во ярем высоку выю, То что ну́жды, кто им правит? Вождь падет, лицо сменится, Но ярем, ярем пребудет. И, как будто бы в насмешку Роду смертных, тиран новый Будет благ и будет кроток; Но надолго ль, – на мгновенье, А потом он, усугубя Ярость лютости и злобы, Он изрыгнет ад всем в души. Кай Калигула таков был: Милосерд, но лишь вначале; Он был щедр – разве в тиранстве. Юнош тихий и покорный Был, доколе высшей власти Не имел в своей деснице; Потом тигр всех паче лютый. И достойно назывался Рабом лучшим во всем Риме, Господином злей всех паче. Он, лаская толпе черной, На безумные издержки Истощил несчетно злато. И се светлое начало Пременилось скоро, скоро. Сверженно всё и попранно С наглостью; досель невинный, Нравы, разум и законы, Человечество и честность Подавив пятою тяжкой, Кай омылся в кровях Рима; Он, мучитель до безумства, Сожалел о том лишь только, Что народ, народ весь римский Не одну главу имеет, Да, сраженна одним махом, Ниспадет ему в утеху. Пьян, величием надменен, Он царей всех чтил рабами, Храм создал себе, как богу, И велел обильны жертвы Приносить себе, как Зевсу. Блестел молньей, метал громы. Удивиться тому должно, Как мог Рим повиноваться Дурака сего неиста Бешенству толико яру; Любодейца со сестрами, Нагл, насилен и бесстыдно Осрамлял супружне ложе. Лишь стыдился, что Агриппа Его дед был, и вещает: «Мать мою родивша Юлья Зачала в объятьях отчих Бога Августа». – Безумный! Нет, лишь смех ты возбуждаешь. Но чему дивимся боле: Иль надменности безумной, Или зверству его яру? Глад, иль мор, или пожары, Или бедствия народны Ему были услажденьем. Но дотоль он презрил римлян Или был безумен столько, Что коня в своих чертогах Угощал, как мужа славна. Он нарек его первейшим Во священниках и мыслил Нарещи его в сенате Консулом. – Но полно, полно, Замолчим… Он жизнь столь гнусну Острием скончал Херея. Ах! пребудет удивленьем Во все веки, во все роды… Как Рим гордый возмужавший, Жив столетия во бранях Непрестанных, источая Кровь граждан и кровь противных, Истребляя иль присвоя Царствия, народы, веси, Явив свету мужей дивных В добродетелях, в иройстве, Совершивши дел толико И великих и блестящих, Быв толико мудр в правленьи, Мудр во бранях и в победах Мужествен, тверд, постоянен, Во опасностях незыблем; И поставив от начала Присвоение вселенной, И намеренье блестяще Столь умыслив остроумно, Столь исполнив постоянно И окончив столь счастливо… Но на что ж?.. Дабы злодеев, Извергов, чудовищ пять-шесть Наслаждалися всем буйно… Иль се жребий есть всеобщий, Чтоб возвышенная сила, Власть, могущество, блеск славы Упадали, были гнусны? И рачащие о власти Для того ее лишь множат, Чтоб тому она досталась, Кто счастливее их будет? Во всех повестях народов Зрим премены непонятны. Сенат римский, гордый, смелый, Сонм князей, владык державных, Пресмыкается и гнусен… О властители вселенной, О цари, цари правдивы! Власть, вам данная от неба, Есть отрада миллионов, Коль вы правите народом, Как отцы своим семейством. Но Калигулы, Нероны, Люты варвары и гнусны, Суть бичи небес во гневе, И их память пренесется В дальни веки для проклятий И для ужаса народам! Кай сражен, сражен Хереем, Что возмнил восставить паки Истукан свободы в Риме. И се, крояся во страхе В углу дальном царска дома, Клавдий обретен трепещущ. «Буди царь!» – вещают войны. О Рим, Рим! кто царь твой ныне? Старец дряхлый, но младенец Он умом: ум слабый, глупый; Человек едва ль, зародыш, По названью его родшей. Мягкосерд, но что в том пользы? Раб жены поносной, срамной, Стрясшей стыд, раб Мессалины, Коей имя ввек позорно Нарицанием осталось Жен презрительных, бесстудных. Он, игралищем став гнусным Отпущенников, злодеев, Иль Нарцисса, иль Палладья, Омывался в крови римлян. В Риме тот был жив, здрав, знатен, Кто их друг был иль наемник. Кто с глупейшим из тиранов, С Клавдием сравниться может? Недовольная, упившись Мессалина сласти гнусной, Пред очами она Клавдья Во супружество вступает Со возлюбленным ей Сильем. Но что пользы в том, что смерти Предаст Нарцисс Мессалину? Клавдий слышал и трепещет: «Я ль еще владыка Рима?» Се вопрос тирана слаба. Се жена распутна паки Воцарилась Агриппина; Но, боясь конца насильна, Ко Локусте прибегает, — И отрава отомщает Падший Рим кончиной Клавдья. Ах, погибли пораженны Все останки умов твердых. Зри, жена иройска духа Осужденному к злой смерти Милому рекла супругу, Да рукою своей твердой Предварит он казнь поносну, Но Пет медлит и робеет. И се Ария сталь остру В грудь свою вонзает смело: «Приими, мой Пет любезный, Нет, не больно…» Пет, мужаясь, Грудь пронзил и пал с супругой. Но се тот уж воцарился, Коего счастливу юность Управлял Сенека, Буррий; Но который, сняв личину, Каждый день своея жизни Или каждый шаг свой зверский Начертал убивством лютым; Тот, чье имя ввек осталось Всех поноснее и гнусней В нарицание тиранам, Имя Не́рон, зверь венчанный. Во неистовых утехах Провождая дни и нощи, Он в позорищах являлся Иль возницей, или гистрий В посмеянье был народу, Но палач он, всем грозящий. Он убийственную руку Простирал на всех ближайших: Мать, наставники, супруга — Всё сраженно упадало Под мечом сего тирана, Столь мертвить людей умевша; Насыщался ежедневно Или сластию прегнусной, Или кровью умовенный, Его Рим зрел посягавша Во жены Пифагораса, И среди затей безумных, В кровях плавая гражданских И в хмелю утех неистых, Он возмнил себе представить Пожар, гибель древней Трои, И для сей утехи злобной Велел Рим возжечь отвсюду… Се довольно, мы скончаем Сию повесть, где лишь видно Иль неистовство, иль зверство. Убоясь попасти в руки Своей страже вероломной Иль сената, погибает Смертью, красной для тирана: Он мечом сам грудь пронзает, — И погиб, последня отрасль Дому Юлия велика. Гальба, Отон и Вителлий, Появившись на престоле, Смертию своей поносной Уступили Веспасьяну, Избранному в цари войском, Трон, омытый своей кровью. Некогда ласкатель гнусный Он Нарцисса и Нерона, Веспасьян явил на троне Добродетель: и Рим гибший Отдохнул – хоть ненадолго. Далек пышности и спеси И трудясь во управленьи, Воздвигал погибше царство, Где чредою скиптр держали Злы тираны, равно гнусны, Равно злобны, или глупы, Или бешены, иль паче Расточительны безумно. Услажденье рода смертных, Тит, почто прешел ты скоро? Или для того, чтоб знали, Что считал ты свое царство Излиянным только благом, Нарицая днем погибшим, Когда счастья не мог сделать Никому? Но век твой красен Жизнью Плиния Старейша… Заключенный в недрах утлых Огнь в Везувии, яряся, Всклокотал и хлябь разинул, Разорвав ее холм высший. Огнь, каменья, дым и пепел — Всё летит превыше облак, Затмевая день и солнце. Там рекой струится лава, И всё гибнет, вся окрестность Погребенною сокрыта В пепле жарком и ниспадшем. Геркуланум и Помпея Низошли совсем в могилу; Бедство, смерть, опустошенье Распростерлися далеко. Тут, вождаемый алчбою Сведения и науки, Погибает Старший Плиний. Но ты царствуешь, о сладость Римского народа! – Тит, зри, Как течет ко всем на помощь: Если жизнь кто спас лишь в бедстве, Тот блаженствует уж Титом. Но, скончав свою жизнь кратку, Тит престол оставил Рима Иль чудовищу, иль брату. Домитьан, тиран сей новый, Он тиранов всех предшедших Злее был и не смягчался Николи в своей он злобе, Зане робок был, застенчив. И столь гнусно было время, — Тацит тако возвещает, — Ниже молвить, ниже слышать; Рим стал нем, пропало слово, И погибла б даже память, Если б можно было смертным Терять память во молчаньи. Но мучитель робкий слова, Всех в стенанье приводивший, Пал супруги наущеньем. Но и дни сии столь гнусны Красились, имея мужа, Жить родившагось достойным В лучших днях Афин и Спарты. Се Агрикола с тобою, Домитиан, жил на то лишь, Чтоб ты паче посрамленный Пред потомками явился; Зане истинно и верно, Если сонмы людей славных Могут красить дни счастливы Царя мудра или щедра, То один лишь муж великий, В дни родившийся тирана, Его паче лишь унизит Ярым блеском своей славы. Тогда паки воссияло Солнце теплое для Рима: По чреде там зрели мудрость, Славу, мужество во власти И венчанну добродетель. Нерва, избранный на царство, Был правитель мудр, но слабый И согбен лет тяготою; Но он дал себе опору И устроил счастье Рима, В сыны взяв себе Траяна. Его смерть была бы в Риме Бедствие, когда б не знали, Что Траян его преемник. Ожил Рим с царем толиким; Судия и воин мудрый, Он имел, что было нужно Быть царем. Алкая славы, Он свой меч победоносный В Дакию простер; воздвигнул На Дунае мост тот славный, Удивлявший столько древних; И оружья славой, блеском Ослеплен, понесся в дально Покорение народов. Но хотя излишня слава Победительные лавры Затмевает, хотя жертвы Сладострастия неиста И возлития обильны Хмельну Вакху прикрывают Черной тению картину Подвигов, равно блестящих, Царя в брани или в мире, — Вопреки злоречья колка Навсегда Траян пребудет Пример светлый всем владыкам. И тому дивися больше, Что он, разума не красив Благолепными цветами Иль познаний, иль науки, Мог царем он быть столь мудрым. В том как можно усумниться, Когда дни его златые Зрели Тацита и Плинья, Ювенала и Плутарха. Когда Тацит, сей достойный Муж дней Рима непорочных, Со восторгом мог воскликнуть: «Век счастливый наш, где можно Мыслить то, что мыслить хочешь, И вещать, что ты помыслишь». Ах, сколь трудно, восседая Выше всех и не имея Никаких препон в желаньях, Усидеть на пышном троне Без похмелья и без чаду. И тот царь почтен достойно, Ускользнуть когда возможет Обуяния неиста Страстей буйных души смертных. Адриан, на трон вступивший, Строил счастье в римском царстве, И хотя сравниться может В добродетелях Траяну, Но надменность и жестокость Были в нем души пороки. Гнусной страстью к Антиною Тлея, в честь ему он строил Храмы, грады; но всю гнусность Страсти срамной и пороков Он прикрыл раченьем к царству, Путешествием всегдашним В областях пространных Рима. Не пустое любопытство В страны дальны направляло Его путь, но цель всегдашня Путешествий столько дальных Была польза и блаженство Градов, областей, народа. Устремляя взоры быстры В управление подвластных, Мститель был законов строгий В лице всех, дерзнувших данну Власть свою во зло направить. Велелепные и пышны Грады, зданья он воздвигнул, Но не с тягостью народа, Зане многие налоги Облегчал и уничтожил. Хоть достойный сей царь Рима, Злой болезнью одержимый, Жизнь свою прервать не могши, Обратил свою всю лютость На казнь, может быть не нужну, Многих; но ему простили Всё за то, что себе и́збрал Он в преемники на царство Антонина. Хотя помним Слово мудра Фаворина, Состязавшась с Адрианом: «Нет, кто тридцать легионов, — Так мудрец друзьям вещает, — Может двигнуть одним словом, Ошибаться тот не может». Но его дни безмятежны Возрастили Арриана И учителя во нравах Строга, мудра Эпиктита. Испытав превратность счастья, Он всю мудрость заключает В двух словах: «Сноси с терпеньем, Будь умерен в наслажденьи», — Словеса много блаженны, От источника исшедши, Кажется, излишне строга, Но соделавшие счастье Рима, дав ему на царство Всех владык его изящных. Кажется, напрягши мышцы Во изящность, вся природа Возникала в человеке, Когда мысль образовала Столь достойну удивленья Веков дальных и потомства, Мысль изящную Зенона. И хотя б другой заслуги Мудрование столь чудно Не имело, – не оно ли Риму в счастье даровало Антонина, Марк Аврелья? Дни блаженные для Рима Уже паки воссияли. Се восходит на трон света, Коего любезно имя Целый век за честь вменяли Носить римские владыки. Мудрец истинный, украшен Добродетели чертами, И порока ни едина. Антонин теченье жизни Посвящал народну благу: Гражданин, не царь, во граде, Се отец благий не титлом, Коим красились венчанны И злодеи и юроды, Но отец он истым делом. Ах, тот мог ли быть превратен, Кто несчастием ужасным Почитал, когда бы быть мог Ненавидимым во Риме; Собственность кто презирая, Расточал свое богатство, Что насле́дил, соблюдая Он сокровища народны? «Нет, Фавстина, – он вещает, — Я, владыкою став Рима, Собственности всей лишился». Он уснул, и Рим восплакал, И Анто́нин мог забвен быть Тем лишь, избрал что на царство По себе в Рим Марк Аврелья. Имя сладостно и славно! Се премудрость восседает На престоле цела света. Но он смертный был. Блаженство Рима вянет с Марк Аврельем; И столетия с стремленьем Протекли за ним уж многи; Но на поприще обширном, На ристалище вселенной Всяка слава и блистанье Всех царей, владык прешедших Перед ним суть разве слабый Блеск светильника, горяща В полдень ясный, в свете солнца; Перед ним вся лучезарность Подвигов в сверканьи славы Суть лишь мрак, и тьма, и тени. Когда взор наш изумленный Обращаем на владыку На всесильного, который Столь смирен был во порфире, То во внутренности духа Мы таинственно веселье Ощущаем, и не можно Без сердечна умиленья Вспомнить жизнь его премудру. Слеза радости исступит, Сердце, в радости омывшись, Вострепещет, утешаясь. Но… смолчим, в душе сокроем, Ах, всю скорбь и тяжко чувство, Что по сладости во сердце, Вспоминая Марк Аврелья, Восстает и жмет в нас душу. Нет, не жди, чтоб мы дерзнули Начертать его теченье. Всё, что скажем, будет слабо И сравниться не возможет С той чертой предвечна света, Чем его живописала Всех веков и всех народов Образ дивный благодарность. Его жизни описанье Действо то вливает в душу, Что изящнее возникнут О себе самих в нас мысли И равно изящны мысли О превратном смертных роде. Но надолго ли? – О участь, Участь горька рода смертных! Марк Аврелий уж скончался, Счастье Рима с ним исчезло И благие помышленья О блаженстве рода смертных. Се торжественно и тихо, Спровождаемо всех воплем, Шествие его кончины Отправлялося во Риме; Но шаг каждый препинаем Был слезами иль восторгом Всего римского народа: «Се наш друг – ах, паче друга, Се родитель, се кормилец, — Се отец, – се бог всещедрый…» Скорбно в слухи ударяли Словеса сии нельстивы Того, кто вменит за тягость Все благие помышленья. И се во броне одеян Коммод грозно потрясает Копием, и всё умолкло. Шествие идет в молчаньи. Ах, тогда уже познали, Что сокрылося во гробе Счастье Рима с Марк Аврельем. 1795—1796 (?)«Час преблаженный…»
Час преблаженный, День вожделенный! Мы оставляем, Мы покидаем Илимски горы, Берлоги, норы! Середина января 1797 г.Журавли басня
Осень листы ощипала с дерев, Иней седой на траву упадал, Стадо тогда журавлей собралося, Чтоб прелететь в теплу, дальну страну, За море жить. Один бедный журавль, Нем и уныл, пригорюнясь сидел: Ногу стрелой перешиб ему ловчий. Радостный крик журавлей он не множит; Бодрые братья смеялись над ним. «Я не виновен, что я охромел, Нашему царству, как вы, помогал. Вам надо мной хохотать бы не должно, Ни презирать, видя бедство мое. Как мне лететь? Отымает возможность, Мужество, силу претяжка болезнь. Волны, несчастному, будут мне гробом. Ах, для чего не пресек моей жизни Ярый ловец!» – Между тем веет ветр, Стадо взвилося и скорым полетом За море вмиг прелететь поспешает. Бедный больной назади остается; Часто на листьях, пловущих в водах, Он отдыхает, горюет и стонет; Грусть и болезнь в нем всё сердце снедают. Мешкав он много, летя помаленьку, Землю узрел, вожделенну душою, Ясное небо и тихую пристань. Тут всемогущий болезнь излечил, Дал жить в блаженстве в награду трудов, — Многи ж насмешники в воду упали. О вы, стенящие под тяжкою рукою Злосчастия и бед! Исполнены тоскою, Клянете жизнь и свет; Любители добра, ужель надежды нет? Мужайтесь, бодрствуйте и смело протекайте Сей краткой жизни путь. На он-пол поспешайте: Там лучшая страна, там мир вовек живет, Там юность вечная, блаженство там вас ждет. Между 1797 и 1800 гг.Идиллия
Краснопевая овсянка, На смородинном кусточке Сидя, громко распевала И не видит пропасть адску, Поглотить ее разверсту. Она скачет и порхает, — Прыг на ветку – и попала Не в бездонну она пропасть, Но в силок. А для овсянки Силок, петля – зла неволя; Силок дело не велико, — Но лишение свободы!.. Всё равно: силок, оковы, Тьма кромешна, плен иль стража, — Коль не можешь того делать, Чего хочешь, то выходит, Что железные оковы И силок из конской гривы — Всё равно, равно и тяжки: Одно нам, другое птичке. Но ее свободы хищник Не наездник был алжирский, Но Милон, красивый парень, Душа нежна, любовь в сердце. «Не тужи, моя овсянка! — Говорит ей младой пастырь. — Не злодею ты досталась, И хоть будешь ты в неволе, Но я с участью твоею С радостью готов меняться!» Говоря, он птичку вынул Из силка и, сделав клетку Из своих он двух ладоней, Бежит в радости великой К тому месту, где от зноя В роще темной и сенистой Лежа стадо отдыхало. Тут своей широкой шляпой, Посадив в траву легонько, Накрывает краснопеву Пленницу; бежит поспешно К кустам гибким он тало́вым. «Не тужи, мила овсянка, Я из прутиков таловых Соплету красивый домик И тебя, моя певица, Отнесу в подарок Хлое. За тебя, любезна птичка, За твои кудрявы песни Себе мзду у милой Хлои, Поцелуй просить я буду; Поцелуи ее сладки! Хлоя в том мне не откажет, Она цену тебе знает; В ней есть ум и сердце нежно. Только лишь бы мне добраться… То за первым поцелуем Я у ней другой укра́ду, Там и третий и четвертый; А быть может, и захочет Мне в прибавок дать и пятый. Ах, когда бы твоя клетка Уж теперь была готова!..» Так вещая, пук лоз гибких Наломав, бежит поспешно, К своему бежит он стаду Или, лучше, к своей шляпе, Где сидит в неволе птичка; Но… злой рок, о рок ты лютый… Остра грусть пронзает сердце: Ветр предательный, ветр бурный Своротил широку шляпу, Птичка порх – и улетела, И все с нею поцелуи. На песке кто дом построит, Так пословица вещает, С ног свали́т того ветр скоро. Между 1797 и 1800 гг.Ода к другу моему
1
Летит, мой друг, крылатый век, В бездонну вечность всё валится, Уж день сей, час и миг протек, И вспять ничто не возвратится Никогда. Краса и молодость увяли, Покрылись белизной власы, — Где ныне сладостны часы, Что дух и тело чаровали Завсегда?2
Твой поступь был непреткновен, Гордящася глава вздымалась; В желаньях ты не пречерчен, Твоим скорбь взором развевалась, Яко прах. Согбенный лет днесь тяготою, Потупил в землю тусклый взор; Скопленный дряхлостей собор Едва пренес с своей клюкою Один шаг.3
Таков всему на свете рок: Не вечно на кусту прельщает Мастистый розовый цветок, И солнце днем лишь просияет, Но не в ночь. Мольбу напрасно мы возводим, Да прелесть юных добрых лет Калечна старость не женет: Нигде от едкой не уходим Смерти прочь.4
Разверстой медной хляби зев, Что смерть вокруг тебя рыгает, Ту с визгом сунув махом в бег, Щадя, в тебя не попадает На сей раз. Когда на влажистой долине Верхи седые ветр взмутит, Как вал, ярясь, в корабль стучит — Преплыл не поглощен в пучине Ты в сей час.5
Не мни, чтоб смерть своей косой Тебя в полете миновала; Нет в мире тверди никакой, Против ее чтоб устояла, Как придет. Оставишь дом, друзей, супругу, Богатства, чести, что стяжал: Увы! последний час настал, Тебя который в ночь упругу Повлечет.6
Кончины у́зрим все чертог, Объят кровавыми струями; Пред веком смерть судил нам бог — Ее вершится всё устами В мире сем. Ты мертв; но дом не опустеет, Взовет преемник смехи твой; Веселой попирать ногой, Не думая, твой прах умеет, Ни о чем.7
Почто стенати под пятой Сует, желаний и заботы? Поверь, вперять нам ум весь свой В безмерны жизни обороты Нужды нет. Спокойным оком я взираю На бурны замыслы царей; Для пользы кратких, тихих дней, Крушась всечасно, не сбираю Златых бед.8
Костисту лапу сокрушим, Печаль котору в нас вонзила; Мы жало скуки преломим, Прошед что в нас с чела до тыла, Душу ест. Бедру весельем препояшем, Исполним радости сосуд, Да вслед идет любовь нам тут; Богине бодрственно воспляшем Нежных мест. Между 1797 и 1800 гг.Бова Повесть богатырская стихами
План богатырской повести Бовы
При тихом плавании Бова поет песню, соответственную своей горькой участи. Вдруг восстает буря; все, струся, молятся богу, всякий своим манером. Бова сидит один пригорюнясь, что раздражило матросов; они его бросают в море. Буря утихает, как будто нужно было для утишения ее, чтоб он был брошен. Бова между тем выкинут на берег; лежал долго, встал, идет и видит (описание острова похотливости). Игры, смехи, забавы стараются его целую неделю заводить в любовные сети, но он удерживает свое целомудрие, не ради чего, как по своей новости. Чрез неделю вся прелесть острова пропадает, и он превратился в пустыню; он ходит, находит костер зажженный, на котором горит зажженная змеиная кожа; он ее вынимает, но едва он сие сделал, как день померк, гром восстал; и он видит при сверкании молнии, видит ужасных чудовищ и проч. и между ими идущую жену прекрасную, но взору сурового. Несчастный, ты сохранил мою лютую злодейку, и я тебе всегда буду мстить. Ее угрозы: не властна я в твоем теле, но в сердце твоем; я им тебя накажу. – Между тем видит он из-за горизонта восходящую будто зарю; мрак исчезать начинает, с ним и призраки и вид жены строговзорой; свет множится. Он видит летящую колесницу, везомую лебедями; опустилась, нисходит жена вида величественного, приятного; благодарит, что он ее кожу спас и возобновил ее юность. Повествует о духах, как они властвуют над человеком, а сами подвержены, чтоб умножаться, чрез семь дней обращаться в змий, и если их кожу кто унесет, то они становятся человеки, подверженные всем немощам людским и, по долговременной и дряхлой жизни, может быть, и смерти. Люба украла ее кожу и уже сто лет ее держала, но он ее спас; в благодарность она ему обещает блаженство: силой и красотой одарила тебя природа, но берегись моей совместницы и лесть не принимай за любовь истинную. А чтоб то тебе познавать, вот тебе зеркало: когда, в страсти будучи, ты в него взглянешь и оно чисто, то любим нелицемерно, ежели же тускло, то любовь плотская, и соперница моя близка. Когда же что захочешь от меня, то помысли, и в зеркале увидишь, что тебе делать. Сказав, исчезла; остров и всё из глаз пропало, и Бова очутился на том же песчаном берегу, где, мы позабыли сказать, что, утомленный плаванием в буре, он заснул. Дивится сновидению своему, но еще больше дивится, видя близ себя малое зеркальце. Не ведает, сон ли то или мечта. Идет, встречает старца, который ему очень рад. Он его отводит домой, где его все принимают с радостию, дивятся ему, его омывают, наряжают в белое платье и объявляют ему, что он невольник по законам. Он им рассказал свою повесть, скрыв только свой чин. Плачет: из погибели в неволю.
На другой день его выводят на торжище, где его продают садовнику царскому. Сей отводит его в сад; он живет, работает и поет свою песню. Услышала царица, велела привести его к себе и, увидя его столь юна и широкоплеча, влюбилась. Начала к нему приступать. Идет в баню, куда и его зовут; он не соглашается. Его в комнатные наряжают, он стоит за ее стулом. Тут его увидела царевна, влюбляется, не знает, что чувствует, но они сходятся в саду и, знавши, что худо делают, исполняют волю любви. Недолго они тем наслаждалися; царица, гуляя в саду, их застает; ее ревность, бешенство, отчаяние; велит царевну запереть в терем, а его сослала на конюшню. Тоска его, отчаяние.
Между тем помышляет царь отдать дочь свою замуж, бояся следствий свидания с Бовою; клич кличут, чтобы все цари, царевичи и сильны богатыри съезжались на турнир, и кто всех победит, то будет ему зять. В назначенный день собираются на ратное место многие царевичи и богатыри; приходит царь с царицей, и приводят царевну. Унылость ее делала ее привлекательнее и черты ее опаснее. Сражаются.
Между тем Бова, горюя о своем жребии, имея всегдашнее желание видеть царевну, вспомнил о своем зеркале, которое всегда носил на шее, взглянул в него и видит себя в нем в богатырском уборе на коне; внизу сии слова: ступай на поприще и там увидишь. Пошел в конюшню царскую, седлает одного из коней, подле коего находит сбрую ратную богатырскую: латы, шлем пернатый, меч и копие. Наряжается и, опустив зрельницу, едет за город на место поприща. Уже все рыцари побилися, и один остался над всеми победителем, разъезжает гордо; громко возглашает, вызывая на бой. Бова въезжает, пускают его; пускаются, копья их летят вдребезги, вынимают мечи и, наскакав, ударяют друг друга; у Бовы меч переломился; соперник его хочет с размаху в зрельницу ударить, но он, уклоняся, спрыгивает с коня и, прискочив, сдергивает всадника с коня и меч его, вырвав, отбрасывает. Схватываются бороться, и Бова, одолев его, повергает на землю, ставит колено на грудь, снимает шлем и принуждает признать себя побежденным. Тут к нему подступают все и ведут его торжественно; а соперник его скрылся от стыда, яростен и желая мщения; сей был Лукопер, сын Хана Болгарского. Бова венчается царевною; она взлагает на него венец, говорит: будь счастлив, но не со мною. – Ах, прекрасная, ужели Бова недостоин стал тебя или твоя любовь переменилася? Но, хотя победитель, ведаю, что не могу еще быть твоим супругом. Дай мне слово не быть ничьею. – Клянусь, – вещала царевна. Он снял шлем и подошел к царю и царице; сия, увидя его, возгорелась паче любовью, но, дабы положить преграду женитьбе, причла ему в вину, что, не будучи рыцарь, он смел сражаться, и хотя он победитель, но должен сперва заслужить свою вину. И так Бову велели судить, и судьи мудрые присудили сделать Бову рыцарем и велеть ему ехать искать живой воды, которая, по сказанию верных людей, нянь и мамок, течет из горы за тридевять земель в тридесятом царстве. Его посвятили рыцарем, и он надел черные доспехи в знак своей печали, пустился. Выехав за город… – иной спросит: для чего он не ослушался? Нельзя: кто знает, сколь строги законы чести, тот знает, что рыцарских правил ослушаться было нельзя. Да и ныне, когда свинья тебя толкает рылом, то тяни вон шпагу и колись: так честь повелевает. Но преслушался он в том, что захотел видеть царевну, и вынул зеркало, посмотрел, видит себя одетого в старушечье платье цыганкою, и слова: иди к терему. Остановился, видит, у дороги лежит одежда, одевается, идет, поет: кто хочет знать свою судьбу, давай тот денег, и узнаешь; кто чает быть царем, ходи тот к нам, и дам ответ; кто хочет знать, что мило сердцу, будет ли то его иль нет, бери от нас совет, и грусть его пройдет! – Старуху, хоть сердце и свербит, но любопытство! зовут цыганку! он поет и велит царевне плакать. Открывается, живет у нее, спит с нею и позабыл про живую воду. Жил у нее четыре месяца, видит в одну ночь, что он упал с терема и зеркало разбил; он было в утехах про него и позабыл, пробудился, глядит, видит, зеркало тускло, и едва читает сии слова: лживый рыцарь, не сохраняешь клятву, ты недостоин обещанного блаженства. Спеши обет исполнить, а в наказанье, что послушал своей страсти, зеркало у тебя отъемлется, доколе не исправишься. Едва он сие прочесть успел, зеркало исчезло, а он себя нашел лежащ на земли в доспехах богатырских у ног своего коня и без зеркала. Дивится, но сел и поехал.
Уже проехал он многие земли и царства, путь продолжая на восток, презирая непогоды, зной, холод, жажду, глад, достиг наконец подошвы Тавра. Утомленный долгим путем, он слез, коня расседлал и пустил, а сам снял шлем и лег на мураве; и видит едущего с горы; показался ему исполин, седящ на коне исполином, но, ближе подъехав, увидел, что то был человек сверху, а внизу конь, испужался, но, кликнув к себе коня, надел шлем и поехал. Издали кричал ему чудовище: как смеешь, молокосос, сесть при мне на коня; я Полкан, сын Бреда, сила моя известна в свете; покорись или умрешь, даю тебе время на размышление, погляди на меня поближе. – Бова видит вверху человеческое, но зверообразное, мохнатое лицо, нос красно-синий, глаза как угли раскаленные, по пояс был весь мохнат, а ниже пояса конь сильный, у которого недоставало только шеи и головы; на плече держал палицу дубовую, или, лучше сказать, дубовое бревно. Бова не устрашился и в ответ ему сказал только: разъезжайся, и поскачем. – Ударились. У Бовы копье разлетелось, ниже оцарапало Полкана, но удар столь был силен, что Полкан упал на колена, а он Бову столь ударил сильно, что Бова слетел с лошади; но, вынув меч, пошел опять против чудовища. Сей ему говорит: ты первый, кто мог мне дать такой удар и проч. Твой меч будет безуспешен, ибо я определен умереть от когтей львиных, я их много поражал, но конца своего еще не знаю. Будем друзья, твое мужество мне нравится. Поедем. – Бова ему сказал, куда послан. – Ах! неистовая царица желает твоей смерти, я был в их воле; отец ее за мое озорничество обманом зарыл меня в землю, и кормили меня только хлебом и водою, и меня с тем выпустили, чтобы я тебя убил за то, что про тебя сказали, что обесчестил царевну и бой рыцарский, будучи раб купленный; на погибель твою, – сказал Полкан, – я бы туда поехал и тебе пособил, но тот, в чьей области сия вода, мне брат. – Так сделай же доброе дело, поезжай, освободи мою супругу. – Полкан дал слово, и расстались.
Полкан возвратился и сказал царице, что он не нашел Бову, а ночью, украв царевну, увез ее и поехал; хотел убить мать Бовину и царевну там посадить, чтобы ждала Бовы. Уже они достигли до пределов того государства, но стали отдохнуть, царевна уснула, а проснувшись, увидела Полкана мертва и подле него льва издыхающа, у которого разорваны были лапы. Она устрашилась, пошла в город и нанялась в работницы; родила двойни.
Между тем царица, пылая мщением, призвала чародея и сказала, что ей хочется погубить Бову. – Погубить его нельзя, судьбы тому противны, но можно его ввергнуть в несчастье, отняв у него сбрую ратную и коня. – Ступай, – сказала царица. Чародей вмиг догнал Бову, который оставался близ града Испагани. Пустил коня. Но чародей прежде вошел в город и солгал царю Салтану, что Бова приехал воевать его государство. И так царь выслал против него много рати, но Бова их прогнал и поехал мимо. А чародей оделся в монашеское дервишское платье, сел на распутьи. День очень был жарок; Бова, ехав, увидел старца, под деревом пиющего, попросил у него, тот ему подал, и Бова захотел спать. Лег, а чернец снял с него доспехи и, взяв меч и копье, сел на коня его и ускакал, сказав в Испагани, что Бова обезоружен; пришли, взяли его и посадили его в тюрьму. Бова горюет, готовят ему казнь. Ибо тут был царем тот самый Лукопер, которого он победил на поприще. В ту ночь, когда ему было идти на казнь, он, ходя по темнице, ощупал в углу меч, обрадовался; то меч был богатыря, которого царь уморил с голоду, зарыв в темнице. Как пришли его брать, то он стал убивать тех, которые к нему приближались, наконец отбил всех и, вышед, пошел вон из города; никто не смел его тронуть. Лукопер, узнав, сам поскакал за ним, но Бова, отвернувшись от его копья, ударил мечом наотмашь и свалил его. Взял его коня и поехал, а рать Лукоперова за него не вступилась.
Наконец достиг Бова той горы и, сражавшись с привидениями и страстями, наконец почерпнул воды, напился ее и в новой силе поехал в обратный путь. Приезжая назад, увидел, что царевна увезена Полканом, а чародей, возвратяся в его доспехах, убил царя с царицей и стал царем. Тогда скоро в цари попадали. Узнав также, что она поехала с Полканом к матери Бовы, он с ратью ходил на то царство, короля убил изменою, а жена его умерла прежде; но дань наложить на царство не мог, ибо там вельможа один начальником был, а царевны не нашел. Бова туда поехал, нашел охотника, принят был, ибо вельможа был его дядька Цымбалда. Бова услышал, что Полкан был умерщвлен львом, и думал, что и царевна также, то по совету дядьки хотел жениться. Он прежде воевал чародея и, убив его, покорил его царство. Все уже готово было, как он, объезжая свое царство, близ маленького отделенного городка увидел двух мальчиков, из коих один, шед, играл на арфе, а другой пел его любимую песню, что он певал в несчастии; спросил у них, кто они, и, пошед с ними, нашел царевну.
Бова
О che caso! che sventura![34]
Вступление
Из среды туманов серых Времен бывших и протекших, Из среды времен волшебных, Где предметы все и лица, Чародейной мглой прикрыты, Окруженны нам казались Блеском славы и сияньем; Где являются все вещи Исполинны и иройски, Как то в камере-обскуре, — Я из сих времен желал бы Рассказать старинну повесть И представить бы картину Мнений, нравов, обыча́ев Лет тех рыцарских преславных, Где кулак тяжеловесный Степень был ко громкой славе, А нередко – ко престолу; Где с венцом всегда лавровым Венец миртовый сплетался, Где сражалися за славу И любили постоянство. Хоть грешишки кой-какие Попадались, но их в стро́ку Невозможно было ставить, Зане юности проступок, Неопы́тности погрешность Есть удел детей Адамлих, Есть лишь следствие всегдашне Неизбежное чувств наших. Но грехов распутства умна, Грехов хитрого софисма Там не знали. – Да еще же Я намерен рассказать вам, Как то свойственно и нужно, Чуть не вымолвил я – должно Для того, кто в гости ездил Во страны пустынны, дальны, Во леса дремучи, темны, Во ущелья – ко медведям. Итак, только расскажу вам То, что льстить лишь будет слуху, Что гораздо слаще меда Для тщеславья и гордыни; А всё то, что чуть не гладко, То скорее мы поставим В кладовую или в погреб И проклятие положим, Если дерзкой кто рукою, Сняв покров прельщенья наша, Обнажит протекше время. Мы проклятье налагаем, Хоть из моды оно вышло, Но мы в силах наших скудны; А когда б властитель мира Я Тиверий был иль Клавдий, Тогда б всякий дерзновенный, Кто подумать смел, что дважды Два четыре иль пять пальцев Ему в кажду дал бог руку, Тот бы пал под гневом нашим. А как не дал нам бог власти, Как корове рог бодливой, То мы к дерзкому воскликнем: «Отойди, пожалуй, дале, Поди вон ты, оглашенный»; Мне здесь нужно суеверье; Обольщен я, но желаю Обольщен быть… и от скуки Я потешуся с Бовою. Я вам сказку тех лет древних Расскажу, котору слышал От старинного я дядьки Моего, Сумы любезна. Петр Сума, приди на помощь И струею речи сладкой Оживи мою ты повесть. Без складов она, без рифмы Вслед пойдет творцу «Тавриды», Но с ним может ли сравниться!! О Вольтер, о муж преславный! Если б можно Бове было Быть похожу и кое-как На Жанету, девку храбру, Что воспел ты, хоть мизинца Ее стоить, если б можно, Чтоб сказали: Бова только Тоща тень ее, – довольно, — То бы тень была Вольтера, И мой образ изваянный Возгнездился б в Пантеоне. Но боюся, твоя участь Будет равная с Жанлисой — По передням волочиться. Вы Бову хотя видали, Но в старинном то кафтане, Во рассказах няни, мамы, Иль печатного… но дядькин Бова нового покроя, Зане дядька мой любезный Человек был просвещенный, Чесал волосы гребенкой, В голове он не искался, Он ходил в полукафтанье, Борода, усы обриты, Табак нюхал и в картишки Играть мастер, – еще в чем же Недостаток, чтобы в свете Прослыть славным стихотворцем Ироической поэмы, Или оды, или драмы?.. Я пою Бову с Сумою! Возбрянчи, моя ты арфа, — Ныне лира уж не в моде, — Иль вы, гусли звончатые, Загудите, заиграйте; Я пою – а вас послушать, О возлюбленны граждане, К себе в гости призываю. На Пегаса я воссевши, Полечу в страны далеки, В те я области обширны, Что Понт Черный облегают, Протеку страны и веси, Где стояло сильно царство Славна древле Мифридата, Где Тигран царил в Арменьи; Загляну я во Колхиду, Землю страшну и волшебну, Где Ясон, обняв Медею, Укротил сурово сердце Сей волшебницы ужасной. О любовь, о лесть пресладка, Можно ль в свете отыскать где Тебе сердце непокорно? Посещу я и Тавриду, Где столь много всегда было Превращений, оборотов, Где кувы́ркались чредою Скифы, греки, генуэзцы, Где последний из Гиреев Проплясал неловкий танец; Чатырдаг, гора высока, На тебя, во что ни станет, Я вскарабкаюсь; с собою Возьму плащ я для тумана, А Боброва в услажденье. Из Тавриды в Таман прямо, А с Тамана чрез Кавказски Горы съеду я на Волгу, Во Болгарах спою песню; Воздохну на том я месте, Где Ермак с своей дружиной, Садясь в лодки, устремлялся В ту страну ужасну, хладну, В ту страну, где я средь бедствий, Но на лоне жаркой дружбы Был блажен и где оставил Души нежной половину. Воздохну, что нет уж силы, О Ермак, душа велика, Петь дела твои!.. Я с Волги Перейду на Дон, где древле (Так, как ныне) коней быстрых Табуны паслися многи, Где отечество уда́лых Молодцов, что мы изда́вна Называли козаками. Сошед с Дона, к Ворисфену Мы стопы свои направим. Там Владимир, страны многи Покорив своей державе, В граде Киеве престольном Княжил в блеске пышна сана Над обширным царством русским, Окружен всегда толпою Славных рыцарей российских; Он для памяти потомства Живет в Несторе и в сказках. О, блажен, блажен сугубо! Со Днепра пойдем к Дунаю; На могиле древней мшистой Мы несчастного Назона Слезу жаркую изроним. От Дуная морем Черным Поплывем ко Геллеспонту И покажем ту дорогу, По которой плывши смело Войны росские возмогут, Византии стен достигши, На них твердо водрузити Орлом славно росско знамя. Но то скоро ли свершится? Будто время уж настало, Мне то снилося недавно — Хотя снилось, но не знаю, Когда будет, – не пророк я, Но то знаю – оно будет. Я к Бове теперь отправлюсь. А ты, милый друг читатель, Если лучшее познанье О страна́х сих иметь хочешь, Читай Бишинга – от скуки.Песнь первая
Ветр попутный веет тихо В белый парус корабельный. Там на палубе летяща Корабля, что волны зыбки Рассекал на влажном поле, Бова сидя, песнь унылу Пел и в гусли златострунны Бряцал легкими перстами. Пел, стенал, бряцал и плакал, Лил потоки слез горючих. «Что возможет, ах, сравниться С лютой горестью моею, Кто быть может столько бедствен, Столько бедствен, как Бова? Лишь светило дня блестяще Мои очи озарило, Грусти, горе и печали Мне досталися в удел. Желчь сосал я вместо пищи Из сосцов змеиных лютых, Колыбель мою качали Скорбь угрюмая и злость. Сирота унылый, горький! Мой злодей мне мать родная! Она жизнь мою хотела Чуть расцветшую прервать. Я один меж всей природы, Я во всей вселенной странник И пустынник между тварей, Всех родившихся в любви. Ах, уныло мое сердце, Не знай лютой сея страсти: Ей горят сердца преступны, А ты будь всегда ей враг». Песнь скончал, поставил гусли; Пригорюнясь, взор ко брегу, Что вдали едва синеет, Обратил и, воздохнувши Тяжело, вещал он тако: «Ты прости, страна родная, Ты прости, прости навеки. Мать жестока, мать сурова, О тебе я не жалею». Слыша речи столь унылы, Слыша песни столь плачевны, Подошла к Бове старуха, Что в артели корабельной Должность важну отправляла Метрдотеля, иль – стряпухи. Хоть всю жизнь на синем море Провела она с лет юных В шайке лютых и свирепых, Ко сребру и злату алчных, Сих варягов и норманов, Коим прозвище в дни наши Не разбойники морские, Не наездники, не воры, Сохрани нас бог, помилуй, Чтоб их н́азвали столь мерзко, Не арабы марокански, Не алжирцы, не тунисцы, Но те люди благородны, Что без страха разъезжают В те суровые годины, Как яр Позвизд с Чернобогом, Пеня волны, окропляют Их верхи людскою кровью; Грабят всех – без наказанья. Хотя выросла старуха Среди шума волн и ветров, При воззрении всегдашнем На жестокости Арея, Средь стенаний, вопля, крика Умирающих злой смертью, Или злее самой смерти Во оковах срамных, тяжких Иль железныя неволи, Иль рабства́ насилья дерзка, — Но была старуха наша Мягка сердцем и душою И с седым своим затылком Равнодушно не взирала, Как молоденький детинка Проливал горючи слезы. Была ль то одна в ней жалость, Иль в старухе кровь играла, Того повесть, хотя верна, Не оставила на память. Наша повесть только пишет, Что, подшед к Бове поближе, Она руки распростерла И к иссохшей своей гр́уди Прижимала Бову крепко. «Столь ты юн, но столь ты бедствен! — Возгласила стара ведьма (Ведьма добра, мягкосерда, Не как киевские ведьмы, Что к чертям с визитом ездят На ухвате без уздечки). — Ты открой свое мне сердце, Забудь горе на минуту. Моя власть хоть невелика, Хоть у всех я здесь служанка, Но мои старанья нежны Облегчат твою судьбину». Говоря сие, отводит Бову в малую каюту, Где старуха наша нежна Обед братьям всем готовит. Тут, согрев и накормивши, Бову нежно обнимает, Очи мокры от слез горьких Отирает поцелуем. «Скажи мне, – она вещает, — Скажи мне свою кручину, Свою участь мне сурову!» Бова нежно имел сердце, В первый раз чрез многи годы Ощущает он отраду, Сладость ласки, сладость дружбы. Ах! какое в грусти сердце, Сердце сиро, одиноко, Не внушит приязни гласу И не сдастся на ласканье Хоть столетния старухи? Если витязь Роберт славный Мог, ступив ногой на нежность, Обнять старую хрычовку И в объятьях ее мразных Совершить победу жарку, Восхитив цветок иссохший, — Роберт был в любви ученый, И задачу брачна ложа Мог решить он без поверки: Нос зажал, глаза зажмурил И, как витязь македонский, Узел Гордьев рассек махом, — То Бове равно прилично Обнимать старуху дряхлу: Бова, знаем, парень новый, Он не видит преткновенья, Ласке лаской отвечает И лобзанию лобзаньем; Ему ж не было задачи, Как Робе́рту на решенье, Ложась с ведьмой спать на ложе. Старушонку Бова мило И столь крепко обнимает, Что напомнил ей то время, Как ей было лет лишь двадцать. Не на ложе возлегают, Но на печку лезут греться, Зане холодно уж было. Тут Бова, собрав все силы, Тут Бова, вздохнув глубоко, Вынимает из кармана Платок белый, для запаса, Чем утрет ее он слезы. Зане знал Бова заране, Сколь его плачевна повесть И что тронет через меру Сердце добрыя старухи. Еще раз вздохнул, рек тако: «Я Бова, Бова-царевич… Ты дивишься тому, вижу, — Но верь совести нелживой. Я бы мог в том побожиться, Но божиться не умею И божиться не охотник. Город, в коем я родился, Есть столица сильна царства, Где, пред сим венчанный властью Держал скипетр царь премудрый, Царь Кирбит, сын Версаулов, Славен мужеством на брани, Славен разумом в советах, Милосерд, и щедр, и кроток, И любим своим народом. Ему дочь была родная Всех прекраснее из женщин, Мелетриса ее имя. Слух о царствии Кирбита, О его правленьи мудром И о прелестях царевны Молва громкая повсюду До дальнейших мест промчала. Двор Кирбитов был собранье Всех красавиц в государстве; Но меж всеми, яко солнце Среди звезд эфирна свода, Красотой своей блистала Мелетриса, дочь царева. В красоте она совместниц Не имела, и не можно Было чувствовать к ней зависть, — Зане столь была всех краше, Столь добра, мила, приятна, Что вблизи ее не смела Зависть яд пускать свой черный И ее ехидны люты, Мелетрису зря, немели. Красота толико дивна Привлекала всех вниманье, И чувствительность сердечна Ей платила долг природы, Воспылав огнем любовным В груди рыцарей надменных, В груди рыцарей влюбленных. Все ей нравиться старались, Всем хотелось полюбиться И во юном ее сердце Воспалить любовный пламень. Но меж многими другими Отличались перед всеми Своим мужеством, красою, Своим нежным угожденьем, Своей силой и богатством Два царевича приезжих. Один горд, спесив, надменен, Взоры пылки, взоры страстны, На лице черты Алкида, Но Алкида в летах юных; Рост и стан его, и взрачность, И осанка величава, Лицо смугло длинновато, Черны кудри по раменам, И густой брады начало, Длань широка, персты толсты Всем довольно возвещали Его мужество и силу. Он наездник в ратном поле, Богатырь, и вождь, и воин, Дадон сильный – ему имя. Но не только в ратном поле Подвизался он с успехом: Столь же славен он у женщин; А хотя в любви он страстен, Но подвластен ей он не был, И с Алкидом чтоб сравниться, Лишь ему недоставало Десяти жен и дев красных, Пятьдесят дщерей Фиспия, И одной лишь только ночки, Чтоб ему отцом быть нежным Пятьдесят раз вдруг в семействе. Славну рыцарю толико, Нет, нельзя не полюбиться Мелетрисе, страстной, пылкой; А тем больше, как лишь вспомнит Что объятья, повторенны В пятьдесят раз нераздельно, Кажду ночь возобновятся. Пусть бессонница всегдашня (Столь ужасная больному) Ее мучит на постеле (Но сам-друг) и жизнь преторгнет: Так Рафа́эль из Урбина, В свете славный живописец, Душу выслал вон из тела. Другой рыцарь вежлив, скромен; Сердце, душу имел нежны, Очи быстры голубые, Лицо бело и румяно, По плечам златые кудри, Вид, осанка Адонида. Но он храбр; счастливый рыцарь, На бою проворен, меток, Всегда разумом вождаем, Зрел опасность твердым оком И в бою смерть хладнокровно. Он всегда венцы лавровы Пожинал на ратном поле, Но не силою десницы, Не удачей, не коварством И не крепостью доспехов Побеждал Гвидон противных. Правды, истины поборник, Меч его победоносный Никогда не обагрялся Кровью слабых иль невинных. Он защитник утесненных, Разрешитель уз и плена, Непорочности спаситель, И его смиренно сердце, Душа нежна, душа тиха Воспалялась гневом львиным, Когда видел он коварство, Ложь, строптивость и насилье, Угнетающих бессильных; Тогда воин милый, тихий Бывал враг непримиримый, Бывал бич неукротимый Злобе, буйству и прельщенью. В таковых душ́ах царевна Любовь сильну воспалила. И хотя со перва взгляда Мелетриса подарила Свое сердце всё Дадону, Объявить того не смела, И надежда в ней исчезла Быть его женой когда бы, — Зане многою услугой Гвидон юный украшался, Спасав царство и Кирбита От насильств вождей хозарских. Царь Кирбит за то в награду Назначал его в супруги Своей дщери, Мелетрисе, В том признанием вождаем, Пользой царства и рассудком. Заключение неложно, Что спасителю народа Управлять его браздами Других паче всех довлеет. Гвидон был единородный Сын на троне старца мудра И ближайша во соседстве. Во дни красны, безмятежны, По скончаньи бедств военных, Царь Кирбит во утешенье Своей дочери прекрасной Игры рыцарски затеял И глашатаям повсюду Повелел трубою бранной Созывать на состязанье Витязей из царствий разных. Он хотел при их собраньи Дать наследника престолу, Дать супруга Мелетрисе Храбра милого Гвидона; Зане там, как прежде в Францьи Скиптр не мог никак достаться В руки, пряслицей что правят Или швейною иголкой. Уж из дальних и из ближних Стран слетаются стадами, Как вороны на гумнище, Славны рыцари в доспехах, Молодые, пожилые, Средних лет и с сединами. Иной едет повидаться Со красавицей своею, Распестрив свое оружье Поперек и вдоль, крест-накрест Тем любимым из всех цветом, Что понравился пред всеми Обладательнице милой Его чувств, души и сердца. Другой едет, чтоб прославить Силы крепкой своей мышцы И прибавить хоть листочек Во венец, уже столь тяжкий От побед в кровавых битвах Иль на славных поединках. А иной, кружась по свету, Ко Кирбиту в гости едет, Как в гостиницу обедать. Воружась иной от темя До пяты, и даже зубы Воружив булатом, сталью, Смело, борзо выступает, Объявляя всем надменно, Всем, про то кто ведать хочет Иль не хочет, написавши На своем щиту огромном Золотыми всё словами: „Не терплю ни с кем сравненья“, — А там выйдет на поверку, Что наш рыцарь пресловутый Позевать приехал только, И к несчастию случилось, Что его десница страшна Онемела, заболела, Паралич ее ударил, А то б он единым взглядом Повалил всех, опрокинул, Разогнал, развеял прахом. Что же прибыли? Игры́ все Стали б вовсе в пень. – Нет, лучше, Что болезнь, ему случившись, Всех оставила в порядке. Были рыцари не хуже Славна в свете Дон-Кишота. В рог охотничий, в валторну Всем трубили громко в уши: „Дульцинея Тобозийска Всех прекраснее на свете“. А как во́ззришься в красотку, То увидишь под личиной Всех белил, румян и мушек Обезьяну, или кошку, Иль московску щеголиху. За такую прелесть дивну Он, однако ж, снарядился На помол отдать все кости. Но нет ну́жды знать причину, Для чего они дерутся, Мы лишь скажем одним словом, Что их съехалось отвсюду Столько – столько – что нет сметы. Поле ратно, окруженно Со всех стран, амфитеатром Возвышалось. Тут дубовы Скамьи были все покрыты Рытым бархатом, парчами, Алтабасом изошвенным. Везде видно сребро, злато И каменья дорогие; Хитрость зодчества, ваянья Превышала тут богатство; И художество в союзе С драгоценностьми земными Вид изящности давали Несказа́нной всему зданью; Но искусство свои силы Истощило под престолом, Уготованным царице С ее дочерью прекрасной. На столпах кристальных твердых, На сафир во всем похожих, Что огнем искусство хитро Из сожженна в пепел древа, Из песка иль камня бела, Зной сугубя, сотворило, Возвышался свод порфирный, Испещренный весь цветами, Где, природе подражая, Рука мастера искусна Изваяла их из злата. Перлы светлы и жемчужны Внизу свода, меж столпами Вкруг висели ожерельем. В верху свода образ светлый Возвышался в виде буйном Той богини, вслед которой Праотцы славян издревле Вихрем бурь носились всюду. „Лучезарная богиня, Слава, дщерь мечты, призра́ков! На престоле мглы блестящей, Звезд превыше и Олимпа, Из-за облака златого Кажешь ты венцы лавровы. Но лицо твое кто узрит? Кто существенность постигнет Твою? – Легкой ты завесой Паров утренних, прозрачных Прикрываешь черты шатки, И тебя сквозь их лишь видит Пылкий взор воображенья. Лишь оно тебя рисует И такими лишь шарами, Как ему угодно только“. Посреди широка поля Жертвенник из твердой стали Блещет зе́ркальным сияньем; Фимиам тут не курится, Брус стланцова черна камня Тут лежит на изощренье Копия, меча, булата, Чем обильны всегда жертвы Славе в честь приносит воин. Ибо нет попов с причетом, Ни жрецов у ней священных. Кто грудь смелую имеет, Твердый дух в бедах на брани, Кто храбр, мужествен, отважен, Тот есть жрец сея богини. День настал уже тот грозный, Равно скучный и веселый, Где богиня лучезарна Уделит своего блеска Гордым всем своим любимцам Иль покроет грязью срама Всех тех, коим она кажет Свой затылок безволосый. Зане так же, как Фортуна, Сестра Славы, легконога; У ней волосы тупеем Растут спереди косою, А затылок весь плешивый. Они моде сей учились (Мы здесь скажем мимоходом Для того, кто не читает Путешествиев всемирных) У мунгалов иль китайцев, Иль в Тибете, иль Бутане, В той стране благословенной, Где живет тот царь священный, На востоке столько чтимый; Его бабка повивальна Рассказала, и все верят, Что он выше всех на свете, Никогда не умирает; Его смерть не есть кончина, Его смерть есть прерожденье; Что в мгновенье то ужасно, Как дух жизни непостижный Обветшалое жилище, Мертвый труп наш, оставляет, Божество сие двуножно Преселяется в младенца Или в юноша любезна, Чтоб счастливым правоверным Опять в знак щедрот небесных Рассылать (но на закуску Для десерта в день торжествен) Своих сладких яств останки, Что в священных его недрах Благодатная природа В млеко жизни претворила. Вещество сие изящно, В чем алхимик остроумный Парацельс, иль Авицена, Или Бехер, иль Альберты Злата чистого искали; В чем счастливый Брант и Кункель, Светоносный луч открывши, Пред очами изумленных Возжигали (без огнива) Огонь в трубках и курили Траву пьяну некоцьянску, Табаком что называют. Но где меньше их счастливцы Все отеческо наследство, Накопленно и стяжанно Кровью, потом и трудами, Иль грабительством, мздоимством, Иль другим путем превратным, Пережгли, передвои́ли. О, сколь счастлив был бы смертный, Если б все богатства в свете, Злостяжанные неправдой, Обращалися чудесно В вещество сие изящно, Далаи-Лама которо Всем в подарок правоверным Для десерту рассылает; Если б в нем фосфор блестящий Раз сверкнул и превратился б В пары светлы, исчезая, — И, исчезнув, бы оставил Лишь уханье амвросийно, Столь известное в природе, — Дабы знали, сколь есть смрадно Злостяжанное богатство, Хотя блещет лучезарно. Еще в Зничеву коляску Перстоалая Зимцерла Коней светлых не впрягала, И клячонки огнебурны На конюшне Аполлона Овес кушали эфирный, Как прекрасна Мелетриса, Не смыкая своих веждей, Ложе скучно, ложе девства, Ложе томно одиночства, Свое ложе оставляет Прежде, нежель петел громкий Запинательным напевом Не воспел нам час полночный. „О! несчастная всех больше! — Мелетриса так вещает, — Почто в свете я родилась? Почто зреть мне светло солнце, Если жизнь влачить плачевну Осужденна я не с милым? Или щедрая природа Моему лицу румяну Дала прелести опасны Для того, чтоб в горькой доле Я потоком слез горючих Их цветы весенни ярки На рассвете сорывала!“ Так завыв, царевна наша Распускает длинны космы По раменам обнаженным. Она, вставши со постели В одной тоненькой рубашке, Ни юбчонки, ни мантильи, Ни капота, ниже шали На себя не надевала И, по горницам без свечки, В темноте густыя ночи, Всюду ходя, выла волком. „Нет, не думай, чтоб досталась Я в объятия Гвидону! Пусть скорее ненавистна Горька жизнь моя прервется, А тебе, мучитель брачный, Лишь достанется в укору Мое тело бездыханно!..“ Без ума почти, в потемках Она ходит, везде ищет Вожделенного орудья Безнадежному в злом горе На скончанье скорой смертью Жизни, ставшей ненавистной. Со мгновенья на мгновенье В ней отчаяние, томно Сперва, стало уж лютее: Не нашла себе в отраду Ни ножа, ниже иголки, Ни копья булатна крепка, Ни меча, ни сабли острой, Ниже шпаги – хотя б бердыш, Или ножик перочинный, Или вертел ей попался… Но злой рок был столь завистлив, Что все вещи смертоносны От нее как в воду спрятал. Ей так подлинно казалось. Но мы в том не обвиняем Ни судьбы, ни чародейства, Чтоб царевне в злу насмешку, Чтоб от горькой Мелетрисы Они сталь, булат, железо, Всё попрятали в колодезь. Одно было тут волшебство, То всегдашнее волшебство, Что в подлунной совершает Земли суточно теченье; То волшебство несказанно, Где, с подмогой вображенья, Видим мы весь ад разверстый, Домового, черта, ведьму, Или рай, или – что хочешь; То волшебство, одним словом, Было тут простерто всюду, Была – ночь, и было тёмно, Глаза выколи хоть оба. Говорят, сопротивленьем Всяка страсть в нас коренеет, Всяка страсть ярится с силой. Как вихрь бурный дует в пламя, Иль мехов насосных сотня В горн (сложенные все вместе) Верзят воздух, в них стесненный, Клубоомутной струею; Вдруг зажженный уголь рдеет, Зной палит в нем черно сердце, Угль горит, со треском искры, Как пращом, в окрестность мещет, Дым клубится, вихрем вьется, Жар и зной уж всё объемлют, И одно, одно мгновенье В горне видишь огнь геенны… Так царевна, не нашедши Ни меча, ни остра шила, Злу отчаянью вдается. Лбом стучит во всяку стену, Бросясь на пол, бьет затылком. Но предательны помосты, Покровенные коврами Шелку мягка шамаханска, Ее гневу лишь смеются. На них вместо смерти лютой Она волосы ерошит. Но, опомнясь, воспряну́ла, Как младая легконога Серна скачет с холму на холм; Воспрянула, луч надежды Протекает ее сердце. „Нет, сложась стихии вместе Не возмогут тряхнуть душу, На погибель устремленну. Тот умрет, кто жить не хочет“, — Так воскликнула царевна. Она бросилась поспешно К тому месту, где спит мама, Ее мама дорогая; Карга – имя ей в исторьи; Над постелей Карги-мамы Был вколочен гвоздь претолстый, Большой гвоздь и деревянный, Он длиной в аршин иль больше, На который Карга-мама По ночам треух соболий Свой обыкла всегда вешать. На гвозде сем умышляет Скончать жизнь свою царевна…» «Как! – вскричала тут старуха, Прервав речь Бовы поспешно. — Скончать жизнь таким же средством, Каким девы Вавилонски Жизнь давать учились древле!! Или в честь священна Фала У вас жертва не курится? Или образ его дивный Вы не носите на выях? О, народ, народ продерзкий! Презреть Фала, Фала сильна, Что жизнь красну дает в мире! Кем живет всё, веселится, Без чего бы и вселенна, Забыв стройное теченье, Стала б дном вверх, кувырнулась. Зане Фал есть ось та дивна, На которой мир верти́тся. Фал – утеха Афродиты, Фал – то яблоко златое, За которо три богини Пощипались на Олимпе, Вцепясь бодро в божьи кудри». Бова слушал в изумленье Свою дряхлую подругу. Видит, жаром необычным Засверкали ее очи, Вздохи вздохами теснятся, Воздымают грудь иссохшу. Потягота во всех членах, Жар гортанью ее пышет, Во рту скрып зубных остатков. Но вдруг взоры ее меркнут, Млеют члены и слабеют, Стары ноги протянула, Сомкнув вежди, испустила Тяжкий вздох и покатилась, Чуть-чуть с печки не упала. Бова старую подругу Подхватил в объятья нежны. Он уж думал, черна немочь Ее дряхлу жизнь скончала И последния отрады Навсегда его лишила; Но с веселием он видит, Что в старухе сердце бьется, Что в ней кровь не охладела. Очи томны отверзает И, вздохнув она легонько: «Ах! любезный мой, – вещает, — (Зри, сколь Фала почитаю) Зри его священный образ, Что скудельничьей рукою Извая́н из глины хитро: Се утеха моей жизни, Се надежда мне по смерти. Голод, жажду утоляет. Не́ктар он и амврос́ия!..» Бова видит – ужаснулся: Образ Фала у старухи; Он дивится… Кто не знает, Не читал кто во исторьи Древней повести народов, Тому слог наш непонятен. А Бова хотя и видит, Но что видит, он не знает. Так во глазе сетка чувствий, Ослабев иль уязвленна, Жизнь, чувствительность теряет. И то чудно, велелепно, То божественное чувство, Чувство зрения изящно, Чем все вещи для нас в свете Оживляются шарами Преломленных лучей солнца, Вдруг померкнет, тмится, гаснет, И предметы ярка света Погружаются в тьму мрака. День прошел и сочетался С ночью, или ночь настала Во очах, ночь непрестанна. Словом, слеп кто, тот не видит Так, истории не знавши, Не узнал Бова наш Фала И был слеп в своих познаньях. А старуха, то приметя: «Продолжай, – она вещает, — Свою повесть ты плачевну». Бова, вынув платок белый, Отирает чело старо Своей нежныя подруги, У которой пот горохом В исступленьи показался. Пот проймет и не старуху, Когда корча нервы тянет, Когда мышцы все трепещут, Грудь вздымается от вздохов И упруго сердце бьется Так, как древняя пифия На треножнике священном Дрожит, рдеет, стонет, воет… Ах! всегда в сие мгновенье, Когда жизнь в избытке льется, Бог нас некий оживляет! Конец первой песни 1799—1802 (?)Сафические строфы
Ночь была прохладная, светло в небе Звезды блещут, тихо источник льется, Ветры нежно веют, шумят листами Тополы белы. Ты клялася верною быть вовеки, Мне богиню нощи дала порукой; Север хладный дунул один раз крепче, — Клятва исчезла. Ах! почто быть клятвопреступной!.. Лучше Будь всегда жестока, то легче будет Сердцу. Ты, маня лишь взаимной страстью, Ввергла в погибель. Жизнь прерви, о рок! рок суровый, лютый, Иль вдохни ей верной быть в клятве данной, Будь блаженна, если ты можешь только Быть без любови. <1801>Песни, петые на состязаниях в честь древним славянским божествам
Тогда пущает 10 соколов на стадо лебедей, которой дотечаше, та преди песнь пояше…
Песнь на поход Игоря на половцев. Стр. 3.Песни древние
Певец лет древних славных, певец времени Владимира, коего в громе парящая слава быстро пронеслась до Геллеспонта, Боян, певец сладчайший, коего глас, соловьиному подобный, столь нежно щекотал слухи твоих современников, возложи, Боян, благозвонкие твои персты на одушевленные, на живые твои струны, ниспошли ко мне песнь твою из горних чертогов света, где ты в беседе Омира и Оссиана торжество поешь ироев древних или славу богов; ниспошли, и да звук ее раздается во всех краях, населяемых потомками колен славянских.
Велик был день у славянского народа, день, посвященный первейшим их божествам, сильному Перуну, благодетельным Святовиду и Велесу, буйным Стрию и Позвизду, Нию и Чернобогу грозным, благой Ладе, Лелю и Полелю и всещедрому Даждьбогу. От всех колен славянских, от Ильменя и Новаграда, с холмистых берегов Клязьмы, от Галича и Дуная, с Помория и Моравы, с вершин Альпийских и с моря Адриатического сбиралися для общего торжества к великому Киеву старейшины, князи, бояре и гости, и тьмы народа бесчисленного. Вели они с собою сладкогласных песнопевцев, да в оный день великий прославят в песнях своих богов и витязей, и слава языка славянского да промчится во все концы известного тогда мира.
Утром рано в день торжества, едва первая стрела лучезарная излетела от молниенного убруса жаркого Знича, как сильные гласы труб, цевниц, бубнов и тимпанов возбуждали всех стекшихся на злачные долины, пестроцветною муравою покрытые, где Днепр, пробив пороги с шумом и пеною, тихою в Лиман течет струею. Князи, песнопевцы, витязи и все начальники вступают во златые стремена, шествуют стройно на конях своих бодрых; идут стязи пред ними, хоругви возвеваются по воздуху; священники в одеждах белых льняных, багряными поясами одержимых, ведут жертвы, украшенные цветами юных дней нежнодышащего мая. За ними вслед резвою толпою идут лики юношей и дев, сонм жен в соборе радостном и народ созади, в одеждах мирных, шествуют медленно.
И се лиется уже кровь тельцов, юниц и агнцев. Лики общую возгласили песнь. Ветр препнул свое дыхание, дым курения ароматного и всесожжения восходил серым столбом за облаки. Десять избранных песнопевцев от различных племян славянских стали строем на берегу древнего Ворисфена; каждый из них несет на правой руке своей сокола быстроокого, в левой держит звонкие гусли. Издалеча возникли шумные гласы труб, цевниц и тимпанов, возбудили вздремавших по утренней пище лебедей на струях днепровских. Зане обычай был таков, что сокол, поражающий лебедя, назначал чреду в песнопении, и чей был первый, тот первую воспевал песнь, и все другие по чреде своих соколов.
Возлетают лебеди, высоко виются под легкими утренними облаками. И се, яко стрелы от звенящия тетивы, твердым луком напряженныя, летят стремительно десять соколов, пущенных с рук десяти песнопевцев, пришедших на состязание издалека, – состязание, достойное игр Олимпийских в счастливые времена Эллады. – Летят соколы – и чей первый настиг лебедя? Се твой сокол, о Всеглас, житель юный берегов Ильменя, он ударил лебедя в белую грудь; возлетают пух и перья по воздуху; кровь капала дождем из-за облака; священники тщатся восприять ее в чаши златые, зане таинственно вещают. Лебедь упал мертвым к стопам коней княжих, а сокол-победитель летит на десницу Всегласа. Глас труб и цевниц возвестил чреду первую.
Сокол второй. Он твой, о Крутосвист, житель ближайших гор Тмутараканя; поразил лебедя полумертвым, и сам, возвившися под облако высоко, упал вниз стремглав и воссел на десницу вождя своего торжествующ.
Сокол третий слетел с руки Хохта от устья Дуная; ударил лебедя, но тщетно, и в третий раз мог только его повергнуть на землю бездыханна.
Сокол четвертый рожден на вершинах гор, близких моря Адриатического, Черными горами именуемых. Принес его Звен, потомок славных сопутников Пирра, мечтавшего завоевать вселенную.
Пятый сокол – Тиховоя, коего предки, оставив Кипр, преселилися сперва в Гесперию, потом прешли жительствовать на Поморие и принесли с собою обряды служения благотворныя Лады. Он, лебедя тихо поражая, но часто, пригнал его утомленна и жива к стопам своего господина.
Пять последние соколов, хотя не столь знаменитые победители, но не отпустили своея добычи, и утомленны пали с нею на землю.
И се воссели десять песнопевцев по чреде побед своих соколов на уготованных для них зеленых одрах; за ними стали лики юнош и дев разделенно. Священники воскурили фимиам…
Настроя звонкие свои гусли, тако воспел Всеглас:
Перун, о бог всесильный, Зиждитель мира, царь Всего того, что видим! Не слово ли твое всесильно, Что слышно нам во звуках грома, Что гор сердца кремнисты, Творению событных, современных, Упругой зыбию колеблет, Не слово ли твое Воззвало в бытие Всё то, что око наше зрит, Или всё то, что мыслию постигнуть можем? Се ты, о боже сил! Се шествуешь, хламидой звездною одеян, Носимой духом бурь и ветров. Восток, Юг, Север и Стрий буйный сам Твои суть слуги, Земля подножие твое, А дальный э́фир, дальный, Превыспренний твой одр. Венчан стихийным светом, Рождающей одеян теплотою И творчей силой препоясан, Воссел, о ты, непостижимый! В пространстве, в пустоте, Среди смешения, среди хаоса, Средь нощи древния и всюду мрак. Воссел, да зиждешь и творишь, И образы да дар твой будут. Се там, престолу твоему, Где молния не знала крыл своих, Крыл огненных, в полете быстрых, Где гром еще молчал, немея, Где свет, где сушь, где влага, Вскормленны вечности сосцами, Росты бездейственны хранили И где движенье, жизнь в тебе едином, О бог! лелеясь, были, — Се там предстали и явились Престолу твоему Твои все слуги, твои силы: Знич светлый, жаркий, жизнодатель, Велес, отец сей будущих животных, И Позвизд и Купало, Скрывавшие в своих огромных недрах Всемирный океан, И реки, и озера; И Ний, отец земли, и крушц, и камней, И мать рожденья Лада, Всесочетающей любови бог. Воссел, и тихое Благоговейное молчанье (Торжественный предтеча Зиждительного слова) Повсюду было, Ко бытию готовя вся… Се творчее изыде слово… Уже начало восприяли Движенье, жизнь и бытие… И ты, не ведомый, Не мыслимый никем, О бог, отец, зиждитель, Стал чувствуем, стал ощущаем. И чадо юное твое, Руки твоей творенье, Подъяло край завесы древней, Завесы вечности – и ты стал бог: Зане, что ты, когда тебя Никто не мог постигнуть, Иль чувствовать, иль видеть? Се Знич и Лада с сыном, Велениям твоим послушны, Живят и греют, сочетают… Всё движется, приявши жизнь. Чудесности исполнилась вселенна! Но все творенья суть Лишь слова твоего… Нет, мысли лишь одной, Твоей лишь мысли необъятной. Зри: там, в пространстве неба и эфира, Тела вращаются велики, светлы, В согласьи стройном, дивном, В гармонии чудесной. Что там? Или кто там живет? То ты один лишь знаешь Или твои лишь слуги сильны. Здесь, виждь, велел ты Нию сушу вздвигнуть, На ней горам взнести Свои верхи крутые, льдяны, Иль пропастям, разинув хляби, Вмещать в широки недра земны Или блестящие крушцы, Или сверкающи кристаллы. Уж Позвизд махом своего трезубца Возбрызнул океан на сушу, И влага, напоив всю землю Потопа общего разлитьем, Раздвигнуто лицо свое превыше гор В моря, в озера, в реки собрала. Познал свои пределы понт, И реки буйно восшумели Чрез каменны скалы, Через бугры кремнисты, Крутясь, стремясь иль извиваясь Меж нив, полей, лугов; Текут они прозрачны, тихи Во чрево обще вод, В понт синий, в понт глубокий. Уж Знич со Ладою в союзе Взлегли на одр супружний, одр туманный, И тепла мгла в парах прозрачных Взлетела и взвилась высоко. Се, зри, туманы серы там, Собравшися, сгустившись выше, Вступили облака горами, И Стрий налег на их рамена; Юг, Север вниз и вверх бунтуют, Оставши буйны чада Истлевшего хаоса, И перва буря роет волны. Летит дождь теплый вниз на нивы, Где вслед всезиждущим твоим веленьям Велес на свет извел вола И всех зверей дубравных, Где Даждь благой и щедрый Родил древа и злаки. Но ты, отец, с улыбкою рожденья Возвел свои зеницы светлы На юный мир, на юну землю; Ты, видя счастие, блаженство, Повсюду в блеске расширенно, Добро ты видя всюду, Еще помыслил ты. Се паки сильно твое слово, Беременно еще твореньем, Явилось в мир, Явилось облеченно в персти. Се образ твой, о сильный! Се образ дивный, возниченный; Се дух твой, или слово, Живущее в жене и в муже… О человек, творение чудесно! Творенье бренное, о царь земли! Ты слаб, ты червь, ты мал, Пылинка ты в сравнении всего, Но силен, но велик умом, Ты мыслию божествен, Зиждитель и творец! Велик, велик ты, о Перун! Когда разверзишь длань свою широку, Из коей льются изобильно Благодеяния щедроты, И мир, и тишина, и счастье; Когда ущедрит нас Посланник благ твоих великих, Посланник твой Даждьбог. Велик ты также и ужасен, В ночи несясь туч синих, черных, Когда преступны человеки, Твой образ исказив пороком гнусным, Сзывают гром твой с небеси! — Твой гром губительный, карающ И стрелы молнии твоей крылатой. Тогда твоя десница сильна, рдяна, Вращая огнь, удар вознесши вверх, Превыше всех верхов холмистого Олимпа, Низвержет молнию и гром, И звук и треск, и смерть и ужас… Бегут животные, трепещут Пред взором твоего лица паляща И кроются в вертепах темных; Сердца сотрясши всех строптивых, Не смерть ты шлешь, но знак благословенья: Ты паки стре́лу сизу молньи светлой Верг махом в дол, И гром твой глухоутлозвонный Ударил с треском в верх сосны ветвистой И раздробил ее в обломки малы. Но ты тут не ужасен, о Перун! Тебе сосна была та посвященна; Под ней покоился любимец твой Седглав, Седглав, твой жрец верховный, прорицатель, Принесший жертвы, о Перун! тебе обильны: И сто тельцов и сто волов, овнов толико ж; Любезна первенца лобзает, И юношу сего любезна, И сына сердца и души, Он в дальный путь готовит, устрояет, И пред лицом твоим Он отчее ему дал наставленье: «Ты юн еще, о сын мой милый! О Велеслав, ты юн; Но был уже свидетелем злосчастий И бедствий пагубных войны… Уже прошло тому и год и больше, Как многолюдные колена кельтски, Сложив свои все силы Во ополчение едино, От мыса, в дальном море вон торчаща, Иль от конца земли, Чрез Северный Улин, и Тул, и Морвен, И острова Гебридски, И все брега обширной Скандинавьи До самых тех брегов И низких и болотных, Где тихая Нева Свои глубоки волны Из Ладоги влечет И томною своей струей, почти прямою, Весь сонм своих валов бесшумных Исхлынула в Варяжско море; там, Где мглой всегда Котл́ин покрытый Косой иссунулся далеко в море. Сердца, глубоко уязвленны, Что племена славянски сильны, Ступая во следы широки, звучны Своих усопших предков, Оставивших свои Пылающие веси На берегах бушуйной Адрьи, Эпир, Иллирик и Панонью Губителям вселенной в Риме, Простерли меч победоносный За многоводную струю Дуная, За Днестр, за Буг, за Вислу, За славный Ворисфен И даже до брегов камышиста Ильменя, Откуда Волхов извлекает Обильное соборище вод желтых И чрез пороги между скал гранитных Мчит их в сожитие Вод Ладоги пространной; Восстали, Покрыли Варяжски Пучины Несметной тьмой ладей, Прошли они И Рюген, И Даго, И Езель, Прошли они Котл́ин И устье тройственно Невы. Тут, сняв с судов высоки щеглы, Подобны лесу темну, Без листвия, опустошенну И молнией и бурей, Весла́ми воды рассекая, Шли в верх Невы, шли Ладогой, Вошли во устье Волхова И плыли до его порогов. Оставив тут суда, Пошли во строе ратном, Простерли ужас и беды́, Смерть, пламя и оковы мыча По нивам, по холмам. Восплакали славянски девы, Рабыни став врага; Взрыдали жены, дети, Лишась супругов и отцов. Уже кельтско ополченье До того достигло места, Где твой славный дед, отец мой, Где великий Ратомир Новагорода начатки Близ Ильме́ня положил. Уж дымятся, пламенея, Верхи новы и высоки, Кровь ручьями льется всюду. Мала стража городская Скоро смерть мечом вкусила, И сто юных, храбрых воинов, Врата града защищавших, Копием сражаясь, пали, Жертва силы превосходной, Предпочтив поносну плену Смерть. Вломившись в наши стены, Простер враг насильство всюду. Ты тому свидетель сам был, О мой юный друг, друг милый! Как их меч, носясь по стогнам, Не щадил славенской крови, Как младенцы, жены, старцы Погибали беззащитны. Вихрем буйным рыщут всюду, Огнь, и гибель, и крушенье Везде сеют, простирают, И смерть бледна воспарила Над главами всех, готова К извержению кончины Общей всем, что живо было. Ах! почто, почто, несчастный, Не погиб, плачевна жертва Я их лютости и зверства. В среде зеленой кущи, Рукой моею насажденной, Сидела мать твоя и та, Которую рука моя вскормила, Душа моя дала которой душу И сердце мое – сердце; Которую Перун, и я, и мать твоя, И сам ты, друг мой юный, нарицал Возлюбленной уже подругой, Твоей подругою навек. Тогда под сень смиренну нашу Бегут, как алчны львы, рыкая, С мечом, с огнем в руках Враги победоносны. „Кто ты? – Кто ты?“ — Вещает им Ингвар суровый. Он вождь полков был кельтских; Высок, дебел и смугл, а очи малы Как угль сверкали раскаленный Из-под бровей навислых и широких; Власы его кудрявы, желты, густы, Покрытые огромнейшим шеломом, Всклокоченно лежали длинны Врознь по его атлантовым раменам. Рука его была как ветвь претолста И суковата ветвь огромна дуба; Увесиста, широка длань. Был глас его подобен Рычанию вола свирепа, Когда, смертельно уязвленный, Несется он по дебрям, по долинам: „Кто вы?“ – вещает паки к изумленным Он диким и суровым гласом. „Первосвященника Перунова супруга У ног твоих“. – „Восстань, иди со мной“ А мы?.. А я с тобой, – вещал Седглав, тут проливая Обильные потоки слез, — Отсутственны мы были и ходили В соседственный Холмград. Там мы с тобою На сделанном брегу высоком, Где столп Перунов возвышался, Курили фимиам. И се вопль наш слух пронзает; Мы по стогнам зрим Холмграда: Бегут, мычутся в боязни Жены, девы и младенцы, Кои, жизнь спасая бегством, Утекли из Новаграда. „Мы погибли, – восклицают, — Погиб Новый град и в пепел Превращен, не существует“. Уж воинственные трубы Вострубили, уж стекались Все полки славянски; строем Все идут ко Новуграду. Сердце наше предвещало Бедство нам и скорбь и слезы; Мы, полки все предваряя, На коней воссели легких, Скачем быстро и несемся. Но, о зрелище ужасно! Рабынь наших мы сретаем, — И несут уж хладно тело Твоей матери Препеты; „Поспешай, – тебе вещала Мать твоя чуть слышным гласом, — Поспешай, коли возможно. Чаромила унесенна Вождем кельтским в ладию…“ Хлад и смерть вдруг распростерлись, Очи меркнут – прервалося Ее томное дыханье, И – душа вон излетела…» Старец умолк – и, очи поникши, стоял неподвижен, Будто на казнь осужденный. Протекшие скорби предстали Живы уму его, силою воображенья. Хладеет Кровь в его жилах; колена трепещут; дыханье стесненно Грудь воздымало его. – Восседает. – Юноша, к старцу Очи, исполненны слез, обративши, тако вещает: «Мы шли с воинством поспешно… Я, с друзьями тут моими Отделясь от всех далеко, Вниз по Волхову неслися. Но, увы! уж поздно было. Погрузив корысти многи, Сребро, злато и каменья, Рухлядь мягкую богату — Хладна Севера избытки, Жен и дев восхитив многих, Враги наши плыли скоро, Плыли вниз, едва лишь видны. Не вдаваяся напрасну Мы отчаянью, обратно Мы помчались к Новуграду. Тут, встречаясь с ополченьем Сих врагов неистозлобных, Мы карали их измену, Гнали, били и мертвили, И во Новгород вступили По телам сих лютых воев. Но возможно ли воспомнить Те минуты равнодушно, Те минуты преужасны, Как мы в Новгород вступили? По стогнам летала Смерть люта и бледна, Широко простерши Чугунные крылья. Уж воинство кельтско, Досель разлиянно В домах и по стогнам Велика Новграда, Стекалось в едино, Внушая веленью Вождей своих лютых. Мы, ударив На них строем, Опровергли Их, попрали И достигли Скоро, скоро Того места, Где на вече Собирался Народ мирный. Тут Ингвар, сей Вождь суровый И вождь лютый, Связав руки Вервью тяжкой Ста дев, вел их В плен, в неволю. Увидев ужасно Сие посрамленье, Как львы возревели Мы ярости гневом И буйны стремились На воинство кельтско, Старались отнять весь Их плен и добычу. Сталь сверкнула, Смерть взлетела. Мы разили Врагов сильно; И удары От них страшны Мы терпели, Но вломились Все мы строем В полки кельтски. Наконец их Опрокинув, Смерть им в сердце Наносили И, стараясь Дать свободу Девам пленным, Тьмы врагов мы Истребили И их души Вероломны, В крови черной Источенны, Отослали В царство Ния. Но, ах, пагубна победа! Враги наши, стервененны Поражением толиким, В грудь пронзали всех дев пленных. А хотя мы извлекали В грудь вонзенну харолугу, Но душа, душа томленна Излетала вслед за сталью И лилася в крови дымной. Ингвар, зря тут Неудачу, Отступает, В строй поставя Все останки Своих воев; Отступает Во порядке, В строю дивном К струям желтым, Он в ладьи тут Восседает; Он увез трех Дев с собою, Дев прекрасней Всех во граде, — И, ах, с ними Чаромилу!» «О, друг мой юный! – глас возвыся, Седглав тут рек. — Настал уж день и час отмщенья; Зри, многие полки славянски Уже стекаются отвcюду; Услыши радостны их клики: Се смерть, – гласят, – се пагуба врагам! Бесчисленны ладьи готовы Нести сих славных ратоборцев Поверх валов Варяжска моря. Народ славянский, помня все заслуги Отцов твоих, отцов моих И ведая, сколь мне Перун всесильный благотворен, Сколь мил ему первейший его жрец, Тебя единым гласом все колена Вождем своим уж нарекли. Гряди, гряди на брань И смело подвизайся, Карай, рази врага, им отомщая Все раны, кои он нанес Тебе и мне и нашему язы́ку; Неси ты бурный огнь в селенья кельтски; Лей кровь… ах! для чего Бессильные мои рамена Подъять не могут брони тяжкой, Я был бы вождь полков славянских И, мщеньем ярости Непримиримыя пылая, Вращал бы меч мой обоюдный В груди и недрах сопостатов, Отмщая смерть моей супруги; Из трупов бы врагов, попранных долу, Престол воздвигнувши высокий, Тебе, Перун, тебе я сердце, Из груди вражьей извлеченно, Тебе бы в жертву я принес. О! бог, всесильный бог! — Вещал Седглав тут в исступлении, — Отверзи очи ты души моей, И книга будущих судеб Да предо мною разогнется!» Тут юноша простерся долу В благоговении сердечном; Воздел на небо руки жрец. Вихри сильны вдруг взвилися, Буйны ветры тут завыли, С тучей буря налетела, Сиза молния сверкнула, Гром ударил с треском сильным, Поразил сосну священну, И сосны верх возгорелся. В исступленьи необъятном Жрец, стрясаем богом сильным, Громким гласом восклицает: «О! род ненавистный Славянску языку! Се смерть, сто разинув, Сто челюстей черных, Прострет свою лютость В твою грудь и сердце! Восплачешь, взрыдаешь: Не будет спасенья Тебе ниоткуда… Но… увы! мы только мщенье, Мщенье сладостное вкусим!.. А враг наш не истребится… Долго, долго, род строптивый, Ты противен нам пребудешь… Но се мгла мне взор объемлет, Скрылось будущее время… Зрю еще, – о сын любезный, Ты по странствиях далеких Наконец обрящешь живу Ты любезну Чаромилу, — Но я того уже не узрю…» И се удар громовый повторился, Земля трясется; жрец воскликнул: «Иди, мой сын, иди, Иди, о друг мой юный. Се слава в облаке златом Плетет тебе венец лавровый. Зри, там чертог божественный отверст, Он ждет тебя и восприимет, Когда увянешь, не дожив Блаженных поздных дней; Но если смерть в полете своем быстром Тебя на ратном поле дальном Щадить не перестанет И лютая ее коса Тебя минует и допустит Главу твою покрыться Сребристыми космами, Тогда блаженны дни твои пребудут В объятиях супруги милой, В среде любезного семейства, Семейства многолюдна. Спеши; се зрю, полки славянски и́дут, Несут булатны свои копья, Несут, как лес густой, — О, радость мщения, играй, Играй ты в томном моем сердце; Сие последнее да будет Мне, старцу, утешенье, Вознесшему уж ногу в гроб, Иди, спеши, о сын любезный! Победы лавр пожни блестящей; Тебя еще да узрят мои очи, Сим лавром увенчанна». Жрец умолк и лобызает Своего любезна сына; Строй идет, и звонки трубы В путь зовут всех ратоборцев. Вспламененный отчим словом, Буйный юноша в восторге Тяжку броню воздевает. Шлем взложил на верх свой гордый, Меч висит у бедр тяжелый, Щит, копье в его руках: «Прости, отче!» – он отходит. Вои радостны воспели Песни яру Чернобогу. Жрец возвысил глас свой громкий, Рек пророческое слово: «О Перун, о бог всесильный! Буди им поборник в бранях, Буди в бедствиях защита; О народ, народ преславный! Твои поздные потомки Превзойдут тебя во славе Своим мужеством изящным, Мужеством богоподобным Удивленье всей вселенной; Все преграды, все оплоты Сокрушат рукою сильной, Победят – природу даже, И пред их могущим взором, Пред лицом их, озаренным Славою побед огромных, Ниц падут цари и царства. О потомки!..» – но гром грянул, Жрец умолк – он ощущает, Что шествует в величьи тихом бог. 1801—1802Осьмнадцатое столетие
Урна времян часы изливает каплям подобно: Капли в ручьи собрались; в реки ручьи возросли И на дальнейшем брегу изливают пенистые волны Вечности в море; а там нет ни предел, ни брегов; Не возвышался там остров, ни дна там лот не находит; Веки в него протекли, в нем исчезает их след. Но знаменито вовеки своею кровавой струею С звуками грома течет наше столетье туда; И сокрушил наконец корабль, надежды несущий, Пристани близок уже, в водоворот поглощен, Счастие, и добродетель, и вольность пожрал омут ярый, Зри, восплывают еще страшны обломки в струе. Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно мудро. Будешь проклято вовек, ввек удивлением всех, Крови – в твоей колыбели, припевание — громы сраженьев, Ах, омоченно в крови ты ниспадаешь во гроб; Но зри, две вознеслися скалы во среде струй кровавых: Екатерина и Петр, вечности чада! и росс. Мрачные тени созади, впреди их солнце; Блеск лучезарный его твердой скалой отражен. Там многотысячнолетны растаяли льды заблужденья, Но зри, стоит еще там льдяный хребет, теремясь; Так и они – се воля господня – исчезнут, растая, Да человечество в хлябь льдяну, трясясь, не падет. О незабвенно столетие! радостным смертным даруешь Истину, вольность и свет, ясно созвездье вовек; Мудрости смертных столпы разрушив, ты их паки создало; Царства погибли тобой, как раздробленный корабль; Царства ты зиждешь; они расцветут и низринутся паки; Смертный что зиждет, всё то рушится, будет всё прах. Но ты творец было мысли: они ж суть творения бога, И не погибнут они, хотя бы гибла земля; Смело счастливой рукою завесу творенья возвеяв, Скрыту природу сглядев в дальнем таилище дел, Из океана возникли новы народы и земли, Нощи глубокой из недр новы металлы тобой. Ты исчисляешь светила, как пастырь играющих агнцев; Нитью вождения вспять ты призываешь комет; Луч рассечен тобой света; ты новые солнца воззвало; Новы луны изо тьмы дальней воззвало пред нас; Ты побудило упряму природу к рожденью чад новых; Даже летучи пары ты заключило в ярем; Молнью небесну сманило во узы железны на землю И на воздушных крылах смертных на небо взнесло. Мужественно сокрушило железны ты двери призраков, Идолов свергло к земле, что мир на земле почитал. Узы прервало, что дух наш тягчили, да к истинам новым Молньей крылатой парит, глубже и глубже стремясь. Мощно, велико ты было, столетье! дух веков прежних Пал пред твоим олтарем ниц и безмолвен, дивясь. Но твоих сил недостало к изгнанию всех духов ада, Брызжущих пламенный яд чрез многотысящный век, Их недостало на бешенство, ярость, железной ногою Что подавляют цветы счастья и мудрости в нас. Кровью на жертвеннике еще хищности смертны багрятся, И человек претворен в люта тигра еще. Пламенник браней, зри, мычется там на горах и на нивах, В мирных долинах, в лугах, мычется в бурной волне. Зри их сопутников черных! – ужасны!.. идут – ах! идут, зри: (Яко ночные мечты) лютости, буйства, глад, мор! — Иль невозвратен навек мир, дающий блаженство народам? Или погрязнет еще, ах, человечество глубже? Из недр гроба столетия глас утешенья изыде: Срини отчаяние! смертный, надейся, бог жив. Кто духу бурь повелел истязати бунтующи волны, Времени держит еще цепь тот всесильной рукой: Смертных дух бурь не развеет, зане суть лишь твари дневные, Солнца на всходе цветут, блекнут с закатом они; Вечна едина премудрость. Победа ее увенчает, После тревог воззовет, смертных достойный… Утро столетия нова кроваво еще нам явилось, Но уже гонит свет дня нощи угрюмую тьму; Выше и выше лети ко солнцу, орел ты российский, Свет ты на землю снеси, молньи смертельны оставь. Мир, суд правды, истина, вольность лиются от трона, Екатериной, Петром вздвигнут, чтоб счастлив был росс. Петр и ты, Екатерина! дух ваш живет еще с нами. Зрите на новый вы век, зрите Россию свою. Гений хранитель всегда, Александр, будь у нас… 1801—1802Приложения
Завещание
Совершилося.
Если завещание сие, о возлюбленные мои, возможет до вас дойти, то приникните душою вашею в словеса несчастного вашего отца и друга и внемлите.
Помните, друзья души моей, помните всечасно, что есть бог и что мы ни единого шага, ниже единыя мысли совершить не можем не под его всесильною рукою. Помните, что он правосуден и милосерд, что доброе дело без награды не оставляет, как и без наказания худое. И так всякое дело начинайте, призвав его к себе в помощь, и прибегайте к нему теплыми молитвами. О коликое утешение в нем обрящете!
Когда вы, возлюбленные мои сыновья, вступите в службу, почитайте исполнение вашея должности первейшею добродетелью, без коей вы блаженны быть не можете. Будьте почтительны и послушны непрекословно к вашим начальникам, исполняйте всегда ревностно законы ее императорского величества. Любите, почитайте паче всего священную ее особу, и даже мысленно должны вы ей предстоять с благоговением. Старайтеся заслужить ее к себе милости повиновением и ревностию во исполнении на вас возложенного.
Будьте почтительны, о чада души моей, к вашим родным и ко всякому человеку, кто вас летами старее, и снисходительны к тем, кто вас моложе. Будьте милосердны к вашим служителям и снисходительны. Паче всего почитайте и не преступайте велений тех, которые служили вам вместо матери во младенчестве вашем. Помните, что мать ваша, умирая, поставила над вами вместо себя сестру свою и друга, тетку вашу Елисавету Васильевну, которую, доколе живы будете, матерью именуйте.
А вы, о сотрудницы в вскормлении детей моих, коих безумие мое ввергло в скорбь, печаль и уныние, последуйте моему последнему совету.
Мызу, в которой жительствует мать ваша, хотя принадлежит вам обще с детьми моими, оставьте в ее распоряжении до кончины ее. Дом в городе, в котором мы жительство имели, я вам советую продать, возвратив Стальцу полы, которые лежат на верху, за которые деньги не отданы. Выкупить вещи, заложенные в ломбарде, и их продать можно с выгодою. Доколе вы будете жить вместе, то не советую вам продавать дома в Миллионной и мызы, но на вырученные деньги продажею дома выкупить заложенной в банке. Но поставить на мере и определить заранее и ныне, что кому иметь должно. Завещаю детям моим быть довольными тем, что вы им дадите на удел их матери, ведая, что вы их не обидите. Если же вам вместе жить будет невозможно, то надобно будет продать или двор, или мызу.
Купленное мною место от Фридрихсовой вдовы я отдаю навсегда Елисавете Васильевне в придачу к тому, которое она имеет рядом от казенной палаты из платежа поземельных денег. А она отдаст его дочери моей Катерине после себя, если она то заслуживать будет.
Батюшку и матушку попросить, чтобы они не оставили моих детей и простили бы несчастному их сыну печаль, в которую он их повергает. Батюшку просить так же, чтобы всех моих людей отдал в распоряжение Елисаветы Васильевны; чтобы пожаловал отпускные за долговременную их и беспорочную службу при мне людям моим Петру Иванову и Давыду Фролову с женами их и отпускные отдал бы в распоряжение Елисаветы Васильевны. Уверен, что и они не оставят дома моего до возраста совершенного моих детей. Исходатайствовать отпускную Марье Дементьевой за заслуги умершего ее мужа. Елисавету Васильевну прошу девку ее Анну Дорофееву отпустить замуж по ее желанию.
Детей моих несчастных повергаю пред престол милосердия ее императорского величества.
У всех моих родственников просить за меня прощения, если я их чем-либо оскорбил.
За сим, о возлюбленные мои, прижмите меня к сердцу вашему и, если то возможно, забудьте несчастного.
А. Радищев.
В дополнение к моему завещанию
Если о детях моих ничего определено не будет, то прошу старшего по мне брата Моисея Николаевича взять на себя попечение о воспитании сыновей моих. Больших Василья и Николая отдать в пансион, а меньшого Павла в какое-либо училище или как он заблагорассудит. Дочь мою Катерину прошу оставить в распоряжении Елизаветы Васильевны, которая, надеюся, от нее не отречется по завещанию ее матери.
Если же дети мои будут пристроены и имение моего покойного тестя разделено, то, любезныя мои сестры, послушайте моего совета. Если вы намерены будете жить вместе обе домом, то не имейте и не держите никого у себя в доме, ни под каким предлогом. Знаете сами, сколь много сия предосторожность удаляет всякие нарекания, неприятности и домашние раздоры и облегчает неминуемые издержки в доме. Если же вместе жить не будете, как то я думаю, то Дарье Васильевне советую идти замуж, стараяся избрать себе в мужья человека благонравного, с которым она может жить счастливо. Зная весьма чувствительное сердце Елисаветы Васильевны и худое ее здоровье, я такого же совета ей дать не смею. Время и обстоятельствы ее сердце могут ее наставить, идти ли ей замуж или нет.
Простите, мои возлюбленные! Ах, можете ли простить несчастному вашему отцу и другу горесть, скорбь и нищету, которую он на вас навлекает? Душа страждет при сей мысли необычайно и ежечасно умирает. О, если бы я мог вас видеть хотя на одно мгновение, если бы мог слышать только радостные для меня глаголы уст ваших, о, если бы я расслышать мог из уст ваших, что вы мне отпускаете мою вину… О мечта!
Сон, о сон, единственное в бедствии успокоение, блаженство плачевное в несчастии, приди на услаждение страждущего сердца… О мечта возлюбленная! я с вами беседую; вас держу в объятиях моих. О друзья души моей, о дети моего сердца, вы со мною, голос ваш ударяет в мое слышание… Куда спешите, постойте, я… я – отец ваш, я друг ваш… Увы, се мечта… О пробуждение, я их враг, от кого они скорбят? От меня… Несчастной!
Вослед Радищеву…
«Иль невозвратен навек мир, дающий блаженство народам. Или погрязнет еще, ах, человечество глубже?»
А. Н. РадищевПролог
15 апреля 1858 г. в Лондоне вышел очередной, 13-й номер газеты «Колокол». Читающая Россия нетерпеливо ждала этого восьмистраничного издания, которое являлось на свет с лета прошлого года: сначала раз в месяц, потом – через две недели…
Имя главного редактора и главного автора газеты, который чаще всего подписывался псевдонимом Искандер, знали уже все – Александр Герцен.
Несколько номеров назад на страницах «Колокола» открыто объявил свое имя и второй редактор – Николай Огарев.
Смысл, дух, направление «Колокола» легко обнаруживались в каждом выпуске. В «нашем», 13-м номере, как и во всех других, прямо под заглавием – знаменитый эпиграф, лозунг «Vivos voco!» («Зову живых!»); рядом лондонские адреса издательства, типографии, по которым можно присылать письма, корреспонденцию.
Два друга, два писателя в течение десяти лет будут собирать «Колокол», заряжать его своими статьями, заметками, стихами, обрабатывая сотни корреспонденций, тайно пришедших из России, выполняя работу, которая обычно под силу целому редакционно-издательскому коллективу. При этом, однако, их поле сражения отнюдь не умещается на восьми, порою шестнадцати типографских страницах «Колокола», ставшего позже еженедельником.
В горячие годы общественного подъема, накануне освобождения крестьян, «текущий момент», кроме свободной газеты, представляли также сборники «Голоса из России»: в этих небольших книжках печатались разнообразные письма и статьи, с которыми лондонские издатели были не совсем согласны или даже совсем не согласны, и все же, споря, печатали, приглашали еще присылать и снова спорили…
Всего этого Герцену и Огареву было, однако, мало. Они стремились вернуть свободу, дать слово и нескольким предшествующим поколениям: декабристам, Пушкину и его друзьям, деятелям XVIII в. – тем, кто не мог при жизни опубликовать важные труды или сумел, но заплатил за то эшафотом, каторгой, изгнанием… Прямым предшественником «Колокола» был альманах «Полярная звезда», где Герцен регулярно печатал главы из своих воспоминаний «Былое и думы»; рядом – стихи и статьи Огарева, запретные, впервые публикующиеся стихи Пушкина, Лермонтова, воспоминания и документы декабристов. «Полярная звезда», можно сказать, оживляла целую треть столетия, прошедшего со времени первой, декабристской, рылеевской «Полярной звезды»… Однако и до декабристов вспыхивала и подавлялась свободная мысль; люди первых лет XIX, последних десятилетий XVIII в. тоже ожидали «волшебного слова», которое снимет с них официальное заклятие.
В недалеком будущем, кроме «Колокола», «Голосов…» и «Полярной звезды», Герцен и Огарев соберут, откомментируют, поднесут читателям еще одно издание – «Исторические сборники Вольной русской типографии».
Однако и этого всего двоим издателям недостаточно: ищут новые труды, изобретают новые издания – чтобы потайными, контрабандными путями отправлять листки жаждущим вольного слова российским студентам, гимназистам, семинаристам, военным и статским чиновникам, литераторам. Отправлять через Петербург, Одессу, китайскую границу – в замаскированных посылках, особых чемоданах, среди дров (на кавказской границе), в пустых гипсовых бюстах (на петербургской таможне)…
На последней странице 13-го «Колокола» – извещение об одном из ближайших изданий: «Печатается Князь М. М. Щербатов и А. Радищев (из екатерининского века). Издание Трюбнера с предисловием Искандера».
В объявлении всего несколько слов, но каждое заслуживает разбора.
Печатается…
Герцен и Огарев прекрасно знали эффект предварительной рекламы, принцип, хорошо известный опытным шахматистам, – «угроза сильнее выполнения». В «Колоколе» регулярно сообщалось, что, например, печатается и вскоре будет опубликовано подробное разоблачение уголовной деятельности такого-то министра; министр, бывало, ждет несколько недель, трепеща от страха, – что же узнали про него в Лондоне и не придется ли сразу после этой публикации отправляться к царю с просьбой об отставке? Герцен же нередко продлевал пытку и, спустя один-два номера, объяснял читателям, что материал о министре уже набран, но просто его никак не удается «втиснуть» меж другими крайне любопытными статьями и документами; но вот наступал день, когда министр вместе со всей читающей Россией открывал «Колокол» и находил: «Посторонитесь, господа, посторонитесь, его сиятельство изволит идти… дайте дорогу министру! И мы все статьи „Колокола“ подвинули… пожалуйста, ваше сиятельство, на первое место».
В другой раз так же появилось сообщение, что печатается и скоро выйдет издание мемуаров Екатерины II. Несколько месяцев объявление повторялось почти в каждом «Колоколе», вызывая в Петербурге страх, злобу и растерянность: секретные, скандальные записки императрицы давно лежали в государственном архиве за семью печатями; раз в несколько десятилетий, в присутствии важных чиновников, печати снимались, рукопись забирали исключительно для царского пользования, а затем запечатывали обратно. Но вот «государственные преступники» Герцен и Огарев объявляют и повторяют, повторяют, что готовят вольное издание, и явно сдержат слово.
Объявление в 13-м «Колоколе» было, конечно, не столь страшным для престола, как только что описанное, и все же свидетельствовало о большой, всепроникающей силе лондонских издателей.
Князь М. М. Щербатов…
Известный историк, государственный деятель, занимавший министерские должности, скончался в 1790 г., Екатерина II тут же распорядилась, чтобы бумаги этого государственного человека (среди которых немало секретных) были осмотрены и доставлены во дворец. Приказ был исполнен; однако семья историка вовремя припрятала несколько рукописей, где князь без всякого стеснения, с предельной откровенностью отзывался и о положении в России, и о придворных нравах, и, наконец, о самой императрице, ее предшественниках на троне.
Около 70 лет потаенные сочинения Щербатова пролежали «под спудом», в сундуке, перевезенном в его ярославское имение. Однако всему свой черед, и в 1855 г., то есть за три года до описываемых событий, историки получили от потомков князя несколько его смелых сочинений; кое-что удалось напечатать в тогдашних российских журналах, некоторые же статьи были столь остры, в них такое говорилось о Екатерине II, прабабушке царствующего императора Александра II, что даже сильно подобревшая цензура конца 50-х годов не решилась пропустить без потерь старинные тексты, особенно один из них под красноречивым названием «О повреждении нравов в России». Он будет напечатан на родине только в конце XIX в., но Герцен и Огарев почти на полвека опережают российские запреты: князь М. М. Щербатов громко, на всю Россию и Европу объявлен автором Вольной русской печати. Рядом же другое имя —
А. Радищев…
Михаил Михайлович Щербатов представлен будущим читателям с обоими инициалами, Александр Николаевич Радищев – только с одним. По всей видимости, Герцен и Огарев не знали полного имени-отчества этого писателя. Более того, они сочли нужным после двух имен сделать пояснение —
Из екатерининского века…
Должно быть, многие читатели 1858 г. не догадаются – что за люди? из какой эпохи?
Нам сегодня, столь хорошо знающим, кто такой Радищев и что он написал, подобное неведение кажется необъяснимым. Действительно, здесь таится загадка, может быть, не одна, и мы попытаемся найти ответ в ходе последующего рассказа; пока же – дочитаем объявление в «Колоколе».
Издание Трюбнера…
Николай Трюбнер, немецкий издатель, поселившийся в Англии, самоотверженно верил в счастливую звезду Герцена и взял на себя выпуск его трудов еще в то время (начало 50-х годов), когда они не имели никакого успеха и совсем не расходились по России и Европе. Теперь «добродетель вознаграждена», и по мере роста, усиления общественного движения в России спрос на «Колокол» и другие вольные издания все сильнее; тиражи, по сегодняшним понятиям, небольшие – 1500—3000 экземпляров (впрочем, многие книги переиздаются); но, учитывая, что в ту пору число грамотных в России не превышало 5—6%, это цифра довольно значительная.
Искандер…
Как видно, к середине апреля 1858 г., к моменту объявления о новом издании, Герцен уже все обдумал: и то, что столь разные люди «екатерининского века», как Щербатов и Радищев, будут соединены в одну книгу, и то, что эта книга откроется предисловием самого Принципала (главнейшего – так в шутку называли Герцена немногочисленные его сотрудники).
До наших дней сохранилось мало экземпляров этого уникального издания; до последнего времени их можно было получить только в отделах редких книг крупнейших библиотек страны. Недавно, однако, издательство «Наука» выпустило факсимильное воспроизведение книги «О повреждении нравов в России князя М. М. Щербатова и Путешествие А. Радищева», и теперь она стала, конечно, общедоступной…
Общедоступной, но интересной ли?
Мы, разумеется, отдадим должное Герцену за то, что он напечатал Радищева, но ведь «Путешествие из Петербурга в Москву» совсем не нужно читать по старому изданию 1858 г.: его проходят в школе, издают и переиздают постоянно.
Что же есть такого в лондонском издании, что приблизило бы нас к первому русскому революционеру, помогло бы узнать о нем новое, существенное, чего бы мы не могли отыскать в любом современном воспроизведении Радищева? Участвуя в подготовке факсимильного издания (вышедшего в 1983 г.), автор этих строк попытался вслед за многими исследователями еще поразмышлять над судьбой Радищева и его труда; ему кажется, что, начав с Герцена, с «Колокола» 1858 г., можно выйти на интересную многообещающую «тропу» загадок и отгадок; попробуем же пройти по ней не торопясь…
С екатерининских времен
Надо начинать с первой авторской мысли, еще далекой от книжного завершения, а затем – с первых строк, страниц.
Историки, литераторы не могут решить вопроса, когда сформировался Радищев-мыслитель. Может быть, следует начинать с раннего детства Александра Радищева, появившегося на свет в Москве 20 августа 1749 г. и многие детские годы проведшего в саратовском имении?
Самое крепостническое время: ровно через сто лет после окончательного оформления крепостного права и за 112 лет до его отмены. Самое крепостническое место: черноземный барщинный край, тысячи мужиков, принадлежащих богатейшим помещикам Радищевым.
Как просто было бы построить удовлетворительную схему: помещичий мальчик, старший среди одиннадцати братьев и сестер, наблюдает крепостнические ужасы и восстает против них. Однако сотни подобных же мальчиков ни о чем похожем не помышляли. К тому же Радищевы были помещиками добрыми: весьма знаменательно, что во время восстания Пугачева крестьяне их не выдали, но спрятали между собою, нарочно измазав сажей и грязью.
Тут, впрочем, есть над чем задуматься нынешним и будущим исследователям. У большинства декабристов, судя по воспоминаниям, были (за редчайшим исключением) добрые, честные родители – сравнительно мягкие помещики, чиновники. Оказывается, именно из таких семей, а отнюдь не из самых «зверинских» выходили будущие борцы против «своего» уклада; в детстве они не видели или почти не видели дурных образцов, и тем более сильным было негодование в юные и зрелые годы.
География российского освободительного движения и культуры, к слову заметим, тоже весьма причудлива. В первые десятилетия после реформ Петра, казалось бы, трудно представить их слишком заметные результаты в провинции; но многие виднейшие деятели XVIII столетия – Державин, Карамзин, Дмитриев, Радищев – росли не в столицах, а на краю империи, в глухих имениях Поволжья, Заволжья.
Как видим, известная таинственность сопровождает таких людей, как Радищев, с раннего детства…
Может быть, предыстория «Путешествия из Петербурга в Москву» начинается с появления Радищева-мальчика во второй столице (освоение языков, знакомство с Монтескье, Руссо, Вольтером и многими другими авторами, в то время модными – позже «опасными»). Однако и здесь прямых «первопричин» не отыскать: Радищев вместе с другими образованными юношами вскоре оказывается при дворе, он паж Екатерины II, и у нас нет решительно никаких данных, будто царица и господствующая система вызывали у него в ту пору ненависть, противодействие. Скорее наоборот: по должности постоянно наблюдая императрицу, Радищев хорошо исполнял свое дело, верил в просвещенный прогресс. В первые годы нового царствования казалось, что «все к лучшему». Наконец, Лейпциг, куда Радищева вместе с другими знатными юношами посылают учиться. Посылают с той же целью, с какой полвека спустя будет учрежден Царскосельский лицей: получение необходимых знаний для последующей государственной службы.
В 1771 г. 22-летний Радищев возвращается домой. Он заметен и замечен. Саратовское детство, московское отрочество, петербургская и лейпцигская юность – многое отсюда будет взято и перенесено в будущую главную книгу, но вряд ли автор «Путешествия из Петербурга в Москву» в начале 1770-х годов различает свою необыкновенную судьбу даже «сквозь магический кристалл»… Снова повторим, что многознание об этом человеке пока что не сильно помогает. В самом деле, вот несколько дат (личных и «общих»); и как отыскать между ними главную автобиографическую тайну?
1771 г. Радищев – протоколист в Сенате, где знакомится с множеством судебных дел по разным предметам.
1772 г. В журнале Н. И. Новикова «Живописец» печатается «Отрывок путешествия В*** И*** Т***»; часть исследователей издавна соглашается, а часть – оспаривает утверждение Павла Радищева, сына писателя, будто это первый печатный фрагмент будущего «Путешествия».
1773 г. Начало службы обер-аудитором (юридическим советником) Финляндской дивизии. В это время и позже он много переводит, пишет.
1773—1775 гг. Восстание Пугачева.
1774 г. Радищев вступает в привилегированный Английский клуб.
1775 г. Отставка в приличном чине секунд-майора. Женитьба на Анне Васильевне Рубановской. У них будет четверо детей.
1776—1783 гг. Война за независимость Соединенных Штатов.
1777 г. Радищев вступает в гражданскую службу на петербургской таможне в чине коллежского асессора. Награждение орденом.
1779—1780 гг. Сочинено «Сотворение мира», позже вошедшее в «Путешествие из Петербурга в Москву».
1780 г. Он – помощник управляющего санкт-петербургской таможней, в том же году сочинено «Слово о Ломоносове», будущая глава из «Путешествия».
1785—1786 гг. Сочинение острейших глав будущей книги: «Медное» (о продаже крепостных с публичного торга), «Торжок» (о цензуре) и др.
1789 г., 14 июля (н. ст.; по старому – 3 июля). Начало Великой французской революции.
22 июля (ст. ст.). Петербургский обер-полицмейстер Н. И. Рылеев разрешает публикацию «Путешествия из Петербурга в Москву».
1790 г., январь. В домашней типографии Радищева начинается набор книги. Автор вносит в текст новые изменения.
Февраль. Радищев назначается директором санкт-петербургской таможни.
Конец мая – начало июня. Тираж книги – около 650 экземпляров – отпечатан. На титульном листе нет имени автора, названия типографии и цензурного разрешения; в эпиграфе «чудище обло, озорно…», заимствованное из поэмы Тредиаковского «Тилемахида» и символизирующее ненавистное рабство, – еще «усилено» против оригинала: в поэме чудище было «тризевно», то есть имело три глотки, у Радищева же – «стозевно»…
Легко заметить, что в нашей хронологической сводке сплетается несколько смысловых рядов. Во-первых, удачная карьера, что должно бы, «по здравому разумению», охладить вольнолюбивые порывы Радищева: возглавлять петербургскую таможню, крупнейшую в стране, – должность очень перспективная, которая через несколько лет может вывести ее обладателя на «министерский пост» (особенно если учесть покровительство и благожелательство высшего начальника Александра Романовича Воронцова).
Другая линия – личная, семейная. Счастливый брак, затем – смерть жены; четверо малолетних детей; к тому же 41 год в ту пору считался возрастом куда более почтенным, чем теперь. В общем, семейный статус тоже, казалось бы, должен сдерживать горячий порыв.
Наконец – восстания, революции: однако при Пугачеве молодой Радищев поступает в Английский клуб; свою книгу в целом собрал еще до начала Французской революции.
Правда, в одном из переводов Радищев нападает на тиранов и пишет, что самодержавие – «наипротивнейшее человеческому естеству состояние»; смелые строки есть и в других сочинениях, но многие из них беспрепятственно выходили в печать, и за это автору «ничего не было»… В общем, давая известный простор воображению, можно из многих биографических фактов вывести начало, предысторию «Путешествия»; но в то же время каждый такой довод легко оспорить.
И все равно остается главнейший, интереснейший вопрос: что заставило вполне преуспевающего, немолодого семейного человека «вдруг» обнародовать самоубийственную книгу, где выносится смертный приговор крепостничеству и самодержавию? Строго «научного» ответа нет.
1790-й…
Год первого издания «Путешествия из Петербурга в Москву». Середина июня. 26 экземпляров «Путешествия» поступают в книжную лавку петербургского купца Герасима Зотова. Сверх того автор рассылает несколько книг – А. Р. Воронцову, Г. Р. Державину и другим. Экземпляр, посланный А. М. Кутузову (друг Радищева, которому посвящена книга), до него не дошел.
25 июня. Экземпляр «Путешествия» на столе Екатерины II. Существовала версия, будто книгу принес Державин; недавно против этого возразил В. А. Западов, доказывая, что Радищеву «удружил» А. Д. Балашов, юный паж, занимавший при Екатерине прежнюю «радищевскую» должность (тот самый Балашов, который в начале XIX в. достиг высоких постов, был отправлен Александром I к Наполеону сразу после начала войны 1812 г. и стал одним из персонажей романа Толстого «Война и мир»).
Екатерина II читает книгу внимательно, толково: отмечает безошибочно самые острые места, быстро определяет, что автор – «бунтовщик хуже Пугачева», и только не понимает, какими мотивами он руководствовался. Ситуация столь фантастическая, дикая для императрицы, что она видит два возможных объяснения радищевского поступка: огорчение по службе или стремление к легкой писательской славе (позже, на допросах, Радищев, по-видимому, предупрежденный Воронцовым, принял вторую версию, так что Екатерина II до конца дней, вероятно, находила здесь только «литературное честолюбие»).
29 июня. Арест купца Зотова, который называет Радищева.
30 июня. Арест самого Радищева.
13 июля. Приговор книге, которая объявлена «зловредной», и велено, «дабы она, нигде в продаже и напечатании здесь не была под наказанием, преступлению сему соразмерным».
24 июля. Смертный приговор Радищеву. Полтора месяца он ожидает казни.
4 сентября в связи с заключением удачного мира со Швецией казнь заменена 10-летней ссылкой в Илимский острог.
Не раз специалисты спорили, на что рассчитывал Радищев? Ответить нелегко, потому что для того нужно превратиться в людей конца XVIII столетия, проникнуться психологией самого автора и его читателей. Высказывались мнения, будто Радищев, хоть и в предельно острой форме, обращался к Екатерине II, «философу на троне»; что помнил сравнительную мягкость властей по отношению к смелым писателям прежних лет (например, Фонвизину), да не учел, что времена изменились и после 1789 г. власть куда более настороженна и агрессивна.
Большинство ученых с этим не согласны, настаивают, что Радищев знал, на что шел.
Разумеется, мы нисколько не хотим принизить удивительного самоубийственного подвига. Объективно книга Радищева оказалась первым революционным документом в России. Думаем, что значение ее ничуть не умаляется тем, что сам автор надеялся – вдруг «пронесет»! К тому же, как известно, друг и покровитель Радищева Александр Воронцов (одна из самых важных персон в империи) после приговора не изменил своего отношения к осужденному, как мог, помогал ему – то есть, по-видимому, находил свои резоны в поступках бывшего подчиненного.
Странная судьба у книг: иногда они издаются миллионами, но притом их все равно «как бы и нету». Несколькими тысячами экземпляров измеряются тиражи лучших произведений русской литературы конца XIX столетия: 1200 экземпляров – таков тираж «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Повестей Белкина». Радищевская же книга, одна из самых знаменитых, всего около 650; к тому же можно сказать, что из них 600 «не сдвинулось с места» и было истреблено автором в ожидании обыска и ареста. Всего 26 экземпляров на продажу и несколько – в подарок. В иных случаях, оказывается, достаточно для бессмертия!
За эти три десятка книг автор отправляется далеко на восток и пишет по дороге одно из замечательнейших стихотворений:
Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? — Я тот же, что и был и буду весь мой век: Не скот, не дерево, не раб, но человек! Дорогу проложить, где не бывало следу, Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах, Чувствительным сердцам и истине я в страх В острог Илимский еду.1790 г. До второго, герценовского издания – 68 лет…
1790—1802
Двенадцать лет жить им вместе, автору и книге. Автор в Сибири, за ним едет сестра умершей жены Елизавета Васильевна Рубановская. В Илимске – женятся: спутница предвосхищает будущий подвиг декабристок.
В Сибири рождается еще трое детей. Затем – смерть Екатерины II; Павел I амнистирует Радищева. Известие приходит лютой сибирской зимой, но не было сил дожидаться еще хоть несколько месяцев. Радищевы пускаются в бесконечный, опасный путь домой; Елизавета Васильевна по дороге простужается и умирает. Придя в себя, отогревшись в имении Воронцова, сам автор «Путешествия» прибывает в назначенное ему новое место ссылки, село Немцово Калужской губернии.
1796—1801 – калужская ссылка.
1801—1802 – полная амнистия, возвращение в Петербург, государственная служба, самоубийство.
Вот и все о человеке.
Но вторая его биография – книга.
Печатных экземпляров почти не остается. Кроме тех шестисот, что сжег сам Радищев, позже уничтожается еще шесть конфискованных книжек. Сейчас, два века спустя, известно лишь 13 типографских экземпляров «Путешествия», сохранившихся у нас в стране, а также две или три книги за границей.
В то же время, согласно сообщению саксонского дипломата и писателя Георгия Гельбига, «конфискации книги (в 1790 г.) все-таки не помешали тому, чтоб она стала известна. В России появились списки с этой книги, и несколько экземпляров проникло даже за границу». В 1793 г. был сделан немецкий перевод шести глав «Путешествия».
Книги печатные уменьшались в числе. Зато пошли списки.
К 1935 г. было учтено 28 списков «Путешествия», к 1956 г. – 65, в начале 70-х годов – 80, в настоящее время – около ста. Столь большое количество копий – факт, сам по себе примечательный, но в общем легко объяснимый. Куда более загадочным оказалось другое обстоятельство, впервые замеченное еще в начале XX в., но по-настоящему осознанное и изученное только в наши дни. Дело в том, что между разными списками обнаружились очень существенные различия, так что в настоящее время специалисты говорят о семи группах текстов (так называемые списки А, Б, В, Г, Д, Е и Ж).
Откуда подобные различия? Каким образом в некоторые группы списков попали тексты, вообще отсутствующие в печатном издании «Путешествия»?
Вкратце напомним об острых спорах, которые по этому поводу велись и ведутся.
Ленинградский исследователь Д. С. Бабкин предположил, что все это дело рук позднейших переписчиков, которые, подобно древним летописцам, добавляли к радищевскому тексту свой собственный или меняли его по своему разумению.
Большинство оппонентов не согласились с этой гипотезой; она не могла объяснить многих дополнений, различий, явно восходящих к самому Радищеву. С весьма эффектной, романтической теорией выступил ныне покойный писатель Георгий Петрович Шторм. Его книга «Потаенный Радищев» выдержала несколько изданий и вызвала большой интерес. Еще бы! Писатель доказывал, что Радищев, возвратившись из ссылки, продолжал работу над своей книгой, кое-что переменил, дополнил: возникали контуры огромной, потаенной работы Радищева над своим трудом перед самой кончиной.
Некоторые биографические факты вроде бы не противоречили гипотезе Шторма. Во-первых, разные специалисты согласились с тем, что Радищев незадолго до смерти в самом деле думал снова приняться за свое «Путешествие», имел намерение его переиздать.
Во-вторых, фраза противника Радищева П. В. Завадовского «Охота тебе пустословить по-прежнему!» – слова, согласно легенде, погубившие писателя, тоже как будто подтверждают, что автор «Путешествия» не переменился.
Итак, гипотеза о Радищеве, совершенно не изменившемся за годы ссылки, об интенсивной работе его в конце жизни над «Путешествием» – вроде бы получается по Шторму…
Нет, не получается!
Эффектная версия, что разные списки «Путешествия» отражают позднейший этап работы Радищева над книгой, – эта версия разбилась прежде всего по причинам текстологическим. Подавляющее большинство специалистов, по сути, все исследователи, принявшие участие в обсуждении книги Г. П. Шторма, решительно и бесповоротно отвергли его гипотезу: концы с концами никак не сходились; различия между разными списками явно возникли до возвращения Радищева из сибирской ссылки…
Наиболее обоснованной и плодотворной оказалась точка зрения ленинградца В. А. Западова, поддержанная другими исследователями, – что списки отражают разные этапы работы писателя над своим сочинением еще до его выхода в 1788—1790 гг. «Все увеличивающееся количество списков, сделанных с разных редакций, свидетельствует о том, что мужественный писатель-революционер, желая уберечь свой труд от уничтожения, своевременно принял меры для спасения имевшихся у него материалов – от самого раннего автографа начальной редакции до последних по времени… корректурных листов. И этот замысел писателя-борца – сохранить свой труд для потомства – вполне удался».
За этими строгими научными формулами, если задуматься, открываются поразительные перспективы для поиска: Радищев, как видим, основательно готовился к аресту; все время работая над текстом, постоянно что-то в нем меняя, периодически снимал копии с той рукописи, которая существовала в данный момент. Вернее, обращался к помощи почти неведомых нам помощников, копиистов. По всей вероятности, был в ту пору один или несколько тайников за пределами радищевского дома, где хранились рукописи, корректурные листы. После приговора, вынесенного книге и автору, словно по таинственному сигналу, вышли из подземелья списки А, Б, В, Г, Д, Е и Ж. Властям не удалось напасть на след, тайники остались нераскрытыми; и очень вероятно, что и сегодня, почти 200 лет спустя, они ждут того, кто их отыщет…
Таким образом, отпадает главный довод насчет переделки «Путешествия» в 1799—1802 гг.: списки родились лет на десять раньше.
Есть и другой довод, небесспорный, но очень важный, который отвергает неизменность взглядов Радищева.
Несколько лет назад историк-философ Е. Г. Плимак детально изучал сложные сомнения, колебания Радищева в последние годы жизни.
Смысл предлагаемой гипотезы был следующий: Радищев писал свой труд до и во время Французской революции; однако к лету 1790 г., когда «Путешествие» было напечатано, многие сложные, противоречивые, кровавые обстоятельства Великой французской революции еще не обозначились. Внешне ситуация выглядела довольно просто: народ взял Бастилию, произвел еще несколько выступлений, почти не стоивших крови, – и вот результаты налицо: король Людовик XVI уступил, в стране приняты важные антифеодальные законы, открылось Учредительное собрание. Революция в таком виде казалась очень привлекательной даже умеренным наблюдателям; революция общенародная, сравнительно мирная…
Уже в Сибири, в Илимском остроге, Радищев узнает об усилении борьбы революции с контрреволюцией, а также о раздорах внутри революционного стана. Придут известия о казни короля и королевы, о якобинской диктатуре, страшном революционном терроре, унесшем десятки тысяч людей, наконец, о взаимном истреблении лидерами якобинцев друг друга, о термидорианском перевороте, а еще через несколько лет – о появлении нового диктатора-деспота Наполеона. Радищев, без сомнения, иначе представлял себе желаемый ход революционных и послереволюционных событий во Франции. В Сибири и после возвращения он на многое начинает смотреть иначе; в его сочинениях появляются строки, прежде вряд ли возможные:
«Из мучительства рождается вольность, из вольности рабство».
О страшном древнеримском тиране Сулле Радищев скажет в стихах:
Нет, ничто не уравнится Ему в лютости толикой, Робеспьер дней наших разве. Или еще одно размышление о ходе истории: Ах, сия ли участь смертных, Что и казнь тирана люта Не спасет их от бедствий; ………………………………………. Вождь падет, лицо сменится, Но ярем, ярем пребудет. И, как будто бы в насмешку Роду смертных, тиран новой Будет благ и будет кроток: Но надолго ль, – на мгновенье; А потом он усугубя Ярость лютости и злобы, Он изрыгнет ад всем в души.Такого рода размышления и стихи обрисовывали иной облик позднего Радищева, совсем не тот, который хотелось бы видеть сторонникам неизменности его идей.
И все же крайне сложно найти точные определения. Пусть Шторм не прав, но ведь собирался Радищев переиздать свое «Путешествие» и в 1800 г.!
Первый революционер трагически воспринимает французские коллизии; кажется, уж не очень верит, что, свергнув тиранство, можно получить надежную волю. Но при этом совершает последние в жизни политические поступки.
Самоубийство
Напомним, что Радищев в начале царствования Александра I был возвращен в столицу, принял участие в разработке новых законов; он был столь важной персоной, что при известии об его отравлении царь послал к нему лейб-медика.
Отчего же самоубийство?
Решительно отбрасываем версию о сумасшествии: сохранившиеся документы и воспоминания о последних месяцах Радищева свидетельствуют о разуме и энергии. Угроза Завадовского – «мало тебе… Сибири» – не может довести до самоубийства того, кто действительно крепко стоит за свое, кто ясно видит в Завадовском и ему подобных ненавистных противников.
Нет, революционер не кончает жизнь самоубийством при ухудшении обстоятельств, усилении осады. Его может свалить с ног лишь конфликт внутренний.
Жизнь предлагала Радищеву три пути. Один путь – стать, «как все», примкнуть к крепостникам; это ему отвратительно, невозможно.
Другой путь – революция, «Путешествие из Петербурга в Москву». Как видно, Радищева туда тянет; время от времени он действительно берется «за старое». Но притом – сомнения, разочарования; оптимизм 1790 г. в немалой степени поубавился.
Оставался третий путь: мирное просвещение, реформаторство. Новый царь Александр I, сравнительно либеральное начало XIX в. (по выражению Пушкина, «дней Александровых прекрасное начало») – все это порождало иллюзии о больших возможностях такого пути, о пользе легальной государственной деятельности. И Радищев постарался двинуться третьей дорогой, но очень скоро убедился, что это не для него. Мы не будем настаивать, что он был абсолютно прав, а все другие не правы; в тот период активно действовали, в определенном смысле способствовали прогрессу такие люди, как Державин, Карамзин, старый начальник Радищева Александр Воронцов; позже – Сперанский. Иначе говоря, действительно существовали возможности мирной, легальной просветительской деятельности. Но не для Радищева.
По его понятиям, это было нечестно, невозможно. Выходило, что все три дороги ему заказаны, как в сказке – «направо пойдешь… налево пойдешь… прямо пойдешь… голову потеряешь».
В таком положении, при таких сомнениях любая мелочь, злое словцо, любые завадовские могут стать той последней каплей яда, которая создаст смертельную дозу.
Наследием Радищева справедливо считается его революционная мысль, революционная книга. Заметим, однако, вслед за Е. Г. Плимаком, что и сомнения, метания, даже самоубийство Радищева – все это тоже завещано потомкам для обдумывания.
Радищев погиб, книга жила. До второго ее издания оставалось более полувека. 1802—1858.
Это период замалчивания «Путешествия», максимальной изоляции русской освободительной мысли от радищевского истока. Тем не менее существовал узкий круг лиц, старавшихся передать, сохранить радищевские мысли; к этому кругу, кроме сыновей Радищева, собиравших материалы к биографии отца, надо отнести таких мыслителей, как И. П. Пнин, И. М. Борн, и других, откликнувшихся на трагическую смерть писателя.
Маленькие фрагменты приговоренного «Путешествия» все же просачиваются в печать; продолжается интенсивное распространение списков. По данным В. А. Западова, из 79 обследованных им копий 17 изготовлены на бумаге 1790—1793 гг., 23 – на бумаге 1800—1810 гг., 24 – 1811—1824 гг.
В то же время в 1820-х годах уже давала себя знать историческая дистанция, отделяющая эти годы от времени Радищева. В показаниях декабристов, где первыми уроками свободомыслия названы десятки сочинений русских и западных авторов, Радищев и его книга встречаются сравнительно редко. Вряд ли В. К. Кюхельбекер старался обмануть следствие, когда упомянул «Путешествие» Радищева, в котором «мало что понял».
Характерен упрек Пушкина, сделанный в 1823 г. А. А. Бестужеву, который забыл упомянуть Радищева в своем обзоре прежней литературы: «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это умолчание непростительно».
Пушкинские слова говорят о сложном противоборстве традиции и «забвения». Кюхельбекер и А. Бестужев не только старались обмануть власть, цензуру, но и в самом деле уже хуже понимали Радищева, чем их отцы. Во-первых, за треть века сильно переменился литературный язык; многие прежние речевые обороты теперь представлялись архаичными. Во-вторых (что более важно), при всем интересе и сочувствии к Радищеву декабристы во многом иначе, чем он, представляли средства коренного переустройства жизни, опасались народной стихии, радищевского пафоса всеобщего восстания.
После подавления декабристов имя Радищева в течение десяти лет в печати почти не упоминается. Забвение его главного труда со временем усиливается. За 1825—1829 гг. известны всего три новых списка (из 79 изученных В. А. Западовым), в 1840-х годах – четыре.
По словам Пушкина, «книга, некогда прошумевшая соблазном и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины… ныне типографическая редкость, случайно встречаемая на пыльной полке библиомана или в мешке брадатого разносчика».
Диалог
Важнейшим событием посмертной биографии Радищева была продолжавшаяся за него борьба Александра Сергеевича Пушкина.
Интересно и очень непросто понять, чем объясняются столь большие усилия поэта?
Особой любовью к прозе и стихам Радищева? Нет, мы находим у Пушкина немало критических, даже иронических замечаний на этот счет: "…Радищев думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал. Вообще Радищев писал лучше стихами, нежели прозою. В ней не имел он образца, а Ломоносов, Херасков, Державин и Костров успели уже обработать наш стихотворный язык. Путешествие в Москву, причина его несчастия и славы, есть, как уже мы сказали, очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге».
Невозможно также объяснить пушкинское внимание к Радищеву единством их взглядов: в последние годы жизни Пушкин не был столь революционно настроен, как автор приговоренного издания.
Удивительное свойство у первого революционера: присматриваемся ли мы к юным его годам, отыскивая «первотолчок» к написанию главной книги, разгадываем ли логику последних поступков, наблюдаем ли отношение к его наследию людей XIX в. – декабристов, Пушкина (позже возвратимся к спорам Герцена и его современников), никогда не удается получить простых, ясных решений. Радищев постоянно загадочен, противоречив; понятен же и прост только тем, кто не умеет или не желает честно задумываться…
Итак, радищевские загадки Пушкина.
В 1830-х годах поэт начинает как бы диалог с Радищевым и пишет оставшееся незавершенным «Путешествие из Москвы в Петербург (Мысли на дороге)». В 1836 г. Пушкин заканчивает и пробует напечатать только что цитированную статью «Александр Радищев». В том же году в черновике стихотворения «Памятник» появилась знаменательная строка – «Вослед Радищеву восславил я свободу».
Главным источником пушкинских сведений был экземпляр первого издания «Путешествия», переплетенный в красный сафьян с золотыми тиснениями по краям и с золотым обрезом; на корешке надпись: «Путешествие в Москву» на оборотной стороне листа, после переплетной доски, рукой А. С. Пушкина: «Экземпляр, бывший в Тайной канцелярии, заплачено двести рублей», а на следующем чистом листе: «А. Пушкин».
На полях книги отчеркнуты красным карандашом, а местами подчеркнуты все те строки, которые указывает Екатерина в своих замечаниях на книгу Радищева. Крупнейший знаток истории и литературы XVIII в. Я. Л. Барсков писал, что такого рода отметки и таким же красным карандашом часто встречаются в рукописях Екатерины; но сделаны ли они в данном случае ее рукой или тщательно скопированы, сказать с полной уверенностью нельзя.
Возможно, этот экземпляр действительно фигурировал во время суда над Радищевым как главная улика: туда были перенесены замечания царицы, сделанные в ее «собственном» томе. Экземпляр «Путешествия» переходил, вероятно, из одного учреждения в другое, а по окончании дела вернулся в Тайную канцелярию.
Усилия Пушкина, а также П. А. Вяземского напомнить в 1830-х годах о радищевском «Путешествии» оказались, однако, тщетными: предназначенная для третьего тома «Современника» статья «Александр Радищев» была запрещена.
Работа эта – одна из самых спорных, загадочных в пушкинской публицистике. В ней как бы три элемента: во-первых, биографические сведения о герое, с большими трудностями извлеченные из немногих печатных, рукописных и устных источников (сложность добывания простейших фактов видна хотя бы по тому, что Пушкин не мог даже точно указать дату рождения Радищева); вторая тема статьи – определенная, довольно скупая похвала некоторым радищевским стихам, его благородным порывам. Куда более заметен третий, критический мотив статьи. Довольно подробно излагая некоторые разделы «Путешествия из Петербурга в Москву», Пушкин ясно понимает, что это «сатирическое воззвание к возмущению». Не принимая подобного воззрения, великий поэт пишет о Радищеве довольно резко: «Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему, – вот что мы видим в Радищеве».
Статья Пушкина была, по сути, первым серьезным разговором о радищевской книге; началом большого, очень любопытного общественного спора об историческом месте и значении первого революционера и его трудов. Если бы Пушкину удалось опубликовать «Александра Радищева», произошло бы подлинное возвращение погибшего писателя, его книги. Однако именно этого не желали власти: министр народного просвещения С. С. Уваров нашел «излишним возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения». При подготовке посмертного издания сочинений Пушкина Уваров вторично запретил статью «Александр Радищев», которая «по многим заключающимся в ней местам к напечатанию допущена быть не может». Правда, в составе посмертного собрания Пушкина было опубликовано шесть глав из статьи «Мысли на дороге», куда поэт включил небольшие фрагменты из «Путешествия». Однако отдельные элементы радищевского текста не могли привлечь того общественного внимания, которое, несомненно, было бы возбуждено острой, талантливой, вызывающей статьей «Александр Радищев».
Ее запрет откладывал большой спор о Радищеве более чем на двадцать лет, до «герценовских времен»; но и в конце 1850-х годов, как мы сейчас увидим, именно пушкинская статья станет «запалом» для большого дискуссионного взрыва; именно с нее начнутся очень интересные общественные суждения и о Радищеве, и о самом Пушкине.
От Пушкина до Герцена
Время все более удалялось от главнейшего для Радищева 1790 г. Повторим, что списки, много списков, а также отдельные печатные экземпляры «Путешествия» продолжали ходить по России. Недавние исследования советского историка В. Ю. Афиани показали, однако, что существовало несколько сравнительно изолированных друг от друга читательских групп с определенным, часто не совпадающим кругом чтения. Одни книги и рукописи находились в распоряжении придворных, аристократических кругов; известна особая роль Пушкина, Вяземского и их друзей в освоении традиций XVIII в.; интерес к прошлому, особенно к литературе допетровского периода, а также к народному творчеству отличал славянофильскую публицистику.
Наконец, западники и революционные демократы – Белинский, Герцен, Огарев: вопрос об их взглядах на XVIII столетие довольно непрост. В трудах Белинского упоминаний о Радищеве и его сочинениях почти нет. Не встречается это имя и в сочинениях и письмах раннего Герцена.
Покинув Россию в 1847 г., Герцен, как известно, пережил вскоре глубочайшую личную и духовную драму, приведшую, между прочим, к отказу от известной идеализации Запада, стремлению отыскать самобытные, русские пути для освобождения России. Эта перемена во взглядах (которая некоторыми друзьями-западниками была даже сочтена переходом на «славянофильские позиции») усилила интерес Искандера к предшественникам, традиции. Написанная за границей работа «О развитии революционных идей в России» (1850—1851) была, по сути, первой историей освободительного движения в стране: Герцен мобилизовал все свои обширные познания по части легальной и нелегальной русской словесности; одновременно статья была как бы и программой новых поисков, призывом (который будет позже повторен на страницах Вольной русской печати) присылать рукописи, биографические сведения, документы, хранящиеся под спудом, но пока невозможные для публикации в России.
И тут пора коснуться любопытного, парадоксального обстоятельства. При чтении герценовского «О развитии революционных идей в России» легко заметить, что Радищев не назван на тех страницах, где ему обязательно «следовало быть»: отыскивая предшественников в XVIII столетии, Герцен отдает должное Новикову – «одной из тех великих личностей в истории, которые творят чудеса на сцене, по необходимости погруженной во тьму»; много внимания уделяет Д. И. Фонвизину («В произведениях этого писателя впервые выявилось демоническое начало сарказма и негодования, которому суждено было с тех пор пронизать всю русскую литературу»); вслед за тем Герцен бегло упоминает Дмитриева, Крылова, Карамзина и переходит к событиям XIX столетия. О Радищеве – ни слова.
Проходит еще несколько лет, и Герцен получает сведения об аресте первого революционера, а также его книги в «Записках» Е. Р. Дашковой. Пересказывая воспоминания своей героини, Герцен писал: «Екатерина испугана брошюркой Радищева; она видит в ней „набат революции“. Радищев схвачен и сослан без суда в Сибирь». Из текста видно, что создатель Вольной печати неясно представляет события: довольно толстая книга Радищева названа «брошюркой», иронический тон насчет «набата революции» создает впечатление, будто царица ошибается и преувеличивает революционность «Путешествия».
Когда же в 1858 г. Вольная типография получает наконец для публикации «Путешествие из Петербурга в Москву», удивленное восхищение издателей велико, и в герценовском введении ясно видны следы первого, непосредственного впечатления от знакомства с замечательной книгой. Таковы, например, строки – «юмор его (Радищева) совершенно свеж, совершенно истинен и необычайно жив. И что бы он ни писал, так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в „Думах“ Рылеева, и в собственном нашем сердце».
Выходит, один из самых культурных, глубоких российских мыслителей дожил до 46 лет, не зная Радищева.
Но если не знали Герцен, Огарев, то не знал и круг их близких друзей, «людей 1840-х годов», где «каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем».
Значит, скорее всего, никогда не прочли радищевского «Путешествия» Белинский, Грановский; не знали до конца 1850-х годов И. С. Тургенев, К. Д. Кавелин, Е. Ф. Корш…
Если же кто-нибудь из них в молодые годы знал, читал запрещенную книгу – тотчас мы сталкиваемся с еще более непонятным фактом: с недостатком интереса; с тем, что о такой книге не было рассказано друзьям. Объяснить подобное явление только цензурными, «полицейскими» затруднениями невозможно: молодые люди 1840-х годов жадно стремились добыть и обычно добывали то, что им нужно, минуя всякие запреты. (У одного из членов герценовского кружка, Кетчера, была, например, уникальная коллекция запретных стихов.)
Кроме гонений и запретов на судьбу старинных трудов, очевидно, влияло также известное отчуждение, равнодушие российских мыслителей 1840—1850-х годов к прежним, как им казалось, изжитым принципам XVIII в.
С одной стороны, довольно значительное число списков радищевского «Путешествия» ходило по стране; с другой – многие образованнейшие люди не читали, «не хотели читать», полагая до поры до времени, что XVIII век безнадежно устарел и ничего не сможет подарить мятущемуся XIX.
Книга Радищева выйдет из небытия или полузабвения, когда возникнет сильная общественная потребность. Освободительный подъем 1850—1860-х годов возьмет из прошлого то, что «ждало своего часа»…
Радищев возвращается
Шестидесятники принимали «деда», Радищева, как своего, и первым признаком «семейной близости» стала, конечно, дискуссия. Продолжение спора, начатого Пушкиным.
В 1855 г. первый пушкинист Павел Васильевич Анненков в шести томах опубликовал новое пушкинское собрание сочинений. Это издание сделалось очень заметным общественным, литературным событием; Анненков постарался ввести в него множество прежде никогда не публиковавшихся текстов – от впервые разобранных им строк «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя» до произведений, считавшихся крамольными. Некоторые тексты, в том числе статью о Радищеве, Анненкову поначалу провести через цензуру не удалось; однако прошло два года, обстановка в стране улучшалась, ослабевшая власть делала уступку за уступкой, открывались новые журналы и газеты, приближалось освобождение крестьян… В этих условиях Анненков собрал целый том, седьмой, дополнительный, куда внес десятки стихотворных и прозаических текстов Пушкина. 5 июля 1857 г. цензура разрешила новое издание, в том числе статью «Александр Радищев» с пушкинскими прибавлениями, относящимися к истории и тексту «Путешествия из Петербурга в Москву».
Радищевская книга целиком все еще не дозволялась, но теперь, благодаря Пушкину и Анненкову, о ней начнут толковать серьезно.
Прочитал VII анненковский том и Герцен; только теперь по-настоящему заинтересовался Радищевым, а также пушкинской трактовкой. Главный импульс, вызванный у вольных издателей пушкинской статьей: скорее достать, опубликовать само радищевское «Путешествие»!
Мы точно не знаем, был ли послан из Лондона соответствующий «заказ» в Россию или Россия «сама догадалась», однако через девять месяцев после разрешения пушкинского Радищева Герцен объявит, что вскоре напечатает, без всякого разрешения, Радищева подлинного…
Кто же доставил в Лондон запретное сочинение? Точно сказать нелегко. В 1857—1858 гг. регулярно снабжал Вольную печать ценной информацией П. В. Анненков: к этому периоду как раз относится его длительная поездка за границу, в том числе в Англию.
В то же самое время молодые литераторы и публицисты в России Е. И. Якушкин, А. Н. Афанасьев, В. И. Касаткин, П. А. Ефремов помещают интересные публикации о Пушкине, Радищеве, Щербатове на страницах левого журнала «Библиографические записки»; любопытно, что и здесь они пользуются помощью Пушкина: перепечатывая, а также впервые публикуя фрагменты из неоконченной пушкинской работы «Мысли на дороге», Евгений Якушкин (сын декабриста) в 1859 г. вкрапливает в публикацию отдельные тексты из «Путешествия».
То, что эти журналисты не могли напечатать в России, – посылали в Лондон. Есть серьезные основания считать, что от них пришло щербатовское «О повреждении нравов…»; может быть, и Радищев заодно?
Мы назвали два «корреспондентских центра», способных отправить Радищева Герцену. Но был в те годы еще один примечательный человек, который, пожалуй, мог бы связать 1790-й с 1858-м: активно сражается за обнародование литературного наследства и биографии Радищева его третий сын, 75-летний Павел Александрович (1783—1866). Его хорошо знали во многих московских редакциях, посмеивались над бедностью, считали безумным – особенно когда он начинал наизусть «петь» стихи своего отца, но уступали его напору, сыновней преданности. Павел Александрович откликнулся, и очень деятельно. В конце 1858 г., через полгода после герценовского обращения, он сумел напечатать краткую биографию А. Н. Радищева в журнале «Русский вестник», а затем переслал текст в Лондон.
У нас есть прямые и косвенные данные о том, как горячо этот человек воспринимал публикации Герцена (а может быть, способствовал их возникновению?).
Вообще дети Радищева от первого и второго браков чтили память отца; любопытно, что, по секретным данным III отделения (обнаруженным несколько лет назад П.А. Зайончковским), в 1840-х годах только два губернатора из пятидесяти не брали взяток: киевский гражданский губернатор Писарев – «из-за своего богатства» и ковенский губернатор Радищев – «по убеждениям».
Завершая вступительную статью к радищевскому «Путешествию», Герцен сделал примечание: «Пора бы составить полную биографию А. Радищева – мы с радостью напечатаем ее».
Герцен не стал публиковать биографию Радищева, вероятно потому, что она была уже напечатана; однако имя Радищева после 1858 г. неоднократно появляется в вольных изданиях.
Столь сильно и страстно воспринимавший любое слово об отце, которого он потерял 19-летним, Павел Александрович Радищев мог один из списков «Путешествия» передать в ту типографию, которая впервые после 68-летнего перерыва готова была напечатать главный труд Александра Николаевича Радищева.
Наш рассказ вернулся к своему началу. Июль 1858 г.; по книжным каналам Европы, потаенными путями по России «начинает распространяться книга „Щербатов – Радищев“. В ней 341 страница; тираж, по всей видимости, 1500 экземпляров.
Идея объединить смелого консерватора Щербатова и героического революционера Радищева в одной книге принадлежит, по всей видимости, самому Герцену, „курировавшему“ практически все исторические издания Вольной типографии.
Сопоставление и парадоксальное соединение двух внешне противоположных течений русской мысли – характерная черта герценовского исторического мышления: „Князь Щербатов и А. Радищев представляют собой два крайних воззрения на Россию времен Екатерины. Печальные часовые у двух разных дверей, они, как Янус, глядят в противоположные стороны. Щербатов, отворачиваясь от распутного дворца сего времени, смотрит в ту дверь, в которую взошел Петр I, и за нею видит чинную, чванную Русь Московскую, скучный и полудикий быт наших предков кажется недовольному старику каким-то утраченным идеалом.
А. Радищев смотрит вперед, на него пахнуло сильным веянием последних лет XVIII века… Радищев гораздо ближе к нам, чем князь Шербатов; разумеется, его идеалы были так же высоко на небе, как идеалы Щербатова – глубоко в могиле; но это наши мечты, мечты декабристов“.
Несколько нарушая рамки историзма, но стремясь приблизить к современности прежние идейные споры, Герцен видит в Радищеве своего прямого предтечу, а в Щербатове как бы „предславянофила“.
Пушкин и Герцен – каждый представлял XIX веку своего Радищева!
* * *
Теперь положим рядом оба издания „Путешествия“ – радищевское и герценовское: 1790-й и 1858-й. Какое важнее?
Ну разумеется, радищевское, авторское: все миллионы экземпляров „Путешествия из Петербурга в Москву“ печатаются в наши дни с соблюдением авторской воли. Герцен же, как говорилось раньше, получил не типографский экземпляр книги, а один из списков. И все же их очень интересно сравнить.
Оказалось, что имеется несколько сот различий между двумя изданиями, а если считать мелкие разночтения типа „так – столь“, „герой – ирой“, „увидеть – узреть“, то их число перевалит за тысячу. Большинство – по воле переписчиков, и это очень любопытно: они отчасти рассматривали уже радищевский текст как собственный, кое-что меняли, прибавляли, убавляли по своему разумению. Поверхностный взгляд сочтет подобное самоуправство слишком дерзким; но, если вдуматься, здесь особый признак внимания, близкого соучастия, стремления придать рукописи дополнительный, современный импульс. Радищев пишет: „г(осподин) комиссар“; переписчика мало занимает почтительность, и он убирает „господина“. В другой раз Радищев, снисходя к щепетильным нравам своего века, сокращает сравнительно грубые выражения и пишет: „кан… бес…“ В XIX в. подобная стеснительность не в ходу, и мы читаем у Герцена полностью: „каналья, бестия“.
Больше же всего разночтений относится к обновлению языка. Всего 68 лет, разделяющие два издания „Путешествия“, были эпохой Карамзина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, когда литературный язык сильно переменился и многие обороты, привычные для эпохи Радищева, уж кажутся тяжелыми, устаревшими. Подавляющее большинство поправок упрощают старинные фразы, заменяют некоторые слова и выражения. Словосочетание „новый сей“ заменяется на „сей новый“, „обыкшему“ – на „обыкновенный“; вместо „смех сердечной“ – „сердечный смех“; вместо оборота „загрубевшие хотя от зноя и холода, но прелестные“ теперь стало – „хотя от зноя и холода загрубевшие, но прелестные“.
И вот последние страницы обоих изданий: "…правила позорищного стихотворения», – пишет Радищев; современник Герцена переводит: "…правила драматического стихотворения».
Радищев: «Беги, толпа завистливая, се потомство о нем судит, оно нелицемерно».
У Герцена: «Скройся, толпа завистливая! Вот нелицемерный суд о нем потомства».
Дух старинного языка, колорит XVIII в. при переписке блекнет, зато «Путешествие» оказывается как будто вчера написанным…
Герцен же, с первых страниц своего предисловия, вступает в тот самый горячий, актуальный, сегодняшний спор, который начал Пушкин.
И грянул спор…
Отдельные критические замечания Пушкина о Радищеве отчасти принимаются, но в основном оспариваются Искандером. Сопоставим следующие тексты:
Пушкин: «Путешествие в Москву… очень посредственное произведение».
Герцен: «Превосходная книга».
О слоге Радищева:
Пушкин: «Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвердить суждение наше множеством выписок. Но читателю стоит открыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине нами сказанного. В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидерота и Реналя; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале».
Герцен: «Тогдашняя риторическая форма, филантропическая философия, которая преобладала в французской литературе до реставрации Бурбонов и поддельного романтизма – устарела для нас. Но юмор его совершенно свеж, совершенно истинен и необычайно жив».
Пушкин: «Какую цель имел Радищев? чего именно желал он? На сии вопросы вряд ли мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно».
Герцен: «И что бы он ни писал, так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в „Думах“ Рылеева, и в собственном нашем сердце».
Как всегда, Герцен подчеркивает злободневность, современность публикуемых материалов.
Строки о весне 90-х годов, когда «все ждали с бьющимся сердцем чего-то необычайного», когда «святое нетерпение тревожило умы и заставляло самых строгих мыслителей быть мечтателями», – все это было явной параллелью мечтаниям, иллюзиям 1860-х годов.
«Разговор с Пушкиным» продолжается и во втором «Введении Искандера», непосредственно перед текстом радищевского «Путешествия». Большую часть герценовского предисловия занимают отрывки из пушкинской статьи, а также прибавления (из записок Храповицкого), которыми Пушкин сопроводил «Александра Радищева».
Как и в первом введении, здесь подчеркивается радищевский «громкий протест против крепостного состояния»; последний проект Радищева, возвращенного из ссылки, это, по убеждению Герцена, «план освобождения крестьян». (На самом деле Радищев в последние месяцы своей жизни служил в Комиссии составления законов.)
В период собственных максимальных иллюзий насчет возможных мирных преобразований в стране Герцен обходит, как бы не замечает народного бунта, возмущения, о котором ясно говорится в «Путешествии». Заметим, как в этой связи он цитирует пушкинскую статью о Радищеве.
Пушкин: «Он написал свое „Путешествие из Петербурга в Москву“, сатирическое воззвание к возмущению, напечатал в домашней типографии и спокойно пустил его в продажу».
Герцен: «Радищев спокойно пустил в продажу свое „Путешествие из Петербурга в Москву“, напечатав его тайно в своей типографии, – говорит Пушкин».
Искандер полагает, что пушкинский «Александр Радищев» – это «статья, не делающая особенной чести поэту». И тут мы попадаем в самую гущу спора.
Критический отзыв Герцена печатался одновременно с другими откликами на пушкинское сочинение (оно, повторим, как бы заменяло пока еще запрещенное в России «Путешествие»).
П. В. Анненков, опубликовавший статью «Александр Радищев», был одним из немногих, кто находил, что эта работа поэта принадлежит «к тому зрелому, здравому и проницательному критическому такту, который отличал суждения Пушкина о людях и предметах незадолго до его кончины».
С Анненковым, однако, не согласился даже довольно умеренный критик Александр Станкевич: «Из биографической статьи „О Радищеве“, являющейся впервые на свет, мы можем ознакомиться с мнениями Пушкина о человеке, в котором с точки зрения исторических и общественных условий он усматривал только пример для поучения. Поучительная сторона явления закрыла от него другую сторону, трагическую. Нельзя сказать, чтоб это послужило в пользу живости и ясности биографического очерка».
Если уж люди, далекие от революционности, заступались за Радищева, что говорить о левых!
Е. И. Якушкин находил, что «убеждения автора были очень нетверды… Иначе как объяснить себе, что Пушкин, говоря об одной картине из крепостного быта, мастерски начертанной Радищевым, увлекается ею до того, что соглашается с ним, не замечая даже, что впадает через это в противоречие со своими собственными словами, высказанными за несколько страниц».
Историк, собиратель русских сказок А. Н. Афанасьев намеревался составить свод материалов, опровергающих позицию Пушкина, и писал другу 12 ноября 1858 г.: «О Радищеве я уже думал, но дело очень щекотливое в цензурном отношении. На первый раз пущу выписки из известной его книги по поводу статьи Пушкина о Радищеве. К прозе Пушкина приготовлены очень любопытные дополнения и исправления по его собственноручным рукописям. Тут надо бы коснуться и статьи о Радищеве и его книге. Разумеется, отзыв Пушкина не выдерживает критики».
Еще левее Николай Добролюбов; в первой книге «Современника» за 1858 г. он отвечает Анненкову: «Относительно этой статьи мы не можем согласиться с мнением издателя, что она принадлежит к тому зрелому, здравому и проницательному критическому такту, который отличал суждения Пушкина о людях незадолго до его кончины. В этой статье мы видим взгляд весьма поверхностный и пристрастный». При этом Добролюбов отмечал противоречия пушкинской статьи, где «выражается, без ведома автора, уважение его к Радищеву в самом оправдании, решительно противоречащем строгому приговору, произнесенному относительно всей деятельности этого человека вообще… Вообще нужно заметить, что статья о Радищеве любопытна как факт, показывающий, до чего может дойти ум живой и светлый, когда он хочет непременно подвести себя под известные, заранее принятые определения. В частных суждениях, в фактах, представленных в отдельности, постоянно виден живой, умный взгляд Пушкина; но общая мысль, которую доказать он поставил себе задачей, ложна, неопределенна и постоянно вызывает его на сбивчивые и противоречащие фразы».
В 1859 г. в статье «Русская сатира в век Екатерины» Добролюбов снова высоко отзывается о первом революционере: «Книга Радищева составляла едва ли не единственное исключение в ряду литературных явлений того времени, и именно потому, что она стояла совершенно одиноко, против нее и можно было употребить столь сильные меры. Впрочем, если бы этих мер и не было, все-таки „Путешествие из Петербурга в Москву“ осталось бы явлением исключительным и за автором его последовали бы, до конечных его результатов, разве весьма немногие».
Наконец, Чернышевский в 10-м номере «Современника» за 1860 г. замечает о XVIII веке, что «Новиков, Радищев, еще, быть может, несколько человек одни только имели тогда то, что называется ныне убеждением или образом мыслей». Этими спорами 1858 г. начинается продолжающаяся до сего времени полемика о подлинном смысле пушкинской статьи «Александр Радищев».
В конце XIX – начале XX в. П. Н. Сакулин, В. П. Семенников и другие исследователи в общем соглашались с Анненковым и развивали мысль, что Пушкин выражал свои истинные (пусть и недостаточно объективные) идеи о Радищеве: вот таким был Пушкин, так думал…
В. Е. Якушкин, С. А. Венгеров, позже некоторые советские исследователи рассудили иначе. В той или иной степени они нашли в статье Пушкина иносказание: все дело в цензуре, стремлении поэта любой ценой «снять запрет» с Радищева, добиться права писать о нем.
Самое любопытное, что в этих спорах отчасти все правы. Действительно, Пушкин писал что думал. И действительно, хотел обойти цензуру. Так же как правы были Герцен, Чернышевский, Добролюбов и другие критики 1850—1860-х годов, защищавшие своего Радищева.
Главный секрет этих споров (кажется, далеко не всегда учитываемый), что люди говорили не только, порою не столько о Радищеве, сколько о себе: получался любопытнейший сплав объективного и субъективного, где очень трудно понять, когда кончается действительный разбор радищевских мыслей и построений и начинается исповедь; более того – сами критики порою уж не различают, где «предок» и где они…
Если бы статья Пушкина вышла тогда, когда она была написана, в 1836-м, – современники безусловно нашли бы в ней много такого, что стало уж незаметно в 1858-м. Они нашли бы, к примеру, сопоставление судеб – и здесь, может быть, главная отгадка, отчего Пушкин, вроде бы не слишком тяготеющий к Радищеву, делал одно усилие за другим, чтобы о нем написать, напечатать.
Нам нелегко ответить, из каких, скорее всего устных, источников поэт отыскал факты, построенные в определенную биографическую систему: Радищев – крайний революционер; потом, под впечатлением кровавых событий 1793—1794-х и последующих лет, меняет воззрение и гибнет (выше кратко излагалась сходная версия, развитая уже в наши дни Е. Г. Плимаком и опирающаяся на очень широкий круг материалов). Как бы то ни было, подобный взгляд на биографию Радищева был Пушкину очень важен, потому что это – взгляд на себя!
Вообще трудно не заметить многих биографических параллелей.
Радищев в юности учится в Лейпциге, где (согласно Пушкину) «надзиратель думал только о своих выгодах; духовник, монах добродушный, но необразованный, не имел никакого влияния на их ум и нравственность. Молодые люди проказничали и вольнодумствовали».
Пушкин и его друзья примерно так же вспоминали и о Лицее, где «все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», где поэт веселился, «в закон себе вменяя страстей единый произвол».
Позже – вольные, революционные мысли, о чем Пушкин пишет, прямо сравнивая век нынешний и век минувший: «Теперь было бы для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей, пылких и чувствительных, если бы мы, по несчастию, не знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями… Другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидерота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими».
Пушкин, как видим, строг к «детским мыслям»; строг, потому что не забывает о цензуре и потому что пишет о себе. Фраза, мелькнувшая в статье о друге Радищева Федоре Ушакове, хорошо применима и к Пушкину: «Сходство умов и занятий сблизило с ним Радищева».
Но пойдем дальше: Радищев пишет оду «Вольность» и свой главный труд. Пушкин тоже написал оду «Вольность» и другие бесцензурные труды. Радищева ссылают – Пушкина тоже…
«Император Павел I, взошед на престол, вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дворянство, обошелся с ним милостиво и взял с него обещание не писать ничего противного духу правительства».
Ну как не заметить параллель с возвращением Пушкина и его известной беседой с царем Николаем I.
Далее в статье идут строки, где уж вообще невозможно разделить двух писателей:
«Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом иль с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время Ужаса, мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра».
Здесь, конечно, полускрытая пушкинская исповедь – об эволюции собственных взглядов, – для чего жизнь Радищева важнейший повод. И вот Радищев на свободе, на службе; ему хочется принести пользу, ибо имел «отвращение от многих злоупотреблений и некоторые благонамеренные виды».
Ничего не выходит: от прежних идей Радищев как будто удалился – новые хозяева ему не очень доверяют, угрожают: «Эй, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?»
Радищев оканчивает жизнь самоубийством: «Огорченный и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, об лейпцигском студенте, подавшем ему некогда первую мысль о самоубийстве, и… отравился. Конец, им давно предвиденный и который он сам себе напророчил!»
Эти строки, написанные Пушкиным за год до гибели, страшно читать. Ведь поэт, пусть во многом иначе, чем Радищев, тоже не пришелся ко двору, и, как Радищев, устал, и конец свой давно предвидел, и «сам себе напророчил», вспоминая погибших прежде друзей:
И мнится, очередь за мной, Зовет меня мой Дельвиг милый, Товарищ юности живой, Товарищ юности унылой, Товарищ песен молодых, Пиров и чистых помышлений, Туда, в толпу теней родных Навек от нас утекший гений.Пушкин в «Александре Радищеве» опять себе пророчил, он видел свое сходство со столь, казалось бы, непохожим человеком прошлого столетия. Это сходство очень и очень занимало поэта, идущего «вослед Радищеву…»
Но статья при жизни Пушкина не вышла в свет. К тому же – как печально заметил век спустя Виктор Шкловский в письме к Юрию Тынянову (а речь шла о Маяковском): «Поэт живет на развертывании, а не на забвении своего горя… Он писал о том, что он умрет. Слова были рифмованы. Рифмам не верят».
«Не верят» также иносказаниям. Когда поэт пишет о другом, как о себе…
История литературы знает немало примеров, когда произведение, даже примечательное, опоздав к современникам на несколько и более лет, встречало непонимание, сопротивление читателей (иногда преодолеваемое временем, а порою – нет). Снова повторим, что если бы Герцен и Добролюбов познакомились с пушкинской статьей в детстве или юности, то «привыкли» бы к ней: возможно, все равно бы не согласились, но судили бы более исторично. Однако статья явилась как новая в другую эпоху, в период революционного подъема, когда звучали иные голоса, иные песни.
И снова Герцен и его современники, толкуя о Радищеве, говорили о себе («это наши мечты, мечты декабристов»). Статья же Пушкина казалась «инородным телом», разговором из другой эпохи. Поэтому на нее так страстно набросились.
Набросились, не замечая, что саму страстность подхода все равно невольно заимствовали от Пушкина, Пушкин же – от Радищева, от его неравнодушной, самосжигающейся книги.
Как видим, спор, противоречия были завещаны второму, третьему, четвертому поколениям от самого первого, XIX веку – от XVIII.
Мы говорим о радищевских спорах, где сошлось уже многое, практически все, о чем будут толковать и дискутировать следующие поколения, размышляющие о Радищеве.
И о себе.
Эпилог
Побежали 1860-е годы.
В статье «Новая фаза русской литературы» (1864) Герцен повторил и углубил мысль своей старой работы «О развитии революционных идей в России» насчет значения для русской литературы «фонвизинского смеха». Но уже появляется Радищев:
«Как только сознание пробудилось, человек с отвращением увидел окружавшую его гнусную жизнь: никакой независимости, никакой безопасности, никакой органической связи с народом. Само существование было лишь своего рода казенной службой. Жаловаться, протестовать – невозможно! Радищев опробовал было. Он написал серьезную, печальную, исполненную скорби книгу. Он осмелился поднять голос в защиту несчастных крепостных. Екатерина II сослала его в Сибирь, сказав, что он опаснее Пугачева. Высмеивать было менее опасно».
Через 10 лет после герценовской публикации, через 30 с лишним лет после пушкинской попытки заговорить о первом революционере в Петербурге, в типографии Головина было отпечатано издание «Радищев и его книга „Путешествие из Петербурга в Москву“», куда были включены сильно изуродованные фрагменты.
Этот факт отмечен Герценом в письме к Огареву от 3 (15) мая 1868 г. Публикация, несмотря на ее слабый общественный резонанс, занимала создателей Вольной печати как пример влияния, определенного отзвука их деятельности: в 9-м номере французского «Колокола» появляется статья Герцена «Наши великие покойники начинают возвращаться».
Издание 1885 г. было поводом к формальному снятию (30 марта 1868 г.) прежнего абсолютного запрета на «Путешествие». Однако книге суждено было еще пережить немало гонений.
В 1872 г. под редакцией П. А. Ефремова были напечатаны два тома сочинений Радищева, в том числе полный текст «Путешествия» с документальными приложениями. На издание, однако, тут же был наложен арест. В докладе цензора Смирнова отмечалось, что «книга, сохранив почти „в целости свой первоначальный характер, и в настоящем виде содержит множество мест, непозволительных по ныне действующим цензурным постановлениям“…Так как некоторые из принципов, порицаемых автором, еще и ныне составляют основу нашего государственного и социального быта, то я полагаю неудобным допустить эту книгу к обращению в публике в настоящем ее виде частью потому, что она может возбуждать к своему содержанию сочувствие в легкомысленных людях, частью – служить удобным прецедентом для горячих и неблагонамеренных публицистов, которые не затруднятся провозгласить Радищева мучеником за его гуманные утопии, жертвою произвола и попытаются подражать ему».
Этот цензурный отзыв, как и другие документы, свидетельствовал об огромной политической актуальности книги Радищева и во второй половине XIX в.
До революции 1905 г. было предпринято еще несколько попыток полностью или частично переиздать «Путешествие».
В 1888 г. А. С. Суворин воспроизвел текст 1790 г. «из строки в строку, из буквы в букву, приблизительно с таким же шрифтом, со всеми опечатками подлинника, всего в количестве 100 экземпляров»; позднейшая попытка более массового (2900 экземпляров) издания была, однако, пресечена Главным управлением по делам печати: 26 июня 1903 г. тираж был арестован и уничтожен.
Таким образом, лондонская публикация 1858 г. оставалась единственным сравнительно полным тиражным изданием книги (в 2,5 раза больше первоначального радищевского тиража, в 15 раз больше суворинского).
Лишь в 1905 г. появилось первое научное и полное издание «Путешествия» под редакцией Н. П. Павлова-Сильванского и П. Е. Щеголева.
После того, в 1906 г., вышло сразу пять изданий «Путешествия», в 1907 г. – три.
С тех пор Радищев выходит и выходит: научные публикации, массовые, школьные; фотографические воспроизведения, сначала первого издания (это было сделано в 1935 г.), затем – факсимильное повторение «герценовского» (1983)…
За два века, что радищевское «Путешествие» движется во времени, оно как бы приобрело, приобретает и еще приобретет «невидимые» приложения, дополнительные главы: то, что теперь уже почти неотделимо от первоначального содержания радищевского труда.
Мы попытались приблизительно представить несколько таких дополнений, исторических «спутников» книги. Вышло примерно так:
1. Размышления, сомнения самого Радищева после 1790 г.: возвращение или невозвращение к своему труду; самоубийство.
2. Первая половина XIX в.: книгу переписывают, цитируют и в то же время забывают.
3. Попытка Пушкина напомнить о Радищеве, связать его судьбу со своею «вослед Радищеву…».
4. Общественный подъем 1850-х годов; Анненков выпускает в свет статью Пушкина «Александр Радищев»; статья подвергается острой критике, под звуки которой «Радищев возвращается».
5. 1858 г.: Герцен выпускает в свет второе издание радищевского «Путешествия», через 68 лет после первого…
Затем, до наших и будущих дней, – новые разговоры, новые споры, порою очень острые, о Радищеве и о себе.
Прислушиваясь к «далеким отголоскам», догадываемся, ловим:
– «Что случится на моем веку?»
Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН
Примечания
1
Агличане приняли в свое покровительство ушедшего к ним в Калкуту чиновника бенгальского, подвергшего себя казни своим мздоимством. Справедливо раздраженный субаб, собрав войско, приступил к городу и оный взял. Аглинских военнопленных велел ввергнуть в тесную темницу, в коей они в полсутки издохли. Осталося от них только двадцать три человека. Несчастные сии сулили страже великие деньги, да возвестит владельцу о их положении. Вопль их и стенание возвещало о том народу, о них соболезнующему; но никто не хотел возвестить о том властителю. «Почивает он», – ответствовано умирающим агличанам; и ни един человек в Бенгале не мнил, что для спасения жизни ста пятидесяти несчастных должно отъяти сон мучителя на мгновение. Но что ж такое мучитель? Или паче, что ж такое народ, обыкший к игу мучительства? Благоговение ль или боязнь тягчит его согбенна? Если боязнь, то мучитель ужаснее богов, к коим человек воссылает или молитву, или жалобу во времена нощи или в часы денные. Если благоговение, то возможно человека возбудить на почитание соделателей его бедствий: чудо, возможное единому суеверию. Чему более удивляться, зверству ли спящего набаба или подлости не смеющего его разбудить? – Реналь. История о Индиях. Том II.
(обратно)2
Смотри Белев словарь, статью Акиба.
(обратно)3
«Смерть Катонова», трагедия Еддесонова. Дейс. V. Явлен. I.
(обратно)4
Такого же рода ценсор не дозволял, сказывают, печатать те сочинения, где упоминалося о боге, говоря: я с ним дела никакого не имею. Если в каком-либо сочинении порочили народные нравы того или другого государства, он недозволенным сие почитал, говоря: Россия имеет трактат дружбы с ним. Если упоминалося где о князе или графе, того не дозволял он печатать, говоря: сие есть личность, ибо у нас есть князья и графы между знатными особами.
(обратно)5
Г. Дикинсон, имевший участие в бывшей в Америке перемене и тем прославившийся, будучи после в Пенсильвании президентом, не возгнушался сражаться с наступавшими на него. Изданы были против него наижесточайшие листы. Первейший градоначальник области нисшел в ристалище, издал в печать свое защищение, оправдался, опроверг доводы своих противников и их устыдил… Се пример для исследования, как мстить должно, когда кто кого обвиняет пред светом печатным сочинением. Если кто свирепствует против печатныя строки, тот заставляет мыслить, что печатанное истинно, а мстящий таков, как о нем напечатано.
(обратно)6
Сочинения Ария Монтана, издавшего в Нидерландах первый реестр запрещенным книгам, вмещены были в тот же реестр.
(обратно)7
Кассий Север, друг Лабиения, видя писания его в огне, сказал: «Теперь меня сжечь надлежит, ибо я их наизусть знаю». Сие подало случай при Августе к законоположению о поносительных сочинениях, которое по природному человеку обезьянству принято в Англии и в других государствах.
(обратно)8
Кодекс дипломатический, изданный Гуденом. Том IV.
(обратно)9
Сравнить с ним можно дозволение иметь книги иностранные всякого рода и запрещение таковых же на языке народном.
(обратно)10
Виллиам Какстон, лондонский купец, завел в Англии книгопечатницу при Эдуарде IV в 1474 г. Первая книга, печатанная на английском языке, была «Рассуждение о шашечной игре», переведенное с французского языка. Вторая – «Собрание речений и слов философов», переведенное лордом Риверсом.
(обратно)11
В Дании вольное книгопечатание было мгновенно. Стихи Вольтеровы на сей случай к датскому королю во свидетельство осталися, что похвалою даже мудрому законоположению спешить не надлежит.
(обратно)12
В новейших известиях читаем, что наследник Иосифа II намерен возобновить ценсурную комиссию, предместником его уничтоженную.
(обратно)13
Во время рекрутского набора запрещается в продаже крестьян совершать купчие.
(обратно)14
См. рукописную «Придворную грамматику» Фонвизина.
(обратно)15
Озерки.
(обратно)16
Июнь.
(обратно)17
Если бы сие было писано в 1790 году, то пример Людвига XVI дал бы сочинителю другие мысли.
(обратно)18
С вероятностию корень сего правила о непрекословном повиновении найти можем в воинских законоположениях и в смешении гражданских чиновников с военными. Большая часть у нас начальников в гражданском звании начали обращение свое в службе отечеству с военного состояния и, привыкнув давать подчиненным своим приказы, на которые возражения не терпит воинское повиновение, вступают в гражданскую службу с приобретенными в военной мыслями. Им кажется везде строй; кричат в суде на караул и определение нередко подписывают палкою.
(обратно)19
Сказывали, что сей молодец, за деньги достав себе звание министра при каком-то дворе, должность свою отправлял с похвалою. Сие оправдает мнение тех, кои думают, чтоб быть употреблену с похвалою в делах министерских, надобен ум, а честности мало. Коварство, пронырство, искусство выситься и низиться по обстоятельствам могут сделать отличного министра, но доброго гражданина николи.
(обратно)20
Г. Грим в бытность свою в Лейпциге, извещен будучи, с каким прилежанием мы читали Гельвециеву книгу о разуме, по возвращении своем в Париж сказывал о сем Гельвецию.
(обратно)21
В немецких университетах коллегиею называют собрание слушателей при преподавании какой-либо науки.
(обратно)22
Сие сбылося через несколько лет. (Примеч. в издании 1811 года.)
(обратно)23
Тил., книга VI, стих 318 и след.
(обратно)24
Кн. IV, ст. 262 и сл.
(обратно)25
Книга VII, стих 360.
(обратно)26
Кн. II, ст. 338 и сл.
(обратно)27
Кн. XXII, ст. 427.
(обратно)28
Кн. XVIII, ст. 92.
(обратно)29
Ib., ст. 125.
(обратно)30
Кн. XVIII., ст. 100.
(обратно)31
Ib., ст. 150.
(обратно)32
Кн. XVIII, ст. 298.
(обратно)33
Ib., ст. 310.
(обратно)34
О, какой случай! какое несчастье! (ит. – Ред.)
(обратно)


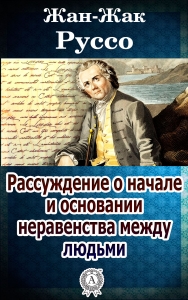

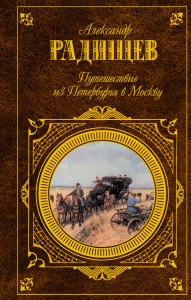

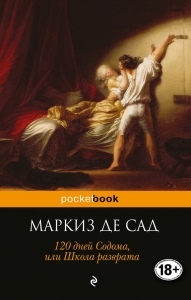

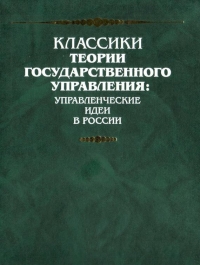
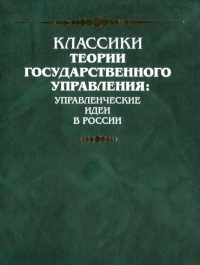
Комментарии к книге «Путешествие из Петербурга в Москву (сборник)», Александр Николаевич Радищев
Всего 0 комментариев