Август Стриндберг Слово безумца в свою защиту
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Какая ужасная книга!» – скажете вы. Мне возразить тут нечего, могу лишь горько об этом пожалеть. Что же породило ее? Настоятельная потребность обмыть свой труп, прежде чем его бросят в гроб.
Помню, как четыре года назад мой друг, тоже литератор и заклятый враг всех тех, кто сует нос в чужие дела, прервал меня, когда разговор зашел о моем браке:
– Знаешь, а ведь это тема для романа, прямо созданная для моего пера!
И вот тогда-то я и решил сам написать роман, почти уверенный в том, что мой друг меня одобрит.
– Не сердись на меня, старина, что я пользуюсь правами собственника и первооткрывателя!
Помнится также, что шестнадцать лет тому назад мать моей бывшей жены, ныне уже покойная, заметив, что я не свожу глаз с ее дочери, в то время еще баронессы, которая напропалую кокетничала с окружающими ее молодыми людьми, сказала:
– Вот вам, сударь, тема для романа.
Жар свалил меня, когда я сидел за письменным столом с пером в руке. До этого я в течение пятнадцати лет ни разу серьезно не болел, и этот случай, происшедший столь некстати, меня вконец обескуражил. Не то чтобы я боялся смерти, вовсе нет, но мне никак не светило закончить свою громкую карьеру в тридцать восемь лет, так и не сказав последнего слова, не успев осуществить своих юношеских мечтаний. Да к тому же я был полон планов на будущее. Уже четыре года я жил с женой и детьми в изгнании, правда, полудобровольном, укрывшись от всех в баварской деревушке; я был вконец измучен, за плечами у меня был суд, меня изолировали от общества, изгнали, попросту говоря, вышвырнули на свалку, и в тот момент, когда я рухнул на кровать, я был всецело во власти одного лишь желания – взять реванш перед тем, как уйти. Началась борьба. У меня не было сил позвать на помощь, я лежал один в своей мансарде, жар не давал мне спуску, он тряс меня, как трясут перину, стискивал горло, чтобы задушить, упирался коленом в грудь, уши от него пылали, и казалось, глаза вот-вот вылезут из орбит. Конечно, это смерть прокралась ко мне в комнату и навалилась на меня.
Но я не хотел умирать. Я оказал ей сопротивление, и завязалась жестокая схватка. Нервы натянулись, кровь быстрее потекла в жилах, мозг трепетал, как моллюск в уксусе. Но, внезапно поняв, что мне не одолеть моего противника, я разжал руки, ничком упал на постель и больше не противился страшным объятиям.
На меня снизошел несказанный покой, сладостная дремота сковала члены, полная безмятежность овладела и телом и душой, уже столько лет не знавшими спасительного отдыха.
Конечно же, это была смерть! Желание жить постепенно рассеялось, я перестал что-либо испытывать, чувствовать, думать. Сознание ушло, и пустоту, возникшую от того, что разом исчезли все безымянные страдания, мучительные мысли, затаенные страхи, заполнило чувство благодатного погружения в бездну.
Проснувшись, я увидел, что жена сидит у моего изголовья и с тревогой глядит на меня.
– Что с тобой, друг мой? – спросила она.
– Я болен! – ответил я. – Но как приятно болеть!
– Да что ты говоришь! Значит, это что-то серьезное…
– Мне конец. Во всяком случае, я на это надеюсь.
– Избави бог, чтобы ты нас оставил в беде! – воскликнула она. – В чужой стране, вдали от друзей, безо всяких средств к существованию, что с нами станется!
– Вы получите мою страховку, – сказал я, чтобы ее утешить. – Это, конечно, немного, но хватит, чтобы вернуться домой.
Оказывается, она об этом забыла и продолжала, уже несколько успокоившись:
– Но, дорогой мой, надо что-то делать. Я пошлю за доктором.
– Нет. Я не хочу доктора!
– Почему?
– Потому что… Короче, не хочу.
Мы обменялись взглядами, в которых были все невысказанные слова.
– Я хочу умереть, – отрезал я. – Жизнь мне опротивела, прошлое кажется спутанным клубком, и я не чувствую в себе силы когда-либо его распутать. Пусть меня окутает мрак, и задернем занавес!
Однако мои излияния не тронули ее, она осталась холодна.
– Опять эти старые подозрения! – пробормотала она.
– Да, опять! Прогони привидения, тебе одной это под силу! Как обычно, она положила руку мне на лоб.
– Теперь хорошо? – спросила она подчеркнуто ласково, тоном заботливой мамочки, как прежде.
– Хорошо!
И в самом деле, прикосновение этой маленькой ручки, которая такой страшной тяжестью легла на мою судьбу, обладало волшебной силой изгонять всех черных дьяволов, рассеивать все тайные сомнения.
Некоторое время спустя жар, однако, снова одолел меня, да пуще прежнего! Жена тут же пошла приготовить бузинный отвар. Оставшись один, я приподнялся на постели, чтобы поглядеть в окно, которое находилось как раз напротив меня. Оно было трехстворчатое, увитое снаружи диким виноградом, но его прозрачно-зеленая листва не закрывала всего пейзажа. На первом плане возвышалась крона айвы, украшенная проглядывающими между темно-зелеными листьями золотистыми плодами; дальше виднелась лужайка и на ней яблони, колокольня церкви, вдали синело Боденское озеро, а на горизонте – Тирольские Альпы.
Лето было в разгаре, и вся эта картина, освещенная косыми лучами солнца, была восхитительна.
До меня доносился посвист скворцов, сидящих на виноградных шпалерах, писк утят, стрекотание кузнечиков, перезвон коровьих колокольцев, и в этот веселый концерт вплетался смех моих детей и голос жены, отдающей какие-то распоряжения и обсуждающей с женой садовника состояние больного.
И тут меня снова охватило желание жить, меня пронзил страх исчезновения. Я решительно не хотел больше умирать, у меня было слишком много обязательств, которые я должен был выполнить, слишком много долгов, с которыми надо было рассчитываться.
Снедаемый угрызениями совести, я испытывал острую потребность исповедаться, молить всех простить меня неизвестно за что, унижаться перед первым встречным. Я чувствовал себя виноватым, отягощенным неведомо какими преступлениями, я сгорал от желали я облегчить свою душу полным признанием своей воображаемой вины.
Во время этого приступа слабости, вызванного врожденным малодушием, вошла моя жена с кружкой горячего отвара и, намекая на манию преследования, которой я прежде страдал, правда в самой легкой форме, отпила глоток, прежде чем протянуть мне кружку.
– Это не яд, – сказала она с улыбкой.
Пристыженный, я не знал, куда деваться, и, чтобы ей угодить, залпом опорожнил всю кружку.
Снотворный отвар бузины напомнил мне своим запахом родину, где с этим таинственным деревцом связаны народные поверья, и вызвал прилив чувствительности, побудившей меня к раскаянию.
– Выслушай меня, дорогая, прежде чем я испущу дух. Я признаю, что я – безнадежный эгоист. Я погубил твою театральную карьеру ради своего литературного успеха. Я искренне готов все это признать. Прости меня.
Она изо всех сил старалась меня утешить, но я перебил ее, чтобы продолжить:
– По твоему желанию мы заключили брак на условиях раздельного владения имуществом. И тем не менее я промотал твое приданое, решившись по легкомыслию воспользоваться залоговым кредитом. Это, признаюсь, терзает меня больше всего, тем более что в случае моей смерти ты не сможешь получить гонорар за мои опубликованные произведения. Вызови поскорее нотариуса, чтобы я мог хоть завещать тебе свое имущество, какое ни на есть. И пожалуйста, после моей кончины вернись к своему искусству, которое ты бросила ради меня.
Она хотела перевести разговор на другую тему, обратить его в шутку, велела мне поспать, уверяя, что все наладится и что смерть вовсе не так близка, как мне кажется.
Вконец обессиленный, я взял ее за руку и попросил посидеть подле меня, пока я буду дремать. Я держал ее маленькую руку в своей и все умолял простить мне зло, которое я ей причинил, а веки мои набрякли в это время сладостной тяжестью, и я почувствовал, что таю как лед, расплавленный лучами ее огромных глаз, и был исполнен бесконечной к ней нежности. Когда же ее поцелуй, словно холодная печать, лег на мой пылающий лоб, я по-Увствовал, что погружаюсь в глубины несказанного блаженства.
Когда я очнулся от летаргии, было уже совсем светло. Солнце освещало штору с изображением сказочной страны изобилия, и, судя по шумам, доносящимся до меня снизу, было часов пять утра. Я проспал беспробудно всю ночь, и мне ничего не приснилось.
Кружка, в которой жена принесла мне отвар, стояла на ночном столике, и стул ее был по-прежнему придвинут к изголовью кровати, а я был укутан ее лисьей шубой, и пушистый мех нежно щекотал мне подбородок.
Мне показалось, что я выспался впервые за последние десять лет – настолько отдохнувшей и свежей была моя перетрудившаяся голова. Мысли, которые прежде беспорядочно блуждали в ней, выстроились теперь в ряд, как солдаты регулярной, сильной, хорошо вооруженной армии, и они были способны выдержать атаку приступов болезненного раскаяния – симптома слабоумия и вырождения.
Прежде всего в сознании всплыли те два темных пятна моей жизни, в которых я исповедовался вчера своей любимой, полагая себя на смертном одре, они терзали меня на протяжении стольких лет и отравили мне мгновенья, которые я считал последними.
Теперь мне захотелось разобраться в этих обвинениях, которые я до сих пор принимал, как очевидность, однако вдруг меня охватило смутное предчувствие, что не все здесь столь очевидно.
Попытаемся выяснить, сказал я себе, в самом ли деле я настолько провинился, что должен считать себя жалким эгоистом, пожертвовавшим актерской карьерой своей жены ради своих честолюбивых целей.
Вспомним, как в действительности обстояло дело. К тому времени, когда мы сделали оглашение о нашем предстоящем браке, она получала в театре уже только второстепенные, точнее даже, третьестепенные роли, так как ее повторный дебют на сцене провалился из-за отсутствия таланта, уверенности, яркости – одним словом, всего. В канун свадьбы ей вручили синюю тетрадку с текстом роли – там было всего два слова, которые произносила компаньонка в какой-то комедии.
Сколько слез, сколько горя принес брак, погубивший карьеру артистки, пользовавшейся когда-то успехом из-за титула баронессы, а теперь оторванной, и поделом, от искусства.
Конечно, в том крушении, которое началось тогда и которое после двух лет слез над все более тонкими тетрадками ролей привело к ее уходу из театра, повинен оказался именно я.
Когда ее театральная карьера подходила к своему печальному концу, я как раз добился успеха как романист, причем успеха серьезного, бесспорного. Так как я уже прежде писал для театра какие-то вещицы, я сразу же взялся за сочинение так называемой «хорошо сделанной» пьесы, то есть такой, которая потакает вкусам публики, с единственной целью обеспечить любимой столь желанный ею новый ангажемент.
Я взялся за это дело против воли, потому что давно уже считал необходимым обновить драматургию, но, жертвуя своими литературными убеждениями, написал пьесу по старым образцам, поскольку мне надо было во что бы то ни стало вывести мою дорогую подругу перед публикой, всеми известными приемами швырнуть ее зрителям в лицо, обманным путем завоевать ей симпатию капризной толпы. Но тем не менее ничего не получилось.
Пьеса провалилась, актриса не смогла завоевать публику, принявшую ее враждебно из-за развода и нового брака, и директор поспешил расторгнуть договор, который ему ничего не сулил.
«Моя ли это была вина? – спросил я себя, потягиваясь на кровати, очень довольный собой после этого первого расследования. – Ах, как хорошо иметь чистую совесть!» – воскликнул я. Исо спокойным сердцем двинулся дальше.
Печальный, мрачный год проходит в слезах, невзирая на радость от рождения желанной дочери.
Внезапно театральный раж охватывает ее с новой силой. Мы бегаем к директорам всех театров, врываемся к ним без разрешения занимаемся саморекламой, лезем из кожи вон, но безуспешно, отовсюду нас выпроваживают, все советуют отступиться.
Подавленный провалом своей пьесы, тем более неприятным, что я только завоевывал себе имя в литературе, я больше не намеревался сочинять дурные комедии и не собирался разрушить наш брак из-за преходящего каприза, с меня хватало и тех горестей, которые были неизбежны.
И все же я не выдержал характера и, используя свои связи с одним финским театром, добился для жены серии гастрольных выступлений.
Таким образом, я сам дал розги, чтобы меня высекли. Вдовец, холостяк, глава семьи и повар в течение целого месяца! И малым утешением мне были те две охапки цветов и венки, которые она привезла в наш семейный дом.
Но она была такой счастливой и прелестной, она так помолодела, что мне пришлось тут же отправить директору просьбу о заключении с ней контракта на постоянную работу.
Вы только подумайте! Я решаюсь покинуть свою страну, своих друзей, свою работу, своего издателя ради каприза. Но что поделаешь! Либо любишь, либо нет.
К счастью, директор не смог принять в труппу актрису, не имеющую репертуара.
«А виноват, значит, я? Вот так!» Я млею от восторга на постели.
Ах, как, оказывается, полезно время от времени проводить Расследование, как это делают англичане. Я испытываю огромное облегчение и чувствую новый прилив сил.
Посмотрим, что было дальше! Рождаются дети, один за другим – первый, второй, третий. Пожинаем, что посеяли. А театральный раж все не иссякает. С ним надо как-то совладать. В это время как раз открывается новый театр. Что может быть проще: я предложу им новую пьесу, на сей раз пьесу о женщине, пьесу, возможно, сенсационную, поскольку женский вопрос привлекает теперь внимание общества.
Сказано – сделано, потому что, как вы знаете, либо любишь, либо не любишь.
Итак, драма с главной женской ролью, соответствующий гардероб, колыбель с младенцем, лунная ночь, появление бандита, слабовольный, трусливый муж, души не чающий в своей жене (это – я), беременность (это уже что-то новое на сцене!), действие переносится в монастырь, ну и все прочее… Триумфальный успех актрисы и полный провал автора. Провал… Да!
Она была спасена, а я погиб, пошел ко дну.
Несмотря на все, – на ужин в ресторане за 100 франков для директора театра, на штраф в 50 франков, уплаченных в префектуре за слишком громкие выкрики «виват» в ночное время, – нового ангажемента, увы, не намечалось.
Но моей вины в этом не было!
Кто же из нас жертва? Кто мученик? Сомнений нет – я! И тем не менее я чудовище в глазах всех порядочных женщин, потому что помешал карьере своей жены и загубил ее талант. Сознание это мучает меня долгие годы, причем настолько, что я даже не могу спокойно умереть. Сколько раз мне публично в лицо кидали горькие упреки. Ха! А на самом-то деле все было как раз наоборот. Карьера погублена, но чья? И кем?
Меня терзают жестокие подозрения, и доброе настроение улетучивается при мысли, что я мог бы оказаться для потомков погубителем таланта и не нашлось бы защитника, который обелил бы меня.
Остается промотанное приданое.
Помню, мне посвятили даже фельетон под названием «Растратчик приданого», помню также очень четко случай, когда мне бросили в лицо, что моя жена содержала своего мужа. Это приятное замечание заставило меня зарядить револьвер шестью пулями. Что ж, докопаемся и здесь до истины, раз люди пожелали в этом копаться, рассудим и это дело, раз люди сочли приличным судить о нем.
Приданое моей жены номинально исчислялось десятью тысячами франков, однако эта сумма была не в наличных деньгах и не в гарантированных процентных бумагах, а в сомнительных акциях, которые мы заложили в банке на мое имя, получив за них, как и положено, лишь пятьдесят процентов их биржевой стоимости. Когда же наступил всеобщий крах, акции эти почти полностью обесценились, потому что в этот критический момент их оказалось невозможно продать. Это был факт, с которым прежде мало сталкивались, но так или иначе я был вынужден внести в банк сполна всю сумму моего займа, то есть пятьдесят процентов ее капитала. В дальнейшем эмиссионный банк возместил жене двадцать пять процентов всей суммы в соответствии с дивидендом наличности банка к моменту краха.
Вот задача для математиков. Сколько же я промотал? Выходит, нисколько. За акции, которые нельзя продать, держатель может получить не номинальную, а лишь их реальную стоимость, то есть ничего, но заложив их, я все же обеспечил, так сказать, прибавочную стоимость в размере двадцати пяти процентов.
Вот это да! Неужели я окажусь невиновным в этом деле, как и в первом!
А как же угрызения совести, приступы отчаяния, постоянные мысли о самоубийстве! И подозрения, былое недоверие, чудовищные подозрения снова терзают меня, и я прихожу в бешенство при мысли, что был готов умереть жалким неудачником. Я был перегружен заботами и работой, у меня никогда не было времени разбираться во всех этих слухах, намеках, ядовитых насмешках, и пока я весь без остатка отдавался своим трудам, из клеветы завистников и болтовни в кафе рождалась коварная легенда. Черт подери! Подумать только, что я верил всем, кроме самого себя!
Может быть, я вовсе не сумасшедший и никогда не был ни душевно больным, ни дегенератом. Может быть, я просто оказался в дураках, может быть, я обманут любимой обольстительницей, и ее маникюрные ножницы обрезали у Самсона волосы, когда он положил ей на колени голову [1], отяжелевшую от забот и трудов ради нее и ее детей!
Исполненный доверия, ни о чем не подозревая, я, быть может, потерял честь, пока спал целое десятилетие в объятиях чаровницы, потерял мужественность, волю к жизни, ум, свои пять чувств, и даже больше того!
Быть может, – об этом было даже стыдно подумать! – под завесой тумана, в котором я брожу, как призрак, все эти годы, свершается преступление. Маленькое неосознанное преступление, вызванное смутной жаждой власти, тайным стремлением самки взять верх над самцом в этом поединке, который мы зовем браком.
Сомнений нет, я был обманут! Меня соблазнила замужняя женщина, и я был вынужден на ней жениться, чтобы прикрыть ее беременность и тем самым спасти ее театральную карьеру. По брачному договору у нас раздельное владение имуществом и паритетное участие в текущих расходах, но после десяти лет брака я оказался разоренным, ограбленным, потому что один обеспечивал семью. И теперь, когда моя жена гонит меня прочь, как ничтожество, не способное даже содержать свой дом, и рассказывает всем, что я соблазнитель и растратчик ее воображаемого состояния, она в действительности должна мне сорок тысяч франков, составляющих ее долю, в соответствии с договоренностью в день нашего бракосочетания в церкви.
Она – моя должница!
Решив выяснить все до конца, я встал, вернее, вскочил с постели, как тот парализованный из Евангелия, отбросил воображаемые костыли и торопливо оделся, чтобы поскорее увидеть жену.
Сквозь приоткрытую дверь взору моему предстала прелестная картина. Она лежала на разобранной постели, ее красивая головка утопала в белых подушках, по наволочке рассыпались змейками растрепанные волосы цвета пшеницы, а плечи, выскользнувшие из кружевной рубашки, свидетельствовали о девственной упругости груди. Под мягкой периной в бело-красную полоску угадывалось хрупкое изящное тело и крошечные ножки безупречных линий, а их розовые пальчики венчались совершенными по форме, прозрачными ногтями. Она – подлинный шедевр, сделанный из живой плоти по образцам античных мраморных статуй. Исполненная целомудренного счастья материнства, она с беззаботной улыбкой глядела на своих трех пухлых малышей, которые взбирались к ней на кровать, утопая в полосатой перине, как в стоге только что скошенных цветов.
Обезоруженный этим дивным зрелищем, я сказал себе: «Берегись, когда пантера играет со своими щенятами».
Укрощенный, покоренный ее величеством матерью, я вошел нетвердой походкой, робея, будто школьник.
– Вот ты и встал, милый! – приветствовала она меня с удивлением, но без той радости, которую мне хотелось бы увидеть.
Я начал что-то запутанно объяснять, не в силах отдышаться из-за детей, которые полезли мне на спину, когда я нагнулся, чтобы поцеловать мать. «Неужели она преступница?» – спрашивал я себя уже у двери, побежденный оружием благопристойной красоты, чистосердечной улыбкой этого рта, который никогда не был осквернен ложью. Нет, тысячу раз нет!
Итак, я удалился, убежденный в ее невиновности, но тут же меня одолели жестокие сомнения. Почему мое выздоровление, на которое уже не было ни малейшей надежды, оставило ее равнодушной? Почему она не осведомилась, как протекала моя лихорадка, не поинтересовалась подробностями минувшей ночи? И чем объяснить это выражение чуть ли не разочарования на ее лице, пожалуй, даже неприязненного удивления, когда она увидела меня живым и здоровым, и эту насмешливую снисходительную ухмылку, исполненную чувства превосходства! Уж не питала ли она слабой надежды обнаружить меня нынче утром мертвым и тем самым освободиться от безумца, который делал ее жизнь невыносимой? Она получила бы жалкую тысячу франков страховки, но они помогли бы ей проложить новый путь к своей цели? Нет, тысячу раз нет!
И все же сомнения терзали меня, сомнения во всем – и в честности жены, и в моем отцовстве, и в моем душевном здоровье, они впивались в мой мозг, словно гвозди, не давая ни отдыха ни срока.
Во всяком случае, с этим состоянием надо было покончить, положить решительный предел этим опустошающим мыслям. Я должен наконец узнать правду или умереть. Либо здесь скрывается преступление, либо я сошел с ума. Мне остается одно – выяснить правду. Обманутый муж! Ну и пусть, лишь бы только знать, чтобы спасти себя юмором висельника! Есть ли на свете мужчина, уверенный в том, что он единственный избранник? Окинув мысленным взором всех друзей моей юности, ныне женатых, я выискал только одного, которому не изменяла жена, остальные же, счастливчики, ни о чем не подозревают. Ах, эти счастливчики. Стоит ли быть мелочным? Один ли ты владеешь женщиной или делишь ее с кем-то, какая разница! Но не знать этого смехотворно. Главное – знать! Живи иной муж хоть сто лет, он все равно ничего не узнает о жизни своей жены. Он может постигнуть законы общества, вселенной, но о той, которая связана с его жизнью, он все равно не будет иметь ни малейшего представления.
Вот почему этот несчастный господин Бовари так крепко засел в памяти всех счастливых супругов. Но я желаю знать! Знать, чтобы отомстить. Да полноте, что за глупости! Кому мстить? Счастливым избранникам? Но они лишь воспользовались своим правом самца. Или жене? О, не надо быть мелочным. Да и как можно губить мать этих ангелочков? Об этом и речи быть не может.
Но мне непременно надо знать. И с этой целью я решил произвести расследование, глубокое, тайное, научное, если угодно, используя при этом все возможности психологии, не пренебрегая ни внушением, ни чтением мыслей, ни нравственными пытками и не гнушаясь также взломами и кражами, перехватом писем, фабрикацией фальшивок, подделкой подписей – одним словом, ничем. Что это – навязчивая идея, одержимость маньяка? Не мне об этом судить. Пусть просвещенный читатель бесстрастно произнесет свой приговор, прочитав эту чистосердечную книгу. Быть может, он обнаружит в ней зачатки физиологии любви, крохи патопсихологии, а также немного философии преступления.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Тринадцатое мая 1875 года. Стокгольм. Я и сейчас вижу себя в просторном зале Королевской библиотеки, занимающей целое крыло дворца. Этот двусветный зал, стены которого обшиты потемневшим от времени буком цвета хорошо обкуренной пенковой трубки, украшен рокальными картушами, резными гирляндами, цепями, гербами и опоясан на уровне второго этажа галереей с витыми тосканскими колонками, а если глядеть на него с этой галереи, то он кажется бездонной бездной. Сотни тысяч книг, стоящих на полках, подобны гигантскому мозгу, хранящему мудрость ушедших поколений. Плотные шеренги книжных шкафов трехметровой высоты разделены на два отдела проходом, подобным аллее, пересекающим зал из конца в конец. Солнечные лучи проникают сюда из дюжины окон и играют на корешках тесно уставленных томов: пергаментных, с золотым тиснением – эпохи Возрождения, из черной кордовской кожи с серебряными накладками – XVII века, из телячьей шкуры с киноварным обрезом – XVIII века, и современных, из зеленого имперского шевро или простых, из обычного картона. Богословы соседствуют здесь с чернокнижниками, философы – с естествоиспытателями, историки – с поэтами. Спрессованные мысли всех эпох образуют как бы геологический срез, свидетельствующий об эволюции как человеческой глупости, так и человеческого гения.
Я и сейчас вижу, как стою там на галерее и разбираю груду книг, полученных библиотекой в дар от одного знаменитого библиофила, который оказался настолько предусмотрительным, что обеспечил себе бессмертие, наклеив на каждый шмуцтитул свой экслибрис с девизом: Speravit infestis [2].
Суеверный, как все атеисты, я был под впечатлением этого изречения, которое вот уже целую неделю попадается мне на глаза, как только я открываю какую-нибудь книгу. Этот господин, потомок шести епископов, не терял надежду в превратностях судьбы, и это было для него великое благо. А вот я потерял всякую надежду пристроить мою трагедию в пять актов, шесть картин и три перемены, а чтобы продвинуться по службе, мне надо было похоронить целых семь сверхштатных сотрудников библиотеки, так и пышущих здоровьем, притом четверо из них уже имели оклад.
Когда ты в двадцать восемь лет получаешь мизерное жалованье в двадцать франков, в месяц, да еще у тебя в мансарде валяется трагедия в пять актов, то легко впасть в современный пессимизм, этот обновленный скептицизм, но только приспособленный для неудачников, как компенсация за то, что не каждый день удается пообедать и приходится носить видавший виды плащ.
Я был действительный член ученой богемы, скроенной по патронке старой артистической богемы, сотрудник серьезных газет и многословных журналов, где плохо платят, акционер анонимного общества по переводу «Философии бессознательного» Эдуарда Гартмана [3], а кроме того, член тайной лиги сторонников свободной, но не бесплатной любви, обладатель весьма неопределенного титула Королевского секретаря и автор двухактной пьесы, которую играли в Королевском театре, и при всем этом мне стоило немалых трудов раздобывать пищу, необходимую для поддержания своего убогого существования. Таким образом, не удивительно, что я невзлюбил жизнь, но это вовсе не значит, что я не хотел больше жить, совсем наоборот, я из кожи вон лез, чтобы тянуть подольше это свое запутанное существование и продолжить себя и свой род. Надо признаться, что пессимизм, буквально понимаемый лишь непосвященными – его путают с ипохондрией, – позволяет на самом-то деле весьма бодро и утешительно глядеть на окружающий тебя мир. Поскольку все есть в конечном счете ничто и имеет лишь относительную ценность, то выходит, волноваться решительно не из-за чего. Поскольку истина также понятие не абсолютное и зависит от предлагаемых обстоятельств – ведь недавно открыли, что вчерашняя истина превращается в завтрашнюю ложь или глупость, – то стоит ли тратить свои юные силы на открытие новой лжи или глупости? Поскольку несомненной является только смерть, то давайте жить. Для кого, для чего? Реставрация старых порядков, которые были упразднены в конце прошлого века, завершилась у нас восшествием на престол Бернадота, разочаровавшегося якобинца [4], а поколение тысяча восемьсот шестидесятого года, к которому и я принадлежу, поняло, что все его надежды напрасны, как только произошла парламентская реформа [5], объявленная с таким шумом. Две палаты, сменившие прежние четыре, состояли в основном из крестьян, и сейм превратился в своего рода муниципальный совет, где они собирались по взаимному соглашению обсуждать всякие мелкие расходы, оставляя в стороне все вопросы прогресса. Политика явилась нам как некий компромисс между общественными и личными интересами, а от последних остатков веры в то, что тогда называлось идеалом, у нас остались лишь горькие принципы, которых мы и придерживались. Добавим к этому и религиозную реакцию после смерти Карла XV [6], в период влияния королевы Софии Нассауской, и тогда мы найдем для просвещенного пессимизма причины не только личного характера.
Тем временем, задохнувшись от книжной пыли, я открываю окно, выходящее на Двор Львов, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом и полюбоваться видом. Сирень цветет, ее ветки колышет легкий ветерок, напоенный запахом тополиного пуха, жимолость и дикий виноград уже начали обвивать решетчатую ограду, но акация и платаны не спешат, зная о капризах мая. И все-таки это уже весна, хотя остовы деревьев и кустов еще виднеются под молодой листвой. Над баллюстрадой из колонок, увенчанных дельфтскими фаянсовыми вазонами с синими монограммами Карла XII [7], высятся у причала мачты пароходов, расцвеченных сигнальными флагами в честь майского праздника. Еще дальше виднеется бутылочно-зеленая вода бухты, стиснутой с двух сторон берегами, поросшими лиственными и хвойными деревьями. Все суда на рейде тоже украшены национальными флагами, символизирующими разные страны: английский флаг с красным, как непрожаренный ростбиф, полем; испанский желто-алый флаг, подобный полосатым тентам мавританских балкончиков; звездный тик флага Соединенных Штатов; веселое французское трехцветье соседствует с унылым, вечно траурным флагом Германии с трефовым тузом у древка; датский флаг, напоминающий дамскую блузку, и опрокинутая трехцветка флага Российской империи. Все это чуть ли не впритык друг к другу раскинуто на темно-синей скатерти северного неба. Грохот экипажей, трели свистков, перезвон корабельных рынд, скрип подъемных кранов. Запахи машинного масла, селедки, сыромятной кожи, колониальных пряностей, смешанные с ароматом сирени и освеженные дующим с моря восточным ветром, который приносит с собой суровое дыхание плавучих льдин Балтики.
Повернувшись спиной к книгам, я высунулся из окна, чтобы омыть в этой ванне впечатлений все мои пять чувств, и как раз в этот момент духовой оркестр дефилирующего караула грянул марш из «Фауста». Музыка, флаги, синее небо, цветы – все это меня настолько опьянило, что я не заметил, как пришел посыльный, принес почту. Он похлопал меня по спине, вручил мне письмо и тут же исчез.
Это было письмо от женщины. Я нетерпеливо распечатал его, почуяв, что оно принесет мне удачу. Принесет наверняка!
«Назначаю вам свидание сегодня после обеда, ровно в пять часов, перед домом номер 65 на улице Регентства. Знак, чтобы вы меня узнали: свернутые в трубочку ноты».
Совсем недавно меня обманула одна юная дьяволица, она очень ловко провела меня, поэтому я был готов на любое приключение, без разбора, заранее поклявшись себе не огорчаться в случае неудачи. И все же это письмо было мне неприятно своим тоном, слишком уж уверенным, чуть ли не повелительным, который оскорблял мое достоинство самца. Как это неизвестная мне особа посмела так внезапно напасть на меня, не оставляя никаких путей к отступлению. Хорошего же мнения эти дамочки о нашей мужской добродетели, нечего сказать! Они, видите ли, не разрешения спрашивают, а повелевают нами. К тому же я был приглашен сегодня после обеда поехать с компанией за город, так что у меня решительно не было никакой охоты вдвоем прогуливаться среди бела дня по центральной улице. Тем не менее ровно в два часа пополудни я отправился на встречу со своими товарищами, которая была назначена в лаборатории нашего химика. В передней уже толкались магистры и кандидаты всевозможных наук, в том числе и философских и медицинских, и всем им не терпелось поскорее узнать подробности относительно предстоящего кутежа.
Выслушав мои извинения по поводу того, что я не смогу нынче вечером составить им компанию, собравшиеся потребовали, чтобы я изложил причины, мешающие мне участвовать в вечерней оргии. Я показал полученное письмо одному зоологу, который, как считалось, собаку съел в такого рода делах, но тот лишь покачал головой и изрек следующую сентенцию:
– Пустое!… Дело пахнет браком, семейным очагом, а не продажной любовью… Впрочем, поступай как знаешь. Пойди туда, потом приезжай с нею к нам в парк, если будет охота, а она окажется не такой, как я полагаю.
Таким образом, в указанный час я стоял на тротуаре в условленном месте, ожидая появления прекрасной незнакомки.
Свернутые в трубочку ноты – это нечто вроде брачного объявления в газете. И я заколебался, подойти ли мне, когда увидел женщину, первое впечатление от которой было – для меня это важно – крайне неопределенным. Неопределенным мне показался ее возраст, может, двадцать девять, но может – и сорок два, и причудливая одежда – ее равным образом можно было принять за артистку и за синий чулок, за маменькину дочку и за девицу, лишенную предрассудков, за эмансипированную барышню и за кокотку. Она представилась мне как невеста одного моего давнишнего приятеля – оперного певца, который пообещал ей мое покровительство, что, как выяснилось в дальнейшем, было ложью.
Она разыгрывала из себя эдакую беспрестанно щебечущую пичужку и уже через полчаса принялась поверять мне все, что чувствует и думает, но поскольку меня это нимало не интересовало, я спросил у нее, чем могу быть ей полезен.
– Мне выступать в роли наставника молодой барышни?! Да неужто вы не знаете, что я дьявол во плоти?
– Вам нравится так думать, но мне про вас все известно, – возразила она. – На самом деле вы просто-напросто несчастны и вас надо спасти от черной меланхолии.
– Ах, вот, значит, как! Вы полагаете, что видите меня насквозь, а в действительности вы знаете лишь устаревшее мнение, которое сложилось на мой счет у вашего жениха.
На эту фразу ей возразить было нечего. Но она оказалась в курсе всего и считала, что и на расстоянии умеет читать в сердце мужчины. Она была одной из тех прилипчивых натур, которые жаждут власти над умами и проникают ради этого в самые потаенные Уголки души своих знакомцев. Она вела огромную переписку, забрасывая письмами всех мало-мальски известных людей, давала им советы, подстегивала честолюбие у тех, кто помоложе, и мнила, что решает чьи-то судьбы. Она жаждала власти и поэтому объявила себя спасительницей заблудших душ, всем покровительствовала и полагала, что именно ей предначертано судьбой заняться моим спасением. Короче говоря, она была чистокровной интриганкой, обладавшей небольшим умом, но огромной женской смелостью.
Я взялся подтрунивать над ней, не щадя при этом ни свет, ни людей, ни самого господа бога. Тогда она объявила, что я насквозь прогнил.
– Да помилуйте! Мои свежие мысли, мысли нового времени кажутся вам прогнившими, а ваши, взятые напрокат из ушедшей эпохи, все то, что еще в дни моей юности казалось отжившим и набило всем оскомину, представляются вам чуть ли не откровением. Вы подаете мне консервы в плохо запаянных жестяных банках, а воображаете, что это свежайшие плоды. Увы, они уже дурно пахнут.
Она пришла в ярость и, вконец сбитая с толку, резко со мной попрощалась.
Инцидент был исчерпан, и я тут же направился в парк, где уже кутили мои приятели, и мы провели всю ночь без сна.
На следующее утро, когда я вознамерился было опохмелиться, мне опять принесли письмо, полное женского чванства, но и снисходительности, изобилующее упреками, выражениями сочувствия и пожеланий скорейшего душевного выздоровления, в конце же она назначала мне новое свидание, чтобы совместно навестить престарелую матушку моего друга.
Как светский человек, я был готов вытерпеть и это новое испытание, и, чтобы отделаться, как говорится, малой кровью, я напялил на себя маску полнейшего равнодушия к миру, богу, да и ко всему остальному тоже.
Что это была за встреча! В отороченном мехом, стянутом в талии платье и шляпе а-ля Рембрандт, она выглядела на редкость привлекательно, вела себя с нежностью старшей сестры и сама избегала всех опасных тем. Таким образом, благодаря нашим взаимным усилиям угодить друг другу, между нами завязался не только оживленный, но и приятный разговор.
После визита к матери моего друга мы пешком пошли домой по весенним улицам.
То ли в силу некоего дьявольского промысла, то ли от желания взять реванш, поскольку накануне я играл омерзительную роль исповедника, я сказал ей, что почти обручен, что, впрочем, было лишь полуложью, так как я усиленно ухаживал за одной молодой особой.
В ответ она, будто старуха, принялась сочувствовать этой бедной девице, расспрашивать меня об ее характере, внешности, занятиях, общественном положении. Я набросал ее портрет с целью вызвать ревность, в результате чего наш дружеский разговор как-то сник. Оно и понятно – как только ангел-хранитель пронюхал о существовании соперницы, его интерес ко мне явно ослаб. И мы расстались, так и не преодолев возникшего между нами холода.
Свидание, тем не менее назначенное на следующий день, было заполнено разговорами о любви и о моей так называемой невесте.
Ей достаточно было недели, которую мы провели, гуляя или бегая по театрам и концертам, чтобы на правах своего рода наперсницы незаметно просочиться в мою жизнь. Наши ежедневные встречи включались в мой распорядок дня, и я уже не мог без них обойтись. В разговорах с образованной женщиной есть особое, чуть ли не чувственное наслаждение – прикосновение душ, объятия умов, интеллектуальные нежности.
В одно прекрасное утро она явилась ко мне глубоко взволнованная и стала цитировать наизусть пассажи из письма жениха, полученного накануне. Как выяснилось, он ее бешено ревновал. И тогда она призналась мне, что, встретившись со мной, действовала против его воли, потому что он настоятельно просил ее избегать меня, видимо, инстинктивно предчувствуя, что наша встреча к добру не приведет.
– Я не понимаю этой ужасной ревности, – сказала она мне с подавленным видом.
– Потому что вы ничего не понимаете в любви, – ответил я ей.
– Любовь!
– Да, любовь, которая есть не что иное, как возвышенное чувство собственности, а ревность – это страх потерять то, что так дорого.
– Фи, какая гадость! Собственность!
– Видите ли, это взаимная собственность. Возлюбленные принадлежат друг другу.
Она не желала так воспринимать любовь. Любовь – это чувство бескорыстное, возвышенное, целомудренное, которое невозможно выразить.
Хотя ее нареченный был от нее без ума, она его явно не любила, о чем я ей без обиняков и сказал.
Она пришла в страшное возбуждение и тут же призналась, что не любила его никогда.
– И вы намерены выйти за него замуж?
– Естественно. Иначе он пропадет. Ясно, она ведь занимается спасением душ.
Она злилась все больше и стала меня уверять, что никогда не была его невестой.
Оказалось, что лгали мы оба. Какое везенье!
Мне оставалось лишь объясниться с ней, заверив, что и моя помолвка тоже выдумка. Мы имели полную возможность воспользоваться нашей свободой.
Но как только она перестала ревновать, игра возобновилась с новой силой. Я письменно признался ей в любви, и она тут же запечатала мое письмо в конверт и отослала его своему бывшему возлюбленному, который незамедлительно принялся оскорблять меня при помощи почтовых отправлений.
Тогда я потребовал от нашей прелестницы, чтобы она сделала свой выбор и остановилась на одном из нас. Но это никак не входило в ее намерения, ей хотелось выбрать нас обоих, а если можно, то троих, четверых, чем больше, тем лучше, лишь бы они валялись у ее ног и молили о праве ее обожать.
Мое мнение сложилось окончательно: она была кокетка, пожирательница мужчин, целомудренная полигамистка. И все же я влюбился в нее, поскольку мне опостылела продажная любовь и наскучило одиночество в моей мансарде.
К концу ее пребывания в столице я пригласил ее посетить библиотеку с намерением ослепить ее, покрасоваться перед ней в обстановке, которая не могла не оказать на нее подавляющего впечатления, несмотря на ее птичьи мозги и высокомерную манеру держаться. Я таскал ее из галереи в галерею, демонстрируя свои библиографические знания, заставил любоваться средневековыми миниатюрами, автографами знаменитых людей, излагал важнейшие исторические эпизоды, описанные в хранящихся здесь манускриптах, показывал инкунабулы, и в конце концов она почувствовала неловкость от сознания своего невежества.
– Да вы же настоящий ученый! – воскликнула она.
– Конечно.
– Бедный актеришка, – пробормотала она, вспомнив своего несостоявшегося жениха.
Казалось, можно не сомневаться, что актер отныне отвергнут раз и навсегда. Однако ничуть не бывало. Лицедей грозил мне в письмах револьвером, обвиняя меня в том, что я похитил у него возлюбленную, которую он, несчастный, отдал под мою защиту. В своем ответе я дал ему понять, что ничего у него не похищал, да он и не мог мне ничего доверить, поскольку сам ничем не располагал. На этом наша переписка прекратилась, и установилось молчание.
Приближался день ее отъезда. Накануне нашей прощальной встречи я получил от нее взволнованное письмо, в котором она сообщала мне о моей необычайной удаче. Оказывается, она прочитала мою трагедию каким-то своим знакомым из высшего общества, у которых большие связи в дирекции театра. Пьеса произвела такое сильное впечатление на указанных господ, что они выразили желание непременно познакомиться с автором. Все подробности она мне расскажет при встрече нынче в полдень.
В назначенный час она потащила меня по магазинам, чтобы сделать последние покупки, не прекращая при этом рассказывать о состоявшейся читке пьесы. Хорошо зная мое отвращение ко всяким покровителям, она пускала в ход самые веские аргументы, чтобы меня переубедить. А я отбивался как мог:
– Но, дорогая, мне отвратительно звонить в чужие двери, представать перед незнакомыми людьми, болтать о чем попало, только не о главном, и просить, словно нищий, о помощи того или другого из сильных мира сего…
Я не успел договорить своей тирады, как она вдруг остановилась перед молодой дамой, одетой с изысканной элегантностью. Она представила меня госпоже баронессе N, которая произнесла несколько фраз, но я их едва разобрал из-за шумной толпы, наводнившей тротуар. Я пробормотал в ответ несколько бессвязных слов, досадуя, что попал в западню, подстроенную этой хитрой бестией. Заговор, да и только.
Баронесса ушла, повторив приглашение, которое мне уже успела передать моя пассия.
Эта молодая женщина поразила меня своим обликом, тем, что у нее был вид девчонки, чуть ли не ребенка, хотя я знал, что ей уже исполнилось двадцать пять лет. Головка школьницы, прелестное личико, обрамленное непокорными колечками светлых волос цвета спелой пшеницы, плечи принцессы, талия гибкая, как лоза, и особая манера склонять головку, выражая этим одновременно искренность, почтительность и свое превосходство. И представьте себе, эта юная мать-девственница осталась жива-здорова после пережитой мною трагедии!
Жена гвардейского капитана, мать трехлетней дочки, она безумно увлеклась театром, не имея при этом никакой надежды попасть на сцену из-за того, что ее муж и, еще в большей степени, свекор, назначенный камергером двора, занимали слишком высокое положение в обществе.
Вот как обстояли дела, когда пароход развеял мои майские грезы, увозя мою красавицу к лицедею, который с того времени присвоил себе все мои права, и в частности забавлялся тем, что вскрывал мои письма к его любимой в отместку, видимо, за подобные мои поступки по отношению к его эпистолам, которые мы еще недавно вместе читали во время наших с ней встреч.
На трапе парохода, во время нашего нежного прощания, она заставила меня поклясться, что я навещу баронессу в самые ближайшие дни, и все точки над «и» были поставлены.
После того как прекратились наши встречи, столь непохожие своими романтическими мечтаниями на залихватские дебоши ученой богемы, осталась пустота, которую необходимо было чем-то заполнить. Дружба с женщиной своего круга, отношения между двумя личностями разного пола вновь пробудили во мне потребность в утонченном общении, давно искорененную у меня семейными неурядицами.
Чувство очага, убитое жизнью в кафе, вдруг опять расцвело от общения с женщиной очень обыденной, но честной в самом вульгарном смысле этого слова. В результате всего этого я однажды вечером около шести часов оказался перед дверью дома, расположенного на Северном бульваре.
Какое фатальное совпадение! Это оказался мой родной дом, где я провел самые тяжкие годы своего отрочества, пережил тайные бури мужского созревания, смерть матери, приход в дом мачехи. Мне вдруг стало так плохо, что захотелось повернуть назад и бежать без оглядки из страха, что на меня снова нахлынут все горести детских лет. Двор ничуть не изменился, он был точь-в-точь таким, как прежде: те же огромные ясени. О, сколько весен кряду я с нетерпеньем жда.г появления первых зеленых листиков на их ветвях! Мрачный дом нависал над обрывом песчаного карьера, и угроза обвала, ожидаемого уже многие годы, заставила хозяев снизить квартирную плату.
Несмотря на чувство подавленности, вызванное тяжелыми воспоминаниями, я взял себя в руки, вошел в подъезд, поднялся по лестнице и позвонил. Услышав звонок, я представил себе, что мне сейчас откроет отец. В проеме двери появилась прислуга и тут же исчезла, чтобы доложить о моем приходе. Мгновенье спустя вышел барон и приветствовал меня самым сердечным образом. На вид ему можно было дать лет тридцать, он был высокого роста, правда несколько тучен, но благородной осанки и отличался изысканно светскими манерами. Его большое, чуть одутловатое лицо освещалось ярко-синими глазами, взгляд которых, однако, показался мне печальным, так же как и его улыбка, переходящая в горькую усмешку, за которой, видно, скрывались пережитые разочарования, неосуществленные намерения и несбывшиеся надежды.
Гостиная – та комната, где у нас в свое время помещалась столовая, – была обставлена не без артистизма, но несколько небрежно. Барон носил фамилию не менее прославленную в отечественной истории, чем Конде или Тюрен во Франции, и смог, в силу этого, собрать коллекцию семейных портретов времен Тридцатилетней войны. Со стен глядели господа в отливающих серебром латах и в париках а-ля Людовик XIV на фоне пейзажей в духе дюссельдорфской школы. Со старинной мебелью, заново отполированной и позолоченной, соседствовали вполне современные стулья и пуфы, и все это было расставлено таким образом, что в просторной гостиной, которая так и дышала теплом, уютом и семейным покоем, не было ни одного пустого уголка.
Вошла баронесса. Она показалась мне прелестной, сердечной, простой, приветливой. Но я почувствовал в ней какое-то напряжение, едва уловимое смущение, что ли, которое меня сковывало, пока я не догадался о его причине.
Шум, доносящийся до нас из соседней комнаты, свидетельствовал о присутствии гостей. И в самом деле, там собрались родственники молодых супругов, чтобы играть в вист. Минуту спустя я уже был в обществе четырех членов их семьи: камергера, капитана в отставке, матери и тетки баронессы.
Как только старшее поколение уселось за игорный столик, между нами, представителями, так сказать, молодежи, завязался разговор. Барон признался в своем пристрастии к живописи, рассказал, что в юности учился в Дюссельдорфе, получив стипендию от покойного короля Карла XV. Так я нащупал отправную точку для установления контактов, поскольку и я был бывшим стипендиатом этого короля, как драматический автор.
И завязался разговор о живописи, театре, личности нашего покровителя. Однако постепенно наш пыл поостыл, возможно, из-за присутствия пожилых людей, которые время от времени встревали в наш разговор, всякий раз внося какой-то разнобой или касаясь заведомо больных мест, так что вскоре я почувствовал себя сбитым с толку и растерянным в такой разношерстной компании.
Я встал, чтобы откланяться. Барон и баронесса вышли в прихожую меня проводить, и как только они очутились вне поля зрения старших, они словно скинули с себя маски и пригласили меня отобедать у них в следующую субботу в узкой компании. Мы поболтали еще несколько минут на лестничной площадке и расстались друзьями.
В указанный день я явился в три часа на Северный бульвар. Меня приняли как старого друга и сразу же ввели в курс их семейной жизни. Интимный обед шел под аккомпанемент взаимных исповедей. Барон, недовольный своим положением, принадлежал к противникам нового режима, установившегося после восшествия на престол короля Оскара [8]. Невероятная популярность его умершего брата вызывала у него чувство ревности, и, оказавшись у власти, он старался отодвинуть в тень всех, кого привечал его предшественник. Таким образом друзья старого режима, отличавшегося духом терпимости, весельем, стремлением к прогрессу, оказались все в лагере просвещенной оппозиции, но они, однако, не участвовали в низменной борьбе политических партий.
Эти разговоры пробудили воспоминания об ушедших временах, и, таким образом, наши сердца нашли путь друг к другу. Все мои давнишние предубеждения мелкого буржуа насчет высшего дворянства, которое отстранилось от дел после парламентской реформы 1865 года, тут же рассеялись, более того, возникла симпатия, смешанная с жалостью к тем, кого лишили былого величия.
Баронессу, по происхождению финку, иммигрировавшую лишь недавно, наши излияния не волновали, она была вне этих проблем, но как только обед был закончен, она села за рояль и стала услаждать наш слух песенками, а потом мы с бароном, взявшись за исполнение дуэтов Веннерберга [9], неожиданно обнаружили у себя талант, и время пролетело незаметно. Мы решили прочитать вслух пьеску, недавно сыгранную в Королевском театре, соответственно распределив ее по ролям.
После всех этих разнообразных развлечений образовалась пауза, которая обычно возникает, когда слишком быстро выдыхаешься из-за чрезмерных усилий показать себя в самом выгодном свете и завоевать друг друга. Меня охватила та же апатия, что во время нашей первой встречи, и я умолк.
– Что с вами? – спросила баронесса.
– Здесь водятся привидения, – объяснил я. – Вы же знаете, я жил в этой квартире век назад, да, целый век прошел, раз я уже такой старый.
– И мы не в силах прогнать этих призраков! – воскликнула она с материнской нежностью.
– Есть лишь одно существо на свете, – вставил барон, – способное развеять черные мысли. Я ведь не ошибаюсь, вы жених мадемуазель X.?
– Да что вы, барон, я остался с носом.
– Как же так? Неужели она дала слово другому? – удивилась баронесса.
– Лучше не спрашивайте!
– Как жаль! Эта юная особа – настоящая находка, и я не сомневаюсь, что уж во всяком случае она к вам привязалась.
Тут я стал поносить бедного лицедея. И мы все вместе обрушились на злосчастного певца, который вознамерился заставить молодую девушку полюбить его, не считаясь с ее желанием, и в конце концов баронесса заверила меня, что во время своей поездки в Финляндию, которая должна вскоре состояться, она все уладит.
– Этому не бывать! – заявила она в гневе от мысли, что такую девушку хотят принудить к браку, хотя ее симпатии отданы другому.
Около семи часов вечера я встал, чтобы уйти, но меня так горячо упрашивали остаться, что я заподозрил недоброе: видимо, в этом браке, который длится всего три года и благословен появлением маленького ангелочка, царит скука.
На ужин ждали кузину баронессы, и им очень хотелось, чтобы и я остался, их интересовало мое мнение об этой девушке.
Во время всех этих переговоров прислуга принесла письмо и подала его барону. Он открыл конверт, тут же прочел письмо и, бормоча какие-то резкие слова, протянул жене.
– В это просто нельзя поверить! – воскликнула она, пробежав его глазами.
И, видимо желая продемонстрировать всю меру дружеского ко мне расположения, баронесса, поглядев на мужа и дождавшись одобрительного кивка, стала вслух выражать свое возмущение:
– Подумать только, ведь это моя двоюродная сестра! Мой дядя и моя тетя, представьте себе, запрещают своей дочке ходить к нам, потому что в свете кто-то распространяет сплетни о моем муже!
– Уму непостижимо! Она же еще ребенок, милая, невинная, несчастная девочка, ей хорошо с нами, молодоженами, мы ее союзники, и этого оказалось достаточно, чтобы дать повод к злословью.
Возможно, скептическая улыбка выдала меня. Так или иначе, первый пыл возмущения угас, на его месте возникла какая-то растерянность, которую они пытались скрыть, предложив мне прогуляться по саду.
После ужина, часов в десять вечера, я попрощался уже окончательно и ушел, размышляя о том, что мне довелось увидеть и услышать за этот столь вещий для всего дальнейшего день.
При всей видимости счастья молодых супругов и несмотря на нежность их отношений, создавалось впечатление, что в доме, так сказать, спрятан труп. Озабоченные взгляды, сосредоточенность каждого на своем, оброненные намеки свидетельствовали о каком-то тайном горе, и я угадывал существование семейных секретов, раскрытие которых меня страшило. «Почему, – рассуждал я, – они удалились от света, почему сами сослали себя в этот тихий уголок городской окраины?» Они напоминали мне людей, потерпевших кораблекрушение, так непомерно они радовались, что нашли хоть кого-то, кому тут же можно излить душу.
Особенно меня интриговала баронесса. Пытаясь воссоздать ее образ, я был поставлен в тупик сложностью сочетания самых разных черт, в которых мне нелегко было разобраться. Она была одновременно доброй, ласковой и жесткой, экспансивной, исполненной энтузиазма и крайне сдержанной, холодной и пылкой, казалось, ее терзают какие-то мрачные мысли или она вынашивает честолюбивые мечты. Хоть она и не блистала умом, она отнюдь не была ничтожеством и заставляла с собой считаться. Баронесса поражала худобой, будто она сошла с иконы византийского письма, и платье на ней ниспадало естественными и величественными складками, такими, какие рисуют на изображениях святой Цецилии. Сложена она была просто безупречно, изысканная красота ее рук и запястий приковывала взгляд. Время от времени несколько ожесточенные черты ее бледного миниатюрного личика вдруг озарялись вспышками безудержного веселья. Мне трудно было решить, кто из супругов верховодит в этом браке. Он, как солдат, привык командовать, но в силу своей конституции казался вялым и был покорным скорее от врожденного равнодушия, чем от отсутствия воли. Обращались они друг с другом вполне дружески, но без порывов, присущих первой любви, и мое появление на их сцене было, судя по всему, как нельзя более кстати, потому что уже назрела потребность освежить свои чувства, воскрешая для кого-то картины прошлого. Подводя итоги своим впечатлениям, я решил, что живут они лишь крохами прошлого и уже скучают вдвоем. Доказательством тому были те чересчур частые приглашения, которые, как из рога изобилия, посыпались на меня после того обеда.
В канун отъезда баронессы в Финляндию я отправился попрощаться. Стоял теплый июньский вечер, когда я вошел к ним во двор. Баронессу я застал в саду среди кустов кирказона [10]. Она была в белом и из-за садовой ограды показалась мне неземным существом, ослепляющим какой-то невообразимой красотой. Ее белоснежное платье из пике, отделанное русскими кружевами – чудо мастерства какой-нибудь крепостной, – являлось подлинным Шедевром. К тому же на ней были ожерелья, серьги и браслеты из алебастрового стекла, излучавшего какой-то особый свет, напоминающий мерцание свечи в стеклянном шаре, разукрашенном вытравленным царской водкой орнаментом. Этот теплый свет буквально озарял ее лицо с блестящими, черными как антрацит глазами, в то время как отсветы зеленых листьев трагическими тенями подчеркивали белизну ее щек и лба.
Да, ее облик потряс меня до глубины души, словно виденье. Жажда обожествления, так присущая мне, но загнанная на самое Дно моего сознания, вдруг вырвалась наружу и заполнила зияющую пустоту моей души. Религиозность была мною теперь изжита, но потребность в преклонении осталась, хоть и обрела новую форму. Бог был предан забвению, но его место заняла женщина, девственница и мать одновременно. Глядя на дочку баронессы, которая стояла рядом, я не мог себе представить, что девочка рождена этой женщиной. Интимные отношения барона и его супруги я никогда не воспринимал как чувственные, связь их представлялась мне бестелесной. Вот с этой минуты баронесса и предстала предо мной воплощением чистого и недоступного духа, обитающего в теле редкостного совершенства. Я обожал ее такой, какой она была – женой и матерью, женой именно этого мужа и матерью этой девочки. Но чувство мое было чисто платоническим. Поэтому присутствие барона во время наших встреч казалось мне совершенно необходимым, без него я не испытал бы всей полноты счастья обожания. Ведь без мужа она была бы подобна вдове, а я решительно не уверен, что и тогда обожал бы ее с той же силой.
А будь она моей, иначе говоря, если бы она стала моей женой? Нет! Прежде всего, такая святотатственная мысль не могла даже родиться в моей голове. А кроме того, став моей женой, она перестала бы быть женой своего мужа, матерью своего ребенка, хозяйкой этого дома. Нет, она должна быть только такой, какой она была, либо вообще никакой!
Короче, дело ли здесь в суровости воспоминаний, связанных с домом, в котором она жила, или в моих инстинктах выходца из низшего сословия, восхищающегося высоким происхождением, чистотой голубой крови и теряющего уважение к обожаемому предмету, если он упадет со своего пьедестала, но ясно одно – благоговение, которое я испытывал к этой женщине, во всех отношениях смахивало на мою старую веру, от которой я только-только освободился. Благоговеть, жертвовать собой, страдать, не имея при этом и тени надежды получить за это что-либо, кроме радости от благоговения, от готовности приносить жертвы и страдать.
Я стал для нее чем-то вроде ангела-хранителя, но при этом решил наблюдать за ней по возможности тайно, чтобы сила моей любви не увлекла бы ее в конце концов. Я тщательно избегал оставаться с ней наедине, чтобы между нами не возникло доверительного разговора, который мог бы нанести ущерб ее мужу.
Однако когда я увидел ее в саду, в канун отъезда, она была одна. Мы обменялись какими-то незначительными словами. Но внезапно мое волнение передалось ей, взгляд моих пылающих глаз, видно, вызвал у нее желание открыться мне. Она будет сожалеть, это она предчувствовала и, не таясь, мне поведала, что разлучилась, пусть и на такой короткий срок, с мужем и дочкой. Она заклинала меня проводить с ним все мое свободное время, да и о ней не забывать в те дни, когда она будет защищать мои интересы перед молодой финкой.
– Вы любите ее всем сердцем, не правда ли? – спросила она, не спуская с меня пытливого взгляда.
– Не спрашивайте меня! – ответил я, совершенно подавленный необходимостью лгать.
С того дня я уже не сомневался, что мое весеннее увлечение было не любовью, а выдумкой, капризом – словом, ничем.
Из страха замарать ее моей так называемой любовью, боясь невольно завлечь ее в паутину своих чувств, желая хоть как-то оградить ее от себя, я резко оборвал наш разговор и спросил, где барон. Она надула губки, должно быть поняв, что скрывается за моей резкостью. Возможно даже, теперь я подозреваю, что так оно и было, ее забавляло волнение, которое охватило меня при виде ее красоты. Возможно также, что именно в этот момент она осознала, какой страшной волшебной властью обладает над этим Иосифом, таким с виду холодным и вынужденным быть целомудренным.
– Вам скучно со мной, – сказала она. – Сейчас позову на помощь барона.
И звонким голосом она позвала мужа.
Окно их квартиры на втором этаже распахнулось, и в нем показалось крупное, мужественное лицо барона, который с улыбкой глядел на нас. Минуту спустя он уже стоял с нами в садике. В парадной форме королевской гвардии, в темно-синем, расшитом серебряным галуном и желтым шелком мундире он был поистине великолепен и прекрасно дополнял эфемерную ослепительно белую фигурку стоящей рядом жены. Как привлекательно выглядела эта чета, когда каждый лишь подчеркивал достоинства другого! Это было подобно блестящему спектаклю, истинному произведению искусства!
После ужина барон предложил мне проводить на следующий день баронессу, которая отправлялась на пароходе в Финляндию. Мы могли бы немного проплыть с ней и сойти на последней пристани перед таможней. Предложение это было мною принято, и баронесса, как мне показалось, обрадовалась, предвкушая удовольствие провести всем вместе летнюю ночь на палубе парохода, огибающего шхеры.
Таким образом, вечером следующего дня мы втроем оказались на пароходе, который в десять часов отошел от пристани. Ночь была светлой, море синим и спокойным, на небе еще не погасло оранжевое зарево. Мы проплывали мимо берегов, покрытых лесом и освещенных этим странным полудневным светом, и, глядя на небо, трудно было решить, что это – закат или рассвет.
После полуночи в наших восторгах, которые подогревались все меняющимися пейзажами и пробужденными воспоминаниями, наступила пауза, сон валил нас с ног, хотя мы и не хотели ему подчиниться. Лица, освещенные чуть брезжущим светом рождающегося дня, были бледными, а от утреннего ветерка нам стало зябко. Нами вдруг овладела сентиментальность, мы решили, что будем навеки друзьями, что нас соединила сама судьба, и у всех троих возникло ощущение нерасторжимости нашей исполненной тайного смысла связи. Я был в то время хрупкого здоровья вследствие перенесенной лихорадки, выглядел, видимо, плохо из-за бессонной ночи, и они стали со мной обращаться как с больным ребенком. Баронесса укутала меня своей шалью из альпака, приказала пересесть, чтобы укрыться от ветра, налила мне из фляжки мадеры, разговаривала со мной, будто играя в дочки-матери, а я не возражал. От усталости я потерял всякий контроль над собой, мое сердце, до этого наглухо закрытое, вдруг распахнулось, и я, не привыкший к проявлениям женской нежности, секретом которой обладает только женщина-мать, принялся импровизировать, почтительно выражая свое обожание в поэтических грезах, которые могли родиться лишь в воспаленном от бессонницы мозгу. Все мои затаенные мечты этой ночи нашли вдруг свое воплощение, но воплощение туманное, расплывчатое, мистическое, а моя художественная фантазия, столь долго не имевшая выхода, порождала переменчивые, воздушные видения. Я говорил без умолку, час за часом, черпая вдохновение в жадно устремленных на меня глазах, улавливающих каждое движение моей души. Я чувствовал, как мое слабое тело пожирается бешено работающим мозгом, и постепенно терял ощущение своего телесного существования.
Встает солнце, и тысячи озаряемых им островков будто начинают плыть по глади залива, желтые, цвета серы, лучи отражаются в окнах прибрежных домишек и заставляют вспыхивать сосновые ветви яркой медью. Дымы из труб свидетельствуют о том, что кофейники уже стоят на плитах, рыбаки поднимают паруса на своих баркасах, чтобы отправиться к выходу из залива и вытянуть сети, и истошно орут чайки, чуя приближающиеся косяки салаки.
На пароходе все еще царит тишина, пассажиры спят в трюме, и только мы трое по-прежнему стоим на задней палубе. За нами из рубки наблюдает полусонный капитан, видимо, его разбирает любопытство, о чем это люди могут говорить столько часов кряду.
В три часа утра из-за мыса появляется лодка лоцмана, которая нас разлучит.
Залив отделен от открытого моря лишь несколькими продолговатыми островами. Море бушует, и это уже чувствуется на пароходе, да и доносился гул волн, разбивающихся о последние крутые рифы.
Настала минута прощания. Они обнялись так горячо и порывисто, что невозможно было не разделить их печали. Потом она со слезами на глазах страстно сжала мою руку своими двумя, прося мужа обо мне позаботиться и одновременно умоляя меня утешать его во время его двухнедельного «вдовства».
Я наклонился и, не думая ни о неуместности этого жеста, ни о том, что невольно раскрываю свои тайные чувства, поцеловал ей руку. Тем временем машина заглохла, пароход остановился, и к его борту пришвартовалась лодка лоцмана. Я сделал два шага по сходням и оказался в лодке рядом с бароном.
Над нами возвышалась громада парохода, и мы увидели прелестную головку, склоненную над перилами палубы, ее детские глаза, полные слез, выражали печаль, но она одарила нас прощальной улыбкой.
Снова заработал корабельный винт, гигант двинулся вперед, на корме его развевался русский флаг. Нас начало качать на волнах, но мы продолжали махать платками, влажными от только что утертых слез.
А личико баронессы все уменьшалось, прелестные черты сливались, и нам видны были только ее огромные глаза, их взгляд, но потом и это исчезло. Секунду спустя мы различали лишь легкую синюю вуаль на японской шляпе и трепетавший на ветру батистовый платочек, потом – одно белое пятнышко, наконец, точечку, и все, – от нас удалялось бесформенное чудовище, окутанное вонючим дымом.
Мы с бароном поднялись на причал, где находились контора лоцманов и таможня. Летом эту пристань переоборудовали под купальню. Деревня была еще погружена в сон, и на дебаркадере не было ни души. Мы постояли, провожая глазами пароход, пока он не повернул направо и не исчез за мысом, служащим бухте последней защитой от моря.
В тот миг, когда пароход окончательно скрылся, барон судорожно обнял меня, сотрясаясь от слез, и мы простояли так некоторое время, ни слова не говоря.
Бессонная ли ночь вызвала эти слезы? Или мрачные предчувствия? Или просто сожаление по поводу разлуки? И теперь еще я не в силах ответить на эти вопросы.
Молча, не проронив ни слова, уныло добрели мы до деревни в надежде выпить кофе. Но харчевня была еще закрыта, и нам пришлось пошататься по улицам. Двери всех домов были тоже заперты и жалюзи опущены. В конце концов мы вышли из деревни и оказались в пустынной местности на берегу узкого залива. Вода в нем была прозрачная, и мы решили умыться. Тогда я раскрыл свой несессер и вынул из него чистый платок, мыло, зубную щетку и флакон с одеколоном. Барон с насмешкой наблюдал за моими приготовлениями, однако был благодарен за удовольствие, которое я ему доставил, одолжив все необходимое, чтобы свершить свой туалет в таком неприспособленном для этого месте.
Когда же мы вернулись в деревню, я уловил запах дыма в прибрежном ольшанике. Жестом я указал барону, что это последний привет, который принес нам морской ветер от давно уже скрывшегося с глаз парохода. Но барон оставил это без внимания.
В харчевне на моего друга было жалко смотреть: он клевал носом, лицо отекло от бессонной ночи, вид у него был печальный. Между нами возникла какая-то натянутость, он был погружен в свои мысли и упорно молчал. Однако время от времени он дружески прикасался к моей руке, просил извинить его рассеянность и снова впадал в необъяснимую прострацию. Я делал все, что мог, чтобы привести его в чувство, но настоящего контакта так и не получалось, то, что нас прежде объединяло, вдруг исчезло. Крупные черты его, еще недавно казавшиеся мне такими привлекательными, на глазах обретали непредполагаемую вульгарность и грубость. Лицо его больше не освещалось прелестью и красотой обожаемой им женщины, и он постепенно принимал неприятный облик солдафона.
О чем он думал, я не знаю. Возможно, он разгадал мою тайну. Судя по неровности его поведения, он, видимо, был раздираем противоречивыми чувствами, он то пожимал мне руку и называл своим лучшим и единственным другом, то с неприязнью отворачивался от меня.
Я с ужасом понял, что оба мы можем жить только в ее присутствии, только для нее. Но стоило нашему солнцу зайти, как мы тут же поблекли.
Когда мы вернулись в город, я хотел было проститься с бароном, но он, помимо моей воли, упросил меня пойти вместе с ним, и я подчинился.
Мы вошли в их опустевшую квартиру, и нам показалось, что оттуда только что вынесли покойника. И мы снова не смогли сдержать слез. Я был смущен и понял, что спасти меня может только юмор.
– Смешно, не правда ли, господин барон? Гвардейский капитан и королевский секретарь рыдают…
– Слезы облегчают душу, – сказал он и кликнул дочку, но приход ее лишь обострил боль разлуки с баронессой.
Пробило девять. Сил у нас больше не было, и он предложил мне лечь спать тут, в гостиной, на диване, сам же он ляжет в спальне. Он сунул мне под голову подушку, накрыл своей шинелью и пожелал спокойного сна, сердечно поблагодарив за то, что я не бросил его в одиночестве. В его братской нежности, несомненно, был отзвук отношения ко мне баронессы, которая полностью занимала все его мысли. Почти мгновенно погрузился я в тяжелый сон, но все же успел отметить, что он еще раз на цыпочках подошел ко мне, чтобы проверить, удобно ли мне спать на диване.
Проснулся я около полудня. Барон уже был на ногах. Одиночество его страшило, и он предложил отправиться вместе в парк и там пообедать. Так мы и сделали и провели весь день, говоря о разных разностях, но больше всего о том дорогом существе, без которого жизнь каждого из нас теряла всякий смысл.
В течение следующих двух дней я избегал встречи с бароном и уединился в библиотеке, полуподвалы которой представляли убежище, как нельзя более соответствующее состоянию моего духа. В просторном рокальном зале с окнами, выходящими во Двор Львов, некогда было размещено собрание скульптур, а теперь хранились древние манускрипты. Вот там я и скрылся от всего света. Я брал с полок первые попавшиеся рукописи, лишь бы текст был достаточно старым, чтобы отвлечь меня от недавних событий. Но по мере того, как я углублялся в чтение, современность проникала в прошлое, и пожелтевшие буквы письма королевы Кристины [11] шептали мне признания баронессы.
Я не посещал своего обычного ресторана, чтобы не встречаться с друзьями. Я не хотел осквернять рта разговорами с еретиками, которые не должны были узнать о моей новой вере. Я ревновал себя к ним, поскольку отныне я весь, целиком, должен был принадлежать только ей. Когда я бродил по городу, мне хотелось, чтобы передо мной шли певчие и звонили бы в колокольчики, оповещая уличную толпу о появлении новой святыни, заключенной в дароносице моего сердца. Я воображал, что ношу траур по королеве, и готов был просить прохожих снять шляпы перед покойницей – моей мертворожденной любовью, не имевшей ни малейшей надежды на жизнь.
На третьи сутки около часу дня меня вывела из оцепенения барабанная дробь во время смены караула гвардейцев, и вдруг зазвучал траурный марш Шопена. Я подбежал к окну и увидел барона, марширующего впереди расчета гвардейцев. Он приветствовал меня кивком головы и озорной улыбкой. Ведь это он приказал оркестру играть любимый марш баронессы, и музыканты не знали, что играют в ее честь для нас двоих перед собравшейся толпой зевак, которые и подавно ни о чем не подозревали.
Полчаса спустя барон пришел ко мне в библиотеку. Я повел его по темным коридорам, уставленным книжными шкафами, в подвал, в рукописный зал. Вид у него был бодрый, и он первым делом изложил мне содержание письма, полученного от жены. Все у нее складывалось как нельзя лучше. В письмо была вложена записочка и для меня, которую я тут же прочитал, стараясь при этом скрыть свое волнение. Тон записки был дружеский, естественный, баронесса благодарила меня за заботу о ее «старике» и признавалась, что была весьма тронута нашим прощанием. Сейчас она гостила У моей «спасительницы», которую еще больше полюбила, и отзывалась о ней самым лестным образом, уверяя меня, что я могу серьезно надеяться. Вот и все.
Значит, она любит меня! Однако теперь я считал ее чудовищем, одно воспоминание о котором вызывало у меня отвращение, но я был вынужден, сам того не желая, изображать влюбленного, и этой ужасной комедии не было видно конца. А с любовью, как известно, не шутят. Я попал в ловушку и, охваченный бешенством, старался вывести на чистую воду эту тварь с чуть раскосыми глазами, серым цветом лица и красными руками, которая заставила меня себя полюбить. Испытывая дьявольское удовольствие, я вспоминал теперь все ее уловки обольщения, ее весьма сомнительную манеру держать себя, которая дала повод моим друзьям спрашивать меня с нехорошим смешком, как зовут эту шлюху, которую я водил гулять в предместье. Со злорадством я перечислял себе ее претенциозные выходки, убеждался в упрямстве, с которым она делала все возможное, чтобы меня подцепить. Вот, например: она всегда вытаскивала часики из-за корсажа так, чтобы при этом чуть выглядывало кружево ее лифа. А в то воскресенье, когда мы с ней гуляли в парке и ходили по аллеям, она вдруг предложила углубиться в чащу. Когда я это услышал, у меня прямо волосы встали дыбом, потому что сходить с аллеи в этом парке считалось абсолютно неприличным. Я возразил, сказав, что это неудобно, но моя спутница не нашла ничего лучшего, чем воскликнуть: «Плевать на приличия!»
Ей, видите ли, захотелось нарвать анемонов, которые росли в орешнике, и, не раздумывая, она чуть ли не бегом бросилась в кусты. В смущении я двинулся вслед за ней. Найдя весьма укромное местечко, надежно скрытое от глаз прохожих, она уселась под крушиной, подобрав при этом юбку так, чтобы видны были ноги, к слову сказать, довольно стройные, но со следами обморожения. Возникла напряженная пауза, во время которой мне невольно пришла на ум история коринфских дев, взбешенных тем, что их почему-то заставляют ждать изнасилования, на которое они рассчитывали. Она смотрела на меня с глупым видом, и даю честное слово, только ее уродство и мое отвращение к легким победам сохранили ей невинность.
Все эти подробности, которые я старался забыть, как недостойные внимания, всплыли в моей памяти, поскольку возникла реальная опасность, что она снова свалится мне на голову, и я стал страстно желать удачи певцу в его любовных начинаниях. Мне же ничего не оставалось, как покорно носить маску.
Пока я вчитывался в записку баронессы, барон сидел у большого стола, заваленного книгами и рукописями, и вертел в руках свой офицерский жезл из резной слоновой кости. Он рассеянно глядел по сторонам, и, казалось, чувствовал свою некомпетентность, конечно только в области гуманитарных наук, по сравнению с какой-то штатской крысой вроде меня, и на все мои попытки развлечь его моими учеными изысканиями отвечал одной лишь фразой:
– Несомненно, это должно быть весьма поучительно!…
А я, в свою очередь ощущая свое ничтожество рядом с великолепием его офицерских регалий, знаков различия, портупеи, его парадного мундира, выхвалялся, чтобы установить между нами хоть некоторое равновесие, своими знаниями, но ничего, кроме некоторой растерянности, у него не вызвал.
Шпага и перо! Дворянин плывет вниз по течению, разночинец – вверх! Быть может, женщина, бессознательно, но с присущей ей прозорливостью, предвидела, кому принадлежит будущее, раз в дальнейшем она выбрала в качестве отца своих детей представителя не наследственного, а нового, духовного дворянства.
Так или иначе, между бароном и мной воцарилась какая-то неловкость, в которой мы не желали себе признаться, хотя он и делал большие усилия, чтобы обращаться со мной как с ровней. Иногда он даже выказывал мне большое уважение, вызванное моими знаниями, и тем самым признавал, что в этой области стоит на более низкой ступени, нежели я. Когда же он принимался кичиться своей родословной, достаточно было одного слова баронессы, чтобы поставить его на место. Для нее наследственные гербы не имели цены, и парадный мундир капитана в ее глазах явно проигрывал рядом с сюртуком, осыпанным ученой пылью, разве он сам этого не признал, надев в свое время блузу художника? Все это так, но тем не менее ему никуда было не уйти от дворянского воспитания, от приверженности традициям. Ревнивая ненависть между студентами и офицерами вошла в кровь, и никому никуда от нее не деться.
Но в данном случае я был ему нужен как аудитория для демонстрации своего горя, и он пригласил меня к себе на обед.
Когда мы выпили кофе, барон предложил написать баронессе письмо и протянул мне перо и бумагу. Таким образом, я оказался вынужденным написать ей и ломал себе голову, сочиняя банальные фразы, могущие заглушить голос сердца.
Написав письмо, я протянул его барону, чтобы тот его пробежал.
– Я никогда не читаю чужих писем, – сказал он мне с подчеркнутым высокомерием.
– А я никогда не пишу чужим женам без того, чтобы завизировать письмо у мужа, – парировал я.
Он бросил беглый взгляд на листок и с какой-то невнятной улыбкой сунул его в конверт вместе со своим.
В течение целой недели я его не видел, и вдруг как-то вечером мы случайно столкнулись на перекрестке. Он был как будто мне очень рад, и мы отправились в кафе, чтобы он смог, как уже повелось, исповедаться.
Оказывается, он провел несколько дней за городом, у той самой кузины его жены, о которой уже было столько разговоров. Я еще ни разу не видел этой завлекательной особы, но следы встречи барона с ней было бы трудно не заметить. От обычного для него выражения надменности и печали не осталось и следа, в лице появилось что-то жизнерадостное и чувственное, а словарь пополнился рискованными выражениями сомнительного вкуса. Даже интонации его голоса явно изменились. «Какая, однако, податливая личность, – подумал я, – до чего же он восприимчив, подвластен любому впечатлению. Он – tabula rasa [12], и самая слабая женская рука может начертать там с равным успехом как глупость, так и гениальное прозрение».
Человек у меня на глазах превратился в опереточного персонажа, он острил, сплетничал, громко хохотал. В гражданском платье он терял всю свою значительность. А когда после обеда, захмелев, захотел поехать к проституткам, он показался мне просто отвратительным. Оказывается, весь он исчерпывался расшитым мундиром, перевязью и знаками различия. А помимо этого – ничего!
Все больше пьянея, он собрался было посвятить меня в свои интимные отношения с женой. Я оборвал его на полуслове и, возмущенный, встал, хотя он все еще продолжал мне твердить, что жена разрешила ему во время своего отсутствия воспользоваться свободой. Мне это показалось, кстати, очень человечным и лишь подтвердило мои догадки о целомудренности баронессы. Расстались мы рано, и я вернулся домой, совершенно потрясенный откровенными признаниями барона, которые мне пришлось выслушать.
Чтобы женщина, влюбленная в своего мужа, предоставляла ему полную свободу, не требуя при этом тех же прав для себя! Мне это казалось в высшей степени странным! Таким же противоестественным, как любовь без ревности, как лицевая сторона без изнанки. Такого не бывает. «Она целомудренна», – признался он мне. Еще одна странность. Выходит, я угадал насчет матери-девственницы. А целомудрие – это качество, свойственное высшей расе, чистой душе, присущее цивилизованным нравам благовоспитанных людей.
Это, к слову сказать, вполне соответствовало моим юношеским представлениям, когда девица из высшего общества вызывала у меня только чувство благоговения, никогда не возбуждая моей чувственности.
Детские мечты, полное незнание женщины. На самом же деле это куда более сложная проблема, чем она представляется холостяку.
Но вот баронесса вернулась. Как замечательно она выглядела, как помолодела от нахлынувших на родине воспоминаний и общения с друзьями юности!
– Вот голубка, которая принесла вам оливковую ветвь, – сказала она, вручая мне письмо моей пресловутой невесты.
Я читал бесцветную, претенциозную болтовню, которую могло написать только бездушное существо, этакий синий чулок, жаждущий с помощью брака, не важно с кем, освободиться от родительского гнета.
Прочитав это письмо и весьма неубедительно изобразив при этом радость, я все же решил до конца разобраться в этой скучной истории.
– Не можете ли вы мне объяснить, – спросил я баронессу, – является ли эта барышня все же невестой певца?
– И да и нет!
– Но она дала ему согласие?
– Нет!
– Она хочет выйти за него замуж?
– Нет!
– Ее отец и мать настаивают на этом браке?
– Они ненавидят певца!
– Почему же она так упорно хочет продать себя этому человеку?
– Потому что… Я не знаю!
– А меня она любит?
– Быть может!
– Значит, она просто жаждет выйти замуж. И выйдет за того, кто больше даст, как на торгах. Ничего она не понимает в любви!…
– А как вы понимаете любовь?
– Любовь?… По-моему, это чувство подавляет все остальные, оно, как сила природы, все крушит на своем пути, вроде обвала, или прилива, или грозы…
Она поглядела мне в лицо и не стала говорить тех слов, которые приготовила, чтобы защитить свою подругу.
– И вы ее так любите? – спросила она.
В ту минуту я был готов ей во всем признаться, но в каком положении я оказался бы потом? Всякая связь между нами порвалась бы. Нет, только ложь – моя защита от преступной любви, – только ложь мне необходима!
Чтобы не давать баронессе утвердительного ответа на ее вопрос, я попросил не говорить больше об этом. Она, жестокая красавица, отныне умерла для меня, заверил я баронессу, и мой долг, хоть это и нелегко, в том, чтобы забыть ее.
Баронесса пыталась меня утешить, но при этом не скрывала, что певец опасный соперник, поскольку он имеет постоянный доступ к объекту своих воздыханий.
Барон, устав от нашей болтовни, вступил в разговор, заявив, что с огнем шутки плохи, он обжигает, и дал тем самым понять, что не следует впутываться в чужие любовные дела.
Это было сказано довольно резко, и баронесса с досады вся залилась краской, так что мне пришлось вмешаться, чтобы не дать разыграться надвигающейся буре.
Камень катился с горы, набирая скорость, ложь, которая поначалу была скорее игрой воображения, стремительно разрасталась. Стыд и страх вынуждали меня к самообману, я стал даже сочинять стихи и сам уже был готов поверить в свой вымысел. Я придумал себе роль несчастного влюбленного, и играть ее мне было нетрудно, поскольку я ведь и в самом деле это переживал, только по отношению к другому предмету.
И вот я чуть не угодил в мною же расставленные сети. В одно прекрасное утро я нашел у себя дома визитную карточку господина X., секретаря таможенного управления, а иными словами – законного отца моей «спасительницы». Я тотчас же отдал ему визит. Этот маленький старичок, невероятно похожий на свою дочь, так сказать, карикатура на карикатуру, разговаривал со мной как с будущим зятем, расспрашивал о родителях, о сбережениях, о перспективах на продвижение по службе. Дело начинало принимать угрожающе серьезный оборот. Как быть? Я старался изобразить из себя маленького человечка, как можно более ничтожного, чтобы он отвернул от меня свой отеческий взгляд. Цель его поездки в Стокгольм была мне ясна. Либо он хотел отделаться от ненавистного ему певца, либо сама красавица решила остановить свой выбор на мне после того, как ее папаша, посланный ею в качестве эксперта, оценит меня по достоинству. Но я решил стать недоступным, всякий раз уклонялся от встречи, не пришел даже на званый обед к баронессе, объясняя все срочной работой в библиотеке, и так измучил бедного тестя своими выходками, что в конце концов он уехал раньше предполагаемого срока.
Догадывался ли потом певец, кому он обязан теми муками, которые обрушились на него, когда он женился наконец на своей мадонне? Нет, этого он так и не узнал и гордился своей победой надо мной.
Едва эта история была завершена, как возник новый инцидент, который тоже оказал влияние на нашу судьбу. Баронесса, взяв с собой дочку, неожиданно уехала из города. Это произошло в начале августа. Ссылаясь на свое здоровье, она отправилась на воды в маленький городок, расположенный на берегу озера Меларен, где жила и ее юная кузина со своими родителями.
По правде говоря, столь поспешный отъезд баронессы, последовавший вскоре после ее возвращения из долгого путешествия по Финляндии, меня несколько удивил, но, поскольку меня это, строго говоря, не касалось, я этого не высказал. Три дня спустя меня вызвал барон. Что-то явно беспокоило его, он нервничал и объявил мне с таинственным видом, что баронесса на днях возвращается.
– Почему? – спросил я, на этот раз не сумев уже скрыть своего изумления.
– То ли она волнуется… то ли климат ей не подходит… Я получил от нее весьма путаное письмо, которое, признаюсь, меня крайне встревожило. Вообще-то я никогда ее не понимал. Ее голова полна каких-то диких мыслей, в частности она вообразила, что ты на нее сердишься.
Представляете, какое мне надо было сделать усилие, чтобы казаться спокойным.
– Это просто нелепо, не правда ли? Во всяком случае, – продолжал он, – я сердечно тебя прошу ничем не обнаружить своего удивления, когда она вернется, потому что она стыдится своей неуравновешенности. А так как она одержима дьявольской гордыней, то способна на любое безрассудство, если заподозрит, что ты не одобряешь ее капризов.
«Вот труп и завонял», – сказал я себе. И с этой минуты я стал готовиться к бегству, боясь оказаться втянутым в любовную историю, развязки которой долго бы ждать не пришлось.
Получив от них очередное приглашение, я под малоубедительным предлогом отказался прийти. Это их обидело, и барон, разыскав меня, попросил объяснить ему действительные причины моего странного поведения. Я не знал, что ответить, и тогда он, воспользовавшись моим смущением, заставил меня согласиться поехать вместе с ними за город.
Баронесса выглядела плохо, на ней, как говорится, не было лица, а глаза лихорадочно блестели. Я тут же замкнулся, разговаривал ледяным тоном, был более чем сдержан. Мы добрались на пароходике до модного кабачка, где было назначено свидание с дядей барона. Ужин прошел невесело. Мы сидели на дворе под сенью столетних лип с черными от старости стволами, а нашему взору открывался мрачный вид на черную гладь озера, окаймленного черными же горами.
Разговор не клеился, вертелся вокруг пустяков. Я почувствовал, что супруги в ссоре, что отношения между ними натянуты до предела, и не хотел присутствовать при очередной сцене. К несчастью, дядя и племянник вышли из-за стола, чтобы поговорить наедине. И тут разорвалась бомба. Вдруг баронесса, повернувшись ко мне, сказала:
– Известно ли вам, что Густав был весьма недоволен моим неожиданным возвращением?
– Нет, баронесса, понятия об этом не имею.
– Представляете, он, оказывается, собирался по воскресеньям встречаться с моей очаровательной кузиной.
– Баронесса, – прервал я ее, – не будете ли вы добры обвинять вашего супруга в его присутствии?
Как только я смог произнести эту фразу? Грубость, бесцеремонный выговор, проявление мужской солидарности перед лицом женского предательства?
– Ну, это уж слишком, сударь! – воскликнула она, меняясь в лице.
– Что поделаешь, баронесса.
Все было сказано, вот он, конец. И это навсегда.
Тут как раз вернулся ее муж, и она кинулась к нему, схватила за руку, словно ища защиты от врага. Он заметил это, но не понял в чем дело.
На дебаркадере я попрощался с ними, сославшись на то, что должен нанести визит в соседнюю виллу.
Не помню, как я вернулся в город. Казалось, ноги сами несут мое бесчувственное тело. Узел жизни был разрублен, и труп шагал, сам себя хороня.
Один. Снова в полном одиночестве. Без семьи, без друзей. И уже некого было боготворить. Нового бога не выдумаешь. Мадонна была свергнута с пьедестала, и на ее месте появилась женщина коварная, неверная, обнаружившая свои коготки. Пытаясь превратить меня в своего наперсника, она сделала первый шаг к адюльтеру, и в этот миг во мне вспыхнула ненависть к другому полу. Она оскорбила во мне мужчину, самца, и я был в союзе с ее мужем против всех женщин мира.
Долой добродетель! Впрочем, мне тут хвастаться было нечем, мужчина берет только то, что ему дают и, таким образом, никогда не бывает вором. Только женщина крадет и продается. Тот единственный случай, когда она отдается бескорыстно, рискуя все потерять, – это, к сожалению, и есть прелюбодеяние. Продается девка, продается жена, и только женщина в прелюбодеянии бескорыстно отдает себя любовнику, но обирает тем самым своего мужа.
Впрочем, я никогда и не помышлял сделать ее своей любовницей. Она внушала мне чувство нежной дружбы. Защищенная присутствием дочки, она всегда была для меня увенчана ореолом материнства, и меня никак не прельщало делить с ее мужем тайные наслаждения, нечистые сами по себе, облагороженные только безраздельностью и полнотой обладания.
Разбитый, подавленный, вернулся я в свою одинокую комнату, более одинокую, чем прежде, потому что с тех пор, как я познакомился с баронессой, я начисто порвал со всеми своими богемными знакомцами.
Я занимал довольно просторную мансарду с двумя окнами, выходящими на новый порт, залив и скалы южного предместья. На подоконниках у меня росли бенгальские розы, азалии, герань. Они цвели в разное время, и, таким образом, у меня всегда были цветы, необходимые мне для культа мадонны с младенцем. У меня уже давно вошло в привычку каждый вечер, опустив шторы, расставлять цветочные горшки как бы по контуру апсиды и ставить в середину портрет баронессы, освещая его лампой. На нем она была изображена как молодая мать, ее несколько строгое лицо поражало безупречной чистотой линий и было обрамлено пышными белокурыми локонами, а светлое платье с высоким, под самый подбородок, плиссированным воротом подчеркивало миниатюрность ее головки. Рядом на столике стоял портрет девочки, она была вся в белом, и ее глубокие глаза глядели на меня с мучительным вопросом. Перед этим образом я сочинял письма «Моим друзьям», которые отправлял на следующий день по адресу барона. Это был единственный способ утолить мою писательскую жажду, и в эти письма я вложил лучшую часть своей души. Чтобы найти хоть какой-то выход для артистической натуры баронессы, я уговаривал ее попробовать выразить на бумаге свои поэтические фантазии. Я приносил ей шедевры мировой литературы, делал обзоры, излагал содержание книг, разбирал их, давал советы, практические рекомендации, объяснял основы литературной композиции. Но она проявляла ко всему этому слабый интерес и только выражала сомнение в своих способностях к сочинительству. На что я ей возражал, что каждый просвещенный человек в состоянии написать письмо, а значит, является писателем in petto [13]. Но все мои усилия ни к чему не привели, страсть к театру слишком глубоко укоренилась в ней, и она твердо стояла на своем, уверяя, что тяга эта у нее врожденная. Поскольку общественное положение не позволяло ей взойти на подмостки, она, не желая добровольно принести эту жертву, стала изображать из себя великомученицу, разрушая тем самым свое семейное счастье. Ее муж, естественно, поддерживал все мои попытки отвлечь ее от сцены, предпринятые с тайной целью спасти его семью от крушения, и не знал, как меня благодарить, хотя и не смел открыто высказывать свою заинтересованность. Я же был настолько упорен, что баронессе вскоре уже нечего было мне возразить, на каждое ее письмо я немедленно отвечал, не уставая повторять, что ей необходимо вскрыть этот душевный нарыв, который ее мучает, запечатлеть свою душу в романе, драме или стихах.
«Поделитесь своим опытом, – писал я ей, – раз вы прожили жизнь, богатую различными событиями и переживаниями. Возьмите в руки бумагу, перо, будьте искренни, и вы станете писателем», – цитировал я ей изречение Берне.
«Слишком тяжело прожить заново горькую жизнь, – ответила она мне. – Нет, я ищу путь в искусство, чтобы, углубившись в характеры, совсем непохожие на мой, решительно все забыть».
Я никогда не спрашивал ее, что именно она так жаждала забыть, я ведь, собственно говоря, ничего толком не знал о ее прошлом. Уж не боялась ли она подсказать мне разгадку своей натуры, выдать мне ключ к своему характеру? Не рвалась ли она так к театральному искусству, чтобы спрятаться за личинами или, точнее говоря, придать себе больший вес, изображая фигуры более значительные, нежели она сама?
Исчерпав в конце концов все доводы, я посоветовал ей для начала попробовать свои силы в переводе, чтобы отточить стиль и зарекомендовать себя у издателей.
– А как платят за перевод? – спросила она.
– Во всяком случае, неплохо, но для этого надо стать настоящим профессионалом, – ответил я.
– Не думайте, пожалуйста, что я скупердяйка, – продолжала она, – но работа без ощутимых результатов меня не привлекает.
Она была захвачена новомодной манией современных женщин самим зарабатывать свой хлеб. Барон скептически усмехнулся, давая понять, что предпочел бы, чтобы жена его получше вела хозяйство, чем пыталась, в ущерб домашним делам, зарабатывать жалкие гроши.
С того дня баронесса стала осаждать меня просьбами найти ей книгу для перевода и издателя. Чтобы не подвергать себя излишнему риску, я вскоре принес ей на пробу две маленькие заметки для отдела происшествий одного иллюстрированного журнала, который вообще-то не платил за перевод. Прошла целая неделя, а перевод этот, пустячная работа, которая отняла бы не больше двух часов, так и не был сделан. Барон стал ее дразнить, говорил, что она лентяйка и любит по утрам валяться в постели, и, судя по тому, как она на это сердилась, было ясно, что он попал в точку. И я перестал напоминать ей об этом переводе, не желая служить яблоком раздора между супругами.
Вот так обстояли дела к моменту нашего разрыва.
Я сидел в своей мансарде за столом, перечитывал одно за другим письма баронессы, и сердце мое сжималось от сострадания к ней. Что за отчаявшаяся душа! Ее внутренняя сила оставалась неизрасходованной, ее таланты не находили выхода, точь-в-точь как и мой. Вот откуда идет наша взаимная симпатия. Я страдал, если можно так выразиться, через нее, она превратилась для меня в некий болетворный орган, который приложили к моей страждущей, искалеченной душе, уже не способной самой по себе испытать жестокое наслаждение от мук.
Но что же такое она сделала, чтобы потерять мое сочувствие? Терзаемая ревностью, что было вполне естественно, она пожаловалась мне на свой разлад с мужем. А в ответ я ее оттолкнул, говорил с ней грубо, вместо того чтобы ее образумить, что было легко сделать, поскольку, как заверял меня барон, она предоставила ему полную свободу в их супружеских отношениях.
Мною овладела безграничная жалость к этой женщине, которая, видимо, хранила в душе своей не одну горестную тайну и страдала от каких-то аномалий своего психического и физического развития. И в тот момент мне показалось, что я буду глубоко неправ, если позволю ей плыть по течению. Тут меня охватило полное отчаяние, и я решил, что обязан ей написать, попросить у нее прощения и умолять забыть происшедшую между нами ссору, а дурное впечатление, которое эта сцена не могла не оставить, посчитать недоразумением. Но у меня не нашлось нужных слов для этого письма, перо в моей руке не двигалось, и я, изнемогая от усталости, бросился на диван.
Проснулся я уже утром. Неяркое августовское солнце обещало теплый день. Подавленный, печальный, я не знал, куда себя деть, и уже в восемь утра пришел в библиотеку. У меня был свой ключ, и я отпер дверь. До открытия оставалось три часа, которые я мог провести в полном одиночестве. Я принялся бродить по коридорам, между книжными шкафами и наслаждался этим изумительным одиночеством, когда ты один и вместе с тем не один, а в интимном общении с первейшими умами всех эпох. Я брал в руки то' тот, то другой томик и старался сосредоточить на нем свое внимание, чтобы забыть вчерашнюю тяжелую сцену. Но сколько я ни пытался прогнать из памяти оскверненный образ падшей мадонны, все было тщетно. Подымая глаза от прочитанной страницы, так и не поняв при этом ни слова, я видел ее то спускающуюся по лестнице, то мечущуюся в глубине низкой и, казалось, бесконечной, галереи. Настоящая галлюцинация, и только. Да, я видел, как она спускается вниз, придерживая рукой складки своего синего платья и выставляя при этом напоказ свои крошечные ножки и точеные лодыжки, взглядом чуть косящих глаз она как бы призывала меня к предательству, а ее коварная, сладострастная улыбка, которую я обнаружил у нее лишь вчера, была обращена ко мне и говорила о том, что она меня желает. И этот призрак вызывал у меня вожделение, дремавшее последние три месяца, настолько чистота атмосферы, царящей вокруг нее, сделала меня целомудренным. А это значит, что мое плотское желание стало целенаправленным и сосредоточилось вокруг одного-единственного объекта. Конечно, я хотел ею обладать, представлял себе ее обнаженную, восстанавливал ее формы по линиям ее одежд, которые знал наизусть. И поскольку бившиеся в моей голове мысли нашли себе вдруг цель, я стал листать каталоги итальянских музеев, где были собраны снимки всех знаменитых скульптур. Я намеревался предпринять научное исследование, чтобы открыть формулу этой женщины. Я хотел установить род и вид, к которым она относится. Тут надо было выбрать. Венера с полными грудями и пышными бедрами, одним словом, нормальная женщина, которая ждет своего мужчину, уверенная, что красота восторжествует? Нет, не то! Может, скорее Юнона, олицетворение плодовитости, мать с ребенком, самка, раскинувшаяся на родильном ложе, выставляющая напоказ те части своего роскошного тела, которые принято скрывать от посторонних взоров. Тоже не то! Или Минерва, синий чулок, старая дева, скрывающая свою плоскую грудь под кирасой воина? Ни в коей мере! А вот Диана? Бледная богиня ночи, боящаяся света дня, жестокая, с ее невольным целомудрием, результатом дефекта телесного развития, более похожая на мальчика, нежели на девочку. Скромница по необходимости, она рассердилась на Актеона за то, что тот застал ее за купаньем. Итак, род Дианы, пожалуй, годится. А к какому виду ее отнести? Будущее покажет. Однако это хрупкое тело, изящные движения, прелестное личико, гордая улыбка, в которой сокрыты и кровожадность, и тайные желания, эта девичья грудь… Даже удивительно, до чего все соответствует.
Занятый своими розысками, я судорожно перелистывал все художественные альбомы, собранные в богатейшем национальном хранилище, чтобы найти разные изображения целомудренной богини. Я сравнивал фотографии, проверял свои догадки с придирчивостью ученого. Я бегал из одного конца обширного здания в другой, потому что ссылки в текстах заставляли меня обращаться все к новым книгам. Так незаметно настал час начала работы, и приход моих коллег вернул меня к моим повседневным обязанностям.
Вечером я решил пойти повидать своих приятелей по клубу. Как только я вошел в лабораторию, они приветствовали меня прямо-таки адскими криками, и я тут же приободрился. Стол, изображающий алтарь, был выдвинут в центр помещения и украшен черепом и огромным сосудом с цианистым калием. Рядом лежала раскрытая Библия, вся в красных пятнах от пунша, страницы ее были прижаты медицинским зондом, и кое-где торчали презервативы в виде закладок.
Повсюду стояли стаканы с пуншем – недаром там был перегонный аппарат. Пьянка была в разгаре. Мне протянули колбу объемом не менее половины литра, которую я залпом опорожнил. И все хором проскандировали девиз клуба:
– Да будет все проклято!
На что я ответил «Гимном развратников»:
В лоск напиваться И совокупляться – Вот смысл жизни Нашего братства!… Пьяные бденья Да совокупленья – Наша награда За долготерпенье.И тут последовал общий вопль, свист, шиканье, и под эти звуки я начал декламировать свои знаменитые богохульные вирши. В звонких стихах, не скупясь при этом на анатомические термины, я воспевал женщину как необходимую принадлежность мужских развлечений.
Я упивался непристойностями, похабными словами, осквернял мадонну – так болезненно проявилось мое неудовлетворенное желание. Во мне вдруг вспыхнула настоящая ненависть к моему вероломному кумиру, и глумление это принесло мне горькое утешение. Мои собутыльники, бедные горемыки, весь любовный опыт которых ограничивался публичным домом, радовались, что я обливал помоями светских дам, которые были для них недоступны.
Мы все больше пьянели. Мне было приятно снова слышать мужские голоса после нескольких месяцев, потраченных на сентиментальное мяуканье, на неискренние излияния и лицемерную игру в невинность. Маска слетела, с моим тартюфством, прикрывающим откровенную похоть, было покончено, и я мысленно представил себе, как обожаемая мною женщина, чтобы разогнать тоску своей унылой жизни, безудержно предается супружеской любви. Именно ей я предназначал все оскорбления, плевки и гнусные слова, которые рождались в моем мозгу в приступе бешенства, оттого, что я не могу обладать ею, однако свершить прелюбодеяние я был решительно не способен, – это было сильнее меня.
От возбуждения, которое овладело мною, обострив до предела все мои чувства, лаборатория казалась мне местом грандиозной оргии, где каждое ощущение доведено до предела. Колбы с химикатами на полках переливались всеми цветами радуги: красный сурик, оранжевый хромат калия, желтая сера, синий купорос, зеленая окись меди. Воздух был отравлен табачным дымом и испарениями лимонного арака, пробуждающего смутные образы воспоминаний о дальних странах. На специально расстроенном пианино кто-то наигрывал, пародируя траурный марш Бетховена, так что узнать можно было только ритм. Бледные лица собравшихся покачивались в синеватом мареве дыма. Золотая перевязь лейтенанта, черная борода доктора философии, крахмальная манишка врача, череп с пустыми глазницами, вопли, шум, неправдоподобные диссонансы, гнусные картины, вызванные нашими речами, – все это смешалось в моем воспаленном мозгу, когда вдруг раздался возглас, один-единственный, как призыв, и все его единодушно подхватывают: «Совокупляться!»
И все снова затянули хором: «В лоск напиваться и совокупляться – вот смысл жизни для нашего братства!», схватили плащи и шляпы и отправились в путь.
Полчаса спустя вся компания ворвалась в бордель. Заказали стут [14], разожгли огонь в печи, и сатурналии [15] открылись живыми картинами.
Наутро я проснулся, правда, поздно, зато у себя дома, в своей постели. А главное, я прекрасно себя чувствовал. Одна ночь нормальных объятий развеяла мою нездоровую восторженность и культ мадонны. Мою воображаемую любовь я счел за проявление слабости то ли ума, то ли тела, что в те времена было для меня одинаково позорно.
Приняв холодный душ и позавтракав в ресторане, я отправился в библиотеку. Я ощущал свою силу и был счастлив, что все так хорошо кончилось. Я работал с большим воодушевлением, и время мчалось быстро.
Пробило половину первого, когда служитель сообщил мне о приходе барона.
«Значит, это еще не конец», – сказал я себе, готовясь к какой-нибудь сцене.
Барон выглядел бодрым, веселым, он дружески пожал мне руку и пригласил поехать вместе с ними на пароходе в курортный городок Зедертелье, где должен был состояться любительский спектакль.
Я отказался, ссылаясь на срочные дела.
– Но моя жена на этом настаивает, – возразил он. – К тому же Малютка тоже там будет.
Малютка – это кузина. Он так трогательно и настойчиво стал меня умолять согласиться, ласково глядя на меня своими глазами ипохондрика, что я почувствовал себя не в силах оказывать дальнейшее сопротивление. Но вместо того, чтобы прямо согласиться, я ответил вопросом:
– А как себя чувствует баронесса?
– Вчера она была больна, ей было очень плохо, но сегодня лучше. Скажите, пожалуйста, друг мой, – добавил он, – что у вас случилось позавчера в ресторане? Жена уверяет, что между вами произошло недоразумение, и вы на нее сердитесь безо всякой на то причины.
– По правде говоря, – начал я не очень уверенно, – я сам толком не понял, в чем дело. Возможно, я выпил лишнего и совершил какую-нибудь оплошность.
– Забудем это, – поспешно сказал он, – давайте дружить, как прежде. Женщины, сами знаете, так чувствительны… Одним словом, вы мне обещаете прийти, верно? Итак, сегодня в четыре часа дня.
Я обещал.
Загадка, для которой нет слов. Недоразумение? Но она заболела из-за нашей ссоры… От страха, от досады или еще от чего?
Дело принимало теперь интересный оборот, поскольку в игру вступила и юная незнакомка.
И когда я сел в четыре часа на указанный мне пароход, сердце мое билось учащенно.
Друзья мои в свою очередь поднялись на палубу, и я сразу же увидел баронессу, которая поздоровалась со мной, как нежная сестра.
– Не сердитесь на меня за мою резкость, – пробормотала она, – я так легко вспыхиваю…
– Забудем это, – прервал я ее и повел на корму.
– Познакомьтесь… – сказал барон, и тут только я заметил молодую особу лет восемнадцати, этакую субреточку, как, впрочем, я и ожидал. Ростом невысокая, с вульгарным лицом, она была одета просто, хотя за этой простотой угадывалось усилие казаться элегантной.
А баронесса! Бледная, с запавшими щеками, худая как щепка, просто ужас! Браслеты гремели, болтаясь на тоненьких запястьях, а шея нелепо торчала из слишком широкого воротничка, так что видно было, как сонные артерии змейками вились к ушам, более открытым, чем обычно, из-за небрежной прически. К тому же она была плохо одета, кричащие цвета ее туалета не только дисгармонировали друг с другом, но и не шли ей, и она показалась мне просто уродливой. Так она, несомненно, и выглядела в этот день, я испытывал к ней глубокую жалость и проклинал себя за сказанные накануне слова. Да какая же она кокетка! Великомученица! Святая, на которую незаслуженно обрушиваются несчастья.
Пароход отчалил. Прекрасный августовский вечер на озере Меларен настраивал на мечтательный лад.
Не знаю, было ли это преднамеренно или случайно, но места барона и кузины оказались рядом и на таком расстоянии от лас, что мы не слышали их разговора. Наклонившись к девушке, барон болтал без умолку, смеялся, шутил, он так помолодел и выглядел таким счастливым, что его можно было принять за только что обручившегося жениха.
Время от времени он бросал нам озорной взгляд, и мы приветствовали друг друга кивком головы или улыбкой.
– Бойкая девочка, не правда ли? – сказала мне баронесса.
– Похоже на то, баронесса, – ответил я, не зная точно, как я должен себя вести в данной ситуации.
– Она умеет расшевелить моего мужа, развеять его меланхолию, а вот у меня нет этого дара, – добавила она, поглядела на «молодых» с искренней симпатией и улыбнулась им.
В эту минуту я увидел следы тайного страдания и пролитых слез на ее лице, оно приняло выражение нечеловеческой покорности судьбе; и, словно облака, по нему скользили отсветы доброты, самоотверженности, самоотречения, которые мы обычно видим только на лицах беременных женщин и молодых матерей.
Я испытывал такие угрызения совести и так стыдился своего необоснованного суждения, что с трудом удерживал слезы, которые выглядели бы просто нелепо на фоне нашей болтовни.
– И вы не ревнуете?
– Нисколько, сударь, – ответила она мне и рассмеялась очень искренне, без тени злости. – Вам это, наверное, кажется странным, но дело обстоит именно так. Я люблю своего мужа, у него такое прямое сердце, обожаю кузину, она очаровательна, и притом это совершенно невинная душа, другой такой нет. Нет, ревность я презираю, и от нее становишься уродливой, а в моем возрасте уже надо себя беречь.
И в самом деле, ее уродство в тот день бросалось в глаза. у меня просто душа разрывалась, и тогда я, повинуясь не разуму, а чувству, приказал ей, заговорив как бы отеческим тоном, завернуться в шаль из альпака, ссылаясь для приличия на сильный ветер, на котором она может простудиться. Я сам набросил ей на плечи этот мохнатый шерстяной платок, прикрывший все платье, и так распределил складки вокруг лица, что оно снова стало привлекательным.
Как она была прекрасна, когда тепло улыбнулась в ответ на мой жест! Она снова казалась счастливой и с благодарностью глядела на меня, словно ребенок, жаждущий ласки.
– Бедный мой муж, как мне радостно видеть его хоть разок оживленным. У него ведь и так хватает огорчений.
– Баронесса, я не хочу быть нескромным, но скажите мне, заклинаю вас небом, – отважился я, – что вас гнетет? Я не настолько слеп, чтобы не видеть, что вы таите какую-то тревогу. Я, увы, могу дать лишь добрый совет, но если он вам понадобится, то рассчитывайте на меня, как на друга.
Так вот он, оказывается, каков, этот труп в трюме, который постоянно мучил моих бедных друзей: гнусный призрак надвигающегося разорения. Недостаточное жалованье барона до сих пор пополнялось приданым баронессы, но недавно выяснилось, что этого приданого, можно сказать, не существует, потому что оно состоит из бумаг, потерявших ценность. И ему, видимо, придется подать в отставку, во всяком случае, он уже ищет место кассира.
– Вот почему, – добавила она, – я хотела найти применение своему таланту и заработать деньги на хозяйство. Ведь он попал в такое трудное положение по моей вине, это я погубила его карьеру…
Что можно сказать или сделать, когда все обстоит так серьезно, а я бессилен помочь! Я настроился на поэтический лад и, внушив себе с помощью самообмана, что это пустяки, стал сочинять сказку, обещая ей беззаботное будущее, вселял радужные надежды, прибегал к помощи экономической статистики, чтобы предсказать приход лучших времен, а значит, и повышение курса ее акций, придумывал новые источники доходов, причем огромных, обещал в ближайшем будущем чудо – проведение реорганизации армии, а следовательно, и неожиданные повышения.
Все это был чистый вымысел, но благодаря моей фантазии я вдохнул в нее мужество и надежду и улучшил ее настроение.
Сойдя с парохода, мы, опять же парами, погуляли по парку, ожидая открытия театра. Я еще и словом не обменялся с кузиной, она была всецело занята бароном: он нес театральную накидку Малютки и при этом пожирал ее глазами, обрызгивал слюной, отогревал своим дыханием, но она оставалась неприступной, холодной, лицо сохраняло строгое выражение, а глаза были ледяными. Время от времени она роняла два-три слова, которые вызывали у барона громкий смех, но у нее самой лицо при этом оставалось каменным. Казалось, она всегда говорила только «в сторону», как в комедии, отпускала колкости и даже двусмысленности, если судить по гривуазной мимике ее собеседника. Наконец двери театра открылись, и мы устремились туда, поскольку места не были нумерованными. И вот поднялся занавес. Баронесса была счастлива снова увидеть подмостки, вдыхать запах темперы, полотна, дерева, грима, пота.
Играли «Каприз». Мне вдруг стало дурно – может, из-за нахлынувших горьких воспоминаний неудачника, который так и не смог завоевать сцену, а может, из-за вчерашнего кутежа. Как только упал занавес, я встал и тайком удрал в ресторан, где с помощью двух рюмок абсента кое-как привел себя в чувство.
Спустя некоторое время туда пришли и мои друзья, чтобы вместе поужинать, как было заранее условлено. Вид у них был усталый, они едва скрывали досаду по поводу моего бегства. Пока накрывали на стол, никто не произнес ни слова. Мы сели, но вчетвером трудно было начать разговор, и кузина по-прежнему хранила молчание, держалась крайне сдержанно и даже высокомерно.
И вот тут начали обсуждать меню. Баронесса, посоветовавшись со мной, решила взять закуску, но барон резко возразил, слишком резко для моих нервов, и я, словно по дьявольскому наущению, сделал вид, будто не слышу его слов, и заказал закуску на двоих. Для нее и для себя, как она хотела.
Барон побледнел. Атмосфера накалилась до предела, но никто не произнес ни слова.
Я был восхищен своим мужеством, тем, что парировал дерзость оскорблением, за которое мне в стране другой культуры пришлось бы держать серьезный ответ, и молча принялся за еду. Баронесса, ободренная моей смелой защитой, стала меня поддразнивать, чтобы вызвать улыбку. Но тщетно. Разговора за столом быть не могло, нам нечего было сказать друг другу, мы с бароном лишь обменивались грозными взглядами. Под конец мой противник начал что-то шептать своей супруге, которая отвечала ему знаками и обрывками слов, произнесенных не раздвигая губ, и при этом кидала на меня презрительные взгляды.
Кровь ударила мне в голову, и гроза неминуемо разразилась бы, но тут возник инцидент, послуживший громоотводом.
В соседнем кабинете пировала веселая компания. Уже полчаса там кто-то бренчал на пианино, а теперь, распахнув дверь, все хором запели непристойную песенку.
– Закройте дверь! – приказал барон официанту.
Едва он закрыл дверь, как ее снова открыли певцы, выделяя похабные слова и явно упиваясь своей забавой.
Настал мой черед, воспользовавшись случаем, поднять скандал.
Я сорвался с места, большими шагами пересек зал и захлопнул дверь перед носом поющих. Взорвавшаяся бомба не произвела бы большего эффекта, чем мой жест. Я крепко вцепился в дверную ручку, но после короткой борьбы враги меня пересилили и вновь распахнули дверь, а я оказался в кругу кричащих людей, которые вce ринулись на меня, чтобы избить. В тот же миг я почувствовал, что моего плеча коснулась рука, и услышал негодующий голос, взывающий к чести этих господ, которые все накинулись на одного… Это была баронесса, которая, позабыв приличия и хоюшие манеры, поддалась порыву, свидетельствующему о ее чувствах, быть может, более горячих, чем она хотела показать.
Ссора на этом завершилась, и баронесса пристально поглядела на меня.
– Вы смелый человек, – сказала она. – Как я за вас испугалась!
Барон попросил счет и, вызвав метрдотеля, потребовал, чтобы сюда пришел мэр.
Между нами тут же установились самые добрые отношения, и каждый, перебивая другого, выражал свое возмущение грубостью местных жителей. Все бешенство, порожденное ревностью и оскорбленным самолюбием, обрушилось на козлов отпущения, а вокруг пунша, который мы выпили в гостинице, снова воспылал факел дружбы, и мы даже не заметили, что мэр так и не явился.
На следующее утро мы встретились за кофе, причем у всех было отличное настроение, и мы были счастливы, что выпутались из неприятной истории, последствия которой было трудно предвидеть.
После завтрака мы прогулялись по плотине канала, по-прежнему парами и на приличном расстоянии друг от друга. Когда мы дошли до. шлюза, где канал поворачивал, барон вдруг остановился и, поглядев на баронессу с нежной, почти влюбленной улыбкой, сказал:
– Ты помнишь, Мария, это было здесь?
– Помню, дорогой Густав, – отозвалась она. Ее подвижное лицо выражало страсть и печаль.
– Здесь он объяснился мне в любви, – сказала она мне. – Как-то вечером, когда мы глядели на падающие звезды, вот под этой березой…
– Три года тому назад… – добавил я. – И теперь вы стараетесь оживить свои воспоминания, вы питаетесь прошлым, потому что настоящее вас не удовлетворяет…
– Прекратите, сударь, вы ошибаетесь… Я ненавижу прошлое, и я навек обязана мужу за то, что он освободил меня от тщеславной матери, ее деспотическая любовь меня чуть не погубила. Нет, я обожаю своего Густава, он стал мне верным другом.
– Как вам угодно, баронесса, я всегда с вами согласен, чтобы быть вам приятным.
В указанное время мы сели на пароход. Он пересек голубое озеро с тысячами зеленеющих островков и причалил к городской пристани, где мы и попрощались.
Я твердо решил серьезно взяться за работу, чтобы с корнем вырвать из моей души этот чуждый нарост, который принял форму женщины, но вскоре обнаружил, что не учел при этом неподвластных мне сил. Уже на следующий день я получил от баронессы приглашение на обед по случаю годовщины ее брака. Прибегать к уверткам было уже невозможно, и, хотя меня мучил страх, что таким образом наша дружба скоро зайдет в тупик, я явился точно в указанный час.
Представляете себе мое разочарование, когда я застал дом в полном разоре, прислуга второпях убирала комнаты. Барон был явно не в духе, а баронесса еще не появилась и велела извиниться передо мной за то, что обед опаздывает. Прогулка в садике с раздраженным и голодным бароном, который был не в силах скрыть своего нетерпения, исчерпала все мои разговорные возможности, так что полчаса спустя, когда мы поднялись в столовую, вести какую-либо беседу я был уже просто не в состоянии.
Стол к тому времени уже накрыли, и на нем даже расставили закуски, но хозяйка дома по-прежнему отсутствовала.
– Давайте перехватим на ходу хоть по бутерброду, – предложил мне барон.
Желая пощадить баронессу, я попытался было его отговорить, но ничего у меня не вышло. Я оказался между двух огней. И мне пришлось подчиниться барону.
И тут вдруг появилась баронесса. Сияющая, молодая, красивая, хорошо одетая. Платье из желто-лиловой, как анютины глазки, прозрачной тафты – эти цвета ей очень шли – было безупречного покроя и подчеркивало гибкую, как у девочки, талию, а ее обнаженные округлые плечи и руки были самим совершенством. Я поспешил преподнести ей букет роз и пожелал справлять юбилей свадьбы еще бесчисленное число раз, а вину за наше невежливое нетерпение с едой свалил на барона.
Она надула губы, заметив беспорядок на столе, и скорее горько, чем весело, бросила мужу какую-то язвительную фразу, а он тут же огрызнулся на это, пожалуй, незаслуженное замечание. Я поспешил на выручку, заговорив о вчерашних впечатлениях, которые мы с бароном только что ворошили.
– А как вам понравилась моя прелестная кузина? – спросила баронесса.
– Очаровательна! – воскликнул я.
– Не правда ли, это дитя просто находка, – произнес барон столь отеческим и искренним тоном, что ни в чем, кроме жалости к этой жертве воображаемых тиранов-родителей, его нельзя было заподозрить.
Но баронесса, не поддержав шулерской игры со словом «дитя», сказала безжалостно:
– Вы только поглядите, как эта милая Малютка причесала моего мужа!
И в самом деле, от привычного пробора у барона не осталось и следа, волосы были завиты и взъерошены, а усы подкручены, и все это до неузнаваемости меняло его лицо. Но при этом я обратил также внимание, хотя и вида не подал, на то, что в прическе, в одежде и даже в манерах баронесса теперь подражала своей обольстительной кузине. Нечто вроде избирательного сродства в химии, которое также широко применимо к живым существам.
Тем временем обед тянулся медленно и тяжело, как похоронные дроги. К кофе ждали кузину, которая стала теперь непременным членом нашего квартета, поскольку трио явно разладилось.
Когда подали десерт, я провозгласил тост в честь супругов, но говорил традиционно, без вдохновения, и речь моя походила на выдохшееся шампанское.
Барон и баронесса обнялись, возбужденные старыми воспоминаниями, и от этих внешних жестов любви в них вдруг проснулась подлинная нежность друг к другу, и они почувствовали себя снова влюбленными, подобно актерам, которые, искусственно вызывая слезы, приходят в состояние истинной печали. А может, под пеплом еще тлел огонь, готовый тут же вспыхнуть, если его умело и вовремя раздуть. Трудно сказать, что именно это было.
Потом мы спустились в садик и расположились в зеленой беседке, из которой был виден бульвар. Разговор то и дело замирал, всех нас охватило какое-то оцепенение, барон был рассеян и все время посматривал на улицу, выглядывая кузину. Вдруг он вскочил и умчался с быстротой лани, оставив нас вдвоем. Уж очень ему хотелось поскорее встретить свою гостью!
Оставшись наедине с баронессой, я почувствовал себя неловко, и вовсе не оттого, что был застенчив. Но когда мы оставались одни, она просто пожирала меня глазами, непомерно восхищаясь то одной, то другой деталью моего туалета, что не могло не вводить меня в смущение. И вот тогда, после долгого молчания, такого долгого, что уже становилось как-то не по себе, она вдруг рассмеялась и, указав в сторону убежавшего барона, сказала:
– До чего же влюблен мой дорогой Густав!
– Похоже, – ответил я. – Но вас как будто не мучает ревность.
– Нимало! – заверила она. – К тому же я сама влюблена в эту прелестную кошечку. А как вы относитесь к моей очаровательной кузине?
– Хорошо, баронесса. Но, чтобы быть до конца откровенным, скажу, не желая вас обидеть, что она не пользуется моей настоящей симпатией.
Я сказал чистейшую правду. С первого взгляда эта молодая особа, по происхождению простолюдинка, как и я, невзлюбила меня, как ненужного свидетеля, а точнее, как опасного соперника, охотившегося на той же территории, что и она, чтобы получить доступ в высший свет. Окинув меня проницательным взглядом – у нее были маленькие жемчужно-серые глазки, – она сразу же определила, что это ненужное ей знакомство, что пользы от меня как от козла молока, а ее инстинкт буржуазки подсказал ей, что в этот дом меня привела погоня за удачей. В известном смысле она была даже права, ведь я и не скрывал, что пришел в этот дом в надежде найти посредников, чтобы пристроить мою трагедию, но у моих друзей не оказалось решительно никаких театральных связей, все это был чистый вымысел финской барышни, и о моей пьесе мы ни разу не говорили, если не считать тех банальных комплиментов, которые я выслушал после чтения.
Барон, легко поддававшийся влиянию, решительно изменил ко мне отношение, и это лишь доказывало, что постепенно он тоже начинал смотреть на меня глазами обольстительной кузины. Впрочем, влюбленные не заставили себя долго ждать, они вскоре появились у калитки, оживленно болтая и смеясь.
Юная кузина была в тот вечер в игривом настроении. Она озорничала, как мальчишка-сорванец, то и дело употребляла фривольные слова, но при этом оставалась в рамках хорошего вкуса, ловко, с самым невинным видом говорила двусмысленности, прикидываясь, будто и понятия не имеет о вторых значениях некоторых фраз. Она курила и пила вино, но при этом всегда вела себя как женщина, причем очень молодая женщина. Никаких мужских повадок, никакого намека на эмансипированность, никаких высоких воротничков. По правде говоря, она была забавной, и в ее обществе время пролетало незаметно. Но больше всего меня поразило, и это наблюдение оказалось пророческим, то дикое веселье, которое охватывало баронессу всякий раз, когда с уст кузины срывалась очередная рискованная фраза. Ее охватывали приступы какого-то развязного смеха, а на лице появлялось выражение бесстыдного сладострастия, свидетельствующее о ее посвященности в тайны разврата.
Тем временем к нам присоединился дядя барона. Старый вдовец, капитан в отставке, он был необычайно обходителен с дамами и отличался изысканными манерами, но при этом не был чужд и предприимчивой галантности в духе старого времени. Используя кровное родство как надежный щит, он был в этом доме настоящим женским угодником, давно завоевал расположение его обитательниц и пользовался правом обнимать их, поглаживать по щечкам и целовать руки. И на этот раз не успел он появиться, как обе дамы кинулись ему на шею с радостными криками.
– Ах, мои крошки, поосторожней! Две на одного, не много ли это для такого старика, как я? Поостерегитесь, а то я буду стрелять! Руки вверх, либо я за себя не отвечаю.
Баронесса протянула ему свою сигарету, которую она уже примяла губами.
– Огоньку, дядюшка! – выкрикнула она со страстью в голосе.
– Увы, мой огонь иссяк, – ответил он лукаво. – Уже пять лет, как огня нет!
Баронесса с шутливой укоризной хлопнула его по щеке, но он поймал ее руку, стиснул ее пальчики между своими ладонями, а потом принялся гладить руку по всей длине, от кисти до самого плеча.
– Да ты, голубушку, вовсе не такая худышка, как кажется, – сказал он, проводя пальцами по изгибам ее мягко очерченной руки, которую она не отнимала.
Комплимент пришелся баронессе, судя по всему, по вкусу, во всяком случае, она опять рассмеялась громким чувственным смехом и, подняв рукав платья, обнажила изящную, благородных линий руку, поражающую молочной белизной кожи.
Вдруг она вспомнила о моем присутствии и торопливо опустила рукав, однако я успел увидеть, как в ее глазах вспыхнуло безумное пламя, а лицо ее исказилось гримасой любовного экстаза. В этот момент я.как раз зажигал спичку и по неосторожности уронил раскаленный уголек, который упал между манишкой и жилетом. Баронесса кинулась в ужасе ко мне и, зажав пальцами тлеющее пятнышко, крикнула: «Огонь, огонь!», – залившись от волнения краской.
Я был потрясен и прижал ее руки к своей груди, но тут же, устыдившись своего порыва, отстранился, сделав вид, будто спасся от серьезной опасности, и почтительно поблагодарил баронессу, которая еще не успокоилась.
Мы пролюбезничали до ужина. Солнце тем временем зашло, и из-за купола обсерватории показалась луна, освещая яблони в саду, и мы стали отгадывать названия сортов яблок, висящих на ветках и наполовину скрытых густой листвой, блекло-зеленой в электрическом свете луны. А яблоки – и кроваво-красный кальвиль, и серо-зеленая антоновка, и коричневатый ранет – все изменили свою окраску и казались теперь разноцветными пятнами, от ярко-желтых до иссиня-черных. То же самое происходило и с цветами на клумбах. Георгины приобрели совершенно неправдоподобные оттенки, левкои выглядели цветами с другой планеты, а китайские астры блестели и переливались красками, которым у нас нет названия.
– Поглядите, баронесса, насколько все вокруг – плод нашего воображения, цвета существуют не сами по себе, а зависят от природы света. Все иллюзорно, решительно все.
– Все? – переспросила она, остановившись передо мной и подняв на меня пронзительный взгляд своих глаз, ставших от темноты еще больше.
– Все, баронесса, – солгал я, совсем потеряв голову от этого Реального видения из плоти и крови, которое меня в тот миг испугало своей невообразимой красотой.
Ее растрепавшиеся волосы образовали как бы серебряный нимб над ее лицом, озаренным лунным светом, а стройная фигура, Подчеркнутая полосатым, ставшим при этом освещении черно-белым, платьем, была удивительно пропорциональна и гармонична.
Левкои источали возбуждающий аромат, кузнечики призывали нас лечь на траву, увлажненную вечерней росой, листва деревьев трепетала от теплого ветерка, сумерки укрывали нас мягкой пеленой, – одним словом, все призывало к любви, и только добропорядочная трусость удерживала меня от признания.
Вдруг в траву упало яблоко, сорванное с ветки порывом ветра. Баронесса нагнулась, подняла его и многозначительным жестом протянула мне.
– Запрещенный плод, – пробормотал я, – нет, баронесса, благодарю вас.
И, чтобы загладить свою неуклюжесть, я тут же стал придумывать удовлетворительное объяснение, намекая на мелочность хозяина.
– Вы же знаете хозяина. Что он скажет?
– Что вы рыцарь без страха и упрека, – насмешливо ответила она, словно ставя мне в вину мой испуг, и бросила косой взгляд на беседку, где сидели барон и кузина, скрытые от наших глаз.
Подали ужин. Когда мы вышли из-за стола, барон предложил всем прогуляться, чтобы проводить домой «наше дорогое дитя».
Выйдя из ворот, барон взял под руку кузину и повернулся ко мне.
– А вы, сударь, предложите руку моей жене, покажите, что вы кавалер, – сказал он обычным отеческим тоном.
И я снова испугался. Так как вечер был теплый, она не надела пальто, а лишь накинула его на плечи, и от прикосновения ее руки, упругость которой я ощущал сквозь шелк, по моему телу пробежал электрический ток, возбудивший во мне какую-то сверхчувствительность. Так я, например, почувствовал, что рукав ее платья кончается на уровне моей дельтовидной мышцы. Я был так взвинчен, что мог воссоздать всю анатомию этой очаровательной руки. Ее бицепс – мышца-сгибатель, играющая первейшую роль во время объятий, – прижался к моему бицепсу, сквозь материю я ощущал мягкое ритмичное пульсирование ее плоти. Шагая с ней рядом, я легко представил себе форму ее ноги и округлость бедра, которое облегала ее нижняя юбка.
– Вы хорошо ведете даму и, наверное, прекрасно танцуете, – подбодрила она меня, но от стеснения я не мог вымолвить слова.
И после паузы, убедившись, что мои нервы натянуты до предела, она спросила с усмешкой, наслаждаясь своим женским превосходством:
– Вы дрожите?
– Да, баронесса, мне холодно.
– Наденьте пальто, мой мальчик, – сказала она ласково.
Надев пальто вместо смирительной рубашки, я оказался несколько защищенным от тепла ее тела. Но ее маленькие шажки, подладившись к ритму моих шагов, настолько объединили наши нервные системы, что мне показалось, будто я иду четырьмя ногами, как сдвоенное существо.
Во время этой прогулки, имевшей, как потом выяснилось, пророческое значение, мне как бы сделали прививку, которую делают садовники, приживляя ветку к стволу.
С того самого дня я перестал владеть собой. Эта женщина просочилась мне в кровь, наши нервы, придя во взаимодействие, напряглись, ее женские клетки нуждались в активной силе моих мужских клеток, ее душа испытывала потребность в моем интеллекте, который, в свою очередь, стремился до краев заполнить этот нежный сосуд. Но мы об этом еще не подозревали. В этом и было все дело.
Вернувшись домой, я спросил себя, чего же, собственно говоря, хочу. Убежать, забыть или добиться успеха в какой-нибудь далекой стране. И я сразу же стал намечать план предполагаемого путешествия. В Париж, в центр цивилизации, чтобы там заточить себя в библиотеки и музеи – почем я знаю! – и завершить свой труд!
Как только возник этот план, я стал предпринимать шаги для его осуществления, и все произошло так быстро, что через месяц я уже начал делать прощальные визиты. Одно происшествие, случившееся на редкость кстати, облегчило мне трудную задачу найти благопристойный предлог для этого бегства. Сельма – так звали финскую барышню, – о которой я и думать забыл, опубликовала сообщение о своем предстоящем браке с певцом.
Я вынужден бежать, чтобы поскорее забыть изменницу и залечить на чужбине свое раненое сердце. Объяснение показалось убедительным.
Но когда я решил отправиться в Гавр пароходом, мне пришлось поддаться уговорам друзей и отложить отъезд на несколько недель из-за осенних бурь.
Затем меня задержала свадьба сестры, назначенная на начало октября, так что мой отъезд все оттягивался.
Тем временем мои друзья чуть ли не каждый день приглашали меня к себе. Поскольку кузина уехала к своим родителям, мы чаще всего проводили вечера втроем, и барон, вновь попав под влияние жены, стал ко мне опять благоволить. Успокоенный моим скорым отъездом, он по старой привычке вел себя со мной как с другом.
Как-то вечером, когда мы были в гостях у матери баронессы, баронесса, непринужденно примостившись на диване и положив голову на колени матери, решила вдруг публично признаться в своем горячем увлечении одним знаменитым актером. Я и сейчас не могу решить, было ли это правдой или говорилось исключительно для меня, чтобы, поджаривая меня таким образом на медленном огне, посмотреть, как я буду реагировать на ее признание. Но так или иначе, старая дама, поглаживая волосы дочери, сказала мне:
– Если вы, сударь, намерены в будущем написать роман о женщине, то вот вам прообраз пылкой натуры. У нее всегда есть предмет страсти помимо мужа.
– Истинная правда, – подхватила баронесса. – И в данный Момент это божественный М.
– Ну разве она не безумна? – воскликнул барон и улыбнулся мне, однако не сумел побороть начавшийся тик.
Пылкая натура! Это определение засело в моей голове, потому что оно было произнесено пожилой дамой, матерью, и не могло, при всей его ироничности, не содержать зерна истины.
В канун своего отъезда я пригласил барона и баронессу на ужин к себе в мансарду. Принимая их по-холостяцки, я все же украсил свою комнату, чтобы хоть как-то скрыть недостатки меблировки, и мое скромное жилище превратилось в подобие храма. У стены, между двумя окнами, перед одним из которых находился мой письменный стол и жардиньерка с комнатными цветами, а перед другим – небольшая книжная полка, стоял плетеный продранный диванчик, покрытый тигровым одеялом, которое крепилось невидимыми кнопками. Слева помещалась тахта в чехле из полосатого тика, заменявшая мне кровать, а на стене над ней яркая пестрая карта обоих полушарий; справа красовался комод, над которым висело зеркало, – обе эти вещи были в стиле ампир с украшениями из позолоченной бронзы, дальше – шкаф с гипсовым бюстом и умывальник, в этот вечер задрапированный оконными занавесками. Стены были увешаны всевозможными гравюрами в рамах, в совокупности создающими впечатление чего-то заведомо старинного и уникального.
На потолке висела фарфоровая люстра с рельефными цветами, по форме удивительно напоминающая паникадило – я нашел ее у одного старьевщика. Дефекты и сколы на этой люстре я ловко прикрыл листьями искусственного плюща, который стащил на днях у своей сестры. Под люстрой с тремя подсвечниками стоял стол, покрытый белоснежной камчатной скатертью, а в его центре – фаянсовое кашпо с кустом бенгальской розы, усыпанным алыми цветами, которые таились в темно-зеленой листве; все это вместе с ниспадающими на растение усиками плюща создавало впечатление праздника Флоры. Горшок с розами был окружен бокалами красного, зеленого, опалового стекла, купленными по случаю в антикварной лавке, все они были с дефектами, так же как и фарфоровый сервиз, собранный поштучно и состоящий из тарелок, солонки и сахарницы китайской, японской и мариберг-ской работы.
На ужин я выбрал десять или двенадцать блюд холодных закусок скорее из декоративных соображений, нежели по вкусовым качествам, поскольку главным угощением все равно были устрицы. Хозяйка квартиры оказалась настолько любезна, что одолжила мне разные мелкие предметы, без которых было бы трудно организовать в мансарде настоящий праздник. Наконец, когда все было готово, я окинул взглядом мою преображенную мансарду и остался доволен, хотя и не выразил своих чувств даже восклицанием. Возникшая композиция вызывала в душе целую гамму различных ощущений, ибо включала в себя одновременно и труд поэта, и исследование ученого, и вкус художника, и снобизм гурмана, и культ цветов, а за всем этим угадывалось ожидание женщины. Если бы не три прибора на столе, можно было подумать, что интерьер этот создан для первой ночи, для ночи любви, но для меня предстоящий вечер был скорее сценой покаяния, В мою комнату не ступала нога женщины с тех пор, как у меня произошел разрыв с той подлой обманщицей, след от ее удара каблуком еще ясно виден на полированном дереве моей тахты. С того самого дня зеркало над комодом не отражало больше женского бюста. И вот теперь целомудренная, тонко чувствующая женщина, мать, дама света, освятит своим приходом это жилище, стены которого были свидетелями стольких печалей, страданий и бед. Но вместе с тем это должна быть и священная трапеза, так говорил во мне поэт, потому что, по существу, я жертвую своим сердцем, покоем, а может, и жизнью, ради счастья своих друзей.
Все у меня было готово, когда до меня донесся шум шагов на площадке четвертого этажа. Я поспешил зажечь свечи, поправил цветы в вазах и тут же услышал, как гости, наконец добравшись до мансарды, с трудом переводят дыхание перед моей дверью.
Я открыл. Ослепленная светом стольких свечей, баронесса захлопала, как в опере после понравившейся сцены.
– Да вы настоящий режиссер! – воскликнула она.
– Да, баронесса, я люблю театр, а пока…
Взяв у нее пальто, я поздоровался с гостями и предложил им сесть на диванчик. Но она никак не могла усидеть на месте. С любопытством молодой женщины, которая никогда не бывала в комнате холостяка, которая из родительского дома сразу попала в спальню своего мужа, она учинила у меня настоящий обыск. Оказавшись в моей келье, она принялась перебирать мои ручки, раскрыла мою записную книжку, все перетрогала, словно хотела узнать какой-то секрет. Потом она подбежала к полке с книгами и рассеянно скользнула взглядом по корешкам. Но проходя мимо зеркала, она на мгновение задержалась, чтобы поправить прическу и отложить кружева своего корсажа, обнажив при этом выемку груди. Она оглядела по очереди каждый предмет обстановки и понюхала цветы, всем любовалась, сопровождая это какими-то невнятными тихими возгласами. Наконец, обойдя всю комнату, она спросила совсем наивным тоном, казалось, без всякой задней мысли, но продолжая что-то искать глазами:
– А где же вы все-таки спите?
– На тахте, баронесса.
– Ах, как, наверно, хорошо быть холостяком! – И было похоже, что она вспомнила свои девичьи мечты.
– Иногда холостяку бывает очень грустно, – ответил я.
– Разве грустно быть хозяином самому себе, чувствовать себя независимым, знать, что ты ни перед кем не в ответе? О, я обожаю -свободу… А замужество Сельмы – просто предательство! Не правда ли, сердце мое? – обратилась она к барону, который, чтобы соответствовать ей, произнес:
– М-да, весьма досадно!
Мы сели за стол, ужин начался. После первого же стакана вина мы развеселились. Но вдруг вспомнили, в связи с чем собрались здесь, и печаль охватила нас. Потом каждый по очереди стал вслух вспоминать радостные минуты, пережитые вместе, мы вновь пережили, увы, лишь на словах, все забавные приключения во время наших совместных поездок, вспоминали, кто что когда сказал. Глаза у всех заблестели, сердца разогрелись, мы пожимали друг другу руки и чокались. Часы пролетали незаметно, и мы с растущим волнением понимали, что близится час прощания. Тогда по знаку своей жены барон вынул из кармана кольцо с опалом и, протянув его мне, произнес тост:
– Прими этот скромный дар, дорогой друг, в знак благодарности за твое дружеское к нам расположение. Пусть удача сопутствует тебе во всем, я молю об этом судьбу, потому что люблю тебя как брата и уважаю как человека чести! Счастливого пути! Я говорю тебе не прощай, а до свидания.
Человек чести! Значит, он меня разгадал! Он постиг нашу тайну! Однако не до конца. И в отборных выражениях барон обрушил изрядную порцию брани на голову бедной Сельмы, которая, как он уверял, не послушалась зова сердца и продалась человеку, не испытывая к нему никаких чувств. А этот жалкий субъект, ее супруг, всецело обязан своим счастьем человеку чести.
Человек чести – это я! Мне стало стыдно, но, увлеченный искренностью этого открытого, простого сердца, я вообразил себя очень несчастным, безутешным, и ложь пробрала меня, как мороз, до мозга костей и приняла образ правды.
Баронесса, сбитая с толку моими ловкими увертками и той холодностью, которую я всегда проявлял по отношению к ней, казалось, верила всему и с нежностью старой матушки пыталась меня приободрить.
– Хватит страдать по девицам! Их на свете хоть отбавляй, да куда лучших, чем эта особа. Не сомневайтесь, дитя мое, она немногого стоит, раз не хотела вас ждать. К тому же – теперь я могу вам в этом признаться – я там такого про нее наслушалась, что мне было просто неловко посвящать вас в эти сплетни.
И уже с нескрываемым удовольствием баронесса стала развенчивать мое, как она полагала, божество:
– Она, представьте себе, пыталась даже соблазнить одного лейтенанта из высшего общеста… и к тому же она гораздо старше, чем выдает себя… настоящая кокетка, поверьте!
Заметив неодобрительное движение мужа, баронесса сообразила, что совершила оплошность, и, сжимая мне руку, таким нежным взглядом молила у меня прощения, что для меня это было просто пыткой.
Барон, опьянев от выпитого вина, пустился в сентиментальные разглагольствования, изливал душу, признавался мне в братской любви, произносил множество весьма расплывчатых тостов и витал в каких-то высших сферах.
Его одутловатое лицо излучало доброжелательность, он ласкал меня своими печальными глазами, и у меня не оставалось сомнений в надежности его привязанности. Воистину это был большой добрый ребенок, безупречный в своей прямоте, и я поклялся быть ему верным даже ценой собственной гибели. Мы встали из-за стола, чтобы расстаться – быть может, навсегда. Баронесса разрыдалась и обняла мужа, чтобы спрятать мокрое от слез лицо.
– Я совсем с ума сошла! – воскликнула она. – Я так привязалась к этому человечку, что его отъезд приводит меня в отчаяние.
И в порыве любви, чистой и нечистой, бескорыстной или заинтересованной, бешеной, но замаскированной под ангельскую нежность, она поцеловала меня на глазах мужа и, перекрестив, сказала мне прощай.
Старая служанка, стоящая у дверей, вытирала глаза, а мы все трое плакали. Это была торжественная, незабываемая минута. Жертва была свершена.
Я лег около часу ночи, но заснуть не смог. Страх опоздать на пароход не давал мне сомкнуть глаз. Вконец измученный проводами, которые длились уже целую неделю, в крайнем нервном возбуждении из-за ежедневных попоек, выбитый из колеи вынужденным бездельем, раздраженный все новыми отсрочками дня отъезда и, главное, обессиленный от пережитых накануне волнений, я вертелся в постели до рассвета. Зная свое слабоволие и крайнее отвращение к поезду, я решил свершить это путешествие на пароходе, чтобы отрезать себе все пути к отступлению. Пароход отчаливал в шесть утра, экипаж должен был заехать за мной в пять. Один я отправился в путь. Октябрьское утро было ветреным, туманным и очень холодным, деревья белели от изморози. Когда мы доехали до Северного моста, я решил, что у меня начинается галлюцинация: я увидел барона, он шел в том же направлении, в котором ехал мой экипаж. Но это и в самом деле был барон: пренебрегая всеми светскими условностями, он, оказывается, встал в такую рань, чтобы еще раз со мной попрощаться. До глубины души тронутый таким неожиданным проявлением дружбы,– я почувствовал себя недостойным его привязанности, и меня стали мучить жестокие угрызения совести за все мои дурные мысли на его счет. Он не только проводил меня до причала, но и поднялся на борт корабля, посетил мою каюту, представился капитану и попросил его отнестись ко мне с особым вниманием. Короче, он вел себя как старший брат, как преданнейший друг, а когда мы обнялись, у нас у обоих были слезы на глазах.
– Береги себя, старина, – попросил он меня, – мне кажется, ты нездоров.
И в самом деле, мне было как-то не по себе, и все же я держался, пока пароход не отчалил. Но вдруг меня охватил ужас перед этим долгим путешествием, которое я предпринимал безо всякой разумной цели, такой ужас, что мне до безумия захотелось броситься в воду и поплыть к берегу. Однако у меня ни на что не было сил, я в нерешительности топтался на палубе и махал платком в ответ на приветствия моего друга, которого я вскоре потерял из виду, так как на рейде стояло много кораблей.
Пароход, на котором я плыл, был транспортным и вез большой груз. У него имелась всего лишь одна каюта, расположенная под нижней палубой. Я добрался до своей койки, повалился на матрас и с головой зарылся в одеяло, намереваясь проспать первые сутки, чтобы отсечь всякую надежду на побег. И в самом деле, я как провалился, но не прошло и получаса, как я внезапно проснулся, словно меня ударило электрическим током – обычное последствие бессонницы и злоупотребления алкоголем.
И я сразу же осознал свое отчаянное положение. Я вышел на палубу и стал ходить по ней взад-вперед. Мы проплывали мимо бурых голых берегов, листья с деревьев уже пооблетели, луга были серо-желтыми, а в расщелинах скал лежал снег. Сероватая вода с пятнами сепии, темное, зловещее небо, грязная палуба, брань матросов, вонь, доносящаяся до меня из кухни, – все это объединилось воедино, чтобы ввергнуть меня в отчаяние. Я испытывал неодолимую потребность с кем-то поделиться своими переживаниями, но не видел пассажиров. Я поднялся на мостик в надежде поговорить с капитаном. Но это был настоящий медведь, к такому не подступишься. Итак, я на десять дней оказался как в тюрьме, совсем один, в обществе людей, с которыми и словом не обмолвишься, начисто лишенных сердца. Это было настоящей пыткой.
И я снова стал прогуливаться по палубе, вперед-назад, словно от этого должно было скорее пройти время. Моя пылающая голова работала с небывалым напряжением, гудела от мыслей, рождавшихся тысячами ежеминутно, я гнал прочь воспоминания, но они тут же вновь всплывали и теснили друг друга в моем бедном мозгу, и среди всей этой душевной сумятицы меня еще терзала непроходящая боль, подобная зубной, но при этом я не понимал, что именно у меня болит, не знал названия этого страдания. Чем дальше отплывал пароход от берега, приближаясь к открытому морю, тем больше нарастало во мне это напряжение. Словно пуповина, которая связывала меня с родной землей, с родиной, с семьей – с ней, должна была вот-вот разорваться. Болтаясь где-то между небом и землей на крутых волнах, я чувствовал, что буквально теряю почву под ногами, что все меня покинули, и от этого сознания своего одиночества в душе моей рождался смутный страх – я стал бояться всего и всех. Должно быть, во мне есть эта врожденная ущербность, потому что я помню, как давным-давно во время увеселительной прогулки я горько рыдал от разлуки с мамой, хотя тогда мне шел уже двенадцатый год и по физическому развитию я намного опережал своих сверстников. Может, это объясняется тем, что я родился недоношенным, может, все дело в том, что я появился на свет, несмотря на предпринятые попытки избавиться от меня, что весьма часто случалось в многодетных семьях. Так или иначе, но у меня развилось странное малодушие, которое проявлялось всякий раз, когда я собирался изменить место жительства. Так и теперь, вырванный из своей привычной среды, я вдруг испытал панический безотчетный страх перед будущим, перед той незнакомой страной, куда направлялся, перед командой парохода. Впечатлительный, с обнаженными нервами, как, наверное, всякий едва не ставший жертвой аборта ребенок, я был подобен раку во время линьки, когда он без панциря ищет прибежища под камнями и чувствует малейшее колебание барометра, я бродил по пароходу, надеясь встретить человека с более мужественной душой, чем моя. Да, мне не хватало крепкого рукопожатия, теплоты человеческого тела, взгляда дружеских глаз. Я кружился, как заводная кукла, по передней палубе, между капитанским мостиком и надстройкой, и мысленно представлял себе, в каких страданиях я проведу все десять дней пути. А ведь прошел всего час, как мы отвалили от причала. Час, равный вечности, и не было никакой надежды прервать это проклятое путешествие, решительно никакой! Как я ни уговаривал себя, ни взывал к разуму, все во мне восставало. «Что тебя заставляет уехать? Кто имеет право осудить тебя, если ты решишь вернуться?»
Никто. И все же… Стыд, страх стать посмешищем, дело чести! Нет, надо оставить всякую надежду! Да к тому же этот пароход до Гавра не имеет стоянок. Итак, вперед, мужайся! Но мужество основано на физических и психических силах, а в данный момент я не располагал ни тем, ни другим. Гонимый черными мыслями, которые меня преследовали, я решил теперь гулять по задней палубе, поскольку переднюю я, так сказать, уже выучил наизусть, и релинги, и такелаж, и оснастку я знал, как содержание только что прочитанной книги. Выйдя на заднюю палубу через застекленную дверь, я чуть не толкнул даму, которая примостилась за каютой. Это была старая женщина с грустным выражением лица, одетая во все черное.
Она внимательно, с симпатией посмотрела на меня, так что я счел возможным с ней заговорить. Она ответила мне по-французски, и наше знакомство состоялось.
Обменявшись сперва несколькими незначительными фразами, мы тут же рассказали друг другу о целях нашего путешествия. Ее история была не из веселых. Она оказалась вдовой коммерсанта, торговавшего древесиной, и сейчас ехала из Стокгольма, где гостила У родных, в Гавр, чтобы ухаживать за сыном, который заболел психическим расстройством и помещен там в сумасшедший дом. Рассказ этой, дамы, душераздирающий при всей своей краткости и простоте, произвел на меня безмерное впечатление, и вполне вероятно, что именно он, засев в моем свихнувшемся мозгу, и явился толчком для того, что затем последовало.
Дама вдруг прервала начатую фразу, испуганно посмотрела на меня и спросила с сочувствием:
– Как вы себя чувствуете, сударь?
– Я?…
– Да, у вас больной вид! Не пойти ли вам немного поспать?
– По правде говоря, я не спал всю ночь и чувствую себя возбужденным. Как я ни старался, уснуть мне, к сожалению, так и не удалось.
– Это дело поправимое! Немедленно отправляйтесь в каюту, я дам вам такое лекарство, что вы и стоя уснете.
Она встала и ласково подтолкнула меня рукой, чтобы я скорее шел спать. Проводив меня до каюты, она на минуту исчезла и вернулась с бутылочкой, в которой было снотворное лекарство. Она заставила меня тут же выпить ложку этого снадобья и сказала:
– Ну вот, дитя мое, теперь вы будете спать.
Я поблагодарил ее, а она в ответ подоткнула мне со всех сторон одеяло. Как она бесподобно это делала! Она так и излучала то материнское тепло, которое ищет малыш, прижимаясь к груди матери. Нежное прикосновение ее рук меня успокоило, и две минуты спустя меня уже охватило какое-то оцепенение. Мне казалось, что я младенец, я вновь видел свою мать, которая хлопотала у моей кроватки, но постепенно бледное лицо матери расплылось, обрело очаровательные черты баронессы, но вместе с тем оно было и лицом доброй пожилой дамы, только что меня покинувшей, и, защищенный видением этих трех женщин, я медленно блек, как блекнут краски, сгорал, как свеча, переставал существовать в виде сознательного индивида.
Проснувшись, я не помнил, чтобы мне что-то снилось, но из головы не шла одна навязчивая идея, словно ее мне внушили за это время: либо я вернусь к баронессе, либо сойду с ума!
Меня охватила дрожь, я вскочил с койки, влажной от сырого ветра, который всюду проникал, и вышел на палубу. Небо было серо-голубым, как листовое железо, и бурливые волны обмывали тросы, заливали палубу и обдали меня пеной с головы до ног.
Поглядев на часы, я прикинул, сколько мы успели пройти во время моего сна, и мне стало ясно, что мы вот-вот выйдем в открытое море, и, следовательно, уже не было никакой надежды на возвращение. Пейзаж показался мне странным, все в нем удивляло меня, начиная с множества островков, раскинутых по всем бухтам, и кончая скалистыми берегами, размером хижин, стоящих у воды вдалеке друг от друга, и формой парусов на рыбацких челнах. И перед этой картиной чужой, незнакомой природы меня охватило предвкушение ностальгии. Меня душило глухое бешенство, отчаяние, что я, словно сельдь в бочке, втиснут в это транспортное судно, нахожусь здесь помимо своей воли, повинуясь высшей силе, именуемой «вопрос чести».
Изнуренный этим приступом бешенства, я впал в мучительную прострацию. Опершись на релинги, я стоял не двигаясь, хотя брызги так и били меня по горящим щекам, и лихорадочно глядел на берег, то в нелепой надежде обнаружить какую-то возможность остановить пароход, то строя планы добраться до берега вплавь. Мой взгляд следил за причудливой линией побережья, и постепенно я успокаивался, душа безо всяких причин то и дело озарялась тихой радостью, мой воспаленный мозг уже не работал так бешено, на меня наплывали воспоминания о погожих летних днях моей юности, однако объяснить, по какому капризу произошла эта смена настроений, я не мог. Пароход огибал в этот момент высокий мыс. Красные черепичные крыши и побеленные наличники проглядывали между сосен, флагшток, возвышающийся над зеленью садиков, мост, часовня, колокольня, кладбище… Это сон! Или галлюцинация! Нет, это просто тот самый убогий морской курорт, вблизи которого, на островке, я проводил в школьные годы лето… А в этом домике, вон там, наверху, я ночевал весной с моими друзьями, с ней и с ним, после поездки на пароходе и прогулки в лесу… Да, именно там, на этом холме, под ясенями, я любовался ею, когда она стояла на балконе, не мог оторвать глаз от ее прелестного личика, озаренного отсветом ее золотистых волос, будто солнцем, от маленькой японской шляпки с голубой вуалью, от ее крошечной ручки в замшевой перчатке… Она сверху подала мне знак, что обед готов… И мне показалось, что я снова вижу ее на балконе, вижу, как она машет мне платком, зовет своим звонким голосом… И вдруг пароход замедлил ход, машина заглохла, и к нам подплыла лодка лоцманов… Видимо, я ошибся в своих расчетах… Раз, два, три… Мысль, быстрая как молния, пронзила меня и вмиг привела в движение. Будто тигр, я одним прыжком оказался у капитанского мостика, мгновенно взобрался на него и с решимостью в голосе сказал капитану:
– Высадите меня немедленно, не то я сойду с ума!
Он окинул меня торопливым взглядом, помедлил, ошеломленный моей просьбой, и, не ответив мне, приказал своему помощнику, не выбирая слова, всем своим видом показывая, что перед ним стоит убежавший из больницы умалишенный:
– Высадите этого господина с его багажом. Он болен.
Минуту спустя я уже сидел в лодке лоцманов. Они приналегли на весла, и пять минут спустя я стоял на твердой земле.
Я обладаю замечательной способностью становиться в нужный момент глухим и слепым, поэтому я направился в гостиницу, не увидев и не услышав ничего сколько-нибудь оскорбительного Для моего самолюбия – ни презрительной усмешки на лицах лоцманов, свидетельствующей, что они знают мой секрет, ни оскорбительного замечания носильщиков.
Добравшись до гостиницы, я взял номер, заказал абсент, закурил и попробовал обдумать все, что случилось.
Сумасшедший ли я или нет? В самом ли деле опасность была так велика, что меня надо было немедленно высадить?
В данном случае я не чувствовал себя вправе вынести решение, поскольку душевнобольной, как говорят врачи, не отдает себе отчета в том, что он лишился рассудка, а логика развития его мыслей вовсе не доказывает, что сами эти мысли соответствуют норме. Как настоящий исследователь, я решил проанализировать аналогичные случаи в моей прошлой жизни. Однажды, когда я еще учился в университете, я был в нервном возбуждении, но на то имелись свои основания: самоубийство товарища, влюбленность без взаимности, страх перед будущим… Я дошел тогда до такого состояния, что среди белого дня стал всего бояться, не мог оставаться один в комнате, потому что мне чудилось, что я вижу самого себя, и друзья мои были вынуждены по очереди стеречь меня ночи напролет, зажигая по нескольку свечей и разводя огонь в печи.
В другой раз, в приступе раскаяния, вызванного разными несчастиями, я бегал по полям, бродил по лесу и в конце концов влез на сосну, сел верхом на ветку и стал произносить речи для малорослых елочек, пытаясь покрыть своим голосом их шелест, – я воображал себя оратором, выступающим перед народом. Это было как раз недалеко отсюда, на этом самом островке, где я столько раз проводил лето, – очертания его мыса я и сейчас видел вдали. Восстанавливая в памяти этот инцидент во всех его нелепых подробностях, я пришел к убеждению, что какая-то доля безумия во мне все-таки есть.
Что же теперь делать? Главное успеть предупредить друзей, пока слух о моей выходке не распространится по городу. Но какой позор, какое бесчестье оказаться в числе неполноценных! Нет, с этим просто невозможно смириться!
Врать, нести всякие небылицы, никого при этом не убеждая, – нет, это мне было противно! Я терзался сомнениями, не знал, что лучше предпринять, чтобы выбраться из лабиринта, из которого выхода не было, и меня так и подмывало по-настоящему удрать, уйти от скучного дознания, которого мне было не избежать, укрыться в лесу, найти там какое-нибудь заброшенное логово, забиться в него и сдохнуть, как дикий зверь, когда пробьет мой час.
С этими намерениями я вышел узкими улочками за черту городка, вскарабкался на поросшие мхом скалы, скользкие после осенних дождей, пересек поле под паром и вышел на участок, где с закрытыми ставнями спал наш домик, обвитый по самую крышу диким виноградом. Но листья его теперь облетели, и обнажилась густая сетка зеленой лозы.
Когда я очутился в этом месте, ставшем для меня священным, потому что там наше чувство пустило свои первые побеги, в моем сердце с новой силой вспыхнула любовь, тлевшая все это время под пеплом других забот. Прислонившись к столбу, поддерживающему резной деревянный балкончик, я плакал, громко всхлипывая, как брошенный ребенок.
Помню, что в «Тысяче и одной ночи» я читал про юношей, которые заболевают от неутоленной любви, и вылечить их может только одно средство – обладание любимой. Помню также, что в шведских народных песнях часто рассказывается о девушках, которые, не зная, как привлечь к себе внимание предмета своих воздыханий, чахнут на глазах и просят мать приготовить им смертное ложе. И даже старый скептик Гейне воспевает соплеменников Азры, которые умирают, когда любят!
Моя любовь, видимо, была того же рода, поскольку я буквально впал в детство и был всецело во власти одной только мысли, одного образа, одного чувства, которое господствовало над всеми остальными и лишало меня жизненной силы, я был ни на что не годен и мог только стонать.
Чтобы хоть как-то переключиться, я стал любоваться великолепным видом, открывшимся с этой высокой точки. Тысячи островов, ощетинившихся соснами и елями, казалось, плыли в огромном заливе Балтийского моря и становились тем меньше, чем дальше они отстояли от берега, пока, наконец, не превращались в крохотные островочки, рифы, подводные камни, и так до самой окрайности архипелага, где уже полностью властвует море, где волны разбиваются об отвесные стены последних скал.
Низкие висящие в небе тучи раскрашивали бушующее море разноцветными полосами, и коричневые валы, пробегая всю цветовую гамму от бутылочно-зеленого до берлинской лазури, вскипали на гребнях белоснежной пеной. Вдруг из-за крепости, возвышавшейся на крутом скалистом острове, поднялись клубы черного дыма. Но откуда валил этот дым, было неясно. Минуту спустя появился темный силуэт транспортного судна, которое я только что покинул. У меня до боли сжалось сердце, словно я увидел свидетеля своего бесчестия. И я закусил удила, как лошадь, которая понесла,
и побежал в лес.
Под стрельчатыми сводами сосен ветер гудел, раскачивая ветки с пушистой хвойной бахромой, и тогда меня пуще прежнего охватило отчаяние. Здесь мы с ней гуляли, когда солнце освещало весеннюю зелень перелеска и цвели сосны – их пурпуровые свечки пахли земляникой, и с можжевельника слетала желтая пыльца, а под орешником анемоны пробивали слой прошлогодних листьев. Здесь,, по этому мху, коричневому, мягкому, будто шерстяное одеяло, ступали ее маленькие ножки, когда она пела своим звонким голосом финские песни. Вспышка памяти приковала мой взгляд к двум гигантским соснам, которые сплелись в навеки нерасторжимом объятии, а когда ветер раскачивал верхушки, их стволы со скрипом терлись друг о друга. Именно здесь она сбежала с тропинки, чтобы сорвать в болоте кувшинку. С усердием легавой я стал брать след этой обожаемой ножки – ведь как ни легка ее походка, отпечаток должен был остаться. Наклонив голову и опустив нос, я разведывал местность, принюхивался, шарил глазами землю под ногами, но ничего не мог обнаружить. Скот все истоптал копытами, и искать отпечаток ботинка любимой можно было с тем же успехом, что след лесной феи. Я видел лишь трясину, коровий навоз, шампиньоны, мухоморы, белые и стебельки от облетевших цветов. Дойдя до болота, в котором поблескивала черная вода, я на миг утешился мыслью, что эта жижа была удостоена чести отразить самое прелестное в мире лицо, и постарался найти среди увядших листьев, которые пригнал сюда ветер с соседних берез, листья водяной лилии, но и это мне не удалось. Тогда я вернулся назад и углубился в лес. Чем дальше я заходил в чащу, тем толще становились стволы сосен и тем унылей завывал ветер.
Мною овладело полное отчаяние, я громко зарыдал от нестерпимой душевной боли, и слезы градом полились из глаз. Подобно лосю в пору спаривания, я топтал мухоморы, вырывал с корнем можжевельник, налетал на стволы деревьев. Чего я хотел? Этого я был бы не в силах сказать. Мой мозг пылал, у меня было лишь одно неодолимое желание – вновь увидеть баронессу, которую я любил слишком сильно, чтобы желать ее.
А теперь, когда все было кончено, я решил умереть, ибо жить без нее я не мог. Но с хитростью, свойственной всем сумасшедшим, я хотел погибнуть не как попало, а определенным образом: заболеть воспалением легких или чем-нибудь в этом роде, пролежать в постели несколько недель, видеть ее все это время, перед смертью успеть с ней попрощаться, поцеловать ей руку.
Как только у меня возник этот план, я несколько успокоился и двинулся к прибрежным скалам, что было нетрудно – грохот волн указывал мне направление, и я быстро выбрался из леса.
Я огляделся: крутой берег, большая глубина. Все складывалось как нельзя лучше. С тщательностью, которая никак не выдавала моего зловещего намерения, я разделся и сложил свою одежду под молодой ольхой, а часы положил под камень. Дул резкий ветер, вода в октябре была лишь на несколько градусов выше нуля. Добежав до гребня скалы, я прыгнул в воду вниз головой, стараясь попасть между двумя огромными валами. Меня обожгло, какие-то минуты мне казалось, что я погружен в раскаленную лаву, но потом я все же вынырнул, и в памяти остались морские водоросли, которые я там увидел. Их везикулы оцарапали мне икры. Я быстро поплыл вперед, удаляясь от берега, могучие волны ударяли мне в грудь, чайки приветствовали меня смехом, а вороны – карканьем. Однако я вскоре обессилел, и тогда я повернул к берегу и выбрался на скалу. Наступал главный момент в осуществлении моего замысла: как известно, простудиться легче всего не во время самого купанья, а когда выходишь из воды, особенно если не сразу одеваешься, именно поэтому я выбрал на скале самое открытое место, подставил свою мокрую спину резкому октябрьскому ветру и с удовлетворением отметил, что кожа тут же задубела от холода, мышцы спазматически сократились и, словно повинуясь защитному инстинкту, сжалась грудная клетка, чтобы уберечь заключенные в ней органы. Однако усидеть на месте оказалось свыше моих сил, и тогда, вцепившись в ветку ольхи, я стал ее трясти что было мочи, дерево ходило ходуном от моих усилий, а я все не разжимал рук. Но ледяной ветер обжигал спину раскаленным железом, и я, не сомневаясь, что осуществил свой замысел на славу, стал торопливо натягивать на себя одежду.
Тем временем уже стемнело, и когда я снова вошел в лес, то обнаружил, что не видно ни зги. На меня напал настоящий страх, ветки елей больно хлестали по лицу, мне пришлось пробираться буквально ощупью. От ужаса мои пять чувств настолько обострились, что я мог, скажем, определять породу деревьев по шелесту листвы. Бас елей – их жесткие иголки звучали, как струны гигантской, но скверной гитары. Длинные, мягкие иголки сосновых кистей издавали более высокий звук и с неким посвистом – казалось, что шипят одновременно тысячи змей. Сухое бряцание веток березы пробуждало во мне детские воспоминания, пронизанные рождающимся сладострастием и тайными обидами. Шорох сухих дубовых листьев, еще не полностью облетевших с веток, звучал как шорох скомканной бумаги, шепот же можжевельника напоминал голос женщины, говорящей на ушко свои секреты. А глухой звук ольхи, когда ветер срывает с веток последние сережки! Я вдруг обрел дар отличать по звуку падения на землю еловую шишку от сосновой. По одному запаху я мог найти гриб, а когда ступал, нервы на больших пальцах мне подсказывали, где растет плаун, а где – кукушкин лен.
Эта моя сверхчувствительность благополучно вывела меня к кладбищу, и я перелез через изгородь. Там я насладился музыкой плакучих ив, которые стегали своими плетями кресты. Вконец окоченевший, вздрагивая от каждого неожиданного звука, я все же добрел до селения, и свечи, зажженные в домах, помогли мне найти путь в гостиницу.
Как только я очутился в своем номере, я сочинил телеграмму барону, сообщая ему о своей болезни и связанной с ней высадкой. После этого я написал ему же письмо, откровенно изложив на нескольких листах особенности моей психической конституции, не утаил от него прежнего приступа болезни и попросил сохранить мое признание в тайне. Толчком к моему нынешнему состоянию, объяснил я ему, послужило обручение моей любимой, поскольку я навсегда потерял всякую надежду с ней соединиться.
Вконец обессилев, я лег в постель, так как был совершенно уверен, что на этот раз заболел по-настоящему. Я вызвал звонком горничную и попросил ее привести доктора. Поскольку такового в селении не оказалось, мне пришлось довольствоваться местным священником, которому я и собирался сообщить свою последнюю волю.
И я стал ждать либо смерти, либо полного безумия.
Пришел священник. На вид ему можно было дать лет тридцать, а по облику он больше походил на батрака в воскресной одежде, чем на священнослужителя. Рыжая шевелюра, испещренное веснушками лицо, погасшие глаза – он не вызвал у меня никакой симпатии, и я долго лежал, не произнося ни слова, потому что не знал, что я могу доверить человеку, не имеющему образования и не отличавшемуся ни мудростью, приходящей с годами, ни знанием человеческого сердца. Он явно был смущен, что, впрочем, и естественно для провинциала при встрече со столичным жителем, и не решался сесть, а стоял посреди комнаты, пока я жестом не предложил ему стул. Тогда он начал свой допрос:
– Вы позвали меня, сударь. У вас, видно, горе.
– Да.
– Это не удивительно, ведь счастье можно обрести лишь у Христа!
Поскольку я томился по другому счастью, я не стал ему перечить. И он, проповедник-евангелист, заговорил монотонно, без души, как фабрикант слов. Старые, истертые фразы катехизиса приятно убаюкивали мое сознание, а присутствие живого существа, пытающегося вступить в общение с моей душой, меня поддержало. Однако молодой священник, вдруг усомнившийся в моей искренности, прервал себя и спросил:
– У вас есть истинная вера, сударь?
– Нет, – ответил я, – но продолжайте говорить, мне от этого становится легче.
Он снова принялся за свою работу. Непрерывный звук его голоса, сияние его глаз, тепло, исходящее от его тела, произвели на меня впечатление магических пассов, и полчаса спустя я уже спал.
Когда я проснулся, магнетизера не было. Вошла горничная и принесла мне опиат, который раздобыла у аптекаря, причем строго предупредила, что лекарством этим нельзя злоупотреблять, так как в пузырьке смертельная доза. Естественно, что, оставшись один, я тут же выпил залпом все лекарство до капли и, зарывшись в перину, стал ждать смертного часа. Вскоре я заснул.
Проснувшись утром, я нисколько не был удивлен, что солнце ярко освещает мой номер, потому что всю ночь мне снились какие-то ясные цветные сны. «Я вижу сны, значит, я существую», – подумал я и стал себя ощупывать, надеясь обнаружить высокую температуру и признаки воспаления легких. Однако, несмотря на мои искренние намерения убедиться в приближении летального исхода, я не мог не признать, что чувствую себя совсем не плохо. Голова была, правда, тяжелая, но работала исправно и уже далеко не так лихорадочно, как раньше, а двенадцать часов сна восстановили те жизненные силы, которыми я обычно располагал, поскольку с юности много занимался различными физическими упражнениями.
Вскоре мне принесли телеграмму, из которой я узнал, что мои друзья приезжают с двухчасовым пароходом.
Меня снова стал мучить стыд! Что я скажу им, как мне вести себя? Пробудившееся во мне мужское достоинство восставало против всего, что могло бы меня унизить, поэтому, быстро все прикинув, я решил ждать здесь прибытия следующего парохода и продолжить на нем свое путешествие. Таким образом, моя честь будет спасена, а приезд друзей будет всего лишь последним прощанием. Однако, перебирая мысленно все, что произошло накануне, я проникся к себе отвращением. Как могло случиться, чтобы я, человек трезвого ума, скептик, повел себя таким жалким образом? Чего стоило одно только обращение к священнику! Как объяснить такую блажь? Конечно, я обратился к нему как к официальному лицу, а он оказал на меня действие гипнотизера. Но для общественного мнения это будет выглядеть как обращение к богу. А может быть, даже решат, что мне надо было исповедаться в чем-то тайном, связанном с какими-нибудь сомнительными делами, короче, что-то вроде последней исповеди негодяя на смертном одре. Какой отличный повод для сплетен я дал местным жителям, которые, конечно, поддерживают непосредственную связь с горожанами! Будет о чем посудачить торговкам на рынке.
Единственный способ спасти положение – уехать за границу, и как можно скорее. Разыгрывая роль потерпевшего кораблекрушение, я провел утро, расхаживая по веранде, и то и дело постукивал по барометру, наблюдая движение стрелки, так что время пролетело довольно быстро, и пароход появился в горловине пролива прежде, чем я успел решить, отправиться ли мне на причал или остаться тут. Но, поскольку я не хотел стать посмешищем для людей, посвященных в мои обстоятельства, я все же не вышел из комнаты. После недолгого ожидания я услышал взволнованный голос баронессы, расспрашивающей хозяйку гостиницы о моем здоровье. Я поспешил ей навстречу, и она едва не кинулась мне на шею на глазах у всех. Исполненная состраданья, она громко сетовала на болезнь, которая случилась в результате переутомления, и горячо упрашивала меня вернуться в город, отложив поездку до весны.
В тот день она была удивительно хороша. Ее шуба, ниспадающая мягкими складками, напоминала одежду тибетского ламы, а крупные завитки каракуля эффектно подчеркивали стройность фигуры. От резкого морского ветра кровь прилила к ее щекам, а ее глаза, увеличившиеся от охватившего ее волнения, выражали бесконечную нежность. Как я ни пытался умерить ее тревогу насчет моего здоровья, уверяя, что уже вполне поправился, все было тщетно. Она уверяла, что я выгляжу как покойник, что мне противопоказаны малейшие усилия, – словом, обращалась со мной, как с малым ребенком. И эти материнские заботы ее необычайно красили. Интонации ее стали певуче-ласковыми, она шутки ради стала говорить мне «ты», закутала в свою шаль, а за столом повязала мне салфетку вокруг шеи, следила, чтобы мой стакан не был пуст, что-то разрешала, что-то запрещала. Она воистину была воплощением материнства! Если бы она могла быть так беззаветно предана своему ребенку, как была предана мне – затаившемуся самцу, преследующему самку, зверю в период осеннего спаривания! В роли больного дитяти, окутанный ее шалью, я чувствовал себя серым волком, улегшимся в постель бабушки, чтобы сожрать Красную Шапочку.
Мне стало стыдно. Стыдно перед ее мужем, наивным, открытым, заботившимся обо мне и тщательно избегавшим мучительных объяснений. И все же вины на мне не было, сердце мое замкнулось, и я принимал все знаки внимания, которые оказывала мне баронесса, прямо с оскорбительной холодностью.
Во время десерта, незадолго до отправления парохода, барон предложил мне вернуться с ними в город и занять комнату в их квартире – они готовы были мне ее предоставить. К чести своей должен сказать, что на это предложение я ответил решительным отказом. Ведь я прекрасно понимал, насколько опасно так играть с огнем, и поэтому объявил им свое твердое, не подлежащее отмене решение остаться здесь еще на неделю, чтобы окончательно прийти в себя, а потом вернуться в город и жить там в своей старой мансарде.
Так я поступил, несмотря на повторные протесты моих друзей. Странная вещь, но как только я становился непреклонным, как только проявлял волю и мужественность, баронесса разом теряла ко мне дружеское расположение. А чем больше я был растерян, чем больше уступал всем ее капризам, тем больше она меня боготворила и осыпала похвалами за мудрость и кротость. Она меня подавляла, подчиняла себе, а если я начинал оказывать ей хоть малейшее сопротивление, полностью отстранялась и проявляла ко мне неприязнь, граничащую с жестокостью.
Так, обсуждая вопрос о совместной жизни, она потеряла всякое хладнокровие, перечисляя взаимные выгоды, которые ожидают нас в этом случае. Особо важным тут было, по ее мнению, то обстоятельство, что таким образом мы имели бы удовольствие постоянно видеться, не приглашая друг друга в гости.
– Но помилуйте, баронесса, – возразил я, – что скажут люди, узнав, что в доме молодоженов поселился некий молодой человек?
– Что нам до людей и до их болтовни!
– Но ваша матушка и ваша тетушка… К тому же моя гордость не может смириться с тем, чтобы со мной обращались как с несовершеннолетним.
– К черту мужскую гордость! Вот погибнуть, не проронив ни слова, это вы считаете поступить по-мужски, да?
– Конечно, баронесса, мужчина должен быть сильным.
Тут она пришла в бешенство и с гневом принялась отрицать, вопреки очевидности, различие полов. Ее женская логика до того запутала меня, что я был вынужден обратиться за помощью к барону, который лишь усмехнулся в ответ, однако в усмешке этой я уловил глубокое презрение к женскому уму.
Около шести вечера пароход отчалил, увозя моих друзей, и я в одиночестве вернулся в гостиницу.
Вечер выдался великолепный. Оранжевый закат, дьявольски синяя вода с белесыми разводами, а над горизонтом, зубчатым из-за верхушек елей, висела медная луна.
Я сел за столик в ресторане, подперев голову руками, отдался своим переменчивым мыслям, то смертельно печальным, то веселым, и тут ко мне подошла хозяйка.
– Скажите, сударь, молодая дама, которую вы только что проводили, ваша сестра?
– Нет, не сестра.
– Просто удивительно, до чего вы похожи друг на друга! Можно поклясться, что вы брат и сестра.
Так как я не был расположен поддерживать этот разговор, он тут же иссяк, однако дал новый толчок моим раздумьям.
Возможно ли, спрашивал я себя, что сосредоточенность всех моих мыслей в эти дни на баронессе как-то изменила черты моего лица, а может быть, дело просто в том, что выражение наших лиц стало сходным за эти полгода интенсивной духовной близости? Стремление понравиться друг другу во что бы ни стало привело, видимо, к бессознательному отбору наиболее привлекательной мимики, к наиболее обаятельной манере держать себя, все же иное постепенно исчезало. Вполне возможно, что так оно и было, во всяком случае, поскольку произошло взаимопроникновение двух душ, мы отныне действительно стали зависеть друг от друга. Судьба, а говоря проще, инстинкт сыграл, как всегда, свою низменную и неизбежную роль, камень покатился с горы, сметая со своего пути все и вся – честь, разум, счастье, верность, добродетель, целомудрие!
Какое изумительное простодушие! Она, видите ли, задумала поселить под своей крышей пылкого молодого человека, находящегося в том самом возрасте, когда все желания порождаются плотскими вожделениями. Кто же она, в конце концов, тайная распутница или женщина, которой любовь помрачила разум? Распутница? О нет! Тысячу раз нет!… Я боготворил ее за естественность поведения, за душевную чистоту, за искренность и материнскую нежность. Да, что и говорить, она эксцентрична, даже, если угодно, взбалмошна, что, впрочем, она и сама за собой знает, трезво оценивая свои недостатки, но она не злодейка! И даже когда она прибегает к своим наивным хитростям, чтобы растревожить меня, она ведет себя как уверенная в себе женщина, которая забавляется тем, что смущает робкого юношу, а не как заядлая кокетка, стремящаяся вызвать плотскую страсть у заинтересовавшего ее мужчины.
Теперь я должен был укротить пробудившихся демонов и, чтобы навести всех на ложный след, сел за письменный стол и набросал письмо, в котором снова оседлал своего старого конька и витиевато распространялся о своей несчастной любви, приписывая этот приступ отчаяния успеху певца, навеки лишившему меня всяких надежд. И в виде литературного доказательства приложил к письму два стихотворения «К НЕЙ», исполненных как бешеного темперамента, так и двойного смысла. Если они ранят баронессу, то что ж, я не против! Однако ни на письмо, ни на стихи ответа не последовало; то ли мой прием уже не произвел на них должного действия, то ли эта тема их уже не интересовала.
Тихие, спокойные дни, которые я провел в деревне, помогли мне восстановить силы. Окружавшая меня природа была одухотворена образом обожаемой мною женщины, даже лес, в котором я провел такие страшные часы, будто в чистилище, казался мне теперь веселым, и когда я гулял по утрам, эти места, где я насмерть сражался со всеми демонами, заключенными в человеческом сердце, уже не внушали мне ни капли ужаса. Встреча с ней и уверенность, что вновь ее увижу, вернули мне жизнь и разум!
Хорошо зная по личному опыту, что нежданный гость никогда не бывает по-настоящему желанным, я вошел в дом баронессы лишь после больших колебаний. Еще на улице меня неприятно поразили голые деревья, отсутствие скамеек в садике, неогороженные клумбы, танец сухих листьев на ветру – печальные приметы зимы. А войдя в гостиную, я испытал чувство подавленности, вдохнув спертый воздух, согретый высокими белыми изразцовыми печами, встроенными в стены, – казалось, они свисали с потолка, словно простыни. Вторые рамы были уже вставлены, и щели заклеены белой бумажной лентой. Из-за ваты, лежащей между рамами и изображающей снег, казалось, что эту комнату приспособили для умирающего. Я постарался мысленно убрать из нее все предметы дворянского быта и восстановить ее в прежнем виде, когда она была столовой в буржуазном доме с суровым укладом: голые стены, дощатый пол, не покрытый ковром, обеденный стол из мореного дуба на восьми ногах, похожий на паука, а над ним – строгие лица отца и мачехи.
Баронесса встретила меня радушно, но вид у нее был печальный, словно она пережила какое-то разочарование. У них в гостях были свекор и дядя, они играли с бароном в карты в другой комнате. Я пошел с ними поздороваться, а потом оказался наедине с баронессой. Она села в кресло у лампы и принялась за вязание. Молчаливая, угрюмая, некрасивая, она предоставила мне вести разговор, который вскоре превратился в монолог, поскольку она не подавала реплик. Я примостился у печки и глядел на нее: склонившись над своей работой, она вязала, не подымая головы. Таинственная, ушедшая в себя, она, казалось, временами совершенно забывала о моем присутствии, и я решил, что пришел некстати и что мое возвращение в столицу произвело дурное впечатление, как, впрочем, я и ожидал. Вдруг я невзначай опустил глаза, и в полутьме, под столиком, покрытым ковровой скатертью, меня ослепила ее ножка, обтянутая белым чулком, перехваченным подвязкой с пестрой вышивкой. Видно, садясь, она приподняла юбку, и эта ножка, сразившая меня безупречностью линий, предстала моему взору во всей своей красе. Жар ударил мне в голову, ибо по ней мое воображение сразу же воссоздало все ее тело. Ах, эта крошечная ножка с крутым подъемом, обутая в башмачок Золушки!
Тогда я не сомневался, что юбка задралась случайно. Лишь много позже я узнал, что чувствует женщина, когда показывает ножку выше щиколотки. Взволнованный этим впечатляющим зрелищем, я тут же ловко перевел разговор на тему своей вымышленной любовной неудачи. Она резко выпрямилась и, глядя мне прямо в лицо, произнесла:
– Вы, видно, очень постоянны в своих привязанностях!
Мой взгляд, что греха таить, был все еще устремлен под этот злосчастный круглый столик, где белел чулок с красной подвязкой, но я все же заставил себя его отвести и погрузить в ее расширившиеся от света лампы зрачки.
– К несчастью, да! – ответил я ей твердо и уверенно.
Это была исповедь, хотя я и обошелся без признаний в любви, и она шла под шелест игральных карт и под возгласы игроков.
Установилось тягостное молчание. Одернув юбку, она снова взялась за вязание. Чары развеялись, в комнате вязала чужая, дурно одетая женщина, к которой я был совершенно равнодушен. Спустя полчаса я, сославшись на плохое самочувствие, попрощался.
Вернувшись домой, я вытащил из ящика свою драму, твердо решив переписать ее заново в надежде, что бешеной работой мне удастся подавить в себе чувство не только не сулившее мне ничего отрадного, но и могущее привести меня к преступлению, а от преступления меня отвращало все – и инстинкт, и вкус, и трусость, и нравственное воспитание. Я твердо решил разорвать эти отношения, ставшие теперь более чем опасными. Неожиданный случай пришел мне в этом на помощь: дня два спустя я получил предложение заняться разбором и систематизацией библиотеки одного коллекционера, живущего за городом в своем имении.
Так я оказался в старом родовом особняке XVII века, в комнате, снизу доверху заваленной книгами. Это было путешествие по разным эпохам моей родины. Там была собрана вся литература Швеции,.начиная с инкунабул XV века и кончая последними новинками. Я ушел в это дело с головой, чтобы забыться, и мне это вполне удалось, причем даже настолько, что пролетела неделя, а я и не заметил отсутствия моих друзей.
Когда наступила суббота, день приема у баронессы, ко мне явился вестовой королевской гвардии и вручил официальное приглашение от барона, к которому он приписал несколько слов, дружески упрекая меня за мое исчезновение. Я испытал некое кисло-сладкое чувство удовлетворения от того, что имел возможность ответить очень вежливым отказом, выражая при этом сожаление, что я, увы, не могу уже свободно располагать своим временем.
Ровно через неделю появился тот же вестовой, на этот раз в парадной форме, и передал мне записку от баронессы, написанную весьма резко, в которой она умоляла меня навестить барона, прикованного к постели из-за сильной простуды. Больше уклоняться было невозможно, и я тотчас же отправился в город.
Баронесса выглядела больной, а что до барона, то он, слегка простуженный, томился в постели, в спальне, куда меня и провели. Вид этого алтаря любви, до тех пор скрытого от моего взора, оживил во мне инстинктивную неприязнь к сосуществованию супругов в одной комнате, к их неизбежному и бесцеремонному обнажению друг перед другом даже в тех случаях, когда следует быть одному. Гигантская кровать, на которой валялся барон, поведала мне о всех мерзких тайнах их ночной жизни, пирамида подушек рядом с больным бесстыдно указывала на место баронессы на этом ложе. Туалетный столик, умывальник, полотенца – все здесь казалось мне оскверненным, и я зажмурился, чтобы преодолеть нахлынувшее отвращение.
Мы немного поболтали у одра больного, а затем баронесса пригласила меня в гостиную выпить по рюмочке ликера. Как только мы оказались одни, она, словно прочитав мои мысли, выпалила в ответ:
– До чего же все это отвратительно, не правда ли?
– Что вы имеете в виду?
– Ах, вы меня прекрасно понимаете! Женская доля, жизнь без цели, без будущего, без своего дела!… Я просто погибаю от этого!
– Но, баронесса, у вас же дочь, которую вы должны воспитывать! И возможно, будут еще дети…
– Я не хочу больше иметь детей. В няньки я не гожусь.
– Зачем же в няньки? В матери! Быть матерью, стоящей на высоте своих почетных обязанностей…
– Мать?… Хозяйка?… Все это можно получить за деньги! Да и чем мне заниматься, если у меня две прислуги, которые прекрасно справляются со всеми домашними делами. Нет, я хочу жить!…
– Быть актрисой?
– Да!
– Но ведь ваше общественное положение препятствует этому.
– Увы, мне это слишком хорошо известно. Вот я и тупею, скучаю… О, как я скучаю!
– А занятия изящной словесностью? Это вас не влечет? Ведь профессия писателя не такая низкая, как лицедейство!
– Для меня нет ничего выше искусства слова, и, что бы ни случилось, я никогда не примирюсь с тем, что пожертвовала своей карьерой ради жизни, которая принесла мне лишь одни разочарования…
Тут барон позвал нас к себе.
– На что она там жалуется? – спросил он меня.
– Тоскует по театру.
– Сумасшедшая…
– Уж не такая сумасшедшая, как вам кажется, – оборвала его баронесса и вышла из спальни, громко хлопнув дверью.
– Послушай, старина, – доверительно обратился ко мне барон, – она совсем не спит по ночам…
– И чем занимается?
– Да чем попало. Играет на рояле, валяется на кушетке в гостиной, записывает расходы. Скажи мне, юный мудрец, что мне делать?
– Что делать? Детей! Как можно больше детей!…
Барон скорчил гримасу и произнес, словно оправдываясь:
– Врач не советует, потому что первые роды были тяжелые, да к тому же и дела наши не блестящи, надо экономить… Одним словом, понимаешь…
Я понял. И не решился продолжать разговор на эту деликатную тему. Я был тогда еще слишком молод и не знал, что обычно женщины сами диктуют врачу, что именно он должен им посоветовать.
Вернулась баронесса со своей маленькой дочкой, чтобы уложить ее спать в железную кроватку, стоящую возле их супружеского ложа. Малютке спать не хотелось, и она начала хныкать. Баронесса тщетно пыталась ее успокоить и в конце концов отправилась за розгами. Так как я не могу без гнева смотреть, как стегают детей, и как-то раз даже сделал по такому же поводу замечание своему отцу, я вспылил и, едва справившись с охватившим меня бешенством, вмешался в эту сцену:
– Извините, что я вмешиваюсь не в свое дело, но неужели вы думаете, что ребенок плачет без причины?
– Она – злючка.
– Значит, у нее есть основания быть злой. Быть может, малышка хочет спать, или ей неприятно здесь мое присутствие, или свет лампы режет ей глаза…
Баронессе явно стало стыдно, а может быть, она поняла, в какой неблаговидной роли она сейчас выступила. Во всяком случае, она признала мою правоту. Тогда я встал и откланялся.
Так, неожиданно увидев изнанку этого брака, я на несколько недель излечился от своей любви, и должен признаться, что история с розгами внесла свою лепту в тот ужас, с которым я вспоминал о баронессе.
Унылой, томительной осени, казалось, не будет конца. Приближалось рождество. В Стокгольм из Финляндии приехали молодожены, близкие друзья баронессы, и это несколько оживило наши отношения, которые угасали на глазах. Благодаря уловкам баронессы я стал всюду получать приглашения, и теперь я частенько напяливал фрак и таскался на обеды и ужины, а однажды даже посетил танцевальный вечер. Во время этих выездов в свет, правда не очень-то высший, я обнаружил, что баронесса с какой-то мальчишеской удалью, под видом этакой непосредственности, сама строит куры молодым людям, но в то же время искоса поглядывает и на меня, чтобы выяснить, какое это производит впечатление. Просто невозможно было себе представить, что она способна на такой откровенно наглый флирт, и я решил быть с ней отныне оскорбительно холодным не только оттого, что такая вульгарная манера вести себя вообще отвратительна, но и оттого, что мне было мучительно больно видеть, как обожаемое мною существо на глазах превращается в пошлую кокетку. К тому же всегда казалось, что ей очень весело, и она старалась затянуть каждый званый ужин до утра. Все это лишь подтверждало мою догадку, что она страдает от неудовлетворенности и скучает у своего семейного очага, что ее артистическое призвание есть не что иное, как погоня за разными наслаждениями, а его основой является низкое тщеславие, которое и побуждает ее выставлять себя напоказ. Элегантная, блестящая, оживленная, она умела производить впечатление и в гостиных всегда была окружена поклонниками не столько из-за своей привлекательности, сколько благодаря умению собирать, как говорится, под свои знамена всех городских фрондеров. Жизненная энергия била в ней через край, от нее исходила особая нервная эманация, которая заставляла даже самых недоступных обращать на нее внимание, прислушиваться к ее речам. Но я заметил, что, когда нервы ее не выдерживали и она забивалась в уголок, чары ее в тот же миг пропадали, и уже никто не искал ее общества. Одним словом, она жаждала власти, была дьявольски честолюбива, бессердечна, быть может, и изо всех сил старалась расположить к себе молодых людей, в то время как к дамам относилась с полным пренебрежением. Как страстно желала она поймать меня в свои сети, покорить и повергнуть к своим ногам! И вот в один прекрасный день, ободренная успехом, одержанным в очередной гостиной, она решилась на весьма рискованный шаг. Ослепленная непомерным самомнением, она призналась своей подруге, что я в нее влюблен. Будучи как-то в гостях у этой подруги, я со свойственной мне неосмотрительностью выразил надежду увидеть здесь и баронессу.
– Ну конечно, вы пришли ко мне, чтобы ее увидеть, – сказала хозяйка дома, желая меня поддразнить. – Очень мило с вашей стороны.
– Нет, сударыня. Коль уж на то пошло, то это баронесса приказала мне явиться сегодня к вам.
– Так она назначила вам здесь свиданье?
– Если угодно. Во всяком случае, не мне им пренебрегать.
И в самом деле, именно она устраивала нашу встречу, и я подчинился ее воле. Однако этой уловкой она хотела скомпрометировать меня, а самой выйти сухой из воды. Чтобы отомстить, я испортил ей не один званый вечер, перестав их посещать, чем лишил ее возможности наслаждаться зрелищем моих страданий. О боже, как я мучился! Я бродил под окнами тех домов, где она веселилась, меня бил озноб от ревности, когда я представлял себе, как она в объятиях счастливчика партнера кружится в вихре вальса и ее самые маленькие в мире бальные туфельки скользят по паркету, а непокорная белокурая прядь развевается по ветру. При этом мысль, что чья-то рука касается ее тонкой талии, обтянутой синим шелком, кинжалом вонзалась мне в сердце.
Миновал Новый год, и в воздухе повеяло весной. Зимние месяцы прошли в праздниках либо в томительно-тоскливых ужинах втроем. За это время было немало разрывов и примирений, обид и извинений, пустячных ссор и сердечных бесед, полных искренней дружбы. Я порвал наши отношения и снова возобновил их.
И вот неотвратимо наступил март, коварный март, месяц спаривания всех живых существ в наших северных странах, месяц, когда судьбы влюбленных вершатся помимо их воли, смертельно раня сердца, попирая клятвы верности, разрывая узы чести, семьи, дружбы…
В один из первых дней марта барон принял командование своей частью и пригласил меня провести с ним вечер в казарме гвардейцев. В назначенный час я отправляюсь туда. У сына разночинца, выходца из мелкобуржуазной среды, ничто не вызывает большего уважения, чем эмблемы высшей власти. И вот я иду по коридорам рядом со своим другом, которому на каждом шагу офицеры отдают честь, слышу звон сабель, окрики часовых, дробь барабанов. Наконец мы попадаем в парадный зал. При виде его убранства, всех этих военных доспехов, я с трудом унимаю тайную дрожь и невольно склоняю голову перед портретами знаменитых генералов. Тут все – и знамена, взятые в Лютцене и в Лейпциге, и будничные флаги, и бюст нашего короля, и каски, и щиты, и планы сражений – одним словом, все, решительно все тревожит меня, как и любого человека из низшего класса, когда он видит атрибуты господствующего порядка.
Капитан, как только он очутился в своей среде, которая не может не импонировать, тут же вырос в моих глазах, и я не смел отойти от него ни на шаг, чтобы в случае опасности прибегнуть к его помощи.
Когда мы вошли к нему в кабинет, лейтенант, его ординарец, вскочил и почтительно его приветствовал, а я почувствовал, что в этой иерархии стою ниже всех лейтенантов, опасных соперников литераторов по части любовных похождений и заклятых врагов молодых людей из народа.
Дневальный принес бутылку пунша, мы сели и закурили сигары. Барон, чтобы развлечь меня, достал полковой альбом – весьма художественное собрание карандашных набросков, рисунков и портретов офицеров королевской гвардии, чем-либо прославившихся за последние двадцать лет. Все они были предметом зависти и восхищения лицеистов в годы моей юности, которые ежедневно доставляли себе удовольствие разыгрывать сцену смены караула. Классовый инстинкт заставил меня ликовать, что все эти привилегированные господа, чьи физиономии я только что разглядывал, могут стать мишенью для моих насмешек, и, в расчете на поддержку барона, который всегда держался весьма демократично, я позволил себе кое-какие выпады против безоружных противников. Но у нас с бароном все же разные понятия о демократизме, и он плохо принял мои шутки. Дух корпоративной солидарности взял в нем верх, и, нервно листая страницы альбома, он задержал свое внимание на композиции, изображающей восстание 1868 года.
– Вот как мы расправились со всем этим сбродом!
– И ты в этом лично участвовал?
– Еще бы! Я охранял памятник, к которому бунтовщики, осыпая нас камнями, пытались прорваться. Один угодил мне по кепи, и это побудило меня раздать солдатам патроны. К несчастью, король в последний момент запретил открывать огонь, и я остался живой мишенью для голытьбы. Сам посуди, склонен ли я после этого любить этот сброд. – Помолчав немного и не сводя с меня взгляда, он спросил потом со смехом: – А ты помнишь эти беспорядки?
– Прекрасно помню, – ответил я. – Я участвовал в демонстрации студентов.
Но я умолчал о том, что присоединился к «сброду», который пришел в ярость от того, что простых людей не пускали на трибуну, предназначенную для избранных. Получалось, что народ не имел права участвовать в народном празднике. Я, естественно, стал на сторону взбунтовавшихся и прекрасно помню, что лично бросал камни в королевских гвардейцев.
В этот самый миг, услышав, как он на аристократический манер произносит слово «сброд», я понял, почему меня' охватил безотчетный страх, когда я переступил порог этой вражеской крепости, и в моем воображении у капитана вдруг так исказились черты лица, что я впал в отчаяние. Между нами вспыхнула традиционная расовая, классовая ненависть, она отделила нас друг от друга непреодолимой стеной, и, глядя, как он коленями зажимал саблю, почетную саблю, украшенную дарственной надписью и гербом его королевского величества, я вдруг остро почувствовал, что дружба наша неискренняя, она искусственно выпестована руками женщины, которая одна нас и связывает. Интонация его стала высокомерной, и выражение лица все больше соответствовало окружавшей его обстановке, а значит, все больше удаляло его от меня. И тогда я, чтобы вернуть его назад, изменил ход нашего разговора, задав вопрос, относящийся к баронессе и ее дочке. Его физиономия тут же осветилась, как-то разгладилась, он снова стал добрым малым, таким, как обычно. Тогда ко мне вернулась уверенность, я решил вести свою игру до конца и, выдержав его взгляд благожелательного людоеда, приголубившего карлика, прицелился вырвать три волоса из бороды великана.
– Послушай, старина, вы, кажется, ждете на пасху Матильду, это верно?
– Да!
– Что ж, в таком случае я буду за ней ухаживать.
Он допил пунш, усмехнулся и сказал с видом доброго людоеда:
– Можешь попробовать!
– Почему ты так говоришь? Разве она помолвлена?
– Нет, насколько я знаю. Но, по-моему… одним словом… можешь попробовать. – И добавил с глубоким убеждением: – Боюсь, что останешься с носом.
В той бесцеремонной уверенности, с которой он высказал свое мнение, сквозило презрение. Я оскорбился и твердо решил тогда поставить на место этого заносчивого кавалера и вместе с тем спастись от преступной любви, перенеся ее на другой объект, и этим удачным маневром предоставить оскорбленной баронессе возможность получить реванш.
Тем временем наступила ночь, и я встал, чтобы откланяться. Капитан проводил меня, мы миновали часовых и, выйдя за решетку, пожали друг другу руки. Затем он резким движением, словно бросая вызов, захлопнул ворота.
Наступила ранняя весна, снег стаял, недавно еще покрытые льдом мостовые оголились. За стеклами цветочных магазинов уже красовались азалии, рододендроны и первые розы, соблазняя прохожих своим кричащим великолепием. Апельсины пылали в витринах лавок колониальных товаров, в гастрономические магазины зазывали покупателей омарами, редиской и привезенной из Алжира цветной капустой. Солнечные лучи освещали пенящуюся под 78
Северным мостом воду, пароходы у причалов, свежевыкрашенные зеленью и суриком, обновили свою оснастку. Люди, еще толком не очнувшиеся от зимней спячки, млели, сидя на солнышке. Для животного-человека наступила пора случки. Все изголодались по любви, напряжение нарастало, и слабым было несдобровать во время этого естественного отбора.
Прелестная юная дьяволица не замедлила прибыть в город и поселилась в доме барона. Я делал ей авансы, однако она, видимо, предупрежденная им, лишь посмеивалась надо мной. Как-то, когда мы играли с ней в четыре руки на фортепиано, она, будто бы невзначай, прижалась левой грудью к моему правому локтю. Это, конечно, не ускользнуло от глаз баронессы и заставило ее страдать. Барон, ошалев от ревности, не спускал с меня бешеного взгляда. Он то негодовал из-за жены, то впадал в ярость из-за кузины. Как только он оставлял жену, чтобы пошептаться в уголке с молодой девицей, я тут же кидался к баронессе и развлекал ее разговором. Тогда он, окончательно потеряв самообладание, задавал нам какой-нибудь нелепый вопрос с единственной целью прервать наш разговор. Иногда я отвечал ему с усмешкой, а иногда и вовсе не обращал никакого внимания на его слова.
В тот вечер я был приглашен на семейный ужин. За столом сидела и мать баронессы. Я чувствовал, что она ко мне весьма расположена, но, обладая жизненным опытом, как любая женщина в ее возрасте, она не могла не заметить, что в доме что-то неладно.
Предвидя неведомую ей опасность, она в материнском порыве схватила меня за обе руки и, глядя в глаза, сказала:
– Я не сомневаюсь, сударь, что вы человек чести. Я не знаю, что происходит в этом доме, но в любом случае обещайте мне беречь мою дочь, мое единственное дитя, и в тот момент, когда произойдет то, чего произойти не должно, вы придете ко мне, обещайте мне это, и расскажете все, что мне, как матери, следует знать.
– Обещаю вам это, сударыня, – ответил я, целуя ей руку на русский манер, потому что она была женой русского офицера.
И я сдержал свое слово.
Мы, как говорится, ходили по краю бездны. Баронесса сильно похудела, стала мертвенно-бледной и до того некрасивой, что просто сердце сжималось от жалости. Барон явно ревновал, был со мной резок и даже груб. Я уходил, оскорбленный, но на другой день меня снова приглашали и принимали с распростертыми объятиями, все объяснялось якобы недоразумением, хотя никакого недоразумения не было и в помине.
Одному богу было известно, что же происходит в этом доме. В тот вечер Матильда удалилась в спальню, чтобы примерить новое бальное платье. Вслед за ней исчез и барон, оставив жену наедине со мной.
Проболтав с ней не менее получаса, я осведомился, куда делся мой друг.
– Он играет роль горничной у Матильды, – ответила баронесса и, словно почувствовав угрызения совести, добавила: – Она еще ребенок, этому не следует придавать значения. Не подозревайте ничего плохого, сударь. – И вдруг, резко изменив тон, она воскликнула: – Да вы ревнуете!
– И вы, баронесса, тоже!
– Быть может, еще буду ревновать!
– Не пропустите момента, баронесса. Это пожелание друга.
Тут вошел барон, ведя под руку Матильду в светло-зеленом бальном платье с таким глубоким вырезом, что видна была выемка между грудями.
Я сделал вид, что ослеплен ее красотой, и отступил на шаг, прикрыв ладонью глаза.
– О, Матильда! – воскликнул я. – На вас опасно смотреть!
– Не правда ли, она прелестна? – как-то неуверенно спросила баронесса.
Барон тут же увел Матильду, и я снова остался наедине с баронессой.
– Почему с некоторых пор вы так сурово говорите со мной? – спросила она, глядя на меня, как побитая собака, а в голосе ее звучали слезы.
– Я что-то этого не заметил.
– Вы ведете себя не так, как прежде, и я хотела бы знать, чем я провинилась перед вами?
Она придвинула ко мне свой стул, не сводя с меня лихорадочно блестящих глаз и дрожа как осиновый лист. И… Я встал.
– Видите ли, баронесса, отсутствие барона меня крайне удивляет. Мне неприятно его доверие, оно кажется мне оскорбительным.
– Что вы имеете в виду?
– Я считаю… Одним словом… Супругу не принято оставлять наедине с молодым человеком, а самому в это время запираться с молоденькой девушкой в спаль…
– Вы позволяете себе оскорблять меня! Сказать мне такое! Что у вас за манеры…
– При чем тут манеры? Я не могу смириться с этой гнусной ситуацией! Если вы не дорожите своим достоинством, то я вас презираю! Чем они занимаются там, запершись?
– Туалетами Матильды, – ответила она с невинным видом, но при этом не смогла сдержать смех. – Тут уж я ничего не могу поделать.
– Мужчине не пристало присутствовать при переодевании дамы, если они не находятся в любовных отношениях.
– Он уверяет, что она его «доченька», а она – что он «ее папочка».
– Я никогда не позволю своим детям играть в «дочки-матери», а тем более со взрослыми.
Она встала и пошла звать барона.
Остаток вечера мы провели в занятиях магнетизмом. Я делал тассы над лицом баронессы, и она уверяла, что от моих движений нервы ее успокаиваются. Вдруг, как раз в тот момент, когда ее уже начало клонить ко сну, она вскочила и, вперив в меня полубезумный взгляд, воскликнула:
– Оставьте! Я не хочу!… Вы меня заколдуете!
– Тогда ваша очередь испытать на мне свою магнетическую силу.
И она начала делать над моим лицом те же движения, какие только что делал я над ней.
За роялем, в том уголке, где барон занимался магнетизмом с Матильдой, царила такая полная тишина, что она показалась мне подозрительной, и я невзначай бросил взгляд между ножками инструмента и его лирообразной педалью. То, что я увидел, заставило меня вскочить со стула, я подумал, что это мне снится. Барон тоже пулей выскочил из-за рояля и предложил всем выпить пунша.
Мы стояли вчетвером со стаканами в руках и собирались чокаться, но тут барон вдруг обратился к жене:
– Выпей за Матильду в знак того, что вы помирились.
– За твое здоровье, моя маленькая колдунья, – сказала баронесса с улыбкой и добавила, обернувшись ко мне: – Мы с ней поссорились, и, представьте себе, из-за вас!
Сперва я от этого заявления лишился дара речи, но потом все же сказал:
– Извольте объяснить, баронесса, что это значит?
– Никаких объяснений! – ответили мне все хором.
– Жаль, – возразил я, – потому что мне кажется, что мы все слишком долго молчали.
Возникло тягостное чувство неловкости, я попрощался и ушел.
«Поссорились из-за меня, – твердил я себе, перебирая в памяти события последних дней. – Что бы это могло значить?» Уж не наивное ли это признание? Если две женщины ссорятся из-за мужчины, то можно не сомневаться, что они ревнуют его друг к другу! Но тогда баронесса просто сошла с ума. Зачем же выдавать себя так безрассудно! Нет, это невозможно. Значит, за этим таится что-то другое!
«Что же все-таки происходит в этом доме?» – не уставал спрашивать я сам себя, вновь и вновь мысленно возвращаясь к сцене за роялем, которая так ужаснула меня в тот вечер, хотя не берусь Утверждать, что она была непристойной, настолько неправдоподобным показалось мне то, что я подглядел.
Сцены ревности, к месту и не к месту, страхи, высказанные старой матерью, бред баронессы, навеянный пьянящим весенним ветром, – все это смешивалось и бродило в моем мозгу, и после бессонной ночи я принял еще одно решение, на сей раз окончательное, – бежать отсюда без оглядки, иначе всем не миновать непоправимых бед. Поэтому я встал рано утром, чтобы сочинить письмо, разумное, искреннее, исполненное глубокого уважения да к тому же изысканное по форме. Я рассуждал о том, как опасно злоупотреблять дружбой, что-то объяснял, ничего не объясняя, молил об отпущении моих грехов, обвинял себя в том, что посеял раздор между родственниками, – короче, одному богу известно, что я там плел.
И вот что за этим воспоследовало: едва я вышел в полдень из библиотеки, как повстречал баронессу. Она остановила меня посредине Северного моста, заговорила со мной, потом увлекла в аллею, что за площадью Карла XII, и чуть ли не со слезами на глазах принялась умолять не покидать их, дружить с ними, как прежде, и не требовать никаких объяснений. О боже, как она была прекрасна в тот день! Но я любил ее слишком возвышенно, чтобы причинить ей зло.
– Уходите. Нам нельзя стоять здесь вместе, вы погубите свою репутацию, – твердо сказал я, косясь на прохожих, которые не без любопытства глядели на нас. – Ступайте домой, немедленно, не то я буду вынужден прогнать вас.
Она глубоко заглянула мне в глаза с таким несчастным видом, что я еле удержался, чтобы не упасть на колени и не целовать ей ноги, моля о прощении.
Но вместо этого я повернулся к ней спиной и пошел прочь по боковой дорожке.
Пообедав, я поднялся к себе в мансарду с чистой совестью, но с растерзанным сердцем. О, как эта женщина умела пронзать взглядом мужчину!
Короткий дневной сон несколько приободрил меня. Я кинул взгляд на висящий на стене календарь. 13 марта! «Beware the ides of March!» [16], – слышал я. «Берегись 13 марта!» Знаменитые слова, процитированные в «Юлии Цезаре» Шекспира, звучали у меня в ушах, когда горничная принесла мне записку от барона.
Он настойчиво просил меня провести этот вечер у них, поскольку баронессе нездоровилось, а Матильда уходила в гости.
Будучи не в силах бороться с искушением, я отправился к ним. Баронесса выглядела ужасно, как говорится, краше в гроб кладут. Она поднялась мне навстречу, схватила обе мои руки, прижала их к своей груди и принялась горячо благодарить меня за мое великодушие, за то, что я не лишаю их друга, брата – по недоразумению, из-за пустяков, чепухи.
– Она сошла с ума, – сказал, усмехнувшись, барон, высвобождая меня из ее объятий.
– Да, я сошла с ума от радости, что к нам пришел наш милый дружок, который собирался покинуть нас навсегда.
И она зарыдала.
– Ей было по-настоящему плохо весь день, – сказал барон, как бы извиняясь. Он был явно смущен этой душераздирающей сценой.
Бедняжка и вправду была не в себе. Ее огромные глаза, занимавшие, казалось, половину лица, пылали темным пламенем, а щеки имели зеленоватый оттенок, так она была бледна. Глядеть на нее было настоящей пыткой. К тому же она беспрерывно кашляла, как легочная больная, и кашель этот нещадно сотрясал все ее хрупкое тело.
Неожиданно появились дядя и отец барона, и тогда решили затопить камин и сумерничать, не зажигая ламп. Мужчины тут же вступили в политический спор, а баронесса села подле меня.
Я видел, как в полутьме блестят ее глаза, и чувствовал флюиды, которые излучало ее тело, она вся пылала после своего истерического припадка. Платье ее касалось моих брюк, она наклонилась к моему плечу, чтобы сказать мне на ухо слова, не предназначенные для других.
– Вы верите в любовь? – шепотом спросила она меня ни с того ни с сего.
– Нет! – жестко ответил я, словно ударил ее по лицу, и встал, чтобы пересесть на другое место.
«Да она же бешеная, настоящая нимфоманка!» – сказал я себе и, боясь, что она какой-нибудь глупой выходкой опозорит себя, предложил зажечь свет.
Во время ужина дядя и отец за глаза наперебой расхваливали Матильду, высоко отзываясь о ее умении вести дом, о ее талантах в рукоделии. Молодой барон, успевший к тому времени опорожнить не один стакан пунша, просто вошел в раж, восторгаясь кузиной, и с пьяными слезами на глазах принялся сетовать по поводу того, как скверно обращались с малюткой в отчем доме. Когда же его горестные излияния достигли апогея, он вдруг вынул из кармана часы и вскочил с места, как человек, которого призывает долг.
– О, господа! – воскликнул он. – Извините меня, но я обещал Матильдочке зайти за ней… Только не расходитесь, пожалуйста, до моего прихода. Я вернусь через час…
Барон-отец попытался было его остановить, но хитрец отвечал лишь междометиями и, сославшись на данное им слово, поспешил уйти. Так что мне ничего не оставалось, как ждать его возвращения.
Минут пятнадцать мы еще сидели за столом, потом перешли в гостиную. Но тут старики, испытывая, видимо, потребность поговорить наедине, удалились в комнату дяди, совсем недавно отведенную ему в доме племянника.
Проклиная судьбу, все-таки загнавшую меня в западню, которой я так тщательно избегал, я заточил свое трепещущее сердце в непробиваемую броню и, чтобы избежать чувствительных сцен, принял вид этакого наглого вертопраха.
Прислонившись спиной к камину, спокойный, холодный, неприступный, я курил сигару и ждал, что будет дальше.
И вот баронесса заговорила:
– Почему вы меня ненавидите?
– Я вас вовсе не ненавижу.
– Тогда вспомните, как вы обошлись со мной сегодня утром!
– Замолчите!
Мое невероятно грубое поведение, не вызванное, собственно, никакой разумной причиной, было, конечно, неосторожностью. Я был тотчас разгадан баронессой, и минуту спустя все было сказано.
– Вы хотели бежать от меня, – сказала она. – А знаете ли вы, что именно побудило меня тогда уехать в Пе-де-Сент-Мари?
– Я, наверное, не ошибусь, предположив, что та же причина заставила меня решиться на поездку в Париж, – ответил я после минутного раздумья.
– Тогда все ясно! – воскликнула она.
– Ну и что теперь?
Я ожидал сцены, но баронесса не теряла спокойствия и лишь глядела на меня с умилением. Мне надлежало прервать молчание.
– Теперь, когда вы выманили у меня мой секрет, благоволите меня выслушать. Если вы хотите, чтобы я продолжал бывать в вашем доме, причем, заметьте, весьма редко, то будьте благоразумны. Моя любовь к вам столь возвышенна, что я мог бы жить рядом с вами, не испытывая других желаний, кроме как видеть вас. В тот миг, когда вы забудете о своем долге, когда вы случайным жестом или даже выражением лица выдадите то, что таится в наших сердцах, я открою нашу тайну барону, и вы сами понимаете, что за этим последует.
– Я клянусь вам! – вскричала она с воодушевлением, почти в экстазе, глядя вверх, словно призывая небо в свидетели. – О, как вы сильны духом и добры! Как я восхищена вами! Мне стыдно. Мне хотелось бы быть безупречнее вас. Мне хотелось бы… Прикажите, и я во всем признаюсь Густаву.
– Если вам угодно. Но в таком случае мы больше никогда не увидимся. К тому же чувства, которые переполняют мое сердце, его не касаются, в них нет ничего преступного, и даже если бы он знал о них, он не мог бы их уничтожить. Я волен испытывать страсть к кому угодно, это мое личное дело, пока я не вступил на чужую территорию. Впрочем, повторяю, поступайте как хотите, я готов ко всему!
– Нет, нет!… Решительно нет никакой нужды ему говорить, ведь он тоже себе кое-что позволяет…
– Разрешите мне не разделять ваших взглядов на равенство в этих вопросах. Если он не чист перед вами, тем хуже для него! Это еще не основание для… Нет!…
Экстаз иссяк, и мы опустились на землю.
– Нет!… – продолжил я. – Но признайтесь, что это все же забавно! Неправдоподобно! Оригинально! Мы любим друг друга, признаемся в этом, и все!
– Просто шикарно! – воскликнула она и, как ребенок, захлопала в ладоши.
– Во всяком случае, не банально!
– Ах, как хорошо быть честной!
– Наименее хлопотливый способ жить…
– И мы будем видеться, как прежде, без страха…
– И ни в чем себя не упрекая!
– И между нами больше не возникнет никаких недоразумений! Но ведь это правда, что не по Матильде вы… что не Матильда ваша…
– Замолчите!
В этот миг распахнулась дверь и, словно в водевиле, появились оба старца, причем у одного из них в руках был фонарь. Они возвращались оттуда, куда царь пешком ходит, пересекли гостиную и исчезли в глубине дома.
– Заметьте, – сказал я, – как перепутываются истинно высокие мгновения с мелочами быта и насколько живая жизнь отличается от художественного произведения. Попробуй написать в романе или там в пьесе такую вот сцену – сразу станешь посмешищем. Подумайте сами: объяснение без объятий, без коленопреклонений, без громких слов, зато возлюбленных подстерегают два старика и освещают их потайным фонарем! Поневоле вспомнишь великого Шекспира, изобразившего Юлия Цезаря в халате и шлепанцах, напуганного пустячными снами.
Зазвенел звонок, и появился молодой барон с прекрасной Матильдой. Так как совесть его была не совсем чиста, он был сама любезность. Я же, желая хорошо сыграть свою роль и ввести его в заблуждение, решил прикрыться дерзкой ложью:
– Что до меня, то я провел этот час, ссорясь с баронессой.
Он окинул нас хитрым взглядом и, «взяв», как гончая, след, сделал вид, что не идет по нему. На этом я простился и ушел.
Что за наивность верить в целомудренную любовь! Опасность в том и заключается, что у нас есть свой секрет, который мы храним. Это как тайком зачатый ребенок, который растет по мере того, как сближаются наши души, и в конце концов он все же непременно появится на свет божий. Нам не терпелось поведать друг другу, через что прошел каждый из нас, вновь пережить этот год, в течение которого нам приходилось так мучительно скрывать свои чувства под личиной равнодушия. И вот мы стали прибегать к различным уловкам. Например, зачастили с визитами к моей сестре, вышедшей замуж за преподавателя лицея, которого принимали в высшем обществе, поскольку он носил старинную дворянскую фамилию. Мы назначали друг другу свидания, сперва вполне невинные, но со временем страсти разгорались и пробуждали желание. Через несколько дней после нашего объяснения баронесса передала мне пачку писем, написанных частично до 13 марта, частично после. Эти письма свидетельствовали о ее страданиях и о ее любви. Причем до нашего объяснения она писала мне, не питая при этом никакой надежды, что я когда-либо прочитаю ее письма.
Понедельник.
Дорогой друг,
Я тоскую по вас, как, впрочем, почти каждый день. Спасибо за то, что вы разрешили мне вчера разговаривать с вами и при этом не прятались, как вы это обычно делаете, за свою саркастическую усмешку. Зачем она вам? Если бы вы только знали, как меня это огорчает! Когда я доверчиво приближаюсь к вам, в те минуты, когда мне больше всего нужна ваша дружба, вы надеваете эту маску. Почему? Неужели же вам надо рядиться передо мной в маскарадный костюм? В одном из своих писем вы сами признались мне в том, что это всего лишь маска. Я надеюсь, что это так, и верю вам, и все же это приводит меня в отчаяние. И тогда я подумала: наверное, я все же дала промах. Какого мнения он теперь будет обо мне?…
Как я дорожу вашей дружбой. Как я боюсь заслужить ваше презрение… О нет! Вы должны быть искренни со мной и добры. Вы должны забыть, что я женщина. Я и сама слишком часто забываю об этом.
Я не рассердилась на вас за то, что вы сказали мне, но я была и удивлена и опечалена. Неужели вы думаете, что я способна заставить ревновать своего мужа и мстить ему таким бесчестным образом? Какому бы риску я себя подвергла, если бы пошла по этому недостойному пути, если бы решила вернуть его с помощью ревности! Что бы воспоследовало за этим? Его досада обернулась бы против вас, и нам никогда не пришлось бы больше увидеться. А что будет со мной, если я лишусь вашего общества, которое стало мне дороже жизни?
Я люблю вас как нежная сестра, а не как капризная кокетка. Правда, бывают мгновения, когда меня так и подмывает стиснуть между ладонями вашу прекрасную голову, заглянуть в ваши искренние и умные глаза, и тогда бы я, наверно, запечатлела поцелуй на вашем светлом лбу, который так обожаю, но уверяю вас, что поцелуй этот был бы самым чистым изо всех, которые вы когда-либо получали. Дело здесь просто в ласковости моей натуры, и будь вы женщина, я любила бы вас ничуть не меньше, если бы только могла испытывать к женщине такое уважение, которое испытываю к вам.
____________________
Я была счастлива, узнав ваше мнение о Матильде. Только женщина может радоваться по такому поводу, но что же делать, когда я вижу, что она во всем берет верх надо мной. И конечно, во всем, что происходит, есть и моя вина. Я не препятствовала этому увлечению, считая его лишь детской игрой, я давала мужу волю, будучи уверенной, что его сердце будет принадлежать мне навсегда. Однако дальнейшее показало, как я ошибалась…
Среда.
Он в нее влюблен и признается в этом. История эта вышла за рамки допустимого, и мне остается только^смеяться… Представьте себе, что, проводив вас до двери, он подымается ко мне в спальню, смотрит мне в глаза – тут меня охватывает дрожь, потому что совесть моя не чиста, – и умоляет меня: «Мария, не сердись, но позволь мне пойти сегодня вечером к Матильде, Я так в нее влюблен». Что тут будешь делать – плакать или смеяться? А меня в свою очередь терзают угрызения совести, потому что я люблю вас, хоть и издалека, не питая никаких надежд, ничего не ожидая. Что за глупость эти ваши идеи чести! Что ж, пусть он пребывает в опьянении от своей плотской любви! Вы у меня есть, а у меня, как у женщины, аппетит не настолько велик, чтобы заставить меня забыть о долге жены и матери. Но заметьте, до чего же двойственны мои чувства: я люблю вас обоих, и я не смогла бы жить без него, у него такое благородное, открытое сердце, он мне так близок, но и без вас я тоже не могу…
Пятница.
Ну вот, вы наконец сорвали покрывало, скрывавшее секрет моего сердца. И вы меня не презираете! Вы добры, как бог! Вы даже меня любите! Это слово, которое вы не хотите произнести! Вы, вы меня любите! Я виновата, я негодяйка, потому что я вас люблю. Да простит мне господь! И все же его я тоже люблю и никогда не смогу с ним расстаться.
Как все это странно! Я любима, мною дорожат! Есть вы, и есть он! Я чувствую себя такой счастливой, такой спокойной – моя любовь, видимо, не преступна, не то меня мучили бы угрызения совести, а может, я так ожесточилась!… О, как мне стыдно! Но лучше я сама вам во всем сознаюсь: в эту самую минуту Густав открывает мне свои объятия, и я буду его целовать! Остаюсь ли я при этом искренней? Да! Почему он не защитил меня, когда еще не было поздно?
Это все – настоящий роман! Но чем он кончится? Героиня умрет, а герой женится на другой? Или они разойдутся и все кончится в угоду морали?
____________________
Будь я сейчас рядом с вами, я бы поцеловала вас в лоб так благоговейно, как верующий целует распятье, а все низкое, порочное я отбросила бы.
Лицемерие это или нет? Одни лишь плотские страсти питают эти чуть ли не религиозные грезы, за которыми скрывается вожделение? Нет, не одни! Механизм, толкающий нас к продолжению рода, куда более сложный, и даже у животных свойства характера из поколения в поколение передаются через любовь. Значит, всякий раз влюбляются и тело и душа, и одно без другого – ничто. Если бы баронессой двигало только физическое влечение, она не променяла бы такого роскошного господина, как барон, на меня, хрупкого, нервного, болезненного юнца. Если это было бы только слиянием душ, то откуда взялось бы желание целовать меня, восхищаться стройностью моих ног, изящной формой пальцев на руках и розовым цветом ногтей, восторгаться моим выпуклым лбом и копной густых волос. А может быть, инстинкт самки, донельзя обостренный растленностью мужа, вызывал у нее чувственные галлюцинации? Или она каким-то чутьем угадывала, что мой юношеский пыл сулит ей куда больше наслаждений, нежели вялые прикосновения инертной массы, какую являет собой барон. Раз она не ревнует тело своего мужа, значит, она не дорожит им как любовником. А меня она ревнует во всех отношениях, значит, она меня любит!
Как-то раз, когда мы были в гостях у моей сестры, с баронессой случился истерический припадок. Она вдруг зарыдала и ничком упала на диван. Причиной тому было, как она объяснила, недостойное поведение супруга, который отправился на офицерский бал с ее кузиной. Потеряв всякий контроль над собой, она прижала меня к своей груди и поцеловала в лоб, а я в ответ стал осыпать ее поцелуями. Тогда она впервые обратилась ко мне на «ты». Между нами возникло что-то новое, и с этого дня я захотел обладать ею.
В тот вечер я декламировал «Эксельсиор» Лонгфелло. Взволнованный этими прекрасными стихами, я не отрывал от нее глаз, а она слушала меня, словно завороженная, и на лице ее отражались все оттенки моей мимики. Она казалась безумной, одержимой.
После ужина за ней приехала горничная, чтобы отвезти ее домой. Когда мы вышли из подъезда, она попросила меня первому сесть в экипаж, а потом, несмотря на мои возражения, приказала горничной взобраться рядом с кучером на козлы.
Очутившись одни в экипаже, мы, не проронив ни слова, тут же начали целоваться, и я почувствовал, как от прикосновения моих губ судороги пробегают по ее трепещущему телу. Как-то незаметно скользнув вниз, она очутилась подо мной. Но я отступил. В тот вечер я еще не свершил греха, не осмелился разрушить семью и не тронул баронессу. Она вернулась домой, не то сгорая от стыда, не то едва сдерживая ярость. Сомнений больше быть не могло. Она хотела меня соблазнить, она сорвала первый поцелуй, она делала мне авансы. И с этой минуты я решил взять на себя роль соблазнителя, причем всерьез, потому что, несмотря на мои твердые понятия о чести, Иосифом я не был [17].
На следующий день я назначил ей свидание в Национальном музее.
Я видел, как она поднималась по мраморным ступеням, а высоко над ней светился золотом потолок. Я любовался ее маленькими ножками, твердо ступавшими по пестрым каменным плитам, ее осиной талией принцессы, стянутой черным бархатным корсажем, расшитым гусарским галуном, и понял, что обожаю ее. Я поздоровался с ней, преклонив колено, будто паж. Ее красота, пробужденная моими поцелуями, стала просто ошеломляющей. Сквозь прозрачную кожу щек, казалось, были видны токи крови. Эта холодная статуя ожила в моих объятиях. Пигмалион дунул на мрамор, и ему явилась богиня. Мы сели на скамейку перед фигурой Психеи – трофея времен Тридцатилетней войны. Я целовал ее щеки, губы, глаза, а она улыбалась, пьянея от счастья. Я изображал из себя импровизатора, соблазнителя, пуская в ход то ораторские софизмы, то поэтические уловки.
– Покиньте, – внушал я ей, – ваш растленный дом, бегите из вашей оскверненной спальни, откажитесь от этой постыдной любви втроем, не то я буду вас презирать. – Я не хотел говорить ей «ты», чтобы не низвергнуть ее с пьедестала. – Вернитесь к вашей матери. Предайтесь вашему святому искусству, и через год вы будете дебютировать на сцене, вы обретете свободу и заживете наконец своей, а не чьей-то чужой жизнью.
Она раздувала бушующее во мне пламя, я накалялся все больше и больше, становился поистине неотразимым, произносил немыслимое количество слов и в конце концов сумел вырвать у нее обещание рассказать обо всем мужу, и будь что будет!…
– Но все это может плохо кончиться! – воскликнула она.
– Пусть это будет ад для нас, но мне необходимо уважать и себя и вас, без этого я не смогу вас больше любить! Вы малодушны, вы думаете о награде, не желаете принести жертву! Будьте возвышенны, как ваша красота, решитесь на смертельный прыжок, не бойтесь погибнуть! Мы можем все потерять, все, кроме чести. Судя по тому, как разворачиваются события, пройдет еще несколько дней, и вы уже будете не в силах устоять передо мной, не сомневайтесь, потому что моя любовь неотвратима, как смерть, она вас поглотит! Я люблю вас, как солнце – росу, я вас выпью! Поэтому вам ничего не остается, как только отправиться на эшафот, пусть полетит голова, зато рук вы не замараете. Неужто вы надеетесь, что я соглашусь стать его партнером? Да никогда в жизни! Либо все, либо ничего!
Она делает вид, что сопротивляется, а на самом деле подсыпает чуток пороха на угли: жалуется, что муж не оставляет ее в покое, иными словами, приподнимает одеяло на своей брачной постели, одна мысль о которой приводит меня в неистовство.
– Он идиот, он не богаче меня, и у него нет никакого будущего, однако он имеет двух любовниц, а я, при всем моем таланте, я, принадлежащий к духовной элите, вынужден волком выть и корчиться в муках, будучи не в силах погасить пожирающее меня пламя!
Но тут она вдруг поворачивает все вспять, напомнив мне нашу клятву быть лишь братом и сестрой.
– К черту клятву про брата и сестру! Все это глупости! Между нами возможны лишь отношения мужчины и женщины, любовника и любовницы! Я обожаю вас, ваше тело, вашу душу, ваши белокурые волосы и прямоту вашего нрава, ваши ножки, обутые в самые маленькие ботиночки в Швеции, и вашу откровенность, и ваши глаза, плывущие в полумраке экипажа, и вашу чарующую улыбку, и ваши белые чулки, и красные подвязки…
– Как вы…
– Да, да, моя принцесса, я видел все. И я вопьюсь зубами в выемку между вашими грудями, в этот ров любви, я зацелую вас до помрачения ума и задушу в своих объятиях. Только вдыхая аромат вашего тела, я испытываю прилив божественных сил. Я тщедушен лишь на первый взгляд. О нет, поверьте, я мнимый больной, я лицемер. Остерегайтесь затаившегося льва, не вступайте в его логовище, ибо он заласкает вас до смерти! Сорвем лживые маски. Я хочу, чтобы вы были моей, я желаю вас с первой минуты нашего знакомства. Мое увлечение этой Сельмой – чушь, вздор, как, впрочем, и дружба с дорогим бароном. Кто я в его глазах? Буржуа, провинциал, деклассированный интеллигент! И он презирает меня не меньше, чем я его!…
Баронессу, казалось, вовсе не удивил шквал моих признаний, поскольку для нее в нем не было ничего нового. Ведь мы все знали друг о друге, хоть и делали вид, что ровным счетом ничего не знаем.
И вот мы расстались, твердо решив не назначать нового свидания, прежде чем она не откроется мужу.
После обеда я не выхожу из своей комнаты в ожидании сообщений с поля сражения. Чтобы отвлечься., я вываливаю на пол целый мешок рукописей и книг, падаю ничком на эту гору бумаги, чтобы удобней было рыться в них и разбирать все по порядку. Но как ни стараюсь, я не в силах сосредоточиться и вскоре переворачиваюсь на спину, закладываю руки за голову, упираюсь взглядом в свечи люстры и предаюсь мечтам. Я жажду ее поцелуев и в деталях обдумываю, как буду овладевать ею. Ведь она дьявольски обидчива и одержима вздорными желаниями, важно сразу же взять верный тон, подойти к ней очень осторожно. Если же я потерплю неудачу, то между нами пробежит черная кошка, и это уже будет трудно преодолеть.
Я закуриваю сигару, воображаю, что лежу на лужайке, и снизу вверх разглядываю свою комнатку. В этой лягушачьей перспективе все мне видится по-иному. Диван, столько раз уже бывший алтарем любви, вызывает всплеск сладострастных грез, которые, правда, тут же исчезают, как только мной овладевает страх, что я все загубил из-за своих дурацких представлений о мужской чести.
Пытаясь уточнить, что именно прикрывает собою в данном случае понятие «мужская честь», которое, быть может, не позволит мне проявить пылкости моих чувств, я обнаружил изрядную порцию трусости, целый набор разных опасений по поводу возможных последствий нашей близости, каплю сочувствия к человеку, которому скорее всего пришлось бы в результате воспитывать чужого ребенка, чуточку отвращения ко всякого рода альковной грязи, долю подлинного уважения к женщине, которую я меньше всего на свете хотел бы унизить, самую малость жалости к ее ребенку, немного сострадания к матери моего идола в том случае, если разразится скандал, а в самой глубине моего презренного сердца таилось еще предчувствие тех неприятностей, которые меня ожидают, если я вздумаю порвать с любовницей. «Нет, – говорю я себе, – либо все, либо ничего! Только моя, и навеки!»
В то время, как я предаюсь этим размышлениям, кто-то стучит в дверь, затем она приоткрывается, и прелестное личико освещает мою мансарду. Озорная улыбка обожаемой женщины заставляет меня вскочить на ноги, и мы бросаемся друг к другу. После несметного числа поцелуев, с трудом оторвав свои губы от ее свежих с холода губ, я спрашиваю:
– Ну, так что же он сказал?
– Ничего, поскольку я ему ничего не рассказала.
– Тогда вы пропали. Уходите!
Но при этом я снимаю с нее гусарский казакин, уже предвкушая будущее раздевание, потом шляпку, отделанную жемчугом, и веду к дивану.
– У меня не хватило мужества! – восклицает она, не в силах больше сдерживаться. – Я хотела еще раз повидаться с вами перед тем, как все рухнет. Одному богу известно, не приведет ли этот разговор к разводу…
Но я не даю ей говорить, расставляю перед ней складной столик, достаю из шкафа бутылку вина и два бокала. Рядом с ними я ставлю горшок с цветущими розами и две зажженные свечки, получается как бы алтарь, а в виде скамеечки кладу том Ганса Сакса [18] в кожаном переплете с вытесненным на нем портретом Лютера [19] и позолоченной застежкой – бесценная книга, взятая мною для занятий из Королевской библиотеки.
Я разливаю вино, срываю розу и втыкаю ее в пышные белокурые волосы баронессы. Мы пьем за ее здоровье и за наше счастье, а потом я падаю перед ней на колени. Я ее боготворю.
– О, как вы прекрасны!
Она счастлива, что я выступаю наконец в роли поклонника, почти любовника, и, обхватив руками мою голову, ворошит мою львиную гриву, покрывает лицо поцелуями. Ее красота внушает мне благоговение, я гляжу на нее как на икону и готов на нее молиться.
Она в восторге, что я сбросил железную маску сдержанности, мои признания приводят ее в трепет, и, видя, что я способен на пылкое чувство, в котором сочетаются уважение и страсть, она сама любит меня исступленно, до безумия. Я целую ее ботинки, не боясь испачкать губы, целую ее колени и при этом не пытаюсь приподнять край юбки, я люблю ее такую, какой она предстала в этот миг предо мною – одетую, целомудренную, как ангел, явившийся на свет уже в одежде и нацепивший крылья поверх туники.
От наплыва чувств слезы застилают мне глаза, хотя для них нет никакой разумной причины.
– Вы плачете! Что с вами?
– Я не знаю, как сказать… Я так счастлив!
– Вы, значит, умеете плакать. Вы! Железный человек!
– Умею ли я плакать! Я!
Будучи женщиной до мозга костей, она уверена, что понимает причину моего тайного страдания. Поэтому она тут же встает и, изображая интерес к рассыпанным по полу бумагам, говорит с плутовским видом:
– Когда я вошла, вы лежали здесь, как на лужайке. Смешно. На дворе зима, а вы валяетесь на травке.
И она садится на груду книг. Я – рядом с ней. И снова поцелуи, поцелуи, мой идол сходит с пьедестала и готов пасть.
Она в плену моих поцелуев, постепенно я опрокидываю ее навзничь, не даю ей времени опомниться, она будто околдована моим горящим взором, моими жаркими губами. Я обнимаю ее, прижимаю к себе, мы ложимся, как влюбленные, на траву, и мы любим друг друга, как ангелы, не срывая одежд и не переступая последней черты. Потом мы подымаемся, успокоенные, удовлетворенные, не испытывая при этом никаких угрызений совести, будто мы и впрямь не падшие ангелы.
О, как изобретательна любовь! Грешишь, не греша, отдаешься, не отдаваясь! О, божественное милосердие искушенных женщин! Из жалости они ни в чем не отказывают своим молодым ученикам, считая, что главное – не терять инициативы.
Внезапно она опоминается, возвращается к действительности. Ей пора уходить.
– Итак, до завтра.
– До завтра!
Она во всем призналась мужу и, поскольку он заплакал, считает себя кругом виноватой.
Оказывается, он заплакал, он плакал горючими слезами! Кто же он, наивная душа или хитрец? Видимо, и то и другое! Любовь, правда, сбивает с толку, а иллюзии, которые питаешь на свой счет, обычно приводят к разочарованию!
Он на нас не сердится и желает, чтобы мы продолжали общаться, однако мы должны обещать ему сохранять целомудрие.
– Он благороднее нас! – восклицает она. – И великодушнее! Он любит нас обоих!
Откуда такое старческое слабоумие! Он готов терпеть в своем доме присутствие мужчины, который целовал его жену, и, видимо, считает нас такими бесполыми, что мы будем продолжать наши отношения как брат и сестра. Это уже оскорбление лично мне, как мужчине, и я отвечаю окончательным «прощай навеки»!
Утро я провожу у себя в мансарде во власти самого горького разочарования. Я вкусил от запретного плода, и тут его вырвали у меня из рук. Она, моя великолепная богиня, раскаивается, страдает от угрызений совести, осыпает меня упреками. Она, соблазнительница!
Мне приходит в голову адская мысль: уж не в том ли дело, что она сочла меня чересчур целомудренным? Может, отступись ее побудило презрение к моей скромности? Ее не останавливала боязнь греха, перед которым я отступил, выходит, ее любовь сильнее моей.
Приди ко мне еще раз, моя красавица, и тогда ты увидишь!
В десять часов утра я получаю записку от барона с просьбой навестить баронессу, которая тяжело заболела.
Я отвечаю: нет, дай мне спокойно уйти, я не хочу больше быть помехой в вашем браке! Забудь меня, как я забыл вас.
В полдень я получаю вторую записку: «Вернемся к нашим прежним отношениям. Я испытываю к тебе уважение, потому что убежден, что ты вел себя как человек чести. Но никогда ни слова о том, что произошло между вами. Я хочу обнять тебя как брата, и пусть все будет как было».
Простодушие и доверие этого человека меня трогают, я отвечаю ему письмом, где выражаю все свои сомнения и угрызения совести и прошу его не играть с огнем и позволить мне исчезнуть.
В три часа дня я получаю третью записку. Баронесса в агонии, только что ушел врач, она хочет меня видеть. Барон умоляет меня прийти. И я иду. Ну, не безумец ли я?…
Как только я вхожу в квартиру, мне в нос ударяет запах хлороформа. Свет в гостиной притушен. Барон обнимает меня со слезами на глазах.
– Что с ней? – спрашиваю я холодно, будто врач.
– Не знаю, она едва не умерла.
– А что сказал доктор?
– Ничего! Он ушел, покачивая головой и бормоча: «Увы, этот случай вне моей компетенции».
– Он не выписал никаких лекарств?
– Никаких!
Он ведет меня в столовую, превращенную в комнату для больной. Баронесса лежит на диване, неподвижная, с растрепанными волосами и пылающими, будто уголья, глазами. Она протягивает Руку, муж берет ее и кладет в мою. И тут же выходит из комнаты, оставляя нас вдвоем. У меня холодеет сердце, я гляжу на нее настороженно, с недоверием, вся эта сцена кажется мне просто неприличной.
– Вы знаете, что я чуть не умерла? – спрашивает она, чтобы Начать разговор.
– Да.
– И это вас не волнует?
– Волнует.
– Но вы стоите как истукан. Ни жеста сочувствия, ни слова сострадания!
– Так здесь же был ваш муж!
– Ну и что, ведь он разрешил…
– Баронесса!
– Я очень больна! И мне надо будет лечиться у гинеколога!
– Неужели!
– Меня это очень пугает! Просто ужасно! Я так настрадалась. Положите мне руку на лоб!… Какое облегчение! Улыбнитесь мне! Ваша улыбка меня оживляет!
– Барон…
– А вот вы хотели уйти и бросить меня…
– Чем я могу быть вам полезен, баронесса?
Она начинает рыдать.
– Так вы что, желаете, чтобы я стал вашим любовником прямо здесь, в вашем доме, когда в соседних комнатах находятся ваш муж и ваша дочь? Так?
– Вы – чудовище!… у вас нет сердца, вы…
– Прощайте, баронесса.
И я удираю. Барон торопливо проводит меня через гостиную, однако не настолько быстро, чтобы я не успел заметить, как мелькнул у двери и скрылся за портьерой подол юбки. И у меня разом возникли подозрения, которые превращали все происходящее здесь в комедию.
Барон так яростно захлопнул за мной дверь, что мне показалось, будто раздался взрыв, и эхо его прокатилось по всей лестнице.
Сомнений быть не могло, я только что участвовал в слезливой комедии, да еще с двойной интригой.
Что за таинственная болезнь? Да это просто истерика! Как это называют немцы: тоска по материнству. А в свободном переводе: страстное желание забеременеть, течка самки, животный инстинкт, веками подавляемый и прикрытый целомудрием, но все же проявляющийся рано или поздно благодаря прелюбодеянию.
Эта женщина, имея мужа, не жила с ним, как положено, из страха забеременеть, поскольку не хотела больше иметь детей, но из-за неудовлетворенности она находилась в постоянном возбуждении, и это толкало ее в объятия любовника, неизбежно вело к супружеской измене. И в тот момент, когда любовник, казалось, наконец завоеван, он вдруг уходит прочь, так и не удовлетворив ее желаний!
О, эти вечные супружеские муки, эта выморочная любовь! Взвесив все обстоятельства, я пришел к твердому убеждению, что именно попытка хитрить друг с другом и подменять телесную близость всякими там паллиативами сыграла роковую роль в этом браке и толкнула и барона и баронессу в объятия третьих лиц, тех, кто сулил каждому из них больше наслаждений. Разочарование, которое пережила баронесса от моего поведения в мансарде, снова кинуло ее к мужу, а тому стало легче выполнять свой супружеский долг, поскольку мадам была воспламенена любовником.
Итак, между ними состоялось примирение, а для меня все кончилось! Черт exit [20], и занавес опустился.
Но все получилось иначе. Она сама снова пришла ко мне в мансарду, и я добился от нее полной исповеди. Она призналась, что весь первый год их брака она не испытывала радости от плотской любви, ни разу не переживала опьянения от супружеского счастья. После родов муж к ней остыл, и к тому же они опасались новой беременности и прибегали ко всяким ухищрениям.
– И вы никогда не были счастливы с этим человеком?
– Почти никогда! Все же… очень редко…
– И вот теперь!
Она краснеет.
– Теперь врач посоветовал ему не остерегаться…
И она кидается на диван, закрывая лицо руками.
Воспламененный ее признаниями, я перехожу в наступление.
Она не противится, дышит учащенно, вся трепещет, но в критический момент ее, видимо, одолевают угрызения совести, и она отталкивает меня.
Загадка, да и только, которая, впрочем, начинает мне надоедать.
Что ей от меня надо? Все, и она жаждет дойти до конца, но боится настоящего преступления, незаконнорожденного ребенка.
Я обнимаю ее и чуть не довожу до безумия своими поцелуями, но она подымается с дивана нетронутой и, надо сказать, менее разочарованной, чем в первый раз.
Что же теперь делать? Во всем признаться барону? Но это уже свершилось. Рассказать подробности? К чему? Ведь подробностей нет.
Однако она снова приходит ко мне. И тут же ложится на диван, объясняя это болезненной усталостью. И тогда я, стыдясь показаться робким, потеряв голову от страха попасть в унизительное положение и еще, чего доброго, прослыть импотентом, насилую ее, если это можно назвать изнасилованием, и встаю, счастливый, великолепный, высокомерный, довольный собой, словно я только что отдал свой долг женщине. Но у нее жалкий, растерянный вид.
– Гордая баронесса, что с ней теперь будет, – стонет она, приподымаясь с дивана.
Она боится последствий. Но на ее печальном личике написано, кроме того, горькое разочарование, часто наступающее после первой, так сказать, пробы пера, произошедшей случайно, на ходу, без должного покоя и сосредоточенности.
– Только и всего?…
Она уходит медленным шагом, а я смотрю на нее со своей голубятни и сам вздыхаю:
– Только и всего!…
Парень из народа завоевал благородную даму, простолюдин добился любви дворянки, свинопас смешал свою кровь с кровью принцессы. Но какой ценой!
Собираются тучи, ходят всякого рода сплетни, баронесса скомпрометирована в глазах общества.
Мать баронессы вызывает меня к себе. Я тотчас же наношу ей визит.
– Правда ли, сударь, что вы любите мою дочь?
– Истинная правда, сударыня.
– И вы этого не стыдитесь?
– Я этим горжусь.
– Она мне призналась, что влюблена в вас.
– Я это знал. Я вам сочувствую, бесконечно сожалею о всех возможных последствиях, но что поделаешь! Мы любим друг друга, это весьма прискорбно, но не преступно, не правда ли? Как только мы обнаружили эту опасность, мы предупредили барона. Он в курсе дела.
– Вы вели себя безупречно, я знаю, но надо спасти честь моей дочери, ее ребенка, семьи! Ведь вы не хотите нас погубить?
Она зарыдала. Несчастная старуха, которая все поставила на одну-единственную карту – на свою дочь, она воспитала ее в духе дворянских традиций, чтобы та смогла облагородить родовое имя. Я был исполнен к ней жалости, ее горе меня сокрушало.
– Приказывайте, сударыня, я повинуюсь беспрекословно.
– Уезжайте отсюда подальше, бегите без оглядки!
– Не надо продолжать, я вам это обещаю, но поставлю все же одно условие.
– Какое, сударь?
– Чтобы вы отправили домой Матильду!…
– Выходит, вы ее обвиняете.
– Я ее разоблачаю! Я знаю, что ее затянувшееся пребывание в доме барона не способствует их семейному счастью.
– Я принимаю ваше условие. Ах, эта чертовка! Ну, ей теперь несдобровать. А вы завтра же уедете.
– Нынче вечером!
Тут неожиданно в комнату входит баронесса.
– Вы останетесь! – приказывает она мне. – А Матильде придется уехать.
– Почему? – спрашивает оторопевшая мать.
– Потому что развод неизбежен. Густав публично, в доме дяди Матильды, назвал меня пропащей женщиной! Это ему так не пройдет.
Какая душераздирающая сцена! Да разве хирургическая операция может по тяжести испытания сравниться с разрывом семейных уз! При этом выплескиваются наружу все нечистоты, осевшие на самое дно души.
Баронесса отводит меня в сторону и передает содержание письма, которое барон написал Матильде. В нем он оскорбляет нас как только может и исповедуется ей в своей божественной любви. Выходит, что он нас обманывал с первой же минуты.
Камень сдвинулся и покатился с горы, он несется все быстрее и быстрее. И вскоре он начнет сбивать и правых и виноватых.
Мы все топчемся на одном месте, и нет никакой надежды на развязку. Банк не выплачивает в этом году дивиденды, моих друзей ждет разорение. Нужда надвигается столь неминуемо, что приходится приостановить бракоразводный процесс, так как барон уже не может содержать семью. Чтобы хоть как-то соблюсти приличия, барон осведомляется у своего полковника, разрешат ли ему остаться в полку, если его жена станет актрисой. Тот дает ему понять, что это решительно невозможно. Так и представился удобный случай свалить вину за развод на аристократические предрассудки.
Тем временем баронесса стала лечиться у гинеколога по поводу эрозии матки, продолжая, однако, жить в доме своего супруга и даже спать с ним в одной кровати. Она была вечно нездорова, ходила возбужденная, мрачная, приободрить ее было нелегко, и я просто выбивался из сил, пытаясь перелить в нее избыток моей юношеской веры в завтрашний день. Я описывал ее будущее актрисы, ее свободную жизнь, комнату вроде моей, где она будет полностью распоряжаться собой, и телом и мыслями. Она слушает меня, но не отвечает, и мне чудится, что поток моих слов возбуждает ее, словно магнитное поле, но не проникает в сознание.
Насчет ее развода был выработан в конце концов такой план: проделав все требуемые законом формальности, баронесса уедет в Копенгаген и поселится у своего дяди. Там шведский консул и вручит ей документ, удостоверяющий факт ее так называемого бегства из супружеского дома, а она в ответ заявит ему, что намерена расторгнуть брачный контракт. После чего она вернется в Стокгольм и наконец-то сможет по своему усмотрению распорядиться своим будущим. Приданое, естественно, останется за ее бывшим мужем, равно как и вся мебель, кроме нескольких предметов, коими она особенно дорожит. Дочь их до новой женитьбы барона останется в его доме, однако баронесса выговорила себе право ежедневно видеться с девочкой.
Во время обсуждения финансовых вопросов дело дошло до крика. Чтобы спасти жалкие остатки своего промотанного состояния, отец баронессы перед смертью завещал все дочери. Но ее мать с помощью всевозможных интриг добилась в конце концов права на наследство, правда, выплачивая зятю определенную сумму в виде компенсации. Теперь же, когда эти отношения надо было оформить законным образом, барон потребовал, чтобы завещание было введено в действие. Старая теща, понимая, что отныне ей придется довольствоваться более чем скромной рентой,пришла в бешенство и в приступе гнева выдала секрет зятя своему брату, отцу Матильды. Разразился скандал. Подполковник приехал в Стокгольм, грозил, что заставит барона уйти в отставку, дело запахло судом.
В этой ситуации все усилия баронессы сосредоточились на том, чтобы спасти отца ее дочки. И ради этого мне пришлось, как всегда, играть роль козла отпущения. Меня заставили написать дяде письмо, где я брал всю вину на себя, клялся именем божьим в невиновности барона и кузины, молил оскорбленного отца простить все мои прегрешения. Короче, предстал перед ним раскаивающимся соблазнителем.
Письмо это было шедевром эпистолярного жанра, и баронесса вознаградила меня за него такой любовью, какой может любить женщина мужчину, все бросающего к ее ногам – и свою честь, и самоуважение, и безупречную репутацию.
Таким образом, несмотря на мое твердое намерение держаться в стороне от всех денежных свар, участие в которых могло лишь опорочить меня, я оказался втянутым во все эти гнусные переговоры.
Теща посещала меня несметное число раз, напоминала о моей любви к ее дочери, настраивала против барона, но все ее старания были напрасны, ибо я слушался лишь указаний баронессы, да к тому же я был на стороне барона, который брал на себя всю заботу об их дочери. Поэтому я считал, что наследство, реальное оно или воображаемое, по праву принадлежит отцу ребенка, только ему!
Вот какой выдался апрель! Весна любви, ничего не скажешь! Больная любовница, невыносимые сцены, во время которых две семьи копаются в грязном белье друг друга, – глаза бы мои на это не глядели! Слезы, ругань. Бури страстей, когда вся мерзость, прикрытая обычно флером воспитания, вдруг обнажается и выставляется всем напоказ. Вот что значит сунуться в осиное гнездо!
Все это не могло не наложить отпечатка на нашу любовь. Если ваша возлюбленная донельзя измотана ссорами, если щеки ее пылают от выслушанных оскорблений, если она изъясняется юридическими терминами, то все это вряд ли делает ее для вас более желанной.
Однако несмотря ни на что я пытался поддержать ее, заразить своей надеждой и бодростью, иногда, правда, наигранной, потому что мои нервы мало-помалу начинали сдавать, но она не гнушалась ничем, пожирала мои мысли, высасывала мой мозг. Она превратила мою душу в свалку, куда вываливала всю свою досаду, все горести, все неприятности, все заботы.
И вот, находясь в этом аду, я все же продолжал жить своей жизнью, из кожи вон лез, чтобы свести концы с концами, одним словом, вел жалкое существование. Приходя ко мне по вечерам и заставая меня за работой, она тут же начинала дуться, и мне тогда надо было тратить не менее двух часов на слезы и поцелуи чтобы доказать ей свою любовь, ибо для нее любовь – не что иное, как непрерывное обожание, рабское служение, готовность к любой жертве.
Меня подавляло гнетущее чувство ответственности – ведь недалек был тот день, когда надвигавшаяся нищета или ожидание ребенка все-таки вынудят меня взять ее в жены. Из всего своего состояния она сохранила за собой лишь три тысячи франков на ближайший год, чтобы подготовиться к поступлению в театр. Меня пугала эта театральная карьера. Она не избавилась от своего финского акцента, да и пропорции ее лица не казались мне сценичными. В качестве упражнений я заставлял ее читать мне стихи, выступая в роли, так сказать, режиссера. Но она была настолько поглощена своими неприятностями, что почти не делала успехов, и это ввергало ее в полное отчаяние.
О, наша мрачная страсть! Постоянный страх Марии забеременеть и моя неопытность по части всяких фокусов в этом вопросе, соединившись воедино, превратили нашу любовь в немыслимую муку. А ведь она могла бы стать для меня источником силы и вдохновенья, так необходимых мне в эти столь трудные дни. Чувство радости, не успевая появиться, тут же уничтожалось ее вдруг вспыхивавшим страхом, и мы расставались, недовольные друг другом, каждый считал себя обманутым, потому что надежды на высшее счастье не сбылись на этот раз.
Какой, однако, ценой приходится подчас оплачивать все паллиативы в любви!
Бывали минуты, когда я с сожалением вспоминал о девках, с которыми бывал прежде, хотя, моногамный по натуре, я испытывал омерзение к разнообразию в любовных делах. Что же до нашей с Марией близости, то, поскольку надо было соблюдать осторожность, она приносила нам больше сердечных радостей, чем физического удовлетворения, зато вечно неудовлетворенное желание не позволяло угаснуть нашей страсти.
Первого мая все бумаги были наконец подписаны и отъезд назначен на послезавтра. Она пришла ко мне и, упав мне на грудь, воскликнула:
– Теперь я твоя! Возьми меня!
Поскольку мы до той поры никогда не говорили о браке, я не понял, что она имеет в виду. Но так или иначе, я счел, что, раз она ушла от мужа, ситуация стала более приемлемой. Мы печально сидели в моей мансарде. Теперь, когда все стало дозволено, соблазн был уже не так велик. Она обвинила меня в холодности, но я тут же самым ощутимым образом доказал ей обратное. Тогда она стала упрекать меня в чрезмерной чувственности. Ей, оказывается, нужны были только обожание, курение фимиама, молитвы.
Между нами произошла бурная сцена, она впала в истерику и заявила, что я ее больше не люблю! Уже! Час ласк и уговоров возвратили ей разум, но прежде она успела довести меня до слез. После этого она меня снова любила. Чем больше я был раздавлен, чем безжалостней принижен, чем тщедушней я ей казался, тем больше она меня любила. Она не хотела, чтобы я был мужественным и сильным, и я старался стать жалким и несчастным, чтобы завоевать ее любовь. Тогда она выпрямлялась во весь рост и, изображая маму, утешала меня.
Мы ужинаем у меня в мансарде. Мария накрывает на стол, подает еду. Потом я вступаю в свои права любовника. И вот тахта превращена в ложе любви, и я раздеваю Марию.
Я не узнаю ее. Она ведет себя как девушка, девственница. В минуты близости с любимой невозможна грубость, в единении душ нет места животному началу, и трудно определить, когда духовное слияние переходит в физическое.
Успокоенная недавно полученными советами врачей, она отдается мне пылко, целиком и испытывает высшее счастье, она исполнена блаженства, благодарности и поражает меня своей красотой. Глаза ее сияют. Моя жалкая мансарда преображается в храм, в роскошный дворец любви, и я зажигаю сломанную люстру, настольную лампу, свечи, все-все, чтобы ярче осветить царящие здесь гармонию и радость жизни, единственное, что придает хоть какой-то смысл нашему низменному существованию.
Только эти пленительные миги утоленной страсти, которые мы не забываем на протяжении всего нашего горестного пути, только память об этом блаженстве, неведомом ревнивцам, и делает бессмертной чистую любовь.
– Не говори ничего дурного о любви, – сказал я ей. – Относись с уважением к природе во всех ее проявлениях и чти господа бога, дарующего нам счастье помимо нашей воли.
А она и не говорит ничего, потому что полностью счастлива. Исступление, охватившее ее, бесследно прошло, сердце, возбужденное страстными объятиями, учащенно бьется, кровь потоком струится по жилам, на ожившем лице заиграли краски, в увлажненных слезами сладострастия зрачках отражается пламя свечей, а яркость радужки глаз подобна переливчатому оперению птиц в пору любви. Она кажется шестнадцатилетней девушкой, так безупречны и строги черты ее лица. А утопающая в подушке маленькая головка, обрамленная растрепанными волосами цвета спелой пшеницы, похожа на голову ребенка. Тело ее, скорее хрупкое, чем худое, под батистовой рубашкой, перехваченной мягким поясом, которая ниспадает, подобно греческому хитону, множеством складок на бедра, скрывая то, что должно быть скрыто, но обнажая колени, сквозь прозрачную кожу которых просвечивает сложное, причудливое переплетение таинственных жилок, словно похищенное у перламутровой раковины. Груди ее, как две козочки с розовыми носиками, прячутся за кружевами, будто за сеткой загона, а плечи будто выточены из слоновой кости, как, впрочем, и запястья…
Она лежит как изваяние, позирует, наслаждается тем, что я любуюсь ею, и вдруг потягивается, трет глаза и глядит на меня одновременно робким и бесстыжим взглядом.
Сколь целомудренна женщина, когда она, нагая, дарит свою любовь тому, кто ее боготворит. Увы, мужчина, как правило превосходящий женщину умом, оказывается счастливым только тогда, когда находит себе ровню. Теперь мои прежние похождения, любовные историйки с девицами из иной социальной среды, кажутся мне чем-то вроде скотских утех, падением, едва ли не преступлением и уж во всяком случае изменой себе и себе подобным. Неужели белая кожа, идеальная форма ног, безупречные ногти, один к одному, как клавиши фортепиано, или руки, лишенные мозолей, суть признаки дегенерации? Взгляните на диких зверей – лоснящаяся шкура, точеные лапы, больше нервов, чем мускулов – как они совершенны! Красота женщины лишь обещание ее внутренних качеств, которые должны быть проявлены, и они зависят от мужчины, от его уменья их оценить. Он – муж – выбросил эту женщину, можно сказать, на свалку, и с той минуты она ему больше не принадлежала, потому что перестала ему нравиться. Ее красота для него больше не существовала, мне выпало вновь оживить этот цветок, видимый только избранному.
Какая безмерная радость обладание любимой! Это чувство сравнимо лишь с удовлетворением, которое испытываешь, выполнив свой долг. И это подчас считается преступлением! Пленительное преступление, сладостное нарушение закона, божественное злодейство!
Сейчас пробьет полночь, сменится караул у казармы. Пора отвести возлюбленную домой.
Во время нашего долгого пути я обрушиваю на нее все свои вдохновенные замыслы, исполненные новых надежд, и фантастические планы, рожденные жаром наших объятий. Она прижимается ко мне, словно хочет набраться сил от этого физического прикосновения, и я счастлив вернуть ей то, что сам от нее получил. Наконец мы подходим к решетке ее сада, и тут она обнаруживает, что забыла ключ. Какое невезенье! Желая продемонстрировать ей свою храбрость, я очертя голову перелезаю через ворота, чтобы проникнуть в логово зверя, единым духом пересекаю двор и начинаю стучать в дверь дома, приготовившись к бурной встрече с бароном. Так как совесть у меня не чиста, я ликую от предстоящей стычки с соперником на глазах у любимой, благодаря которой Удачливый любовник превратится в героя! К счастью, дверь открывает служанка, и наше церемонное прощание происходит без ратных подвигов – она окинула нас презрительным взглядом и даже не удостоила меня ответом, когда я пожелал ей спокойной ночи.
Мария уже не сомневается в моей любви и злоупотребляет этим. Сегодня она пришла ко мне и с порога принялась безудержно расхваливать своего бывшего мужа, который, оказывается, убит горем оттого, что кузину отправили домой. Однако по просьбе баронессы, дабы спасти ее репутацию, барон согласился проводить ее на вокзал, куда и я приеду, и таким образом ее отъезд не будет выглядеть бегством из супружеского дома. Кроме того, барон, который, как выяснилось, не питает ко мне зла, обещал принять меня нынче вечером у себя, а чтобы прекратить все сплетни, готов в ближайшие же дни появиться вместе со мной на людях.
Оценив по достоинству великодушие этого наивного человека с открытым сердцем, я все же возмутился.
– Причинить ему такое бесчестье! Да никогда! – заявил я баронессе.
– Но если это делается в интересах моего ребенка! – возразила она.
– И все же, дорогая, честь барона тоже нельзя не учитывать!
Ей непонятно, что такое честь другого человека. А я в ее глазах фантазер.
– Хватит! Мало того, что вы доведете меня до безумия, вы хотите нас всех растоптать! Это нелепо, подло!
И она разражается рыданиями, которые делают ее неотразимой, и после часа, потраченного на слезы и обвинения, я в конце концов все обещаю, сдаю все свои позиции, хоть и злюсь на это деспотическое существо и проклинаю прозрачные, как хрусталь, капли, которые безгранично расширяют власть ее гипнотизирующих глаз.
Конечно, она сильнее, чем мы оба, вот она и куражится над нами, пока мы окончательно не потеряем своего лица. Чего ради она заставляет нас идти на эту фальшивую мировую? Она просто боится, что между соперниками начнется борьба не на жизнь, а на смерть, и, видимо, опасается роковых для нее разоблачений. А на какую пытку она меня обрекла, заставив снова побывать в этом разоренном гнезде! Нет, она не знает пощады и всегда требует жертв. Жестокая эгоистка! Она взяла с меня клятву, что я буду отрицать преступную связь барона с кузиной и свидетельствовать чистоту их отношений.
Я отправился на это последнее свидание с тяжелым сердцем, едва держась на ногах. Сад выглядел так же, как в те дни, расцвела вишня, забелели нарциссы.
Деревья, на фоне которых она некогда явилась мне как волшебное видение, снова покрылись листьями, вскопанные грядки исполосовали газон траурными лентами, и я представил себе, как одиноко здесь гулять девочке, кинутой родителями на попечение равнодушной няньки. Девочка вырастет, начнет все понимать и в один печальный день узнает, что родная мать бросила ее на произвол судьбы!
Я поднимаюсь по лестнице этого рокового дома, стоящего на обрыве песчаного карьера, и в душе моей оживают горькие детские воспоминания. Дружба, кровное родство, любовь – все попрано. И дом этот стал прибежищем супружеской неверности, странным образом в нем узаконенной. Кто в этом виноват?
Дверь мне открывает баронесса и в тени драпировки тайком, перед тем как ввести в гостиную, целует меня. Я ненавижу ее в эту секунду и с негодованием отталкиваю. Грязные сцены в подворотне – вот что напоминает мне это, и просто сердце сжимается от отвращения. Таиться за дверью! Что за падшая женщина, у которой нет ни гордости, ни достоинства!
Мария делает вид, что принимает мое движение за страх, и приглашает в гостиную как раз в тот момент, когда унизительность ситуации становится мне все более очевидной и я решаю бежать прочь. Но она останавливает меня, взглядом подчиняет себе, и я, парализованный ее уверенностью, сдаюсь.
В гостиной все свидетельствует о разладе между супругами. Повсюду валяется белье, платья, юбки, какие-то тряпки. На рояле я вижу рубашки, отделанные кружевами, так хорошо мне знакомые, а на бюро – целую стопку панталон и чулок, которые некогда заставляли меня трепетать, а теперь лишь вызывают чувство стыда. Она ходит взад-вперед, сортирует, складывает, пересчитывает, нимало не смущаясь при этом.
«Неужели это я ее так быстро развратил?» – спрашиваю я себя, глядя, как она выставляет напоказ то, что честная женщина должна скрывать.
Она все перебирает, выискивая вещи, требующие починки. Из стопки панталон она вытаскивает те, у которых оторваны тесемки, и, как ни в чем не бывало, откладывает в сторону. Но я-то их хорошо помню, ибо сам разорвал в ту первую ночь, когда потерял голову от возбуждения.
Мне казалось, что я присутствую при казни, я терпел чудовищные муки, но Мария держалась твердо и слушала, как ни в чем не бывало, мою пустую болтовню в ожидании появления барона, который, запершись в столовой, что-то писал.
Наконец дверь отворилась, я вздрогнул – на пороге стояла девочка. И волнение мое, отнюдь не убывая, сразу приняло несколько иной характер. Дочь Марии, в сопровождении их болонки, явилась узнать, что же все-таки происходит в доме. Увидев меня, она подошла ко мне и, как обычно, подставила лобик для поцелуя. Я, конечно, поцеловал ее, но тут же, будучи не в силах сдержаться, обратился к ее матери и сказал ей прерывающимся от гнева голосом:
– Не могли бы вы избавить меня от этой пытки?
Баронесса явно ничего не понимала.
– Мама уезжает, детка, но она скоро вернется и привезет тебе игрушек.
Собачка тоже ластится ко мне. И она! Наконец появляется барон. Разбитый, согбенный, он дружески улыбается мне, молча Пожимает мою руку, у него нет сил говорить, и я тоже молчу, Уважая его горе и понимая всю непоправимость случившегося. Засим он удаляется.
Сгущаются сумерки, появляется служанка и, не здороваясь со мной, зажигает лампы. Когда подают ужин, я поднимаюсь, чтобы уйти. Но барон просит меня остаться, причем так искренне, что я соглашаюсь.
И вот мы снова сидим за столом втроем, как прежде. Как торжественны эти незабываемые минуты! Мы обо всем говорим и спрашиваем себя: кто же виноват в том, что случилось? Да никто, видно, так захотела судьба, просто так сложились обстоятельства в результате целого ряда причин. Мы пожимаем друг другу руки, чокаемся и, как и прежде, заявляем, что мы друзья навек. Только баронесса сохраняет спокойствие, строит планы на следующий день, договаривается о совместных прогулках по городу, уточняет нашу встречу на вокзале, и мы оба готовы выполнить все ее распоряжения.
В конце концов я встаю. Барон провожает нас в гостиную, там он вкладывает руку баронессы в мою и говорит глухим голосом:
– Будь ее другом, когда моя роль завершится. Береги ее, защищай от враждебного мира, помоги расцвести ее таланту, ведь тебе это легче сделать, чем мне, бедному солдату, и да поможет вам бог на вашем пути.
Барон уходит, оставив нас вдвоем, и притворяет за собой дверь.
Был ли он искренен? Я верил в это в тот момент, да и теперь не хотел бы в этом сомневаться. Ведь у него было чувствительное сердце, он был привязан к нам и искренне не хотел, чтобы мать его дитяти оказалась в руках врага.
Вполне возможно, что позже, попав под дурное влияние, он и хвастался, что тогда обвел нас вокруг пальца. Но это явно не соответствовало его характеру в годы нашей дружбы. А задним числом каждый боится, как бы не подумали про него, что он некогда остался в дураках.
Итак, в шесть часов вечера я вошел в зал ожидания Центрального вокзала. Поезд на Копенгаген уходил в шесть пятнадцать, но ни баронессы, ни барона еще не было видно.
Начался последний акт нашей ужасной драмы, и я с бешеной радостью предвидел ее скорый финал. Еще четверть часа – и наступит вожделенный покой. Мои нервы, расстроенные всеми этими сценами, жаждали успокоения, и я надеялся, что эта ночь поможет мне восстановить нервные ткани, растраченные впустую благодаря ловкости и хитроумию этой женщины.
Наконец она появляется, всклокоченная, неряшливо одетая, задыхающаяся от усталости. Конечно, баронесса в своем репертуаре – как безумная, она кидается ко мне.
– Предатель, он не сдержал своего слова! Он не приедет! – воскликнула она так громко, что привлекла внимание вокзальной толпы.
Хоть все это и было весьма прискорбно, но тем не менее я испытывал уважение к этому человеку и, дав волю духу противоречия, резко ответил:
– И правильно сделает! У него есть все основания так поступить.
– Если вы немедленно не возьмете билета до Копенгагена, – воскликнула она, – то я останусь!
– Нет! – ответил я. – Если я уеду с вами, это будет считаться похищением, и завтра весь город заговорит об этом.
– Мне нет до этого дела! Быстрее!
– Нет! Не пойду!
В эту минуту, кроме неприязни, я испытывал к ней глубокую жалость. Ее положение и в самом деле было ужасное, а тут еще ссора, готовая разразиться, ссора между любовниками!
Но она взяла меня за руки, пристально посмотрела мне в глаза, и лед растаял. Волшебница околдовала меня, и воля моя оказалась сломленной.
– Но только до Катринхольма! Умоляю.
– Хорошо!
А она поспешила сдать багаж.
Увы, все было потеряно, даже честь, впереди меня ждала еще одна ночь пыток.
Поезд трогается, мы сидим вдвоем в купе первого класса. Решение барона не прийти на вокзал подавило нас. Возникла непредвиденная опасность, и она не предвещала ничего хорошего. Мучительное молчание затягивается, каждый ждет, чтобы другой начал разговор. Наконец она разражается первой:
– Ты меня больше не любишь!
– Быть может, – отвечаю я, сам ошеломленный результатами прошедшего месяца.
– А я всем пожертвовала ради тебя.
– Не ради меня, а ради своей любви! К тому же я жертвую тебе свою жизнь. Ты сердишься на Густава, облегчи свою душу, ругая меня, но не безумствуй.
Она плачет, плачет. Вот так свадебное путешествие! Я ожесточился, влез в свой железный панцирь, стал бесчувственным, жестким, непроницаемым.
– Умерь свои чувства! Ибо отныне тебе придется стать разумной. Плачь сколько хочешь, излей все свои слезы, а затем выпрямись! Ты – дура, а я тебя обожал, как королеву, как существо высшего порядка, и во всем безоговорочно слушался, потому что считал себя более слабым. Не доводи же до того, чтобы я начал презирать тебя. Никогда не сваливай всю вину на меня одного! Как восхитился я вчера умом Густава, потому что он понял, что большие события жизни людей нельзя объяснять единственной причиной. Кто виноват во всем? Ты, и я, и он, и она, и грозящее разорение, и твое увлечение театром, и эрозия матки, и то наследство, которое ты получила от трижды разводившегося деда, и страх твоей матери перед беременностью, из-за которого получилась столь нерешительная натура, и безделье твоего мужа, профессия которого оставляет ему слишком много свободного времени, и мои инстинкты выходца из низшего сословия, и своеобразие характера одной финской барышни, которая толкнула меня к тебе, – одним словом, есть несметное число скрытых причин, лишь малую часть которых я чуть-чуть приоткрыл. Не опускайся до черни, которая завтра будет тебя однозначно осуждать, не веди себя как идиотка, которая воображает, будто решила сложный вопрос, оплевав и свой адюльтер, и гнусного соблазнителя. Неужели ты считаешь, что я тебя действительно соблазнил? Будь хоть раз искренней с самой собой, да и со мной, когда мы одни, без свидетелей.
Но нет, она не хочет быть искренней. Не может, потому что это против природы женщины. Она чувствует себя соучастницей, ее мучают угрызения совести, и она хочет освободиться от этого груза, переложив все на меня!
Я ей не мешаю, но отгораживаюсь тягостным молчанием. Наступает ночь. Я опускаю стекло в окне и гляжу, как проносятся мимо ряды сосен, за которыми вскоре появится луна. Я вижу то озеро, окруженное березками, то ручей, проложивший себе путь в ольшанике, поля пшеницы, луга и снова сосновый бор… Вдруг меня охватывает безумное желание выпрыгнуть из вагона, бежать из этого застенка, в который меня заточила колдунья, сковав по рукам и ногам. Ответственность за ее будущее мучает меня, как настоящий кошмар. Я понимаю, что отныне отвечаю за жизнь этой чужой мне женщины, ее будущих детей, ее матери, ее тети, за весь род ее во веки веков. Я займусь устройством ее театральной карьеры, я перестрадаю вместе с ней все ее страдания, все разочарования, все неудачи, и настанет день, когда она выкинет меня на помойку, как выжатый лимон. За любовь, которую я ей дарю и которую она принимает, я заплачу всей своей жизнью, своим мозгом, своей кровью, и при этом она еще воображает, будто всем пожертвовала ради меня! Любовная галлюцинация, гипнотизм инстинкта воспроизводства!
Она дуется на меня до десяти вечера. Еще час – и нам пора будет проститься.
Тогда, извинившись и сославшись на крайний упадок сил, она кладет ноги на подушку моего сидения. Я же сохранял все это время полное хладнокровие и был неприступен, как скала, несмотря на ее красноречивые взгляды, закатывающиеся глаза, слезы, словесную паутину, которой она меня опутывала, но как только я увидел ее крошечный башмачок и полоску чулка над ним, правда совсем узенькую, я рухнул.
На колени, Самсон! Рассыпь свои волосы по ее бедрам, прижмись к ним щекой, умоляя простить тебя за сказанные суровые слова – она все равно ничего не поняла! – отрекись от разума, от самого себя и люби ее, жалкий раб! Ты пасуешь перед белым чулком, а считаешь, что способен перевернуть мир. Она любит тебя, только когда ты предстаешь перед ней в жалком виде, она покупает тебя за минуту восторгов, которые она тебе обеспечивает без особого труда для себя, ни от чего ради этого не отказываясь, исторгая из тебя каплю твоей свежей крови!
Паровозный свисток, вот станция, где мы должны проститься. Она целует меня, как заботливая мама, осеняет крестные знамением, хоть она и протестантка, вверяет меня божьему милосердию, умоляет следить за собой и утешиться.
И поезд исчезает в ночи, обдав меня облаком угольного дыма.
Я вдыхаю – наконец-то! – свежий воздух ночи и свободу. Но только на мгновение! Уже в деревенской гостинице меня начинает мучить раскаяние. Я люблю ее, люблю такой, какой она была в минуту прощания, вызвав у меня воспоминания о первых наших встречах. Женщина-мать, мягкая, ласковая, которая меня нежит, лелеет, как младенца.
И вместе с тем я ее люблю как женщину и желаю со всей страстью.
Что это, душевная аномалия? Или каприз природы? Не порочны ли мои чувства, раз я хочу обладать той, которая обращается со мной как со своим ребенком? Не толкает ли меня мое сердце на инцест?
Я прошу дать мне перо и бумагу, и я пишу ей письмо, которое заканчивается молитвой за ее будущее потомство.
Ее последние объятия вернули меня даже к господу богу, память о ее поцелуях, увлажнивших мои усы, заставила меня отречься от сухой веры в прогресс.
Вот вам и первый этап деградации человеческой личности, за ним последуют и другие, которые приведут эту личность к полному отупению, на грань безумия.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
На следующий же день после отъезда в Копенгаген весь город уже говорил о похищении баронессы секретарем Королевской библиотеки. Именно этого и следовало ожидать, опасаться, избежать любой ценой, чтобы не погубить ее репутации, но все сорвалось из-за ее минутной слабости. Она все испортила, а мне теперь предстояло расплачиваться за ею содеянное и по возможности устранить последствия этой эскапады особенно пагубные для ее театральной карьеры, поскольку для нее речь могла идти только об одной сцене, а дурные нравы, отмеченные в досье, не очень-то способствуют ангажементу в королевский театр.
Чтобы иметь алиби, я, едва вернувшись в Стокгольм, под первым попавшимся предлогом отправился ни свет ни заря с визитом к директору библиотеки, который был нездоров и не выходил в тот день из дому. Потом я прогулялся по центральным улицам и вовремя явился на работу. Вечером я побывал в клубе журналистов и пустил слух о разводе баронессы из-за ее намерений стать актрисой, уверяя всех, что история эта вполне невинная, что супруги в прекрасных отношениях и расстаются только из-за социальных предрассудков.
Если бы я знал тогда, какие неприятности я себе уготовил, пуская слух о невиновности баронессы, я бы, конечно… поступил точно так же.
Газеты тут же публикуют сообщение об этом в отделе происшествий, но публика как-то не поверила в такую безоглядную любовь к искусству, которое, уж во всяком случае в кругу актрис, не очень-то высоко ставится. К тому же брошенный ребенок, как темное пятно, портил всю картину, и женщины не клюнули на приманку.
Тем временем я получаю письмо из Копенгагена. Это крик отчаяния! Она терзается угрызениями совести, тоскует по ребенку и требует, чтобы я немедленно к ней приехал, потому что ее родственники ее мучают и, вступив, как она подозревает, в сговор с бароном, препятствуют отправке акта, необходимого для развода.
Я твердо отказываюсь ехать в Копенгаген, зато пишу, разгневавшись, угрожающую записку барону, который отвечает мне высокомерным тоном, что приводит к нашему окончательному разрыву.
Я отправляю телеграммы, одну, другую, и порядок восстанавливается. Завизированный акт находят, и бракоразводный процесс идет своим чередом.
Я провожу все вечера, составляя для нее подробнейшие инструкции, как ей надо себя вести, чтобы избежать неприятностей, советую заниматься, изучать актерское искусство, ходить побольше в театры и, чтобы заработать немного денег, писать рецензии на спектакли, которые я берусь публиковать у нас в уважаемой газете.
Ответа нет, из чего я делаю заключение, что мои советы плохо приняты этим независимым умом.
Проходит целая неделя, полная тревоги, забот, работы, прежде чем я получаю письмо из Копенгагена, которое мне приносят утром, когда я еще лежу в постели.
Она спокойна, весела и не скрывает, что гордится той мужской стычкой, которая произошла между бароном и мною, и так как каждый из нас послал ей копию написанных писем, она может о них судить. Она восхищается стилем барона и моим мужеством. «Как жаль, – добавляет она, – что вы двое, оба такого закала, не хотите остаться добрыми друзьями». Потом она рассказывает о своих развлечениях. Она старается не скучать, ходит в артистические клубы, что мне совсем не нравится. Была она и в варьете в обществе молодых мужчин, которые за ней ухаживают, и покорила одного молодого музыканта, порвавшего со своей семьей из-за своего артистического призвания. Поразительное соответствие с ее судьбой! За этим следовала подробная биография юного мученика и просьба (адресованная мне) не ревновать!
«Что все это значит?» – думаю я, убитый тоном этого письма, одновременно и сердечного и издевательского, как будто написанного во время выпивки.
Не принадлежит ли эта холодная и сладострастная мадонна к числу распутниц по крови? Кокетка, кокотка!
Я устраиваю ей настоящий нагоняй, не жалея красок, называю ее госпожой Бовари, умоляю пробудиться от этого гибельного сна, ибо она на краю бездны.
В ответ, как признак высшего доверия, она посылает мне письма, которые получила от юного энтузиаста. Любовные письма! Все та же старая игра словом «дружба», «необъяснимая близость Душ», весь репертуар используемых в таких случаях формулировок, к которому прибегали и мы сами в свое время. «Брат и сестра», «мамочка», «товарищи» и все остальное, чем прикрываются влюбленные до того дня, как начинают играть в животное о двух спинах.
Просто невозможно в это поверить! Сумасшедшая, бессознательная негодяйка, которая ничему не научилась за те два ужасных месяца нечеловеческой пытки, когда сердца троих людей жарились на медленном огне! А я, превращенный в козла отпущения, в подставное лицо, я из кожи вон лезу, чтобы проложить ей дорогу к неправедной жизни комедианток.
Новое страдание! Та, которую я обожал, окажется смешанной с грязью!
И тут меня охватила невыразимая жалость, я предчувствовал, какое будущее ожидает эту порочную женщину, и я дал себе клятву, что вытащу ее из омута, поддержу, спасу от падения, не пожалев на это своих последних сил.
Ревнивец! Какое гнусное слово, придуманное женщиной, чтобы сбить с толку обманутого мужчину или того, кого она собирается обмануть. Она ему неверна, а как только муж проявляет малейшее недовольство, она ослепляет его этим словом: ревнивец. Ревнивый муж, обманутый муж. Подумать только, что есть женщины, которые пытаются отождествить ревность с бессилием, чтобы обвести мужа вокруг пальца, чтобы муж закрыл глаза, и в самом деле бессильный бороться с такого рода упреками.
Недели через две она возвращается. Красивая, свежая, сияющая, полная радостных воспоминаний, поскольку она там веселилась! В ее обновленном гардеробе я вижу чрезмерно модные вещи экстравагантных цветов, на грани дурного вкуса. Из просто, но элегантно, изысканно одетой дамы она превратилась в даму, привлекающую всеобщее внимание.
Встреча наша получилась более холодной, чем мы ожидали. И после тягостного молчания разразилась сцена.
Поклонение ее нового друга придало ей силы, она разыгрывает из себя гордячку, задирает меня, дразнит. Потом, разложив на моем просиженном диване подол своего роскошного платья, она прибегает к своему излюбленному приему, и наша ненависть разряжается в бурных объятиях, однако не до конца, и тут же начинаются взаимные оскорбительные обвинения. Раздосадованная моим неумеренным темпераментом, не соответствующим ее ленивой натуре, она начинает плакать.
– Как ты можешь думать, – восклицает она, – что я играю этим юношей! Я ведь обещаю тебе никогда ему не писать, хотя и даю этим повод упрекнуть меня в невежливости.
Невежливость! Одно из ее главных слов! Мужчина ухаживает за ней, или, говоря иначе, делает ей авансы, и она их принимает из страхи прослыть невежливой. Вот плутовка!
О, горе мне! Она купила себе новые башмачки, совсем крошечные, и я снова в ее власти. Проклятье! Она надела черные чулки, и от этого икры ее кажутся более выпуклыми, а колени, живые белые колени оттенены этим как бы траурным крепом, эти черные ноги в кипении белых воланов нижних юбок могли принадлежать только дьяволице! Они словно две стройные траурные колонны, стоящие у входа в склеп, в котором я жажду похоронить миллионы моих животворных ферментов, квинтэссенцию моей крови.
Чтобы вторгнуться безо всяких помех в эту слиянность неба и ада, я отдаю себя в рабство ее величеству Лжи. Устав от ее вечного ужаса перед последствиями, я начинаю врать. После тщательных поисков в ученых книгах я наконец разгадал тайну обмана естества. Я настойчиво рекомендую ей некоторые меры предосторожности, уверяя, что к тому же обладаю неким органическим дефектом, который делает меня не то чтобы совсем бесплодным, но во всяком случае малоопасным. В конце концов я сам в это начинаю верить, и она больше не ограничивает моей свободы, поскольку все равно расплачиваться за все фатальные последствия нашей близости пришлось бы мне.
Поселилась она в квартире матери и тетки, на втором этаже дома, расположенного на одной из самых оживленных улиц города. Меня там принимали только потому, что в противном случае дочь грозила навещать меня в моей мансарде. Признаться, мне было не очень приятно быть под надзором у этих двух старых дам, которые во время моего визита все время находились где-то рядом.
Теперь мы оба начали понимать, что мы потеряли. Она была баронессой, супругой и хозяйкой дома, а теперь ее понизили до уровня девочки, которая пребывает под попечительством матери, и заперли в четырех стенах. И каждый день мать ей твердит, что сумела обеспечить дочери приличное положение в обществе, в то время как дочь вспоминает о том счастливейшем часе, когда ее молодой супруг освободил ее из материнской тюрьмы. В результате то и дело вспыхивали ссоры, лились слезы и говорились друг другу горькие слова, которые вечером, когда я заявлялся к ней с визитом, рикошетом били в меня. Свидание с заключенной при надзирателях за дверью.
Когда же мы уставали от этих мучительных разговоров с глазу на глаз, мы назначали свидание в городском парке, но и это постепенно становилось все более тягостным, потому что мы то и дело ловили на себе презрительные взгляды прохожих. Весеннее солнце, освещавшее всю безвыходность нашего положения, становилось нам отвратительным. Мы жаждали мрака, мечтали о зиме, чтобы скрыть свой позор, но, увы, надвигалось лето с его белыми ночами!
Постепенно все наши знакомые начали нас избегать. Даже моя сестра, испугавшись нарастающей волны сплетен, в конце концов порвала с нами. Во время нашего последнего ужина в ее Доме, когда кроме нас было еще несколько гостей, бывшая баронесса, чтобы почувствовать себя уверенней, стала пить и, конечно, опьянела, произнесла какую-то нелепую речь, потом закурила и всем своим поведением вызвала отвращение у замужних женщин и презрение у мужчин.
– Из таких вот и получаются шлюхи, – конфиденциально шепнул один почтенный отец семейства моему зятю, который поспешил мне это передать.
Когда нас пригласила сестра в следующий раз, а это, как сейчас помню, был воскресный вечер, мы пришли точно в назначенное время, но служанка сообщила нам, что господ нет дома, что они сами ушли в гости. Это было настоящей пощечиной, и вы легко можете себе представить наши чувства… Большего унижения нельзя было и вообразить. Мы провели этот воскресный вечер запершись в моей мансарде, плакали от отчаяния и собирались покончить жизнь самоубийством. Я задернул занавески, чтобы не видеть дневного света, мы дожидались, пока стемнеет, не хотели до этого выходить на улицу, а в это время года солнце поздно садится. Часов в восемь вечера нас начал мучить голод. Дома не было никакой еды, и выпить было нечего, и ни гроша в кармане ни у меня, ни у нее. Возникло какое-то предчувствие грядущей нищеты, и эти несколько часов были едва ли не худшими в моей жизни. Взаимные упреки, вялые поцелуи, бесконечные слезы, угрызения совести, чувство опустошения.
Я умолял ее пойти домой ужинать, но она теперь боялась солнечного света да и не решалась вернуться раньше времени, поскольку мать знала, что ее пригласили на ужин. Она ничего не ела с двух часов дня, и от печальной перспективы лечь спать натощак лютый голод терзал ее все больше. Воспитанная в богатом доме, привыкшая с детства к роскоши, она даже не представляла себе, что такое бедность, и поэтому все больше теряла самообладание. Я же с детства привык к голоду, но ужасно страдал от того, что обожаемая мною женщина оказалась в таком бедственном положении. Я обшарил шкаф, но ничего не нашел, потом стал рыться в ящиках секретера и нашел там, среди различных памятных мне вещиц, увядших цветов, любовных записочек, выцветших лент, две конфетки, которые я хранил в память о похоронах, уж не помню, чьих именно. Я подал ей эти леденцы, завернутые в черную с серебряной каймой бумажку – цвета катафалка. Какое зловещее угощение предложил я своей возлюбленной!
Подавленный, просто уничтоженный, я не помнил себя от отчаяния, но вместе с тем я был в бешенстве и метал громы и молнии против так называемых честных женщин, которые захлопнули перед нами дверь, изгнали нас из своей среды.
– Почему они окружают нас презрением и ненавистью? Разве мы совершили преступление? Разве мы повинны в прелюбодеянии? Нет! Речь идет всего лишь о разводе, честном, дозволенном, в полном соответствии со всеми существующими законами!
– Мы были чересчур честны, – утешала она себя, – а общество состоит из одних прохвостов. Прелюбодеяние, которое свершается нагло, на глазах у всех, люди готовы терпеть, но развод – нет! Хороша мораль!
Тут мы сошлись в мнениях. И все же от преступления нам некуда было деться, оно витало над нашими головами, склонившимися в ожидании удара дубинкой.
Я чувствовал себя как мальчишка, разоривший птичье гнездо-Мать унесли, и птенец валялся на земле, жалкий комочек, которого лишили материнского тепла. А отец! Как одиноко должно быть отцу в этом разоренном гнезде в такой вот воскресный вечер, когда семья обычно собиралась вокруг очага. Один в гостиной, где молчит рояль, один в столовой, где он ужинает в полном одиночестве, один в спальне…
– Нет! – прервала она меня. – Есть все основания полагать, что он сейчас, примостившись на диване у камергера, дяди кузины, пожимает руки своей Матильде, этой бедной оклеветанной девочке, и смакует самые невероятные рассказы о дурном поведении своей недостойной жены, которая почему-то не могла привыкнуть к гаремной жизни. Причем оба они, и оплывший, пресыщенный Густав, и Матильда, пользующаяся симпатией и сочувствием лицемерных людей, первые бросят в нас камень!
Обдумав все как следует, я тут же пришел к выводу, что барон водил нас за нос, что он преднамеренно отделался от старой жены, чтобы взять себе новую, и что приданое досталось ему не по праву. Но тогда она запротестовала:
– Не говори о нем худо! Во всем виновата я!
– А почему не он? Что, его личность священна?
Похоже, что да. И заметьте, стоило мне на него напасть, как она решительно вставала на защиту.
Уж не что-то ли вроде франкмасонства связывает ее с бароном? Либо в их интимной жизни были секреты, тайны, из-за которых она боится сделать этого человека своим врагом? Это так и осталось для меня неясным, как и ее непоколебимая верность своему прошлому с бароном, несмотря на все его дальнейшие предательства.
Солнце в конце концов все же село, и мы расстались. Я спал неспокойным сном голодного человека, и мне снилось, что я хочу улететь на небо, но не могу, потому что на шее у меня висит мельничный жернов.
События нарастали. Обратились к директору театра, чтобы получить разрешение на дебют для госпожи К., и он будто бы ответил, что театр не может иметь дело с женщиной, покинувшей свой семейный очаг.
Все рухнуло! Выходит, что после года, потраченного на подготовку дебюта, эту женщину без всяких средств к существованию попросту выбросят на улицу! И я, бедный как цыган, должен попытаться ее спасти.
Чтобы проверить, справедливо ли это ужасное известие, она отправилась с визитом к своей подруге, знаменитой драматической актрисе, с которой она прежде часто встречалась в свете и которая всячески заискивала перед белокурой баронессой, этим «маленьким эльфом».
Знаменитая актриса, погрязшая в расчетливом пороке при Живом муже, приняла честную грешницу самым оскорбительным образом и указала ей на дверь!
И это пришлось стерпеть!
Оставалось только одно – любой ценой взять реванш. – Что ж, стань писательницей! – говорил я ей. – Пиши пьесы и сделай так, чтобы их играли на этой самой сцене. Зачем опускаться, когда можно подняться! Брось эту комедиантку к своим ногам, одним рывком возвысившись над нею. Разоблачи это лживое, лицемерное, порочное общество, которое, открывая двери своих гостиных для шлюх, закрывает их для разведенной женщины! Вот прекрасная тема для пьесы.
Но Мария, увы, из числа тех бесхребетных, впечатлительных натур, у которых нет сил отражать удары…
– Никакой мести!
Трусливая и мстительная одновременно, она полагала, что месть – это дело бога, а всю ответственность взваливала на подставное лицо.
Но я не отступил, и тут мне пришел на помощь счастливый случай: один издатель предложил мне обработать тексты для детской книжки с картинками.
– Вот приведи в порядок эти тексты, – сказал я ей, – и ты тут же получишь сто франков.
Я принес ей кипу разных книг, чтобы у нее сложилось впечатление, что она в самом деле сделала эту работу, и она получила свои сто франков. Но какой ценой мне это далось! Издатель потребовал, чтобы на книжке с картинками стояло мое имя. И это после того, как я уже дебютировал в качестве драматурга. Литературная проституция! Какие сладостные минуты пережили мои литературные враги, которые поклялись, что я бездарность.
Вслед за этим я заставил ее написать корреспонденцию в утреннюю газету. Она с этим справилась весьма посредственно, однако письмо все же было напечатано, но газета отказалась платить гонорар. Я бегал по городу, чтобы достать луидор, и, не стыдясь святого обмана, вручил ей его «по поручению редакции»!
Бедная Мария, как она радовалась, отдавая эти жалкие заработанные гроши несчастной матери, у которой дела обстояли столь плачевно, что она была вынуждена не только сократить свои расходы, но и сдавать меблированные комнаты.
Старухи начали поглядывать на меня как на спасителя и, вытащив из ящика переводы пьес, уже отвергнутые всеми театрами, стали меня уверять, что я в состоянии изменить решение директоров. Так на меня свалилось столько невыполнимых поручений, что они отнимали все мое время, и мне уже грозила настоящая нищета. Итак, мои денежные дела окончательно запутались из-за потери времени и ежедневной неразумной траты нервов, так что в конце концов мне пришлось отказаться от обеда, и я вернулся к своей старой привычке ложиться спать не поужинав.
Тем временем Мария, ободренная своими материальными успехами, взялась за сочинение пятиактной пьесы. Мне казалось, что я передал ей все семена своих поэтических вдохновений и, пересаженные в эту нетронутую почву, они принялись, проросли, а я стал бесплодным, подобно цветку, который, разбрасывая свои семена, увядает. Я был на пороге смерти, выпотрошен, и мой мозг перестал работать, прилаживаясь к механизму мелкого женского мозга, устроенного совсем иначе, чем у мужчины. Я не могу в точности сказать, что именно заставило меня переоценить литературные способности этой дамы и направить ее по пути сочинительства, ведь кроме писем, иногда искренних, но часто вполне посредственных, я не читал ни строчки, написанной ее рукой. Она становилась чем-то вроде моей живой поэмы, я израсходовал на нее весь свой талант, а сам остался ни с чем. Ее личность срослась с моей, привилась к ней, как черенок к фруктовому дереву, и стала просто чем-то вроде моего нового органа. Отныне я существовал только через нее, я, так сказать, материнский корень этого растения, влачил свое жалкое подземное существование, питая стебель, поднимавшийся к солнцу, чтобы на нем расцвел прекрасный цветок, который будет меня восхищать своим великолепием, и при этом я забывал, что настанет день, когда черенок этот вдруг отделится от истощенного ствола и начнет кичиться позаимствованной у меня статью.
Как только она закончила первый акт пьесы, я прочел его и нашел превосходным, причем вовсе не в силу своего пристрастия. Я тут же выразил свое восхищение автору и горячо поздравил ее с таким успехом. Она сама была удивлена своим талантом, я ей рисовал блестящие перспективы ее писательской карьеры, но тут вдруг произошло некоторое изменение в наших планах. Мать Марии вспомнила про одну свою подругу, художницу, хозяйку великолепной помещичьей усадьбы, очень богатую женщину. Художница эта дружила, что было в данном случае самым важным, с ведущим актером королевского театра и с его женой, причем оба они были отъявленными врагами и соперниками той знаменитой актрисы, к которой ходила Мария.
По настоянию этой незамужней помещицы, взявшей на себя моральную ответственность за свою подопечную, актерская чета согласилась заняться подготовкой Марии к дебюту. А для начала Марию пригласили погостить две недели в этой усадьбе, где она и встретится с ведущим актером и его женой. И тут выяснилось, что они уже разговаривали с директором, который – о счастье – благоприятно отнесся к дебюту Марии, а дурные слухи, ввергшие нас в отчаяние, распространяла, оказывается, сама мать Марии в надежде отвадить дочь от сцены.
Итак, Мария была спасена. А я снова начал дышать, спать, работать. Она отсутствовала две недели и, судя по ее редким письмам, не скучала. Она подверглась там домашнему экзамену, друзья-артисты прослушали ее и сочли, что у нее есть данные для сцены.
Вернувшись из усадьбы, она сняла в деревне, под Стокгольмом, комнату у крестьянки, которая ее и кормила. Таким образом, она освободилась из под надзора старых дам и могла свободно, без свидетелей и ограничений, встречаться со мной по субботам и воскресеньям. Жизнь нам наконец улыбнулась, хотя раны, нанесенные, только что пережитым, еще не затянулись, но на лоне природы Меньше чувствуешь давление социальных условностей, и летом, под лучами солнца, мрак в душе быстрее рассеивается.
Наконец в начале осени было объявлено о дебюте Марии. Поскольку ее имя на афише было окружено именами двух самых знаменитых артистов, то все сплетни разом прекратились. Правда, роль знатной дамы в этой затасканной комедии мне решительно не нравилась. Однако новый наставник Марии твердо рассчитывал на то, что она вызовет симпатии публики, когда откажет в руке маркизу, вознамерившемуся украсить ею свой салон, предпочтя этому титулованному прощелыге бедного юношу, но с золотым сердцем.
Как только я был отстранен от должности, так сказать, театрального педагога, у меня сразу образовалось достаточно времени, чтобы заняться наукой, и я стал писать работу для какой-нибудь академии, дабы оправдать надежды, которые коллеги возлагали на меня как на эрудита библиотекаря и ученого. С необычайным рвением я углубился в этнографические исследования Дальнего Востока, и эти занятия были чем-то вроде опиума, успокаивающего мою бедную голову, истерзанную боями, которые мне пришлось вести все последнее время, злонамеренной клеветой и всяческими страданиями. Движимый честолюбивым желанием стать кем-то, чтобы соответствовать любимой женщине, которой, казалось, теперь уж наверняка уготована блестящая карьера, я проявлял чудеса усидчивости, с раннего утра до позднего вечера не выходил из библиотеки и был готов терпеть всяческие лишения, не обращая внимания ни на холодный сырой воздух подвалов Королевского дворца, ни на постоянное недоедание, ни на нехватку денег.
За несколько дней до того, как должен был состояться дебют Марии, умерла ее дочь от энцефалита. Месяц прошел в слезах, в упреках, в угрызениях совести.
– Вот расплата! – объявила бабушка, радуясь, что может вонзить ядовитый кинжал в сердце дочери, которой была не в силах простить, что та запятнала семейную честь.
Мария, не помня себя от горя, проводила дни и ночи у кроватки умирающей девочки в доме мужа, с которым была уже в разводе, под надзором своей бывшей свекрови. Бедный отец, потерявший свою единственную радость, был убит горем, и ему захотелось увидеть своего бывшего друга, чтобы воскресить в памяти прошлое со свидетелем тех безмятежных дней. И вот однажды вечером, вскоре после похорон девочки, прислуга сказала мне, когда я пришел домой, что ко мне заходил барон и просил прийти к нему.
Так как я решительно не хотел возобновлять отношения, которые были порваны оскорбительным для меня образом, я написал записку, в которой очень вежливо и деликатно, но при этом весьма решительно отказался от приглашения.
Четверть часа спустя явилась Мария в трауре и, обливаясь слезами, заставила меня выполнить просьбу барона, который был в таком отчаянии.
Считая, что брать на себя эту миссию было с ее стороны безвкусно, я продолжал отказываться, ссылаясь на общественное мнение и на то, что такой визит дает повод к кривотолкам. Она в ответ стала меня обвинять в том, что я потакаю предрассудкам, и, взывая к моему великодушному сердцу, умоляла меня уступить барону, так что в конце концов мне пришлось сдаться.
Я в свое время поклялся, что никогда больше не переступлю порога старого дома, где развернулась вся наша драма. Но оказалось, что барон переехал на другую квартиру, расположенную по соседству с моей мансардой и в двух шагах от комнаты, которую снимала Мария, так что мне не пришлось поступиться предубеждением, которое у меня было против старого дома супругов, не пришлось сопровождать бывшую жену туда, где она прожила столько лет со своим бывшим мужем.
Траур, горе, строгая мрачная обстановка дома, где умерла девочка, сняли неловкость и фальшь нашей встречи. Давняя привычка видеть Марию и барона вместе убивала ревность, а деликатное и дружеское поведение барона создали спокойную непринужденную атмосферу. Мы вместе поужинали, выпили вина, а потом сели играть в карты, совсем как в доброе старое время.
На следующий день мы снова собрались, на этот раз у меня, а потом у Марии, которая, как я уже сказал, снимала комнату у одной старой девы. Постепенно возобновились прежние привычки, и Мария была счастлива, что мы так хорошо ладим. Ее это успокаивало, а так как все вели себя деликатно, никто никому не наносил душевных ран. Барон относился к нам как к тайно помолвленным, его любовь к Марии, казалось, уже умерла. Иногда он даже делился с нами своими любовными огорчениями: красавица Матильда была заточена в родительском доме и тем самым стала недостижимой для несчастного любовника. Мария даже забавлялась тем, что то дразнила его, то успокаивала. И он уже не пытался скрывать истинный характер своих чувств к Матильде, хотя прежде это отрицал.
Однако постепенно интимность наших отношений стала пугающей, и я начинал испытывать если не ревность, то во всяком случае какое-то отвращение. Однажды Мария предупредила меня, что не придет ко мне, потому что останется обедать у барона, с которым у нее были срочные дела, связанные с вхождением в наследство, оставшееся после смерти девочки, официальным наследником которой был отец. Я выразил свое недовольство по поводу этого бестактного поступка, ибо счел его почти неприличным. Она стала надо мной смеяться, поддевая меня: чего, мол, тогда стоит весь мой бунт против предрассудков, – и повернула дело так, что в конце концов мне ничего не оставалось, как тоже посмеяться. Конечно, это выглядит нелепо, странно, но зато какой «шик» вот так потешаться над общественным мнением, зная, что добродетель торжествует.
С того дня она стала ходить к барону одна, когда ей вздумается, и, как мне кажется, они забавлялись тем, что вместе разучивали ее роль.
До этого времени все обходилось безо всяких конфликтов, и под влиянием привычки и еще оттого, что ожило старое представление, будто они супруги, ревность моя рассеялась. Но вот однажды вечером Мария пришла ко мне одна. Я помог ей снять пальто, и она, в противовес своей привычке, долго оправляла юбку перед зеркалом, хотя прежде никогда этого не делала. Я хорошо разбираюсь во всех секретах дамской психологии и сразу почуял что-то неладное. Продолжая разговаривать со мной излишне оживленно, она села на диван напротив зеркала и все время исподтишка разглядывала в нем свое отражение, то и дело украдкой поправляя прическу.
Жестокое подозрение словно молния озарило мой мозг, и я не мог справиться с охватившим меня волнением.
– Где ты была?
– У Густава.
– Что ты там делала?
Она вздрогнула, но тут же взяла себя в руки и ответила:
– Читала свою роль.
– Врешь!
Она стала возмущаться моей нелепой ревностью, обрушила на меня гневный поток всяческих обвинений, и я сдался. К тому же она стала меня торопить, потому что мы были приглашены в тот вечер к барону, так что мне тогда так и не удалось ничего выяснить.
Однако теперь, вспоминая этот инцидент, я мог бы поклясться, что мои тогдашние подозрения были справедливыми, что она была повинна в двоемужии, и это еще самое невинное слово. Но она так ловко манипулировала словами, что ей тогда удалось меня загипнотизировать, и я дал себя обмануть.
Что же тогда произошло? Примерно следующее.
Она ужинала вдвоем с бароном. Потом выпила кофе с ликером и почувствовала усталость, как часто бывает после сытной еды. Барон предложил ей прилечь на диван, от чего она, к слову сказать, никогда не отказывается, а все последующее пошло как по писаному. То, что они вдруг снова оказались одни, привычное доверие друг к другу, общие воспоминания помогли бывшим супругам сделать последний шаг, тем более что им не надо было преодолевать чувство стыдливости. Барон после нескольких месяцев холостяцкой жизни быстро воспламенился, и тут все и произошло. Да и почему, собственно, ей было отказываться от наслаждения, которое никому не принесет ущерба, если никто, а особенно тот, кто имеет на нее какие-то права, ничего знать об этом не будет? Она вдруг почувствовала себя абсолютно свободной, особенно потому, что не была материально зависима от своего, так сказать, узаконенного любовника, а обмануть кого-либо женщине вообще ничего не стоит. К тому же, быть может, она еще и сожалела о потере мужчины, который за многолетнюю совместную жизнь вполне приноровился к ее потребностям. Вероятно также, что, удовлетворив свое любопытство со мной и сравнивая нас с бароном, она стала скучать по нему, потому что в любовном поединке человек застенчивый и деликатный, как бы он ни был страстен, всегда окажется в проигрыше. И вполне возможно, что она, столько лет делившая с ним супружеское ложе, тысячи раз раздевавшаяся перед этим человеком, которому все, что касается ее ног, тела и прочего, досконально известно, не откажется получить после обеда вдвоем еще и прекрасный десерт. Ведь она и вправду считала себя свободной от всех и всяческих обязательств перед кем бы то ни было, и ее чувствительное женское сердце не могло отказать тому, кто нуждался в ее нежности. И честное слово, на месте барона, если не обманутого, то, во всяком случае, оскорбленного мужа, я бы, черт подери, клянусь в этом всеми древними и новыми богами, не выпустил бы от себя любовницу своего соперника нетронутой, раз уж она оказалась в моей спальне.
И все же я не разрешил себе дать волю таким подозрениям, тем более что обожаемые губы все время произносили разные возвышенные слова типа: Честь, Честность, Нравственность и прочее. И если вы поинтересуетесь почему, то я разъясню вам, что женщина, которую любит человек чести, всегда возьмет над ним верх. Ведь человек этот льстит себя надеждой, что он у нее единственный, ибо мечтает быть единственным, а веришь обычно в то, во что хочешь верить.
Теперь я, правда, вспоминаю фразу, которую мне бросил тогда один человек, живший как раз в доме напротив новой квартиры барона. Сказал он мне эту фразу как бы без всякого повода, просто вдруг почему-то заметил, что иногда двое едят одно яблоко пополам. Тогда я не обратил никакого внимания на это глупое изречение, но почему-то оно мне запало в голову, и вот теперь, через двенадцать лет, я его вспомнил. Почему же, спрашиваю я себя, именно эта фраза запечатлелась в моей памяти, а не миллиарды других, которые я слышал тогда и давным-давно забыл?
Что и говорить, теперь справедливость ее кажется мне просто неправдоподобной, невероятной, невозможной!
Впрочем, когда я оставался с глазу на глаз с бароном, он всегда демонстрировал мне подчеркнутый интерес к продажным женщинам, а однажды, когда мы вместе обедали в ресторане, даже попросил меня дать ему адреса публичных домов. Не сомневаюсь: специально чтобы посмеяться надо мной.
Добавим к этому, что он стал себя вести с Марией по-новому, я бы сказал, с какой-то пренебрежительной игривостью, от которой незаметно стиралась грань между честной женщиной и кокоткой, а со мной в минуты интимной близости Мария становилась все более холодной.
Дебют наконец состоялся. Это был несомненный успех, однако сложился он из целого ряда обстоятельств. Прежде всего, публике интересно было посмотреть на баронессу, попавшую на подмостки. Симпатия, которую буржуа испытывали к Марии, была лишь обратной стороной их неприязни к дворянству, разрушившему брак из-за сословных предрассудков. Холостяки и бесполые девицы, все те, кто боролся с «рабством» брака, осыпали ее цветами. Не говоря уже о друзьях, родственниках и близких знаменитого актера, который ввел баронессу на сцену, все они чувствовали себя как бы соучастниками этой антрепризы.
После спектакля барон пригласил нас и квартирную хозяйку Марии к себе на ужин.
Мы все были возбуждены успехом Марии, и радость эта нас опьяняла. Мария, которая еще не разгримировалась и сидела с румянами на щеках, подведенными глазами и пышной прической, как у светской дамы, мне решительно не нравилась. Она уже не была той матерью-девственницей, которую я полюбил, а превратилась в хвастливую комедиантку со свободными, даже вульгарными манерами, повторяющую чужие слова и отталкивающую меня оскорбительным самодовольством.
Она, видимо, считала, что уже достигла вершины искусства, и на все мои замечания отвечала сочувственным тоном, пожимая плечами:
– Ты в этом ничего не понимаешь, малыш!
Барон был похож на неудачливого любовника. Он хотел во что бы то ни стало поцеловать ее, и только мое присутствие его остановило. Выпив немыслимое количество мадеры, он раскупорил свое сердце, выражая сожаление, что искусство, божественное искусство требует таких жестоких жертв!
Газеты, с которыми велись предварительные переговоры, отметили успех Марии, и теперь можно было надеяться, что она получит ангажемент.
Два фотографа оспаривали честь запечатлеть ее мизансцены, была даже напечатана ее краткая биография и посвященное ей эссе. Когда я смотрел на все эти снимки обожаемой мною женщины, меня удивляло, что ни на одном из них она не была похожа на ту, которую я любил, на мой, так сказать, оригинал. Неужели за такой короткий срок, всего за год, у нее совершенно изменился характер и выражение лица? Или, может быть, она была другой, отражая любовь, нежность, жалость, которые были в моих глазах, когда я смотрел на нее. На фотографиях, как мне казалось, ее лицо было ординарным, грубым, вызывающим, лицо не Знающей удержу кокетки с заигрывающей, даже провоцирующей улыбкой. Одна ее поза меня особенно пугала. Она стояла наклонившись, опираясь на спинку довольно низкого кресла, так что грудь ее была почти обнажена и лишь чуть прикрыта веером, который она держала у выреза платья. Ее взгляд тонул в глазах кого-то, но этот кто-то был не я, потому что моя любовь, исполненная уважения и нежности, никогда не окутывала ее тем оскорбительным сладострастием, которым стараются зажечь доступную женщину. Эта фотография напомнила мне те неприличные картинки, которые тайно продают перед кафе, и я не взял ее.
– Ты отказываешься от портрета твоей Марии! – сказала она с тем жалким видом, в котором вдруг проявляется ее душевная слабость, но она в ней никогда всерьез не признается. – Ты меня больше не любишь!
Когда женщина упрекает своего любовника в том, что он ее больше не любит, это значит, что она сама перестала его любить. И в самом деле, с той минуты я заметил, что ее чувства ко мне пошли на спад.
Она ощущала, что ее пустая душа уже набралась от моей мужества и смелости, необходимых для осуществления ее цели, и ей захотелось освободиться от своего опекуна. Однако, внимательно слушая то, что я говорил, она крала потом мои мысли, хотя и делала вид, что презирает их.
– Ты в этом ничего не понимаешь, малыш!
Будучи совершенно невежественной, не получив никакого образования, так как ее воспитывали в деревне, научившись лишь болтать по-французски, не зная ни театра, ни литературы, она всем была обязана мне, ибо я пытался преподать ей хоть начатки шведского произношения, посвящал ее в тайны просодии и метрики, так вот, невзирая на все это, она меня обзывала лентяем.
Теперь, когда она должна была подготовить свой второй дебют, я выбрал ей значительную мелодраматическую роль, которая была бы гвоздем репертуара. Но она от нее наотрез отказалась. Однако спустя некоторое время она объявила мне, что сама выбрала себе наконец роль, и, конечно, оказалось, что это та самая, которую я ей предлагал. Я сделал для нее полный анализ этой роли, подобрал костюмы, определил наиболее важные места, рассчитал все эффекты.
И тогда между бароном и мной завязалась тайная война. Он, как постоянный руководитель всех гарнизонных церемоний гвардейцев, привыкший обучать солдат чуть ли не актерским приемам, возомнил себя специалистом и в области театра. И Мария, почему-то сверх всякой меры почитающая его сценические благоглупости, возвела его в свои художественные наставники, отстранив тем самым меня. Наш бравый капитан-режиссер разработал, как он считал, некую новую театральную эстетику, выдавая банальность, вульгарность и пошлость за естественность, которую он, видите ли, ценил в искусстве превыше всего.
Разыграть по этой системе современную комедию, где все держится на пустяковых жизненных передрягах, – это еще куда ни шло, но к английской мелодраме, допустим, она абсолютно непригодна, ибо большие страсти не могут быть выражены теми же средствами, что и салонные каламбуры.
Однако посредственный ум не улавливает этой разницы и готов считать универсальным прием, найденный для одного частного случая.
В канун своего второго дебюта Мария оказала мне честь продемонстрировать свои сценические туалеты. Несмотря на мои настойчивые советы и уговоры, она выбрала для своего основного платья пыльно-серый шелк, который напрочь убивал цвет ее лица, и она в нем становилась похожей на эксгумированный труп. Но на все мои доводы она отвечала чисто женским аргументом:
– А вот госпожа X., наша лучшая трагическая актриса, всегда играла эту роль в сером платье.
– Еще бы! Но ведь она не блондинка, как ты. То, что к лицу брюнеткам, не подходит блондинкам, и наоборот.
Но она не вникала в мои слова и приходила в ярость! Я предрекал ей, что успеха не будет, и в самом деле, второй дебют Марии закончился полным провалом. И снова слезы, упреки, оскорбления!
А в довершение беды неделю спустя госпожа X., знаменитая трагическая актриса, объявила, что снова сыграет эту роль в ознаменование какого-то там своего юбилея, и поклонники встретили ее приветственным транспарантом, корзинами цветов и несметным количеством лавровых венков.
Конечно, в своем провале Мария обвинила меня, поскольку я его предсказал, и еще больше сблизилась с бароном – ведь посредственные натуры всегда испытывают естественную тягу друг к другу.
Меня же, эрудита, драматурга, театрального критика, попробовавшего свои силы во всех литературных жанрах, знакомого, благодаря сокровищам Королевской библиотеки, со всеми значительными литературами мира, меня в расчет не принимали, обращались со мной как с помехой, невеждой, мальчишкой на побегушках, как с приблудной собакой…
И тем не менее, несмотря на неудачный дебют, ее все же взяли в театр, положив ей жалованье в 2400 франков в год. Она была спасена, хотя надежды на большой артистический успех рухнули. В дирекции сочли, что она может быть полезна труппе только на вторых ролях, в амплуа светских дам, ибо очень хорошо умеет носить платья. Отныне все ее время уходило на переговоры с портнихами, ведь в каждом спектакле, где ее занимали, необходимо было менять по четыре, а то и по пять туалетов, что, к слову сказать, пожирало все заработанные деньги полностью, без остатка.
О, сколь горькое разочарование она пережила! Какие душераздирающие сцены она устраивала мне, когда получала все более тонкие тетрадки с ролями в десять – двадцать реплик. А комната ее тем временем превратилась в подобие портняжной мастерской, где все было завалено вырезанными из старых газет патронками, кусками материи, грудами лоскутов… Вот так и случилось, что она, мать, светская дама, решившая покинуть общество и отказавшаяся от туалетов ради служения божественному искусству, превратилась в портниху, с утра до полуночи корпящую над швейной машинкой, чтобы затем изображать на подмостках, светскую даму на потеху толпе обывателей.
Боже, что за бессмысленную жизнь она вела теперь, когда во время репетиций часами болталась за кулисами в ожидании выхода! И поскольку в это время заняться решительно нечем, она пристрастилась к пустопорожней болтовне, к гривуазным сплетням, к пошлым историям, и все порывы к высотам духа постепенно затихают, крылья опускаются, вот они уже волочатся по земле и, того гляди, могут окунуться в сточную канаву.
А падение тем временем продолжается. И вот однажды, когда выясняется, что все ее платья уже по нескольку раз перелицованы, а новые шить не на что, ее лишают ролей светских дам и понижают до уровня статистки.
Она все больше вползает в безысходную нищету, ее мать, эта злобная Кассандра, которая предрекла ее паденье, доставляет своей дочери немало горьких минут, а общество, все еще помнящее скандальный бракоразводный процесс, трагическую смерть девочки, начинает поносить греховную жену и бессердечную мать. Директор театра не мог не сделать вывода из неприязни публики к этой актрисе, а знаменитый артист отрекся от нее, заявив, что ошибался, когда признавал в ней талант.
– Столько шума, столько несчастий из-за каприза женщины!… Оно того не стоит!
А тут еще в самый разгар всех этих неурядиц на ее бедную мать обрушилась тяжелая болезнь сердца, что, по всеобщему мнению, было результатом тех душевных волнений, которые она пережила из-за непутевой дочери.
Что до меня, то я, вконец разъярившись на весь мир, столь жестокий и несправедливый, решил любой ценой вытащить Марию из грязи, это было для меня вопросом чести. Самый краткий путь к известности лежит через литературу. Теперь же, когда и Мария твердо поняла, что без посторонней помощи ей из ямы не выбраться, она приняла протянутую мной руку помощи и согласилась с моим предложением основать еженедельную газетку, посвященную исключительно вопросам театра, музыки, изобразительных искусств и литературы, в которой она могла бы попробовать свои силы как критик или фельетонист и завязала бы отношения с возможными в будущем издателями.
Мария вложила в это дело двести франков, а я взял на себя составление номера, просмотр текстов и верстку. Однако, прекрасно отдавая себе отчет в своей полной неспособности решать организационные и финансовые вопросы, я поручил ей все, связанное с рекламой и распространением нашего издания, рассчитывая также и на помощь приятеля, ведающего постановочной частью театра и к тому же владельца газетного киоска.
Мы очень быстро сверстали наш первый номер, который оказался на удивление удачным. Передовицу написал один молодой художник, затем шли специально присланные нам корреспонденции из Рима и Парижа и статья о музыке известного писателя, сотрудника самой крупной газеты в Стокгольме. Кроме того, там были Помещены сделанный мною обзор новых книг да еще фельетон и сообщения о премьерах, которые написала Мария.
Одним словом, все получилось как нельзя лучше, дело было за малым – в назначенный день вовремя передать в продажу весь тираж. Для нас это имело тем большее значение, что мы не Располагали ни своим капиталом, ни кредитом.
О, горе мне! Как я мог вверить судьбу своего детища в руки Женщины!
В тот день, на который был назначен выход первого номера нашей газеты, о чем мы заранее объявили в печати, Мария преспокойно спала чуть ли не до полудня, как обычно.
Убежденный, что газета своевременно поступила в продажу, я отправился в город, но все знакомые, которых я встречал, спрашивали меня с насмешливой улыбкой:
– Где же можно купить твою знаменитую газетку?
– Да везде, – отвечал я.
– Нигде ее нет!
Я кинулся к ближайшему киоску. Газеты там действительно не было. Тогда я побежал в типографию. Оказалось, за тиражом никто не явился.
Все провалилось! Я сцепился с Марией, и дело дошло чуть ли не до драки, хотя какое ей можно было предъявить обвинение, зная о ее врожденной безответственности и полнейшей неосведомленности во всем, что касается печати. Она же честила на все корки заведующего постановочной частью театра, того самого, кто владел и газетным киоском, пытаясь свалить на него всю вину.
Она потеряла свои последние деньги, а я – репутацию, время и силы, потраченные впустую.
Это было полным крушением, и мозг сверлила только одна мысль:
«Мы пропали, выхода нет!»
Я был так обескуражен плачевным исходом моей последней попытки поставить ее на ноги, что предложил ей вместе умереть. Она тоже была совершенно раздавлена своими несчастиями.
– Давай умрем! – сказал я ей. – Стыдно блуждать этакими мертвецами по городу, мы только мешаем жить добрым людям.
Но она ни за что не соглашалась.
– Ты трусишь! Да, трусишь, моя прекрасная Мария! Подло вынуждать меня смотреть, как ты прозябаешь, как все над тобой смеются и презирают тебя.
Я пошел шататься по кабакам. Напился в дым и завалился спать.
Проснувшись, я тут же отправился к Марии и впервые окинул ее пристальным взглядом возбужденного вином человека. Боже, какие ужасные перемены я отметил в ней! Она сидела в неубранной комнате, одетая кое-как, а на обожаемых мною крошечных ножках были ненатянутые перекрученные чулки и стоптанные башмаки.
Увы, это был уже предел падения!
А ее речь, пересыпанная грубыми выражениями, нахватанными, видимо, за кулисами!… Да и манеры ее изменились, стали какими-то вульгарными, уличными, на лице застыло злобное выражение, а губы, казалось, источали яд. Она низко склонилась над своим шитьем и не смотрела мне больше в глаза, вроде бы полностью отдавшись своим мрачным мыслям.
– Знаешь, Аксель, – произнесла она вдруг хриплым голосом, так и не подняв головы, – что должна требовать женщина от мужчины, оказавшись в таком бедственном положении?
Меня словно громом поразили ее слова.
– Что? – спросил я неуверенно, надеясь, что неверно понял ее вопрос.
– Чего ждет женщина от своего любовника?
– Любви!
– А еще чего?
– Денег!
Моя грубость лишила ее охоты продолжать этот разговор, но я был уверен, что попал в точку, и тут же ушел.
«Шлюха, шлюха, – твердил я себе, без конца кружа по темным осенним улицам, хотя ноги у меня подкашивались. – Только этого еще не хватало! Она, чего доброго, начнет вести счет нашим встречам! Подумать только, безо всякого стыда признаться в своей профессии!»
Она была, правда, в тяжелом положении, но ведь она не нуждалась, так как только что получила наследство от матери, ее мебель и ценные бумаги, правда не очень надежные, но все же стоимостью в несколько тысяч франков. К тому же и жалованье в театре ей пока еще продолжали платить.
Это было просто необъяснимо. И тогда образ ее отвратительной квартирной хозяйки, ставшей, представьте, ее лучшей подругой, всплыл у меня в голове. Что это было за мерзкое и подозрительное существо! Сводня и по внешности и по повадкам. На вид – лет тридцати пяти, живущая непонятно на что, всегда в стесненных обстоятельствах, но при этом шастающая по городу в роскошных, кричащих туалетах, она проникала в семейные дома, чтобы разжиться там небольшими суммами денег, и докучала всем жалобами на горькую свою судьбину. Короче, темная личность, ненавидящая меня, так как подозревала, что я вижу ее насквозь.
И вот тут в моей памяти всплыл один случай, происшедший несколько месяцев тому назад, на который я в свое время не обратил никакого внимания. Упомянутая особа вынудила подругу Марии, проживающую в Финляндии, обещать ей одолжить тысячу франков. Однако дальше обещания дело не пошло. Тогда Мария по наущению этой дамы и вместе с тем желая спасти доброе имя своей финской подруги, которую та поносила на чем свет стоит, вмешалась в эту историю, и ее демарш увенчался успехом. Однако финская подруга упрекнула Марию за такое посредничество. А во время объяснения хозяйка Марии заявила, что она тут ни при чем, а решительно во всем виновата Мария. Вот именно тогда я и сказал о своей неприязни к этой особе, и у меня возникли на ее счет всяческие подозрения. Короче говоря, я посоветовал Марии порвать с ней отношения, поскольку она разрешает себе поступки, смахивающие на шантаж.
Но Мария отнюдь не вняла моим советам, напротив, она нашла множество причин, извиняющих поступок своей коварной подруги, и вскоре как бы переосмыслила всю эту историю, уверяя, что она произошла исключительно в силу недоразумения. А еще некоторое время спустя весь этот инцидент превратился в плод моей «гнусной фантазии».
Я вполне допускаю мысль, что эта авантюристка и внушила Марии подлую мысль «представить счет за свою любовь». Это кажется мне правдоподобным еще и потому, что она с большим трудом произнесла эту фразу, которая была совсем не в ее стиле. Во всяком случае, я хотел так думать, я на это надеялся. Вот если бы она потребовала, чтобы я вернул ей те деньги, которые она вложила в издание театральной газеты и которые по ее вине пропали, то это еще куда ни шло, это укладывалось бы в женскую арифметику. Или если бы настаивала, чтобы мы вступили в брак, но она и слушать не хотела о браке. Итак, сомнений не было, она имела в виду именно любовь, то волнение, которое ее охватывало благодаря моим усилиям и бессчетным поцелуям. Одним словом, предъявила счет, как в ресторане. Что ж, если так, то и мне оставалось тоже только предъявить ей свой счет… за потраченные нервы, мозг, кровь, за урон, нанесенный моему имени, моей чести, быть может, моей карьере, за все мои страдания!
Нет, сводить счеты – это было занятие для нее, это ей первой пришла такая мысль, а я не желал отвечать ей тем же. Вечер я провел в кафе, а потом долго ходил по улице, размышляя о том, как происходит падение. Почему мы испытываем такое страшное горе, когда на наших глазах человек катится вниз? Не есть ли в этом что-то противоестественное, потому что природа, наоборот, требует поступательного движения, развития, а ход назад является лишь напрасной тратой сил. То же самое можно сказать и про общественную жизнь, поскольку каждый человек стремится достичь материальных и духовных высот. Вот почему всякое падение оставляет ощущение трагедии, как трагична осень, болезнь, смерть. Эта женщина, которой еще не было и тридцати, которая, когда я ее впервые увидел, была совсем молодой, красивой, естественной, благородной, сильной, привлекательной, хорошо воспитанной, опустилась у меня на глазах, причем так быстро и до такого уровня. И все это произошло за какие-то два года!
Я был готов взвалить всю вину за это на себя, только бы снять вину с нее, что было бы для меня большим облегчением. Но нет, я не мог превратиться в козла отпущения! Ведь не кто иной, как я внушал ей благоговейное отношение к красоте и ко всему возвышенному, и по мере того, как она все больше перенимала пошлые манеры комедианток, мое поведение становилось все более изысканным, я все больше приобретал светский лоск, копируя жесты и язык, принятые в высшем обществе, и принуждал себя к той сдержанности, которая позволяет скрывать эмоции и является основной чертой воспитанных людей. В любовных отношениях я также сохранял внешнюю сдержанность, никогда не оскорблял чувство стыдливости, преклонялся перед красотой, считался с приличиями – иными словами, делал все, чтобы забылись животные импульсы отношений, которые для меня больше связаны с душой, нежели с телом.
Я могу в какой-то момент быть чересчур горячим, быть может, даже грубым, но никогда не буду вульгарным, могу убить, но не оскорбить, могу назвать вещи своими именами, но никогда не разрешу себе пошлого намека, я сам придумываю свои шутки, которые рождаются вдруг, по воле случая, но никогда не цитирую оперетту или юмористические журналы.
В жизни я люблю чистоту, ясность и красоту, я никогда не пойду на званый обед, если у меня нет свежей рубашки. Никогда не позволю себе показаться перед любовницей полуодетым и в домашних туфлях, я могу ей подать жалкий бутерброд и стакан пива, но обязательно на белоснежной скатерти.
Значит, не мой пример заставил ее опуститься. Мария меня больше не любит, вот почему она не стремится мне нравиться. Теперь она принадлежит публике, она красится и одевается для публики, она стала публичной женщиной, которая в конце концов докатилась до того, что представила мне счет за столько-то и столько-то встреч…
Все последующие дни я не вылезал из библиотеки. Я ходил в трауре по моей любви, по моей великолепной, безумной, божественной любви! Я похоронил все, и поле боя, где велись эти любовные сражения, было безмолвным. Двое убитых и сколько-то там раненых, чтобы удовлетворить инстинкт воспроизводства у женщины, не стоящей даже пары стоптанных туфель. Если бы ее поступки имели своим оправданием тягу к деторождению, если бы ею двигало то неосознанное чувство, которое владеет теми девицами, что стремятся стать матерями и отдаются ради этого, то ее можно было бы еще понять. Но она ненавидела детей и считала, что беременность унижает женщину. Одним словом, это порочная натура, которая подменяла материнское чувство простым удовольствием. Такие, как она, обрекают свой род на вырождение, потому что она ощущала себя деградирующей особою, но скрывала все это за фразами о жизни для высших целей, ради человечества.
Я ее ненавидел и хотел забыть! Я прохаживался между шкафами с книгами, но этот проклятый кошмар продолжал меня преследовать. Я больше не желал ее близости, ибо она вызывала у меня отвращение, однако глубокая жалость и чуть ли не отцовская нежность заставляли меня чувствовать ответственность за ее будущее. Если я откажусь от нее, она плохо кончит, станет любовницей барона или вообще кинется во все тяжкие.
Итак, я не мог выйти из игры, но я оказался также не способен помочь ей снова стать на ноги, поэтому мне ничего не оставалось, как, стоя рядом, глядеть на ее гибель и погибать самому, поскольку у меня пропала всякая охота жить и работать. Во мне были убиты и инстинкт сохранения жизни, и надежда на что-либо, так что я уже ничего не хотел, стал нелюдим и не раз, дойдя до дверей ресторана, поворачивал назад, так и не поев, и возвращался домой, чтобы броситься ничком на диван и накрыться с головой одеялом. Я лежал, как смертельно раненный зверь, недвижимый, опустошенный, я не спал, но и не думал ни о чем, словно в ожидании болезни или конца.
И вот однажды, когда я все-таки оказался в ресторане, правда в задней комнате, где обычно прячутся от посторонних глаз влюбленные или плохо одетые посетители, боящиеся освещенного зала, я вдруг очнулся от оцепенения, услышав обращенный ко мне хорошо знакомый голос.
Подняв глаза, я увидел своего приятеля по богемному кружку, к которому я когда-то тоже принадлежал. Теперь этих людей разметало по всему свету, а передо мной стоял неудавшийся архитектор.
– Ты еще жив? – сказал он вместо приветствия и уселся напротив меня.
– Кое-как. А ты?
– Неплохо. Уезжаю в Париж. Там помер один старый кретин и отказал мне десять тысяч франков.
– Вот повезло!
– Но, к несчастью, мне придется проматывать это наследство одному.
– Ну, это еще не такое страшное несчастье, поскольку я лично обладаю редким даром транжирить любые шальные деньги.
– В самом деле? И у тебя найдется время поехать со мной?
– Наверняка!
– Значит, договорились?
– Договорились.
– Завтра, в шесть часов вечера, мы укатим в Париж!
– А потом?
– А потом пулю в лоб.
– Черт возьми, как ты украл у меня эту мысль?
– Да она написана на твоей физиономии, ты сидел здесь с видом самоубийцы.
– Ну и тип же ты! Ладно, я пошел складывать чемодан. Завтра едем в Париж!
Вечером, придя к Марии, я рассказал ей о своем счастье. Она обрадовалась за меня и поздравила, уверяя, что эта поездка меня развеет. Одним словом, она была очень довольна и окружила меня материнской заботой, что тронуло меня до глубины души. Мы провели вечер вдвоем, вспоминали прошлое, а о будущем говорили мало, потому что в него больше не верили, и расставались, как нам казалось, навсегда! Правда, об этом, по молчаливому уговору, речи не было, мы предоставили будущему решать наши судьбы.
И в самом деле, путешествие меня как-то омолодило, и снова, переживая воспоминания ушедших лет, ранней юности, я преисполнился дикой радостью от того, что забыл последние два несчастливых года, и ни на один миг у меня не возникало желания говорить о Марии. Драма ее развода образно представлялась мне теперь в виде кучи дерьма, на которое можно только плюнуть и бежать без оглядки, чтобы его не видеть. Иногда я тихонько посмеивался про себя, как заключенный, удравший из тюрьмы и твердо решивший, что уж во второй раз его поймать не удастся, и я испытывал все чувства, которые переживает обанкротившийся должник, сбежав в чужую страну.
В Париже в течение двух недель я бегал по театрам, музеям и библиотекам, и, поскольку не получил ни одного письма от Марии, решил, что она утешилась, и счел, что все к лучшему в этом лучшем из миров.
Но со временем я начал уставать от этой безумной беготни, от бесконечных новых и сильных впечатлений, все потеряло для меня интерес, я не выходил из своей комнаты, читал газеты, все больше вползая в какое-то необъяснимое болезненное состояние.
И вот тогда меня стало посещать виденье бледной молодой женщины, призрак матери-девственницы, и я утратил покой. Развязная комедиантка исчезла из моих воспоминаний, в них теперь жила баронесса, помолодевшая, похорошевшая, сменив свое грешное тело на то прославленное в веках, которому истово поклонялись пустынники земли обетованной.
Пока я предавался этим мучительным и прелестным грезам, пришло письмо от Марии, в котором она в душераздирающих выражениях сообщала мне, что беременна и что только брак может спасти ее честь.
Ни секунды не колеблясь, я сложил свои вещи и с первым же поездом отправился в Стокгольм, чтобы на ней жениться.
Ни на миг у меня не возникали сомнения насчет моего отцовства, и поскольку я грешил с ней в течение полутора лет, то принял последствия как счастье, как конец всяких неожиданностей, как некую реальность, которая накладывает на меня большую ответственность и не только фатальным образом определяет мою жизнь, но и является отправной точкой для чего-то нового, неизвестного. Впрочем, брак с юных лет казался мне чем-то очень привлекательным и представлял для меня единственно возможную форму сосуществования разнополых особей, так что жизнь вдвоем меня нисколько не пугала. Теперь же, когда Мария ожидала ребенка, моя любовь обрела новые крылья, стала благородней и как бы очистилась от грязи, неизбежной в отношениях любовников.
Когда я вернулся, Мария встретила меня сурово и ругала за то, что я ее сознательно обманывал. Вынужденный вступить в это неприятное объяснение, я кое-как растолковал ей, что страдаю сужением мочеточного канала, а это значительно уменьшает вероятность оплодотворения, но не исключает его. Ведь столько раз за прошедший год мы переживали по этому поводу минуты страха, правда, всякий раз ложного, так что нечего было удивляться тому, что случилось. Брак она ненавидела, и окружавшая ее дурная компания внушила ей, что замужняя женщина – это рабыня, бесплатно работающая на своего мужа. И так как я терпеть не могу рабства, я предложил ей современный брак, вполне отвечающий и моим вкусам.
Прежде всего, мы должны найти себе квартиру из трех комнат, где одна комната была бы для нее, другая – для меня и третья – общая. Потом мы решили, что у нас не будет никакого хозяйства и никакой живущей в доме прислуги. Обеды нам будут приносить из ресторана, а завтраки и ужины приготовит на кухне приходящая на несколько часов служанка. Мы легко сможем подсчитывать расходы и избежим главного повода для скандалов.
Чтобы меня не обвинили в том, что я проматываю состояние своей жены, которое, к слову сказать, существовало лишь в ее воображении, я предложил составить брачный контракт по тотальной системе. В северных странах почему-то считали приданое жены оскорблением для мужа, но в более цивилизованных странах оно, являясь вкладом жены в общее состояние семьи, дает ей иллюзию относительной материальной независимости. А вот немцы и датчане пошли еще дальше, введя обычай, по которому невеста обставляет свой будущий дом, чтобы у мужа сохранялось ощущение, что он живет у своей жены, а у нее было бы чувство, что она у себя дома и содержит мужа.
Мария, только недавно вступившая в права наследства, владела теперь обстановкой, не имеющей большой ценности в денежном выражении, но дорогой ей как память, к тому же все предметы были весьма старинными. Этой мебелью ее покойная мать в свое время обставляла шесть комнат. Так неужели нужно было приобретать новую, чтобы обставить всего три? Итак, Мария предложила использовать их старую мебель, на что я с удовольствием согласился.
Остался еще один пункт, самый важный: ожидаемый ребенок. К счастью, необходимость скрыть роды позволила нам и здесь прийти к единому мнению: мы отдадим новорожденного кормилице, у которой он и будет находиться, пока не наступит благоприятный момент его усыновить.
Свадьба была назначена на конец декабря, и за оставшиеся два месяца я должен был заработать достаточно для нашего безбедного существования.
С этой целью я снова берусь за перо, подталкиваемый еще и тем обстоятельством, что вскоре Мария будет вынуждена покинуть театр, и месяц спустя я передаю издателю том рассказов, который был весьма благосклонно принят.
К тому же мне повезло, я получил повышение в библиотеке и занял должность помощника библиотекаря с твердым жалованьем в 12 тысяч франков в год, а по случаю переноса части коллекции редких книг в новое здание мне выплатили дополнительное вознаграждение в 600 франков. Это было воистину счастьем, а за ним последовали и другие удачи, заставившие меня поверить, что жестокая судьба отступилась наконец от меня.
Самый влиятельный финский журнал заказал мне серию литературных обзоров по 50 франков каждый, а официальная шведская газета, издаваемая самой академией, оказала мне честь, предложив заняться художественной критикой, оплачиваемой там, к слову сказать, по 35 франков за колонку. Кроме того, мне поручили держать корректуру издаваемых классических авторов.
Все это мне прямо свалилось с неба в течение этих двух месяцев, имевших решающее значение для моей жизни.
Уже перед самой свадьбой вышли из печати мои рассказы и имели большой успех. Отныне меня стали величать не иначе, как «молодым мастером рассказа», а книгу единодушно отнесли к числу тех, которые не будут забыты, потому что она первая ввела современный реалистический стиль в шведскую литературу.
Как я был счастлив, что могу выдать мою бедную обожаемую Марию замуж за известного человека, который к званиям королевского секретаря и помощника библиотекаря добавляет свое имя, еще только восходящее над шведским горизонтом, но уже обещающее славное будущее, за человека, который вскоре сумеет снова проложить ей путь на сцену, где пока что все складывалось для нее, возможно, что и незаслуженно, так неудачно.
Судьба, казалось, улыбается нам, правда, сквозь слезы. Оповещение о нашей свадьбе уже опубликовано, я складываю чемоданы, прощаюсь с мансардой, свидетельницей моих бед и радостей, я готов заточить себя в тюрьму, которой никто не боится, а мы с Марией – меньше всего, потому что, казалось, предвидели все трудности и устранили все камни преткновения с нашего пути.
И тем не менее…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
О, какое несказанное счастье быть женатым! Ты надежно сокрыт от глаз идиотского мира и всегда находишься наедине с любимой! Снова обретаешь домашний очаг, чувство безопасности, покой после всех гроз, свиваешь гнездо, чтобы высиживать птенцов.
Окруженный вещами, принадлежащими ее семье, всем тем, что удалось спасти после крушения родительского дома, я чувствовал себя черенком, привитым к ее стволу, а висевшие у нас на стенах писанные маслом портреты ее предков рождали во мне ощущение, что и я усыновлен ими, тем более что они ведь являются и предками моих детей. Она ничего не жалела для меня, я носил запонки и перстень, которые прежде носил ее отец, она подавала мне еду на фарфоровой посуде, принадлежавшей ее матери, дарила безделушки, множество всяких мелких вещиц, несущих в себе память о прошлом, подчас связанных со знаменитыми воинами, воспетыми крупнейшими поэтами нашей родины, и все это не могло не произвести сильного впечатления на простолюдина вроде меня. Она, благодетельница, щедро одаривала меня, а я был ослеплен и совсем забывал, что это я восстановил ее репутацию, поднял из грязи, сделал своей женой, женой человека с будущим, а ведь без меня она так и осталась бы всего лишь провалившейся актрисой и осужденной всеми беспутной женой. И кто знает, не спас ли я ее и от полного падения.
Какой у нас прекрасный брак! Мы осуществили все наши мечты о свободной супружеской жизни. У нас нет общей постели, нет спальни, нет совместной туалетной комнаты, так что вся грязь святого законного союза убрана. Какое хорошее установление брак, но, конечно, только в том виде, в каком мы его организовали, со всеми нашими поправками. Отказавшись от общей постели, мы сохранили прекрасную возможность пожелать друг другу спокойной ночи, которая всегда остается за нами, и каждый раз обновленную радость говорить друг другу доброе утро, осведомившись о сне и здоровье. И как хороши скромные, деликатные визиты в комнаты друг друга, которым всегда предшествует изящное ухаживание вместо более или менее добровольных изнасилований в супружеской постели.
Сколько работы переделали мы, сидя дома, она – склонившись над распашонками, которые шила для будущего младенца, а я – за письменным столом, и все это вместо бессмысленной траты времени на свидания и вынужденное безделье, как прежде.
Месяц мы провели вдвоем, никого не видя, а потом наступили роды, преждевременные, и Мария разрешилась девочкой, такой маленькой и слабенькой, что она едва дышала. Девочку тут же отправили на попечение акушерки, жившей по соседству и пользовавшейся безупречной репутацией, но малютка прожила всего лишь два дня и ушла, как и пришла, без страдания, потому что у нее не было никаких сил сопротивляться.
Мать узнала об этом со смешанным чувством угрызений совести и облегчения, потому что разом освободилась от таких хлопот и неприятностей, которые даже трудно себе вообразить, поскольку социальные предрассудки не позволяли ей воспитывать ребенка, зачатого до брака.
Однако после всего пережитого у нас возникло совместное решение не заводить детей. Мы будем жить вдвоем, как товарищи, как мужчина и женщина, не лишая себя любовных радостей, каждый из нас будет отвечать за себя, каждый будет прокладывать себе свою дорогу к намеченной им цели. Так как она больше не верила, что не забеременеет от меня, мы прибегали к самым простым мерам предосторожности, однако все это носило вполне невинный характер.
Приняв это решение и избежав таким образом непосредственной опасности, мы с облегчением вздохнули и смогли немножко оглядеться. Поскольку моя семья меня изгнала, я не ввел ненужных родственников в наш дом. У моей жены в городе тоже не было родственников, кроме одной тетки, и таким образом я был избавлен от семейных визитов, обычно таких тягостных для молодоженов.
Однако, спустя некоторое время, примерно месяца через полтора, я обнаружил, что двое пришельцев все-таки притаились за юбкой моей жены.
Прежде всего ее пес Кинг Чарльз, чудовище со слезливыми глазами, который всегда встречал меня диким лаем, точно чужого. Я ненавижу собак, этих «alter ego» трусливых людей, у которых не хватает смелости самим кусаться, а данная собака была мне особенно неприятна тем, что перешла к нам из прежнего дома Марии и служила постоянным напоминанием об изгнанном ею муже.
Когда я в первый раз прикрикнул на это омерзительное животное, чтобы заставить его замолчать, жена робко упрекнула меня, объяснив свое пристрастие к собаке тем, что это единственное напоминание об умершей дочери, и сказала, что никогда не предполагала во мне такой жестокости и т. д. и т. п.
Как-то раз я обнаружил, что эта мерзкая тварь запачкала большой ковер в гостиной. Я ее, естественно, наказал, за что был обозван палачом, истязающим неразумных животных.
– Что поделаешь, дорогая, но они не понимают человеческого языка.
Тут она разрыдалась, бормоча сквозь слезы, что боится такого жестокого человека, как я.
А чудовище тем временем методично продолжало испражняться на дорогой ковер. Тогда я решил всерьез заняться его воспитанием, заверив жену, что собаки вообще-то бывают очень послушными, и если проявить настойчивость, то можно добиться чудесных результатов.
Но она впала в настоящий раж и впервые заявила, что ковер этот принадлежит ей.
– Тогда уберите его, потому что я не брал на себя обязательства жить в сортире.
Ковер остался лежать, правда, за собакой стали лучше следить, да и она сама после моих суровых уроков старалась вести себя поприличней.
А тем временем произошла новая история.
Чтобы избежать лишних трат, а главное, возни с разведением огня, мы отказались от горячей пищи по вечерам. И вот, представьте, захожу я однажды в конце дня на кухню и, к немалому своему изумлению, вижу, что топится плита и прислуга жарит телячьи отбивные.
– Для кого это? – спрашиваю.
– Для собаки.
Тут появляется моя жена.
– Дорогая…
– Имей в виду, что на ее питание я трачу свои деньги!…
– Прекрасно! Но я-то вынужден довольствоваться на ужин холодным мясом… Ты кормишь меня хуже собаки… И это уже за мой счет…
Ну, что тут скажешь? Она, видите ли, тратит свои деньги!…
Однако с этого дня пес стал в нашем доме чем-то вроде идола, которому поклонялись, повязав ему синюю ленту вокруг шеи, и Мария начала запираться в своей комнате с подругой, обратите внимание, с новой подругой, где они предавались культу этого чудовища и лили слезы, проклиная воплощенное во мне мужское жестокосердие.
И я смертельно возненавидел эту тварь, которая стала яблоком раздора в нашем браке и, как на грех, все время попадалась мне под ноги. Жена соорудила для нее этакое гнездышко из подушек и шалей возле своей кровати, так что к ней не подойдешь, ни чтобы пожелать доброго утра, ни чтобы нанести ночной визит. А когда после недели тяжкого труда наступал наконец долгожданный субботний вечер, который я мечтал провести у камина наедине со своей женой, попивая вино и разговаривая о прошлом и будущем, она торчала битых три часа на кухне со своей подругой и служанкой, они топили плиту и переворачивали все вверх дном для того, чтобы искупать ненавистное мне чудовище.
– Неужели она просто злая? – спрашивал я себя, не понимая, как можно со мной так обращаться.
– Да какая же она злая, у нее такое чувствительное сердце, ведь она жертвует супружеским счастьем ради бедной заброшенной собачки! – восклицала ее подруга.
Уже давно еда, которую нам приносили из ресторана, казалась мне из рук вон плохой, но моя дорогая супруга с помощью своей неотразимой улыбки смогла меня убедить, что я стал капризным. И я ей поверил, потому что у нее, как она не уставала повторять, душа прямая и искренняя.
И вот настал день рокового обеда. На блюде лежали одни только кости и сухожилия.
– Что ты нам подаешь, дитя мое? – спросил я у прислуги.
– Жаркое было вполне приличным, но хозяйка приказала отложить все хорошие куски для собаки…
Женщина, захваченная врасплох, пойманная за руку, всегда опасна, потому что ее вина, во много раз утяжеленная, ударит по тебе.
Она была раздавлена, уличена во лжи и даже мошенничестве, так как уверяла, что содержала собаку за свой счет. Смертельно побледнев, она не вымолвила ни слова, и я исполнился к ней жалости. Мне стало стыдно за Марию, и так как я никак не хотел поставить ее в затруднительное положение или унизить, то, как великодушный победитель, решил ее утешить и, дружески погладив по щеке, попросил не сердиться из-за такого пустяка.
Зато ее в великодушии упрекнуть было трудно, и она тут же устроила мне сцену, орала что-то про мое низкое происхождение и дурное воспитание, неистовствовала, что я посмел позорить ее перед служанкой, перед этой дурой, которая не поняла полученного распоряжения. Одним словом, виноватым оказался я! С ней случился настоящий нервный припадок, она выскочила из-за стола, бросилась на диван и стала истошно кричать, рыдать, грозить, что сейчас умрет.
Я снова ей не поверил и сохранил полное хладнокровие, только позволил себе заметить:
– И весь этот ад из-за собаки!
Она тем временем продолжала вопить как резаная, страшный кашель стал сотрясать ее худенькое тело, еще не оправившееся от родов, я испугался, послал за врачом и оказался еще раз в дураках.
Пришел врач, послушал ее, пощупал пульс и ушел в крайнем раздражении. Я остановил его уже у двери и спросил:
– Так что же с ней?
– Да ничего, – буркнул он, надевая пальто.
– Ничего?
– Абсолютно ничего! Видите ли, сударь, женщины… до свидания.
Знай я тогда то, что знаю теперь, открыв секрет, как можно мгновенно вылечить от истерии!… Но, увы, тогда я еще ничего не знал, поэтому я целовал ей глаза и просил простить меня. Интересно, за что?
Она прижимала меня к груди, называла «своим милым, послушным мальчуганом», но при этом твердила, что ее надо беречь, потому что она такая слабая и хрупкая и может со дня на день умереть, если ее милый мальчуган еще раз повторит такую ужасную сцену, которую он только что устроил. Чтобы ее совсем осчастливить, я взял на руки чудовище и стал ему чесать спину, за что она в течение получаса дарила мне свои самые нежные взгляды. С этого дня собака стала гадить везде без всякого стеснения, словно творя какой-то акт мести. А я делал нечеловеческие усилия, чтобы сдержать свой гнев в ожидании какого-нибудь счастливого случая, который освободил бы меня от пытки жить в дерьме.
И вот наступила эта долгожданная минута. Вернувшись как-то домой к обеду, я увидел, что жена рыдает, дома траур, стол не накрыт, а служанки нет – она ищет пропавшую собаку.
Я скрыл свою тайную радость, потому что искренне жалел жену, которая была просто в отчаянии. Но она оказалась не в состоянии понять такую простую вещь: я разделяю ее горе, несмотря на мою радость по случаю пропажи своего врага. Она угадала мои тайные чувства и тут же вскипела:
– Ты радуешься, не правда ли? Ты наслаждаешься несчастьем своего ближнего, значит, ты злой. И ты меня больше не любишь.
– Я люблю тебя, дорогая, но ненавижу твою собаку.
– Если бы ты меня любил, то любил бы и мою собаку.
– Я люблю тебя, не то я избил бы тебя!
Действие этого слова было ужасно. Бить женщину! Подумать только, бить! Она совсем потеряла голову и стала уверять, что это я нарочно выпустил собаку из дома, более того, что я ее отравил.
Мы объездили в карете все полицейские участки, побывали даже на живодерне, в конце концов собака нашлась, и это радостное событие торжественно отпраздновали у нас в доме, а я в глазах этой самой подруги был теперь уже не кто иной, как отравитель, во всяком случае потенциальный, этого дорогого создания.
С того дня собака была заперта в комнате моей жены, и это гнездышко любви, которое я обставил с артистическим вкусом, было превращено в псарню. Квартира, и так слишком маленькая, стала таким образом еще более тесной, да и весь ансамбль был испорчен. Но на все мои замечания она отвечала, что это ее комната.
Тогда я замыслил против нее настоящий крестовый поход. Я перестал ее посещать по ночам и так долго выдерживал характер, что в ней заиграла кровь, ее трясло как в лихорадке, и в конце концов она не выдержала и первой сделала мне авансы.
– Ты никогда не приходишь пожелать мне доброго утра.
– До тех пор, пока твоя дверь будет заперта, я не войду к тебе. Она дуется, я дуюсь и терплю всю горечь холостяцкой жизни в течение двух недель, вынудив ее в конце концов самой прийти ко мне в комнату и молить о любви, в результате чего в ней снова разгорелась ко мне ненависть.
Наконец она уже была готова сдаться и убить собаку. Но вместо того, чтобы тут же осуществить свое намерение, она вызвала подругу, разыграла сцену прощания, так сказать, последние минуты приговоренного перед казнью, и в решающий момент бросилась на колени и стала меня молить поцеловать эту гнусную тварь в знак нашего примирения, поскольку у собак тоже есть душа и неизвестно, не суждено ли нам встретиться на том свете.
Все это привело к тому, что я подарил жизнь приговоренному, и Мария просто не знала, как мне выразить свою безумную благодарность.
Порой мне казалось, что я живу в сумасшедшем доме, но когда любишь, то на многое смотришь сквозь пальцы, и тем хуже для тебя! Подумать только, что сцена с последними минутами приговоренной собаки повторялась два раза в год, не меньше, а вся эта пытка длилась целых шесть лет!
О, юный друг мой, читатель этой исповеди, если ты испытал отвращение, дойдя до сцены с собакой, то заодно испытай и сострадание ко мне, ибо, перемножив 365 дней на 24 часа, а затем на 6 лет, ты не сможешь не восхититься мной, раз я еще не погиб.
И даже если допустить, что я безумен, как утверждает моя жена, то кто в этом виноват, я вас спрашиваю, кто, кроме меня, раз я не отравил эту злосчастную собаку!
А теперь вернемся к ее подруге. Это старая дева, лет пятидесяти, а может и больше, существо таинственное, бедное, исполненное идеалов, которые я давно перерос.
Она утешает мою жену, которая плачет у нее на груди, когда я отказываюсь держать дома собаку, и выслушивает все проклятия, которые жена посылает по адресу брака, рабства и всяческой эксплуатации женщин.
Держится она довольно скромно и не вмешивается, во всяком случае насколько я знаю, в наши дела, впрочем, ручаться не могу, потому что занят весь день работой. Однако я догадываюсь, что она берет взаймы деньги у жены, что, впрочем, не может вызвать у меня возражений, но в одно прекрасное утро подруга уносит несколько наших серебряных блюд и закладывает их, чтобы раздобыть себе денег.
Тогда я позволил себе в весьма уважительном тоне сказать жене, что, оставив в стороне условия нашего брачного контракта, я все же считаю, что она неправильно понимает чувство товарищества. Я, ее муж, соучастник, так сказать, ее жизни, испытываю сейчас большие затруднения из-за долгов, и мне кажется, что я имею больше оснований рассчитывать на ее сочувствие, чем подруга, И поскольку каждый волен обратиться к другому с подобного рода просьбой, я прошу одолжить мне ее ценные бумаги, чтобы я мог их заложить.
Она ответила, что в настоящее время они из-за девальвации ничего не стоят и продать их нельзя, да к тому же ей не по душе вступать с мужем в коммерческие отношения.
– Зато тебе по душе вступать в такого рода отношения с чужой женщиной, не имеющей даже поручительства и живущей на пенсию в семьдесят пять франков в год.
Как странно, что она отказала мужу, который стремится обеспечить свое будущее и тем самым создать ей прочное положение к тому времени, когда ее выгонят из театра, и все интересы которого неизбежно связаны с ее интересом.
В конце концов она все-таки уступила и дала мне взаймы свои весьма сомнительные ценные бумаги на сумму в 3500 франков.
С этой минуты она вообразила себя моей благодетельницей и вскоре объявила всем своим многочисленным подругам, что это она обеспечила мою карьеру, пожертвовав ради нее своим приданым. Словно я не имел случая доказать свой талант драматурга и новеллиста еще задолго до того, как я с ней познакомился. Но мне было приятно оказаться ниже нее, быть ей обязанным решительно всем, и моей жизнью, и моим счастьем, и моим будущим.
Я настоял на том, чтобы наш брачный контракт был составлен с раздельным владением имуществом главным образом из-за того, что у нее были очень запутанные денежные расчеты с бароном, который был ей много должен и, вместо того чтобы рассчитаться с ней наличными деньгами, дал поручительство за выданный ей заем. Таким образом, на следующий же день после нашего бракосочетания, несмотря на все принятые мною меры предосторожности, меня вызвали в национальный банк, чтобы я подписал поручительство за мою жену.
Я пытался протестовать, но тщетно. Банк счел мою жену неплатежеспособной из-за того, что она, снова вступив в брак, перестала быть юридическим лицом, и, несмотря на мое страшное возмущение, я был вынужден подписать предложенный мне документ и поставить свое имя рядом с именем барона. Если бы я тогда знал, что делаю! Но я, этакий идиот, был уверен, что справедливо все то, что люди света считают приличным.
Барон пришел с визитом к новобрачным в тот вечер, когда у меня в комнате сидел один мой приятель. Присутствие в доме моего предшественника мне показалось проявлением дурного вкуса, но поскольку его самого не смущала встреча с его преемником, я виду не подал, что считаю его визит неуместным. Однако, провожая моего друга в передней, я не счел нужным представить его барону. За это я получил нагоняй от своей жены, которая обвинила меня в грубости. Я ей ответил, что она зато совершенно лишена такта.
Разыгралась настоящая ссора, во время которой меня убедили, что я очень дурно воспитан. Так слово за слово, поскольку представился подходящий случай, мы коснулись другого больного вопроса. Я высказал наконец свое неудовольствие по поводу того, что у нас на стенах висят картины из дома барона.
– Нельзя возвращать подарки, это оскорбляет друга, который их преподнес, – ответила она мне, – да к тому же он ведь хранит те вещи, которые ты ему дарил в знак дружбы и доверия.
Красивое слово «доверие» меня оглушило. Но тут я понял, что есть еще один предмет, который мне колет глаза и пробуждает неприятные воспоминания.
– Откуда ты взяла это бюро?
– От моей матери.
Это было правдой, но она скрыла, что бюро стояло в квартире ее первого мужа.
Какое отсутствие деликатности, какая пропасть дурного вкуса, какое безразличие к моей чести! Уж не специально ли она все так устроила, чтобы выставить меня в дурном свете в глазах общества? Уж не попал ли я в западню к настоящей мегере?
Я не умел защищаться от ее дьявольской логики и всецело доверился ей, надеясь, что ее изысканное воспитание поможет нам обойти все рифы в тех сложных обстоятельствах, в которых мое образование не могло мне подсказать правильного поведения. У нее и в самом деле был готов ответ на все случаи жизни. Барон, уверяла она, никогда ничего не покупал для дома. Все там принадлежало ей, решительно все. И поскольку барон в свое время жил в квартире, где стояла мебель моей жены, я вполне могу, не испытывая при этом никаких сомнений и неловкости, сохранить в своем доме те вещи, которые принадлежат моей собственной жене.
Эта ее фраза, что барон пользовался вещами моей жены, доставила мне большое удовлетворение, и когда картины, которые висели на стенах моей гостиной, стали доказательством идеального характера наших отношений, выражением высокого доверия, я их уже не посмел тронуть и – о святая наивность! – считал себя обязанным сообщать всем посетителям имя автора этих пейзажей.
Если бы я знал тогда, что именно я, простолюдин, был носителем врожденного такта и инстинктивного хорошего вкуса, с которыми нередко сталкиваешься и в низших классах и которые часто отсутствуют у светских людей, хотя они и умеют покрыть лаком грубость своей души!
Если бы я знал тогда, какого рода женщине я вверил свою судьбу, но я же этого не знал!
Оправившись после родов, Мария выразила желание немножко рассеяться, поскольку она устала от домашнего заточения. И она стала ходить в театры, чтобы, как она говорила, учиться, и посещать всевозможные праздники, в то время как я сидел дома и работал. Теперь, когда она вновь стала замужней женщиной, для нее открылись те двери, куда ее не допускали как разведенную жену. Она настаивала, чтобы я всюду сопровождал ее, потому что постоянное отсутствие мужа производило дурное впечатление. Но меня это нисколько не смущало, и, ссылаясь на наш устный договор, я заверил ее, что она располагает полной личной свободой и вольна ходить, куда ей заблагорассудится.
«Почему она всегда без мужа? Его совсем не видно», – все говорят.
– Неважно, зато его скоро услышат! – ответил я.
Слово «муж» стало в ее устах как бы прозвищем, и она привыкла смотреть на меня сверху вниз.
В течение долгих часов, которые я проводил в одиночестве дома, я писал этнографический трактат, который мне наверняка обеспечит еще одно повышение в библиотеке. Я вступил в переписку с крупнейшими учеными Парижа, Берлина, Санкт-Петербурга, Пекина, Иркутска, и на моем столе сходились нити научных связей, охватывающих своей сетью весь Старый Свет. Мария всего этого не понимала и сердилась на меня за то, что я не писал комедий. Я просил ее запастись терпением и не считать мою работу потерей времени. Но она слышать не хотела о всех этих научных изысканиях, «китайской грамоте», как она их называла, которые не приносили ничего реального, и хоть я обладал поистине сократовским терпением, она начинала меня мучить не хуже Ксантиппы [21], обвиняя в том, что я проматываю ее приданое (ах, это вечное' приданое!) ради какой-то чепухи.
Так текла наша жизнь, исполненная горечи, но и не лишенная сладостных минут. При этом мне ежедневно преподносилась в виде закуски порция тревоги за судьбу Марии в театре. Уже в марте начали ходить слухи, что в конце мая, когда заключаются новые контракты, ожидается обновление труппы Королевского театра. В течение этих трех месяцев помимо обычных слез проливались еще дополнительные, причем потоками, а дом наш стал местом сборища всех неудачников, когда-либо служивших в Королевском театре. Моя душа, обретшая аристократизм в результате накопления знаний и развития моего таланта, испытывала отвращение к этому гнусному обществу, состоящему из людей безо всяких достоинств, без образования, зато исполненных чванства и выплескивающих под видом откровений оскорбительные банальности, бытующие в среде комедиантов.
Вконец измученный этими бессмысленными сборищами идиотов, я в конце концов попросил мою жену извинить меня за то, что я не в силах больше принимать в них участие, и посоветовал ей тоже держаться подальше от всей этой мелюзги, потому что их общество только унижает нас и отнимает мужество.
Тогда она обозвала меня аристократом, употребив это слово как ругательство.
– Да, я аристократ, – ответил я ей, – в том смысле, что стремлюсь к высотам таланта, но не имею, разумеется, никакого отношения к господам, которые кичатся своими дворянскими грамотами, однако это не мешает мне разделять страдания обездоленных.
Задумываясь теперь, как могло случиться, что я прожил годы рядом с женщиной, которая меня все время щипала и таскала за волосы, которая обкрадывала меня ради собаки и вступала в сговор со своими подругами, я приписываю это только тому, что умел довольствоваться малым, а также своему аскетизму, который меня учил не очень-то много ждать от людей, но прежде всего это объясняется, конечно, моей любовью. Она была так неуемна, что это даже обременяло Марию, и иногда она давала мне понять, что мое самозабвенное чувство ее тяготит. Но за те минуты, когда она бывала со мной нежной, когда я мог положить свою пылающую голову ей на колени, когда она гладила мою львиную гриву, – за эти минуты я готов был все забыть, все простить, я был безмерно счастлив и весьма неосмотрительно признавался, что не могу существовать без нее и жизнь моя отныне висит на ниточке, которую она держит в своей руке. Мария постепенно привыкла смотреть на меня свысока, и поскольку я всячески принижал себя, то стал выглядеть в ее глазах младенцем, с которым надо говорить, непременно сюсюкая.
Вот так я и оказался всецело в ее власти, которой она вскоре начала злоупотреблять.
Когда наступило лето, Мария с прислугой выехала за город. Чтобы ей не быть одной, когда дела задерживали меня в городе, часто по шесть дней в неделю, она пригласила подругу пожить на даче, как говорится, «на полном пансионе», хоть я и предупреждал, что у нее не будет на это денег и нам этот расход не по карману, учитывая ограниченность наших средств. Как только не поносила меня Мария, как не упрекала за то, что я обо всех думаю всегда плохо, и я, боясь ее немилости, как всегда, уступил.
Проведя всю неделю в работе и одиночестве, как холостяк, я мечтаю о субботнем отдыхе, и, ликуя, сажусь в поезд, потом иду пешком под палящим солнцем полторы мили и несу сумки с бутылками и провизией для воскресного обеда. Дорогой я представляю себе, как Мария, заметив меня, бросится мне навстречу, раскинув руки, она видится мне с распущенными волосами, с порозовевшими от свежего деревенского воздуха щеками, и мысли эти доставляют мне наслаждение. Не без удовольствия думаю я и о накрытом к моему приходу столе, об ожидающем меня вкусном обеде, потому что после утреннего кофе у меня за весь день крошки во рту не было. Вот уже показался наш домик между соснами, обрамляющими озеро, но одновременно я вижу, как Мария и ее подруга в светлых летних платьях бегут наперегонки к купальне. Я кричу что есть мочи, я готов поклясться, что они не могут не слышать моего голоса, но они только ускоряют бег, словно спасаясь от кого-то, и, не обратив на меня никакого внимания, исчезают в купальне.
Что бы это могло значить?
Я вхожу в дом, и тут же появляется служанка, у нее растерянный вид, словно она ожидает неприятного объяснения.
– Где дамы?
– Пошли купаться.
– А обед?
– Будет не раньше четырех часов, потому что они встали поздно, и у меня ушло много времени, чтобы помочь барыне привести себя в порядок.
– Скажи, ты слышала, как я кричал?
– Конечно.
Выходит, они попросту сбежали от меня, видно, гонимые чувством вины, а я, голодный, усталый и злой, вынужден в результате провести битых два часа в ожидании их возвращения.
Что за прием после того, как я целую неделю работал и скучал по ней? И сердце мое сжимается от мысли, что она удрала от меня, будто провинившаяся школьница.
Наконец появляется Мария и застает меня задремавшим на диване и в весьма дурном настроении. Она как ни в чем не бывало целует меня, надеясь предотвратить грозу, но нервы мои не выдерживают, да и пустой желудок не насытишь нежными словами, а стиснутое сердце не расслабляется от лживых поцелуев.
– Ты сердишься?
– Сердятся мои нервы, пощадила бы ты их!
– Я не кухарка!
– Я этого и не считаю, но не мешай кухарке делать то, что она обязана делать.
– Но, дорогой мой, Амелия, раз мы ее взяли на пансион, тоже имеет право на внимание прислуги.
– Неужели ты не слышала, как я тебя звал?
– Нет!
Она врет! И это удручает меня больше всего.
Наш обед, долгожданный обед, превращается в муку. А потом Мария плачет, проклинает брак, святой брак, счастливый брак, единственное ее счастье, на груди у подруги, и целует мерзкого пса.
Да, она жестока, коварна и лжива, но сердце у нее чувствительное.
И вот в таком духе, правда, в разных вариантах, это продолжается все лето, я провожу воскресные дни в обществе двух идиоток и собаки. Меня убеждают, что все наши неурядицы происходят исключительно из-за моих больных нервов, и Мария с Амелией настоятельно советуют мне обратиться к врачу.
В воскресенье утром, когда я решил устроить прогулку на лодке по озеру, моя дорогая выходит из своей комнаты лишь к полудню – так затянулся ее туалет, – и я вынужден гулять в полном одиночестве до обеда, когда уже ни о каком катании на лодке не может быть и речи.
Да, у нее чувствительное сердце, но это нимало не мешает ей все время меня подкалывать, зато она проливает горькие слезы по утрам, когда садовник собирается резать кролика на обед, а ночью, уже в постели, она шепчет мне, что молила бога, чтобы бедный кролик не очень страдал от удара ножа.
Известный психиатр недавно определил одну из распространенных маний такими симптомами: преувеличеная любовь к животным в сочетании с сердечной жестокостью к себе подобным.
Эта женщина, которая в слезах молится за кролика, убивает человека. Да еще с улыбкой на устах!
В последнее воскресенье, которое мы провели в деревне, Мария отвела меня в сторону и, хваля за великодушие, попросила, взывая к моей доброте, не брать с Амелии денег за то, что она жила у нас на пансионе, потому что доходы ее очень скудны.
Ни слова не говоря, я соглашаюсь, ничем не обнаруживая своего злорадства по поводу того, что предвидел это, и не высказывая своего подозрения, что все это было заранее обдумано и подстроено. Но Мария, которая всегда вооружена до зубов на случай возможного спора, добавляет, чтобы покончить с этим разговором:
– Впрочем, я могу заплатить тебе эти деньги за нее.
Пусть так, однако кто заплатит за все неудобства и неприятности, которые причинило мне ее пребывание у нас, но… друзьям не следует предъявлять на все счет!
Наступил Новый год, а с ним – всеобщий финансовый крах, который потряс нашу древнюю страну, и в числе многих других лопнул и тот банк, акции которого мне одолжила Мария. Под их залог я получил тогда заем, а теперь выходило, что я взял эти деньги безо всякого залога, так как акции потеряли ценность. С меня потребовали либо новое поручительство, либо немедленное погашение займа, и это было для меня полной катастрофой. К счастью, в конце концов, после бесконечных переговоров и волнений, мне все же удалось составить соглашение между несостоятельным должником, то есть мною, и моими кредиторами, в результате которого я получил отсрочку на год. Страшный год, самый страшный из всех!
Как только удалось уладить эту историю, я тут же снова берусь за дело. Продолжая служить в библиотеке, я начал работу над большим романом о современных нравах, а также стал писать множество статей для газет и журналов и не прекратил при этом заниматься моим трактатом. Несмотря на то, что театральная карьера Марии уже находилась на явном исходе, с ней все же продлили контракт еще на сезон, правда, с понижением жалованья до 14 тысяч франков в год. Вот так я и оказался более состоятельным, чем она, ибо ее разорил всеобщий финансовый крах.
Настроение у Марии ужасное, и это все время отзывается на мне. Желая во что бы то ни стало восстановить со мною материальное равенство, она в доказательство своей независимости пытается получить некую ссуду, однако ее усилия ни к чему не приводят и только позорят меня, как этого и следовало ожидать. Хоть она движима добрыми побуждениями, практической сметки у нее нет, пытаясь меня спасти, она на самом деле меня губит, вешая на меня тяжелые гири. И благодаря ее за добрую волю, я тем не менее вынужден быть с ней весьма строгим.
С годами она стала брюзгливой, и в характере ее появились теперь черты притворства. Произошло несколько случаев, которые сильно насторожили меня на ее счет.
В театре как-то готовился маскарад, и я с трудом вырвал у нее обещание, что она не нарядится в мужской костюм. Она поклялась, что не сделает этого, раз это для меня почему-то так важно, хотя я не смог объяснить ей причину. Однако на следующий день я узнал, что она пришла на маскарад в смокинге и, более того, согласилась принять участие в мужском ужине, устроенном как мальчишник. Я был очень огорчен, что она меня обманула, но то, что она была на этом ужине, меня просто возмутило.
– Разве я не свободна? – в гневе воскликнула она.
– Нет, ты замужем. Между нами должна быть солидарность, раз ты носишь мое имя. Если тебе не жаль своей репутации, то пожалей хоть мою, которая пострадает еще больше.
– Выходит, я не свободна!
– Да, никто не свободен в обществе, ибо судьба твоих ближних неразрывно связана с твоей судьбой! Послушай, если бы ты узнала, что я ужинаю исключительно в дамском обществе, как бы ты к этому отнеслась?
Но она все же заявляет, что считает себя свободной в своих действиях и, защищая эту свободу любой ценой, готова опорочить мою репутацию, ибо свободна вести себя как ей вздумается. Что за дикое существо, понимающее эту самую свободу исключительно как право на деспотизм, как право топтать честь и счастье других!
Не успели мы перестать ссориться, рыдать и устраивать друг другу истерики по этому поводу, неожиданно возникла новая история, встревожившая меня еще более, ибо я не очень-то сведущ в тайнах сексуальной жизни, и всякие аномалии в этой области пугают меня и кажутся зловещими, как и все, что трудно сразу осмыслить.
Итак, однажды вечером, когда служанка в соседней с моей комнате стелила постель Марии, до меня донеслись приглушенные выкрики, сдавленный смех и какие-то смутные восклицания, как бывает, когда кто-то кого-то щекочет. На меня эти звуки произвели неприятное впечатление, и, поддавшись безотчетному порыву, который я не могу объяснить, но который мог завершиться только взрывом бешенства, я резко распахнул приоткрытую дверь и увидел Марию, которая обнимала служанку, видно, желая ее поцеловать.
– Что вы тут делаете, несчастные! – воскликнул я.
– Я играю со служанкой, – с вызовом ответила Мария. – Тебя это не касается!
– Нет, касается, и даже очень. Пусть она уйдет!
Когда мы оказались вдвоем, я объяснил ей всю странность ее поведения.
В ответ она стала поносить мое «пакостное воображение» и, как уже не единожды прежде, назвала меня развращенным циником, который во всем видит одну только грязь.
И я лишний раз убедился, сколь опасно уличать женщину. Мария выплеснула мне на голову целый горшок оскорблений.
Поскольку мы стали обсуждать все эти темы, я ей напомнил, что когда-то она сама призналась мне в безумной любви к своей кузине, красавице Матильде, и на это она ответила, как мне показалось, со всей искренностью, что сама была удивлена этому чувству, нимало не подозревая прежде, что женщина может так страстно влюбиться в другую женщину.
Это наивное признание Марии несколько успокоило меня, но я тут же вспомнил, как Мария в доме моего зятя, в присутствии множества людей, призналась, что испытывает к своей кузине чисто любовное влечение, и ничуть не смутилась, ибо не сознавала тогда, что такое чувство противоестественно.
Короче говоря, тут мне стало как-то не по себе, и я, выбирая самые мягкие выражения, посоветовал ей воздержаться от отношений такого рода, вначале, быть может, невинных, но могущих привести к труднооценимым последствиям.
Она же, вопреки всякой логике, назвала меня идиотом, – ей вообще было свойственно считать меня человеком невежественным, – и в конце концов заявила, что я просто-напросто лжец.
К чему было объяснять ей, что за такого рода поступки уголовный кодекс предусматривает наказание в виде каторжных работ, к чему было убеждать ее в том, что ежели женщина касается груди другой женщины, то этим она возбуждает ее, а значит, такие действия, как о том пишут в медицинских книгах, считаются порочными. Да ни к чему! В этих разговорах не было проку.
Так или иначе, развратником всегда оказывался я, ибо кому, как не мне, были известны все тайные пороки, а Мария упорно продолжала играть в свои невинные игры.
Настоящая дьяволица, хоть она сама и не осознавала этого, и ее, конечно, следовало бы изолировать, но не в тюрьме, а в специальном заведении, где перевоспитывают женщин.
В конце весны у нас в доме появилась новая подруга Марии. Актриса лет тридцати, законченная бездельница, которой тоже грозило увольнение из театра, она оказалась товарищем Марии по несчастью и поэтому была достойна всяческой жалости. Я отнесся к ней с сочувствием, когда узнал, что ее, красавицу, которую все прежде прославляли, теперь собирались выгнать по той только причине, что дирекции театра надо было освободить место для дочери знаменитой трагической актрисы. Триумф победителя, как известно, требует истребления побежденных.
Тем не менее особа эта была мне несимпатична, потому что напоминала хищницу, выслеживающую дичь, и я заметил, что она пытается мне льстить, производить на меня впечатление, чтобы обмануть меня, догадываясь, видимо, о проницательности моих глаз. Время от времени происходили сцены ревности между старой и новой подругами, и они передо мной оговаривали друг дружку, как только могли, но я не прислушивался к их словам.
В конце лета выяснилось, что Мария снова забеременела, роды надо было ожидать в феврале. Известие это потрясло меня как гром среди ясного неба, и теперь мне надо было мчаться вперед на всех
парусах, чтобы до указанного срока осуществить все свои начинания.
В ноябре вышел из печати мой роман и имел шумный успех. Он принес нам много денег, мы были спасены!
Наконец я чего-то достиг, пробился, вырвался из толпы, стал -мастером, и я смог вздохнуть, впервые после года, да куда там, после многих лет несчастий и отчаяния. Мы ожидали рождения ребенка с радостной надеждой, мы нарекли его еще до того, как он появился на свет, а на рождество накупили ему подарков. Мы хвастались этим бестелесным младенцем, и друзья наши частенько спрашивали, как поживает рutte [22], словно он уже существовал.
Лично я был уже пресыщен славой и поэтому решил реабилитировать актерскую репутацию Марии и спасти ее карьеру. С этой целью я взялся писать для Королевского театра четырехактную пьесу, поставив в центре весьма привлекательный женский образ, чтобы снова завоевать для Марии симпатии публики. И я сумел все так организовать, что ко дню родов пьеса была принята к постановке и главная роль обещана Марии.
Казалось, все шло к лучшему в этом лучшем из миров, и после рождения ребенка у меня снова возобновились отношения с моими родственниками.
Настала счастливая, светлая пора моей жизни, в доме теперь всегда был не только хлеб, но и вино, молодая мать, окруженная любовью и почетом, буквально оживала на глазах, ее уже несколько приувядшая красота снова пышно расцвела, а чувство вины, которое она испытывала перед умершим ребенком, заставляло ее с особенным вниманием относиться к новорожденному.
Когда наступило лето, я уже получил право попросить отпуск на несколько месяцев и решил провести его вместе со своей семьей вдали от цивилизации, на зеленом дальнем островке шхер.
Как раз в это время плоды моих научных занятий посыпались на меня как из рога изобилия. Мой трактат удостоился исключительной чести быть прочитанным в Академии в присутствии многих академиков. Меня избрали членом всевозможных иностранных научных обществ, и я был награжден медалью Русского императорского географического общества.
В тридцать лет я достиг заметного положения и в литературе и в науке, передо мной открывалось блестящее будущее, и я был счастлив, что мог сложить все эти трофеи к ногам Марии, которая, однако, не столько радовалась моим успехам, сколько обижалась на меня за то, что я нарушил равновесие между нами. Поэтому я старался вести себя как можно скромнее, чтобы избавить ее от унижения быть женой человека, стоящего значительно выше нее. Как великан, я разрешил ей играть со своей бородой, и она сразу же начала злоупотреблять своей властью, унижая меня перед прислугой, перед друзьями дома, а особенно перед своими подругами. Она стремилась как можно больше раздуться за счет моего воздуха, и чем больше я сгибался перед ней, тем больше она топтала меня. Я поддерживал в ней иллюзию, что это ей я обязан своей славой, о которой она либо не подозревала вовсе, либо делала вид, что презирает ее, и мне доставляло истинное наслаждение изображать себя ниже нее, мне нравилась роль забитого мужа одаренной прелестной женщины, так что в конце концов она начала верить в свою гениальность. То же самое происходило и в нашей повседневной жизни. Будучи очень хорошим пловцом, я научил Марию плавать. Чтобы ободрить ее, я разыгрывал страх перед водой, и она с большим удовольствием рассказывала о своих смелых заплывах, всякий раз при этом выставляя меня на всеобщее посмешище, но я только радовался этому.
Унижаясь таким образом перед матерью моего ребенка, я совершенно упускал из вида, что моей жене тридцать лет, самый опасный возраст в жизни женщины, и что уже появляются некоторые тревожные симптомы, быть может, еще и не влекущие за собой роковых последствий, но все же содержащие зерна большого разлада.
После родов к нашей духовной несовместимости прибавилась еще телесная, и наши объятия начали тяготить нас обоих. Она стала законченной кокеткой, и то ли ее забавляло мучить меня ревностью, то ли ее подстегивали неутоленные желания, но, так или иначе, я начал замечать в ней тревожащие меня намерения.
В одно прекрасное утро мы наняли парусную лодку, чтобы отправиться на морскую прогулку. Я держал руль и управлял большим парусом, а молодой рыбак, хозяин лодки, – фоком. Он сидел напротив моей жены. Вскоре ветер улегся, и лодку перестало качать. Тут я заметил, что рыбак искоса поглядывает под скамейку на ноги моей жены. Тогда я начал наблюдать за Марией и увидел, что она внимательно рассматривает брюки рыбака. Мне показалось, что все это сон, и я повернулся, чтобы напомнить ей о своем присутствии. Мария, проявляя исключительное хладнокровие, тут же опустила глаза, как бы заинтересовавшись шнурками грубой обуви парня, и, не очень-то ловко найдясь, спросила:
– Скажите, сколько стоят ваши башмаки?
Ну, как можно отнестись к такому глупому вопросу? Чтобы разорвать нить ее сладострастных мечтаний, я, ухватившись за первый попавшийся предлог, предложил ей поменяться со мной местами.
Я постарался забыть эту взволновавшую, более того, потрясшую меня сцену и уверял себя, что просто ошибся, хотя тут же мне вспомнились те давние времена, когда она бросала на меня точно такие же похотливые взгляды, словно прощупывая под одеждой мое тело.
Однако неделю спустя все мои подозрения на ее счет вспыхнули с новой силой из-за происшествия, которое почти что убило все мои надежды пробудить мать в этом порочном существе.
Один наш друг, причем из самых близких, приехав к нам погостить, был исключительно любезен с Марией, а она в ответ стала с ним откровенно кокетничать. Вечером мы пожелали друг другу спокойной ночи, и Мария сделала вид, что идет спать.
Полчаса спустя до меня донеслись голоса с балкона, я тут же вышел из своей комнаты и застал своего друга и Марию сидящими за столиком, на котором стояла бутылка коньяку. Глубоко возмущенный этим, я все же вида не подал, но утром жестоко упрекнул ее за бесстыдство, за то, что она выставляет меня на смех перед друзьями.
Слушая меня, она только смеялась, а потом заявила, что я полон предрассудков, что у меня «пакостное воображение», ну и тому подобные словечки из ее обычного репертуара.
Тогда я взорвался, наговорил ей резкостей, она же устроила небольшую истерику, и мне пришлось просить у нее прощения. Прощения за то, что я считаю ее безупречное поведение плохим.
Доконали меня следующие ее слова:
– Неужели ты думаешь, дорогой, что я хочу еще раз пережить ужас развода?!
Вспоминая все, что мне пришлось вытерпеть за последнее время, я наконец заснул безмятежным сном обманутого мужа.
Что такое кокетка? Женщина, которая кого-то приглашает. А кокетство? Это приглашение, и не более того!
А что такое верность? Верность – это боязнь потерять самое ценное! А ревнивец? Мужчина, которого выставляют посмешищем по той смешной причине, что он, видите ли, не желает терять этого «самого ценного»!
Тем временем карьера моя семимильными шагами шла от успеха к успеху. Все долги были погашены, деньги сыпались на нас со всех сторон, но, несмотря на то что я давал очень большие суммы на ведение хозяйства, наши домашние дела были всегда запутаны. Мария, которая вела запись расходов и распоряжалась деньгами, требовала от меня все больших и больших сумм. И у нас на этой почве завязались прямо-таки кровавые бои.
В это же время закончилась ее театральная карьера, и все последствия этого тяжело отразились на мне. Она считала, что все случилось исключительно по моей вине, из-за того, что она вышла за меня замуж. Она, видно, совершенно забыла, что не кто-нибудь, а я написал ей роль, в которой она, к слову сказать, провалилась, потому что сыграла исключительно бледно.
Как раз в эти годы впервые произошел великий вселенский розыгрыш, вошедший в историю под названием «женский вопрос». Началось все с пьесы, написанной одним знаменитым норвежцем [23], которого, при всех его мужских статях, нельзя не считать синим чулком. Она послужила как бы сигналом к тому, чтобы всеми глупыми головами маниакально завладела мысль о несчастной судьбе порабощенных женщин. Поскольку я не дал себя обмануть, то был немедленно зачислен в разряд женоненавистников.
Во время очередной ссоры, когда я выложил Марии все, что о ней думаю, она закатила истерику, но на этот раз не малую, а большую. И вот именно тогда и произошло самое большое открытие девятнадцатого века в области лечения нервных заболеваний. Оно оказалось простым, как все великое.
Когда мне надоело слушать ее нестерпимые вопли, я схватил графин с водой и громогласно произнес магическую формулу:
– Вставай, не то окачу!…
Вопли немедленно стихли, и моя любовь подарила мне взгляд, в котором соединялись воедино восхищение, нежная благодарность и смертельная ненависть.
Я испугался, но проснувшийся во мне самец не отпустил свою добычу, и, размахивая графином, я прокричал:
– Перестань кривляться, не то я тебя утоплю!
Она тут же вскочила на ноги, честя меня негодяем, мерзавцем, жалкой тварью, что и явилось разительным подтверждением того, что лечение удалось на славу!
О вы, обманутые или не обманутые мужья, поверьте мне, вашему преданному и искреннему другу, что я преподал вам ценный опыт лечения истерии. Пользуйтесь им всегда!
С того дня эта женщина приговорила меня к смерти и начертала сей приговор в своей записной книжке. Та, которую я обожал, возненавидела меня! Я оказался опасным свидетелем женского притворства, и поэтому весь женский род решил, что меня надо лишить жизни и в физическом, и в моральном смысле. Мой домашний палач взял на себя выполнение этого приговора – как ни трудна стоящая перед ней задача, она замучает меня до смерти!
Прежде всего, в одной из комнат нашей квартиры Мария под видом жилички поселила свою подругу. Она сделала это против моей воли, несмотря на страшные сцены, которые разыгрались по этому поводу между нами. Мария хотела взять ее на полный пансион, но я категорически возражал и настоял на своем. Тем не менее подруга эта без конца торчала в наших комнатах, я повсюду на нее натыкался, перед моими глазами все время мелькали ее юбки, так что в конце концов мне начало казаться, что я двоеженец. А по вечерам, когда я хотел быть в обществе своей жены, она всегда сидела в комнате у подруги, где они приятно проводили время за мой счет, куря мои сигары и выпивая мой пунш. И я стал ненавидеть эту подругу, и так как мне едва удавалось скрывать свои чувства, я то и дело получал выговоры от Марии, которая уверяла, что я просто груб с этой «бедной девочкой».
А «бедная девочка» тем временем, не ограничившись тем, что отняла жену у мужа и мать у ребенка, брошенного на порочную 45-летнюю мегеру, завела еще дружбу с кухаркой, и они стали на пару хлестать мое пиво, причем напивались настолько, что кухарка засыпала прямо у плиты, и все к черту подгорало. Не говоря уже о том, что количество покупаемых бутылок пива росло невообразимо и доходило теперь уже до полтысячи в месяц. Мне становилось все более ясно, что подруга эта настоящий вампир, пожирательница мужчин, и меня она избрала своей жертвой. Как-то раз Мария показала мне пальто, которое собиралась купить. Мне не понравился ни цвет его, ни фасон, и я посоветовал ей выбрать другое. Тогда подруга заявила, что оставит пальто себе, а я и думать забыл об этой истории. А полмесяца спустя я вдруг получил счет за пальто, якобы приобретенное моей женой. Я навел справки и выяснил, что Мария не устояла перед соблазном шантажировать своего мужа. Впрочем, такого типа выходки были широко распространены в актерском полусвете.
Как обычно, гнев провинившихся обрушился на меня, но я все же посоветовал Марии прекратить отношения с этой опасной авантюристкой.
Час от часу не легче! Однажды моя жена, разыгрывая на этот раз роль исполненной милосердия покорной супруги, стала униженно просить у меня разрешения проводить подругу, эту «бедную девочку», к старому приятелю ее покойного отца, у которого та намеревалась одолжить немного денег. Эта просьба показалась мне настолько странной, что я сразу углядел в ней зловещую ловушку, тем более что подруга жены пользовалась дурной репутацией и, по слухам, не раз вступала в связь со стариками, поэтому я, охваченный ужасом, умолял Марию во имя ее невинного ребенка опомниться и развеять дурман, чтобы не свалиться в пропасть, но в ответ услышал все те же обвинения в «пакостном воображении». Воистину час от часу не легче!
Во время завтрака, который устроила эта подруга, надеясь вынудить одного знаменитого актера сделать ей предложение, мне был преподнесен еще один сюрприз, который окончательно пробудил меня от летаргии.
Пили много шампанского, как обычно, и все дамы были уже навеселе. Мария расположилась в кресле, а ее подруга уселась к ней на колени, и они все время целовались.
Заметив это, один из присутствуюших актеров, словно найдя подтверждение уже высказанному кем-то наблюдению, указал своему товарищу на нежничающих женщин и воскликнул:
– Вот так пассаж! Не угодно ли!
Вне всякого сомнения, он намекал на сплетни, порочащие этих дам, и его восклицание прозвучало двумысленно.
Увы, что поделаешь!
Когда мы вернулись домой, я снова стал умолять Марию вести себя попристойнее и ради своего ребенка избегать поступков, которые могут очернить ее репутацию. В ответ она, нисколько не таясь, призналась, что ей доставляет большое удовольствие глядеть на красивых девушек, ласкать их, что она ведет себя так не только с этой подругой, но и с другими актрисами в их гримировальных комнатах и что не намерена отказываться от своих забав, поскольку они вполне невинны и приобретают гнусный сладострастный оттенок лишь в моем «пакостном воображении».
Никакими силами ее не удавалось переубедить! И я подумал, что только новая беременность сможет пробудить в ней дремлющие материнские инстинкты. Когда же это наконец случилось, Марию охватила бешеная ярость, но обстоятельства волей-неволей возвратили ее на несколько месяцев в дом, к семейному очагу.
Однако после родов она сразу же пускается во все тяжкие. То ли страх перед последствиями порочных склонностей заставляет ее снова рядиться в одежду кокетки, то ли в ней опять вспыхивают женские инстинкты, но в этот период она начинает буквально преследовать мужчин, да так откровенно, что у меня это даже не вызывает серьезной ревности.
Не чувствуя больше никаких обязательств, изнывая от безделья, вся во власти своих капризов, она превращается в настоящего деспота и ведет со мной войну, как говорится, не на жизнь, а на смерть.
Она пытается, например, доказать мне, что иметь трех служанок дешевле, чем двух, и тогда я, будучи не в силах спорить с этой сумасшедшей, беру ее за руку и попросту выставляю за дверь.
Она поклялась отомстить мне за это и тут же, несмотря на мой запрет, наняла третью служанку, в результате чего хозяйство наше совсем разладилось. Служанки целый день ссорились между собой, ходили захмелевшие от огромного количества выпитого пива и за наш счет кормили на убой своих любовников.
И, словно в завершение моего супружеского счастья, одна из наших дочерей заболела, и тогда у нас оказалось уже не три, а пять прислуг, не считая двух постоянно приходящих докторов, й наш ежемесячный дефицит исчислялся теперь суммой в 500 франков. Я работал как вол, чтобы его покрыть, и мои нервы постепенно начали сдавать.
О, как она мучила меня вечными попреками, что я растратил ее приданое, существовавшее только в ее воображении! При этом она заставила меня ежемесячно выплачивать содержание своей тетке в Копенгагене, также обвинившей меня в растрате ее состояния, ссылаясь – в это трудно поверить – на устное распоряжение матери Матильды, которая будто бы велела Марии поровну разделить все доставшиеся ей деньги с копенгагенской теткой. Получить в наследство эту бездельницу, женщину никчемную, но имеющую большие аппетиты, было для меня совершенной неожиданностью, тем более что все эти якобы растраченные мной деньги в природе не существовали и были лишь миражем. Тем не менее я согласился, и даже более того, дал себя уговорить подписать долговое обязательство для старой подруги Марии, той таинственной авантюристки номер один. Я вообще на все соглашался, потому что обожаемая женщина решила теперь продавать мне свою любовь, а за ее объятья я был готов признать себя виновным и в том, что растратил не только ее состояние, но и состояние тетки, и в том, что, женившись на ней, погубил ее артистическую карьеру, и в том, наконец, что разрушил ее здоровье.
С этого времени в наш брак вошла узаконенная проституция.
Поскольку я во всем признаюсь и со всем соглашаюсь, она создает легенду о моих преступлениях, которую впоследствии подхватит желтая пресса, а пока эту легенду распространяют, перемывая мне косточки, все ее подруги, которых я в свое время выставил за дверь.
Мария стала одержима безумным желанием меня разорить, в течение одного года я ей вручил 12 тысяч франков на ведение хозяйства, но этого оказалось мало, и мне пришлось брать авансы у издателей, когда же я жаловался на слишком большие расходы, она мне отвечала:
– Не надо было делать столько детей! Ты вверг свою жену в нищету! Как я могла пожертвовать своим прекрасным положением в театре ради такого ничтожества, как ты!
На что я ей отвечал:
– Моя дорогая, когда ты была баронессой, твой муж давал тебе всего две тысячи франков в год, да к тому же делал долги! А теперь ты получаешь в шесть раз больше и все недовольна!
Она отмалчивалась, но морила меня голодом, так что уже к вечеру я был готов согласиться с тем, что 2 тысячи франков в шесть раз больше 12 тысяч, и признать, что я жалкая тварь, скупердяй, этакий «Милый друг» Мопассана, который добился успеха исключительно стараниями своей обожаемой жены, причем обожаемой только в ночной рубашке!
Чтобы выпустить скопившуюся желчь, Мария решила сочинить роман и вывести в нем женщину-рабыню, которую эксплуатирует преступный мужчина. Она уже написала первую главу. А из всех моих произведений встает ее образ – прекрасной, нежной, юной мадонны с белокурыми волосами, маленькой мамы, я воспеваю ее, создаю бессмертную легенду об этой чудо-женщине, которая по божьей милости вошла в мучительную жизнь поэта. Благодаря моим стараниям она, достойная лишь проклятий, пользуется незаслуженной славой и отмечена всеми критиками, которые не устают восхвалять доброго гения печального романиста.
И чем больше я страдаю от порочности этой менады [24], тем больше я стараюсь позолотить нимб вокруг головы святой Марии, чем больше действительность принижает меня, тем выше я возношу образ любимой. О, любовь!
Иногда мне казалось, что ненависть этой женщины ко мне такова, что она хотела бы избавиться от меня, чтобы начать свою жизнь в третий раз. Иногда я даже подозревал, что у нее появился любовник, потому что замечал в выражении ее лица какие-то незнакомые мне отсветы, и мои подозрения лишь усиливались от холодности, с которой она принимала мои ласки.
Внезапно в наш брак ворвалась ревность уже всерьез, и с этого момента для меня широко распахнулись ворота ада.
Однажды она объявила, что заболела. Болезнь эта была какой-то неопределенной и в конце концов сосредоточилась на спине, то ли в позвоночном столбе, то ли в почках, точно определить это было трудно.
Позвали нашего детского доктора, моего старого товарища по университету. Он обнаружил ревматические узлы на спинных мышцах и прописал массаж. Я, естественно, не возражал, поскольку болезнь была обнаружена, и Мария начала ежедневно ходить на массаж. Так как я был очень занят своей работой и мало сведущ в такого рода делах, я не обращал никакого внимания на ход лечения, но все же отметил про себя, что болезнь, видно, не очень серьезная, потому что Мария была все время на ногах, ходила в театр и в гости, не зная усталости.
Как-то вечером за столом одна гостья стала жаловаться на то, что так мало женщин-врачей, потому что дамам очень неприятно раздеваться в присутствии мужчин.
– Ведь правда же неприятно? – обратилась она к Марии, чтобы получить подтверждение.
– О, врачи не в счет!
Но я вдруг понял, что таилось за ее сеансами массажа, а когда я увидел, как гримаса жестокого сладострастия, которую я помнил еще со старых времен, вдруг исказила лицо Марии, страшное подозрение сжало мне сердце.
Конечно, она раздевалась в присутствии мужчины, причем мужчины, лишенного всяких предрассудков и известного своим распущенным нравом. Не предупредив об этом меня. Оставшись с ней с глазу на глаз, я стал расспрашивать, как все это происходило. Она объяснила, не задумываясь, что остается в юбке, а рубашку опускает так, что спина обнажается.
– И тебе не стыдно?
– А с чего это мне должно быть стыдно?
– Но ведь даже при мне ты стесняешься раздеться!…
Два дня спустя врач пришел к нам, потому что заболела дочка. Сидя в своей комнате, я услышал их более чем странный разговор, смех и какие-то шуточки. Вслед за тем моя дверь распахнулась, и они оба вошли, глядя на меня с насмешливыми улыбками.
Весь во власти мрачных мыслей, я с трудом включился в разговор, который вертится вокруг больных женщин.
– Ты в этом знаешь толк, старина! – воскликнул, обращаясь ко мне, врач. – Женские болезни… все понятно, не правда ли?
Тут я поймал на себе злобный взгляд Марии, в нем было столько ненависти, что у меня мурашки пошли по спине. Как только врач ушел, она обрушилась на меня с руганью.
– Проститутка! – бросил я ей в лицо, не сумев совладать с собою.
Слово это вырвалось у меня помимо воли, как выражение бессознательного недоверия. Но рикошетом это оскорбление пронзило и мое сердце, а когда я увидел своих детей, то со слезами на глазах упал на колени и принялся умолять Марию о прощении.
Она же разыграла оскорбленную невинность, и я успокаивал ее не менее двух часов.
Чтобы хоть чем-то искупить свой безобразный выпад и чувствуя, что ее ненависть ко мне все возрастает, я решил отправить ее на несколько недель в Финляндию, в театр, чтобы она поиграла на сцене, получила удовольствие и немного передохнула.
С этой целью я вступил в переговоры с директором театра и, получив его согласие, собрал необходимые деньги.
Наконец она уезжает, публика встречает ее с воодушевлением, как соотечественницу, она играет в спектаклях, ей дарят венки.
Оставшись один с детьми в деревне, я вдруг тяжело заболел и, думая, что нахожусь при смерти, вызвал ее телеграммой, не срывая этим, однако, ее гастролей, поскольку они к тому времени уже закончились.
К моменту ее возвращения я уже поправился, был на ногах, и тогда она обвинила меня в том, что я нарочно вырвал ее из объятий родных ложной телеграммой, лишив вполне невинных развлечений.
После поездки в Финляндию в ее непостижимой натуре произошел какой-то новый сдвиг, и у меня начинают возникать новые тревоги.
При первых же объятиях она, резко изменив своим привычкам, отдается мне безраздумно, и в тот миг, когда я из обычной опаски хочу прервать нашу близость, она с горячей настойчивостью удерживает меня, прошептав:
– Будь что будет!… Выпьем чашу счастья до конца!…
«Откуда вдруг появилось это великодушие и полное бесстрашие перед беременностью?» – спрашивал я себя, хоть и боялся задавать эти вопросы.
А с каким пьянящим воодушевлением рассказывает она о том, как приятно проводила время в поездке. И в порыве откровенности вспоминает об одном инженере, с которым познакомилась на пароходе. По ее словам, это был человек просвещенный, с современными взглядами, и он убедил ее в том, что грехов вообще не существует, а все зависит исключительно от обстоятельств судьбы.
– Несомненно, дорогая, согласен, но ведь любое действие не может не иметь последствий. Допустим, что нету грехов, поскольку нет персонифицированного бога, но все равно остается нравственная ответственность перед людьми, которым причиняешь зло. И хотя грех как таковой отсутствует, преступление все равно остается, ибо есть законы. Пусть теологическое понятие греха для нас больше не существует, но все равно нами владеет желание реванша или, если хочешь, мести тем, кто обидел нас или причинил ущерб.
Мария серьезно выслушала меня, но сделала вид, что не понимает, о чем я говорю.
– Но ведь только злые люди жаждут мести, – сказала она.
– Согласен, но в мире так много злых людей, и никогда нельзя быть уверенным, что человек, с которым ты столкнулся, готов получать от тебя удары, не отвечая на них.
– И все же судьба определяет наши поступки!
– Безусловно, но та же судьба направляет кинжал в руке мстителя.
В конце месяца у нее был выкидыш.
Теперь я уже не сомневался в том, что она изменила мне в Финляндии. И подозрения мои становились все более вескими по мере того, как она все больше наступала на меня.
Именно в это время она начала убеждать меня, что я сошел с ума и что все мои подозрения лишь результат умственного переутомления.
Я еще раз просил у нее прощения и в знак воцарившегося между нами мира сочинил пьесу для нее с большой женской ролью, которую невозможно плохо сыграть. Итак, семнадцатого августа я передал ей драму [25] вместе с дарственным актом, по которому она была вправе распоряжаться пьесой по своему усмотрению, отдать ее в любой театр при условии, что главная роль всегда остается за ней. Иными словами, я подарил ей два месяца своей работы, не получив в ответ даже слова благодарности. Она приняла это как жертву, которую я обязан приносить ее величеству опустившейся комедиантке.
Тем временем хозяйство наше шло прямым путем к полному разорению, но я ничего не мог тут поделать, поскольку каждый мой совет или вмешательство с гневом отвергались, как оскорбление. Я был вынужден смотреть, ничего не предпринимая, как прислуга расхищала весь дом, как бессмысленно тратились продукты, как небрежно смотрели за детьми.
Ко всем этим денежным затруднениям прибавились еще и ссоры.
Из поездки в Финляндию, которую я оплатил из своего кармана, она привезла 200 франков, заработанных ею выступлениями в театре. Я, естественно, считал, что эти деньги она внесла в наш хозяйственный бюджет. Однако задолго до истечения положенного срока она попросила у меня очередную сумму. Удивленный этой просьбой, я позволил себе весьма деликатно спросить ее, на что же она истратила свои деньги. Оказывается, она одолжила их своей подруге и, сославшись на закон, стала уверять меня, что имеет полное право располагать по своему усмотрению тем, что заработала.
– А я как же? – спросил я ее. – Разве изымать деньги из хозяйственного бюджета значит располагать ими?
– С женщины спрос другой.
– С порабощенной женщины? С рабыни, которая заставляет работать мужчину, чтобы ее содержать? Вот последствия вселенского розыгрыша с женской эмансипацией.
Все это и предвидел Эмиль Ожье в своем романе «Семья Фуршамбо» [26]; брак с разделом имущества превращает мужа в раба. Подумать только, что нашлись мужчины, которые дали себя обмануть и сами выкопали себе могилу! Покорный домашний скот!
Пока разворачивались мои семейные беды, я использовал свою возросшую литературную популярность, чтобы искоренять предрассудки и всяческие суеверия, сковывающие наше одряхлевшее общество, и, выпустив книжку сатирических рассказов [27], как бы бросил горсть камней в самых известных обманщиков и демагогов нашей столицы, в числе которых были и женщины, отрекшиеся от своего пола.
И тут все стали поносить меня как дешевого пасквилянта, а Мария, конечно, сразу же извлекла из этого свою выгоду и немедленно перешла на сторону моих злейших врагов. Она выбрала себе роль этакой благопристойной дамы и не выходила из нее ни днем, ни ночью, не переставая сетовать на то, что судьба связала ее со скандалистом, вроде бы и не помня, что я не только сатирик, но и известный романист и популярный драматург. Она изображала из себя святую страдалицу и сочла даже уместным высказать тревогу за будущее своих бедных детей, на судьбе которых не могут не сказаться последствия бесчестных поступков их опустившегося отца, промотавшего ее приданое, погубившего ее артистическую карьеру и к тому же так безобразно с ней обращающегося. В то же время одна продажная газетенка сообщила, что я сошел с ума. Пасквиль, за который, видно, хорошо заплатили, повторял всю ложь, распространяемую Марией и ее подругами, всю эту невообразимую грязь, которая может родиться только в темных мозгах женщин.
Эту битву выиграла она, и, увидев, что я пал, сраженный врагом, она тут же начинает играть роль всепрощающей матери блудного сына, и, используя свои самые обаятельные улыбки, которыми она щедро одаривает всех, кроме мужа, она завоевывает симпатии моих друзей, как искренних, так и фальшивых. А я оказываюсь в полном одиночестве, во власти женщины-вампира, и не пытаюсь даже защищаться. Разве я могу поднять руку на мать моих ангелочков, на женщину, которую обожаю, несмотря ни на что! Нет, об этом не может быть и речи!
Итак, я сдаюсь! И тогда она сразу же окружает меня удивительной нежностью, но только на людях, а дома, когда мы одни, нежность эта оборачивается оскорбительным презрением.
Надорвавшись от непосильной работы и от ее беспощадного со мной обращения, я заболел. Меня стали мучить мигрени, одолевала чрезвычайная нервная возбудимость и нестерпимые боли в животе. Врач поставил диагноз: катар желудка. Странные последствия умственного переутомления! И надо отметить, что болезнь эта началась только после того, как я сообщил о своем намерении уехать за границу, ибо это был единственный способ выбраться из силков, расставленных бесчисленными друзьями моей жены, постоянно во всем ей сочувствующими. И еще надо отметить, что моя таинственная болезнь обнаружилась лишь после того, как я вынес пузырек с цианистым калием из лаборатории одного моего старого друга, чтобы покончить с собой, и спрятал этот пузырек в шкатулке жены, которую она запирает на ключ.
Поверженный, недвижимый, лежу я на диване, наблюдаю за игрой моих детей, перебираю в памяти славные ушедшие денечки и готовлюсь к смерти, ни слова не написав, чтобы хоть как-то объяснить причину моего ухода из жизни и выразить свои постыдные подозрения.
Я смиряюсь с мыслью, что исчезну, убитый женщиной, которой я все простил.
Я выброшен за ненадобностью, как выжатый лимон. Мария следит за мной краем глаза, нетерпеливо ожидая, когда же я наконец уберусь на тот свет и она сможет без всяких помех пользоваться всеми доходами, которые принесет ей издание полного собрания сочинений уже ставшего знаменитым поэта, а, быть может, ей удастся и выхлопотать у правительства пенсии для его детей.
Возомнив о себе бог знает что после последнего успеха в театре, которого она добилась только благодаря моей драме, и, к слову сказать, вполне серьезного успеха, принесшего ей репутацию трагической актрисы, она получила еще одну роль, уже по своему выбору. Однако на этот раз она постыдно провалилась и вынуждена была признать, что не кто иной, как я, создал ее театральную славу, и от этого сознания ее ненависть ко мне, ненависть некредитоспособной должницы, вспыхивает с новой силой. Она обходит все театры в надежде получить роль, но тщетно. В конце концов она вынуждает меня снова вступить в переговоры с финской дирекцией, уговаривает бросить родину, близких людей, издателей и осесть в окружении ее друзей, а значит, моих врагов. Но и в Финляндии ее тоже не хотят принимать, и на этом театральная карьера Марии кончается.
Ведет она себя как эмансипированная женщина, свободная от всех обязанностей и жены и матери, а когда я из-за плохого самочувствия не в состоянии идти с ней на артистические вечера, она все же отправляется туда одна. Возвращается она под утро, сильно опьяневшая, подымает такой шум, что просыпается весь дом, и я с ужасом слышу, как ее рвет в детской, когда она ложится спать.
Что мне оставалось делать в этой ситуации? Разоблачить свою жену? Нет! Развестись с ней? Нет! Семья стала для меня некоей целостной живой структурой, наподобие растения или животного, а я – его неотторжимой частью. В одиночку я не мог бы теперь просуществовать ни дня, и даже с детьми, но без матери, тоже не мог бы. Моя кровь, струясь по большим сосудам, проникала затем в ее сердце и омывала тельца наших детей. Это была единая кровеносная система, питающая нас и соединяющая, и если перерезать хоть один сосуд, я тотчас обескровел бы и перестал жить… Вот почему измена жены является таким ужасным преступлением, и нельзя не согласиться с восклицанием «Убей ее!», которое вырвалось у одного знаменитого писателя, смертельно раненного сомнениями в своем отцовстве и не простившего этого своей вероломной жене.
Однако, в противовес такой позиции, Мария, ставшая оголтелой сторонницей прав женщин, провозгласила новую истину, заключающуюся в том, что жена не может считаться виновной, если она изменила мужу, поскольку не является его собственностью.
Не могу же я опуститься до того, чтобы шпионить за своей женой, да, откровенно говоря, и не хочу получать доказательства ее измен – они были бы для меня смертоносны. Скорее я готов без конца обманываться, существовать в вымышленном мире, который я могу опоэтизировать по своему желанию.
Тем не менее я чувствовал себя раненым. Я не был уверен, что мои дети на самом деле мои, они будут носить мое имя, я буду кормить их на деньги, заработанные моим трудом, но, несмотря ни на что, они не будут моим мостиком в бессмертие. И все же я люблю их, они вошли в мое существование, как ростки моего будущего, и вот теперь, когда воплощенная в них надежда пережить себя у меня отнята, я оторвался от земных корней и стал парить в воздухе, словно привидение.
Мария, как мне казалось, начала уже терять терпение, видя, что моя смерть все откладывается и откладывается, и, продолжая меня публично баловать совсем уж материнскими ласками, она тайком щипала меня, как злобный отец маленького жонглера за кулисами цирка. Чтобы приблизить час моей кончины, она стала меня мучить. Она придумала для меня новую пытку: пользуясь моей временной слабостью, она обращалась со мной как с дряхлым стариком, более того, в приступах мании величия угрожала мне побоями, уверяя, что сильнее меня. И вот однажды она вдруг кинулась на меня, чтобы ударить, но я вскочил, схватил ее за руки и швырнул на диван.
– Признайся, что, несмотря на слабость, я сильнее тебя! – воскликнул я.
Она же, не желая уступить, впала в бешенство от того, что оказалась бессильной со мной совладать, и выскочила из комнаты с лицом, потемневшим от гнева, ругаясь на чем свет стоит и все еще угрожая.
В борьбе, которая завязалась между нами, она имела неоспоримое преимущество, ибо была женщиной и вдобавок актрисой. Подумайте, мужчина, обреченный работать как каторжный, оказывается беззащитным перед погрязшей в безделье женщиной, весь день которой посвящен только одному – плетению интриг. И через некоторое время он уже вконец опутан этой сетью. Мария на людях обвиняла меня в мужском бессилии, надеясь этим оправдать свое преступление, однако достоинство, скромность и уважение не позволяли мне обнародовать ее физический недостаток, полученный во время первых родов и усугубленный тремя последующими. Неужели мужчина, который никому не поверяет своих альковных тайн, может дойти до того, чтобы выставлять напоказ пороки своей жены!
«Победу в любви приносит только бегство», – изрек некогда Наполеон, великий знаток женщин. Но пленник не может обратиться в бегство, а приговоренный к смерти – тем более.
Однако от отдыха голова моя прояснилась, я не был занят работой и поэтому мог подготовить свое бегство из тюрьмы, надежно охраняемой моей мегерой и друзьями, которых она сумела обманом привлечь на свою сторону. Прибегнув к военной хитрости, я передал своему домашнему врачу письмо, в котором написал о своих опасениях насчет подстерегающего меня безумия и предлагал в качестве лечения поездку за границу. Он ответил, что одобряет мое намерение, и тогда я тут же сообщил о нашей поездке Марии, как о врачебном предписании, не подлежащем пересмотру.
– Видишь, доктор считает эту поездку необходимой.
Впрочем, так действовала она сама, когда подсказывала врачу, чтоб он прописывал ей то, что ей хотелось.
Мария побледнела, когда услышала мое сообщение.
– Но я не хочу уезжать из моей страны.
– Твоей страны? Твоя страна – Финляндия, и я просто не понимаю, почему тебе трудно покинуть Швецию, где у тебя нет ни родных, ни друга, ни даже приличного театра.
– Не хочу, и все!
– Почему?
Она помялась, но все же сказала:
– Я боюсь тебя! Я не хочу оказаться с тобой наедине.
– Агнец, которого ты ведешь за веревочку, пугает тебя?! Что-то не похоже на правду.
– Ты – страшный человек, я не желаю быть с тобой, не имея надежной защиты!
Я не сомневался, что у нее был любовник, но, может быть, она и в самом деле опасалась, что, когда ее преступление будет обнаружено, я все-таки выживу.
Ах, она боится меня! Меня, который, как собака, покорно распластался у ее ног, который готов валяться в грязи и целовать ее белые чулки, который остриг свою львиную гриву и теперь носит челку, словно лошадь, который стал подкручивать усы и расстегивать ворот рубахи только для того, чтобы походить на ее возможных любовников!
Ее страх внушил мне еще больший страх и оживил во мне все подозрения!
У этой женщины, видимо, есть любовник, с которым она не хочет расстаться, либо она боится дня своего суда! – решаю я про себя, но ей ничего не говорю.
После долгих ссор она все-таки вытянула у меня обещание вернуться не позже чем через год.
И представьте себе, я дал ей это обещание!
Я вновь обрел волю к жизни, и я смог завершить работу над книгой стихов, которая должна была выйти зимой, после моего отъезда. А в разгаре лета, поскольку ко мне вернулись силы, я снова запел, прославляя мою любимую, чья синяя вуаль на соломенной шляпе в день нашей первой встречи стала для меня флагом, который я подымаю на мачту, отправляясь в дальнее плавание по бушующему морю.
Вечером, в присутствии друга, я прочел это стихотворение. Мария слушала в благоговейном молчании, а когда я кончил читать, она зарыдала, поднялась и поцеловала меня в лоб.
Комедиантка, что с нее взять! Она обманула моего друга, который, этакий идиот, с того дня стал считать меня безумным ревнивцем, безжалостно терзающим любящую его жену.
– Она любит тебя, старина! – уверял меня этот молодой человек, который, представьте, четыре года спустя вспомнил эту сцену как одно из самых веских доказательств верности моей жены.
– В эту минуту она была искренна, клянусь тебе! – повторял он в тот вечер.
– Конечно искренна, но только в своих угрызениях совести. Это верно! Как не испытать их, когда видишь любовь настолько слепую, что она готова воспеть проститутку, как мадонну! Конечно искренна, мой юный друг.
Тем временем мне удалось очистить дом от всевозможных подруг. Последняя подруга, красавица, исчезла вместе с моим лучшим другом, крупным ученым, участником экспедиции «Беги» [28], который вернулся с четырьмя орденами и обеспеченным будущим. Эта приблудная красавица, оказавшись буквально на улице, бесплатно жила в моем доме и просто прилипла к бедному парню, в течение года жившему холостяком, и в конце концов соблазнила его темной ночью в карете, которую они заказали, чтобы куда-то ехать, а потом заставила жениться, устроив скандал у знакомых, где они вместе были в гостях. Как только наша красавица почувствовала почву под ногами, она тут же сорвала с себя маску и в одном доме, изрядно выпив, во всеуслышанье заявила, в присутствии большого общества, что Мария – существо аморальное. Один из моих друзей был на том обеде и счел себя обязанным передать нам эти слова. Мария, нисколько не смутившись, заверила меня, что этого просто не могло быть, но все же я отказал от дома ее подруге, хотя тем самым и лишил себя верного друга.
Я не хотел разбираться во всех этих историях, но жестокое слово «аморальная», произнесенное именно этой особой, вонзило еще одну острую иглу в мою и без того кровоточащую плоть. В дальнейшем из того же нечистого источника я получил еще много сигналов, указывающих, правда в самом общем виде, на дурное поведение моей жены во время ее пребывания в Финляндии, и это не могло не прибавить к моим старым подозрениям новые. А если все это сопоставить с выкидышем, рассуждениями по поводу судьбы и несдержанностью в любовных утехах, которой она прежде опасалась, то становилось ясно, что у меня был только один выход – бежать, и в этом своем решении я все больше утверждался.
Мария, сообразив, что можно жить припеваючи под крылышком больного поэта, решает играть роль сестры милосердия, сиделки, а в крайнем случае и надсмотрщицы за сумасшедшим. Она украсила себя ореолом святой и действовала при этом у меня за спиной так усердно, что, как я потом узнал, даже одалживала у моих друзей деньги от моего имени. В то же самое время у нас из дома стала исчезать ценная мебель, которую она свозила к своей подруге № 1 для продажи.
Я насторожился и впервые задал себе тревожный вопрос: «Нет ли у Марии каких-то тайных расходов, раз мы так невероятно много тратим на хозяйство и она то и дело предпринимает непонятные мне негоции. И если это так, то что это за расходы?»
Я зарабатывал уже не меньше, чем министр, больше, чем генерал, и все равно нужда, как репей, липла к моим ногам. А ведь жили мы очень скромно. Ели не лучше любого мелкого буржуа, все было всегда плохо приготовлено, а часто подавали даже не очень свежую пищу. Пили мы то, что пьют в любой рабочей семье – пиво и водку, а если коньяк, то самого низкого качества, и друзья даже посмеивались над нами за это. Я курил только трубку и ничего не тратил на развлечения, не считая редких кутежей для разрядки.
Как-то раз, окончательно потеряв терпение, я позволил себе спросить у одной дамы, сведущей в этих вопросах, не считает ли она, что у нас уходит слишком много денег на хозяйство. Услышав огромную цифру, которую я ей назвал, дама рассмеялась мне в лицо, воскликнув, что считает это просто безумием.
Выходит, есть все основания предположить, что речь идет о каких-то особых и тайных расходах. Но каких? Родственники, тетки, подруги или любовники, свидания с которыми стоят ей так дорого? Кто скажет правду обманутому мужу, когда все вокруг, уж сам не знаю по каким причинам, почему-то оказываются сообщниками вероломной жены!
После бесконечных приготовлений настал, наконец, день отъезда. Но тут возникла новая трудность, которую я, впрочем, ожидал и которая стоила множества сцен и потоков слез. Собака, причинявшая мне столько огорчений главным образом тем, что забота о ней шла исключительно за счет наших детей, все еще таскала ноги. Но вот пришло время, когда этот пес, идол Марии и мой злой гений, теперь уже очень старый, вонючий и грязный пес, должен был, к моей великой радости, уйти из жизни. Я полагаю, что Мария уже сама жаждала его кончины, но, зная, что это будет подарком для меня, все оттягивала исполнение приговора. Одна мысль, что она может доставить мне хоть какое-нибудь удовольствие, была ей невыносима, поэтому она с большой находчивостью придумывала целую серию нравственных пыток, чтобы я заплатил дорогою ценой за эту невинную радость.
Мария устроила для пса прощальный пир, во время которого разыграла воистину душераздирающую сцену, и повезла его в город на казнь. Мне же, поскольку я был слабого здоровья, подали на ужин несколько костей от той курицы, которую она велела зарезать для угощения своего любимца. Ее не было двое суток. Потом она очень сухо сообщила о своем приезде, словно обращалась к палачу. Опьянев от счастья после шести лет мук, вздохнув наконец, я побежал на берег, чтобы встретить ее. Она посмотрела на меня, как смотрят на отравителя, полными слез глазами и отвернулась, когда я хотел ее поцеловать. Прижимая к груди какой-то странный сверток, она траурным шагом направилась к дому. В свертке был труп собаки. И я должен был заняться похоронами. Один рабочий сколачивал гробик, двое копали могилку. Стоя в стороне, я наблюдал за похоронами убиенного. Весьма поучительное зрелище. Мария вознесла молитву богу и за жертву и за убийцу, люди вокруг смеялись. На могилке водрузили крест. Так крест спасителя спас наконец меня от чудовища, самого по себе, может быть, ни в чем не повинного, но ужасного, как воплощение всей злобы женщины, которая из трусости не смеет мучить человека в открытую.
После нескольких дней глупого траура (она так ни разу меня и не поцеловала, ибо не намерена была целовать убийцу), мы уехали в Париж!
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Я выбрал Париж конечной целью нашего путешествия, чтобы встретиться со своими старинными друзьями, которые издавна привыкли к моим эксцентрическим выходкам, знали о всех моих еще невнятных замыслах, не раз были свидетелями моих умственных взлетов, дерзаний, парадоксов и именно поэтому лучше других могли судить о душевном состоянии своего поэта. Кроме того, в Париже проживали в то время самые знаменитые скандинавские писатели, и я рассчитывал, что они не допустят, чтобы Мария осуществила свои преступные намерения и заточила бы меня в нервную клинику.
На протяжении всего нашего путешествия Мария вспыхивала по любому поводу и, если рядом не было симпатизирующих мне людей, обращалась со мной как с последним из негодяев. Вид у нее был все время озабоченный, взгляд рассеянный, ко всему равнодушный. На ночь мы останавливались в гостиницах, и я всегда гулял с ней, чтобы показать новый город, но ничто не вызывало у нее интереса, она ровно ничего не видела и не слышала, что я ей говорил. Мое внимание и предупредительность лишь тяготили ее, она тосковала. О чем? О чужой стране, где она столько страдала и где не оставила ни одного друга? Разве что любовника?
К тому же ее поведение свидетельствовало не только об ее полной непрактичности, но и о дурном воспитании. Таким образом жизнь опровергла ее деловую сметку, которой она так хвасталась. Она выбирала самые дорогие гостиницы ради одной ночи, требовала перестановки мебели в номерах, заказывая чашку чая, вызывала метрдотеля и подымала такой шум в коридорах, что мы получали унизительные замечания. Она пропускала лучшие поезда, чтобы поужинать в гостинице, когда нас все равно уже валил с ног сон, отправляла багаж не по назначению, и он застревал на каких-то дальних станциях, а уезжая, оставляла портье целую марку на чай.
– Ты просто трус, – отвечала она мне на все мои замечания.
– А ты – дурно воспитанная и бестолковая женщина.
Вот в какое увеселительное путешествие превратилась наша злосчастная поездка!
Но когда мы приехали в Париж и попали в круг моих друзей, которые не поддались ее обаянию, она потеряла почву под ногами, оказалась как бы в ловушке. Больше всего ее сердили отношения, завязавшиеся у меня с самым знаменитым норвежским писателем [29], который ко мне очень привязался. Она его просто возненавидела, потому что достаточно было одного слова этого человека, чтобы спор наш решался в мою пользу.
На банкете, устроенном для артистов и писателей, этот норвежский патриарх встал и произнес тост в мою честь как главы современной шведской литературы. Этим он вонзил нож в спину бедной Марии, которая в глазах своих бесполых подруг ходила в ореоле мученицы, жертвы брака с неудачным памфлетистом, пользующимся весьма дурной славой. Я испытал к Марии острое чувство жалости, когда увидел, что приветственные возгласы всех присутствующих, которые стали меня чествовать, просто раздавили ее. А когда оратор потребовал, чтобы я тут же обещал им прожить за границей не меньше двух лет, я увидел такое страдание в глазах жены, что не мог остаться к нему равнодушным. Чтобы ее утешить и дать ей хоть какой-то реванш, я ответил, что в нашей семье все важные решения принимаются вдвоем, чем заслужил благодарный взгляд Марии и симпатию всех присутствующих дам.
Но восхвалявший меня оратор никак не сдавался, он продолжал настаивать на моем длительном пребывании в Париже и предложил всем, кто разделяет его мнение, выпить «за то, чтобы господин С. прожил бы здесь не меньше двух лет!».
Должен признаться, что я так и не понял, почему мой друг проявил тогда такое упорство, хотя и уловил в этом отзвук глухой борьбы, которая шла между ним и моей женой по неведомой мне причине. Неужели этот человек знал больше меня, неужели в силу своей интуитивной прозорливости он сумел разгадать непостижимый для меня секрет, поскольку и сам был женат на женщине с весьма странным нравом?
И по сей день все это так и остается для меня загадкой!
Мы прожили три месяца в Париже, но жена моя чувствовала себя там не в своей тарелке, потому что вдруг обнаружила истинную цену своего мужа, всеми признанную и не подлежащую оспариванию. Она стала ненавидеть этот огромный город и не уставала предостерегать меня против «ложных друзей», которые рано или поздно принесут мне несчастье. Потом она снова забеременела, и я понимал, что нас опять ждет ад.
Однако сомнений в своем отцовстве у меня не было, поскольку мне казалось, что я могу точно определить число и даже сам момент зачатия, – я помнил все обстоятельства до мельчайших подробностей.
Как только мы приехали во Французскую Швейцарию и поселились в пансионе, чтобы избежать ссор по поводу ведения хозяйства, Мария сразу взяла верх, потому что я оказался в полном одиночестве и безо всякой защиты.
Она разыгрывает из себя сиделку при душевнобольном, тут же устанавливает связь с врачом, предупреждает хозяина и хозяйку пансиона и вводит в курс дела всю прислугу и даже постояльцев. Я загнан в угол, лишен общения с людьми моего интеллектуального уровня, способными меня понять. И за табльдотом она, этакая идиотка, отыгрывается за свои поражения в Париже и, не закрывая рта, изрекает все те глупости, которые я уже тысячу раз опровергал. И когда все эти мелкие буржуа из вежливости поддакивают ее бредням, я вынужден молчать, и это ее окончательно убеждает в своем превосходстве. Однако вид у нее измученный, нездоровый, словно ее подтачивает какое-то горе, и ко мне она проявляет настоящую ненависть.
Ей отвратительно все, что я люблю! Ей наплевать на Альпийские горы, потому что я ими восхищаюсь, она терпеть не может прогулки, она избегает оставаться со мной наедине. Она угадывает мои желания, чтобы им препятствовать, стоит мне по какому-нибудь поводу сказать «нет», как она тотчас говорит «да», и наоборот, одним словом, она меня всячески отвергает.
А я, оказавшись один, в чужой стране, был вынужден искать ее общества, и когда мы оба вдруг обрывали разговор из страха поссориться, я радовался хотя бы тому, что она рядом со мной и я не чувствую своего одиночества.
С того дня, как обнаружилась ее беременность, я посчитал, что могу свободно предаваться любовным утехам, однако она, не имея больше повода отказывать мне, все же придумывала всякие отговорки, дабы держать меня в повиновении. Заметив, что теперь, когда больше не надо было прибегать ни к каким ухищрениям, я стал испытывать подлинную радость в минуты нашей близости, она приходила в неистовство от того, что доставляла мне это наслаждение.
Она, видимо, считала, что это слишком большое счастье для меня, памятуя, что нервные заболевания чаще всего являются результатом воздержания и неудовлетворенности. Тем временем мое желудочное недомогание обострилось, я мог принимать пищу, только если запивал ее бульоном, а по ночам просыпался от нестерпимых резей в желудке и мучительных изжог, которые иногда удавалось унять с помощью холодного молока.
Мой высокий интеллект, отточенный широким университетским образованием, попросту разладился от постоянного общения с низменным умом, и всякая попытка привести его в согласие с интеллектом жены вызывала у меня спазмы. Я, естественно, пытался вступать в беседы с чужими людьми, но замолкал, как только замечал, что со мной говорят, как с сумасшедшим, не оспаривая моих мнений.
Таким образом, я вынужден был молчать в течение трех долгих месяцев. И тут я, к ужасу своему, обнаружил, что от отсутствия практики голос мой стал пропадать, и я потерял присущий мне дар красноречия. Чтобы хоть частично возместить это, я затеял переписку с друзьями в Швеции, но сдержанный тон их ответов, исполненных искреннего сочувствия ко мне, а также их покровительственные советы не оставляли сомнений насчет их оценки моего душевного состояния.
Она торжествовала победу, а я становился чем-то вроде расслабленного старца, и у меня начали проявляться первые признаки мании преследования. Одним словом, я впал в детство, меня буквально подкашивало полное бессилие, часами я лежал на диване, уткнувшись лицом в колени Марии, обхватив руками ее талию, как в «Пиете» Микеланджело. Я прижимался щекой к ее груди, называл себя ее младенцем, и самец умирал на руках у той, которая, став матерью, перестала быть женщиной. Она взирала на меня с улыбкой, то торжествующей, то ласковой – этакая нежность палача при виде своей жертвы. Паучья самка сожрала мужа после того, как он ее оплодотворил.
Во время этой моей агонии Мария вела таинственную жизнь. До обеда, то есть примерно до часу дня, она не вставала с постели. Затем она отправлялась в город без какой-либо определенной цели и возвращалась лишь к ужину, причем обычно с опозданием. Когда кто-нибудь ее искал, я отвечал:
– Она в городе.
И постепенно это становилось притчей во языцех.
Однако у меня лично не возникало никакого подозрения, мне и в голову не приходило выслеживать ее.
После ужина она оставалась в гостиной поболтать с кем-нибудь из постояльцев.
На ночь она пила коньяк с горничной, и я слышал, как они разговаривали вполголоса, но не мог опуститься до того, чтобы подслушивать под дверью.
Почему? Да потому, что есть поступки, которые нельзя себе позволять! Почему? Потому, что это заложено в воспитании, как своего рода мужская религия.
Лишь через три месяца я пробудился от своей летаргии, пораженный нашими слишком большими тратами. Теперь, когда все расходы были строго регламентированы, произвести подсчет ничего не стоило.
Пансион обходился нам по двенадцати франков в сутки, что составляло триста шестьдесят франков в месяц, я же выдавал Марии по тысяче франков ежемесячно. Получалось, что на мелкие расходы уходило шестьсот франков в месяц. Когда же я поинтересовался, на что тратятся эти деньги, она пришла в бешенство и закричала в ответ, что деньги эти ушли на непредвиденные расходы.
– Триста шестьдесят франков на предвиденные расходы и шестьсот на непредвиденные? Ты что, меня совсем за дурака считаешь?
– Ты дал мне тысячу франков, но потом большую часть из них потратил на себя.
Я тут же произвел подсчет. Табак (очень плохой, в том числе сигары по два сантима за штуку): десять франков. Марки для писем: десять франков. А что еще?
– Уроки (множественное число!) фехтования!
– Всего один урок: три франка.
– Верховая езда!
– Два часа: пять франков.
– Книги!
– Десять франков. Итого тридцать восемь франков, ну, округлим до ста. Все равно остается пятьсот франков на какие-то непредвиденные расходы. Это просто уму непостижимо!
– Так ты полагаешь, ничтожество, что я тебя обворовываю?! Что можно ответить на это? Ничего! Итак, я ничтожество, и все подруги в Швеции немедленно оповещаются о том, как развивается мое безумие.
Таким образом, мало-помалу создается легенда, и с годами личность моя обретает четкие контуры, образ невинного поэта вытесняется неким мифологическим персонажем, очерненным, доведенным до неузнаваемости, почти преступником.
Попытка удрать в Италию, где жили друзья-художники, близкие мне по духу, не увенчалась успехом, и к моменту родов мы возвращаемся на берег озера Леман. После того, как благополучно родился ребенок, Мария, приняв ореол мученицы – порабощенной женщины, бесправной рабыни, – умоляет меня разрешить ей крестить новорожденного. Она прекрасно знает, что я только что публично выразил свое отвращение ко всем суевериям христианства и что мое положение прогрессивного писателя запрещает мне исполнять церковные обряды.
Хотя Мария не была набожной – во всяком случае за последние десять лет она ни разу не была в церкви и уже бог знает сколько времени не ходила к причастию, – она молилась за собачек, кроликов да курочек, которых собирались резать на кухне, и вот теперь ей вдруг приспичило крестить ребенка, соблюдая весь ритуал этого обряда. Видимо, объяснялось это исключительно тем, что она была в курсе моих требований раз и навсегда отказаться от подобных обрядов, они противоречили моим убеждениям.
Она заклинала меня со слезами на глазах, взывала к моей терпимости, великодушию, и в конце концов я уступил, оговорив лишь свое право не присутствовать на церемонии. В ответ она принялась целовать мне руки и горячо благодарить за такое проявление любви, ибо я уступил ей в вопросе для нее жизненно важном, в деле ее совести.
Итак, крестины состоялись. А вернувшись с них, она, в присутствии свидетелей, стала высмеивать обряд, разыгрывая из себя этакую свободомыслящую даму, представила всю церемонию в комичном виде и выхвалялась тем, что даже не знает, в какую именно веру приняли ее сына!
Короче, плевать она хотела на эти крестины. Жизненно важным для нее вопросом было вовсе не само по себе таинство крещения, как она уверяла, а лишь победа надо мной, ей необходимо было добиться моего поражения, чтобы выставить меня в глупейшем виде перед моими сторонниками.
Так по капризу своевластной женщины я еще раз оказался униженным и скомпрометированным!
Затем на нашем горизонте появилась девица из Скандинавии, рьяно проповедующая все эти бредни про эмансипацию, и с первой же минуты она была возведена в сан лучшей подруги, а я как бы перестал существовать.
Для вящей убедительности девица эта притащила к нам в дом одну преподлую книжицу, написанную каким-то гермафродитом, иначе не назовешь этого бесполого проходимца, отовсюду выгнанного и вконец скомпрометированного, который допроституировался до того, что предал свой пол, став союзником всех синих чулков цивилизованного мира. Только после того, как я прочитал «Мужчину и женщину» Эмиля де Жирардена [30], я понял, к каким пагубным последствиям приводит вся эта возня вокруг женского вопроса.
Речь, оказывается, идет о том, чтобы низложить мужчин, поставив на их место женщин и, повернув таким образом историю вспять, снова установить на земле матриархат.
Итак, свергнуть со своего престола Мужчину, этого подлинного творца, двигающего вперед цивилизацию и культуру, создателя истинно великих идей, всевозможных искусств и ремесел, одним словом, всего, чем ныне гордится человечество, чтобы посадить на его место Женщину – грязную тварь, которая, за ничтожным исключением, никогда не принимала участия в цивилизаторской деятельности, – нет, это я мог понять только как вызов моему полу. Одна мысль, что с сего времени главенствующее положение в жизни займут эти жалкие существа, интеллект которых в своем развитии остановился на уровне в лучшем случае бронзового века, эти человекообразные обезьяны, эта орда злоносных животных, пробудила во мне самца. И, представьте, это весьма любопытно отметить, я тут же выздоровел, потому что причиной болезни было мое бессилие противостоять своему врагу в юбке, который был, конечно, неизмеримо слабее меня по уму, но стократно сильнее во всех иных отношениях из-за полного отсутствия нравственного чувства.
Когда между двумя племенами идет борьба не на жизнь, а на смерть, то побеждают всегда пройдохи, а не те, кто честны. Именно поэтому у мужчин мало шансов одолеть женщин, да к тому же нам мешает врожденное уважение к представительницам слабого пола и то обстоятельство, что им, как правило, не приходится добывать средства к существованию, и поэтому они располагают досугом, чтобы вести войну с нами. Я отнесся к этой проблеме со всей серьезностью и решил вооружиться для борьбы, подготовив к изданию книгу, которая должна была стать перчаткой, брошенной мною прямо в лицо эмансипированной дуре, стремящейся получить свободу ценой порабощения.
Наступила весна, и мы перебрались в другой пансион, который стал для меня в некотором роде чистилищем, потому что я попал под наблюдение двадцати пяти женщин, однако именно они вдохновили меня на памфлет против похитительниц всех прав мужчин. Не прошло и трех месяцев, как моя книга увидела свет. Это был сборник рассказов о браке [31], которому я предпослал предисловие с формулировкой ряда непреложных истин, не очень-то приятных для тех, кому они были адресованы. Вот вкратце его содержание.
Женщина не рабыня, поскольку она и ее дети живут на деньги, которые зарабатывает Мужчина. Женщина не порабощена, поскольку она сама выбрала свою долю, или, если угодно, природа указала ей ее место, чтобы она находилась под защитой Мужчины в период материнства. Женщина никак не равна мужчине по интеллекту в той же мере, в какой он уступает ей в вопросе продолжения рода. В великой созидательной деятельности женщине нет места, потому что там мужчина всегда будет сильнее ее. Согласно эволюционной теории, чем больше различия между полами, тем сильнее потомство. Таким образом, получается, что равенство полов – это движение назад, абсурд, пережиток идей романтически и идеалистически настроенных социалистов.
Женщина – жена, необходимый самцу спутник и духовное творение мужчины – по справедливости не может иметь равные с мужем права, так как составляет «другую половину» мира лишь по численности. Поэтому не конкурируйте с мужчиной на рынке труда, его права неприкосновенны, ведь ему надо обеспечить всем необходимым жену и детей, и помните, что каждое рабочее место, отнятое у мужчины, неизбежно породит лишнюю старую деву или проститутку.
Судите сами о ярости феминисток и о том, какую опасность представляет их партия, если им удалось возбудить против меня дело и добиться конфискации книги! Правда, у них не хватило умишка выиграть процесс, суть которого была закамуфлирована обвинением в посягательстве на религию. Представляете, глупости этих гермафродитов уже возведены в ранг религии!
Мария решительно возражала против моей поездки на родину, когда выяснилось, что по финансовым соображениям мы не можем ехать всей семьей. Она боялась оставить меня без надзора, а еще больше ее, наверное, пугало, что мое публичное появление перед судом опровергнет слухи о моей душевной болезни.
К тому же Мария заболела, чем именно – не ясно, но состояние ее было такое, что она не вставала с постели. И несмотря на все это, я решил поехать, чтобы лично выступить на суде, и тут же отправился в путь.
Письма, которые я ей писал во время своего отсутствия – эти шесть недель дались мне нелегко, так как надо мной все время висела угроза быть приговоренным к двум годам каторжных работ, – дышали любовью, пробужденной разлукой и вынужденным воздержанием. В моей усталой голове ее образ вновь был овеян поэзией, я снова обожал ее, а целомудрие и раскаяние облекли ее в белые одежды ангела-хранителя. Все уродливое, низкое, злое, что я обнаружил за эти годы в ее личности, исчезло, словно по волшебству, перед моим мысленным взором вновь возникла мадонна моих первых влюбленных видений, и чувство это было настолько сильным, что во время интервью, которое я дал своему старому товарищу журналисту, я заверил его, будто стал «скромнее и чище под влиянием прекрасной женщины». Эти слова облетели всю прессу объединенного королевства.
Как она небось смеялась, негодяйка! Читатели уж во всяком случае потешались вовсю!
В ответах Марии на мои любовные письма заметен живой интерес к денежной стороне дела, но по мере того, как разрастаются овации в мою честь и в театре, и на улице, и даже в зале суда, она идет на попятный, возмущается глупостью судей и выражает сожаление, что не присутствует на заседаниях.
Что же касается моего любовного бреда, то она держится весьма сдержанно, как бы ничего не принимая, не вступая даже в обсуждение вопроса, жонглируя лишь выражениями типа «понимать друг друга», «ладить друг с другом», сводя все наши семейные неурядицы только к тому, что я ее никогда не понимал! Хотя я готов поклясться, что это она никогда не могла оценить ни одного слова из речей ее ученого супруга-писателя.
Однако среди ее писем было одно, которое пробудило во мне былые подозрения. Я ей как-то написал, что после того, как вырвусь из лап правосудия, мне было бы приятнее всего навсегда обосноваться за границей. Она пришла в неистовство, принялась осыпать меня оскорблениями, грозить, что не подпустит больше к себе, молить о милосердии, валяться у меня в ногах, взывать к тени моей покойной матери и в конечном счете призналась мне, что одна мысль никогда больше не увидеть «своей» страны (прошу заметить – Швеция, а не Финляндия) сковала параличом ее тело от головы до пят и что от этого она наверняка умрет.
«Что это за паралич, так внезапно сковавший ее?» – спрашивал я себя и до настоящего времени не сумел найти ему никаких объяснений.
Наконец суд вынес мне оправдательный приговор. И на последовавшем за ним банкете был провозглашен тост в честь Марии, благодаря усилиям которой я лично явился в суд.
Ну, как вам это нравится?!
Я вернулся в Женеву, где находилась моя семья во время моего отсутствия. К немалому моему удивлению, Мария, которая писала, что она все еще больна и лежит в постели, встретила меня на вокзале, она была оживленна и хорошо выглядела, хотя и казалась чем-то озабоченной.
Жизнь снова возвратилась ко мне, вечер, а вслед за ним и ночь вознаградили меня за все пережитые мною несправедливости и невзгоды.
Однако на следующее утро я обнаружил, что наш пансион буквально забит какими-то студентами и девицами легкого поведения. И, прислушиваясь к тому, что болтали вокруг, я убедился, что и Мария без меня развлекалась, играя в карты и выпивая в этом весьма сомнительном обществе, в котором царила шокирующая меня фамильярность. Я почувствовал себя оскорбленным до глубины души. Она, видите ли, вошла тут в свою старую роль этакой мамочки по отношению к университетским студентам и вступила в приятельские отношения с худшей из присутствующих здесь дам, которая являлась к столу едва держась на ногах и поражала своим унылым сходством с крупной форелью.
И в этом борделе, представьте, дети мои прожили шесть недель! Их мать, оказывается, ничего не видела, не усматривала в этом ничего дурного, потому что она, понимаете ли, начисто лишена предрассудков. Ее выдуманная болезнь отнюдь не являлась препятствием для сомнительных сборищ со всякими растленными личностями!
Как только она не обзывала меня в ответ на мои упреки – и ревнивцем, и консерватором, и аристократишкой, короче, наши старые бои разгорелись с новой силой!
Так само собой появилось новое горючее, от которого тут же вспыхивал скандал. Наша нянька, простая крестьянская девушка, ничего ни в чем не смыслящая, была возведена в ранг воспитательницы, и вдвоем с Марией они творили бог знает какие глупости. Обе они отличались удивительной ленью, спали до полудня, и поэтому дети, проснувшись, должны были валяться в своих кроватках, а когда они вылезали из них, малюток наказывали розгами. Я решил в это вмешаться и как-то раз, никого не предупредив, вошел в детскую, чтобы поднять детей, которые приветствовали меня радостными криками, как освободителя. В ответ на это моя жена принялась разглагольствовать об индивидуальной свободе, которую она понимала как подавление свободы других, однако я твердо стоял на своем.
Навязчивое желание слабых умов уравнять то, что уравнено быть не может, тоже произвело разрушительное действие в нашей семье. Моя старшая дочь, отличающаяся ранним интеллектуальным развитием и приученная чуть ли не с пеленок листать мои иллюстрированные книги, имела все основания пользоваться своим правом старшинства. Когда же я запретил младшей касаться книг, потому что она была неспособна взять в руки ценное издание, не испортив его, мать обвинила меня в том, что я не соблюдаю равенства.
– У них все должно быть одинаково.
– Все? И размеры платьев и туфелек тоже?
Ей нечего было ответить, поэтому на меня посыпались новые глупые обвинения.
– Каждый должен получать по своим способностям и по своим заслугам. Для старшей – одно, для младшей – другое.
Но она не захотела вникнуть в мои рассуждения, и на меня было положено клеймо несправедливого отца, который «ненавидит» свою младшую дочь. По правде говоря, старшая мне и в самом деле была милее, прежде всего именно потому, что она старшая, что у нас с ней общие воспоминания о первых счастливых днях моей жизни, что она, естественно, раньше младшей стала существом разумным, а может быть, здесь дело еще и в том, что младшая родилась уже в те годы, когда я стал сомневаться в верности ее матери. Однако не могу не отметить, что справедливая мать, в отличие от несправедливого отца, проявляла полнейшее равнодушие к своим детям, дома она только спала, а все остальное время проводила в развлечениях, детям она была чужой, они все больше привязывались ко мне, и она даже начала их ревновать. Чтобы как-то это исправить, я строго следил за тем, чтобы они получали игрушки и конфеты только из рук своей матери, надеясь их таким образом к ней приручить.
Так малютки постепенно вошли в распорядок моей жизни, и в самые мрачные минуты, когда меня особенно удручало одиночество, общение в этими маленькими живыми существами примиряло меня с жизнью и неразрывно связывало с их матерью. Таким образом, сама мысль о том, чтобы нам расстаться, представлялась мне невозможной – обстоятельство для меня пагубное, – ибо благодаря этому я попал в полную кабалу.
Последствия моей атаки на феминисток не замедлили сказаться, на меня начали нападать в швейцарских газетах так упорно, что пребывание мое в стране стало невыносимым. К тому же там запретили продажу моих произведений, меня гнали из города в город, и в конце концов я сбежал во Францию.
Но мои парижские друзья за это время стали отступниками, они перешли на сторону жены. Затравленный, как дикий зверь, я сдался и, убегая от нужды, нас уже караулившей, нашел наконец прибежище в деревне под Парижем, которую облюбовали себе художники. Так я снова попал в западню, из которой не смог выбраться в течение шести месяцев, быть может, самых тяжелых в моей жизни.
Общество там состояло из молодых шведских художников, в большинстве своем самоучек, не получивших вообще никакого образования, выходцев из крестьянских семей, начинавших свой жизненный путь учениками у разных ремесленников. Но еще хуже были женщины-художницы, свободные от всех предрассудков и так взвинченные гермафродитской литературой, что всерьез стали воображать себя ровней мужчинам. Чтобы спрятать свою женскую сущность, они стремятся перенять у мужчин все внешнее – одним словом, их поведение – курят, напиваются, играют на биллиарде, ходят по нужде прямо на улице, за какой-нибудь дверью, не стесняются, когда их рвет в публичных местах, и, по собственному признанию, не нуждаются в мужском обществе.
Дальше идти было некуда!
Чтобы не оказаться в полном одиночестве, я завязал какие-то отношения с двумя из этих чудовищ – одна выдавала себя за литераторшу, другая называла себя художницей.
Началось все с того, что литераторша нанесла мне визит, как знаменитому писателю, что пробудило ревность моей жены, тут же решившей отбить у меня эту союзницу, показавшуюся мне достаточно просвещенной, чтобы оценить вескость моих доводов против «полуженщин».
Между тем произошло несколько инцидентов, которые, если их сопоставить, не могли не возродить мои самые мрачные опасения, и вскоре я снова оказался во власти мучительной ревности.
У одного нашего знакомого был художественный альбом с карикатурами на всех знаменитых скандинавов. Я был изображен с рогом на лбу, вернее, с поднятой прядью волос, точь-в-точь похожей на рог. Автором этого шаржа был к тому же мой лучший друг, и из всего этого я сделал вывод, что неверность моей жены известна всем, кроме меня. Я обратился к хозяину альбома за разъяснением. Мария, однако, успела его заранее предупредить о моем тяжелом душевном состоянии, и он мне поклялся, что в шарже нет и тени намека, что я там вовсе не изображен в виде рогоносца, и стал уверять, что у меня просто разыгралось воображение, на чем история с альбомом и была закрыта, во всяком случае до поры до времени.
Как-то под вечер к нам с Марией пришел в гости пожилой господин, недавно приехавший из Скандинавии, и мы пили с ним кофе в садике. Было еще совсем светло, и я наблюдал за Марией, за тем, как менялось выражение ее лица во время нашего разговора. Старик болтал не закрывая рта, рассказывал о шведских новостях и в какой-то связи мимоходом упомянул имя врача, к которому Мария ходила на сеансы массажа. Услышав это имя, Мария вдруг прервала поток стариковского красноречия и как бы с вызовом спросила:
– Ах, вы, оказывается, знаете доктора X.?
– Его все знают… Я хочу сказать, у него есть определенная репутация…
– Репутация ловеласа, – прервал я.
Кровь отлила от лица Марии, бесстыдная улыбка застыла на ее приоткрытых губах, обнажив зубы. И разговор тут же увял от охватившей всех неловкости.
Оставшись наедине со стариком, я стал его умолять не скрывать от меня слухов, которые ходили в столице по поводу Марии и доктора. Он клялся мне всеми клятвами, что о них нет никаких разговоров. Но я продолжал настаивать и после часа всевозможных проклятий получил от него утешение в такой странной формулировке:
– К тому же, мой друг, если предположить, что был один любовник, то можно не сомневаться, что были и другие.
Вот и все, что мне удалось от него узнать. Но с того дня Мария больше ни разу не произнесла имени доктора, хотя прежде, видимо, желая бросить вызов слухам, она при всяком удобном случае публично называла его, словно тренировалась делать это, не заливаясь краской стыда. Это было уже вроде некой навязчивой идеи, перед которой отступали угрызения совести.
Странное открытие пробудило меня от спячки. Я принялся рыться в своей памяти, чтобы найти соответствующие улики, и тотчас же вспомнил одно литературное произведение, которое появилось как раз в дни процесса и проливало, как я вдруг понял, свет на волнующие меня обстоятельства. Правда, прямой уликой его не назовешь, это я признавал, однако именно оно и помогло мне отыскать путеводную нить, которая привела меня к истокам всей истории.
Речь идет о драме знаменитого норвежского «синечулочника» [32], эдаком двигателе всего уравнительного безумия, которая еще в Швеции попала мне в руки, однако тогда я не увидел в ней решительно ничего, что могло бы меня касаться. Теперь же, напротив, все с поразительной естественностью ложилось на мою историю и возбуждало самые чудовищные предположения насчет репутации моей жены.
Вот краткое содержание этой драмы.
Некий фотограф (заметьте, это мое прозвище, меня наградили им за то, что я пишу романы с героями, имеющими прототипов) женится на девице сомнительного поведения, бывшей прежде содержанкой крупного помещика. Молодая чета живет на деньги, которые жена тайно берет от своего бывшего любовника, и на то немногое, что ей удается раздобыть самой, работая вместо мужа, который оказывается гулякой и лентяем, проводящим время в попойках с цыганами.
Какое это искажение обстоятельств нашей жизни! Все тут перевернуто с ног на голову, видимо, стараниями издателей, которые были в курсе того, что Мария фактически выполняла переводы, взятые мною на свое имя, но понятия не имели о том, что я безвозмездно их правил, а весь гонорар полностью отдавал ей.
Ситуация обостряется, когда фотограф узнает, что обожаемая им дочь, родившаяся раньше срока, оказывается вовсе не его дочерью и что жена обманула его, так как была беременной, когда вступала с ним в брак. И как предел падения – обманутый муж доходит до того, что принимает от бывшего любовника своей жены изрядную сумму в виде компенсации.
Здесь я уловил намек на заем, который сделала Мария под обеспечение барона, но который я перевел на свое имя после свадьбы.
Однако в отношении незаконнорожденной дочери я не увидел и тени аналогии, поскольку наша дочь родилась лишь два года спустя после нашей свадьбы.
Впрочем, нет! А умершая девочка? Вот я и напал на след! Маленькая покойница, которая и спровоцировала наш брак, никогда бы не случившийся без нее!
Вывод, быть может, и несколько рискованный, но все же вывод этот сам напрашивается. Он опирается и на визиты Марии к барону после нашего бракосочетания, и на постоянные общения барона с нами, и на его картины, развешанные на стенах моего дома, и на заем… да и на все остальное!
Я намеревался устроить после обеда большую сцену, подвергнуть Марию пристрастному допросу, построенному, однако, в форме защитительной речи, в ответ на обвинение, брошенное нам обоим подставным лицом феминисток, который получил изрядный куш за свое грязное дело.
Когда Мария вошла ко мне в комнату, я принял ее как можно более сердечно и попросил сесть.
– Что случилось?
– Дело серьезное, и оно касается нас обоих.
Изложив ей содержание пьесы, я выдумал, для пущей убедительности, будто актер, игравший роль фотографа, был загримирован под меня.
Она молчала, явно что-то обдумывая, не в силах скрыть своего волнения.
И тогда я начал свою речь:
– Если это правда, то признайся мне во всем, и я клянусь, что прощу тебя. Если умершая девочка была дочкой Густава, то мне не в чем тебя упрекнуть, ведь со мной тебя тогда еще ничего не связывало, кроме смутных обещаний, ты от меня еще ничего не получала, а значит, была совершенно свободна в своих действиях. Что же касается героя драмы, то мне кажется, он ведет себя как человек, обладающий сердцем, неспособный загубить будущее своей дочери и своей жены. И в деньгах, которые он соглашается взять как вспомоществование для дочери, я не вижу ничего зазорного, считая это естественной компенсацией.
Она слушала меня с полным вниманием, ее буржуазный ум готов был клюнуть на приманку, однако он все же не проглотил ее. Но если судить по тому, как ее лицо, сперва искаженное угрызениями совести, просветлело, когда я признал за ней право располагать своим телом, поскольку в то время она еще не получала от меня денег, то можно смело сказать, что мои доводы показались ей убедительными. И обманутого мужа она тоже оправдала, назвав его «благородным сердцем».
Так и не вырвав у нее признания, я продолжал свою речь, оставляя Марии всяческие лазейки, чтобы она не оказалась припертой к стенке, спрашивал ее совета относительно мер, которые нам следует принять для нашей реабилитации, предлагал, например, написать в ответ наш роман, чтобы обелить в глазах общества себя и наших детей.
Я говорил целый час, и все это время она просидела у моего стола, нервно вертя в руках ручку, но не произнесла ни слова, лишь несколько раз у нее вырывались какие-то междометия.
Наконец я вышел, чтобы прогуляться и сыграть партию в биллиард. Когда я вернулся к себе в комнату, я застал Марию на прежнем месте, она сидела неподвижно, будто статуя, уже больше двух часов.
Услышав, что я вошел, она выпрямилась и спросила меня:
– Это была ловушка, да?
– Да что ты, конечно нет! Неужели ты думаешь, что я способен погубить мать своих детей!
– По-моему, ты на все способен, ты хочешь от меня избавиться, как уже хотел тогда, когда подослал ко мне господина Ц. (тут она называет имя друга, который еще не был упомянут), чтобы меня соблазнить. Ты рассчитывал погубить меня, уличив в прелюбодеянии.
– Кто тебе это сказал?
– Хельга!
Это подруга Марии, та, последняя, которая появилась перед нашим отъездом. Вот как она мне отомстила!
– И ты ей поверила?
– Конечно! Но я тебя тоже обманула, как, впрочем, и господина Ц. Да, да, обманула вас обоих!
– Выходит, ты меня обманывала с кем-то другим?
– Я этого не говорила!
– Нет, ты только что в этом призналась. Раз ты обманула нас обоих, значит, и меня тоже. Разве это не логично?
Она ведет себя так, будто и в самом деле виновата, сердится, требует доказательств.
Доказательства!
Раздавленный коварным обманом, жертвой которого стала Мария – я и не предполагал, что жалкое человеческое сердце способно на такую низость, – я склонил голову и пал перед ней на колени, моля ее о прощении:
– Да как же ты могла в это поверить! Ты думала, что я хочу от тебя отделаться! Это я-то, который всегда был тебе верным другом и преданным мужем, который жить без тебя не может! Ты ведь жаловалась на мою ревность, ты сама видела, как женщины пытались меня соблазнить, но я всегда разоблачал перед тобой их дьявольские козни, и ты все-таки в это поверила!
Она испытала жалость ко мне и в порыве искренности, охватившей ее на мгновение, призналась, что никогда в это не верила.
– И все же ты мне изменяла! Скажи мне правду, и я тебя прощу. Избавь меня от черных мыслей, которые стали моим наваждением. Скажи правду!
Она не сказала правды, а ограничилась лишь тем, что еще раз обозвала господина Ц. «негодяем».
Мой самый близкий друг – негодяй! Я хотел только одного – умереть. Жизнь стала для меня невыносимой!
Во время обеда Мария обращалась со мной приветливей обычного, а вечером, когда я уже лежал в постели, она пришла ко мне в комнату, села возле кровати, стала пожимать мою руку, целовать глаза, а в конце концов вдруг разрыдалась, и вид у нее был совсем несчастный.
– Ты плачешь, дорогая? Скажи мне, что за горе тебя мучает, и я тебя утешу.
Она бормотала только какие-то невнятные, обрывочные фразы, что-то про мое великодушное сердце, про мою снисходительность к людям, про широту взглядов и про испытания, уготовленные нам жизнью.
Что за странность! Я обвинил ее в измене, а она в ответ меня ласкает и поет дифирамбы!
Однако поджог был совершен, и пожар не мог не разгореться. Она мне изменила, это ясно. Значит, я должен узнать, с кем именно! Последующая затем неделя была из самых горьких в моей жизни. Я вынужден был отказаться от всех своих принципов, врожденных, полученных по наследству и в результате воспитания, и пойти на преступление. Я решил распечатывать письма, которые получала Мария, чтобы понять наконец, на каком я свете. И несмотря на то, что по отношению к ней я проявлял в этом смысле полное доверие, разрешая читать адресованную мне корреспонденцию во время моих отъездов, мне трудно было нарушить священный закон, результат так называемого социального контракта, охраняющий тайну переписки.
И все же я скользил по наклонной плоскости, и в один прекрасный день, потеряв к себе всякое уважение, держал в руках распечатанное письмо, и руки мои так при этом дрожали, словно я развернул смертный приговор своей чести. Итак, я читаю сочинение ее подруги-авантюристки, как всегда подписанное шифром «№ 1».
В издевательских, пренебрежительных выражениях она изощрялась насчет моего безумия и возносила молитву господу богу, чтобы он освободил Марию от ее страданий, призвав меня к себе.
Выписав из этого письма самые наглые фразы, я заклеил конверт, решив подбросить его к вечерней почте. В соответствующий час я вручил жене письмо и сел рядом, чтобы наблюдать за ней.
Дочитав, видимо, до того места, где шла речь о желательности моей скорейшей смерти – это были как раз первые строчки на второй странице, – она рассмеялась недобрым смехом.
Таким образом, получалось, что единственный путь к освобождению от угрызений совести моя любимая видела в том, чтобы я умер. Самые большие надежды на избавление от моральных последствий своей измены она связывала с моей кончиной, после которой она получила бы к тому же деньги по моему страховому полису и пенсию, как вдова знаменитого поэта. Тогда она смогла бы снова выйти замуж либо остаться соломенной вдовой и жить, как ей заблагорассудится. О, любимая!
Итак, moriturus sum [33], я приближал катастрофу, вовсю потягивая абсент, который делал меня счастливым, и играл в биллиард, который охлаждал мой пылающий мозг.
Но тем временем возникло новое осложнение, более пагубное, чем все, что было до сих пор. Литераторша, которая делала вид, что привязалась ко мне, на самом-то деле была покорена Марией, воспылавшей к ней столь горячей любовью, что это могло дать повод всяческим сплетням.
В то же время приятельница этой литераторши, художница, стала ревновать ее к Марии, что лишь подлило масла в огонь. Как-то вечером Мария, несколько помягчевшая от моих объятий, спросила меня, уж не влюблен ли я в N.
– Нимало. В эту чудовищную пьянчужку! Надо же такое подумать!
– А вот я схожу с ума по ней! Правда странно? Причем настолько, что страшусь оставаться с нею наедине.
– А что, собственно, вы бы делали?
– Не знаю. Мне всегда хочется ее поцеловать. Она очаровательна. И как изумительно сложена!
Неделю спустя мы пригласили к себе друзей из Парижа с их женами. Это были художники, начисто лишенные всяческих предрассудков.
Мужья приехали, однако, без жен и объяснили их отсутствие столь неубедительно, что меня это больно ранило.
И у нас началась, представьте, настоящая оргия. Поведение всех мужчин потрясло меня до глубины души, иначе чем скандальным его не назовешь.
С Марией и ее двумя подругами гости обходились как с девками. Все были пьяны как свиньи, и вдруг я увидел, что мою жену целует какой-то лейтенант.
Замахнувшись на них биллиардным кием, я потребовал объяснения.
– Да это же друг детства, к тому же он мой родственник, не будь смешным! – осадила меня Мария. – И в России все целуются при встрече, а мы, финны, – русские подданные.
– Ложь! – крикнул мне один мой друг. – Они вовсе не родственники. Это ложь!
В эту минуту я был готов стать убийцей, и только мысль, что нельзя оставить детей круглыми сиротами, удержала меня. Потом, когда мы с Марией были наедине, я ей устроил разнос.
– Девка!
– Почему?
– Потому, что разрешаешь обращаться с собой как с девкой.
– Ты просто ревнуешь.
– Конечно, я ревниво отношусь к своей чести, к достоинству нашей семьи, к репутации моей жены и к будущему наших детей. А ты своим поведением добилась того, что приличные женщины избегают нашего общества. Позволить себе публично целоваться с первым встречным! Ты просто безумна! Ты ничего не видишь, ничего не слышишь, ничего не понимаешь и потеряла всякое чувство долга. Если ты не станешь вести себя иначе, мне придется запереть тебя в сумасшедший дом. И учти, отныне я запрещаю тебе встречаться со своими подругами.
– Разве есть доказательства того, что наши отношения соответствуют твоим подозрениям?
– Нет, но ты же болтаешь бог знает что! Не ты ли призналась мне, что влюблена в N? А потом эта N, помнишь, будучи пьяной, заявила нам, что, живи она в своей стране, ее бы давно сослали.
– Но ты ведь отрицаешь само понятие порока?
– Пусть эти барышни забавляются как им угодно и сколько угодно, мне все равно, пока это не касается моей семьи. Но с того момента, как их забавы вовлекают нас в какие-то неприятности, эти развлечения становятся для меня предосудительными. В философском плане я не признаю порока, не считая, конечно, пороков развития индивидуума, в физическом там или психологическом смысле. Недавно в Париже в Палате депутатов стоял вопрос о противоестественных пороках, и все знаменитые врачи присоединились к мнению, что закон не должен вмешиваться в эти вопросы, за исключением тех случаев, когда ставятся под удар интересы граждан.
Было бы больше смысла проповедовать рабам, чем объяснять философское понятие этой женщине, которая послушна лишь голосу своих скотских инстинктов.
Чтобы быть в курсе слухов, ходящих в нашей среде, я написал письмо преданному другу в Париж, умоляя его сообщить мне все без утайки.
Он мне ответил весьма откровенно, что в скандинавских кругах жена моя пользуется репутацией женщины с порочными наклонностями, что же касается тех двух датских барышень, о которых я спрашивал, то они известны своим распутством и посещали в Париже весьма подозрительные кафе.
Мы задолжали хозяевам пансиона немалую сумму, у нас не было никаких средств к существованию, поэтому о том, чтобы бежать, и речи быть не могло. К счастью для нас, датчанки познакомились с одной хорошенькой девушкой из деревни, которая стала проводить с ними много времени, и это настолько восстановило против них всех деревенских жителей, что датчанкам этим пришлось срочно отсюда убираться. Однако наше знакомство с ними, длившееся уже восемь месяцев, нельзя было оборвать так резко. Тем более что обе они были из хороших семей, получили хорошее воспитание и оказались добрыми товарищами в дни моих невзгод. Словом, мне хотелось обставить их вынужденный отъезд пристойным образом, и с этой целью мы решили устроить в их честь прощальный обед в ателье одного молодого художника.
Во время десерта, когда все уже изрядно выпили, Мария, поддавшись своим чувствам, встала с бокалом в руке, чтобы спеть песенку, которую она сама сочинила на известный мотив из «Миньон» [34]:
Ужели вы не знаете Марии, Которая подружек обожает? И муж ее, красивейший мужчина, Подчас пеняет горько ей за это. Она не создана женой быть мужней, Раз может зажигать девичье сердце. И вот теперь разъедутся подруги, Вдовой почувствует себя Мария, Хоть много лет и замужем она. Хранятся в памяти лишь дни Монкура, Веселые, чарующие дни!… Прислушайтесь, что говорит Мария: Остаться здесь хотела б я навечно, И песни петь, и пить вино, любить лишь радость, Бессмертно жить! Да, здесь! И только здесь!Она спела это в порыве чувств, вдохновенно, ее огромные миндалевидные глаза, влажные от слез, сверкали, отражая пламя свечей, она широко распахнула свое сердце, и, признаюсь, я был увлечен, очарован ею. Наивность и трогательная искренность Марии делали невозможным даже мысль о чем-то чувственном – просто женщина воспевала женщину. Да и в ее облике не было решительно ничего мужеподобного, нет, нет, это была любящая женщина, нежная, таинственная, загадочная и неуловимая.
Что же до предмета воспеваний – рыжей девицы с грубым лицом, горбатым носом, тяжелым подбородком, желтыми глазами, отечными от питья щеками, плоской грудью и крючковатыми пальцами, – то она являла собой существо настолько мерзкое и отвратительное, что на нее не мог бы польститься даже последний батрак.
Закончив петь, Мария села рядом с этим чудовищем. Рыжая датчанка тут же вскочила и, стиснув обеими ладонями лицо Марии, впилась в ее губы своим ртом. Я стал усердно наливать этой датчанке, чокался с ней, и вскоре она надралась до такой степени, что упала на колени, уставилась в меня тупым взглядом, а потом оперлась спиной о стенку, залилась бессмысленным хохотом.
Мне ни разу не приходилось видеть столь грязное животное в человеческом облике, и мое отношение к вопросам женской эмансипации сложилось в тот час уже окончательно.
Обед кончился скандалом, потому что датчанку-художницу обнаружили на улице, она сидела на краю тротуара, ее рвало, буквально выворачивало наизнанку, и при этом она выла, как дикий зверь. На следующее утро обе девицы отбыли.
Однако после их отъезда Мария пережила настоящую депрессию, и я испытывал к ней лишь жалость, настолько она скучала по своей подруге, так страдала от того, что разлучена с ней. Она в одиночестве гуляла по лесу, что-то напевая про себя, посещала все места, где они бывали вместе, – одним словом, все симптомы раненого сердца были налицо, и я стал опасаться за ее разум. Она была несчастна, и я оказался бессильным ее утешить. Ласк моих она стала избегать, когда я пытался ее поцеловать, она меня отталкивала, и я постепенно смертельно возненавидел эту отсутствующую подругу, потому что она отняла у меня любовь моей жены.
А Мария, не отдавая себе отчета в том, что происходит, не скрывала причины своей печали и всем жаловалась на свое горе. В это просто невозможно поверить!
В те ужасные дни Мария вела оживленную переписку со своей подругой, и вот однажды, впав в полное бешенство от вынужденного воздержания, я перехватил письмо рыжего чудовища. Настоящее любовное послание! Моя птичка, мой ангелочек, умница моя, прекрасная Мария со своим миром благородных чувств и рядом – грубый муж, мужлан, идиот! И планы бегства, похищения! Терпеть это дольше я был не в силах, и вечером, при свете луны – помилуй боже! – у нас с Марией дело дошло буквально до драки. Она кусала мне руки, а я волок ее к реке, чтобы утопить, как котенка. И только мысль о детях вернула мне разум.
Я стал готовиться к самоубийству, но до этого я хотел написать историю своей жизни.
Я уже завершал первую часть, когда до меня дошел слух, что датчанки сняли в нашей деревне квартиру на лето.
Я тут же велел сложить чемоданы, и мы отправились в немецкую Швейцарию.
Безмятежный край Ааргау – вот истинная аркадия, где стадо на пастбище выгоняет лично господин почтмейстер, где командир полка собственноручно правит лошадью, запряженной в единственный в тех местах экипаж, когда случается ехать в город, где девушки выходят замуж невинными, а парни стреляют из луков и бьют в барабаны. О, обетованная земля, родина желтого пива, соленой колбасы, игры в кегли, Габсбургов [35] и Вильгельма Телля, сельских празднеств, незамысловатых песен, толстых пасторских жен и монастырской тишины.
Возбужденные умы обретают там покой, я почувствовал себя заново рожденным, и на Марию, уставшую бунтовать, нападает что-то вроде добродушной апатии. Игра в триктрак, которой мы усердно предавались, служила нам громоотводом, шумным объяснениям мы предпочли стук костяшек домино, а доброе безобидное пиво заменило нам абсент и возбуждающее вино.
Влияние среды давало себя знать, и я не переставал удивляться тому, что после стольких пережитых бурь жизнь может еще быть веселой, что человеческий ум оказывается на удивление эластичным и сопротивляется стольким ударам судьбы и что прошлое полностью забывается, и отныне я мог считать себя счастливейшим из мужей, связанным узами брака с вернейшей из жен.
Мария, лишенная общества и подруг, довольно быстро вошла в роль матери, не прошло и месяца, как наши дети стали щеголять в красивых одеждах, скроенных и сшитых их мамой, которая теперь полностью посвящала им все свое время.
Однако Мария начала понемногу сдавать, ее прежнее игривое настроение пропало, чувствовалось, что для нее наступила пора зрелости. В каком горе она была, когда потеряла свой первый зуб! Бедная Мария! Она плакала, сжимая меня в объятиях, молила не разлюбить ее. Ей исполнилось тридцать семь лет. Волосы у нее стали сечься, грудь уплощилась, словно волны после бури, лестницы становились все более высокими для ее маленьких ножек, а легким все чаще и чаще стало не хватать воздуха. Но при этом я любил ее еще больше, потому что теперь она, несомненно, будет принадлежать только мне одному, вернее, нам, нашей семье. Я любил ее больше прежнего, несмотря на то что чувствовал себя здоровым, как никогда, обновленным, я переживал, как говорится, вторую весну и расцвет своей мужской стати. Наконец-то она была моей. Ей придется стареть, окруженной моей заботой, обороненной ото всяких соблазнов, посвящая свою жизнь детям.
Признаки ее выздоровления становились все более явными и обретали трогательные черты. Так, например, предвидя опасность быть женой тридцативосьмилетнего молодого человека, она стала оказывать мне честь своей беспричинной ревностью, занялась своими туалетами и вела себя как истинная женщина во время моих ночных визитов.
Однако на самом деле ей нечего было опасаться, потому что я воистину существо моногамное, и, вместо того чтобы пользоваться своим положением, делал все возможное, чтобы избавить ее от страшных мук ревности, и успокаивал постоянными свидетельствами моей омоложенной любви.
Осенью я решил совершить большое путешествие недели на три, не меньше. Мария, для которой расстройство моего здоровья стало как бы навязчивой идеей, всячески пыталась отговорить меня от этой, как ей казалось, опасной затеи.
– Ты живым не вернешься, малыш!
– Посмотрим.
Так поездка эта оказалась для меня делом чести, этаким мужественным подвигом, с помощью которого я надеялся вновь завоевать ее любовь, как сильный мужчина.
Поездка и правда оказалась не из легких, но я вернулся окрепшим, загорелым, исполненным новых сил.
Во взгляде, которым она окинула меня в момент нашей встречи, были восхищение, вызов и вместе с тем некоторое разочарование. Я же, налитый жизненными соками, да еще после трехнедельного воздержания, повел себя с ней как с любовницей и безо всяких предварительных переговоров, как обычно, обняв за талию, опрокинул на постель и взял то, что мне принадлежало по праву, причем все это я проделал после сорокачасовой поездки в поезде. Судя по ее растерянному виду, я понял, что она не может решить, как себя вести, боясь, видно, показать мне свои истинные чувства, а быть может, напуганная тем, что вместо мужа появился мужчина-дрессировщик.
Когда я пришел в себя, то сразу же заметил, что у Марии как-то изменилось выражение лица, а разглядев ее как следует, увидел, что она вставила себе зубы, отчего явно помолодела, да и отдельные детали ее туалета также свидетельствовали об ее возрожденном кокетстве. Продолжая свои наблюдения, я тут же обнаружил, что Мария завязала чрезвычайно горячую дружбу с какой-то четырнадцатилетней девочкой, иностранкой, с которой она гуляла, купалась и все время целовала ее. Одним словом, я понял, что нам необходимо срочно отсюда бежать.
Так мы оказались в немецком пансионе на берегу озера Четырех Кантонов.
Новое падение, причем весьма опасного свойства.
В нашем пансионе жил лейтенант. Мария стала за ним ухаживать, они играли в кегли и вместе гуляли в саду, пока я работал.
За табльдотом во время обеда я заметил, что они, ни слова не говоря друг другу, обмениваются все время нежными взглядами. Чтобы быть до конца правдивым, признаюсь, мне показалось, что они таким образом занимаются любовью. Я решился, так сказать, на штурм и, повернув голову, уставился в лицо моей жены. Поняв, что ее выследили, она скользнула взглядом по виску лейтенанта, и так как ее глаза при этом невольно уперлись в стенку, где висела реклама какой-то пивной, она сказала, как бы к слову, но на самом деле испуганно и растерянно, первую попавшуюся фразу, вроде той, тогда, в лодке с рыбаком, когда спросила о цене башмаков:
– Что это за пивная?
– Ты занимаешься любовью с лейтенантом! – бросил я ей в упор.
Она согнула шею, будто ее потянули за удила, она была сражена и не проронила ни слова.
Два дня спустя она объявила мне вечером, что очень устала, поцеловала меня, пожелав спокойной ночи, и скрылась в своей комнате. Я лег, чтобы читать, но вдруг вскочил, потому что услышал, что внизу, в гостиной, поет Мария.
Я пошел за горничной и велел ей привести ко мне жену.
– Скажите ей, чтобы она немедленно поднялась сюда, а не то я сам спущусь с палкой и отлуплю ее при всем честном народе!
Мария тут же поднялась и вошла ко мне с видом оскорбленной невинности, она явно стыдилась моей выходки и спросила, на каком основании я дал горничной такое странное поручение и почему я запрещаю ей быть в обществе постояльцев пансиона, где много дам.
– Не это меня оскорбило, а твое коварство: ты нарочно заставила меня уйти из гостиной, чтобы остаться там одной.
– Изволь, если ты настаиваешь, я пойду спать.
Что за внезапное простодушие, что за послушание! Что случилось?
За осенью последовала снежная зима, печальная, пустынная. Мы были теперь единственными постояльцами в этом скромном пансионе и из-за холода ели не за табльдотом в отдельной комнате, как прежде, а в большом общем зале ресторана. Однажды во время завтрака за соседний столик сел человек высокого роста, довольно красивый для своей социальной среды, судя по всему, он был лакеем, и заказал стакан вина.
Мария со своей обычной развязностью стала разглядывать посетителя, как бы оценивая его стати, и тут же впала в задумчивость, а он вскоре ушел, явно смущенный таким лестным вниманием.
– Какой красавец! – воскликнула Мария, обращаясь к хозяину.
– Это мой бывший портье, – ответил он.
– В самом деле? Какая у него величественная осанка, это редкость для людей его круга. Ничего не скажешь, настоящий красавец!
Мария, к великому удивлению хозяина, пустилась в рассуждения по поводу особенностей мужской красоты.
На следующий день красавец портье уже сидел на своем месте, когда мы вошли в зал. Он надел воскресный костюм, тщательно причесался, нафиксатуарил бороду, – одним словом, по всему было видно, что его предупредили об одержанной им победе. И вот этот увалень, поздоровавшись с нами и получив в ответ изящное приветствие моей жены, позирует перед нами, будто настоящий красавец.
На следующий день он снова появился, решив на этот раз перейти в наступление. С присущим его профессии вкусом он вступил в разговор, однако не утруждая себя попыткой, как обычно делают в таких случаях, охмурить сперва мужа, обратился с пошлой галантностью непосредственно к моей жене.
Все это даже представить себе невозможно! Но тем не менее Мария, изящная и привлекательная, как ни в чем не бывало поддержала эту беседу, нимало не смущаясь присутствием мужа и детей.
Я еще раз пытаюсь открыть ей глаза, умоляю ее беречь свою репутацию, но в ответ получаю только уже привычное возмущение по поводу моего «пакостного воображения».
Вскоре появился еще один позер, толстяк, хозяин деревенской табачной лавочки, у которого Мария покупала всякую галантерейную мелочь. Более хитрый, чем портье, и вместе с тем более предприимчивый, он попытался сперва завоевать меня. Во время первой встречи, весьма нагло уставившись Марии в лицо, он, обернувшись к хозяину гостиницы, воскликнул громко:
– Господи, какая же это красивая семья!
Сердце Марии сразу растаяло, а ее обожатель стал ежедневно появляться в гостинице.
Как-то вечером он был навеселе, а следовательно, и смелым. Он подошел к нам – мы играли в триктрак – и, наклонившись к Марии, попросил ее объяснить правила игры. Стараясь быть как можно более вежливым, я все же сделал ему замечание, и он возвратился на свое место. Но Мария, обладая более чувствительным сердцем, чем я, сочла, что должна сгладить нанесенное ему оскорбление, и, обернувшись к нему, спросила ни с того ни с сего:
– Вы играете в биллиард?
– Нет, сударыня, вернее, плохо, но я к вашим услугам!
Сказав это, он встал, подошел к нам и предложил мне сигару.
А когда я отказался, он обратился к Марии с тем же предложением:
– А вы, сударыня?
К счастью для нее, для табачной лавочки и для будущего моей семьи, она тоже отказалась кокетливо-благодарным жестом.
Но как это человек мог осмелиться предложить в ресторане сигару светской женщине, да еще в присутствии ее мужа?
Так что же, я безумный ревнивец или жена моя ведет себя настолько неприлично, что вызывает желание у первого встречного?
После истории с сигарой я закатил ей сцену у себя в комнате исключительно с целью разбудить эту сомнамбулу, которая, даже не подозревая об этом, шла прямым путем к своей гибели. Чтобы подвести итоги, я безжалостно перечислил все ее старые и новые грехи, разобрал во всех подробностях ее поведение.
Бледная, с синяками под глазами, Мария выслушала меня до конца, ни слова не говоря. Потом она встала и пошла к себе, чтобы лечь спать. Но в этот раз, впервые в своей жизни, я опустился до того, что решил следить за ней. Сбежав вниз, я занял пост у двери ее комнаты, чтобы подглядывать в замочную скважину.
Служанка, освещенная лампой, сидит прямо передо мной. Мария, очень взволнованная, ходит, говорит о моих несправедливых подозрениях, будто обвиняемая произносит защитную речь. Она повторяет мои выражения, словно хочет этим избавиться от них, выкинуть их из головы.
– А ведь я совершенно невинна! Хотя мне не раз представлялась возможность грешить.
Затем она ставит на стол бутылку пива и два стакана, наполняет стаканы и чокается со служанкой.
Boт она садится напротив девушки, наклоняется к ней совсем близко и не сводит глаз с ее груди. У нее причудливо сокращаются мускулы рта, подобно тому как у лошади, страдающей тиком, все время подергиваются губы. Она прижимается головой к груди служанки, обнимает ее за талию и говорит:
– Подружка, поцелуй меня.
– Подружка! – отвечает служанка робким голосом.
– Поцелуй меня, – повторяет Мария свою просьбу.
Служанка целует ее в щеку.
– Раз целовать грудь преступление, то хоть погладь меня по голове.
Служанка начинает ей чесать волосы, а Мария раскидывается на двух стульях, кладет голову на колени девушки, голос ее становится глухим, тягучим, словно она впадает в какое-то оцепенение.
Она стонет, она несчастна! Бедная Мария! И она ищет утешения вдали от меня, хотя я единственный, кто мог бы ей помочь избавиться от угрызений совести. Внезапно она выпрямляется и к чему-то прислушивается, глядя на дверь:
– Там кто-то есть!
Я убегаю. Когда же, спустя некоторое время, возвращаюсь на свой пост, то застаю Марию полуодетой. Она показывает служанке свои плечи, обращает ее внимание на красоту линий, всячески пытается привлечь ее внимание к своему голому телу. Но так как это не производит впечатлений на служанку, она продолжает свою защитительную речь:
– Он сумасшедший, тут нет сомнений, и я боюсь, что он меня отравит. У меня какие-то боли в желудке… Нет, не думаю!… Надо бежать в Финляндию, ведь верно?… Но он от этого умрет, потому что он так любит детей…
Что все это может означать? Конечно, раскаяние. Я уличил Марию в ее тайных страстях, она охвачена отвращением и ищет убежища на груди женщины. Испорченный ребенок, коварная негодяйка и прежде всего несчастное создание.
Всю ночь я не мог сомкнуть глаз, я был убит горем. В два часа ночи Мария стала кричать во сне, причем так ужасно, что, охваченный жалостью, я постучал в стенку, чтобы ее освободить от страшных видений. К слову сказать, это случалось не в первый раз.
Наутро она меня поблагодарила за то, что я ее разбудил, и тогда, исполненный к ней сочувствия, я приласкал ее и спросил, не надо ли ей в чем-то признаться… другу?
Нет! Представьте себе, ей нечего сказать!
Признайся она мне в тот момент во всем, я ее простил бы, настолько меня тронули ее угрызения совести, так я любил ее, несмотря ни на что, а быть может, именно из-за ее падения! Бедняжка! Как можно поднять руку на столь несчастное создание!
Но вместо того, чтобы спасти меня от мук сомнений, она оказала мне жестокое сопротивление, дошла до того, что начала всерьез считать меня сумасшедшим, инстинкт самосохранения помог ей создать такую легенду, которая имеет, однако, видимость реального факта, и легенда эта стала для нее в конце концов как бы щитом от угрызений совести.
Перед Новым годом мы отправились в Германию и остановились на берегу Боденского озера.
В Германии, стране солдат, где еще сохранился патриархальный уклад жизни, Мария со своими глупостями о правах женщины сразу потеряла почву под ногами. Там девушкам запрещено учиться в университете, там приданое офицерской жены хранится в военном министерстве, как неделимое имущество семьи, там все должности по закону принадлежат только мужчине как кормильцу семьи.
Мария рвалась, будто зверь, попавший в западню, и при первой попытке оговорить меня в женском обществе встретила твердый отпор. Наконец-то меня поддержала партия женщин, а моя бедная Мария осталась с носом. От постоянного общения с офицерами я собрался с мыслями и обрел мужскую повадку, поскольку был вынужден приспосабливаться к новой среде, и мало-помалу во мне вновь пробуждается самец, усыпленный десятью годами морального угнетения.
Я отказался наконец от модной лошадиной челки, вновь отрастил свою львиную гриву, мой голос, ставший глухим оттого, что я постоянно успокаивал нервную женщину, приобрел былую звонкость, ввалившиеся щеки округлились, и вся моя конституция изменилась на пороге сорока лет.
Находясь в прекрасных отношениях со всеми женщинами того дома, где мы жили, я вновь обрел привычку выражать свое мнение, а Мария, которая не пользуется симпатией этих дам, оказалась в полном одиночестве.
Тогда она начала меня бояться. И однажды утром, в первый раз за десять лет нашего брака, она пришла ко мне в спальню одетая и застала меня еще в постели. Я не вполне понял, что значило ее внезапное появление, но после бурного объяснения она выдала себя, давая понять, что ревнует меня к служанке, которая приходит сюда каждое утро, чтобы затопить печь. Вместе с тем она призналась мне, что мой новый облик и манеры кажутся ей отвратительными.
– Я ненавижу все эти проявления мужественности, и я ненавижу тебя, когда ты ходишь с таким важным видом.
Конечно, она хоть как-то любила и ласкала пажа, комнатную собачку, калеку, свое дитя, но женщина, которая хочет играть роль мужчины, не может любить мужчину в своем муже, хотя в чужих мужьях и обожает мужчину.
Ко мне тем не менее прекрасно относились все окружавшие нас женщины, и я охотно бывал в их обществе, греясь теплом, исходящим от настоящих женщин, которые внушают уважительную любовь и которым бессознательно подчиняется мужчина именно потому, что они бесконечно женственны.
Однако как раз в этот период, когда мы стали всерьез обсуждать возможность возвращения на родину, во мне вновь ожили все мои старые опасения. Поскольку мне предстояло восстановить тесные отношения со своими старыми друзьями, мне не терпелось узнать, есть ли в их числе любовники моей жены. Чтобы не иметь на этот счет никаких сомнений, я взялся за тщательное расследование прожитых лет. Уже прежде я спрашивал у своих друзей в Швеции, что они могут мне сказать о слухах, которые ходят у нас по поводу неверности Марии. Но, естественно, мне никогда не удавалось добиться от них искреннего ответа.
Все полны сочувствия к матери, но всем наплевать на то, что отец пропадет, если станет всеобщим посмешищем.
И вот тогда мне пришло в голову применить к моему случаю новую науку – психологию, сочетая ее с чтением мыслей. На наших вечерних сборищах я дал дамам все необходимые разъяснения и ввел психологические опыты в виде игры. Мария, правда, возражала, обвиняла меня в спиритизме, высмеивала как свободомыслящего, вдруг впавшего в суеверие, приводила самые неуместные доводы, лишь бы отговорить меня от этих пагубных для нее занятий.
Чтоб ее утихомирить, я сделал вид, что внял ее просьбам, но, отказавшись от публичных гипнотических сеансов, неожиданно повел на нее атаку с глазу на глаз.
Однажды вечером, когда мы сидим вдвоем в столовой друг против друга, я незаметно перевожу разговор на гимнастику, и она, увлекшись, теряет самоконтроль, то ли подчинившись моей воле, то ли по ассоциации идеи, которую я направляю, сама начинает говорить о массаже, тут же вспоминает боль, которую он может причинить, свои посещения врача-массажиста и восклицает:
– О, массаж – это очень больно! И теперь еще, стоит мне о нем подумать, я чувствую боль…
Готова! Она наклоняет голову, чтобы скрыть смертельную бледность, глаза мигают, губы шевелятся, она пытается заговорить о чем-то другом, но повисает ужасное молчание, и я стараюсь продлить его как можно дольше. К этому нас привел ход ее мыслей, который я направил своей ловкой рукой к нужной цели и из клещей которого она теперь тщетно пытается освободиться. Она у края бездны, но машина уже не может остановиться. Нечеловеческим усилием воли она заставляет себя встать с места, отрываясь от гипноза моего взгляда, и, ни слова не говоря, устремляется к двери.
Удар попал в точку!
Однако спустя несколько минут она возвращается, лицо ее выражает полную безмятежность, и под тем предлогом, что она хочет дать мне почувствовать чудодейственную силу массажа, она становится за моим стулом и начинает мне массировать голову. К несчастью, как раз напротив нас висит зеркало, я украдкой бросаю в него взгляд и успеваю за этот миг увидеть смертельно бледную маску с безумными, устремленными на меня глазами. Наши вопрошающие взгляды встречаются в зеркале.
И вдруг, против всех наших привычек, она садится ко мне на колени, обнимает меня за шею и заявляет, что смертельно хочет спать.
– В чем ты провинилась, если так льнешь ко мне? – спрашиваю я.
Она утыкается мне в грудь головой, целует меня и уходит, пожелав спокойной ночи.
Все это не доказательства, которые можно было бы предъявить суду, но для меня они убедительны потому, что я хорошо знаю ее манеру вести себя.
Добавим к этому, что тот доктор-массажист был недавно с позором изгнан из дома моего кузена за то, что приставал к его жене.
Я не хочу возвращаться на родину, ибо боюсь уронить свою честь, поскольку мне пришлось бы повседневно поддерживать отношения со знакомыми, которые, как я подозреваю, были любовниками моей жены. Чтобы не стать всеобщим посмешищем, как обманутый муж, я решаюсь на бегство.
Я отправился в Вену.
Я поселился в гостинице, и образ некогда обожаемой женщины преследовал меня, я был не в силах работать и спасался только письмами, писал по два раза в день настоящие любовные послания. Иностранный город показался мне могилой, и, гуляя по многолюдным улицам, я чувствовал себя трупом. И тогда бешено заработала моя фантазия, окружив меня в моем одиночестве разными персонажами. Я принялся сочинять сказку, чтобы ввести мою Марию в сей мертвый мир. И, словно по волшебству, вокруг меня начали оживать и дома и люди. Я придумал, что Мария стала знаменитой певицей, и для осуществления этой фантастической затеи, для того, чтобы превратить все архитектурное великолепие столицы в фон для ее выступлений, я завел знакомство с директором консерватории и, ненавидя театр, будучи вконец опустошенным, стал проводить все вечера в опере и в концертах.
Все, что я вижу и слышу, я передаю Марии, и постепенно во мне вновь пробуждается ко всему подлинный живой интерес. Возвращаясь из оперы, я тут же кидаюсь за письменный стол, чтобы в подробностях описать, как певица имярек исполнила сегодня знаменитую арию, и, сравнивая ее талант с талантом Марии, я всегда отдаю предпочтение последней.
Посещая художественные музеи, я во всех картинах видел ее. В Бельведере я не меньше часа стоял перед Венерой Гвидо Рени [36], показавшейся мне поразительно похожей на мою любимую, и в конце концов меня охватила такая тоска по ее телу, что я сложил свои вещи и первым же поездом уехал назад. Что говорить, я околдован этой женщиной, я не могу вырваться из круга ее чар.
Боже, сколь прекрасно возвращение! Мои любовные послания как будто воспламенили сердце Марии, и я, бросившись ей навстречу в маленьком садике перед домом, стал ее горячо целовать, зажав ее голову в ладонях.
– Ты что, колдунья, околдовала меня?
– Ах, вот как! Ты хотел вырваться?
– Да, я пытался бежать. Но ты оказалась сильнее, и я сдаюсь!
Поднявшись в свою комнату, я увидел на столе горшок с цветущими красными розами.
– Значит, ты все-таки немножко любишь меня, чудовище! Она выглядит сейчас застенчивой девушкой, она краснеет, и тут я снова как бы теряю себя, свое представление о чести, забываю о своем стремлении освободиться наконец от цепей, отсутствие которых я, оказывается, уже не в силах вынести.
Целый месяц в разгаре весны под посвист скворцов мы проводим вместе, без остатка отдаваясь любви, мы, кажется, не разжимаем объятий и без конца распеваем дуэты, аккомпанируя себе на пианино, или играем в триктрак. Так проходят самые прекрасные дни за пять последних лет нашей жизни. Весна посреди осени, не говоря уже о том, что и зима не за горами.
И я вновь бьюсь как рыба, пойманная в сеть, а Мария, убедившись в своей полной власти надо мной, словно опоив меня каким-то приворотным зельем, опять впадает в свое прежнее состояние равнодушия. Одетая кое-как, она расхаживает по дому, даже не вставляя съемный зубной протез, несмотря на мое предостережение, что за этим не может не последовать невольного охлаждения с моей стороны. Вместе с тем я замечаю, что у нее вновь возникает интерес к подругам, причем на этот раз просто пагубный, потому что она засматривается на юных девиц.
Однажды мы решили устроить скромный танцевальный и музыкальный вечер, на который пригласили местного коменданта с его четырнадцатилетней дочерью, баронессу, хозяйку дома, где мы жили, ее дочь лет пятнадцати и ее подругу.
Около полуночи, к моему крайнему ужасу, я увидел в одной из комнат полупьяную Марию, окруженную тремя девочками, которых она не отпускала от себя. Глядя на девочек сладостным взором, она нежно целовала их, и в лице ее при этом было нечто неподвижно-лошадиное, одним словом, это было то самое выражение, которое я уже приметил однажды, когда она распевала свои чувственные песенки.
Комендант с тревогой наблюдал за ней из угла комнаты, где он сидел, вот-вот готовый взорваться, а мое пылкое воображение уже рисовало тюрьму, каторжные работы и неизбежный скандал. Я с быстротой молнии кинулся к Марии и девочкам и, буквально растащив их в стороны, пригласил всех танцевать.
Ночью, когда мы остались одни, я набросился на Марию с упреками, и наше бурное объяснение затянулось до утра. Она слишком много выпила и, невольно разоблачая себя, призналась мне в ужасных вещах, которых я и не подозревал.
Охваченный гневом, я повторял ей все обвинения, перечислял все подозрения, добавив к ним одно новое, которое мне и самому казалось преувеличением.
– А та таинственная болезнь, – воскликнул я, – из-за которой у меня были ужасные головные боли!…
– Ах, несчастный, ты что, хочешь сказать, что я заразила тебя…
Помилуй бог, этого у меня и в мыслях не было, я хотел лишь намекнуть ей на то, что были налицо все симптомы отравления цианистым калием. Но в этот миг в моей памяти всплыл один инцидент, настолько неправдоподобный, что я о нем скоро забыл.
В тот период, когда Мария делала себе массаж, я однажды заметил у себя какую-то сыпь. Не подозревая ничего дурного, я сказал об этом Марии, которая, правда несколько смутившись, нашла, как всегда, быстрый ответ, заверив меня, что это иногда случается после бурных объятий.
Я тоже знал, что это бывает, однако называется венерической болезнью. Но вскоре сыпь прошла и все забылось.
И вот теперь подозрения мои вспыхнули с новой силой. Почему всегда в ее объяснениях таятся скрытые обвинения? И в памяти вдруг всплывает фраза из полученного мною после судебного процесса анонимного письма, где Мария названа «проституткой из Сёдертелье».
Что бы это могло значить? Итак, появилось новое направление для розысков.
Когда барон, бывший муж Марии, познакомился с ней в Сёдертелье, она была как будто бы невестой некоего лейтенанта, о котором упорно говорили, что его здоровье подорвано венерическими болезнями. Неужели бедняга Густав, которого все недаром называли спасителем, оказался в дураках? Этим, возможно, и объясняется то живое чувство благодарности, которое Мария испытала к нему во время развода, признавшись мне, что он спас ее от какой-то опасности… а вот от какой именно, она тогда так и не сказала. Но все же почему «проститутка из Сёдертелье»? Это могло бы объяснить и тот замкнутый образ жизни, который вела эта чета. Они не поддерживали связей с людьми своего круга, никогда не выезжали в свет, словно изгнанные из общества, к которому принадлежали по рождению.
Можно ли предположить, что мать Марии, бывшая гувернантка, вышедшая из очень простой семьи и соблазнившая финского барона, отца Марии, после его разорения и бегства из-за долгов в Швецию, овдовев, стала скрывать свою нищету и опустилась до того, что пыталась заработать, продавая свою дочь? Причем именно в Сёдертелье?
Эта старуха, еще кокетливая в свои шестьдесят лет, всегда вызывала у меня отвращение, смешанное с жалостью. Как она была скупа, эта авантюристка по натуре, как жадна до всяческих удовольствий! Она видела в мужчинах только объекты для эксплуатации. Этакая законченная людоедка, которая обманным путем заставила меня взять на иждивение свою сестру и провела самым постыдным образом зятя-барона, вручив ему ничего не стоящие бумаги в качестве приданого.
Бедная Мария! Ведь все ее угрызения совести, тревоги и черные мысли уходят корнями в ее сомнительное прошлое. Прибавив ко всему этому факты, которые обнаружил недавно, я смог наконец понять, в чем был смысл тех кровавых ссор, которые происходили на моих глазах между матерью и дочерью. Понял я и так удивившие меня в свое время и не раз повторенные признания Марии в том, что ей неодолимо хочется наступить ногой на горло собственной матери.
Для чего? Чтобы заставить ее умолкнуть? Возможно. Ведь старуха угрожала разрушить наши с Марией отношения, «признавшись мне во всем».
Чем иначе можно было объяснить ненависть Марии к своей матери, которую Густав называл не иначе как «падаль». Густав объяснял это полупризнаниями, говоря, что она воспитала свою дочь отъявленной кокеткой, чтобы та сумела подцепить мужа.
Все эти соображения, соединившись воедино, укрепили меня в решении бежать куда глаза глядят, бежать, чего бы это ни стоило. И я отправился в Копенгаген собирать все возможные сведения о женщине, которой я дал имя, чтобы иметь потомство.
Вновь встретившись с людьми из моих родных мест, с которыми не виделся несколько лет, я понял, что Мария и ее подруги приложили немало усилий, чтобы ославить меня, и весьма преуспели в этом деле. На наш счет сложилось твердое мнение: Мария – святая мученица, я же – сумасшедший, воображающий себя рогоносцем!
Меня выслушивали, благожелательно улыбались, разглядывали, как диковинное животное. Но мне так и не удалось ни в чем разобраться, никому я не был нужен, большинство знакомых, с которыми я встречался, оказались завистниками, только и мечтавшими, чтобы я окончательно рухнул, потому что это был для них единственный способ возвыситься. В конце концов мне пришлось вернуться в свою тюрьму, где меня ждала Мария, явно встревоженная моим отсутствием, и это был более красноречивый ответ на все мои вопросы, чем предпринятое путешествие.
В течение двух месяцев я, как цепной пес, грыз свою цепь, а в середине лета сбежал в третий раз, теперь уже в Швейцарию. Но оказалось, что я прикован не железной цепью, которую можно разорвать, а гуттаперчевой, которая тем сильнее отшвыривает меня назад, чем больше растягивается.
Когда я вернулся домой в очередной раз, Мария встретила меня презрением и ненавистью, она считала, что за свое бегство я достоин смерти, на которую она и уповает больше всего. Вот тогда-то я и заболел и, вообразив, что умираю, решил разобраться в своем прошлом. Обнаружив, таким образом, что я стал жертвой вампира, я решил выжить, очиститься от грязи, которой запакостила меня эта женщина, вернуться к жизни и мстить, мстить ей, собрав предварительно все улики против нее, все доказательства ее обмана.
И вот тогда во мне тоже вспыхнуло чувство ненависти к ней, ненависти куда более страшной, чем равнодушие, ибо она является изнанкой любви, в ней таящейся. Иными словами, я бы так сформулировал свое душевное состояние: я ее ненавижу, потому что люблю. И как-то в воскресенье, когда мы обедали в саду под деревом, заряд, который накапливал энергию в течение десяти лет, взорвался без всякой видимой причины. Я ее ударил. Впервые. На нее посыпались пощечины, а когда она попыталась было оказать мне сопротивление, я силой заставил ее встать на колени. Какой страшный вопль она издала! И удовлетворение, на миг охватившее меня, сменилось ужасом, когда дети, обезумев от страха, завопили не своими голосами. Это, пожалуй, была самая страшная минута в моей горестной жизни. Святотатство, убийство, преступление против природы. Бить женщину, мать! Да еще в присутствии детей! Мне показалось, что солнце погасло, и я почувствовал полное отвращение к своему существованию… И тем не менее на меня снизошел покой, как бывает после грозы, я испытал удовлетворение, словно исполнил свой священный долг. Да, я сожалел, но не раскаивался. Причина породила следствие. Вечером Мария гуляла одна при свете луны. Я пошел ей навстречу, обнял ее и поцеловал. Она не оттолкнула меня, но зарыдала и после долгих объяснений согласилась подняться со мной в комнату, где мы и праздновали свадьбу до полуночи.
Какой странный у нас брак! В полдень я бью ее смертным боем, а вечером сплю с ней.
Что за странная женщина! Она живет со своим палачом!
Если бы я все это знал, я бы начал ее лупить лет десять назад и был бы самым счастливым из мужей!
Примите это к сведению, господа рогоносцы!
Но тем временем Мария готовила месть, и несколько дней спустя она пришла ко мне в комнату, завела со мной разговор о том о сем и в конце концов призналась, что во время путешествия в Финляндию была изнасилована, но только раз, один-единственный раз.
Итак, мое опасение подтвердилось.
Она умоляла меня даже не думать, что это повторялось, нет, нет, а главное, не считать, что у нее был любовник.
Из этого я сделал такой вывод: были любовники, да не один, а несколько.
– Значит, ты мне изменяла, а чтобы оправдаться перед знакомыми, сочинила сказку о моем безумии. И, скрывая свои преступления, была готова замучить меня до смерти. Ты негодяйка! Я требую развода!
Тут она упала на колени, горько зарыдала и стала умолять простить ее.
– Простить-то я прощу, но разводиться мы будем.
На другой день Мария уже успокоилась, еще через день и совсем оправилась, а на третий день уже вела себя так, будто была безвинна.
– Раз я была настолько великодушной, что сама во всем призналась, то мне не в чем себя упрекнуть.
Да, она отныне не просто невинна, она великомученица и поэтому обращается со своим мучителем с оскорбительным высокомерием.
Не осознавая последствий своего предательства, она действительно не понимала дилеммы, стоящей передо мной. Либо я остаюсь всеобщим посмешищем, неотомщенным рогоносцем, либо ухожу прочь. Но это означало бы полное несчастье, и я так или иначе человек пропащий.
Десять лет мук не могут быть уравновешены несколькими пощечинами и одним проплаканным днем.
И я удираю. В последний раз. Причем у меня не хватает мужества попрощаться с детьми.
В воскресенье в полдень я сажусь на пароходик, идущий в Констанц. Я хочу встретиться во Франции со своими друзьями и, не откладывая, написать роман об этой женщине, такой типичной для нашей эпохи бесполых существ.
Перед самым отходом вдруг появляется Мария. Глаза ее полны слез, она возбуждена, взволнована и, к несчастью, до того хороша, что голова у меня идет кругом. Однако я остаюсь холоден и молчалив, позволяю поцеловать себя, но не возвращаю ей ее коварных поцелуев.
– Скажи хоть, что мы расстаемся друзьями, – просит она.
– Нет, мы будем врагами до конца моих дней, которых осталось уже немного.
На этом она уходит.
Когда пароход отвалил, я увидел, что она бежит по причалу, все еще пытаясь удержать меня магической силой своих глаз, которые меня столько лет обманывали. Она металась по пристани, словно брошенная собака – о, какая ужасная собака! – и мне казалось, что она сейчас кинется в воду, а вслед за ней туда кинусь и я, чтобы вместе утонуть, сжимая друг друга в последнем объятии. Но вот она повернулась и исчезла в проулке, оставив о себе память, как о чарующем существе, твердо ступающем своими изящными ножками, которые безжалостно топтали меня около десяти лет кряду. А я за это время ни разу не завопил от боли в своих сочинениях и ввел тем самым в заблуждение читающую публику, скрывая от нее настоящее преступление этого чудовища, до сих пор мною воспеваемого.
Чтобы хоть как-то защититься от напавшей на меня тоски, я тут же спустился в ресторан и занял место за табльдотом. Но не успели подать первое блюдо, как рыдания сдавили мне горло, и я был вынужден выскочить из-за стола и выбежать на палубу. Оттуда я еще раз увидел зеленый холм на удаляющемся берегу и белый домик со ставенками, где в разоренном гнезде остались мои малютки не только безо всякой защиты, но и без средств к существованию, и немыслимая боль сдавила мне сердце.
Какой, однако, живой и неделимый организм семья! Я почувствовал это уже давно, во время первого ее развода, когда так трудно было свершить это преступление, и угрызения совести потом чуть не убили меня. Что до нее, до моей неверной жены и убийцы, то она тогда не отступила.
В Констанце я сел на поезд, идущий в Базель.
Если бы я верил в бога, я просил бы его не посылать таких страшных страданий даже моему злейшему врагу!
В Базеле меня вдруг охватило безумное желание вновь посетить все те города в Швейцарии, где мы бывали вместе, чтобы воскресить воспоминания и о ней, и о наших детях.
Я провел неделю в Женеве и в Уши, но какая-то тревога все время гнала меня из гостиницы в гостиницу, и я, не зная ни отдыха ни срока, словно проклятый, дни и ночи напролет лил слезы, вспоминая моих дорогих малюток. Я посещал те места, где мы с ними бывали. Я кормил хлебом чаек, как их кормили мои дети на берегу озера Леман, бродил как тень по окрестностям.
Каждый день я с нетерпением ждал письма от Марии, но его не было. О, она слишком хитра, чтобы оставлять своему врагу письменное свидетельство! А я по нескольку раз в день писал ей любовные записки, в которых решительно все прощал. Правда, я их не отсылал.
Поверьте, господа судьи, если бы у меня действительно было предрасположение к безумию, то, клянусь вам, я несомненно сошел бы с ума в эти часы отчаяния.
Вконец измучившись, я стал фантазировать и дофантазировался до того, что решил считать признание Марии ловким предлогом отделаться от меня и начать все сначала с кем-нибудь другим, быть может, с неведомым мне любовником, или, что еще хуже, с какой-нибудь новой подругой. Я представлял себе, как моих детей шлепает отчим и наживается на доходах, которые приносит публикация полного собрания моих сочинений. Тут во мне вновь пробудился инстинкт самосохранения, и я решил прибегнуть к хитрости. Так как я могу писать, только когда живу вместе со своею семьей, я решил вернуться домой и остаться там до тех пор, пока не закончу своего романа. А попутно я буду собирать доказательства преступления Марии. Таким образом, я смогу воспользоваться ею для своей работы, хотя она об этом не будет и подозревать, и она станет вместе с тем орудием моей мести, от которого я потом хотел бы избавиться.
Я отправил Марии телеграмму, ясную, без всяких сентименталь-ностей, сообщая, что наше прошение о разводе не принято судом, и под предлогом того, что ей нужно подписать еще какие-то бумаги, вызвал ее на свидание в Романсхорн, что на этой стороне Боденского озера.
И после этого я снова ожил. А наутро сел в поезд и приехал к месту нашей встречи. И вот неделя страданий забыта, сердце мое радостно бьется, глаза блестят и грудь вздымается от вида холмов на той стороне озера, где живут мои дети. Прибыл пароход, но Марию я не увидел. Наконец она появилась на сходнях. Она была неузнаваема, казалась постаревшей на десять лет. Какой удар в сердце, когда видишь еще молодую женщину, вдруг превратившуюся в старуху! Походка ее стала какой-то вялой, глаза покраснели от слез, щеки ввалились, а подбородок заострился.
Жалость разом отодвинула чувство неприязни, отвращения, и я уже распростер свои объятия, чтобы принять ее, как вдруг отступил, вздернул голову и принял вид человека, пришедшего на свидание, не имеющего для него никакого интереса. Эта перемена во мне была вызвана тем, что, разглядев Марию вблизи, я увидел, что она стала невообразимо похожа на свою датскую подругу. И мысль эта молнией поразила меня. Все, решительно все, и облик, и жесты, и прическа, и выражение лица повторяли датчанку. Не она ли сыграла со мной эту злую шутку? Не от нее ли приехала сюда Мария?
Это мое предположение подтверждали два воспоминания, относящиеся к началу лета. Я слышал, как тогда Мария спрашивала у хозяина гостиницы, расположенной рядом с нами, нет ли у него свободного номера. Зачем она могла это спрашивать? Для кого?
Потом она попросила у меня разрешения ходить каждый вечер играть на пианино в соседний с той гостиницей дом.
Конечно, все эти мелочи еще не были доказательством ее вины, однако меня они весьма насторожили, и пока я шел с Марией к гостинице, я мысленно репетировал роль, которую собирался играть.
Она казалась подавленной, сказала, что больна, однако была спокойной и уравновешенной, задавала мне четкие и разумные вопросы о предстоящем бракоразводном процессе. Несмотря на свой вид, вызывающий жалость, она говорила со мной, насколько это было возможно, высокомерно, поскольку ни в моем внешнем облике, ни в поведении ничто не выдавало пережитого мною горя. Расспрашивая меня, она настолько повторяла интонации своей подруги, что мне захотелось ее разоблачить, спросив, как поживает эта датчанка. Особенно мне бросилась в глаза ее поза трагической актрисы, которая всегда так нравилась ее подруге.
Я угостил ее хорошим вином, она пила стаканами и вскоре опьянела. Я этим воспользовался, чтобы узнать, как поживают дети. В ответ она зарыдала и призналась, что прожила самую тяжелую неделю своей жизни, слушая, как малыши с утра до вечера спрашивают, где папа, и тогда она поняла, что не в силах жить без меня. Заметив, что у меня на пальце нет обручального кольца, она сильно разволновалась и спросила:
– А где твое кольцо?
– Я его продал в Женеве, а на полученные деньги взял проститутку, чтобы хоть немного восстановить равновесие.
Она побледнела.
– Значит, мы с тобой в расчете, – пробормотала она. – Давай начнем все сызнова.
– Ты считаешь, что мы в расчете? Ты совершила поступок, который имеет пагубные последствия для нашей семьи, потому что у меня возникает сомнение в моем отцовстве. Ты виновата в том, что разрушила преемственность рода. Ты искалечила жизнь четырех людей, трех твоих детей, которые родились неизвестно от кого, и твоего мужа, выставленного на посмешище, как рогоносца. А какие последствия имеет мой поступок? Да никаких!
Она заплакала, а я ей предложил довести формальности развода до конца, но так, чтобы она потом осталась в моем доме в качестве любовницы, а детей я усыновил бы.
– Вот это и есть тот свободный союз, о котором ты мечтала, когда проклинала наш брак.
Она на минутку задумалась, но мое предложение явно было ей не по нутру.
– Но почему? Ты ведь мне сказала, что намерена поискать место домоправительницы у какого-нибудь вдовца. Вот я и есть тот вдовец, которого ты намерена найти.
– Все это надо будет обдумать. На это необходимо время. А ты пока вернешься к нам?
– Если ты меня пригласишь!
– Пожалуйста, возвращайся.
И я возвратился в шестой раз, твердо решив использовать эту передышку, чтобы завершить мое повествование и собрать более точные сведения об этой таинственной истории.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прошло шесть месяцев, и История моего брака подходит к концу.
Эти месяцы мы прожили в Копенгагене, где я встретился с друзьями и со своими соотечественниками и с датчанами, но мне так и не удалось ничего узнать. Я вступил со многими в переписку, но и это не дало никаких результатов.
Самый верный из моих друзей ответил мне примерно следующее:
– Допустим, что твоя жена тебе изменила, но и ты виноват, потому что ты ревновал!
Есть ли хоть какой-то здравый смысл в подобном рассуждении?
Я заботился о продолжении своего рода, я следил за поведением женщины с дурным нравом, который мог бы ее привести на панель, я дорожил честью семьи, я не хотел оказаться в дураках, мне было отвратительно работать на чужих детей, я не мог смириться с тем, чтобы строить свое существование на песке, – и по всем этим причинам я виноват в том, что жена моя свершила прелюбодеяние!
Перед нарочитой глупостью можно только сдаться! И я сдаюсь.
Теперь, что касается ревности. Давайте разберемся! Поскольку она была актрисой, я разрешал ей бывать одной в обществе, и она возвращалась домой в три часа ночи, пьяная, но и тогда я ни разу ее не упрекнул, потому что не сомневался в ее верности, и у меня не было никаких подозрений. Но с того момента, как она начала злоупотреблять своими правами, я стал за ней следить, однако не опускался до шпионажа, и только когда появились такие факты, что нельзя было не бить тревогу, у меня возникла ревность или, иными словами, страх, что жена меня обманывает и что дети не мои.
Сами посудите, какое дурное впечатление может произвести такой, например, инцидент.
Как-то вечером в театре, когда Мария играла в моей пьесе, я вошел в ее гримировальную уборную, предварительно постучав в дверь.
На столе, накрытом для двоих, я увидел бутерброды и пиво.
Вскоре я услышал, как кто-то, стоя за дверью, сказал таким фамильярным тоном, что меня передернуло:
– Ты одна, крошка?
И вошел актер с развязным видом, намереваясь поужинать с моей женой.
Добавим к этому, что я не знаю случая, чтобы актриса принимала в своей уборной кого-нибудь, кроме мужа.
Дома я попросил ее объяснить мне эту сцену. В ответ она рассмеялась мне в лицо, словно сумасшедшему ревнивцу.
В другой раз я узнал, что в артистическом клубе, когда ушли все женщины, Мария осталась одна с мужчинами и пила с ними до утра. Я запретил ей напиваться с мужчинами, она мне ответила:
– Я артистка, и ты не можешь мне запретить посещать артистический клуб.
– Я вовсе не запрещаю тебе ходить в клуб, а лишь пить одной с мужчинами, тем более что пьяная женщина – ты сама это говорила – не отвечает за свои поступки, а значит, и за измену.
Вот вам та ревность, которая якобы толкнула ее на прелюбодеяние.
Еще в другой раз, войдя в ресторан, я увидел там Марию, которая сидела с двумя молодыми мужчинами и пила коньяк. Мать моих детей публично напивалась с двумя незнакомыми парнями! Однако я не устроил ей сцены. Поскольку она была пьяна, я всего лишь предложил ей пойти со мной домой. Но, вместо того чтобы внять моей просьбе, она отправилась на какой-то праздник артистов и пробыла там до утра, причем не попросила у меня денег, поскольку брала их, очевидно, ни слова не говоря. А я просил у нее каждый грош, даже чтобы купить табак, каждый грош моих кровных денег, так как она больше не зарабатывала.
Вот вам равенство, о котором мечтают женщины!
И подумать только, что не нашлось мужчины, состоящего со мной в родстве или не состоящего, который счел бы себя обязанным ввести меня в курс постыдной жизни этого чудовища.
Спасая мать, мы хотели спасти детей!
А на самом-то деле вы не спасли, а погубили троих детей, оставив их жить с порочной матерью, вместо того чтобы передать в руки отца, не потерявшего чувства ответственности.
Все оказались на стороне неверной жены в ее борьбе с верным мужем!
Вывод: кем бы ты ни был, мужчина, обманывай, злоупотребляй, завлекай, чтобы не быть обманутым, чтобы тобой не злоупотребляли, чтобы тебя не завлекали!
Начать бракоразводный процесс! Чтобы погубить всех и позволить свободно распространяться гнусным вымыслам безумной женщины, которая все себе разрешает, лжет всякий раз, как открывает рот, и так искажает все факты, что вина за ее ошибки всегда падает на невинного.
Начать этот процесс значит вступить в неравную борьбу, и я от этого отказываюсь.
Теперь, когда мой труд завершен, я ухожу, ухожу в седьмой раз в неизвестность, в пустоту, ибо мое существование зижделось на основании, которое ныне разрушилось, и если, господа судьи, я вскорости сойду с ума (а это более чем вероятно), не делайте из этого вывода, что я был безумен и раньше, не путайте следствий с причинами. А ты, читатель, считая, что вправе судить меня, хотя и не посвящен во все подробности дела, ищи доказательства измены, прежде чем назвать меня сумасшедшим, и если найдешь их, то будь достаточно честен, чтобы признать, что измена была причиной, а безумие, действительное или мнимое, лишь следствие, и только!
Что до меня, то я, ни минуты не колеблясь, выношу ей свой вердикт: виновна! Да, это чудовище, безвременно приведшее меня на край могилы, виновно. И я настоятельно советую господам, ратующим за эмансипацию женщин, советую всем сторонникам равенства обоих полов в вопросах морали судить об изменах мужа или жены, только исходя из реальных результатов свершенного прелюбодеяния!
Я заклинаю законодателей как следует обдумать все возможные последствия, прежде чем подписать закон о гражданских правах для этих полуобезьян, для этих низших животных, для этих больных детей, страдающих от недомогания, впадающих чуть ли не в безумие тринадцать раз в году во время месячных, для этих буйных припадочных в период их беременностей и полностью безответственных существ во все остальные дни их жизни, для всех этих не осознающих себя негодниц, инстинктивных преступниц, злобных тварей, не ведающих, что творят!
Моя история закончена. Да свершится моя судьба! Пусть смерть вырвет меня из ада сего, которому несть конца!…
Примечания
LE PLAIDOYER DUN FOU
«Слово безумца в свою защиту» наряду с книгами «Ад» (1897), «Легенды» (1898) и «Одинокий» (1903) продолжает серию автобиографических произведений писателя. В романе описывается история сложных взаимоотношений Августа Стриндберга с его первой женой Сири фон Эссен. Роман был написан на французском языке летом 1887 года и опубликован в Париже в 1895 году под названием «Le plaidoyer d'un fou». Впервые он увидел свет, однако, в немецком переводе: «Die Beichte eines Thoren» (Berlin, 1893). За этой публикацией последовали два перевода с немецкого, выполненные без разрешения автора и изданные в Швеции в 1893 и 1894 годах. Писатель публично выразил свой протест против обоих переводов, отличавшихся крайне низким качеством и изобиловавших множеством ошибок и неточностей. Первый адекватный перевод романа на шведский язык был сделан по французскому изданию Ю. Ландквистом в 1914 году и вошел в состав 55-томного Собрания сочинений Стриндберга (1912 – 1920). Для настоящего издания роман переведен с французского языка по книге «Le plaidoyer d'un fou» (Stockholm, 1978).
В названии романа явно видна аналогия с «Защитительной речью» Сократа. Если в предыдущем автобиографическом романе «Сын служанки» Стриндберг ставил своей целью лишь провести тщательный «психологический анализ» личности, которую он знал лучше всего, то тональность «Слова безумца в свою защиту» принципиально иная – роман носит отчетливо тенденциозный характер. Герой романа не столько исповедуется перед читателем, сколько выступает в роли собственного адвоката, ограждая себя от клеветы и разрушая уже сложившуюся в обществе «легенду» своей жизни.
Тем не менее не все события, нашедшие отображение в романе, следует считать абсолютно истинными. Скорее это летопись душевного состояния писателя, связанного с тем или иным эпизодом его совместной жизни с Сири фон Эссен и приукрашенного воображением Стриндберга. Сири фон Эссен, которая в книге обвиняется во многих недостатках и грехах, никогда не пыталась опровергнуть то, что написал о ней Стриндберг. Попытку восстановить справедливость предприняла ее старшая дочь Карин Смирнофф, написавшая на эту тему две книги: «Первая жена Стриндберга» (1926) и «Как это было на самом деле» (1956). Сам Стриндберг, видимо, чувствовал необоснованность многих своих подозрений и предположений и долгие годы мучился угрызениями совести.
1
Стриндберг вспоминает здесь героя ветхозаветных преданий Самсона, виновницей гибели которого стала его возлюбленная, филистимлянка Далила. Она трижды пыталась выведать у Самсона источник его чудесной силы и, наконец узнав, что он – в его длинных, согласно обету, волосах, выдала тайну врагам.
(обратно)2
Надейся и в горе (лат.).
(обратно)3
Гартман Эдуард (1842 – 1906) – немецкий философ-идеалист.
(обратно)4
Бернадот Жан Батист (1763 – 1844) – маршал Франции, участник наполеоновских войн. В 1810 г. уволен Наполеоном и избран наследником шведского престола. В 1818 – 1844 гг. – шведский король Карл XIV Юхан, основатель династии Бернадотов.
(обратно)5
Парламентская реформа. – Имеется в виду парламентская реформа 1865 – 1866 гг., согласно которой в Швеции был учрежден бессословный цензовый двухпалатный риксдаг; в целом реформа отражала интересы крупной буржуазии.
(обратно)6
Карл XV (1826 – 1872) – король Швеции с 1859 г. Во время его правления была проведена реформа шведского риксдага.
(обратно)7
Карл XII (1682 – 1718) – шведский король с 1697 г., полководец.
(обратно)8
Король Оскар. – Имеется в виду Оскар II Фридрих (1829 – 1907), король Швеции с 1872 г.
(обратно)9
Веннерберг Гуннар (1817 – 1899) – шведский композитор и поэт. Особенной популярностью пользовался его «Сборник дуэтов».
(обратно)10
Кирказон – род многолетних трав или деревянистых лиан семейства кирказоновых.
(обратно)11
Кристина Августа (1626 – 1689) – королева Швеции с 1632 по 1654 г. Тайно перейдя в католичество, отреклась от престола, чему способствовало также осложнение внутриполитического и международного положения Швеции. Одна из образованнейших женщин своего времени. Образ Кристины интересовал Стриндберга, посвятившего ей одну из своих исторических драм («Кристина», 1903).
(обратно)12
Букв.: чистая доска (лат.). В переносном смысле – нечто чистое, нетронутое.
(обратно)13
В глубине души (ит.).
(обратно)14
Стут – темное пиво.
(обратно)15
Сатурналии – в Древнем Риме – народный праздник по окончании полевых работ в честь бога Сатурна. Здесь – кутеж, разгульный праздник.
(обратно)16
«Берегись мартовских ид!» (англ.).
(обратно)17
Стриндберг обращается к ветхозаветной истории об Иосифе Прекрасном, которого, влюбившись в его красоту, пыталась соблазнить жена Потифара – господина Иосифа, начальника телохранителей фараона. Однако Иосиф стойко прошел искушение и на все притязания жены Потифара ответил твердым отказом.
(обратно)18
Ганс Сакс (1494 – 1576) – немецкий поэт.
(обратно)19
Лютер Мартин (1483 – 1546) – глава реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма.
(обратно)20
Выходит (лат.).
(обратно)21
Ксантиппа – жена Сократа, известная своим сварливым нравом.
(обратно)22
Малыш (швед.).
(обратно)23
Речь идет о пьесе Г. Ибсена «Кукольный дом». Приверженность Ибсена к вопросам женской эмансипации, чрезмерную, по мнению Стриндберга, шведский писатель подверг резкой критике уже в предисловии к первому изданию сборника рассказов «Браки» (1884).
(обратно)24
Менада – в Древней Греции – жрица бога вина и веселья Вакха. Здесь – бешеная, исступленная.
(обратно)25
Речь идет о драме Стриндберга «Секрет гильдии», в которой Сири фон Эссен предназначалась главная роль.
(обратно)26
Эмиль Ожье (1820 – 1889) – французский драматург, романист, один из создателей «школы здравого смысла», выступавшей против традиций романтизма.
(обратно)27
Имеется в виду сборник рассказов Стриндберга «Басни» (1885).
(обратно)28
Речь идет о Нильсе Адольфе Эрике Норденшёльде (1832 – 1901) – шведском геологе и географе, исследователе Арктики. В 1878 – 1879 гг. Норденшёльд на пароходе «Вега» впервые осуществил плавание северо-восточным проходом из Атлантического океана в Тихий.
(обратно)29
Имеется в виду Г. Ибсен.
(обратно)30
Эмиль де Жирарден – французский журналист и писатель (1806 – 1884).
(обратно)31
Речь идет о цикле рассказов «Браки I» (1884). После того как книга вышла в свет, писатель был привлечен к суду по обвинению в богохульстве (из-за нескольких строк в рассказе «Награда за добродетель»). Однако под давлением общественного мнения Стриндберг был оправдан.
(обратно)32
Имеется в виду пьеса Г. Ибсена «Кукольный дом».
(обратно)33
Обреченный на смерть (лат.).
(обратно)34
«Миньон» – опера французского композитора А. Тома (по роману В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера»).
(обратно)35
Королевская династия Габсбургов получила свое название от замка Габсбург, который был построен около 1020 г. в одной из областей Швейцарии.
(обратно)36
Гвидо Рени (1575 – 1642) – итальянский живописец.
(обратно)

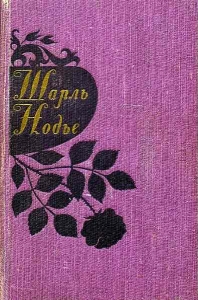
Комментарии к книге «Слово безумца в свою защиту», Август Юхан Стриндберг
Всего 0 комментариев