Глава I
В этот день нечего было и думать о прогулке. Правда, утром мы еще побродили часок по дорожкам облетевшего сада, но после обеда (когда не было гостей, миссис Рид кушала рано) холодный зимний ветер нагнал угрюмые тучи и полил такой пронизывающий дождь, что и речи не могло быть ни о какой попытке выйти еще раз.
Что же, тем лучше: я вообще не любила подолгу гулять зимой, особенно под вечер. Мне казалось просто ужасным возвращаться домой в зябких сумерках, когда пальцы на руках и ногах немеют от стужи, а сердце сжимается тоской от вечной воркотни Бесси, нашей няньки, и от унизительного сознания физического превосходства надо мной Элизы, Джона и Джоржианы Рид.
Вышеупомянутые Элиза, Джон и Джорджиана собрались теперь в гостиной возле своей мамы: она полулежала на диване перед камином, окруженная своими дорогими детками (в данную минуту они не ссорились и не ревели), и, очевидно, была безмятежно счастлива.
Я была освобождена от участия в этой семейной группе; как заявила мне миссис Рид, она весьма сожалеет, но приходится отделить меня от остальных детей, по крайней мере до тех пор, пока Бесси не сообщит ей, да и она сама не увидит, что я действительно прилагаю все усилия, чтобы стать более приветливой и ласковой девочкой, более уживчивой и кроткой, пока она не заметит во мне что-то более светлое, доброе и чистосердечное; а тем временем она вынуждена лишить меня всех радостей, которые предназначены для скромных, почтительных деток.
— А что Бесси сказала? Что я сделала?
— Джен, я не выношу придирок и допросов; это просто возмутительно, когда ребенок так разговаривает со старшими. Сядь где-нибудь и, пока не научишься быть вежливой, молчи.
Рядом с гостиной находилась небольшая столовая, где обычно завтракали Я тихонько шмыгнула туда. Там стоял книжный шкаф; я выбрала себе книжку, предварительно убедившись, что в ней много картинок. Взобравшись на широкий подоконник, я уселась, поджав ноги по-турецки, задернула почти вплотную красные штофные занавесы и оказалась, таким образом, отгороженной с двух сторон от окружающего мира.
Тяжелые складки пунцовых драпировок загораживали меня справа; слева оконные стекла защищали от непогоды, хотя и не могли скрыть картину унылого ноябрьского дня. Перевертывая страницы, я время от времени поглядывала в окно, наблюдая, как надвигаются зимние сумерки. Вдали тянулась сплошная завеса туч и тумана; на переднем плане раскинулась лужайка с растрепанными бурей кустами, их непрерывно хлестали потоки дождя, которые гнал перед собой ветер, налетавший сильными порывами и жалобно стенавший.
Затем я снова начинала просматривать книгу — это была «Жизнь английских птиц» Бьюика. Собственно говоря, самый текст мало интересовал меня, однако к некоторым страницам введения я, хоть и совсем еще ребенок, не могла остаться равнодушной: там говорилось об убежище морских птиц, о пустынных скалах и утесах, населенных только ими; о берегах Норвегии, от южной оконечности которой — мыса Линденеса — до Нордкапа разбросано множество островов:
…Где ледяного океана ширь Кипит у островов, нагих и диких, На дальнем севере; и низвергает волны Атлантика на мрачные ГебридыНе могла я также пропустить и описание суровых берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии, «всего широкого простора полярных стран, этих безлюдных, угрюмых пустынь, извечной родины морозов и снегов, где ледяные поля в течение бесчисленных зим намерзают одни над другими, громоздясь ввысь, подобно обледенелым Альпам; окружая полюс, они как бы сосредоточили в себе все многообразные козни сильнейшего холода». У меня сразу же сложилось какое-то свое представление об этих мертвенно-белых мирах, — правда, туманное, но необычайно волнующее, как все те, еще неясные догадки о вселенной, которые рождаются в уме ребенка. Под впечатлением этих вступительных страниц приобретали для меня особый смысл и виньетки в тексте: утес, одиноко стоящий среди пенящегося бурного прибоя; разбитая лодка, выброшенная на пустынный берег; призрачная луна, глядящая из-за угрюмых туч на тонущее судно.
Неизъяснимый трепет вызывало во мне изображение заброшенного кладбища: одинокий могильный камень с надписью, ворота, два дерева, низкий горизонт, очерченный полуразрушенной оградой, и узкий серп восходящего месяца, возвещающий наступление вечера.
Два корабля, застигнутые штилем в недвижном море, казались мне морскими призраками.
Страничку, где был изображен сатана, отнимающий у вора узел с похищенным добром, я поскорее перевернула: она вызывала во мне ужас.
С таким же ужасом смотрела я и на черное рогатое существо, которое, сидя на скале, созерцает толпу, теснящуюся вдали у виселицы.
Каждая картинка таила в себе целую повесть, подчас трудную для моего неискушенного ума и смутных восприятий, но полную глубокого интереса, — такого же, как сказки, которые рассказывала нам Бесси зимними вечерами в тех редких случаях, когда бывала в добром настроении. Придвинув гладильный столик к камину в нашей детской, она разрешала нам усесться вокруг и, отглаживая блонды на юбках миссис Рид или плоя щипцами оборки ее ночного чепчика, утоляла наше жадное любопытство рассказами о любви и приключениях, заимствованных из старинных волшебных сказок и еще более древних баллад или же, как я обнаружила в более поздние годы, из «Памелы» и «Генриха, герцога Морландского».
И вот, сидя с книгой на коленях, я была счастлива; по-своему, но счастлива. Я боялась только одного — что мне помешают, и это, к сожалению, случилось очень скоро.
Дверь в маленькую столовую отворилась.
— Эй, ты, нюня! — раздался голос Джона Рида; он замолчал: комната казалась пустой.
— Куда к чертям она запропастилась? — продолжал он. — Лиззи! Джорджи! — позвал он сестер. — Джоаны нет здесь. Скажите мамочке, что она убежала под дождик… Экая гадина!
«Хорошо, что я задернула занавесы», — подумала я, горячо желая, чтобы мое убежище не было открыто, впрочем, Джон Рид, не отличавшийся ни особой зоркостью, ни особой сообразительностью, ни за что бы его не обнаружил, но Элиза, едва просунув голову в дверь, сразу же заявила:
— Она на подоконнике, ручаюсь, Джон.
Я тотчас вышла из своего уголка; больше всего я боялась, как бы меня оттуда не вытащил Джон.
— Что тебе нужно? — спросила я с плохо разыгранным смирением.
— Скажи: «Что вам угодно, мистер Рид?» — последовал ответ. — Мне угодно, чтобы ты подошла ко мне, — и, усевшись в кресло, он показал жестом, что я должна подойти и стать перед ним.
Джону Риду исполнилось четырнадцать лет, он был четырьмя годами старше меня, так как мне едва минуло десять. Это был необычайно рослый для своих лет увалень с прыщеватой кожей и нездоровым цветом лица; поражали его крупные нескладные черты и большие ноги и руки. За столом он постоянно объедался, и от этого у него был мутный, бессмысленный взгляд и дряблые щеки. Собственно говоря, ему следовало сейчас быть в школе, но мамочка взяла его на месяц-другой домой «по причине слабого здоровья». Мистер Майлс, его учитель, утверждал, что в этом нет никакой необходимости, — пусть ему только поменьше присылают из дому пирожков и пряников; но материнское сердце возмущалось столь грубым объяснением и склонялось к более благородной версии, приписывавшей бледность мальчика переутомлению, а может быть, и тоске по родному дому.
Джон не питал особой привязанности к матери и сестрам, меня же он просто ненавидел. Он запугивал меня и тиранил; и это не два-три раза в неделю и даже не раз или два в день, а беспрестанно. Каждым нервом я боялась его и трепетала каждой жилкой, едва он приближался ко мне. Бывали минуты, когда я совершенно терялась от ужаса, ибо у меня не было защиты ни от его угроз, ни от его побоев; слуги не захотели бы рассердить молодого барина, став на мою сторону, а миссис Рид была в этих случаях слепа и глуха: она никогда не замечала, что он бьет и обижает меня, хотя он делал это не раз и в ее присутствии, а впрочем, чаще за ее спиной.
Привыкнув повиноваться Джону, я немедленно подошла к креслу, на котором он сидел; минуты три он развлекался тем, что показывал мне язык, стараясь высунуть его как можно больше. Я знала, что вот сейчас он ударит меня, и, с тоской ожидая этого, размышляла о том, какой он противный и безобразный. Может быть, Джон прочел эти мысли на моем лице, потому что вдруг, не говоря ни слова, размахнулся и пребольно ударил меня. Я покачнулась, но удержалась на ногах и отступила на шаг или два.
— Вот тебе за то, что ты надерзила маме, — сказал он, — и за то, что спряталась за шторы, и за то, что так на меня посмотрела сейчас, ты, крыса!
Я привыкла к грубому обращению Джона Рида, и мне в голову не приходило дать ему отпор; я думала лишь о том, как бы вынести второй удар, который неизбежно должен был последовать за первым.
— Что ты делала за шторой? — спросил он.
— Я читала.
— Покажи книжку.
Я взяла с окна книгу и принесла ему.
— Ты не смеешь брать наши книги; мама говорит, что ты живешь у нас из милости; ты нищенка, твой отец тебе ничего не оставил; тебе следовало бы милостыню просить, а не жить с нами, детьми джентльмена, есть то, что мы едим, и носить платья, за которые платит наша мама. Я покажу тебе, как рыться в книгах. Это мои книги! Я здесь хозяин! Или буду хозяином через несколько лет. Пойди встань у дверей, подальше от окон и от зеркала.
Я послушалась, сначала не догадываясь о его намерениях; но когда я увидела, что он встал и замахнулся книгой, чтобы пустить ею в меня, я испуганно вскрикнула и невольно отскочила, однако недостаточно быстро: толстая книга задела меня на лету, я упала и, ударившись о косяк двери, расшибла голову. Из раны потекла кровь, я почувствовала резкую боль, и тут страх внезапно покинул меня, дав место другим чувствам.
— Противный, злой мальчишка! — крикнула я. — Ты — как убийца, как надсмотрщик над рабами, ты — как римский император!
Я прочла «Историю Рима» Гольдсмита[1] и составила себе собственное представление о Нероне, Калигуле и других тиранах. Втайне я уже давно занималась сравнениями, но никогда не предполагала, что выскажу их вслух.
— Что? Что? — закричал он. — Кого ты так называешь?.. Вы слышали, девочки? Я скажу маме! Но раньше…
Джон ринулся на меня; я почувствовала, как он схватил меня за плечо и за волосы. Однако перед ним было отчаянное существо. Я действительно видела перед собой тирана, убийцу. По моей шее одна за другой потекли капли крови, я испытывала резкую боль. Эти ощущения на время заглушили страх, и я встретила Джона с яростью. Я не вполне сознавала, что делают мои руки, но он крикнул: — Крыса! Крыса! — и громко завопил. Помощь была близка. Элиза и Джорджиана побежали за миссис Рид, которая ушла наверх; она явилась, за ней следовали Бесси и камеристка Эббот. Нас разняли, и до меня донеслись слова:
— Ай-ай! Вот негодница, как она набросилась на мастера Джона!
— Этакая злоба у девочки!
И, наконец, приговор миссис Рид:
— Уведите ее в красную комнату и заприте там.
Четыре руки подхватили меня и понесли наверх.
Глава II
Я сопротивлялась изо всех сил, и эта неслыханная дерзость еще ухудшила и без того дурное мнение, которое сложилось обо мне у Бесси и мисс Эббот. Я была прямо-таки не в себе, или, вернее, вне себя, как сказали бы французы: я понимала, что мгновенная вспышка уже навлекла на меня всевозможные кары, и, как всякий восставший раб, в своем отчаянии была готова на все.
— Держите ее за руки, мисс Эббот, она точно бешеная…
— Какой срам! Какой стыд! — кричала камеристка. — Разве можно так недостойно вести себя, мисс Эйр? Бить молодого барина, сына вашей благодетельницы! Ведь это же ваш молодой хозяин!
— Хозяин? Почему это он мой хозяин? Разве я прислуга?
— Нет, вы хуже прислуги, вы не работаете, вы дармоедка! Вот посидите здесь и подумайте хорошенько о своем поведении.
Тем временем они втащили меня в комнату, указанную миссис Рид, и с размаху опустили на софу. Я тотчас взвилась, как пружина, но две пары рук схватили меня и приковали к месту.
— Если вы не будете сидеть смирно, вас придется привязать, — сказала Бесси. — Мисс Эббот, дайте-ка мне ваши подвязки, мои она сейчас же разорвет.
Мисс Эббот отвернулась, чтобы снять с дебелой ноги подвязку. Эти приготовления и ожидавшее меня новое бесчестие несколько охладили мой пыл.
— Не снимайте, я буду сидеть смирно! — воскликнула я и в доказательство вцепилась руками в софу, на которой сидела.
— Ну, смотрите!.. — сказала Бесси.
Убедившись, что я действительно покорилась, она отпустила меня; а затем обе стали передо мной, сложив руки на животе и глядя на меня подозрительно и недоверчиво, словно сомневались в моем рассудке.
— С ней никогда еще этого не было, — произнесла наконец Бесси, обращаясь к мисс Эббот.
— Ну, это все равно сидело в ней. Сколько раз я высказывала миссис Рид свое мнение об этом ребенке, и миссис всегда соглашалась со мной. Нет ничего хуже такой тихони! Я никогда не видела, чтобы ребенок ее лет был настолько скрытен.
Бесси не ответила; но немного спустя она сказала, обратясь ко мне:
— Вы же должны понимать, мисс, чем вы обязаны миссис Рид: ведь она кормит вас; выгони она вас отсюда, вам пришлось бы идти в работный дом.
Мне нечего было возразить ей: мысль о моей зависимости была для меня не нова, — с тех пор как я помню себя, мне намекали на нее, укор в дармоедстве стал для меня как бы постоянным припевом, мучительным и гнетущим, но лишь наполовину понятным. Мисс Эббот поспешно добавила:
— И не воображайте, что вы родня барышням и мистеру Риду, если даже миссис Рид так добра, что воспитывает вас вместе с ними. Они будут богатые, а у вас никогда ничего не будет. Поэтому вы должны смириться и угождать им.
— Мы ведь говорим все это ради вашей же пользы, — добавила Бесси уже мягче. — Старайтесь быть услужливой, ласковой девочкой. Тогда, может быть, этот дом и станет для вас родным домом; а если вы будете злиться и грубить, миссис наверняка выгонит вас отсюда.
— Кроме того, — добавила мисс Эббот, — бог непременно накажет такую дурную девочку. Он может поразить ее смертью во время одной из ее выходок, и что тогда будет с ней? Пойдем, Бесси, пусть посидит одна. Ни за что на свете не хотела бы я иметь такой характер. Молитесь, мисс Эйр, а если вы не раскаетесь, как бы кто не спустился по трубе и не утащил вас…
Они вышли, затворив за собой дверь, и заперли меня на ключ.
Красная комната была нежилой, и в ней ночевали крайне редко, вернее — никогда, разве только наплыв гостей в Гейтсхэдхолле вынуждал хозяев вспомнить о ней; вместе с тем это была одна из самых больших и роскошных комнат дома. В центре, точно алтарь, высилась кровать с массивными колонками красного дерева, завешенная пунцовым пологом; два высоких окна с всегда опущенными шторами были наполовину скрыты ламбрекенами из той же материи, спускавшимися фестонами и пышными складками; ковер был красный, стол в ногах кровати покрыт алым сукном. Стены обтянуты светло-коричневой тканью с красноватым рисунком; гардероб, туалетный стол и кресла — из полированного красного дерева. На фоне этих глубоких темных тонов резко белела гора пуховиков и подушек на постели, застланной белоснежным пикейным покрывалом. Почти так же резко выделялось и мягкое кресло в белом чехле, у изголовья кровати, со скамеечкой для ног перед ним; это кресло казалось мне каким-то фантастическим белым троном.
В комнате стоял промозглый холод, оттого что ее редко топили; в ней царило безмолвие, оттого что она была удалена от детской и кухни; в ней было жутко, оттого что в нее, как я уже говорила, редко заглядывали люди. Одна только горничная являлась сюда по субботам, чтобы смахнуть с мебели и зеркал осевшую за неделю пыль, да еще сама миссис Рид приходила изредка, чтобы проверить содержимое некоего потайного ящика в комоде, где хранился фамильный архив, шкатулка с драгоценностями и миниатюра, изображавшая ее умершего мужа; в последнем обстоятельстве, а именно в смерти мистера Рида, и таилась загадка красной комнаты, того заклятия, которое лежало на ней, несмотря на все ее великолепие.
С тех пор, как умер мистер Рид, прошло девять лет; именно в этой комнате он испустил свой последний вздох; здесь он лежал мертвый; отсюда факельщики вынесли его гроб, — и с этого дня чувство какого-то мрачного благоговения удерживало обитателей дома от частых посещений красной комнаты.
Я все еще сидела на том месте, к которому меня как бы приковали Бесси и злючка мисс Эббот. Это была низенькая софа, стоявшая неподалеку от мраморного камина; передо мной высилась кровать; справа находился высокий темный гардероб, на лакированных дверцах которого смутно отражались бледные световые блики; слева — занавешенные окна. Огромное зеркало в простенке между ними повторяло пустынную торжественность комнаты и кровати. Я не была вполне уверена в том, что меня заперли, и поэтому, когда, наконец, решилась сдвинуться с места, встала и подошла к двери. Увы! Я была узницей, не хуже, чем в тюрьме. Возвращаться мне пришлось мимо зеркала, и я невольно заглянула в его глубину. Все в этой призрачной глубине предстало мне темнее и холоднее, чем в действительности, а странная маленькая фигурка, смотревшая на меня оттуда, ее бледное лицо и руки, белеющие среди сумрака, ее горящие страхом глаза, которые одни казались живыми в этом мертвом царстве, действительно напоминали призрак: что-то вроде тех крошечных духов, не то фей, не то эльфов, которые, по рассказам Бесси, выходили из пустынных, заросших папоротником болот и внезапно появлялись перед запоздалым путником.
Я вернулась на свое место. Я уже была во власти суеверного страха, но час его полной победы еще не настал. Кровь моя все еще была горяча, и ярость восставшего раба жгла меня своим живительным огнем. На меня снова хлынул поток воспоминаний о прошлом, и я отдалась ему, прежде чем покориться мрачной власти настоящего.
Грубость и жестокость Джона Рида, надменное равнодушие его сестер, неприязнь их матери, несправедливость слуг — все это встало в моем расстроенном воображении, точно поднявшийся со дна колодца мутный осадок. Но почему я должна вечно страдать, почему меня все презирают, не любят, клянут? Почему я не умею никому угодить и все мои попытки заслужить чью-либо благосклонность так напрасны? Почему, например, к Элизе, которая упряма и эгоистична, или к Джорджиане, у которой отвратительный характер, капризный, раздражительный и заносчивый, все относятся снисходительно? Красота и розовые щеки Джорджианы, ее золотые кудри, видимо, пленяют каждого, кто смотрит на нее, и за них ей прощают любую шалость. Джону также никто не противоречит, его никогда не наказывают, хотя он душит голубей, убивает цыплят, травит овец собаками, крадет в оранжереях незрелый виноград и срывает бутоны самых редких цветов; он даже называет свою мать «старушкой», смеется над ее цветом лица — желтоватым, как у него, не подчиняется ее приказаниям и нередко рвет и пачкает ее шелковые платья. И все-таки он ее «ненаглядный сыночек». Мне же не прощают ни малейшего промаха. Я стараюсь ни на шаг не отступать от своих обязанностей, а меня называют непослушной, упрямой и лгуньей, и так с утра и до ночи.
Голова у меня все еще болела от ушиба, из ранки сочилась кровь. Однако никто не упрекнул Джона за то, что он без причины ударил меня; а я, восставшая против него, чтобы избежать дальнейшего грубого насилия, — я вызвала всеобщее негодование.
«Ведь это же несправедливо, несправедливо!» — твердил мне мой разум с той недетской ясностью, которая рождается пережитыми испытаниями, а проснувшаяся энергия заставляла меня искать какого-нибудь способа избавиться от этого нестерпимого гнета: например, убежать из дома или, если бы это оказалось невозможным, никогда больше не пить и не есть, уморить себя голодом.
Как была ожесточена моя душа в этот тоскливый вечер! Как были взбудоражены мои мысли, как бунтовало сердце! И все же в каком мраке, в каком неведении протекала эта внутренняя борьба! Ведь я не могла ответить на вопрос, возникавший вновь и вновь в моей душе: отчего я так страдаю? Теперь, когда прошло столько лет, это перестало быть для меня загадкой.
Я совершенно не подходила к Гейтсхэдхоллу. Я была там как бельмо на глазу, у меня не было ничего общего ни с миссис Рид, ни с ее детьми, ни с ее приближенными. Если они не любили меня, то ведь и я не любила их. С какой же стати они должны были относиться тепло к существу, которое не чувствовало симпатии ни к кому из них; к существу, так сказать, инородному для них, противоположному им по натуре и стремлениям; существу во всех смыслах бесполезному, от которого им нечего было ждать; существу зловредному, носившему в себе зачатки мятежа, восставшему против их обращения с ним, презиравшему их взгляды? Будь я натурой жизнерадостной, беспечным, своевольным, красивым и пылким ребенком — пусть даже одиноким и зависимым, — миссис Рид отнеслась бы к моему присутствию в своей семье гораздо снисходительнее; ее дети испытывали бы ко мне более товарищеские дружелюбные чувства; слуги не стремились бы вечно делать из меня козла отпущения.
В красной комнате начинало темнеть; был пятый час, и свет тусклого облачного дня переходил в печальные сумерки. Дождь все так же неустанно барабанил по стеклам окон на лестнице, и ветер шумел в аллее за домом. Постепенно я вся закоченела, и мужество стало покидать меня. Обычное чувство приниженности, неуверенности в себе, растерянности и уныния опустилось, как сырой туман, на уже перегоревшие угли моего гнева. Все уверяют, что я дурная… Может быть, так оно и есть; разве я сейчас не обдумывала, как уморить себя голодом? Ведь это же грех! А разве я готова к смерти? И разве склеп под плитами гейтсхэдской церкви уж такое привлекательное убежище? Мне говорили, что там похоронен мистер Рид… Это дало невольный толчок моим мыслям, и я начала думать о нем со все возрастающим ужасом. Я не помнила его, но знала, что он мой единственный родственник — брат моей матери, что, когда я осталась сиротой, он взял меня к себе и в свои последние минуты потребовал от миссис Рид обещания, что она будет растить и воспитывать меня, как собственного ребенка. Миссис Рид, вероятно, считала, что сдержала свое обещание; она его и сдержала — в тех пределах, в каких ей позволяла ее натура. Но могла ли она действительно любить навязанную ей девочку, существо, совершенно чуждое ей и ее семье, ничем после смерти мужа с ней не связанное? Скорее миссис Рид тяготилась необходимостью соблюдать данное в такую минуту обещание: быть матерью чужому ребенку, которого она не могла полюбить, с постоянным присутствием которого в семье не могла примириться.
Мною овладела странная мысль: я не сомневалась в том, что, будь мистер Рид жив, он относился бы ко мне хорошо. И вот, созерцая эту белую постель и тонувшие в сумраке стены, а также бросая время от времени тревожный взгляд в тускло блестевшее зеркало, я стала припоминать все слышанные раньше рассказы о том, будто умершие, чья предсмертная воля не выполнена и чей покой в могиле нарушен, иногда посещают землю, чтобы покарать виновных и отомстить за угнетенных; и мне пришло в голову: а что, если дух мистера Рида, терзаемый обидами, которые терпит дочь его сестры, вдруг покинет свою гробницу под сводами церковного склепа или неведомый мир усопших и явится мне в этой комнате? Я отерла слезы и постаралась сдержать свои всхлипывания, опасаясь, как бы в ответ на бурное проявление моего горя не зазвучал потусторонний голос, пожелавший утешить меня; как бы из сумрака не выступило озаренное фосфорическим блеском лицо, которое склонится надо мной с неземной кротостью. Появление этой тени, казалось бы, столь утешительное, вызвало бы во мне — я это чувствовала — безграничный ужас. Всеми силами я старалась отогнать от себя эту мысль, успокоиться. Откинув падавшие на лоб волосы, я подняла голову и сделала попытку храбро обвести взором темную комнату. Какой-то слабый свет появился на стене. Я спрашивала себя, не лунный ли это луч, пробравшийся сквозь отверстие в занавесе? Нет, лунный луч лежал бы спокойно, а этот свет двигался; пока я смотрела, он скользнул по потолку и затрепетал над моей головой. Теперь я охотно готова допустить, что это была полоска света от фонаря, с которым кто-то шел через лужайку перед домом. Но в ту минуту, когда моя душа была готова к самому ужасному, а чувства потрясены всем пережитым, я решила, что неверный трепетный луч — вестник гостя из другого мира. Мое сердце судорожно забилось, голова запылала, уши наполнил шум, подобный шелесту крыльев; я ощущала чье-то присутствие, что-то давило меня, я задыхалась; всякое самообладание покинуло меня. Я бросилась к двери и с отчаянием начала дергать ручку. По коридору раздались поспешные шаги; ключ в замке повернулся, вошли Бесси и Эббот.
— Мисс Эйр, вы заболели? — спросила Бесси.
— Какой ужасный шум! Я до смерти испугалась! — воскликнула Эббот.
— Возьмите меня отсюда! Пустите меня в детскую! — закричала я.
— Отчего? Разве вы ушиблись? Или вам что-нибудь привиделось? — снова спросила Бесси.
— О!.. Тут мелькнул какой-то свет и мне показалось, что сейчас появится привидение! — Я вцепилась в руку Бесси, и она не вырвала ее у меня.
— Она нарочно подняла крик, — сказала Эббот презрительно, — и какой крик! Как будто ее режут. Верно, она просто хотела заманить нас сюда. Знаю я ее гадкие штуки!
— Что тут происходит? — властно спросил чей-то голос; по коридору шла миссис Рид, ленты на ее чепце развевались, платье угрожающе шуршало. — Эббот, Бесси! Я, кажется, приказала оставить Джен Эйр в красной комнате, пока сама не приду за ней!
— Мисс Джен так громко кричала, сударыня, — просительно сказала Бесси.
— Пустите ее, — был единственный ответ. — Не держись за руки Бесси, — обратилась она ко мне. — Этим способом ты ничего не добьешься, можешь быть уверена. Я ненавижу притворство, особенно в детях; мой долг доказать тебе, что подобными фокусами ты ничего не достигнешь. Теперь ты останешься здесь еще на лишний час, да и тогда я выпущу тебя только при условии полного послушания и спокойствия.
— О тетя! Сжальтесь! Простите! Я не могу выдержать этого… Накажите меня еще как-нибудь! Я умру, если…
— Молчи! Такая несдержанность отвратительна!
Я и в самом деле была ей отвратительна. Она считала меня уже сейчас опытной комедианткой; она искренне видела во мне существо, в котором неумеренные страсти сочетались с низостью души и опасной лживостью.
Тем временем Бесси и Эббот удалились, и миссис Рид, которой надоели и мой непреодолимый страх и мои рыдания, решительно втолкнула меня обратно в красную комнату и без дальнейших разговоров заперла там. Я слышала, как она быстро удалилась. А вскоре после этого со мной, видимо, сделался припадок, и я потеряла сознание.
Глава III
Помню одно: очнулась я, как после страшного кошмара; передо мною рдело жуткое багряное сияние, перечеркнутое широкими черными полосами. Я слышала голоса, но они едва доносились до меня, словно заглушаемые шумом ветра или воды; волнение, неизвестность и всепоглощающий страх как бы сковали все мои ощущения. Вскоре, однако, я почувствовала, как кто-то прикасается ко мне, приподнимает и поддерживает меня в сидячем положении, — так бережно еще никто ко мне не прикасался. Я прислонилась головой к подушке или к чьему-то плечу, и мне стало так хорошо…
Еще пять минут, и туман забытья окончательно рассеялся. Теперь я отлично понимала, что нахожусь в детской, в своей собственной кровати, и что зловещий блеск передо мной — всего-навсего яркий огонь в камине. Была ночь; на столе горела свеча; Бесси стояла в ногах кровати, держа таз, а рядом в кресле сидел, склонившись надо мной, какой-то господин.
Я испытала невыразимое облегчение, благотворное чувство покоя и безопасности, как только поняла, что в комнате находится посторонний человек, не принадлежащий ни к обитателям Гейтсхэда, ни к родственникам миссис Рид. Отвернувшись от Бесси (хотя ее присутствие было мне гораздо менее неприятно, чем было бы, например, присутствие Эббот), я стала рассматривать лицо сидевшего возле кровати господина; я знала его, это был мистер Ллойд, аптекарь, которого миссис Рид вызывала, когда заболевал кто-нибудь из слуг. Для себя и для своих детей она приглашала врача.
— Ну-ка, кто я? — спросил он.
Я назвала его и протянула ему руку; он взял ее, улыбаясь, и сказал:
— Ну, теперь мы будем понемножку поправляться.
Затем он снова уложил меня и, обратившись к Бесси, поручил ей особенно следить за тем, чтобы ночью меня никто не беспокоил. Дав ей еще несколько указаний и предупредив, что завтра опять зайдет, он удалился, к моему глубокому огорчению: я чувствовала себя в такой безопасности, так спокойно, пока он сидел возле моей кровати; но едва за ним закрылась дверь, как в комнате словно потемнело и сердце у меня упало, невыразимая печаль легла на него тяжелым камнем.
— Может быть, вы теперь заснете, мисс? — спросила Бесси с необычайной мягкостью.
Я едва осмелилась ей ответить, опасаясь, как бы за этими словами не последовали более грубые.
— Постараюсь.
— Может быть, вы хотите пить или скушаете что-нибудь?
— Нет, спасибо, Бесси.
— Тогда я, пожалуй, лягу, уже первый час; но вы меня кликните, если вам ночью что понадобится.
Какое небывалое внимание! Оно придало мне мужества, и я спросила:
— Бесси, что со мной случилось? Я больна?
— Вам стало нехорошо в красной комнате, наверно от плача; но теперь вы скоро поправитесь.
Затем Бесси ушла в каморку для горничных, находившуюся по соседству с детской. И я слышала, как она сказала:
— Сара, приходи ко мне спать в детскую; ни за что на свете я не останусь одна с бедной девочкой. А вдруг она умрет!.. Как странно, что с ней случился этот припадок… Хотела бы я знать, видела она что-нибудь или нет? Все-таки барыня была на этот раз чересчур строга к ней.
Она вернулась вместе с Сарой; они легли, но по крайней мере с полчаса еще шептались, прежде чем заснуть. Я уловила обрывки их разговора, из которых слишком хорошо поняла, о чем шла речь:
— Что-то в белом пронеслось мимо нее и исчезло… А за ним — громадная черная собака… Три громких удара в дверь… На кладбище горел свет, как раз над его могилой… — и так далее.
Наконец обе они заснули; свеча и камин погасли. Для меня часы этой бесконечной ночи проходили в томительной бессоннице. Ужас держал в одинаковом напряжении мой слух, зрение и мысль, — ужас, который ведом только детям.
Происшествие в красной комнате прошло для меня сравнительно благополучно, не вызвав никакой серьезной или продолжительной болезни, оно сопровождалось лишь потрясением нервной системы, следы которого остались до сих пор. Да, миссис Рид, сколькими душевными муками я обязана вам! Но мой долг простить вас, ибо вы не ведали, что творили: терзая все струны моего сердца, вы воображали, что только искореняете мои дурные наклонности.
На другой день, около полудня, я встала с постели, оделась и, закутанная в теплый платок, села у камина, чувствуя страшную слабость и разбитость, но гораздо мучительнее была невыразимая сердечная тоска, непрерывно вызывавшая на мои глаза тихие слезы; не успевала я стереть со щеки одну соленую каплю, как ее нагоняла другая. Мои слезы лились, хотя я должна была бы чувствовать себя счастливой, ибо никого из Ридов не было дома. Все они уехали кататься в коляске со своей мамой. Эббот тоже не показывалась — она шила в соседней комнате, и только Бесси ходила туда и сюда, расставляла игрушки и прибирала в ящиках комода, время от времени обращаясь ко мне с непривычно ласковыми словами. Все это должно было бы казаться мне сущим раем, ведь я привыкла жить под угрозой вечных выговоров и понуканий. Однако мои нервы были сейчас в таком расстройстве, что никакая тишина не могла их успокоить, никакие удовольствия не могли приятно возбудить.
Бесси спустилась в кухню и принесла мне сладкий пирожок, он лежал на ярко расписанной фарфоровой тарелке с райской птицей в венке из незабудок и полураспустившихся роз; эта тарелка обычно вызывала во мне восхищение, я не раз просила, чтобы мне позволили подержать ее в руках и рассмотреть подробнее, но до сих пор меня не удостаивали такой милости. И вот драгоценная тарелка очутилась у меня на коленях, и Бесси ласково уговаривала меня скушать лежавшее на ней лакомство. Тщетное великодушие! Оно пришло слишком поздно, как и многие дары, которых мы жаждем и в которых нам долго отказывают! Есть пирожок я не стала, а яркое оперение птицы и окраска цветов показались мне странно поблекшими; я отодвинула от себя тарелку. Бесси спросила, не дать ли мне какую-нибудь книжку. Слово «книга» вызвало во мне мимолетное оживление, и я попросила принести из библиотеки «Путешествия Гулливера». Эту книгу я перечитывала вновь и вновь с восхищением. Я была уверена, что там рассказывается о действительных происшествиях, и это повествование вызывало во мне более глубокий интерес, чем обычные волшебные сказки. Убедившись в том, что ни под листьями наперстянки и колокольчиков, ни под шляпками грибов, ни в тени старых, обвитых плющом ветхих стен мне эльфов не найти, я пришла к печальному выводу, что все они перекочевали из Англии в какую-нибудь дикую, неведомую страну, где кругом только густой девственный лес и где почти нет людей, — тогда как лилипуты и великаны действительно живут на земле; и я нисколько не сомневалась, что некогда мне удастся совершить дальнее путешествие и я увижу собственными глазами миниатюрные пашни, долины и деревья, крошечных человечков, коров, овец и птиц одного из этих царств, а также высокие, как лес, колосья, гигантских догов, чудовищных кошек и подобных башням мужчин и женщин другого царства. Но когда я теперь держала в руках любимую книгу и, перелистывая страницу за страницей, искала в ее удивительных картинках того очарования, которое раньше неизменно в них находила, — все казалось мне пугающе-мрачным. Великаны представлялись долговязыми чудищами, лилипуты — злыми и безобразными гномами, а сам Гулливер унылым странником в неведомых и диких краях. Я захлопнула книгу, не решаясь читать дальше, и положила ее на стол рядом с нетронутым пирожком.
Бесси кончила вытирать пыль и прибирать комнату, вымыла руки и, открыв в комоде ящичек, полный красивых шелковых и атласных лоскутков, принялась мастерить новую шляпку для куклы Джорджианы. При этом она запела:
В те дни, когда мы бродили С тобою, давным-давно…Я часто слышала и раньше эту песню, и всегда она доставляла мне живейшее удовольствие; у Бесси был очень приятный голос — или так по крайней мере мне казалось. Но сейчас, хотя ее голос звучал так же приятно, мне чудилось в этой мелодии что-то невыразимо печальное. Временами, поглощенная своей работой, она повторяла припев очень тихо, очень протяжно, и слова «давным-давно» звучали, как заключительные слова погребального хорала. Потом она запела другую песню, еще более печальную:
Стерты до крови ноги, и плечи изныли, Долго шла я одна среди скал и болот. Белый месяц не светит, темно, как в могиле, На тропинке, где ночью сиротка бредет. Ах, зачем в эту даль меня люди послали, Где седые утесы, где тяжко идти! Люди злы, и лишь ангелы в кроткой печали Сироту берегут в одиноком пути. Тихо веет в лицо мне ночная прохлада, Нет ни облачка в небе, в звездах небосвод. Милосердие бога — мой щит и ограда, Он надежду сиротке в пути подает. Если в глушь заведет огонек на трясине Или вдруг оступлюсь я на ветхом мосту, — И тогда мой отец сироты не покинет, На груди у себя приютит сироту.[2]— Перестаньте, мисс Джен, не плачьте, — сказала Бесси, допев песню до конца. Она с таким же успехом могла бы сказать огню «не гори», но разве могла она догадаться о том, какие страдания терзали мое сердце?
В то утро опять зашел мистер Ллойд.
— Уже встала? — воскликнул он, входя в детскую. — Ну, няня, как она себя чувствует?
Бесси ответила, что очень хорошо.
— Тогда ей следовало бы быть повеселее. Подите-ка сюда, мисс Джен. Вас ведь зовут Джен? Верно?
— Да, сэр, Джен Эйр.
— Я вижу, что вы плакали, мисс Джен Эйр. Не скажете ли вы мне — отчего? У вас что-нибудь болит?
— Нет, сэр.
— Она, верно, плакала оттого, что не могла поехать кататься с миссис Рид, — вмешалась Бесси.
— Ну уж нет! Она слишком большая для таких глупостей.
Я была того же мнения, и так как это несправедливое обвинение задело мою гордость, с живостью ответила:
— Я за всю мою жизнь ни разу еще не плакала о таких глупостях. Я терпеть не могу кататься! А плачу оттого, что я несчастна.
— Фу, какой стыд! — сказала Бесси.
Добрый аптекарь был, видимо, озадачен. Я стояла перед ним; он пристально смотрел на меня. У него были маленькие серые глазки, не очень блестящие, но я думаю, что теперь они показались бы мне весьма проницательными; лицо у него было грубоватое, но добродушное. Он долго и обстоятельно рассматривал меня, затем сказал:
— Отчего ты вчера заболела?
— Она упала, — снова поспешила вмешаться Бесси.
— Упала! Ну вот, опять точно маленькая! Разве такие большие девочки падают? Ей ведь, должно быть, лет восемь или девять?
— Меня нарочно сшибли с ног, — резко сказала я, снова поддавшись чувству оскорбленной гордости, — но я не от этого заболела, — добавила я.
Мистер Ллойд взял понюшку табаку. Когда он снова стал засовывать в карман пиджака свою табакерку, громко зазвонил колокол, сзывающий слуг обедать; аптекарю было известно значение этого звона.
— Няня, это вас зовут, — сказал он, — можете идти вниз. А я тут сделаю мисс Джен маленькое наставление, пока вы вернетесь.
Бесси охотно осталась бы, но ей пришлось уйти, так как слуги в Гейтсхэдхолле должны были точнейшим образом соблюдать время обеда и ужина.
— Значит, ты заболела не оттого, что упала? Так отчего же? — продолжал мистер Ллойд, когда Бесси ушла.
— Меня заперли в комнате, где живет привидение, а было уже темно.
Мистер Ллойд улыбнулся и вместе с тем нахмурился.
— Что? Привидение? Ну, ты, видно, еще совсем ребенок! Ты боишься привидений?
— Да, привидения мистера Рида я боюсь; он ведь умер в той комнате и там лежал… Ни Бесси и никто другой не войдут туда ночью без надобности. И это было жестоко — запереть меня там одну, в темноте! Так жестоко, что я этого, наверно, никогда не забуду.
— Глупости! И ты поэтому так огорчаешься? Разве ты и днем боишься?
— Нет, но ведь скоро опять наступит ночь. И потом я несчастна, очень несчастна, еще и по другим причинам.
— По каким же? Ты не можешь сказать мне хотя бы некоторые?
Как хотелось мне ответить на этот вопрос возможно полнее и откровеннее! Но мне трудно было найти подходящие слова, — дети способны испытывать сильные чувства, но не способны разбираться в них. А если даже частично и разбираются, то не умеют рассказать об этом. Однако я слишком боялась упустить этот первый и единственный случай облегчить свою печаль, поделившись ею, и, после смущенного молчания наконец выдавила из себя пусть и не полный, но правдивый ответ:
— Во-первых, у меня нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер.
— Но у тебя есть добрая тетя, кузен и кузины.
Снова последовало молчание; затем я уже совсем по-ребячьи выпалила:
— Но ведь это Джон Рид швырнул меня на пол, а тетя заперла меня в красной комнате!
Мистер Ллойд снова извлек свою табакерку.
— Разве тебе не нравится в Гейтсхэдхолле? — спросил он. — Разве ты не благодарна, что живешь в таком прекрасном доме?
— Это не мой родной дом, сэр, а Эббот говорит, что у прислуги больше прав жить здесь, чем у меня.
— Эх ты, дурочка! Неужели ты так глупа, что хотела бы уехать из такой великолепной усадьбы?
— Если бы было куда, я бы с радостью убежала отсюда, но мне ни за что не уехать из Гейтсхэда, пока я не стану совсем взрослой.
— А может быть, и придется — кто знает! У тебя нет никакой родни, кроме миссис Рид?
— По-моему, нет, сэр.
— А со стороны отца?
— Не знаю. Я как-то спросила тетю Рид, и она сказала, что, может быть, у меня есть какие-нибудь бедные родственники по фамилии Эйр, но ей ничего о них неизвестно.
— А если бы такие оказались, ты бы хотела жить у них?
Я задумалась: бедность пугает даже взрослых, — тем более страшит она детей. Они не могут представить себе бедность трудовую, деятельную и честную; это слово вызывает в них лишь представление о лохмотьях, о скудной пище и потухшем очаге, о грубости и низких пороках; в моем представлении бедность была равна унижению.
— Нет, мне бы не хотелось жить у бедных, — ответила я.
— Даже если бы они были добры к тебе?
Я покачала головой. Я не могла понять, откуда у бедных возьмется доброта; и потом — усвоить их жаргон, перенять манеры, стать невоспитанной — словом, похожей на тех женщин, которых я часто видела возле их хибарок в деревне, когда они нянчили ребят или стирали белье, — нет, я была неспособна на подобный героизм, чтобы купить свободу такой дорогой ценой.
— Но разве твои родственники так уж бедны? Они рабочие?
— Этого я не знаю. Тетя Рид говорит, что если у меня есть родственники, то, наверное, какие-нибудь попрошайки; а я не могу просить милостыню.
— А тебе хотелось бы поступить в школу?
Я снова задумалась; едва ли у меня было ясное представление о том, что такое школа. Бесси иногда говорила, что это такое место, где молодых барышень муштруют и где от них требуют особенно хороших манер и воспитанности. Джон Рид ненавидел школу и бранил своего учителя; но вкусы Джона Рида не были для меня законом, и если сведения Бесси о школьной дисциплине (она почерпнула их у молодых барышень, в семье которых жила до поступления в Гейтсхэд) несколько отпугивали меня, то ее рассказы о различных познаниях, приобретенных там теми же молодыми особами, казались мне, с другой стороны, весьма заманчивыми. Она восхищалась тем, как хорошо они рисовали всякие красивые пейзажи и цветы, как пели и играли на фортепиано, какие прелестные кошельки они вязали и как бойко читали французские книжки. Под влиянием ее рассказов во мне пробуждался дух соревнования. Кроме того, школа означала коренную перемену: с ней было связано далекое путешествие, полный разрыв с Гейтсхэдом, переход к новой жизни.
— В школу мне действительно хотелось бы поступить, — сказала я вслух.
— Ну, ну, кто знает, что может случиться, — сказал мистер Ллойд, вставая. — Девочке нужна перемена воздуха и места, — добавил он, обращаясь к самому себе, — нервы никуда не годятся.
Бесси вернулась; и в ту же минуту до нас донесся шум подъезжающего экипажа.
— Ваша барыня приехала, няня? — спросил мистер Ллойд. — Я хотел бы поговорить с ней перед уходом.
Бесси предложила ему пройти в маленькую столовую и показала дорогу. На основании того, что последовало затем, я заключаю, что аптекарь отважился посоветовать миссис Рид отправить меня в школу; и этот совет был, без сомнения, принят очень охотно, ибо когда я в один из ближайших вечеров лежала в постели, а Бесси и Эббот сидели тут же в детской и шили, Эббот, полагая, что я уже сплю, сказала Бесси, с которой они обсуждали этот вопрос:
— Миссис Рид, наверно, рада-радешенька отделаться от этой несносной, противной девчонки. И в самом деле, у нее вечно такой вид, точно она за всеми подсматривает и что-то замышляет.
Очевидно, Эббот действительно считала меня чем-то вроде маленького Гая Фокса.[3]
Тут же я впервые узнала из уст мисс Эббот, сообщившей об этом Бесси, что мой отец был бедным пастором; что мать моя вышла за него против воли родителей, считавших этот брак мезальянсом, и мой дедушка Рид настолько разгневался, что не завещал ей ни гроша; что через год после свадьбы отец заболел тифом, заразившись при посещении им бедняков в большом фабричном городе, где находился его приход; что моя мать, в свою очередь, заразилась от него и через месяц после его кончины последовала за ним в могилу.
Бесси, услышав этот рассказ, вздохнула и заметила:
— А ведь мисс Джен тоже пожалеть надо, Эббот.
— Конечно, — ответила Эббот, — будь она милой, красивой девочкой, ее можно было бы и пожалеть за то, что у ней никого нет на белом свете. Но кто станет жалеть этакую противную маленькую жабу!
— Верно, немногие, — согласилась и Бесси. — Понятно, что красавица вроде мисс Джорджианы, попади она в такое же положение, гораздо больше располагала бы к себе.
— Да, да, я обожаю мисс Джорджиану! — воскликнула восторженная Эббот. — Душка! Такие длинные кудри и голубые глаза, такой прелестный румянец — будто накрасилась… А знаете, Бесси, я с удовольствием съела бы на ужин гренок с сыром.
— Я тоже, и с поджаренным луком. Пойдем-ка вниз.
И они ушли.
Глава IV
Из разговора с мистером Ллойдом и только что пересказанной беседы между Эббот и Бесси я почерпнула новую надежду; этого было достаточно, чтобы мне захотелось выздороветь; казалось, близится какая-то перемена; я хотела ее и молча выжидала. Однако дело затянулось; проходили дни и месяцы. Мое здоровье восстановилось, но я больше не слышала ни одного намека на то, что меня так занимало. Миссис Рид по временам окидывала меня суровым взглядом, но лишь изредка обращалась ко мне. Со времени моей болезни она еще решительнее провела границу между мной и собственными детьми: мне была отведена отдельная каморка, где я спала одна, обедала и завтракала я тоже в одиночестве и весь день проводила в детской, тогда как ее дети постоянно торчали в гостиной. Миссис Рид ни разу не обмолвилась ни единым словом относительно моего поступления в школу, и все-таки я была уверена, что она не станет долго терпеть меня под своей крышей: когда на меня падал ее взгляд, он больше чем когда-либо выражал глубокое и непреодолимое отвращение.
Элиза и Джорджиана, следуя полученному приказанию, старались разговаривать со мной как можно меньше; Джон, едва завидев меня, показывал мне язык и однажды сделал попытку снова помуштровать меня; но так как я мгновенно накинулась на него, охваченная тем же чувством неудержимого гнева и негодования, с которыми ему уже пришлось столкнуться, он счел за лучшее отступить и убежал, бормоча проклятия и крича, что я разбила ему нос. Я действительно ударила Джона кулаком по этой выступающей части лица со всей силой, на какую только была способна, и когда увидела, что этот удар, а может быть, мой взбешенный вид, произвел на него впечатление, — почувствовала сильнейшее желание воспользоваться и дальше достигнутым преимуществом; но он удрал под крылышко своей матери, и я услышала, как он плаксиво сочиняет ей какую-то историю относительно того, что эта гадкая Джен Эйр набросилась на него, точно бешеная кошка. Мать строго прервала его:
— Не говори мне о ней, Джон; я запретила тебе связываться с ней. Она не заслуживает внимания. Я не хочу, чтобы ты или твои сестры разговаривали с этой девчонкой.
Но тут я, перегнувшись через перила лестницы, вдруг неожиданно для себя крикнула:
— Это они недостойны разговаривать со мной!
Миссис Рид была женщиной довольно тучной, но, услышав это странное и дерзкое заявление, она вихрем взлетела по лестнице, втащила меня в детскую и, швырнув меня на кроватку, весьма решительно приказала мне весь день не сходить с места и не раскрывать рта.
— А что бы сказал дядя Рид, если бы он был жив! — вырвалось у меня почти невольно. Во мне заговорило что-то, над чем я не имела власти.
— Что? — беззвучно прошептала миссис Рид, и в ее обычно столь холодных и спокойных серых глазах появился даже какой-то страх.
Она выпустила мое плечо и уставилась на меня, словно вопрошая, кто перед ней — ребенок или дьявол? Тогда я осмелела:
— Мой дядя Рид на небе, он видит все и знает, что вы думаете и делаете; и папа и мама — тоже: они знают, что вы меня запираете на целые дни и хотите моей смерти.
Миссис Рид быстро овладела собой; она изо всех сил принялась меня трясти, затем надавала пощечин и ушла, не промолвив ни слова. Это упущение наверстала Бесси, — она в течение целого часа отчитывала меня, доказывая с полной очевидностью, что я самое злое и неблагодарное дитя, какое когда-либо росло под чьей-нибудь крышей. Я готова была поверить ей, ибо понимала сама, что в моей груди бушуют только злые чувства.
Миновали ноябрь, декабрь, а также половина января. В Гейтсхэде, как всегда, весело отпраздновали Рождество и Новый год; на всех щедро сыпались подарки, миссис Рид давала обеды и вечера. Я была, разумеется, лишена всех этих развлечений: мое участие в них ограничивалось тем, что я ежедневно наблюдала, как наряжались Элиза и Джорджиана и как они затем отправлялись в гостиную, разодетые в кисейные платья с пунцовыми кушаками, распустив по плечам тщательно завитые локоны, а затем прислушивалась к звукам рояля и арфы, доносившимся снизу, к беготне буфетчика и слуг, подававших угощение, к звону хрусталя и фарфора, к гулу голосов, вырывавшемуся из гостиной, когда открывались и закрывались двери. Устав от этого занятия, я покидала площадку лестницы и возвращалась в тихую и пустую детскую. Там мне хоть и бывало грустно, но я не чувствовала себя несчастной.
Говоря по правде, у меня не было ни малейшего желания очутиться среди гостей, так как эти гости редко обращали на меня внимание; и будь Бесси хоть немного приветливее и общительнее, я бы предпочла спокойно проводить вечера с нею, вместо того чтобы непрерывно находиться под грозным оком миссис Рид в комнате, полной незнакомых дам и мужчин. Но Бесси, одев своих барышень, обычно удалялась в более оживленную часть дома — в кухню или в комнату экономки — и прихватывала с собой свечу. А я сидела с куклой на коленях до тех пор, пока не угасал огонь в камине, и испуганно озиралась, так как мне чудилось, что в полутемной комнате находится какой-то страшный призрак; и когда в камине оставалась только кучка рдеющей золы, я торопливо раздевалась, дергая изо всех сил шнурки и тесемки, и искала защиты от холода и мрака в своей кроватке. Я всегда клала с собой куклу: каждое человеческое существо должно что-нибудь любить, и, за неимением более достойных предметов для этого чувства, я находила радость в привязанности к облезлой, дешевой кукле, скорее похожей на маленькое огородное пугало. Теперь мне уже непонятна та нелепая нежность, которую я питала к этой игрушке, видя в ней чуть ли не живое существо, способное на человеческие чувства. Я не могла уснуть, не завернув ее в широкие складки моей ночной сорочки; и когда она лежала рядом со мной, в тепле и под моей защитой, я была почти счастлива, считая, что должна быть счастлива и она.
Какими долгими казались мне часы, когда я ожидала разъезда гостей и шагов Бесси в коридоре; иногда она забегала в течение вечера — взять наперсток или ножницы или принести мне что-нибудь на ужин — булочку, пирожок с сыром, — и тогда она усаживалась на краю постели, пока я ела, а затем подтыкала под матрац края одеяла, а два раза даже поцеловала меня, говоря: «Спокойной ночи, мисс Джен». Когда Бесси была так кротко настроена, она казалась мне лучшим, красивейшим и добрейшим созданием на свете; и я страстно желала, чтобы она всегда была приветливой и внимательной и никогда бы не толкала меня, не дразнила, не обвиняла в том, в чем я была неповинна, как это с ней часто случалось. Теперь мне кажется, что Бесси Ли была очень одарена от природы: она делала все живо и ловко и к тому же обладала замечательным талантом рассказывать сказки, которые производили на меня огромное впечатление. Она была прехорошенькой, — если мои воспоминания о ее лице и фигуре не обманывают меня. В моей памяти встает стройная молодая женщина, черноволосая и темноглазая, с правильными чертами, со свежим, здоровым румянцем; но вся беда в том, что у нее был резкий и неуравновешенный характер и весьма смутные представления о беспристрастии и справедливости; но даже и такой я предпочитала ее всем остальным обитателям Гейтсхэдхолла.
Это произошло пятнадцатого января, около девяти часов утра. Бесси ушла вниз завтракать; моих кузин еще не позвали к столу. Элиза надевала шляпку и старое теплое пальто, собираясь идти кормить своих кур, — занятие, доставлявшее ей большое удовольствие. Когда они неслись, она с не меньшим удовольствием продавала яйца экономке и копила вырученные деньги. Элиза была страшная скареда и прирожденная коммерсантка. Это сказывалось не только в том, что она продавала яйца и цыплят, но и в том, как она торговалась с садовником из-за рассады и семян, — ибо миссис Рид приказала ему покупать у этой юной леди все, что произрастало на ее грядках и что она пожелала бы продать. Элиза же ничего бы не пожалела, лишь бы это сулило ей прибыль. Что касается денег, то она прятала их по всем углам, завертывая в тряпочки или бумажки; но когда часть ее сокровищ была случайно обнаружена горничной, Элиза, боясь, что пропадет все ее достояние, согласилась отдавать их на хранение матери, но притом, как настоящий ростовщик, — из пятидесяти — шестидесяти процентов. Эти проценты она взимала каждые три месяца и аккуратно заносила свои расчеты в особую тетрадку.
Джорджиана сидела перед зеркалом на высоком стуле и причесывалась, вплетая в свои кудри искусственные цветы и сломанные перья, — она нашла на чердаке полный ящик этих украшений. Я убирала свою постель, так как Бесси строжайше приказала мне сделать это до ее возвращения (она теперь нередко пользовалась мной как второй горничной: поручала мести пол, стирать пыль со стульев и тому подобное). Накрыв постель одеялом и сложив ночную сорочку, я подошла к подоконнику, чтобы прибрать разбросанные на нем книжки с картинками и кукольную мебель, но краткое приказание Джорджианы оставить в покое ее игрушки (ибо крошечные стульчики и зеркальце, очаровательные тарелочки и чашечки принадлежали именно ей) остановило меня; и тогда от нечего делать я стала дышать на морозные цветы, которыми было разукрашено окно, и, очистив таким образом маленькое местечко, заглянула в скованный суровым морозом сад, где все казалось недвижным и мертвым.
Из окна был виден домик привратника и усыпанная гравием дорога; и как раз тогда, когда мне удалось расчистить достаточно широкий кружок среди затянувшей стекло серебристо-белой листвы, ворота распахнулись и во двор въехал экипаж. Я равнодушно следила за тем, как он приближался к подъезду: в Гейтсхэд часто приезжали экипажи, но ни один не привозил гостей, которые представляли бы интерес для меня. Экипаж остановился перед домом, раздался резкий звук колокольчика, гостя впустили. Все это меня совершенно не касалось, и мое праздное внимание вскоре было привлечено голодным снегирем, который, чирикая, уселся на ветку голой шпалерной вишни у самой стены дома, неподалеку от окна. Остатки моего завтрака, состоявшие из хлеба и молока, еще были на столе, и, раскрошив булку, я принялась дергать форточку, чтобы высыпать крошки на карниз; но тут в детскую вбежала Бесси.
— Мисс Джен, скорей снимайте передник! Что это вы делаете? Мыли вы руки и лицо сегодня?
Прежде чем ответить, я принялась дергать оконную раму, так как мне хотелось обеспечить птичке ее завтрак; наконец рама поддалась, я высыпала крошки — они упали частью на каменный карниз, частью на вишневую ветку — и, закрыв окно, ответила:
— Нет, Бесси, я только что кончила обметать пыль.
— Несносная девчонка! Неряха! А что вы сейчас делали? Зачем открывали окно?
Однако ответить мне не пришлось, ибо Бесси, видимо, слишком торопилась и, не слушая моих объяснений, потащила меня к умывальнику, беспощадно, хотя, к счастью, быстро, обработала мое лицо и руки водой, мылом и жестким полотенцем, пригладила волосы щеткой, сорвала с меня передник, вытолкала на площадку лестницы и приказала сойти вниз, так как меня ждут в столовой.
Мне очень хотелось спросить, кто ждет меня и там ли миссис Рид, но Бесси уже исчезла, захлопнув дверь. Я стала медленно спускаться. Вот уже почти три месяца, как миссис Рид не приглашала меня вниз; моя жизнь протекала только в детской, поэтому столовая, зал и гостиная сделались для меня недосягаемыми, и я не решалась в них вступить.
И вот я очутилась одна в пустом холле; я стояла перед дверью в гостиную, дрожа и робея. Какую жалкую трусишку сделал из меня в те дни страх перед незаслуженным наказанием! Я и в детскую боялась вернуться, и в гостиную не решалась войти; минут десять простояла я так, терзаясь сомнениями; резкий звонок к завтраку заставил меня решиться.
«Кто это мог вызвать меня, — недоумевала я, нажимая обеими руками на тугую ручку двери, не поддававшуюся моим усилиям. — Кого я сейчас увижу, кроме тети Рид? Мужчину или женщину?» Ручка, наконец, повернулась, дверь открылась, я вошла, низко присела и, подняв глаза, увидела черный столб: по крайней мере такое впечатление на меня произвела в первую минуту узкая, одетая в черное, прямая, как палка, фигура, стоявшая на ковре перед камином; угрюмое лицо напоминало высеченную из камня маску; она венчала эту колонну подобно капители.
Миссис Рид сидела на своем обычном месте у камина; она сделала мне знак. Я подошла, и она представила меня каменному незнакомцу, сказав:
— Вот девочка, по поводу которой я обратилась к вам.
Он — ибо это был мужчина — медленно повернул голову в мою сторону, его серые глаза, поблескивавшие из-под щетинистых бровей, вонзились в меня, и он строго сказал густым басом:
— Ростом она мала; сколько же ей лет?
— Десять лет.
— Так много? — недоверчиво отозвался он и продолжал еще несколько мгновений рассматривать меня, затем спросил: — Как тебя зовут, девочка?
— Джен Эйр, сэр.
Пробормотав эти слова, я посмотрела на незнакомца; он показался мне очень высоким, — но ведь я сама была очень мала; черты лица у него были крупные и, так же как весь его облик, суровые и резкие.
— Ну, Джен Эйр, ты хорошая девочка?
Невозможно было ответить на этот вопрос утвердительно: все в маленьком мирке, в котором я жила, были обратного мнения. Я молчала. Миссис Рид ответила за меня выразительным покачиванием головы и добавила:
— Может быть, чем меньше об этом говорить, мистер Брокльхерст, тем лучше…
— Очень жаль. В таком случае нам с ней придется побеседовать. — Фигура его сломилась под прямым углом, он сел в кресло против миссис Рид.
— Поди сюда, — сказал он.
Я ступила на ковер перед камином; мистер Брокльхерст поставил меня прямо перед собой. Что за лицо у него было! Теперь, когда оно находилось почти на одном уровне с моим, я хорошо видела его. Какой огромный нос! Какой рот! Какие длинные, торчащие вперед зубы!
— Нет более прискорбного зрелища, чем непослушное дитя, — особенно непослушная девочка. А ты знаешь, куда пойдут грешники после смерти?
— Они пойдут в ад, — последовал мой быстрый, давно затверженный ответ.
— А что такое ад? Ты можешь объяснить мне?
— Это яма, полная огня.
— А ты разве хотела бы упасть в эту яму и вечно гореть в ней?
— Нет, сэр.
— А что ты должна делать, чтобы избежать этого?
Ответ последовал не сразу; когда же он, наконец, прозвучал, против него можно было, конечно, возразить очень многое.
— Я лучше постараюсь быть здоровою и не умереть.
— А как можно стараться не умереть? Дети моложе тебя умирают ежедневно. Всего два-три дня назад я похоронил девочку пяти лет, хорошую девочку; ее душа теперь на небе. Боюсь, что этого нельзя будет сказать про тебя, если господь тебя призовет.
Не смея возражать ему, я уставилась на его огромные ноги, протянутые на ковре, и вздохнула, — мне хотелось бежать от него за тридевять земель.
— Я надеюсь, это вздох из глубины сердца и ты раскаиваешься, что была источником стольких неприятностей для твоей дорогой благодетельницы?
«Благодетельница! Благодетельница! — повторяла я про себя. — Все называют миссис Рид моей благодетельницей. Если так, то благодетельница — это что-то очень нехорошее».
— Ты молишься утром и вечером? — продолжал допрашивать меня мой мучитель.
— Да, сэр.
— Читаешь ты Библию?
— Иногда.
— С радостью? Ты любишь Библию?
— Я люблю Откровение, и книгу пророка Даниила, книгу Бытия, и книгу пророка Самуила, и про Иова, и про Иону…
— А псалмы? Я надеюсь, их ты любишь?
— Нет, сэр.
— Нет? О, какой ужас! У меня есть маленький мальчик, он моложе тебя, но выучил наизусть шесть псалмов; и когда спросишь его, что он предпочитает — скушать пряник или выучить стих из псалма, он отвечает: «Ну конечно, стих из псалма! Ведь псалмы поют ангелы! А я хочу уже здесь, на земле, быть маленьким ангелом». Тогда он получает два пряника за свое благочестие.
— Псалмы не интересные, — заметила я.
— Это показывает, что у тебя злое сердце, и ты должна молить бога, чтобы он изменил его, дал тебе новое, чистое сердце. Он возьмет у тебя сердце каменное и даст тебе человеческое.
Я только что собралась спросить, каким образом может быть произведена эта операция, когда миссис Рид прервала меня, приказав сесть, и уже сама продолжала беседу:
— Мне кажется, мистер Брокльхерст, в письме, которое я написала вам три недели назад, я подчеркнула, что эта девочка обладает не совсем теми чертами характера и наклонностями, которых я могла бы желать. И если вы примете ее в Ловудскую школу, я бы очень просила вас, пусть директриса и наставницы как можно строже следят за нею и борются с ее главным грехом — наклонностью к притворству и лжи. Я нарочно говорю об этом при тебе, Джен, чтобы ты не вздумала вводить в заблуждение мистера Брокльхерста.
Недаром я боялась, недаром ненавидела миссис Рид! В ней жила постоянная потребность задевать мою гордость как можно чувствительнее! Никогда я не была счастлива в ее присутствии, — с какой бы точностью я ни выполняла ее приказания, как бы ни стремилась угодить ей, она отвергала все мои усилия и отвечала на них заявлениями, вроде только что ею сделанного. И сейчас это обвинение, брошенное мне в лицо перед посторонним, ранило меня до глубины души. Я смутно догадывалась, что она заранее хочет лишить меня и проблеска надежды, отравить и ту новую жизнь, которую она мне готовила; я ощущала, хотя, быть может, и не могла бы выразить это словами, что она сеет неприязнь и недоверие ко мне и на моей будущей жизненной тропе; я видела, что мистер Брокльхерст уже считает меня лживым, упрямым ребенком. Но как я могла бороться против этой несправедливости?!
«Конечно, никак», — решила я, стараясь сдержать невольное рыдание и поспешно отирая несколько слезинок, говоривших о моем бессильном горе.
— Притворство — поистине весьма прискорбная черта в ребенке, — заявил мистер Брокльхерст. — Оно сродни лживости, а все лжецы будут ввергнуты в озеро, горящее пламенем и серой. Во всяком случае, миссис Рид, за ней установят надзор. Я поговорю с мисс Темпль и с наставницами.
— Я хотела бы, чтобы она была воспитана в соответствии со своим будущим положением, — продолжала моя благодетельница. — Пусть научится смиряться и быть полезной. Что касается каникул, то она, с вашего позволения, будет проводить их в Ловуде.
— Ваши решения, сударыня, в высшей степени разумны, — отозвался мистер Брокльхерст. — Смирение — это высшая христианская добродетель, она как нельзя лучше пристала воспитанницам Ловуда; поэтому я требую, чтобы ее развитию в детях уделялось особое внимание; я специально изучал вопрос, как успешнее смирять в них суетное чувство гордости, и совсем на днях мне пришлось получить приятное подтверждение достигнутых мною успехов: моя вторая дочь Августа посетила со своей мамой школу и, вернувшись домой, воскликнула: «Папочка, какие все девочки в Ловуде простые и смирные — волосы зачесаны за уши, фартуки длинные-предлинные; а эти холщовые сумки поверх платья… совсем как дети бедняков. Они смотрели на нас с мамой во все глаза, — добавила моя дочка, — будто никогда не видели шелковых платьев».
— Мне очень приятно это слышать, — отозвалась миссис Рид. — Обыщи я всю Англию, я едва ли нашла бы более подходящую систему воспитания для такой девочки, как Джен Эйр. Строгость, мой дорогой мистер Брокльхерст, — я стою за строгость решительно во всем!
— Непоколебимая строгость, сударыня, первая обязанность христианина. Что касается Ловуда, этому принципу подчинено все: неприхотливая пища, скромная одежда, строгий распорядок дня, закаляющий характер и приучающий к трудолюбию, — таков строй жизни этого дома и его обитателей.
— И это совершенно правильно, сэр. Значит, я могу быть спокойна, что девочку примут в Ловуд и там воспитают в соответствии с ее положением и видами на будущее!
— Конечно, сударыня! Мы поместим ее в этот вертоград избранных душ. И я надеюсь, что она будет благодарна за столь высокую привилегию.
— Итак, я пришлю ее возможно скорее, мистер Брокльхерст, потому что, уверяю вас, я жажду освободиться от ответственности, которая стала для меня в конце концов слишком обременительной.
— Конечно, конечно, сударыня! А теперь пожелаю вам доброго здоровья. Я возвращусь в Брокльхерст в течение ближайших двух недель: викарий, мой друг и благодетель, раньше ни за что не отпустит меня. Но я извещу мисс Темпль, чтобы она ожидала новую девочку. Таким образом, с приемом не будет никаких затруднений. До свидания!
— До свидания, мистер Брокльхерст! Передайте мой привет миссис Августе, и Теодоре, и мистеру Брокльхерсту, Броутону Брокльхерсту.
— Не премину, сударыня! Девочка, вот тебе книжка «Спутник ребенка»; прочти ее с молитвой, особенно «Описание ужасной и внезапной смерти Марты Дж., дурной девочки, предавшейся пороку лжи и обмана».
С этими словами мистер Брокльхерст вручил мне тощую брошюрку, аккуратно вшитую в папку, и, позвонив, чтоб ему подали экипаж, уехал. Миссис Рид и я остались одни. Несколько минут прошло в молчании; она шила, а я наблюдала за ней. Ей могло быть тогда лет тридцать шесть, тридцать семь. Это была женщина крепкого сложения, с крутыми плечами и широкой костью, невысокая, полная, но не расплывшаяся: у нее было крупное лицо с тяжелой и сильно развитой нижней челюстью; лоб низкий, подбородок массивный и выступающий вперед, рот и нос довольно правильные; под светлыми бровями поблескивали глаза, в которых не отражалось сердечной доброты. Кожа у нее была смуглая и матовая; волосы почти льняные; сложение прочное и здоровье отличное, — она не ведала, что такое хворь. Миссис Рид была аккуратной и строгой хозяйкой; она крепко забрала в руки хозяйство и арендаторов, и только ее дети иногда выходили из повиновения и смеялись над ней. Она одевалась со вкусом и умела носить красивые туалеты с достоинством.
Сидя на низенькой скамеечке, в нескольких шагах от ее кресла, я внимательно рассматривала ее фигуру и черты лица. В руке я держала трактат о внезапной смерти лгуньи, — эта история особенно рекомендовалась моему вниманию как весьма уместное для меня предостережение. То, что здесь сейчас произошло, — слова, сказанные миссис Рид мистеру Брокльхерсту, весь тон этого разговора, грубого и оскорбительного для меня, еще болезненно отдавалось в моей душе. Я вспоминала каждое слово с той же болью, с какой я слушала их, и во мне пробуждалось горячее желание отомстить.
Миссис Рид подняла голову; ее взгляд встретился с моим, пальцы перестали прилежно работать.
— Выйди из комнаты, возвращайся в детскую, — последовал приказ.
Вероятно, мой взгляд или что-нибудь во мне показалось ей вызывающим, так как в ее словах звучало крайнее, хотя и затаенное раздражение. Я встала, сделала несколько шагов к двери, затем вернулась, прошла через всю комнату и приблизилась к ней вплотную.
Я должна была говорить: меня слишком безжалостно попирали, я должна была возмутиться. Но как? Чем я могла отплатить моему врагу, какими располагала средствами? Я собралась с духом и бросила ей в лицо:
— Я не лгунья! Будь я лгуньей, я бы сказала, что люблю вас; но я заявляю, что не люблю; я ненавижу вас больше всех на свете, даже больше, чем Джона Рида! А эту книгу о лгунье можете отдать своей дочке Джорджиане, — это она лжет, а не я!
Руки миссис Рид все еще праздно лежали на ее работе, она остановила на мне свой ледяной взор, замораживая меня.
— Надеюсь, ты кончила? — спросила она тоном, каким говорят со взрослым противником и каким не обращаются к ребенку.
Эти глаза, этот голос растравили во мне всю ту неприязнь, которую я к ней питала. Дрожа с головы до ног, охваченная неудержимым волнением, я продолжала:
— Я рада, что вы мне не родная тетя! Никогда больше, во всю мою жизнь, я не назову вас тетей! Я ни за что не приеду повидать вас, когда вырасту; и если кто-нибудь спросит меня, любила ли я вас и как вы обращались со мной, я скажу, что при одной мысли о вас все во мне переворачивается и что вы обращались со мной жестоко и несправедливо!
— Как ты смеешь это говорить, Джен Эйр?
— Как я смею, миссис Рид? Как смею? Оттого, что это правда. Вы думаете, у меня никаких чувств нет и мне не нужна хоть капелька любви и ласки, — но вы ошибаетесь. Я не могу так жить; а вы не знаете, что такое жалость. Я никогда не забуду, как вы втолкнули меня, втолкнули грубо и жестоко, в красную комнату и заперли там, — до самой смерти этого не забуду! А я чуть не умерла от ужаса, я задыхалась от слез, молила: «Сжальтесь, сжальтесь, тетя Рид! Сжальтесь!». И вы меня наказали так жестоко только потому, что ваш злой сын ударил меня ни за что, швырнул на пол. А теперь я всем, кто спросит о вас, буду рассказывать про это. Люди думают, что вы добрая женщина, но вы дурная, у вас злое сердце. Это вы лгунья!
Я еще не кончила, как моей душой начало овладевать странное, никогда не испытанное мною чувство освобождения и торжества. Словно распались незримые оковы и я, наконец, вырвалась на свободу. И это чувство появилось у меня не без основания: миссис Рид, видимо, испугалась, рукоделие соскользнуло с ее колен; она воздела руки, заерзала на стуле, и даже лицо ее исказилось, словно она вот-вот расплачется.
— Ты ошибаешься, Джен! Что с тобой? Отчего ты так дрожишь? Хочешь выпить воды?
— Нет, миссис Рид.
— Может быть, ты еще чего-нибудь хочешь, Джен? Уверяю тебя, я готова быть твоим другом.
— Нет, неправда. Вы сказали мистеру Брокльхерсту, что у меня скверный характер и что я лгунья; а я решительно всем в Ловуде расскажу, какая вы и как вы со мной поступили!
— Джен ты не понимаешь: недостатки детей нужно искоренять.
— Я не лгунья! — закричала я громко и исступленно.
— Но ты несдержанна, Джен, согласись! А теперь возвращайся-ка в детскую, будь моей хорошей девочкой и приляг, отдохни…
— Я не ваша хорошая девочка; я не хочу прилечь. Отправьте меня в школу как можно скорее, миссис Рид, я здесь ни за что не останусь.
— Действительно, надо поскорее отослать ее в школу, — пробормотала миссис Рид; и, собрав рукоделие, она поспешно вышла из комнаты.
Я осталась одна на поле боя. Это была моя первая яростная битва и первая победа. Несколько мгновений я стояла неподвижно, наслаждаясь одиночеством победителя. Сначала я улыбалась, испытывая необычайный подъем, но эта жестокая радость угасла так же быстро как и учащенное биение моего пульса. Ребенок не может вести борьбу со взрослыми, как вела я, не может дать волю своим безудержным порывам и не испытать после этого укоров совести и леденящего холода неизбежных сожалений. Степной курган, охваченный бушующим, всепожирающим пламенем, мог бы служить эмблемой моей души, когда я обвиняла миссис Рид и угрожала ей: та же степь, но черная, испепеленная, — вот образ моего душевного состояния, когда, после получасового размышления в тишине, я поняла, насколько безрассудно было мое поведение и как тяжело быть ненавидимой и ненавидеть.
Впервые я испытала сладость мести; пряным вином показалась она мне, согревающим и сладким, пока его пьешь, — но оставшийся после него терпкий металлический привкус вызывал во мне ощущение отравы. С какой охотой я бы попросила прощения у миссис Рид; но я знала — отчасти по опыту, отчасти инстинктивно, — что она оттолкнула бы меня с удвоенным презрением и вновь пробудила бы в моем сердце бурные порывы гнева.
Мне хотелось бы отдаться чему-нибудь более благородному, чем яростные обличения, пробудить в своей душе более мягкие чувства, чем мрачное негодование. Я взяла книгу — это были арабские сказки, — уселась и сделала попытку углубиться в нее. Но я не понимала того, что читаю, мои мысли уносились далеко, далеко, и страницы, которые я обычно находила такими захватывающими, ничего не говорили моей душе. Тогда я открыла стеклянную дверь столовой. Кусты стояли совершенно неподвижно: угрюмый мороз, без солнца, без ветра, сковал весь сад. Набросив на голову и плечи подол платья, я решила пройтись в уединенной части парка; но меня не радовали ни тихие деревья, ни сосновые шишки, падавшие на дорогу, ни мертвые останки осени — бурые, блеклые листья, которые ветром смело в кучи и сковало морозом. Я прислонилась к калитке и взглянула на пустую луговину, где уже не паслись овцы и где невысокую траву побил мороз и выбелил иней. День был хмурый, тусклое серое небо нависло снеговыми тучами; падали редкие хлопья снега и ложились, не тая, на обледеневшую тропинку, на деревья и кусты. И вот я, несчастное дитя, глядела на все это и повторяла шепотом все вновь и вновь: «Что же мне делать? Что же мне делать?»
И вдруг я услышала звонкий голос:
— Мисс Джен! Где вы? Идите завтракать!
Я отлично знала, что это Бесси, но не тронулась с места; ее легкие шаги послышались на дорожке.
— Нехорошая девочка! — сказала она. — Отчего вы не идете, когда вас зовут?
После тех мыслей, которым я предавалась, присутствие Бесси обрадовало меня, хотя она, как обычно, была не в духе. Но после моего столкновения с миссис Рид и победы над ней мимолетный гнев моей няни мало меня трогал, и мне захотелось погреться в лучах ее молодой жизнерадостности. Я обвила ее шею руками и сказала:
— Не надо, Бесси, не браните меня.
Никогда еще я не позволяла себе такого простого и естественного порыва. Бесси сразу же растрогалась.
— Странная вы девочка, мисс Джен, — сказала она, глядя на меня сверху вниз, — какой-то странный и дикий ребенок. Правда, что вас отдадут в школу?
Я кивнула.
— И вам не жалко будет расстаться с бедной Бесси?
— А какое Бесси до меня дело? Она вечно бранит меня.
— Потому что вы такая чудная, пугливая и застенчивая. Надо быть смелее.
— Зачем? Ведь тогда меня будут еще больше обижать.
— Глупости! Хотя вам и достается, это верно. Когда моя мать приходила на той неделе проведать меня, она сказала мне: «Вот уж не хотела бы, чтобы кто-нибудь из моих ребят очутился на месте этой девочки!» А теперь идем-ка домой, у меня для вас приятная новость.
— Уж будто, Бесси?
— Дитя! Что вы хотите сказать? Как печально вы смотрите на меня! Так слушайте же: миссис, молодые барышни и молодой барин уезжают после обеда в гости, так что вы будете пить чай со мной. Я скажу кухарке, чтобы она вам испекла сладкий пирожок, а потом вы поможете мне пересмотреть ваши вещи: скоро ведь придется укладывать ваш чемодан. Миссис хочет отправить вас из Гейтсхэда через день-два, и вы можете отобрать себе какие угодно игрушки — все, что вам понравится.
— Бесси, обещайте мне больше не бранить меня до моего отъезда!
— Да уж ладно! Но только будьте и вы славной девочкой и больше не бойтесь меня! Не вздрагивайте, как только я что-нибудь порезче скажу; это ужасно раздражает.
— Нет, я не буду бояться вас, Бесси, я к вам привыкла; скоро мне придется бояться совсем других людей.
— Если вы будете их бояться, они не станут любить вас.
— Как и вы, Бесси?
— Разве я не люблю вас, мисс? Мне кажется, я привязана к вам больше, чем к остальным детям!
— Что-то незаметно.
— Ведь вот вы какая хитрая! Вы совсем по-другому разговаривать стали, откуда у вас взялась такая смелость и задор?
— Что ж, мне скоро придется уехать отсюда, и, кроме того… — я чуть было не рассказала ей, что произошло между мною и миссис Рид, но, поразмыслив, предпочла умолчать об этом.
— Значит, вы рады уехать от меня?
— Ничуть, Бесси; сейчас мне, пожалуй, даже грустно.
— «Сейчас»! Да еще «пожалуй»! Как спокойно моя барышня это говорит! А если я попрошу, чтобы вы меня поцеловали, вы не захотите? Вы скажете: «Пожалуй — нет»?!
— Я охотно поцелую вас, Бесси, наклоните голову.
Бесси наклонилась; мы обнялись, и я с облегченным сердцем последовала за ней в дом. Конец этого дня прошел в мире и согласии, а вечером Бесси рассказывала мне свои самые чудесные сказки и пела самые красивые песни. Даже и мою жизнь озарял иногда луч солнца.
Глава V
В это утро, девятнадцатого января, едва пробило пять часов, Бесси вошла со свечой ко мне в комнату; она застала меня уже на ногах и почти одетой. Я поднялась за полчаса до ее прихода, умылась и стала одеваться при свете заходившей ущербной луны, лучи которой лились в узенькое замерзшее окно рядом с моей кроваткой. Мне предстояло отбыть из Гейтсхэда с дилижансом, проезжавшим мимо ворот в шесть часов утра. Встала пока только одна Бесси; она затопила в детской камин и теперь готовила мне завтрак. Не многие дети способны есть, когда они взволнованы предстоящим путешествием; не могла и я. Бесси тщетно уговаривала меня проглотить несколько ложек горячего молока и съесть кусочек хлеба. Убедившись, что ее усилия ни к чему не приводят, она завернула в бумагу несколько домашних печений и сунула их в мой саквояж, затем помогла мне надеть пальто и капор, закуталась в большой платок, и мы вдвоем вышли из детской. Когда мы проходили мимо спальни миссис Рид, она спросила:
— А вы не зайдете попрощаться с миссис?
— Нет, Бесси, когда вы вчера вечером ужинали, она подошла к моей кровати и сказала, что не стоит утром беспокоить ни ее, ни детей и что она всегда была моим лучшим другом, поэтому я должна хорошо отзываться о ней и вспоминать с благодарностью.
— А вы что ответили, мисс?
— Ничего; я натянула одеяло и отвернулась к стене.
— Нехорошо вы сделали, мисс Джен.
— Нет, хорошо, Бесси. Миссис Рид никогда не была мне другом, она всегда была моим врагом.
— О, перестаньте, мисс Джен!
— Прощай, Гейтсхэд! — воскликнула я, когда мы миновали холл и вышли на крыльцо.
Луна зашла, было очень темно; Бесси несла фонарь, его лучи скользнули по мокрым ступеням и размягченному внезапной оттепелью гравию дороги. Каким сырым и холодным было это зимнее утро! Когда мы шли по двору, зубы у меня стучали. В сторожке привратника был свет. Мы вошли. Жена привратника еще только разводила в печке огонь, мой чемодан, который был доставлен сюда с вечера, стоял, перевязанный веревками, у двери. До шести оставалось всего несколько минут, затем часы пробили, и тут же донесся отдаленный стук колес. Я подошла к двери и стала смотреть, как фонари почтового дилижанса быстро приближаются во мраке.
— Она едет одна? — спросила жена привратника.
— Да.
— А далеко?
— За пятьдесят миль.
— Путь не близкий! Неужели миссис не побоялась отпустить ее одну так далеко?
Дилижанс подъехал. Вот он уже у ворот; он запряжен четверкой лошадей, на империале множество пассажиров. Кучер и кондуктор принялись торопить нас; мой чемодан был погружен; меня оторвали от Бесси, к которой я прижалась, осыпая ее поцелуями.
— Смотрите, хорошенько берегите ее! — крикнула она кондуктору, когда он поднял меня, чтобы посадить в дилижанс.
— Ладно, ладно! — последовал ответ; дверь захлопнулась, чей-то голос крикнул: «Трогай!» — и мы тронулись.
Так я рассталась с Бесси и Гейтсхэдом, так меня умчало в неведомые и, как мне тогда казалось, далекие и таинственные края.
Я мало что помню из этого путешествия; знаю только, что день казался неестественно долгим и мне чудилось, будто мы проехали многие сотни миль. Мы миновали несколько городов, а в одном, очень большом, дилижанс остановился; лошадей выпрягли, пассажиры вышли, чтобы пообедать. Меня отвели в гостиницу, и кондуктор предложил мне поесть. Но так как у меня не было аппетита, он оставил меня одну в огромной комнате; в обоих концах ее топились камины, с потолка свешивалась люстра, а вдоль одной из стен, очень высоко, тянулись хоры, где поблескивали музыкальные инструменты. Я долго ходила взад и вперед по этой комнате, испытывая какое-то необъяснимое чувство: я смертельно боялась, что вот-вот кто-то войдет и похитит меня, — ибо я верила в существование похитителей детей, они слишком часто фигурировали в рассказах Бесси. Наконец кондуктор вернулся; меня еще раз сунули в дилижанс, мой ангел-хранитель уселся на свое место, затрубил в рожок, и мы покатили по мостовой города Л.
Сырой и туманный день клонился к вечеру. Когда надвинулись сумерки, я почувствовала, что мы, должно быть, действительно далеко от Гейтсхэда: мы уже не проезжали через города, ландшафт менялся; на горизонте вздымались высокие серые холмы. Но вот сумерки стали гуще, дилижанс спустился в долину, поросшую лесом, и когда вся окрестность потонула во мраке, я еще долго слышала, как ветер шумит в деревьях.
Убаюканная этим шумом, я, наконец, задремала. Я проспала недолго и проснулась оттого, что движение вдруг прекратилось; дверь дилижанса была открыта, возле нее стояла женщина — видимо, служанка. При свете фонарей я разглядела ее лицо и платье.
— Есть здесь девочка, которую зовут Джен Эйр? — спросила она. Я ответила «да», меня вынесли из дилижанса, поставили наземь мой чемодан, и карета тут же отъехала.
Ноги у меня затекли от долгого сидения, и я была оглушена непрерывным шумом и дорожной тряской. Придя в себя, я посмотрела вокруг: дождь, ветер, мрак. Все же я смутно различила перед собой какую-то стену, а в ней открытую дверь; в эту дверь мы и вошли с моей незнакомой спутницей, она закрыла ее за собой и заперла. Затем я увидела дом, или несколько домов, — строение оказалось очень длинным, со множеством окон, некоторые были освещены. Мы пошли по широкой, усыпанной галькой и залитой водой дороге и очутились перед входом. Моя спутница ввела меня в коридор, а затем в комнату с пылавшим камином, где и оставила одну.
Я стояла, согревая онемевшие пальцы у огня, и оглядывала комнату; свечи в ней не было, но при трепетном свете камина я увидела оклеенные обоями стены, ковер, занавески и мебель красного дерева; это была приемная — правда, не такая большая и роскошная, как гостиная в Гейтсхэде, но все же довольно уютная. Я была занята рассматриванием висевшей на стене картины, когда дверь открылась и вошла какая-то женщина со свечой; за ней следовала другая.
Первой из вошедших была стройная дама, черноглазая, черноволосая, с высоким белым лбом; она куталась в большой платок и держалась строго и прямо.
— Девочка слишком мала для такого путешествия, — сказала она, ставя свечу на стол. С минуту она внимательно разглядывала меня, затем добавила: — Надо поскорее уложить ее в постель. Она, видимо, устала. Ты устала? — спросила она, положив мне руку на плечо.
— Немножко, сударыня.
— И голодна, конечно. Дайте ей поужинать, перед тем как она ляжет, мисс Миллер. Ты впервые рассталась со своими родителями, детка, чтобы поступить в школу?
Я объяснила ей, что у меня нет родителей. Она спросила, давно ли они умерли, сколько мне лет, как мое имя, умею ли я читать, писать и хоть немного шить. Затем, ласково коснувшись моей щеки указательным пальцем, выразила надежду, что я буду хорошей девочкой, и отослала меня с мисс Миллер.
Даме, с которой я рассталась, могло быть около тридцати лет; та, которая шла теперь рядом со мной, казалась на несколько лет моложе. Первая произвела на меня сильное впечатление всем своим обликом, голосом, взглядом. Мисс Миллер выглядела заурядной; на лице ее с румянцем во всю щеку лежал отпечаток тревог и забот, а в походке и движениях была та торопливость, какая бывает у людей, поглощенных разнообразными и неотложными делами. Я сразу же решила, что это, должно быть, помощница учительницы; так оно впоследствии и оказалось. Она повела меня из комнаты в комнату, из коридора в коридор по всему огромному, лишенному всякой симметрии зданию; наконец мы вышли из той части дома, где царила глубокая, гнетущая тишина, и вступили в большую длинную комнату, откуда доносился шум многих голосов. В обоих концах ее стояло по два больших сосновых стола, на них горело несколько свечей, а вокруг, на скамьях, сидело множество девочек и девушек всех возрастов, начиная от девяти-десяти и до двадцати лет. При тусклом свете сальных свечей мне показалось, что девочек очень много, хотя на самом деле их было не больше восьмидесяти. На всех были одинаковые коричневые шерстяные платья старомодного покроя и длинные холщовые передники. Это было время, отведенное для самостоятельных занятий, и поразивший меня гул стоял в классной оттого, что воспитанницы заучивали вслух уроки.
Мисс Миллер показала мне знаком, чтобы я села на скамью возле дверей, затем, встав у порога комнаты, громко крикнула:
— Старшие, соберите учебники и положите их на место.
Четыре рослые девушки встали из-за своих столов и, обойдя остальных, стали собирать книги. Затем мисс Миллер отдала новое приказание:
— Старшие, принесите подносы с ужином.
Те же четыре девушки вышли и сейчас же вернулись, каждая несла поднос с порциями какого-то кушанья, посредине подноса стоял кувшин с водой и кружка.
Девочки передавали друг другу тарелки, а если кто хотел пить, то наливал себе в кружку, которая была общей. Когда очередь дошла до меня, я выпила воды, так как чувствовала жажду, но к пище не прикоснулась, — усталость и волнение совершенно лишили меня аппетита; однако я разглядела, что это была нарезанная ломтями запеканка из овсяной крупы.
Когда ужин был съеден, мисс Миллер прочла молитву, и девочки парами поднялись наверх. Усталость настолько овладела мною, что я даже не заметила, какова наша спальня. Я видела только, что она, как и класс, очень длинна. Сегодня мне предстояло спать в одной кровати с мисс Миллер; она помогла мне раздеться. Когда я легла, я рассмотрела длинные ряды кроватей, на каждую из которых быстро укладывалось по две девочки; через десять минут единственная свеча была погашена, и среди полной тишины и мрака я быстро заснула.
Ночь промелькнула незаметно; я настолько устала, что не видела снов. Лишь один раз я проснулась, услышала, как ветер проносится за стеной бешеными порывами, как льет потоками дождь, и почувствовала, что мисс Миллер уже лежит рядом со мною. Когда я снова открыла глаза, до меня донесся громкий звон колокола; девочки уже встали и одевались; еще не рассвело, и в спальне горело две-три свечи. Я поднялась с неохотой; было ужасно холодно, у меня дрожали руки; я с трудом оделась, а затем и умылась, когда освободился таз, что произошло, впрочем, не скоро, так как на шестерых полагался только один; тазы стояли на умывальниках посреди комнаты. Снова прозвонил колокол; все построились парами, спустились по лестнице и вошли в холодный, скупо освещенный класс; мисс Миллер опять прочла молитву.
— Стать по классам!
В течение нескольких минут происходила какая-то суматоха; мисс Миллер то и дело повторяла: «Тише! Соблюдайте порядок!» Когда порядок был, наконец, водворен, я увидела, что девочки построились четырьмя полукружиями перед четырьмя столами; все держали в руках книги, а на каждом столе перед пустым стулом лежало по огромной книге вроде библии. Последовала пауза, длившаяся несколько секунд, во время которой раздавалось непрерывное приглушенное бормотание множества голосов; мисс Миллер переходила от класса к классу и шикала, стараясь водворить тишину.
Вдали опять зазвенел колокол, и тут вошли три дамы; каждая заняла свое место у стола, а мисс Миллер села на четвертый стул у самой двери, вокруг которого собрались самые маленькие девочки; в этот младший класс включили и меня и поставили в конце полукруга.
Приступили к занятиям. Была прочитана краткая молитва, затем тексты из Нового завета, затем отдельные главы из библии, и это продолжалось целый час. Тем временем окончательно рассвело. Неутомимый звонок прозвонил в четвертый раз; девочки построились и проследовали в другую комнату — завтракать. Как радовалась я возможности наконец-то поесть! Я чувствовала себя совсем больной от голода, так как накануне почти ничего не ела.
Столовая была большая, низкая, угрюмая комната. На двух длинных столах стояли, дымясь паром, мисочки с чем-то горячим, издававшим, к моему разочарованию, отнюдь не соблазнительный запах. Я заметила общее недовольство, когда аромат этой пищи коснулся обоняния тех, для кого она была предназначена. В первых рядах, где были большие девочки из старшего класса, раздался шепот:
— Какая гадость! Овсянка опять пригорела!
— Молчать! — раздался чей-то голос: это была не мисс Миллер, а кто-то из старших преподавательниц — маленькая смуглая особа, элегантно одетая, но несимпатичная; она торжественно села на почетное место за одним из столов, тогда как более полная дама председательствовала за другим. Тщетно искала я ту, которую видела накануне; она не показывалась. Мисс Миллер заняла место в конце того же стола, за которым поместили и меня, а пожилая дама иностранного вида — преподавательница французского языка, как я потом узнала, — уселась за другим столом. Прочли длинную молитву, спели хорал. Затем служанка принесла чай для учительниц и трапеза началась.
Совершенно изголодавшаяся и обессилевшая, я проглотила несколько ложек овсянки, не обращая внимания на ее вкус, но едва первый острый голод был утолен, как я почувствовала, что ем ужасную мерзость: пригоревшая овсянка почти так же отвратительна, как гнилая картошка; даже голод отступает перед ней. Медленно двигались ложки; я видела, как девочки пробовали похлебку и делали попытки ее есть, но в большинстве случаев отодвигали тарелки. Завтрак кончился, однако никто не позавтракал. Мы прочитали благодарственную молитву за то, чего не получили, и снова пропели хорал, затем направились из столовой в класс. Я выходила последней и видела, как одна из учительниц взяла миску с овсянкой и попробовала; она переглянулась с остальными; на их лицах отразилось негодование, и полная дама прошептала:
— Вот гадость! Как не стыдно!
Уроки начались лишь через пятнадцать минут. В классе стоял оглушительный шум, — в это время, видимо разрешалось говорить громко и непринужденно, и девочки широко пользовались этим правом. Разговор вертелся исключительно вокруг завтрака, причем все бранили овсянку. Бедняжки! Это было их единственное утешение. Из учительниц в комнате находилась только мисс Миллер; вокруг нее столпилось несколько взрослых учениц, у них были серьезные лица, и они что-то с гневом говорили ей. Я слышала, как некоторые называли имя мистера Брокльхерста; в ответ мисс Миллер неодобрительно качала головой, однако не делала особых усилий, чтобы смирить всеобщее негодование: она, без сомнения, разделяла его.
Часы, висевшие в классной комнате, пробили девять; мисс Миллер отошла от группы взрослых девушек и, выйдя на середину комнаты, крикнула:
— Тихо! По местам!
Привычка к дисциплине сразу же сказалась: не прошло и пяти минут, как среди воспитанниц воцарился порядок и после вавилонского столпотворения наступила относительная тишина. Старшие учительницы заняли свои места; однако все как будто чего-то ждали. На скамьях, тянувшихся по обеим сторонам комнаты, восемьдесят девочек сидели неподвижно, выпрямившись; странное это было зрелище: все с зачесанными назад, прилизанными волосами, ни одного завитка; все в коричневых платьях с глухим высоким воротом, обшитым узеньким рюшем, с маленькими холщовыми сумками (напоминающими сумки шотландских горцев), висящими на боку и предназначенными для того, чтобы держать в них рукоделие; в дополнение ко всему этому — шерстяные чулки и грубые башмаки с жестяными пряжками. Среди одетых таким образом воспитанниц я насчитала до двадцати взрослых девушек. Это были уже настоящие барышни. Такая одежда была им совершенно не к лицу и придавала нелепый вид даже самым хорошеньким.
Я продолжала рассматривать их, а по временам переводила взгляд на учительниц, причем ни одна из них мне не понравилась: в полной было что-то грубоватое, чернявая казалась весьма сердитой особой, иностранка — несдержанной и резкой, а мисс Миллер, бедняжка, с ее красновато-лиловыми щечками, производила впечатление существа совершенно задерганного. И вдруг, в то время как мои глаза еще перебегали с одного лица на другое, все девочки, словно подкинутые пружиной, поднялись как один человек.
Что было тому причиной? Я не слышала никакого приказания и потому недоумевала. Но так как все глаза устремились в одну точку, посмотрела туда же и увидела ту самую особу, которая встретила меня накануне. Она стояла возле камина, — оба камина сейчас топились, — спокойно и серьезно оглядывая воспитанниц, выстроившихся двумя рядами. Мисс Миллер подошла к ней и о чем-то спросила; получив ответ, она вернулась на свое место и громко сказала:
— Старшая из первого класса, принесите глобусы.
Пока приказание выполнялось, упомянутая дама медленно двинулась вдоль рядов. У меня сильно развита шишка почитания, и я до сих пор помню тот благоговейный восторг, с каким я следила за ней. Теперь, при ярком дневном свете, я увидела, что она высока, стройна и красива; карие глаза с тонкой каймою длинных ресниц, полные ясности и благожелательности, оттеняли белизну высокого крутого лба; тогда не были в моде ни гладкие бандо, ни длинные локоны, и ее очень темные волосы лежали на висках крупными завитками; платье, тоже по моде того времени, было суконное лиловое, с отделкой из черного бархата. На поясе висели золотые часы. (Часы тогда еще не были так распространены, как теперь.) Пусть читатель прибавит к этому тонкие благородные черты, мраморную бледность, статную фигуру и движения, полные достоинства, и вы получите, насколько его можно передать словами, точный портрет мисс Темпль — Марии Темпль, как я прочла позднее на ее молитвеннике, когда мне было однажды поручено нести его в церковь.
Директриса Ловуда (ибо таково было звание этой дамы), сев перед двумя глобусами, стоявшими на столе, собрала первый класс и начала урок географии; остальные классы собрались вокруг других учительниц; последовали занятия по истории, грамматике и так далее; затем письмо и арифметика, а также музыка, которой мисс Темпль занималась с некоторыми старшими девочками. Уроки шли по часам, и когда, наконец, пробило двенадцать, мисс Темпль поднялась.
— Мне нужно сказать воспитанницам несколько слов, — заявила она.
При звуках ее голоса поднявшийся было после уроков шум сейчас же стих. Она продолжала:
— Сегодня вы получили плохой завтрак, который не могли есть, и вы, наверно, голодны. Я распорядилась, чтобы всем вам дали хлеба с сыром.
Учительницы удивленно взглянули на нее.
— Я беру это на свою ответственность, — добавила она в виде объяснения и тотчас вышла из класса.
Сыр и хлеб были тут же принесены и розданы, и все с радостью подкрепились. Затем последовало приказание: «В сад!» Каждая ученица надела шляпку из грубой соломки с цветными коленкоровыми завязками и серый фризовый плащ. Меня нарядили так же, и я, следуя общему течению, вышла на воздух.
Сад был обнесен настолько высокой оградой, что не было никакой возможности заглянуть поверх нее; с одной стороны тянулась веранда; середину сада, поделенную на бесчисленные клумбочки, окружали широкие аллеи. Клумбочки предназначались для воспитанниц, которые должны были поливать их, причем у каждой девочки была своя. Летом, покрытые цветами, эти клумбочки были, вероятно, очень красивы, но сейчас, в конце января, на всем лежала печать заброшенности и уныния. Мне стало тоскливо, когда я оглянулась вокруг. День отнюдь не благоприятствовал прогулке; правда, дождя не было, но в воздухе стоял сырой желтый туман, а под ногами все еще хлюпала вода после вчерашнего ливня. Наиболее здоровые девочки принялись бегать и играть, но бледные и слабенькие столпились в кучу, ища защиты от холода под крышей веранды; к когда мглистая сырость начала пробирать их до костей, до меня стал то и дело доноситься глухой кашель.
Пока я еще ни с кем не говорила, и никто, по-видимому, не обращал на меня внимания; я стояла одна в стороне, но я привыкла к чувству одиночества, и оно не слишком угнетало меня. Я прислонилась к одному из столбов веранды, плотнее закуталась в свой серый плащ и, забывая о холодном ветре, пробиравшем меня до костей, и о мучительном голоде, предалась наблюдениям и раздумью. Мои мысли были смутны и отрывочны: я еще не осознала, где нахожусь. Гейтсхэд и моя прошлая жизнь, казалось, отступили в неизмеримую даль; настоящее было неопределенно и туманно, а картину будущего я и вовсе не могла себе представить. Я обвела взором этот по-монастырски уединенный сад, затем взглянула на дом, одна часть которого казалась одряхлевшей и ветхой, другая — совершенно новой. В этой новой части, где находились классная и дортуар, были стрельчатые решетчатые окна, как в церкви; на каменной доске над входом я прочла надпись: «Ловудский приют. Эта часть здания восстановлена в таком-то году миссис Наоми Брокльхерст из Брокльхерстхолла, графство такое-то». «Да светит ваш свет перед людьми, дабы они видели добрые дела ваши и прославляли отца вашего небесного (ев. от Матфея, глава V, стих 16)».
Я перечитывала эти слова все вновь и вновь, чувствуя, что не в силах понять их смысла. Я все еще размышляла над словом «приют», пытаясь найти связь между начальными словами надписи и стихом из священного писания, когда кашель за моей спиной заставил меня обернуться. Поблизости, на каменной скамье, сидела девочка; она склонилась над книжкой и была, видимо, целиком поглощена ею. Со своего места я прочла заглавие книги — «Расселас»[4], показавшееся мне странным и оттого более завлекательным. Перевертывая страницу, она случайно подняла глаза, и я сейчас же спросила:
— Интересная книжка?
Я уже решила попросить ее дать мне почитать эту книгу.
— Мне нравится, — ответила она после небольшой паузы, во время которой рассматривала меня.
— А о чем там написано? — продолжала я.
Не знаю, каким образом у меня хватило смелости заговорить первой с совершенно незнакомой мне девочкой. Это противоречило и моей природе и моим привычкам. Вероятно, ее увлечение книгой затронуло во мне какую-то созвучную струну: ведь я тоже любила читать, хотя и чисто по-детски, — серьезное и сложное я плохо усваивала и плохо понимала.
— Если хочешь, посмотри, — сказала девочка, протягивая мне книгу.
Я так и сделала; полистав книгу, я убедилась, что ее содержание менее заманчиво, чем заглавие. Книга, на мой детский вкус, показалась мне скучной, там не было ничего ни про фей, ни про эльфов, а страницы сплошного убористого текста не сулили ничего занимательного. Я вернула книгу ее владелице, и та спокойно взяла ее и уж намеревалась снова погрузиться в чтение, когда я опять решила обратиться к ней.
— Ты можешь мне объяснить, что это за надпись над входом, что такое «Ловудский приют»?
— Это та самая школа, где ты будешь учиться.
— Отчего она называется «приютом»? Разве она отличается от других школ?
— Это вроде убежища для бедных сирот: и ты, и я, и все остальные девочки живут здесь из милости. Ты, вероятно, сирота? У тебя умерли отец и мать?
— Оба умерли давно.
— Так вот, здесь у каждой девочки умер отец или мать, а некоторые совсем не помнят ни отца, ни матери. Это приют, где воспитываются сироты.
— Разве мы не платим денег? Разве нас держат даром?
— Наши друзья или близкие платят за нас пятнадцать фунтов в год.
— А отчего же ты говоришь «из милости»?
— Оттого, что пятнадцать фунтов — это очень мало за обучение и содержание; недостающую сумму собирают подпиской.
— А кто же дает деньги?
— Разные добрые леди и джентльмены — здесь, в окрестностях, и в Лондоне.
— Кто это Наоми Брокльхерст?
— Это дама, построившая новую часть дома, как написано на доске; ее сын здесь всем управляет.
— Почему?
— Потому что он казначей и директор.
— Значит, этот дом принадлежит не той высокой даме с часами, которая приказала дать нам хлеб и сыр?
— Мисс Темпль? О нет! Если бы он принадлежал ей! А так она должна за каждый свой шаг отвечать перед мистером Брокльхерстом. Мистер Брокльхерст сам покупает нам провизию и одежду.
— Он тоже живет здесь?
— Нет, в двух милях отсюда, в большом доме.
— Он хороший человек?
— Он духовное лицо и, как говорят, делает много добра.
— Так высокую даму зовут мисс Темпль?
— Да.
— А как зовут других учительниц?
— Ту, с румяными щеками, зовут мисс Смит; она учит нас рукоделью и кройке, — ведь мы сами себе шьем платья, юбки и все остальное; низенькая брюнетка — это мисс Скетчерд, она преподает историю, грамматику и репетирует второй класс; а та, что носит шаль и носовой платок сбоку на желтой ленте, — мадам Пьеро, она из Лилля, из Франции, и преподает французский язык.
— А тебе нравятся эти учительницы?
— Да, ничего.
— Тебе нравится маленькая черная и эта мадам?.. Я не могу произнести ее фамилию правильно, как ты.
— Мисс Скетчерд очень вспыльчивая, — смотри, не раздражай ее: мадам Пьеро в общем не плохая…
— Но мисс Темпль лучше всех, правда?
— Мисс Темпль очень добра и очень умна; она на голову выше остальных, она гораздо образованнее их.
— Ты здесь давно?
— Два года.
— Ты сирота?
— У меня умерла мать.
— А тебе хорошо здесь?
— Ты задаешь слишком много вопросов. Пока я тебе ответила достаточно, теперь я хочу почитать.
Но в эту минуту зазвонили к обеду, и все вернулись в дом. Запах, наполнявший столовую, едва ли был аппетитнее, чем тот, который щекотал наше обоняние за завтраком. Обед подали в двух огромных жестяных котлах, откуда поднимался пар с резким запахом прогорклого сала. Это месиво состояло из безвкусного картофеля и обрезков тухлого мяса. Каждая воспитанница получила довольно большую порцию. Стараясь есть через силу, я спрашивала себя: неужели нас будут так кормить каждый день?
После обеда мы немедленно вернулись в класс. Уроки возобновились и продолжались до пяти часов. Единственным достойным внимания событием этого вечера было то, что девочку, с которой я разговаривала на веранде, мисс Скетчерд прогнала с урока истории и приказала ей стать посреди комнаты. Кара эта показалась мне чрезвычайно позорной, особенно в отношении такой большой девочки, — на вид ей можно было дать не меньше тринадцати лет. Я ожидала, что она будет проливать слезы стыда и отчаяния, но, к моему удивлению, она не заплакала и даже не покраснела. Спокойная и серьезная, стояла она посреди класса, под устремленными на нее взглядами всей школы. «Откуда у нее такое спокойствие и твердость духа? — спрашивала я себя. — Будь я на ее месте, я, кажется, пожелала бы, чтобы земля разверзлась подо мною и поглотила меня. А у нее такой вид, словно она размышляет о чем-то, не имеющем ничего общего с наказанием, которому она подверглась, о чем-то, далеком от того, что вокруг нее и перед ней. Я слышала о снах наяву, — может быть, ей снится такой сон? Ее взор прикован к полу, но я уверена, что она ничего не видит, — этот взор словно обращен внутрь, в глубину души; она как будто поглощена своими воспоминаниями и не замечает, что перед ней в действительности. Хотела бы я знать, хорошая ли она девочка, или дурная?»
После пяти часов нас опять покормили, — каждая получила по маленькой кружке кофе и по ломтику серого хлеба. Я с жадностью проглотила хлеб и кофе, но могла бы съесть еще столько же, — мой голод нисколько не был утолен. Последовал получасовой отдых, и снова начались занятия. Затем нам дали по стакану воды с кусочком овсяной запеканки, была прочтена молитва, и мы стали укладываться спать. Так прошел мой первый день в Ловуде.
Глава VI
Следующий день начался, как и предыдущий, — мы встали и оделись при свечах; однако в это утро пришлось обойтись без церемонии умывания: вода в кувшинах замерзла. Накануне вечером погода изменилась, и всю ночь через щели окон в нашей спальне свистал такой резкий норд-ост, что мы дрожали от холода в своих постелях и вода в кувшинах превратилась в лед.
Не успел еще окончиться бесконечно тянувшийся час, посвященный молитве и чтению библии, как я уже буквально одеревенела от холода. Наконец наступило время завтрака, и на этот раз овсяная каша не пригорела; по качеству она была съедобна, но количество ее было очень недостаточно. Какой маленькой показалась мне моя порция! Я, кажется, могла бы съесть вдвое больше.
С этого дня меня включили в число учениц четвертого класса, и я должна была отныне подчиняться твердому распорядку уроков и занятий. До сих пор я была только зрительницей всего происходившего в Ловуде; теперь мне предстояло стать участницей. Так как я не привыкла учить наизусть, то сначала уроки казались мне бесконечно длинными и трудными; частая смена предметов также сбивала меня с толку, и я была рада, когда наконец, около трех часов, мисс Смит дала мне полоску кисеи в два ярда длиной, иголку, наперсток и сказала, чтобы я села в уголке классной комнаты и подрубила кисею. В этот час большинство девочек занималось рукоделием, лишь один класс стоял вокруг мисс Скетчерд; девочки читали, в комнате царила тишина. Я с интересом прислушивалась к чтению, замечая про себя, как отвечает та или другая девочка и что говорит ей мисс Скетчерд — бранит или хвалит ее. Это был урок английской истории; среди читавших я заметила и мою знакомую: в начале урока она занимала среди учениц первое место, но за какую-то ошибку в произношении или за невнимание ее вдруг отправили на последнее место.
Однако даже и тут мисс Скетчерд не оставляла ее в покое, она то и дело обращалась к ней с замечаниями!
— Бернс (видимо, это была ее фамилия; здесь всех девочек звали по фамилии, как принято звать мальчиков-школьников), Бернс, опять ты ставишь ноги боком; выверни носки наружу немедленно! — Бернс, опять ты выставляешь вперед подбородок! — Бернс, я требую, чтобы ты держала голову прямо. Я не позволю тебе стоять передо мной в такой позе! — и так далее, и так далее.
После того как глава была дважды прочитана, учительница приказала закрыть книги и начала спрашивать. Речь шла о царствовании Карла I, и то и дело возникали вопросы о тоннаже, о пошлине, о так называемых таможенных правилах, о «корабельных деньгах», причем большинство учениц затруднялось ответом; однако когда учительница обращалась к Бернс, для той будто не существовало никаких трудностей: ее память, видимо, легко удерживала самую суть урока, и у нее был готов ответ на каждый вопрос. Я ждала, что мисс Скетчерд похвалит ее за внимание, но вместо этого учительница вдруг крикнула:
— Грязная, противная девчонка! Ты сегодня утром даже ногтей не вычистила!
Бернс, к моему удивлению, ничего не ответила.
«Отчего, — думала я, — она не объяснит, что не могла ни умыться, ни вычистить ногти, так как вода замерзла?»
Однако мое внимание было отвлечено мисс Смит, которая попросила меня подержать ей моток ниток. Разматывая их, она время от времени задавала мне вопросы: училась ли я до этого в школе, умею ли я метить, вышивать, вязать и так далее. Пока она не отпускала меня, я была лишена возможности наблюдать за мисс Скетчерд; когда же я, наконец, вернулась на свое место, учительница только что отдала какое-то приказание, смысла которого я не уловила, — и Бернс немедленно вышла из класса и направилась в чуланчик, где хранились книги и откуда она вышла через полминуты, держа с руках пучок розог. Это орудие наказания она с почтительным книксеном протянула мисс Скетчерд, затем спокойно, не ожидая приказаний, сняла фартук, и учительница несколько раз пребольно ударила ее розгами по обнаженной шее. На глазах Бернс не появилось ни одной слезинки, и хотя я при виде этого зрелища вынуждена была отложить шитье, так как пальцы у меня дрожали от чувства беспомощного и горького гнева, ее лицо сохраняло обычное выражение кроткой задумчивости.
— Упрямая девчонка! — воскликнула мисс Скетчерд. — Видно, тебя ничем не исправишь! Неряха! Унеси розги!
Бернс послушно выполнила приказание. Когда она снова вышла из чулана, я пристально посмотрела на нее: она прятала в карман носовой платок, и на ее худой щечке виднелся след стертой слезы.
Под вечер наступил час игр. Впоследствии он казался мне самым приятным временем в Ловуде. Кусочек хлеба и кружка кофе, которые мы получали в пять часов, если не насыщали нас, то все же подкрепляли наши силы; напряжение длинного учебного дня ослабевало; в школьной комнате было теплее, чем утром, — камины горели немного ярче, так как должны были заменять еще не зажженные свечи; отблески багрового пламени, непринужденная резвость и смешанный гул многих голосов давали ощущение желанной свободы.
Вечером того дня, когда мисс Скетчерд наказала розгами свою ученицу Бернс, я бродила между партами, столами и группами смеющихся девушек, как обычно, без подруги, но не чувствуя одиночества. Проходя мимо окон, я время от времени приподнимала шторы и выглядывала наружу: падал густой снег, и на нижних звеньях окон уже намело целые сугробы; прижав ухо к стеклу, я могла различить сквозь веселый шум в комнате безутешные завывания ветра в саду.
Если бы я оставила позади уютный семейный очаг и ласковых родителей, я, вероятно, в этот час особенно остро ощущала бы разлуку; вероятно, ветер родил бы печаль в моем сердце, а хаотический шум смущал бы мой душевный мир. Теперь же мною овладело лихорадочное возбуждение: мне хотелось, чтобы ветер выл еще громче, чтобы сумерки скорее превратились в густой мрак, а окружающий беспорядок — в открытое неповиновение.
Перепрыгивая через скамьи и проползая под столами, я добралась до одного из каминов; там я увидела Бернс, она стояла на коленях возле высокой каминной решетки, молча, не замечая ничего, что происходит вокруг, погруженная в книгу, которую она читала при тусклом свете углей.
— Это все еще «Расселас»? — спросила я, остановившись подле нее.
— Да, — сказала она, — я сейчас кончаю.
Через пять минут она захлопнула книгу. Я обрадовалась.
«Теперь, — подумала я, — мне, может быть, удастся вызвать ее на разговор»; и я опустилась рядом с ней на пол.
— Как тебя зовут?
— Элен.
— Ты издалека сюда приехала?
— Я приехала с севера, это почти на границе Шотландии.
— Ты когда-нибудь вернешься туда?
— Надеюсь, хотя трудно загадывать вперед.
— Тебе, наверно, хочется уехать из Ловуда?
— Нет! Отчего же? Меня прислали в Ловуд, чтобы здесь получить образование; какой смысл уезжать, не добившись этой цели?
— Но ведь эта учительница — мисс Скетчерд — так несправедлива к тебе.
— Несправедлива? Нисколько. Она просто строгая: она указывает мне на мои недостатки.
— А я бы на твоем месте ее возненавидела; я бы ни за что не покорилась. Посмела бы она только тронуть меня! Я бы вырвала розги у нее из рук, я бы изломала их у нее перед носом.
— А по-моему, ничего бы ты не сделала, а если бы и сделала — мистер Брокльхерст тебя живо исключил бы из школы. А сколько горя это доставило бы твоим родным! Так не лучше ли терпеливо снести обиду, от которой никто не страдает, кроме тебя самой, чем совершить необдуманный поступок, который будет ударом для твоих близких? Да и Библия учит нас отвечать добром за зло.
— Но ведь это унизительно, когда тебя секут или ставят посреди комнаты, где столько народу. И ведь ты уже большая девочка! Я гораздо моложе тебя, а я бы этого не вынесла.
— И все-таки твой долг — все вынести, раз это неизбежно; только глупые и безвольные говорят: «Я не могу вынести», если это их крест, предназначенный им судьбой.
Я слушала ее с изумлением: я не могла понять этой философии безропотности, и еще меньше могла понять или одобрить ту снисходительность, с какой Элен относилась к своей мучительнице. И все же я догадывалась, что Элен Бернс видит вещи в каком-то особом свете, для меня недоступном. Я подозревала, что, может быть, права она, а я ошибаюсь, но не собиралась в это углубляться и отложила свои размышления до более подходящего случая.
— Ты говоришь, у тебя есть недостатки, Элен, какие же? Мне ты кажешься очень хорошей.
— Вот тебе доказательство, что нельзя судить по первому впечатлению: мисс Скетчерд говорит, что я неряшлива, — и действительно, мне никак не удается держать свои вещи в порядке. Я очень беззаботна, не выполняю правил, читаю, когда нужно учить уроки, ничего не умею делать методически и иногда говорю, как и ты, что я просто не могу выносить никакой системы и порядка. Все это очень раздражает мисс Скетчерд, которая по природе аккуратна, точна и требовательна.
— И к тому же раздражительна и жестока, — добавила я. Но Элен Бернс не соглашалась со мной; она молчала.
— А что, мисс Темпль так же строга, как и мисс Скетчерд?
Когда я произнесла имя мисс Темпль, по серьезному лицу девочки скользнула мягкая улыбка.
— Мисс Темпль очень добрая, ей трудно быть строгой даже с самой дурной девочкой из нашей школы. Она видит мои недостатки и ласково указывает мне на них, а если я делаю что-нибудь достойное похвалы, никогда не скупится на поощрения. И вот тебе доказательство моей испорченности: даже ее замечания, такие кроткие, такие разумные, не могут излечить меня от моих недостатков; и даже ее похвала, которую я так высоко ценю, не в силах заставить меня всегда быть аккуратной и внимательной.
— Как странно, — сказала я, — неужели это так трудно?
— Тебе легко, без сомнения. Я наблюдала за тобой сегодня утром в классе и видела, как ты внимательна: ты, кажется, ни на минуту не отвлекалась от объяснений мисс Миллер. А мои мысли постоянно где-то бродят. Мне нужно слушать мисс Скетчерд и запомнить, что она говорит, — а я иногда даже не слышу ее голоса; я точно грежу наяву. Порой мне кажется, что я на родине, в Нортумберленде, и звуки, которые я слышу, — это журчание ручейка, который протекает мимо нашего дома в Дипдине, и если приходится отвечать на вопрос, мне надо сперва проснуться; но так как я ничего не слышала, занятая своим ручейком, я не знаю, что отвечать.
— А как ты хорошо отвечала сегодня!
— Это чистая случайность; то, о чем мы читали, заинтересовало меня. Сегодня, вместо того чтобы думать о Дипдине, я размышляла, как может человек, желающий добра, поступать так несправедливо и опрометчиво, как поступал Карл Первый. И я думала: жаль, что он, такой хороший и честный, ничего и знать не хотел, кроме своих королевских прав; что, если бы он был более справедлив и дальновиден и прислушивался к духу времени! И все же мне нравится Карл, я уважаю и жалею его, бедного короля, сложившего голову на плахе. Да, его враги хуже его: они пролили кровь, которую были не вправе проливать. Как они смели убить его!
Казалось, Элен говорит сама с собой. Она забыла, что я с трудом могу понять ее, — ведь я ничего, или почти ничего, не знала о предмете, который навел ее на эти размышления. Я постаралась вернуть ее к интересовавшему меня вопросу.
— А когда урок дает мисс Темпль, твои мысли тоже где-то бродят?
— Конечно, нет, разве только изредка. Ведь мисс Темпль всегда скажет что-нибудь новое, что гораздо интереснее моих собственных мыслей; ее приятно слушать, а часто она рассказывает о том, что мне давно хотелось бы знать.
— Значит, на уроках мисс Темпль ты хорошо ведешь себя?
— Да, но это выходит само собой: я не делаю для этого никаких усилий, а только следую своим склонностям, и значит — это не моя заслуга.
— Нет, это большая заслуга. Ты хороша с теми, кто хорош с тобой. А по-моему, так и надо. Если бы люди всегда слушались тех, кто жесток и несправедлив, злые так бы все и делали по-своему: они бы ничего не боялись и становились бы все хуже и хуже. Когда нас бьют без причины, мы должны отвечать ударом на удар — я уверена в этом, — и притом с такой силой, чтобы навсегда отучить людей бить нас.
— Я надеюсь, ты изменишь свою точку зрения, когда подрастешь; пока ты только маленькая, несмышленая девочка.
— Но я так чувствую, Элен. Я должна ненавидеть тех, кто, несмотря на мои усилия угодить им, продолжает ненавидеть меня: это так же естественно, как любить того, кто к нам ласков, или подчиняться наказанию, когда оно заслужено.
— Не насилием можно победить ненависть и уж, конечно, не мщением загладить несправедливость.
— А чем же тогда?
— Почитай Новый завет и обрати внимание на то, что говорит Христос и как он поступает.
— Что же он говорит?
— Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим и презирающим вас.
— Тогда, значит, я должна была бы любить миссис Рид, — а я не могу! Я должна была бы благословлять ее сына Джона, — а это совершенно невозможно!
Теперь Элен Бернс, в свою очередь, попросила меня рассказать о себе, и я рассказала ей всю повесть моих страданий и обид. Я говорила так, как чувствовала, страстно и с горечью, ни о чем не умалчивая и ничего не смягчая.
Элен терпеливо дослушала меня до конца. Я ждала от нее какого-нибудь замечания, но она молчала.
— Ну что ж, — спросила я нетерпеливо, — разве миссис не жестокосердечная, дурная женщина?
— Она была жестокой к тебе, без сомнения, но, видимо, ей не нравился твой характер, как мисс Скетчерд не нравится мой. Удивительно, что ты помнишь до мелочей все ее слова, все обиды. Как странно, что ее несправедливое отношение так глубоко запало тебе в душу! На меня несправедливость не производит такого неизгладимого впечатления. Разве ты не чувствовала бы себя счастливее, если бы постаралась забыть и ее суровость и то негодование, которое она в тебе вызвала?
Элен сказала это, и ее голова, и без того всегда слегка склоненная, опустилась еще ниже. Я видела, что ей не хочется продолжать разговор и что она предпочитает остаться наедине со своими мыслями. Однако ей не дали времени на размышление: к ней подошла одна из старших, рослая грубоватая девушка, и заявила с резким кемберлендским акцентом:
— Элен Бернс, если ты сейчас же не приведешь в порядок свой ящик в комоде и не сложишь рукоделие, я позову мисс Скетчерд и покажу ей, что у тебя делается!
Элен очнулась от грез, она вздохнула, встала и пошла выполнять приказание старшей, не медля и не прекословя.
Глава VII
Первые три месяца в Ловуде показались мне веком, и отнюдь не золотым. Я с трудом привыкала к новым правилам и обязанностям. Страх, что я не справлюсь, мучил меня больше, чем выпавшие на мою долю физические лишения, хотя переносить их было тоже нелегко.
В течение января, февраля и части марта — сначала из-за глубоких снегов, а затем, после их таяния, из-за весенней распутицы — наши прогулки ограничивались садом; исключением являлось лишь путешествие в церковь, но в саду мы должны были проводить ежедневно час, чтобы дышать свежим воздухом. Убогая одежда не могла защитить нас от резкого холода; у нас не было подходящей обуви, снег набивался в башмаки и таял там; руки без перчаток вечно зябли и покрывались цыпками. Я помню, как нестерпимо зудели по вечерам мои опухшие ноги, и те муки, которые я испытывала утром, всовывая их, израненные и онемевшие, в башмаки. Доводила нас до отчаяния и крайняя скудость пищи; у нас был здоровый аппетит растущих детей, а получали мы едва ли достаточно, чтобы поддержать жизнь больного, дышащего на ладан. Особенно страдали от недостатка пищи младшие воспитанницы. Взрослые девушки, изголодавшись, пользовались каждым случаем, чтобы лаской или угрозой выманить у младших их порцию. Сколько раз приходилось мне делить между двумя претендентками драгоценный кусочек серого хлеба, который мы получали в пять часов! Отдав третьей претендентке по крайней мере половину моего кофе, я проглатывала остаток вместе с тайными слезами, вызванными мучительным голодом.
В эти зимние месяцы особенно унылы бывали воскресенья. Нам приходилось плестись за две мили в брокльбриджскую церковь, где служил наш патрон. Выходили мы уже озябшие, а до места добирались совершенно окоченевшие: во время утренней службы руки и ноги у нас немели от стужи. Возвращаться домой обедать было слишком далеко, и мы получали между двумя службами такую же крошечную порцию мяса и хлеба, какая нам полагалась за обедом.
По окончании вечерней службы мы возвращались домой открытой холмистой дорогой; резкий ветер дул с севера, с заснеженных холмов и буквально обжигал нам лицо.
Я вспоминаю, как мисс Темпль быстро и легко шагала вдоль нашей унылой вереницы, плотно завернувшись в свой шотландский плащ, полы которого трепал ветер, и ободряла нас словом и примером, призывая идти вперед, подобно «храбрым солдатам». Другие учительницы, бедняжки, были обычно слишком угнетены, чтобы поддерживать нас.
Как мечтали мы, возвращаясь, о свете и тепле яркого камина! Но малышам и в этом было отказано: перед обоими каминами немедленно выстраивался двойной ряд взрослых девушек, а позади них, присев на корточки, жались друг к другу малыши, пряча иззябшие руки под передники.
Небольшим утешением являлся чай, во время которого полагалась двойная порция хлеба — то есть целый ломоть вместо половины — и, кроме того, восхитительная добавка в виде тончайшего слоя масла. Мы мечтали об этом удовольствии от воскресенья до воскресенья. Обычно мне удавалось сохранить для себя лишь половину этого роскошного угощения, остальное я неизменно должна была отдавать.
В воскресенье вечером мы обычно читали наизусть отрывки из катехизиса, а также V, VI и VII главы от Матфея и слушали длинную проповедь, которую нам читала мисс Миллер; она судорожно зевала, не скрывая утомления. Сон настолько овладевал младшими девочками, что они валились со своих скамеек и их поднимали полумертвыми от усталости. Помогало одно: бедняжек выталкивали на середину комнаты и заставляли стоя дослушать проповедь до конца. Иногда ноги у них подкашивались, и они, обессилев, опускались на пол; тогда старшие девочки подпирали их высокими стульями.
Я еще ни разу не упомянула о посещениях мистера Брокльхерста. Надо сказать, что этот джентльмен отсутствовал почти весь первый месяц моего пребывания в Ловуде; может быть, он продолжал гостить у своего друга викария. Во всяком случае, в его отсутствие я была спокойна. Мне незачем говорить о том, почему я так боялась его. Но в конце концов он явился.
Однажды, после обеда (я находилась в Ловуде уже свыше трех недель), я сидела, держа в руках аспидную доску, и размышляла над трудным примером на деление, как вдруг, рассеянно подняв глаза, я увидела, что мимо окна прошла какая-то фигура. Я почти инстинктивно узнала этот тощий силуэт; и когда две минуты спустя вся школа, включая и преподавательниц, поднялась en masse[5], мне незачем было искать глазами того, кого так приветствовали. Кто-то большими шагами прошел через классную комнату, и возле мисс Темпль — она тоже поднялась — вырос тот самый черный столб, который так грозно взирал на меня, стоя на предкаминном коврике в Гейтсхэде. Я пугливо покосилась на него. Да, я не ошиблась: это был мистер Брокльхерст, в застегнутом на все пуговицы пальто, еще больше подчеркивавшем его рост и худобу.
У меня были свои причины опасаться его приезда: я слишком хорошо помнила ехидные намеки, которые ему делала миссис Рид по поводу моего характера, а также обещание мистера Брокльхерста поставить мисс Темпль и других учительниц в известность относительно порочности моей натуры. Все это время я с ужасом вспоминала его угрозу и каждый день с трепетом ждала этого человека, сообщение которого о моей прошлой жизни должно было навеки заклеймить меня как дурную девочку. И вот теперь он был здесь.
Он стоял возле мисс Темпль и что-то тихонько говорил ей на ухо. Я нисколько не сомневалась, что он рассказывает ей, какая я испорченная, и с мукой следила за ее взглядом, ожидая каждую минуту, что ее черные глаза обратятся на меня с отвращением и гневом. Я старалась вслушаться в его шепот, и так как сидела тут же неподалеку, то мне удалось разобрать большую часть того, что он говорил. То, что я услышала, на несколько мгновений вернуло мне спокойствие.
— Я полагаю, мисс Темпль, что нитки, которые я закупил в Лоутоне, можно пустить в дело, они пригодятся для коленкоровых рубашек, и я подобрал к ним иголки. Пожалуйста, не забудьте сказать мисс Смит, что я не записал штопальные иголки, но ей на той неделе пришлют несколько пачек; и, пожалуйста, чтобы она ни в каком случае не выдавала каждой ученице больше чем по одной: если давать им по нескольку, они будут небрежничать и растеряют все. И потом, сударыня, я хотел бы, чтобы с шерстяными чулками обращались поаккуратнее. Когда я здесь был в последний раз, я пошел на огород и осмотрел белье, висевшее на веревках; там было много очень худо заштопанных чулок: дыры на них доказывают, что они чинятся редко и небрежно.
Он замолчал.
— Ваши указания будут исполнены, сэр, — ответила мисс Темпль.
— И потом, сударыня, — продолжал он, — прачка доложила мне, что вы разрешили некоторым воспитанницам переменить за неделю два раза рюшки на воротниках. Это слишком часто, — согласно правилам, они могут менять их только однажды.
— Случай был вполне законный, сэр. Агнес и Катарина Джонстон в тот четверг получили приглашение на чашку чая к своим друзьям в Лоутон, и когда они уходили, я разрешила им переменить рюшки.
Мистер Брокльхерст кивнул.
— Ну, один раз — куда ни шло! Но, пожалуйста, чтобы это не повторялось слишком часто. И потом есть еще одно обстоятельство, крайне меня удивившее: принимая отчет от экономки, я обнаружил, что за две недели воспитанницам был дважды выдан второй завтрак, состоявший из хлеба и сыра. Как это могло произойти? Я еще раз пересмотрел устав и нашел, что там нет никакого упоминания о втором завтраке. Кто ввел это новшество, кто его разрешил?
— Это я распорядилась, сэр, — отозвалась мисс Темпль, — завтрак был так дурно приготовлен, что воспитанницы не могли его есть, а я не рискнула оставить их голодными до обеда.
— Разрешите мне, сударыня, заметить вам следующее: вы понимаете, что моя цель при воспитании этих девушек состоит в том, чтобы привить им выносливость, терпение и способность к самоотречению. Если их и постигло маленькое разочарование в виде испорченного завтрака — какого-нибудь пересоленного или недосоленного блюда, то это испытание отнюдь не следовало смягчать, предлагая им взамен более вкусное кушанье; поступая так, вы просто тешите их плоть, а значит — извращаете в корне основную цель данного благотворительного заведения; наоборот, всякий такой случай дает нам лишний повод для того, чтобы укрепить дух воспитанниц, научить их мужественно переносить земные лишения. Очень уместна была бы небольшая речь; опытный воспитатель воспользовался бы таким поводом для того, чтобы упомянуть о страданиях первых христиан, о пытках, которые переносили мученики, и, наконец, о призыве господа нашего Иисуса Христа, предложившего своим ученикам взять свой крест и идти за ним; о его наставлениях, что не единым хлебом жив человек, но каждым словом, исходящим из уст божьих; о его божественном утешении: «Если вы жаждете или страждете во имя мое, благо вам будет». О сударыня, вложив хлеб и сыр вместо пригоревшей овсянки в уста этих детей, вы, может быть, и накормили их бренную плоть, но не подумали о том, какому голоду вы подвергли их бессмертные души!
Мистер Брокльхерст снова сделал паузу, видимо взволнованный собственным красноречием. Когда он заговорил, мисс Темпль опустила взор; теперь же она смотрела прямо перед собой, и ее лицо, и обычно-то бледное, постепенно становилось таким же холодным и неподвижным, как мрамор, и рот ее был сжат так, что, казалось, только резец скульптора может открыть его.
Тем временем мистер Брокльхерст, стоя возле камина с заложенными за спину руками, величественно рассматривал воспитанниц. Вдруг он заморгал, как будто ему что-то попало в глаз, и, обернувшись, сказал торопливее, чем говорил до сих пор:
— Мисс Темпль, мисс Темпль, что это за девочка с кудрявыми волосами? Рыжие волосы, сударыня, и кудрявые, вся голова кудрявая! — И, подняв трость, он указал на ужаснувшую его воспитанницу, причем его рука дрожала.
— Это Джулия Северн, — отозвалась мисс Темпль очень спокойно.
— Джулия Северн или кто другой, сударыня, но по какому праву она разрешает себе ходить растрепой? Как смеет она так дерзко нарушать все правила и предписания этого дома, этого благочестивого заведения? Да у нее на голове целая шапка кудрей!
— Волосы у Джулии вьются от природы, — ответила мисс Темпль еще спокойнее.
— От природы! Но мы не можем подчиняться природе, — я хочу, чтобы эти девочки стали детьми Милосердия; и потом, зачем такие космы? Я повторял без конца мое требование, чтобы волосы были зачесаны скромно и гладко. Мисс Темпль, эту девушку надо остричь наголо. Завтра же у вас будет парикмахер! Я вижу, что и у других девушек волосы длиннее, чем полагается, — вон у той высокой; скажите ей, пусть повернется затылком. Пусть весь первый класс встанет и обернется лицом к стене.
Мисс Темпль провела носовым платком по губам, словно стирая невольную улыбку. Однако она отдала приказание, и девушки, наконец поняв, что от них требуется, выполнили его. Я слегка откинулась назад, и мне были видны с моей парты взгляды и гримасы, которыми они сопровождали этот маневр. Жаль, что мистер Брокльхерст не видел их: возможно, он тогда понял бы, что, сколько бы он ни трудился над внешней оболочкой, внутренний мир девочек был от него бесконечно далек.
В течение пяти минут рассматривал он оборотную сторону этих живых медалей, затем изрек, — и слова его прозвучали как смертный приговор:
— А космы следует остричь!
Мисс Темпль, видимо, что-то ему возразила.
— Сударыня, — продолжал он, — я служу владыке, царство которого не от мира сего. И моя миссия — умерщвлять в этих девушках вожделения плоти, научить их сохранять стыдливость и скромность, а не умащать свои волосы и рядиться в пышные одежды; каждая из этих молодых особ носит косы, и их, конечно, заплело тщеславие; всех их, повторяю я, нужно остричь… Вы только подумайте о том, сколько времени они теряют…
Здесь мистера Брокльхерста прервали: в комнату вошли гости, это были три дамы. Им следовало бы прийти несколько раньше и выслушать его проповедь об одежде, ибо они были пышно разряжены в бархат, шелк и меха. На двух молоденьких (красивые девушки лет шестнадцати-семнадцати) были входившие тогда в моду касторовые шляпки, украшенные страусовыми перьями, а из-под этих изящных головных уборов ниспадали на шею густые пряди тщательно завитых волос; пожилая дама куталась в дорогую бархатную шаль, обшитую горностаем, а на лбу у нее красовались фальшивые локоны.
Это были барышни Брокльхерст с матерью; мисс Темпль встретила их и проводила на почетные места. Они, видимо, приехали вместе с достоуважаемым мистером Брокльхерстом и производили в верхних комнатах самый тщательный обыск, пока он беседовал о делах с экономкой, выспрашивал прачку и поучал директрису. Теперь они обрушились со всевозможными упреками и замечаниями на мисс Смит, которой было поручено наблюдение за бельем и надзор за спальнями. Но у меня не было времени вслушиваться в то, что они говорят, — другое отвлекло и приковало мое внимание.
Прислушиваясь к речам мистера Брокльхерста и мисс Темпль, я не забыла принять меры для собственной безопасности. Решив, что самое лучшее оставаться незамеченной, я притворилась чрезвычайно углубленной в свою задачу и держала доску так, чтобы заслонить ею лицо. Может быть, меня и не заметили бы, но моя доска вдруг выскользнула у меня из рук и упала на пол, — раздался ужасный, предательский треск. Все взоры обратились ко мне; теперь я знала, что все погибло, и, наклонившись, чтобы подобрать осколки доски, приготовилась к худшему. Оно не замедлило разразиться.
— Какая неосторожная девочка! — сказал мистер Брокльхерст и сейчас же добавил: — Кстати — это новая воспитанница. — Я не успела перевести дыхание, как он уже продолжал: — Я должен сказать по поводу нее несколько слов. — Затем, возвысив голос, — каким громким он показался мне! — заявил: — Пусть девочка, разбившая доску, выйдет вперед.
Своими силами я бы не могла подняться, все мои члены точно онемели; но две взрослые девушки, сидевшие по бокам, поставили меня на ноги и подтолкнули навстречу грозному судье, а мисс Темпль ласково подвела меня к нему и ободряюще шепнула:
— Не бойся, Джен, я видела, что ты не нарочно; ты не будешь наказана.
Но этот ласковый шепот вонзился в мое сердце, как кинжал.
«Еще минута, и она будет считать меня низкой лицемеркой», — подумала я; и мое сердце забилось от приступа страшного гнева против таких людей, как господа Риды, Брокльхерсты и компания: я ведь не Элен Бернс.
— Принесите вон тот стул, — сказал мистер Брокльхерст, указывая на очень высокий стул, с которого только что встала одна из старших девушек; стул был принесен. — Поставьте на него эту девочку.
Кто-то поставил меня на стул. Кто, не помню: я ничего не сознавала; я только видела, что стою на одном уровне с носом мистера Брокльхерста и что этот нос в двух шагах от меня, а подо мною волнуются оранжевые и лиловые шелка и целое облако серебристых перьев.
Мистер Брокльхерст пристально посмотрел на меня и откашлялся.
— Сударыни, — сказал он, обращаясь к своему семейству, — мисс Темпль, наставницы и дети! Вы видите эту девочку?
Конечно, они видели; я чувствовала, что все глаза устремлены на меня, и они, точно зажигательные стекла, обжигают мою кожу.
— Смотрите, она еще молода и кажется обычным ребенком. Бог, по своему милосердию, дал ей ту же оболочку, какую он дал всем нам; она не отмечена никаким уродством. Кто мог бы предположить, что отец зла уже нашел в ней слугу и помощника? Однако, к моему прискорбию, я должен сказать, что это так.
Наступила пауза, во время которой я почувствовала, что мне уже удается сдержать дрожь, сотрясавшую все мои члены: ведь так или иначе суда не избежать, а испытание нужно вынести с твердостью.
— Дорогие дети! — продолжал с пафосом проповедник. — Это печальный, это горестный случай! Но мой долг предупредить вас, ибо девочка, которая могла бы быть одной из смиренных овец господних на самом деле — отверженная, это не член верного стада, она втерлась в него. Она — враг. Берегитесь ее, остерегайтесь следовать ее примеру; если нужно — избегайте ее общества, исключите ее из ваших игр, держитесь от нее подальше. А вы, наставницы, следите за ней: наблюдайте за каждым ее движением, взвешивайте каждое слово, расследуйте каждый поступок, наказывайте плоть, чтобы спасти душу, — если только спасение возможно, ибо это дитя (мой язык едва мне повинуется), этот ребенок, родившийся в христианской стране, хуже любой маленькой язычницы, которая молится Браме и стоит на коленях перед Джаганатом… Эта девочка — лгунья!
Затем последовала десятиминутная пауза, в течение которой я, уже овладев собой, наблюдала, как вся женская половина семьи Брокльхерстов извлекла из карманов носовые платки и прижала их к глазам, причем мамаша качала головой, а обе барышни шептали: «Какой ужас!»
Мистер Брокльхерст продолжал:
— Все это я узнал от ее благодетельницы, той благочестивой и милосердной дамы, которая удочерила ее, сироту, воспитала, как собственную дочь, и за чью доброту и великодушие этот злосчастный ребенок отплатил такой черной, такой жестокой неблагодарностью, что в конце концов ее добрейшая покровительница была вынуждена разлучить ее с собственными детьми, чтобы эта девочка своим порочным примером не осквернила их чистоту; она прислана сюда для исцеления, как в старину евреи посылали своих больных к озеру Вифезда. И вы, наставницы и директриса, прошу вас, — не давайте водам застаиваться и загнивать вокруг нее.
После этого риторического заключения мистер Брокльхерст застегнул верхние пуговицы пальто и пробормотал что-то, обращаясь к своему семейству; дамы встали, поклонились мисс Темпль, и вот знатные гости выплыли из комнаты. Дойдя до двери и обернувшись, мой обличитель сказал:
— Пусть она еще полчаса стоит на стуле. И пусть с ней сегодня никто не разговаривает.
И вот я стояла на этом возвышении; еще несколько минут назад мне казалось постыдным стоять посреди комнаты, а теперь я была как бы пригвождена к позорному столбу. Мои чувства трудно описать; но когда они нахлынули на меня, подступая к горлу и прерывая мое дыхание, одна из девочек встала и прошла мимо меня; на ходу она подняла на меня глаза. Какой странный свет был в них! Как пронизывал их лучистый взгляд! Сколько новых, высоких чувств пробудилось во мне! Как будто мученик или герой, пройдя мимо рабы или обреченной жертвы, передал ей часть своей силы. Я подавила подступавшие рыдания, подняла голову и решительно выпрямилась. Элен Бернс, подойдя к мисс Смит, задала ей какой-то нелепый вопрос относительно своей работы, выслушала замечание по поводу неуместности этого вопроса и тут же вернулась на место; но, снова проходя мимо меня, она мне улыбнулась. Какая это была улыбка! Теперь-то я понимаю, что в этой улыбке отразился ее незаурядный ум и высокое мужество; улыбка преобразила ее резкие черты — худенькое личико, запавшие серые глаза, и на них лег отблеск какой-то ангельской доброты, хотя в это самое время на руке Элен Бернс красовалась «повязка неряхи» и всего лишь час тому назад я слышала, как мисс Скетчерд отчитывала ее, обещая посадить на хлеб и воду за то, что Элен, переписывая упражнение, закапала его чернилами. Таково несовершенство человеческой природы! Ведь и на солнце есть пятна, но глаза людей, подобных мисс Скетчерд, способны видеть только мелкие изъяны и слепы к яркому блеску небесных светил.
Глава VIII
Полчаса еще не успели истечь, как часы пробили пять; воспитанницы были отпущены и пошли в столовую пить чай. Тогда я осмелилась слезть со стула. В комнате царил глубокий сумрак. Я забилась в уголок и села на пол. Та волшебная сила, которая до сих пор поддерживала меня, стала иссякать, наступила реакция, и охватившая меня скорбь была так непреодолима, что я упала ниц и зарыдала. Элен Бернс уже не было подле меня, ничто меня не поддерживало; предоставленная самой себе, я дала волю слезам, и они оросили доски пола, на которых я лежала. Я так старалась быть послушной, я хотела так много сделать в Ловуде: найти друзей, заслужить уважение и любовь! И я уже достигла известных успехов: как раз в это утро я была переведена в число первых учениц; мисс Миллер похвалила меня; мисс Темпль одобрительно улыбнулась, она обещала заняться со мной рисованием и дать мне возможность изучать французский язык, если я в течение двух ближайших месяцев буду делать такие же успехи. Мои соученицы относились ко мне благожелательно, сверстницы обращались, как с равной, и никто не оскорблял меня. И вот я лежала здесь, растоптанная и опозоренная! Удастся ли мне когда-нибудь подняться?
«Никогда!» — решила я и страстно пожелала себе смерти. В то время как я, рыдая, бормотала это пожелание, кто-то приблизился ко мне. Я подняла голову, — снова возле меня была Элен Бернс, в этой длинной пустой комнате угасающий свет камина смутно озарил ее фигурку. Она принесла мне кофе и хлеба.
— Ну-ка, поешь немного, — сказала она.
Но я отодвинула от себя и хлеб и кофе: мне казалось, что я подавлюсь первым же глотком и первой крошкой хлеба. Элен, вероятно, смотрела на меня с удивлением; я никак не могла овладеть собой, сколько ни старалась, и продолжала громко рыдать. Тогда она села рядом со мной на пол, охватила колени руками и положила на них голову. В таком положении она просидела долго, безмолвная, как изваяние. Я первая заговорила:
— Элен, Элен, как ты можешь сидеть с девочкой, которую все считают лгуньей?
— Неправда, Джен! Только восемьдесят человек слышали, что тебя так назвали. А в мире сотни миллионов людей.
— Но какое мне дело до миллионов? Те восемьдесят, которых я знаю, презирают меня.
— Джен, ты, право же, ошибаешься: наверно, никто в нашей школе не презирает и не ненавидит тебя; наоборот, я уверена, что многие тебя очень жалеют.
— Как они могут жалеть меня после того, что сказал мистер Брокльхерст?
— Мистер Брокльхерст не бог; он даже не почтенный, всеми уважаемый человек. Здесь его не любят, да он ничего и не сделал, чтобы заслужить любовь. Вот если бы он обращался с тобой, как со своей любимицей, тогда у тебя нашлось бы много врагов, и явных и тайных; но ведь это не так, и большинство девочек, наверно, охотно посочувствовали бы тебе, если бы только смели. Может быть, учительницы и старшие день-два будут к тебе холоднее, но в душе они расположены к тебе; старайся по-прежнему хорошо вести себя, и эти чувства проявятся тем сильнее, чем больше они были скрыты. Кроме того, Джен… — Она остановилась.
— Ну что, Элен? — сказала я, взяв ее за руку. Она нежно стала растирать мои пальцы, чтобы согреть их, и продолжала:
— Если весь мир будет ненавидеть тебя и считать тебя дурной, но ты чиста перед собственной совестью, ты всегда найдешь друзей.
— Да, Элен! Я понимаю, главное — знать, что я не виновата; но этого недостаточно: если никто не будет любить меня, лучше мне умереть. Я не вынесу одиночества и ненависти, Элен. Чтобы заслужить любовь твою, или мисс Темпль, или еще кого-нибудь, кого я действительно люблю, я согласилась бы, чтобы мне сломали руку или бык забодал меня. Я охотно бы стала позади брыкающейся лошади, чтобы она ударила меня копытом в грудь…
— Успокойся, Джен! Ты слишком заботишься о любви окружающих. Ты слишком горячо все принимаешь к сердцу. Творец, создавший твое тело и вдохнувший в него жизнь, дал тебе более твердую опору, чем твое слабое «я» или чем подобные тебе слабые создания. Кроме нашей земли, кроме человеческого рода, существует незримый мир, царство духов. Этот мир окружает нас, он повсюду; и духи оберегают нас, их дело — стоять на страже; и хотя бы мы умирали от стыда и горя, хотя бы нас окружало презрение и ненависть угнетала бы нас, — ангелы видят наши мучения, они скажут, что мы не виноваты (если это действительно так; а я знаю, что ты невиновна и что низкое обвинение мистера Брокльхерста исходит от миссис Рид; сразу же увидела по твоим горящим глазам, по твоему чистому лбу, что у тебя правдивая душа). А бог только ждет, когда наш дух отделится от плоти, чтобы увенчать нас всей полнотою награды. Зачем же поддаваться отчаянию, если жизнь недолга, а смерть — верный путь к счастью и свету?
Я молчала. Элен успокоила меня, но в этом покое была какая-то неизъяснимая печаль. Я чувствовала веяние скорби в ее словах, но не могла понять, откуда эта скорбь. А когда она замолчала, ее дыхание стало учащенным и она закашлялась коротким, сухим кашлем, я мгновенно забыла о собственном горе, охваченная смутной тревогой за нее.
Положив голову на плечо Элен, я обняла ее; она привлекла меня к себе, и мы сидели молча. Но это продолжалось недолго, ибо в комнате появился кто-то третий. Ветер прогнал тяжелые тучи, и ярко засияла полная луна; ее луч, упав в одно из окон, осветил и нас и приближавшуюся к нам фигуру, в которой мы узнали мисс Темпль.
— Я ищу тебя, Джен Эйр, — сказала она, — я хочу, чтобы ты зашла ко мне в комнату; а раз здесь Элен Бернс, пусть зайдет и она.
Мы встали и, следуя за нашей наставницей, прошли по лабиринту коридоров и поднялись по лестнице.
В ее комнате ярко горел камин и было очень уютно. Мисс Темпль предложила Элен Бернс сесть в низенькое кресло у камина, а сама села в другое кресло и привлекла меня к себе.
— Ну что, все прошло? — спросила она, вглядываясь в мое лицо. — Ты утешилась наконец?
— Боюсь, что я никогда не утешусь.
— Отчего же?
— Оттого, что меня несправедливо обвинили; и вы, мисс Темпль, и все другие будут теперь считать, что я дурная.
— Мы будем считать тебя такой, какой ты себя покажешь, дитя мое. Продолжай вести себя хорошо, и мы будем довольны тобой.
— Правда, мисс Темпль?
— Ну конечно, — сказала она, обняв меня одной рукой. — А теперь расскажи мне, кто эта дама, которую мистер Брокльхерст назвал твоей благодетельницей?
— Это миссис Рид, жена моего дяди. Мой дядя умер и оставил меня на ее попечение.
— Значит, она удочерила тебя не по собственному желанию?
— Нет, мисс Темпль, она очень этого не хотела, но я часто слышала от слуг, будто дядя перед смертью взял с нее обещание, что она всегда будет заботиться обо мне.
— Ну, так вот, Джен. Ты знаешь, или во всяком случае должна знать, что когда на суде в чем-нибудь обвиняют человека, ему дают право защищаться. Расскажи правдиво все, что ты помнишь; но ничего не прибавляй и не преувеличивай.
Я твердо решила, что буду как можно сдержанней, как можно справедливее, и, помолчав несколько минут, чтобы обдумать свои слова, рассказала ей печальную повесть моего детства. Обессиленная предшествующими волнениями, я была в своем рассказе гораздо сдержаннее, чем обычно, когда касалась этой печальной темы, и, крепко памятуя предостережения Элен не поддаваться безудержной мстительности, вложила в свой рассказ гораздо меньше запальчивости и раздражения, чем обычно. Будучи, таким образом, более сдержанным и простым, рассказ мой произвел более сильное впечатление: я чувствовала, что мисс Темпль верит мне до конца.
Во время своего рассказа я упомянула имя мистера Ллойда, посетившего меня после припадка; я кажется, до самой смерти не могла бы забыть ужасный случай в красной комнате: боюсь, что при описании его мне не удалось сохранить хладнокровие, так как ничто не могло смягчить воспоминаний о том смертном страхе, который сжал мне сердце, когда миссис Рид отвергла мои горячие мольбы о прощении и вторично заперла меня в темной красной комнате наедине с призраком.
Я кончила. Мисс Темпль некоторое время смотрела на меня в молчании. Затем она сказала:
— Я немного знаю мистера Ллойда. Я напишу ему. Если он подтвердит то, что ты рассказала, с тебя при всех будет снято обвинение; что касается меня, Джен, в моих глазах ты оправдана уже сейчас.
Она поцеловала меня и, все еще не отпуская от себя (мне было очень хорошо возле нее, я испытывала детскую радость, глядя на ее лицо, на ее платье, на скромные украшения, на белый лоб с густыми шелковистыми кудрями и лучистые темные глаза), продолжала, обращаясь к Элен Бернс:
— А ты как чувствуешь себя сегодня, Элен? Ты днем много кашляла?
— Не так много, сударыня.
— А боль в груди?
— Она теперь слабее.
Мисс Темпль встала, взяла ее за руку, сосчитала пульс; затем опять опустилась в свое кресло; при этом я услышала, как она тихонько вздохнула. Несколько минут она была погружена в задумчивость, потом, овладев собой, весело сказала:
— Ну, сегодня вы мои гости, и я должна принимать вас, как гостей.
Она позвонила.
— Барбара, — сказала она вошедшей горничной, — я еще не пила чаю. Принесите поднос и поставьте две чашки для этих двух молодых барышень.
Поднос был принесен. Какими красивыми казались мне фарфоровые чашки и ярко начищенный чайник, стоявший на маленьком круглом столике возле камина. Как благоухал горячий чай и поджаренный хлеб! Но, к сожалению (ибо я начинала испытывать голод), гренков оказалось очень мало. Мисс Темпль тоже обратила на это внимание.
— Барбара, — сказала она, — не можете ли вы принести нам побольше хлеба с маслом? Здесь на троих не хватит.
Барбара вышла, но вскоре вернулась.
— Сударыня, миссис Харден говорит, что она прислала обычную порцию.
К сведению читателей, миссис Харден была экономка; эта женщина, которой мистер Брокльхерст весьма доверял, вся состояла из китового уса и железа.
— Ну, хорошо, — отозвалась мисс Темпль, — мы как-нибудь обойдемся, Барбара. — И, когда девушка ушла, она пояснила улыбаясь: — К счастью, я могу добавить кое-что к этому скудному угощению.
Предложив мне и Элен сесть за стол, она поставила перед каждой из нас чашку чая с восхитительным, хотя и очень тоненьким кусочком поджаренного хлеба, а затем поднялась, отперла шкаф и вынула из него что-то завернутое в бумагу и оказавшееся большим сладким пирогом.
— Я хотела дать вам это с собою, когда вы уйдете, — сказала она, — но так как хлеба мало, то вы получите его сейчас, — и она нарезала пирог большими кусками.
Нам казалось в этот вечер, что мы питаемся нектаром и амброзией; немалую радость доставляло нам и присутствие ласковой хозяйки, которая с улыбкой смотрела на то, как мы утоляли свой голод, наслаждаясь столь изысканным и щедрым угощением. Когда мы кончили чай и поднос был убран, она снова подозвала нас к камину; мы сели по обе стороны от нее, и затем между мисс Темпль и Элен начался разговор, присутствовать при котором оказалось для меня действительно большой честью.
На всем облике мисс Темпль лежал отпечаток внутреннего покоя, ее черты выражали возвышенное благородство, она говорила неторопливо и с достоинством, исключавшим всякую несдержанность, порывистость, горячность; в ней было что-то, внушавшее тем, кто смотрел на нее и слушал се, чистую радость и чувство благоговейного почитания; таковы и сейчас были мои ощущения. Что касается Элен Бернс, то я не могла надивиться на нее.
Быть может, вкусный чай, яркое пламя камина, присутствие и ласка ее обожаемой наставницы были тому причиной, а может быть, сказались еще неизвестные мне черты ее своеобразной натуры, но в ней точно пробудились какие-то новые силы. Ее всегда бледные и бескровные щеки окрасились ярким румянцем, а глаза засияли влажным блеском, что придало им вдруг необычайную красоту, и они казались теперь красивее, чем глаза мисс Темпль, но поражал не их яркий блеск, не длинные ресницы и словно нарисованные брови — красота этих глаз была вся в их выражении, живости, сиянии. И вот сердце заговорило ее устами, и ее речь полилась из неведомых мне глубин, — ибо как может четырнадцатилетняя девочка иметь душу, достаточно сильную, чтобы из нее бил родник чистого, всеобъемлющего и пламенного красноречия? А именно такими казались мне рассуждения Элен в тот знаменательный вечер; словно ее дух стремился пережить в несколько часов все то, что у многих растягивается на целую долгую жизнь.
Они беседовали о предметах, о которых я никогда не слышала: о канувших в вечность временах и народах, о дальних странах, об уже открытых или едва подслушанных тайнах природы; они говорили о книгах. И сколько же книг они успели прочесть! Какими сокровищами знаний они владели! И как хорошо они, видимо, знали Францию и французских писателей! Однако мое изумление достигло предела, когда мисс Темпль спросила Элен, не пытается ли она в свободную минуту вспомнить латынь, которой ее учил отец, и затем, взяв с полки книгу, предложила ей перевести страничку Вергилия; девочка выполнила ее просьбу, и мое благоговение росло с каждым прочитанным стихом. Едва она успела кончить, как прозвонил звонок, возвещая о том, что настало время ложиться спать. Медлить было нельзя. Мисс Темпль обняла нас обеих и, прижав к своему сердцу, сказала:
— Бог да благословит вас, дети!
Она задержала мою подругу в своих объятиях чуть дольше, чем меня, и отпустила ее с большой неохотой; за Элен, а не за мною следили ее глаза, когда мы шли к двери, о ней она второй раз тяжело вздохнула, из-за нее отерла слезу.
Едва войдя в спальню, мы услышали голос мисс Скетчерд. Она осматривала ящики комода и только что обнаружила беспорядок в вещах Элен Бернс. Встретив девочку резким замечанием, она тут же пригрозила, что завтра приколет к ее плечу с полдюжины неаккуратно сложенных предметов.
— Мои вещи действительно были в позорном беспорядке, — прошептала мне Элен. — Я хотела убрать их, но забыла.
На другой день мисс Скетчерд написала крупными буквами на куске картона слово «неряха» и украсила этой надписью широкий, умный и спокойный лоб девочки. Та ходила с ним до вечера, терпеливо и кротко, считая, что заслужила наказание. Едва мисс Скетчерд, закончив вечерние уроки, ушла, как я подбежала к Элен, сорвала картон и швырнула его в камин. Ярость — чувство, совершенно ей незнакомое, — жгла меня весь день, и горячие, крупные слезы то и дело набегали на глаза, ибо зрелище этого смирения причиняло мне невыносимую боль.
Примерно неделю спустя после описанных событий мисс Темпль получила от мистера Ллойда ответ на свое письмо, видимо, подтвердивший правоту моих слов. Собрав всю школу, мисс Темпль объявила, что в связи с обвинением, выдвинутым против Джен Эйр, было произведено самое тщательное расследование, и она счастлива, что может заявить перед всеми о моем полном оправдании. Учительницы окружили меня. Все жали мне руки и целовали меня, а по рядам моих подруг пробежал шепот удовлетворения.
Таким образом, с меня была снята мучительная тяжесть, и я с новыми силами принялась за работу, твердо решив преодолеть все препятствия. Я упорно трудилась, и мои усилия увенчались успехом; постоянные занятия укрепляли мою память и развивали во мне ум и способности. Через две-три недели я была переведена в следующий класс, а меньше чем через два месяца мне было разрешено начать уроки французского языка и рисования. Помню, что в один день я выучила первые два времени глагола etre[6] и нарисовала свой первый домик (его стены были так кривы, что могли поспорить с Пизанской башней). Вечером, ложась в постель, я даже забыла представить себе роскошный ужин из жареной картошки или же из булки и парного молока — мои излюбленные яства, которыми я обычно старалась в воображении утолить постоянно мучивший меня голод. Вместо этого я представляла себе в темноте прекрасные рисунки, и все они были сделаны мной: дома и деревья, живописные скалы и развалины, стада на пастбище во вкусе голландских живописцев, пестрые бабочки, трепещущие над полураскрытыми розами, птицы, клюющие зрелые вишни, или окруженное молодыми побегами плюща гнездо королька с похожими на жемчуг яйцами. Я старалась также прикинуть в уме, скоро ли я смогу переводить французские сказки, томик которых мне сегодня показывала мадам Пьеро; однако я не успела всего додумать, так как крепко уснула.
Прав был Соломон, сказав: «Угощение из зелени, но при любви лучше, нежели откормленный бык, но при нем ненависть».
Теперь я уже не променяла бы Ловуд со всеми его лишениями на Гейтсхэд с его навязчивой роскошью.
Глава IX
Однако лишения, вернее — трудности жизни в Ловуде становились все менее ощутимы. Приближалась весна. Она пришла незаметно. Зимние морозы прекратились, снега растаяли, ледяные ветры потеплели. Мои несчастные ноги, обмороженные и распухавшие в дни резких январских холодов, начали заживать под действием мягкого апрельского тепла. Ночью и утром уже не было той чисто канадской температуры, от которой застывает кровь в жилах. Час, предназначенный для игр, мы теперь охотнее проводили в саду, а в солнечные дни пребывание там становилось просто удовольствием и радостью; зеленая поросль покрывала темно-бурые клумбы и с каждым днем становилась все гуще, словно ночами здесь проносилась легкокрылая надежда, оставляя наутро все более явственный след. Между листьев проглянули цветы — подснежники, крокусы, золотистые анютины глазки. По четвергам, когда занятия кончались, мы предпринимали далекие прогулки и находили еще более прелестные цветы по обочинам дороги и вдоль изгородей.
Я открыла также бесконечное удовольствие в созерцании вида — его ограничивал только горизонт, — открывавшегося поверх высокой, утыканной гвоздями ограды нашего сада: там тянулись величественные холмы, окружавшие венцом глубокую горную долину, полную яркой зелени и густой тени, а на каменистом темном ложе ее шумела веселая речушка, подернутая сверкающей рябью. Совсем иным казался этот пейзаж под свинцовым зимним небом, скованный морозом, засыпанный снегом! Тогда из-за фиолетовых вершин наплывали туманы, холодные, как смерть, их гнали восточные ветры, и они стлались по склонам и сливались с морозной мглой, стоявшей над речкой, и сама речка неслась тогда бурно и неудержимо. Она мчалась сквозь лес, наполняя окрестности своим ревом, к которому нередко примешивался шум проливного дождя или вой вьюги, а по берегам стояли рядами остовы мертвых деревьев.
Апрель сменился маем. Это был ясный и кроткий май. Каждый день ярко синело небо, грели мягкие солнечные лучи, и ласковые ветерки дули с запада или юга. Растительность мощно пробивалась повсюду. Ловуд встряхивал своими пышными кудрями, он весь зазеленел и расцвел. Его высокие тополя и дубы вновь ожили и облеклись в величественные зеленые мантии, кусты в лесу покрылись листьями, бесчисленные виды мхов затянули бархатом каждую ямку, а золотые первоцветы казались лучами солнца, светившими с земли. В тенистых местах их бледное сияние походило на брызги света. Всем этим я наслаждалась часто, долго, беспрепятственно и почти всегда в одиночестве, — эта неожиданная возможность пользоваться свободой имела свою особую причину, о которой пора теперь сказать.
Разве описанная мною восхитительная местность среди гор и лесов, в речной излучине не напоминала райский уголок? Да, она была прекрасна; но здорова ли — это другой вопрос.
Лесная долина, где находился Ловуд, была колыбелью ядовитых туманов и рождаемых туманами болезней. И сейчас началась эпидемия тифа; болезнь распространялась и росла по мере того, как расцветала весна; заползла она и в наш сиротский приют — многолюдная классная и дортуары оказались рассадником заразы; и не успел еще наступить май, как школа превратилась в больницу.
Полуголодное существование и застарелые простуды создали у большинства воспитанниц предрасположение к заболеванию — из восьмидесяти девочек сорок пять слегли одновременно. Уроки были прерваны, правила распорядка соблюдались менее строго, и те немногие, что еще не заболели, пользовались неограниченной свободой. Врач настаивал на том, что им для сохранения здоровья необходимо как можно дольше находиться на открытом воздухе; но и без того ни у кого не было ни времени, ни охоты удерживать нас в комнатах. Все внимание мисс Темпль было поглощено больными: она все время находилась в лазарете и уходила только ночью на несколько часов, чтобы отдохнуть. Все остальные учителя были заняты сборами в дорогу тех немногих девочек, которые, по счастью, имели друзей или родственников, согласившихся взять их к себе. Однако многие были уже заражены и, вернувшись домой, вскоре умерли там. Другие умерли в школе, и их похоронили быстро и незаметно, так как опасность распространения эпидемии не допускала промедления.
В то время как жестокая болезнь стала постоянной обитательницей Ловуда, а смерть — его частой гостьей, в то время как в его стенах царили страх и уныние, а в коридорах и комнатах стояли больничные запахи, которые нельзя было заглушить ни ароматичными растворами, ни курениями, — над крутыми холмами и кудрявыми рощами сиял безмятежный май. В саду цвело множество мальв ростом чуть не с дерево, раскрывались лилии, разноцветные тюльпаны и розы, маленькие клумбы были окружены веселой темно-розовой каймой маргариток. По вечерам и по утрам благоухал шиповник, от него пахло яблоками и пряностями. Но в большинстве своем обитатели Ловуда не могли наслаждаться этими дарами природы, и только мы носили на могилы умерших девочек пучки трав и цветов.
Однако те дети, которые оставались здоровыми, полностью наслаждались красотой окрестностей и сияющей весной. Никто не обращал на нас внимания, и мы как цыгане, с утра до ночи бродили по долинам и рощам. Мы делали все, что нам нравилось, и шли, куда нас влекло. Условия нашей жизни тоже стали лучше. Ни мистер Брокльхерст, ни его семейство не решались даже приблизиться к Ловуду. Никто не надзирал за хозяйством, злая экономка ушла, испугавшись эпидемии. Ее заместительница, которая раньше заведовала лоутонским лазаретом, еще не переняла ее обычаев и была щедрее, да и кормить приходилось гораздо меньше девочек: больные ели мало. Во время завтрака наши мисочки были налиты до краев. Когда кухарка не успевала приготовить настоящий обед, а это случалось довольно часто, нам давали по большому куску холодного пирога или ломоть хлеба с сыром, и мы уходили в лес, где у каждой из нас было свое излюбленное местечко, и там с удовольствием съедали принесенное.
Я больше всего любила гладкий широкий камень, сухой и белый, лежавший посредине ручья; к нему можно было пробраться только по воде, и я переходила ручей босиком. На камне хватало места для двоих, и мы располагались на нем с моей новой подругой. Это была некая Мери-Энн Вильсон, неглупая и наблюдательная девочка; ее общество мне нравилось — она была большая шутница и оригиналка, и я чувствовала себя с ней просто и легко. Мери-Энн была на несколько лет старше меня, больше знала жизнь, ее рассказы были для меня интересны, и она умела удовлетворить мое любопытство. Будучи снисходительна к моим недостаткам, она никогда не удерживала и не порицала меня. У нее был дар повествования, у меня — анализа; она любила поучать, я — спрашивать. Поэтому мы прекрасно ладили, и если это общение и не приносило нам особой пользы, оно было приятно.
А где же была Элен Бернс? Отчего я не с ней проводила эти сладостные дни свободы? Разве я забыла ее? Или я была так легкомысленна, что начала тяготиться ее благородной дружбой? Конечно, Мери-Энн Вильсон была несравнима с моей первой подругой: она рассказывала занятные истории и охотно болтала и шутила со мной, в то время как Элен всегда умела пробудить в тех, кто имел счастье общаться с ней, интерес к возвышенному.
Все это верно, читатель; и я это прекрасно знала и чувствовала. Хотя я и очень несовершенное создание, с многочисленными недостатками, которые вряд ли могут искупить мои слабые достоинства, я никогда бы не устала от общества Элен Бернс; в моей душе продолжало жить чувство привязанности к ней, такое сильное, нежное и благоговейное, какое я редко потом испытывала. Да и как могло быть иначе, ведь Элен всегда и при всех обстоятельствах дарила мне спокойную, верную дружбу, которую не могло смутить или ослабить ни раздражение, ни непонимание. Но Элен была больна: вот уже несколько недель, как мы с ней не виделись; я даже не знала, в какой комнате верхнего этажа она находится. Ее не положили, как я выяснила, в лазарет, где лежали тифозные больные, ибо у нее была чахотка, а не тиф. Мне же, по моему неведению, чахотка представлялась чем-то очень безобидным, такой болезнью, которую уход и время могут излечить.
Эту уверенность поддерживало во мне и то обстоятельство, что в солнечные дни ее иногда выносили в сад; но и тут мне не разрешалось приближаться к ней и разговаривать; я видела ее только из школьного окна и притом очень неясно: она была закутана в одеяло и сидела довольно далеко от меня, в саду возле веранды.
Однажды, в начале июля, мы с Мери-Энн очень поздно загулялись в лесу; отделившись, как обычно, от остальных, мы забрели в глушь так далеко, что начали плутать и вынуждены были, чтобы расспросить о дороге, зайти в уединенный домик, где жили мужчина и женщина, пасшие в этом лесу стадо полудиких свиней. Когда мы наконец вернулись домой, уже всходила луна. У ворот дома мы увидели лошадь, которая, как мы знали, принадлежала врачу. Мери-Энн высказала предположение, что, вероятно, кому-нибудь стало очень худо, если за мистером Бейтсом послали так поздно. Она вошла в дом, а я еще задержалась в саду, чтобы посадить несколько кустиков растений, принесенных из леса, так как боялась, что они завянут, если я это отложу до утра. Закончив посадку, я все еще медлила вернуться в комнаты: садилась роса, и цветы благоухали особенно нежно. Вечер был такой чудесный, спокойный, теплый; все еще алевший закат обещал и на завтра ясный день. Луна величественно всходила на потемневшем востоке. Я наслаждалась всем этим, как настоящее дитя, и вдруг во мне с небывалой остротой мелькнула мысль:
«Как грустно сейчас лежать в постели, зная, что тебе грозит смерть. Ведь этот мир прекрасен! Как тяжело быть из него отозванной, уйти неведомо куда!»
И тут я впервые попыталась осмыслить привитые мне представления о небе и аде и отступила растерянная; впервые, оглядевшись кругом, я увидела повсюду зияющую бездну. Незыблемой была только одна точка — настоящее; все остальное рисовалось мне в виде бесформенных облаков и зияющей пропасти; и я содрогнулась от ужаса перед возможностью сорваться и рухнуть в хаос. Погруженная в эти размышления, я вдруг услышала, как открылась парадная дверь: вышел мистер Бейтс, а с ним одна из нянек. Он сел на лошадь и уехал, и она уже собиралась запереть дверь, когда я подбежала к ней.
— Как чувствует себя Элен Бернс?
— Очень плохо, — ответила она.
— Это к ней приезжал мистер Бейтс?
— Да.
— А что он говорит?
— Он говорит, что ей уже недолго быть с нами.
Эта фраза, услышь я ее вчера, вызвала бы во мне только мысль, что Элен собираются отправить домой, в Нортумберленд. Я бы не заподозрила в этих словах намек на ее близкую смерть; но сейчас я поняла это сразу. Мне тут же стало ясно, что дни Элен Бернс сочтены и что она скоро уйдет в царство духов, — если это царство существует. Меня охватил ужас, затем я почувствовала приступ глубокой скорби, затем желание, просто потребность увидеть ее; и я спросила, в какой комнате она лежит.
— Она в комнате у мисс Темпль, — сказала няня.
— А можно мне пойти поговорить с ней?
— О нет, девочка. Едва ли это возможно. Да и тебе пора домой. Ты тоже заболеешь, если останешься в саду, когда выпала роса.
Няня заперла парадную дверь. Я направилась по коридору в классную комнату. Как раз пробило девять, и мисс Миллер звала воспитанниц в дортуар.
Прошло не больше двух часов. Было, вероятно, около одиннадцати. Чувствуя, что я не в силах заснуть, и убедившись по наступившей в спальне тишине, что мои подруги крепко спят, я неслышно поднялась, надела платье поверх ночной рубашки, босиком прокралась к двери и отправилась в ту часть здания, где была комната мисс Темпль. Мне надо было пройти в другой конец корпуса, но я знала дорогу, а лившийся в окна яркий свет сиявшей в чистом небе летней луны освещал мне путь. Резкий запах камфоры и древесного уксуса подсказал мне, что я прохожу мимо тифозной палаты, — и я миновала дверь как можно быстрее, опасаясь, как бы дежурная няня не заметила меня. Больше всего на свете я боялась, что кто-нибудь заставит меня вернуться. Я должна была увидеть Элен! Я должна была обнять ее перед смертью, поцеловать в последний раз, обменяться с ней последним словом!
Я спустилась по лестнице, прошла длинным коридором, бесшумно открыла и притворила две двери и, наконец, дошла до другой лестницы; поднявшись по ней, я оказалась прямо перед комнатой мисс Темпль. Сквозь замочную скважину и из-под двери просачивался свет. Царила глубокая тишина. Подойдя еще ближе, я увидела, что дверь слегка приоткрыта, — вероятно, для того, чтобы пропустить хоть немного свежего воздуха в эту обитель болезни. Полная решимости и нетерпения, взволнованная до глубины души, я с трепетом открыла дверь. Мои взоры искали Элен и опасались увидеть смерть.
Рядом с кроватью мисс Темпль, полускрытая белым пологом, стояла маленькая кровать. Я увидела под простыней очертания лежавшей Элен, но ее лицо заслонял полог. Няня, с которой я говорила в саду, спала в кресле, на столе тускло горела свеча. Мисс Темпль нигде не было видно. Впоследствии я узнала, что ее вызвали в тифозную палату к бредившей девочке. Я осторожно подошла к кровати и остановилась возле нее; рука моя уже коснулась полога, но я решила сначала заговорить, а потом уже отдернуть его. Мною все еще владел страх, что я увижу мертвое тело.
— Элен, — прошептала я тихо, — ты не спишь?
Она приподнялась, откинула полог, и я увидела ее лицо — бледное, изможденное, но совершенно спокойное. Она так мало изменилась, что мои опасения тотчас же рассеялись.
— Неужели это ты, Джен? — спросила она своим обычным кротким голосом.
«О нет, — подумала я, — она не умирает, они ошибаются! У нее такое ясное лицо и такой спокойный голос; этого не может быть!»
Я села на кровать и поцеловала ее. Лоб у нее был холодный, лицо заметно похудело, а также пальцы и кисти рук; но она улыбалась по-старому.
— Как ты попала сюда, Джен? Ведь уже двенадцатый час, я слышала, как пробило одиннадцать несколько минут назад.
— Я пришла повидать тебя, Элен: я узнала, что ты очень больна, и не могла уснуть, не поговорив с тобой.
— Значит, ты пришла проститься, и, вероятно, как раз вовремя.
— Ты разве уезжаешь куда-нибудь, Элен? Ты едешь домой?
— Да, я собираюсь в длинную дорогу, в мой последний дом.
— Нет, нет, Элен! — остановила я ее с отчаянием, стараясь сдержать слезы. В это время у Элен начался приступ кашля, однако няня не проснулась; когда приступ кончился, Элен пролежала несколько минут в полном изнеможении, затем шепнула:
— Джен, у тебя ножки озябли. Ложись со мной и укройся моим одеялом.
Я так и сделала. Она охватила меня рукой, и я прижалась к ней. После долгого молчания она продолжала, все так же шепотом:
— Я очень счастлива, Джен, и когда ты узнаешь, что я умерла, будь спокойна и не грусти, — грустить не о чем. Все мы когда-нибудь умрем, а моя болезнь не такая уж мучительная, она незаметно и мягко сводит меня в могилу. Моя душа спокойна. Я не оставляю никого, кто бы сильно горевал обо мне: у меня есть только отец, но он недавно женился и не очень будет скучать. Я умираю молодой и потому избегну многих страданий. У меня нет тех способностей и талантов, которые помогают пробить себе дорогу в жизни. Я вечно попадала бы впросак.
— Но куда же ты уходишь, Элен? Разве ты видишь, разве ты знаешь?
— Я верю и надеюсь: я иду к богу.
— А где бог? Что такое бог?
— Мой творец и твой, он никогда не разрушит того, что создал. Я доверяюсь его всемогуществу и его доброте. Я считаю часы до той великой минуты, когда возвращусь к нему.
— Значит, ты уверена, что есть такое место на небе, и что наши души попадут туда, когда мы умрем?
— Я убеждена, что есть будущая жизнь, и я верю, что бог добр.
— А я увижусь с тобой, Элен, когда умру?
— Ты достигнешь той же обители счастья; ты будешь принята тем же всемогущим и вездесущим отцом, не сомневайся в этом, дорогая Джен.
Снова я спросила, но на этот раз лишь мысленно: где же эта обитель и существует ли она? И я крепче обняла мою подругу, — она казалась мне дороже, чем когда-либо, я не в силах была расстаться с ней. Я лежала, прижавшись лицом к ее плечу. Вдруг она сказала с невыразимой нежностью:
— Как мне хорошо! Этот последний приступ кашля немного утомил меня; кажется, мне удастся заснуть. Но ты не уходи, Джен; мне хочется, чтобы ты была со мной.
— Я останусь с тобой, моя дорогая Элен, никто не разлучит нас.
— Ты согрелась, детка?
— Да.
— Спокойной ночи, Джен!
— Спокойной ночи, Элен!
Мы поцеловались, и скоро обе задремали.
Когда я проснулась, был уже день. Меня разбудило ощущение, что я куда-то лечу; я открыла глаза и увидела, что кто-то несет меня на руках: это была няня, она несла меня по коридору в дортуар. Я не получила выговора за то, что ночью убежала к Элен, — окружающим было не до этого. Никто не отвечал на мои бесчисленные вопросы. Но день-два спустя я узнала, что мисс Темпль, вернувшись на рассвете в свою комнату, нашла меня в кроватке Элен. Моя голова покоилась на ее плече, мои руки обнимали ее шею. Я спала, — Элен же была мертва.
Ее могила — на брокльбриджском кладбище. В течение пятнадцати лет над этой могилой был только зеленый холмик, но теперь там лежит серая мраморная плита, на которой высечено ее имя и слово «Resurgam»[7].
Глава X
До сих пор я описывала события моего неприметного существования во всех подробностях: первым десяти годам моей жизни я посвятила почти столько же глав. Но я не собираюсь давать здесь настоящую автобиографию и обращаюсь к своим воспоминаниям только в тех случаях, когда они могут представить какой-то интерес. Поэтому я обхожу молчанием период жизни в целых восемь лет, ибо для связности моего повествования достаточно будет нескольких строк.
Когда тиф выполнил в Ловуде свою опустошительную миссию, эпидемия постепенно угасла, — но лишь после того, как число ее жертв привлекло к нашей школе внимание общества. Было произведено расследование и обнаружены факты, вызвавшие глубокое возмущение. Нездоровая местность, скверная пища, которой кормили детей, и ее недостаточность, гнилая стоячая вода, убогая одежда и тяжелые условия жизни — когда все эти обстоятельства были обнаружены, они послужили не к чести мистера Брокльхерста, но нашей школе это пошло на пользу.
Группа богатых и благожелательных лиц, проживавших в этом графстве, пожертвовала крупные суммы на постройку более удобного здания в более здоровой местности. Были установлены новые правила, введены улучшения в питании и одежде, фонды школы были переданы комитету из доверенных лиц. Конечно, мистер Брокльхерст благодаря своему богатству и связям не мог быть отстранен совсем и остался казначеем, но близкое участие в делах школы приняли теперь и другие люди, более широких и просвещенных взглядов; точно так же и свои обязанности инспектора он должен был делить с теми, кто умел сочетать бережливость с благожелательностью и душевную твердость с состраданием. Школа, в которую были введены все эти новшества, стала затем действительно полезным и уважаемым учреждением. После ее преобразования я пробыла в ней восемь лет: шесть — в качестве ученицы и два года в качестве учительницы; и я могу на основании этого двустороннего опыта свидетельствовать, что дело в ней было поставлено хорошо и она приносила несомненную пользу. В течение этих восьми лет жизнь моя протекала однообразно. Однако ее нельзя было назвать несчастливой, так как она была деятельна; мне были даны все возможности получить прекрасное образование. Я любила некоторые предметы, стремилась преуспевать во всех, а также находила большую радость в том, чтобы получать одобрение моих наставниц, особенно тех, кого я ценила; таким образом, я не пренебрегала ни одной из предоставленных мне возможностей. В старшем классе я стала первой ученицей; потом мне была доверена работа учительницы, и я выполняла ее с большим усердием в течение двух лет. Но затем во мне произошла перемена.
Все это время мисс Темпль продолжала оставаться директрисой. Ей я обязана лучшей частью моих познаний; ее дружба, беседы с ней доставляли мне неизменную радость; она заменяла мне мать, наставницу, а позднее и подругу. Однако в то время, которое я описываю, она вышла замуж и вместе со своим мужем (священником и превосходным человеком, достойным такой жены) уехала в отдаленное графство — и, таким образом, была для меня потеряна.
С того самого дня, как она уехала, я стала другой: с ней исчезли все привязанности, которые делали для меня Ловуд чем-то вроде родного дома. Я впитала в себя что-то от ее натуры, многое из ее особенностей — более серьезные мысли, более гармонические чувства. Я приучилась к выполнению своего долга и к порядку. И я была спокойна, веря, что удовлетворена своей жизнью. В глазах других, а зачастую и в моих собственных, я казалась человеком дисциплинированным и уравновешенным.
Однако судьба в образе достопочтенного мистера Нэсмита стала между мной и мисс Темпль. Мне суждено было увидеть, как она после совершения брачной церемонии, одетая по-дорожному, садится в почтовую карету. Я следила глазами, как эта карета поднимается на холм и затем исчезает за его хребтом. Затем я удалилась к себе и провела в одиночестве большую половину этого дня, так как в честь мисс Темпль уроки были частично отменены.
Я долго ходила взад и вперед по комнате. Мне казалось, что я предаюсь только сожалениям о своей утрате и стараюсь придумать, как бы ее возместить. Но когда, очнувшись от этих мыслей, я увидела, что день прошел и уже наступил вечер, мне открылось и другое: а именно, что за эти часы размышлений во мне самой произошла глубокая перемена, моя душа сбросила с себя все, что она позаимствовала у мисс Темпль, — вернее, моя дорогая наставница унесла с собой ту атмосферу мира и тишины, которой я дышала в ее присутствии, и теперь, оставшись наедине с собой, я вновь стала такой, какой была на самом деле, и во мне проснулись былые чувства. Не то, чтобы я лишилась опоры, — но угас какой-то внутренний стимул; не спокойствие покинуло меня, но исчезли основания для этого спокойствия. В течение ряда лет мой мир был ограничен стенами Ловуда: я ничего не знала, кроме его правил и обычаев. Теперь же я вспомнила, что мир необъятен и что перед теми, кто отважится выйти на его простор, чтобы искать среди опасностей подлинного знания жизни, открывается широкое поле для надежд, страхов, радостей и волнений.
Я подошла к окну и открыла его. Вот они, оба крыла столь знакомого мне дома; вот и сад; вон границы Ловуда, а дальше — гористый горизонт… Мои глаза миновали все остальное и остановились на самом дальнем — на голубых вершинах: через них хотелось мне перебраться. Все заключенное в пределах этих скал и пустынных лесов показалось мне тюрьмой. Я следила взором за белой дорогой, извивавшейся вокруг подошвы одной из гор и исчезавшей в ущелье между двумя склонами: как хотелось мне уйти по этой дороге! Я вспомнила тот день, когда ехала по ней в дилижансе, вспомнила, как мы спускались по ней в сумерках. Целый век, казалось мне, прошел с того дня, когда я впервые очутилась в Ловуде, а с тех пор я его уже не покидала. Каникулы я проводила в школе: миссис Рид никогда не приглашала меня в Гейтсхэд; ни она и никто из членов ее семьи ни разу не навестили меня. Ни письма, ни весточки из внешнего мира. Школьные правила, школьные обязанности, школьные привычки и понятия, те же голоса, лица, слова, те же одежды, симпатии и предубеждения — вот и все, что я знала о жизни. А теперь я чувствовала, что всего этого недостаточно. В этот вечер я ощутила усталость от восьмилетней рутины. Я хотела свободы, я жаждала ее. И я стала молиться о том, чтобы мне была дарована свобода. Но, казалось, слабое дыхание ветерка унесло мою молитву. Затем я стала просить о более скромном даре — о новом стимуле, о перемене. Но и эту просьбу точно развеяло в пространстве. Тогда я воскликнула почти в отчаянии: «Пошли мне хотя бы новое место!»
В это время зазвонил колокол к ужину, и мне пришлось сойти вниз.
Я не могла возобновить прерванный ход моих мыслей до тех пор, пока не улеглась в постель; но даже и тогда учительница, жившая со мной в комнате, ежеминутно отвлекала меня своей болтовней от тех вопросов, в которые я жаждала углубиться. Как я желала, чтобы мисс Грайс поскорей заснула! Казалось, стоит мне вернуться к той мысли, которая пришла мне в голову последней, когда я стояла у окна, и мне непременно откроется какой-то выход.
Наконец мисс Грайс захрапела. Это была тучная валлийка, ее носовые рулады всегда досаждали мне. Сегодня же я обрадовалась этим басовым звукам: наконец-то меня оставят в покое! Мои недодуманные мысли сразу ожили.
«Новое место! Это выход, — рассуждала я (разумеется, про себя). — Это, несомненно, выход! Именно потому, что это звучит не слишком заманчиво. Не то, что сладостные слова — свобода, восторг, радость… Для меня они только звук пустой; они настолько далеки и нереальны, что прислушиваться к ним — значит попусту терять время. А вот работа — это нечто реальное. Трудиться может всякий. Я здесь трудилась восемь лет, и все, чего я хочу теперь, — это работать где-нибудь в другом месте. Неужели я даже этого не смогу добиться? Разве мое желание невыполнимо? Нет, нет, это в конце концов вовсе не так трудно, надо только пораскинуть умом, как лучше взяться за дело».
И я села на кровати, чтобы хорошенько все обдумать. Ночь была холодная, я закуталась в платок и снова принялась усиленно размышлять.
«Чего я хочу? Нового места, жить в другом доме, среди новых лиц, в новых обстоятельствах. Я хочу этого потому, что желать другого бесполезно. Каким образом люди получают места? Они, видимо, обращаются к друзьям; у меня же нет никого. Но ведь немало людей, у которых тоже нет никого на свете; они все должны делать сами, сами себе помогать; как же они поступают?»
Я не знала, и ничто не подсказывало мне ответа. Напрасно я понукала свой мозг, чтобы он работал; я чувствовала, как кровь стучит у меня в висках. Примерно с час мысли мои были погружены в хаос, все путалось в голове, и я не могла прийти ни к какому выводу. Разгоряченная тщетными усилиями, я встала и начала ходить по комнате; отдернув занавеску, я увидела в небе несколько звезд и, наконец почувствовав, что окончательно продрогла, забралась под одеяло.
Однако в мое отсутствие добрая фея, видно, положила на мою подушку тот ответ, которого я так добивалась. Едва я опустила на нее голову, как в моем сознании спокойно и отчетливо прозвучали слова: «Те, кто ищет службы, дают объявление в „…ширском вестнике“».
Но как? Я не знала, как даются объявления.
И снова последовал быстрый и точный ответ:
«Запечатай текст объявления и деньги в конверт и адресуй издателю „Вестника“; отнеси его при первой возможности на почту в Лоутон; адрес для ответа дай: „до востребования, Лоутонское почтовое отделение, на имя Дж. Э.“. Ты можешь пойти туда справиться примерно через неделю после того, как пошлешь письмо. Если получишь ответ, в соответствии с ним и будешь действовать».
Я продумала этот план дважды, трижды, во всех деталях и, почувствовав удовлетворение, наконец заснула. Я проснулась очень рано; и еще не успел прозвонить звонок, как объявление было составлено, запечатано в конверт и надписан адрес. Оно гласило:
«Молодая особа, имеющая преподавательский опыт (разве я не была два года учительницей?), ищет место в частном доме к детям не старше четырнадцати лет. (Я решила, что, так как мне самой всего восемнадцать, было бы неразумно брать на себя руководство учениками почти моего возраста.) Кроме общих предметов, входящих в школьную программу, преподает также французский язык, рисование и музыку. (Теперь, читатель, этот список предметов обучения показался бы весьма ограниченным, но тогда он был обычен.)
Адрес: Лоутон, в …ширском графстве, до востребования Дж. Э.»
Объявление пролежало весь день в моем ящике; после чая я попросила у новой директрисы разрешения пойти в Лоутон, чтобы сделать кое-какие покупки для себя и для двух-трех учительниц; она охотно отпустила меня, и я пустилась в путь. До Лоутона было две мили; день стоял сырой, но темнело еще не слишком рано. Я зашла в несколько лавок, опустила письмо в почтовый ящик и возвратилась под проливным дождем, промокшая до нитки, но с облегченным сердцем.
Следующая неделя мне показалась очень длинной. Наконец она прошла, как и все под луной, и вот я на склоне ясного осеннего дня опять оказалась на дороге, ведущей в Лоутон. Дорога эта была очень живописна, она шла вдоль речки, послушно следуя прихотливым извивам ее русла; но в тот день я больше думала о письмах, которые, может быть, ждут меня в соседнем городке, чем о прелести лесов и вод.
Предлогом для моего путешествия послужила на этот раз примерка башмаков; я быстро покончила с этим делом, а затем прошла маленькую тихую уличку, которая вела от лавки башмачника к почте. Почтой заведовала старушка в черных роговых очках и черных митенках.
— Скажите, пожалуйста, нет ли писем на имя Дж. Э.?
Она пристально посмотрела на меня поверх очков, открыла какой-то ящик, принялась шарить в нем и шарила так долго, что мои надежды начали уже угасать. Но вот она вынула оттуда конверт и в течение пяти минут изучала его самым внимательным образом. Затем она протянула мне письмо через стол, окинув меня пристальным и недоверчивым взглядом. Конверт был адресован на имя Дж. Э.
— Только одно? — спросила я.
— Больше нет, — отвечала она.
Я положила письмо в карман и направилась домой. У меня не было возможности вскрыть его сейчас же: правила школы требовали, чтобы я вернулась ровно в восемь, а было уже половина восьмого.
По моему возвращению меня ждали самые разнообразные обязанности: я должна была сидеть с воспитанницами во время приготовления ими уроков; затем была моя очередь читать молитву; затем я присутствовала при том, как они ложатся спать; затем ужинала вместе с остальными учительницами. И даже тогда, когда мы, наконец, разошлись по своим комнатам, мне еще предстояло выслушивать мисс Грайс. У нас был только огарок свечи, и я опасалась, что она проболтает до тех пор, пока от него ничего не останется. К счастью, плотный ужин оказал на мисс Грайс снотворное действие: не успела я раздеться, как она уже захрапела. В подсвечнике оставался еще кусочек свечи. И вот я, наконец, извлекла письмо; на печати была буква Ф. Я вскрыла его; письмо было очень кратким:
«Если Дж. Э., поместившая объявление в „…ширском вестнике“ от последнего четверга, обладает всеми перечисленными ею данными и если она в состоянии представить удовлетворительные рекомендации относительно своего поведения и своих познаний, ей может быть предложено место воспитательницы к девятилетней девочке с вознаграждением в 30 фунтов за год. Просьба к Дж. Э. прислать указанные рекомендации, а также сообщить свое имя и фамилию, местожительство и другие необходимые сведения по адресу:
Миссис Фэйрфакс, Торнфильд, близ Милкота, в …ширском графстве».
Я долго рассматривала письмо; почерк был старомодный и довольно неуверенный, — так могла бы писать пожилая дама. Это обстоятельство меня обрадовало: я все время опасалась, как бы, действуя на свой страх и риск, не попасть в какую-нибудь неприятную историю, и больше всего на свете желала, чтобы мои поиски привели к чему-то достойному, приличному, en regle[8]. «Пожилая дама, — рассуждала я, — это уже недурно».
Миссис Фэйрфакс! Я видела ее перед собой в черном платье и вдовьем чепце; может быть, несколько суховатая, но вежливая, — образец старомодной английской респектабельности, Торнфильд! Так, очевидно, называлось ее имение; вероятно, чистенькая, красивая усадьба, хотя вообразить ее мне было очень трудно. Милкот, в …ширском графстве — я мысленно представила себе карту Англии. Да, вот они где — и графство, и город; на семьдесят миль ближе к Лондону, чем та отдаленная окраина, где я сейчас жила. Это обстоятельство привлекало меня. Мне хотелось видеть вокруг себя жизнь и движение; ведь Милкот большой фабричный город, расположенный на берегах реки А.; там, наверно суетливо и шумно, но тем лучше. Во всяком случае, это будет нечто совсем другое, чем здесь. Нельзя сказать, чтобы мое воображение было особенно пленено предстоящим зрелищем высоких фабричных труб и облаков черного дыма, но, размышляла я, Торнфильд, вероятно, находится далеко от города.
В эту минуту огарок догорел, и комната погрузилась во мрак.
На следующий день надо было предпринимать дальнейшие шаги. Я уже не могла больше таить свои планы, чтобы добиться их свершения, приходилось поделиться ими с окружающими.
Принятая директрисой во время полуденной перемены, я сказала ей, что собираюсь поступить на другое место, где жалованье будет вдвое больше того, которое мне платят здесь (в Ловуде я получала только пятнадцать фунтов в год); и я просила ее изложить мое дело мистеру Брокльхерсту или кому-нибудь другому из членов комитета, с тем чтобы заручиться для меня рекомендацией. Директриса любезно согласилась быть посредницей. На следующий день она рассказала обо всем мистеру Брокльхерсту, который ответил, что надо написать миссис Рид, так как она моя опекунша. Этой даме было отправлено соответствующее письмо, на которое она ответила, что я могу поступать, как хочу, ибо она уже давно отказалась от какого-либо вмешательства в мои дела. Письмо обошло всех членов комитета, это казалось мне ужасной проволочкой времени, — но я наконец все же получила официальное разрешение изменить к лучшему свою судьбу, если для этого представится случай; кроме того, мне обещали, что, поскольку я всегда вела себя хорошо и как учительница и как ученица, мне будет выдана соответствующая характеристика и свидетельство о моих познаниях за подписью инспектора нашего учреждения.
Этот документ я через месяц получила на руки и послала копию с него миссис Фэйрфакс, которая ответила мне, что она удовлетворена полученными сведениями и через две недели предлагает мне занять место гувернантки у нее в доме.
Я приступила к сборам, и две недели промелькнули незаметно. Мой гардероб был не особенно разнообразен, хотя вполне соответствовал моим потребностям, и я в один день успела уложить свой чемодан, тот самый, который восемь лет тому назад привезла из Гейтсхэда.
Чемодан затянули ремнями и наклеили на него ярлык. Через полчаса носильщик должен был отнести его в Лоутон, а я сама предполагала на следующее утро отправиться туда пешком, чтобы сесть в дилижанс. Я вычистила свое черное дорожное платье, приготовила шляпку, перчатки и муфту, осмотрела все ящики, чтобы убедиться, не забыто ли что-нибудь; и, наконец, когда все дела были кончены, присела, чтобы хоть немного отдохнуть. Однако мне не сиделось на месте, хотя я и провела весь день на ногах. Я ни на минуту не могла успокоиться, волнение не покидало меня. Ведь сегодняшним днем заканчивался целый период моей жизни, а завтра начинался другой, и я уже приготовилась провести без сна эту разделявшую их ночь, лихорадочно наблюдая за тем, как совершается во мне переход от одного периода к другому.
— Мисс, — сказала горничная, встретив меня в вестибюле, где я металась, словно беспокойный дух, — вас внизу кто-то спрашивает.
«Наверно, носильщик», — решила я и тут же побежала в кухню. Я только что миновала маленькую гостиную, или учительскую, дверь которой была полуоткрыта, как оттуда кто-то выбежал.
— Она, она, я сразу узнала ее! Я бы ее везде узнала! — воскликнула какая-то особа, загораживая мне дорогу и хватая меня за руку.
Я взглянула на нее. Передо мною стояла женщина, одетая, как прислуга из богатого дома, полная, но еще молодая и красивая, черноволосая и черноглазая, с ярким цветом лица.
— Ну-ка, кто это, угадайте! — сказала она; ее голос и улыбка показались мне очень знакомыми. — Вы, наверно, не совсем забыли меня, мисс Джен?
Через секунду я уже горячо обнимала и целовала ее.
— Бесси! Бесси! Бесси! — повторяла я; а она, смеясь и плача одновременно, тоже обнимала меня; мы обе вошли в гостиную.
Перед камином стоял маленький мальчик лет трех, в шотландской курточке и штанишках.
— А это мой сынок, — сразу же объяснила мне Бесси.
— Значит, вы вышли замуж, Бесси?
— Да, вот уже почти пять лет, как я замужем за Робертом Ливеном, нашим кучером; и у меня, кроме Бобби, есть еще маленькая девочка, я ее назвала Джен.
— А вы что же, больше не живете в Гейтсхэде?
— Мы живем в домике привратника; тот, который был при вас, ушел.
— Ну, как они там все поживают? Расскажите мне все, все о них, Бесси! Но сначала сядьте. А ты, Бобби, не хочешь ли ко мне на коленки?
Но Бобби предпочел прижаться к матери.
— А вы нельзя сказать, чтобы очень выросли, мисс Джен, и не так уж пополнели, — продолжала миссис Ливен. — Видно, не очень-то вас сытно кормили в школе: вы на голову ниже старшей мисс Рид, да и в плечах она шире; а из мисс Джорджианы можно было бы выкроить двух таких, как вы.
— Джорджиана, верно, очень красивая, Бесси?
— Очень. В прошлую зиму она со своей мамой ездила в Лондон, и там все восхищались ею, а один молодой лорд влюбился в нее и хотел жениться, но его родные были против; и что же вы думаете, они сговорились с мисс Джорджианой убежать! Но их выследили и остановили. Мисс Рид выследила их; я думаю, это она из зависти; а теперь они с сестрой живут как кошка с собакой, вечно ругаются.
— Ну, а Джон Рид?
— О, дела у него не так хороши, как бы хотелось его маме. Он поступил было в университет, да его оттуда исключили — так, что ли, говорят? Потом его дяди хотели, чтобы он стал адвокатом и изучал право, но он такой беспутный молодой человек, никогда из него толку не выйдет, по-моему.
— А как он выглядит?
— Мистер Джон очень высокий. Некоторые считают, что он хорош собой, но у него ужасно толстые губы.
— А миссис Рид?
— Миссис располнела и с лица ничего, но только в душе она неспокойна: ее огорчает поведение мистера Джона. Он пропасть денег транжирит.
— Это она вас послала сюда, Бесси?
— Конечно, нет! Мне самой уже давно хотелось повидать вас; и когда я узнала, что от вас было письмо и что вы собираетесь уехать куда-то далеко, я решила — поеду и взгляну на нее, пока она еще близко.
— Боюсь, что вы разочаровались во мне, Бесси. — Я сказала это смеясь, ибо заметила, что взгляд Бесси, хотя и почтительный, не выражал никакого восхищения.
— Нет, мисс Джен, не то чтобы… Вы очень элегантны, настоящая леди. А большего я от вас и не ожидала: вы и ребенком не были красавицей.
Я улыбнулась ее искренним словам. Я чувствовала, что она права, но, сознаюсь, меня немного огорчил этот отзыв: в восемнадцать лет всякая девушка хочет нравиться, и сознание, что у нее неблагодарная внешность, не может быть ей особенно приятно.
— Но я уверена, что вы очень умная, — продолжала Бесси, стараясь меня утешить. — Чему вы научились? Вы умеете играть на рояле?
— Немного.
В комнате стоял рояль. Бесси открыла его и попросила меня сесть и что-нибудь сыграть. Я исполнила один-два вальса, и она с энтузиазмом заявила:
— Нашим барышням так не сыграть! Я всегда была уверена, что вы способнее ко всякому учению, чем они! А рисовать вы умеете? Да?
— Вот один из моих рисунков, над камином.
Это был пейзаж, сделанный акварелью. Я подарила его директрисе в благодарность за ее любезное посредничество; она вставила картину в рамку и под стекло.
— Но это же очень красиво, мисс Джен! Лучше не нарисовал бы и наш учитель рисования, не говоря уже о самих барышнях, которым до этого далеко, как до неба. А по-французски вы тоже научились?
— Да, Бесси, я читаю и говорю по-французски.
— И умеете вышивать и шить?
— Умею.
— О, да вы стали действительно настоящей леди, мисс Джен! Я всегда была уверена, что так будет. Вы сами пробьетесь в жизни, без всяких родственников. Вот о чем я хотела спросить вас: вы когда-нибудь слышали о родных вашего отца, мисс Эйр?
— Никогда.
— Вы знаете, миссис всегда говорила, что они бедные и простые. Может быть, они и бедные, но я уверена, что они такие же благородные, как и Риды. Один раз, лет семь тому назад, в Гейтсхэд приезжал какой-то мистер Эйр и хотел повидать вас; миссис сказала, что вы в школе, за пятьдесят миль от нашего дома. Он, видно, был очень огорчен, так как не мог дольше задерживаться. Мистер Эйр уезжал куда-то за границу, и судно должно было уйти из Лондона через день-два. На вид он настоящий джентльмен, и я думаю, что это был брат вашего отца.
— А куда же он ехал, Бесси?
— На какой-то остров, за тысячу миль, где вино делают. Мне буфетчик объяснил…
— На Мадейру? — догадалась я.
— Да, да, вот именно, — он так назвал.
— Значит, он уехал?
— Да; он и нескольких минут не пробыл у нас. Миссис держалась с ним очень гордо. Она потом называла его: „Этот паршивый торговец“. Мой Роберт предполагает, что он торгует вином.
— Очень возможно, — ответила я, — а может быть, он агент или служащий винодельческой фирмы.
Мы с Бесси пробеседовали о старине больше часа, затем она ушла. Я виделась с нею в течение нескольких минут на другое утро в Лоутоне, когда дожидалась дилижанса. Мы окончательно простились перед дверью гостиницы «Герб Брокльхерстов» и разошлись в разные стороны: она направилась к вершине холма, чтобы там дождаться оказии для возвращения в Гейтсхэд; я села в дилижанс, которому предстояло отвезти меня в неведомые окрестности Милкота, где меня ждали другие обязанности и другая жизнь.
Глава XI
Новая глава романа похожа на новое действие в пьесе. И когда я на этот раз отдерну перед тобой занавес, читатель, вообрази себе комнату в милкотской гостинице «Георг», оклеенную безвкусными обоями, какие обычно бывают в гостиницах; вообрази ковер под стать обоям, обычную мебель, украшения над камином, олеографии на стенах и среди них обязательные портреты Георга III и принца Уэльского, а также картину, изображающую смерть генерала Вольфа. Все это освещает керосиновая лампа, висящая посередине потолка, и яркий огонь камина, возле которого я сижу в плаще и шляпке; моя муфта и зонтик лежат на столе, и я стараюсь распрямить свои иззябшие и онемевшие члены, скованные шестнадцатичасовым путешествием в холодный октябрьский день. Я выехала из Лоутона в четыре утра, а часы в Милкоте только что пробили восемь.
Но хотя тебе и покажется, читатель, что я чувствую себя в этой комнате очень уютно, на самом деле душа моя неспокойна. Я ожидала, что, когда приеду на место, здесь меня кто-нибудь встретит, и, спускаясь по деревянным ступенькам лестницы, которую служитель гостиницы приставил к дилижансу для моего удобства, надеялась, что услышу свою фамилию и увижу экипаж, готовый отвезти меня в Торнфильд. Однако ничего подобного не случилось, и когда я осведомилась у слуги, не спрашивал ли кто-нибудь мисс Эйр, я получила отрицательный ответ. Поэтому мне оставалось только попросить в гостинице отдельную комнату. И вот я ждала в тревоге, осаждаемая всевозможными сомнениями и страхами.
Какое мучительное ощущение для юного существа — почувствовать себя совершенно одиноким в мире, покинутым на произвол судьбы, терзаться сомнениями — удастся ли ему достичь той гавани, в которую оно направляется, сознавать, что возвращение, по многим причинам, уже невозможно. Правда, это ощущение смягчалось присущим каждому приключению очарованием, и меня согревало пламя гордости; но затем страх снова заслонял эти чувства; и когда по истечении получаса я все еще была одна, страх возобладал над всем. Наконец я заставила себя позвонить.
— Есть тут по соседству имение под названием Торнфильд? — спросила я слугу, который явился на мой звонок.
— Торнфильд? Не слыхал, сударыня. Я сейчас спрошу в ресторане. — Он исчез, но возвратился немедленно.
— Ваша фамилия Эйр, мисс?
— Да.
— Там вас дожидаются.
Я вскочила, взяла свою муфту, зонтик и поспешила в коридор. Перед открытой дверью стоял какой-то человек, а на озаренной уличными фонарями мостовой я смутно различила очертания одноконного экипажа.
— Это, наверно, ваш багаж? — сказал человек отрывисто, увидев меня и указывая на мой чемодан, который стоял на полу коридора.
— Да.
Он погрузил мой чемодан в экипаж, нечто вроде небольшой кареты; я тоже села в нее. Когда кучер закрывал дверцу, я спросила, далеко ли до Торнфильда.
— Миль шесть будет.
— А сколько мы проедем?
— Примерно часа полтора.
Он захлопнул дверцу, взобрался на козлы, и мы тронулись в путь. Мы ехали не спеша, и у меня было достаточно времени для размышлений. Я радовалась, что приближается конец моему путешествию, и, откинувшись на спинку этого удобного, хотя и скромного экипажа, отдалась своим мечтам.
«Вероятно, — думала я, — судя по простоте экипажа и кучера, миссис Фэйрфакс не очень богатая женщина. Тем лучше; я уже жила среди богатых людей и была очень несчастна. Интересно, одна ли миссис Фэйрфакс в доме с этой девочкой? Если это так и она хоть сколько-нибудь приветлива, я уверена, что мы поладим: во всяком случае, я буду стараться. Как жаль, что такие старания не всегда приводят к цели. В Ловуде я приняла решение стараться, была ему верна и добилась хороших результатов; но я слишком живо помню, как все мои попытки угодить миссис Рид встречали с ее стороны только насмешки. Дай бог, чтобы миссис Фэйрфакс не оказалась второй миссис Рид; впрочем, если это и случится, я не обязана оставаться у нее. В самом крайнем случае я снова поищу себе места. Интересно, далеко ли мы отъехали?»
Я опустила окно и выглянула наружу. Милкот был позади; судя по обилию огней, это был большой город, гораздо больше Лоутона. Сейчас, насколько я могла судить, мы проезжали обширный выгон, но кругом были разбросаны отдельные дома. Я видела, что мы находимся в совершенно иной местности, чем Ловуд, — более многолюдной, но менее живописной, более оживленной, но менее романтической.
Дороги были грязны, ночь туманна. Кучер почти все время ехал шагом, и полтора часа, наверно, растянулись до двух; наконец он обернулся ко мне и сказал:
— Ну, теперь недалеко и до Торнфильда.
Я снова выглянула в окно; мы проезжали мимо церкви: я увидела на фоне неба очертания приземистой колокольни, колокола которой как раз вызванивали четверть. Я увидела также на склоне холма узкую полоску огней, — это был, вероятно, поселок или деревенька. Минут десять спустя кучер слез и открыл ворота: мы въехали, и они захлопнулись за нами. Мы медленно поднялись по аллее и скоро очутились перед домом. В одном окне сквозь занавески пробивался свет, все остальные были темны. Лошадь остановилась у подъезда. Я вышла из экипажа и вступила в дом.
Дверь отперла горничная.
— Прошу вас следовать за мной, сударыня, — сказала она.
Через большой квадратный холл со множеством высоких дверей она проводила меня в комнату, ярко освещенную свечами и пламенем камина, и я в первую минуту была почти ослеплена, таким резким показался мне этот свет после темноты, окружавшей меня в течение двух часов; когда я к нему привыкла, моим глазам представилась приветливая картина.
Вообразите себе маленькую уютную комнату; у жаркого камина круглый стол; в старинном кресле с высокой спинкой сидит самая чистенькая и аккуратная старушка, какую только можно себе представить, в чепце, черном шелковом платье и белоснежном кисейном переднике, — в точности такая, какой я рисовала себе миссис Фэйрфакс, только менее представительная и более кроткая. Старушка вязала. У ее ног, мурлыча, сидела большая кошка. Словом, это был совершенный идеал домашнего уюта. Трудно было вообразить более успокаивающую встречу для вновь прибывшей молодой гувернантки; здесь вас не угнетало никакое великолепие, не смущала никакая пышность. Когда я вошла, старая дама торопливо и радушно поднялась мне навстречу.
— Ну, как вы себя чувствуете, моя дорогая? Боюсь, что вы очень устали с дороги. Джон ведь везет так медленно, и вы, наверное, озябли? Подойдите к огню.
— Миссис Фэйрфакс, вероятно? — спросила я.
— Да, вы угадали. Садитесь же.
Она проводила меня к самому креслу, затем начала разматывать мой шарф и развязывать ленты шляпки; я попросила ее не беспокоиться.
— О, какое же тут беспокойство; ваши руки, наверно, совсем онемели от холода. Ли, приготовьте поскорей горячий грог и несколько сандвичей; вот вам ключи от кладовой.
И она извлекла из кармана чрезвычайно внушительную связку ключей и вручила их горничной.
— Пододвигайтесь же к камину, — продолжала она. — Вы ведь привезли с собой ваш багаж, дорогая?
— Да, сударыня.
— Я сейчас прикажу отнести его к вам в комнату, — сказала она и суетливо вышла.
«Она обращается со мной, как с гостьей, — подумала я. — Вот не ожидала такого приема! Я предполагала встретить холодность и чопорность! Что-то я не слышала, чтобы так обходились с гувернанткой; однако радоваться еще рано».
Она вернулась, сама убрала со стола свое вязанье и несколько книг, чтобы освободить место для подноса, который принесла Ли, и принялась меня угощать. Я была смущена тем, что оказалась предметом такого внимания, какого мне до сих пор никто не оказывал, и притом со стороны особы, в подчинении у которой я должна была находиться. Но так как она сама, видимо, не придавала этому никакого значения, я решила, что лучше спокойно принять ее любезность.
— Я буду иметь удовольствие видеть сегодня вечером мисс Фэйрфакс? — спросила я, подкрепившись.
— Что вы говорите, моя дорогая? Я глуховата… — отозвалась старая дама, приближая свое ухо к моим губам.
Я повторила свой вопрос несколько отчетливей.
— Мисс Фэйрфакс? О, вы, наверно, имеете в виду мисс Варанс? Фамилия вашей будущей ученицы — Варанс.
— Вот как! Значит, это не ваша дочь?
— Нет, я одинока.
Я охотно продолжила бы этот первый разговор, спросив, какая же связь между нею и мисс Варанс, но вспомнила, что невежливо задавать слишком много вопросов. Кроме того, я знала, что постепенно все выяснится само собой.
— Я так рада, — продолжала она, садясь против меня и беря кошку на колени, — я так рада, что вы, наконец, приехали; будет очень приятно жить не одной. Жизнь здесь имеет, конечно, свои прелести. Торнфильд — прекрасный старинный дом, но он уже давно запущен, хотя и сохранил прежнее величие; а все-таки в зимнее время тоскуешь и в самых пышных хоромах. Ли, конечно, хорошая девушка, а Джон и его жена вполне достойные люди, — но, видите ли, ведь это все-таки слуги, и с ними нельзя общаться, как с равными: нужно соблюдать расстояние, иначе потеряешь авторитет. В течение прошлой зимы (это была очень суровая зима, если помните, — то снег идет, то дождь и ветер), от ноября до февраля, мы здесь не видели никого, кроме мясника да почтальона, и я просто себе места не находила в одинокие долгие вечера. Правда, Ли мне иногда читала вслух, но, думаю, бедную девушку это только стесняло. Весной и летом здесь, конечно, лучше: совсем другое дело, когда светит солнце и дни такие длинные. А потом, в начале осени, приехала маленькая Адель Варанс с няней, ребенок сразу вносит в дом оживление; теперь еще вы приехали, и будет совсем весело.
Мне стало тепло на сердце от слов этой достойной старушки; я придвинула свое кресло поближе к ней и высказала искреннее пожелание, чтобы мое общество оказалось для нее таким приятным, как она надеялась.
— Но нынче я не дам вам сидеть поздно, — сказала она, — уже двенадцатый час, а вы были в пути весь день и, наверно, очень устали. Если ноги у вас согрелись, я провожу вас в вашу спальню. Я приказала приготовить вам комнату рядом с моей; правда, она небольшая, но, я думаю, вам там будет лучше, чем в одном из этих больших парадных покоев: в них только мебель красивая, но они такие пустые, унылые, я сама там никогда не сплю.
Я поблагодарила ее за внимание и, так как действительно чувствовала себя утомленной после длинного путешествия, выразила готовность уйти к себе. Она взяла свечу, и я последовала за ней. Проверив, заперта ли входная дверь, и вынув ключ из замка, она стала подниматься по лестнице. Ступени и перила были дубовые; окно над лестницей — высокое, с цветными стеклами; и это окно, и длинный коридор, в который выходили двери спален, напоминали скорее церковь, чем жилой дом. На лестнице и в коридоре было холодно, как в подвале, и веяло пустотой и одиночеством; поэтому я была рада, когда наконец очутилась в своей комнате — небольшой и обставленной в самом обычном современном стиле.
Миссис Фэйрфакс пожелала мне спокойной ночи, я заперла дверь и осмотрелась; приветливый вид этой маленькой комнаты сгладил впечатление от пустого унылого холла, огромной неосвещенной лестницы и длинного холодного коридора. И я поняла, что после целого дня физической усталости и душевного напряжения я, наконец, достигла безопасной пристани. Сердце мое исполнилось радости, и я опустилась на колени возле кровати, вознося горячую благодарность тому, кого надлежало благодарить, и не позабыла, перед тем как подняться с колен, попросить, чтобы он ниспослал мне свою помощь и на моем дальнейшем пути и чтобы я оказалась достойной дарованной мне милости, которой еще ничем не заслужила. В эту ночь мне представлялось, что мое ложе не имеет шипов и что в моей комнате не таится никаких страхов. Усталая и довольная, я быстро и крепко заснула. Когда я проснулась, был уже день.
Солнце светило сквозь голубые ситцевые занавески, и моя комната показалась мне особенно веселой и приветливой с ее оклеенными обоями стенами и ковром на полу; все это было так мало похоже на захватанные оштукатуренные стены Ловуда и голые доски его полов, что я сразу почувствовала прилив бодрости. Ведь юность очень чувствительна к внешним впечатлениям. Я подумала, что новая жизнь для меня уже началась и что в ней будут не только огорчения и трудности, но также удовольствия и радости. Мне казалось, что перемена обстановки и появление новых надежд оживляют во мне все мои силы и способности. Я не могу сказать в точности, чего я ожидала, но чего-то приятного: может быть, не сегодня и не через месяц, но когда-нибудь, в неопределенном будущем.
Я встала и тщательно оделась. Несмотря на вынужденную скромность — все мои туалеты отличались крайней простотой, — я от природы любила изящество, не в моих привычках было пренебрегать своим внешним видом и тем впечатлением, которое я произвожу: напротив, я всегда старалась выглядеть как можно лучше, чтобы хоть в какой-то мере удовлетворить свое стремление к красоте. Иногда я сожалела о том, что недостаточно красива. Мне хотелось, чтобы у меня были румяные щеки, точеный нос и маленький алый ротик, хотелось быть высокой, стройной и хорошо сложенной; мне казалось большим несчастьем, что я такая маленькая, бледная, что черты у меня неправильные и резкие. Откуда взялись эти желания и сожаления? Трудно сказать, я и сама не знала, откуда они. И вот я причесалась как можно тщательнее, надела свое черное платье — увы, оно имело квакерский вид, но зато сидело прекрасно, — пришила новую белую манишку и решила, что у меня достаточно респектабельная внешность, чтобы предстать перед миссис Фэйрфакс, и что моя ученица по крайней мере не испугается меня. Раскрыв окно и проверив, все ли в порядке на моем туалетном столике, я вышла.
Я миновала длинный, застланный дорожкой коридор и спустилась по гладким и скользким дубовым ступеням, затем вошла в холл. Здесь я задержалась на несколько минут и занялась осмотром картин на стенах (на одной, как я помню, был изображен угрюмый мужчина в кирасе, а на другой — дама с напудренными волосами и жемчужным ожерельем вокруг шеи), бронзовой лампы, свисавшей с потолка, и больших стенных часов, потемневших от времени, в футляре с причудливой резьбой. Все казалось мне здесь чрезвычайно торжественным и внушительным, — но ведь я еще так мало видела в жизни. Дверь холла, до половины застекленная, оказалась открытой; я переступила ее порог. Было чудесное осеннее утро. Солнце ласково освещало разноцветную листву рощ и все еще зеленые поля. Выйдя на лужайку, я обернулась, чтобы взглянуть на фасад дома. Дом был трехэтажный, не слишком большой, но внушительный: не замок вельможи, а усадьба джентльмена. Зубчатые стены придавали ему особенно живописный вид. Каменный серый фасад четко выделялся на фоне деревьев парка, унизанных черными грачиными гнездами, обитатели которых носились вокруг. Они летали над лужайкой и деревьями и опускались на большую поляну, отделенную от парка только разрушенной оградой. Вдоль нее стоял ряд огромных, мощных деревьев — ветвистых, узловатых и величественных, точно дубы; это был особый вид боярышника, и я сразу поняла, почему Торнфильд[9] назван так. Дальше тянулись холмы, они были не так высоки и круты, как в Ловуде, и не казались барьером, отделяющим усадьбу от остального мира; все же их склоны были тихи и пустынны, и цепь этих холмов, окружая Торнфильд, придавала ему ту уединенность, которой нельзя было ожидать в местности, столь близкой к оживленному Милкоту. По склону одного из холмов карабкалась деревенька, крыши которой были осенены большими деревьями. Церковь стояла ближе к усадьбе. Ее старинная колокольня выглядывала из-за небольшого пригорка между домом и воротами.
Я все еще наслаждалась этим мирным видом и приятной свежестью утреннего воздуха, все еще прислушивалась к крику грачей и любовалась старинным фасадом дома, размышляя о том, как должна была чувствовать себя здесь одинокая скромная старушка, какой была миссис Фэйрфакс, когда она сама появилась на пороге.
— Вы уже встали? — сказала она. — Да вы, я вижу, ранняя птичка.
Я подошла к ней, она приветливо поздоровалась со мной и поцеловала меня в щеку.
— Ну, как вам нравится Торнфильд? — спросила она. Я сказала, что очень нравится.
— Да, — продолжала она, — красивое место; но я боюсь, что если мистер Рочестер не надумает окончательно здесь поселиться или хотя бы чаще наезжать сюда, все придет в упадок: такие дома и парки требуют постоянного присутствия хозяина.
— Мистер Рочестер? — воскликнула я. — Кто же это?
— Владелец Торнфильда, — спокойно отозвалась она. — Разве вы не знали, что его зовут Рочестер?
Конечно, не знала, я никогда о нем не слышала. Но старая дама, видимо, считала, что это должно быть известно всем и каждому.
— А я думала, что Торнфильд принадлежит вам.
— Мне? Господь с вами, дитя мое! Что это вам вздумалось! Мне! Да я только экономка, домоправительница. Правда, я в родстве с Рочестерами по женской линии, или, вернее, муж был с ними в родстве; он был священником в Хэе — вон в той маленькой деревушке на холме — и служил в церкви, что возле ворот. Мать мистера Рочестера была урожденная Фэйрфакс и троюродная сестра моего мужа. Но я никогда не злоупотребляла этим родством, — для меня это не имеет никакого значения, я считаю себя обыкновенной домоправительницей. Мой хозяин всегда вежлив, а больше мне ничего не нужно.
— А девочка, моя ученица?
— Мистер Рочестер ее опекун; он поручил мне найти для нее гувернантку. Он, видимо, хочет, чтобы девочка воспитывалась здесь. Да вон и она со своей bonne, как она называет няню.
Итак, вот решение загадки: приветливая и добрая вдова вовсе не важная дама, а такая же подчиненная, как и я. От этого она не стала мне менее мила. Наоборот, я ощутила еще большую радость. Равенство между нами было подлинным равенством, а не только результатом ее снисходительности; тем лучше — я могла чувствовать себя еще свободнее.
В то время, как я размышляла об этом открытии, на лужайке показалась маленькая девочка, за ней спешила ее няня. Я стала рассматривать свою воспитанницу, которая сначала, видимо, не заметила меня; она была совсем дитя, хрупкая, не старше семи-восьми лет; бледное, с мелкими чертами личико, и необыкновенно густые локоны, спадающие до пояса.
— С добрым утром, мисс Адель, — сказала миссис Фэйрфакс. — Подойдите сюда и познакомьтесь с мисс Эйр; она будет учить вас, чтобы вы стали со временем образованной молодой особой.
Девочка приблизилась.
— Это моя гувернантка? — спросила она по-французски, указывая на меня и обращаясь к своей няне, которая ответила:
— Ну да, конечно.
— Они иностранки? — спросила я с изумлением, услышав французскую речь.
— Няня француженка, а Адель родилась во Франции и, насколько я знаю, впервые уехала оттуда шесть месяцев назад. Когда девочка появилась здесь, она совсем не умела говорить по-английски, но теперь уже немного научилась. Я-то плохо понимаю ее, она слишком путает французский с английским, но вы ее, наверно, поймете.
К счастью, я имела возможность учиться французскому языку у настоящей француженки, — я никогда не упускала случая поболтать с мадам Пьеро, — кроме того, все последние семь лет каждый день учила наизусть французские стихи и всячески трудилась над приобретением правильного произношения, так что мне удалось достичь известных успехов. Все это давало мне основание надеяться, что я смогу свободно беседовать с мадемуазель Аделью. Узнав, что я ее новая гувернантка, девочка подошла и подала мне руку. Когда мы шли завтракать, я обратилась к Адели с несколькими фразами на ее родном языке. Она отвечала неохотно, но после того, как мы уселись за стол и девочка, по крайней мере, минут пять внимательно рассматривала меня своими большими светло-карими глазами, вдруг принялась оживленно болтать.
— А, — воскликнула Адель по-французски, — вы говорите на моем родном языке не хуже мистера Рочестера; я могу разговаривать с вами, как с ним и с Софи. То-то она обрадуется! Ведь никто ее здесь не понимает, мадам Фэйрфакс знает только свой английский. Софи — это моя няня, она приехала со мною на большом корабле с трубой, которая дымила, — ну уж и дымила! Меня все тошнило, и Софи тоже, и мистера Рочестера… Мистер Рочестер лежал на диване в красивой комнате, которая называется салон, а мы с Софи лежали на таких чудных кроватках в каюте. Я чуть не вывалилась из своей: она как полочка. Мадемуазель… а как вас зовут?
— Эйр. Джен Эйр.
— Эйр? Ну, я не выговорю. Так вот, наш корабль остановился один раз утром — еще даже не рассвело — в большом городе. Огромный город! Дома там были темные и такие закоптелые; он ни капельки не похож на красивый чистенький город, откуда я приехала. Мистер Рочестер на руках перенес меня на берег. А сзади шла Софи, и все мы сели в карету, которая отвезла нас в замечательный огромный дом, еще лучше этого и красивей. Называется отель. Там мы прожили почти целую неделю. Мы с Софи ходили каждый день в большущий зеленый сад, где много деревьев, называется сквер; там было очень много детей и пруд, где плавали красивые птицы, и я кормила их хлебными крошками.
— Неужели вы понимаете что-нибудь, когда она вот так болтает? — спросила меня миссис Фэйрфакс.
Я понимала ее прекрасно, так как привыкла к быстрой речи мадам Пьеро.
— Мне хотелось бы, — продолжала добрая старушка, — чтобы вы задали ей несколько вопросов относительно ее родителей: интересно, помнит она их?
— Адель, — сказала я, — а с кем же вы жили в этом красивом чистеньком городе, про который ты говоришь?
— Раньше, давно, я жила там с мамой; но она ушла к святой деве. Мама учила меня танцевать, петь и декламировать стихи. К маме приходили гости, очень много дам и мужчин, и я танцевала перед ними или садилась к ним на колени и пела. Мне это очень нравилось. Хотите я вам спою?
Так как она кончила завтрак, я позволила ей блеснуть своими талантами. Она слезла со стула, подошла и взобралась ко мне на колени; затем благоговейно сложила ручки и, откинув кудри, подняла глаза к потолку и начала петь арию из какой-то оперы. В этой арии женщина, покинутая коварным любовником, изливает свою тоску и призывает на помощь гордость; она велит служанке надеть на нее самые великолепные, сверкающие драгоценности и самое нарядное платье, решив появиться вечером на балу, где будет обманщик, и доказать ему своим весельем, как мало ее трогает его вероломство.
Странно было слышать это из уст ребенка; но я поняла, что, вероятно, весь комизм исполнения и заключался в том, что слова любви и ревности произносились маленькой девочкой; и это было, на мой взгляд, признаком очень дурного вкуса.
Адель спела канцонетту вполне верно и с наивностью, присущей ее возрасту. Кончив, она соскочила с моих колен и сказала:
— А теперь, мадемуазель, я вам прочту стихи!
Встав в позу, она начала читать басню Лафонтена «Союз крыс». Она читала с таким точным соблюдением пауз и оттенков, с такими выразительными интонациями и верными жестами, каких было трудно ожидать от ребенка ее возраста; видимо, кто-то тщательно занимался с ней, показывал ей.
— Это мама научила тебя так читать? — спросила я.
— Да, она говорила эти слова вот так: «Qu'avez-vous donс? — lui dit un de ces rats. — Parlez!»[10], и она заставляла меня поднять руку вот так, чтобы я не забыла в этом месте повысить голос. А теперь я потанцую, хотите?
— Нет, пока довольно. Но когда твоя мама, как ты сказала, ушла к святой деве, с кем же ты жила?
— Я жила у мадам Фредерик и ее мужа. Она заботилась обо мне, но она мне не родная. Она, верно, бедная, у нее не было такого красивого дома, как у мамы. Я недолго жила у них. А потом мистер Рочестер спросил меня, хочу ли я поехать с ним и жить в Англии, и я согласилась. Я ведь знала мистера Рочестера раньше, чем мадам Фредерик; он очень добрый, он всегда дарил мне красивые платья и игрушки. Только видите — он все-таки не сдержал своего обещания: меня привез в Англию, а сам опять уехал, и я его никогда не вижу.
После завтрака мы с Аделью удалились в библиотеку, которую мистер Рочестер, видимо, предназначал нам в качестве классной комнаты. Большинство книг стояло в запертых стеклянных шкафах. Но один шкаф был отперт и содержал в себе все, что нужно для первоначальных занятий, а также ряд книг для легкого чтения: поэзия, несколько биографий, путешествия, романы и так далее. Мистер Рочестер, должно быть, решил, что всего этого гувернантке хватит. И действительно, это пока вполне удовлетворяло меня в сравнении с тем скудным выбором книг, которыми я время от времени могла пользоваться в Ловуде, эти книги открывали передо мной богатые возможности и для развлечения и для приобретения знаний. В комнате стоял, кроме того, кабинетный рояль, совершенно новый и превосходного тона, а также мольберт и несколько глобусов.
Моя ученица оказалась довольно послушной, однако очень рассеянной девочкой; она была совершенно не приучена к регулярным занятиям. Я почувствовала, что не следует на первых порах слишком принуждать ее; поэтому, когда мы вдоволь наговорились и немного позанимались, — кстати, наступил полдень, — я позволила ей вернуться к няне, а сама решила до обеда сделать несколько набросков, которые были нужны мне для занятий с нею.
Когда я поднималась наверх, чтобы взять папку и карандаши, миссис Фэйрфакс окликнула меня.
— Вероятно, ваши утренние занятия кончились? — спросила она.
Старушка находилась в комнате, двустворчатые двери которой были широко открыты. Услышав ее голос, я вошла. Это был большой и величественный зал с пунцовыми креслами и занавесками, турецким ковром, с обшитыми дубом стенами, огромным окном из цветного стекла и высоким потолком, украшенным лепкой. Миссис Фэйрфакс как раз протирала стоявшие на серванте высокие вазы из прекрасного пурпурного камня.
— Какая чудесная комната! — воскликнула я, озираясь, ведь я не видела в своей жизни ничего похожего на такое великолепие.
— Да, это столовая. Я открыла окно, чтобы впустить немного свежего воздуха и солнца: ужасная сырость заводится в помещении, где мало живут, — рядом, в гостиной, прямо как в погребе.
Она указала мне на широкую арку в том же стиле, что и окно, и также задрапированную восточной тканью. Поднявшись по двум ступенькам, я заглянула в нее, и мне почудилось, что я попала в сказочный чертог, — такой великолепной показалась эта комната моему неискушенному взору. На самом же деле это была просто нарядная гостиная с будуаром; там и тут лежали белые ковры, на которых, казалось, брошены были гирлянды ярких цветов; белоснежный потолок, украшенный лепными виноградными гроздьями, прекрасно гармонировал с пунцовыми диванами и оттоманками; на камине бледного паросского мрамора стояли сверкающие хрустальные вазы цвета темного рубина, а большие зеркала между окнами отражали это ослепительное сочетание снега и пламени.
— В каком порядке вы содержите эти комнаты, миссис Фэйрфакс! — сказала я. — Ни пыли, ни чехлов. Если бы не сырость, можно было бы думать, что в них и сейчас живут.
— Видите ли, мисс Эйр, хотя мистер Рочестер и навещает нас редко, его приезды всегда неожиданны. Я заметила, что его раздражает, когда он находит все в чехлах и при нем начинается уборка; поэтому я решила, что лучше всего, если комнаты будут постоянно готовы к его приезду.
— Разве мистер Рочестер такой требовательный?
— Нет, не скажу; но у него вкусы и привычки настоящего барина и аристократа, и все в доме должно делаться так, как он привык.
— А нравится он вам? Его вообще любят в округе?
— О да. Эта семья была всегда очень уважаема. С незапамятных времен все, что вы здесь видите, вся земля, насколько можно окинуть взглядом, принадлежала Рочестерам.
— Но, не касаясь вопроса о его богатстве, сам он вызывает симпатию? Как человека его любят?
— У меня нет причины не любить его; и, по-моему, арендаторы считают его справедливым и щедрым хозяином. Но ведь он никогда подолгу здесь не живал.
— А нет ли у него каких-нибудь особенностей? Словом, каков у него характер?
— О, это человек безукоризненный. Правда, он немного чудак. Он постоянно путешествует и многое перевидал. Вероятно, он умен; но мне никогда не приходилось подолгу с ним разговаривать.
— А в каком смысле он чудак?
— Да не знаю, трудно объяснить, — ничего такого, что бросалось бы в глаза, но когда говоришь с ним, это чувствуется: никогда не знаешь, шутит он или серьезен, доволен или наоборот; никак его не поймешь. Во всяком случае, я не понимаю его; но это не имеет значения, он очень хороший хозяин.
Вот и все, что мне удалось узнать от миссис Фэйрфакс об ее хозяине и моем. Есть люди, которые, должно быть, вовсе лишены способности характеризовать человека или явление, обрисовать то, что наиболее бросается в глаза. Видимо, добрая старушка принадлежала именно к этой категории. Мои вопросы смущали ее, но не наводили на размышления. Для нее мистер Рочестер — это был мистер Рочестер, аристократ и крупный землевладелец, вот и все. Она не спрашивала и не допытывалась ни о чем больше и, должно быть, удивлялась моему желанию получить более точные сведения о его личности.
Когда мы вышли из столовой, она предложила показать мне остальные комнаты, и я последовала за ней; мы обошли весь дом сверху донизу, и я восхищалась тем, что видела, ибо все здесь было устроено разумно и со вкусом. Большие парадные залы показались мне особенно величественными, зато некоторые из комнат на третьем этаже, хотя они были темные и низкие, привлекали тем, что от них веяло духом старины. Мебель, стоявшая раньше в нижних этажах, постепенно переправлялась сюда, по мере того как менялась мода. При неверном свете, падавшем в узкие окна, я видела кровати, которым было не меньше ста лет, лари из дуба или орехового дерева, украшенные причудливой резьбой в виде пальмовых веток и толстых херувимов, напоминавшие ковчег завета, ряды старинных стульев с узкими сиденьями и высокими спинками, еще более старинные кресла, сохранившие на своих подушках полустертые следы вышивки, сделанной руками, которые уже два поколения назад стали прахом. Благодаря всем этим реликвиям третий этаж Торнфильдхолла казался олицетворением прошлого, хранилищем воспоминаний. Днем мне очень нравился полумрак, тишина и своеобразная обстановка этих комнат, но я бы ни за что не согласилась провести ночь на одной из этих широких массивных кроватей. Некоторые из альковов имели стены и дубовые двери, другие были завешены старинными гобеленами с изображением странных цветов, еще более странных птиц и уж совсем странных человеческих существ, — все это вместе должно было казаться поистине фантастическим при бледном свете луны.
— В этих спальнях спят слуги? — спросила я.
— Нет, они помещаются в маленьких комнатах на той стороне дома; тут никто не спит. Если бы в Торнфильде были привидения, они являлись бы именно здесь.
— Я тоже так думаю. Но у вас, значит, нет привидений?
— Во всяком случае, я о них никогда не слышала, — отозвалась миссис Фэйрфакс, улыбаясь.
— И на этот счет не существует никаких преданий, никаких легенд или рассказов?
— Мне кажется, нет. А вместе с тем говорят, что все Рочестеры были люди бурного и беспокойного нрава; может быть, поэтому они так мирно спят в своих могилах.
— Да… «После жизни огневой их крепок сон…» — пробормотала я. — А куда вы теперь направляетесь, миссис Фэйрфакс? — спросила я, видя, что она куда-то повернула.
— Наверх. Хотите взглянуть на вид с крыши?
Я последовала за ней по узенькой лесенке на чердак, а затем по пожарной лестнице и через открытый люк вылезла на крышу. Теперь я находилась на одном уровне с колонией грачей и могла заглянуть в их гнезда. Наклонившись, я посмотрела вниз, и парк развернулся передо мной, как большая карта. Зеленый подстриженный газон окружал, словно бархатным поясом, серые стены дома; на широкой поляне стояли рядами старые кусты боярышника; лес, темный и суровый, пересекала пешеходная тропинка, и мох, устилавший ее, был зеленее, чем листва деревьев. Возле ворот я увидела церковь, за ней дорогу, мирные холмы, словно дремавшие в свете осеннего солнца, и затем горизонт, а над ним высокое небо, лазурное, с жемчужными облаками. В этом пейзаже не было ничего необычайного, но весь он был прекрасен. Когда я отвернулась и вновь спустилась в люк, я едва могла различить пожарную лестницу. После яркого голубого воздуха и залитых солнцем рощ, пастбищ и зеленых холмов, посреди которых стоял барский дом и которые я только что созерцала с таким удовольствием, мне казалось, что на чердаке темно, как в погребе.
Миссис Фэйрфакс на минуту задержалась, чтобы запереть люк, а я ощупью нашла выход с чердака и продолжала спускаться. Я остановилась в длинном коридоре, который проходил через весь третий этаж, отделяя комнаты фасада от комнат, находившихся в глубине дома. Этот коридор с двумя рядами темных запертых дверей, узкий, низкий, сумрачный — в конце его находилось только одно маленькое оконце, — напоминал коридор в замке Синей Бороды.
Я тихонько шла вперед и вдруг услышала звук, который меньше всего ожидала здесь услышать: до меня донесся чей-то смех. Это был странный смех — отрывистый, сухой, безрадостный. Я остановилась. Смех умолк, но лишь на мгновение. Он прозвучал опять — громче, ибо в первый раз смеялись очень тихо, — и оборвался на высокой ноте, казалось, пробудив эхо в каждом из этих пустынных покоев, хотя раздался он в комнате рядом, и я могла бы совершенно точно сказать, за какой именно дверью.
— Миссис Фэйрфакс, — крикнула я, услышав, что она спускается по лестнице. — Вы слышали этот громкий смех? Кто это?
— Вероятно, кто-нибудь из горничных, — ответила она. — Может быть, Грэйс Пул.
— Но вы слышали? — опять спросила я.
— Да, совершенно ясно. Я часто слышу ее смех. Она шьет в одной из этих комнат. Иногда с нею бывает и Ли, они шумят и болтают.
Смех повторился, негромкий, отрывистый, и закончился странным бормотанием.
— Грэйс! — крикнула миссис Фэйрфакс.
Говоря по совести, я не ждала, что Грэйс ответит; смех был такой мрачный, такой жуткий, какого я никогда не слышала. Правда, была середина дня, и ничто сверхъестественное не сопровождало это странное явление; обстановка и время дня отнюдь не располагали к страхам, иначе меня охватил бы суеверный ужас.
Впрочем, тут же выяснилось, что во всем этом нет ничего таинственного: дверь рядом со мной открылась, и вышла служанка — женщина лет тридцати — сорока. У нее была невысокая коренастая фигура, рыжие волосы, грубое, простое лицо. Трудно себе представить образ менее романтический, менее похожий на призрак.
— Слишком много шуму, Грэйс, — сказала миссис Фэйрфакс, — не забывайте приказа. — Грэйс молча присела и снова ушла в комнату.
— Она шьет и помогает Ли по хозяйству, — продолжала вдова. — У нее есть известные недостатки, но она хорошо справляется с работой. Кстати, как у вас шли занятия с вашей ученицей?
Разговор перешел на Адель, и мы продолжали беседовать на эту тему, пока спускались в более светлые и веселые помещения нижнего этажа. В холле Адель подбежала ко мне.
— Сударыня, обед на столе! — воскликнула она и добавила: — Что касается меня, то я проголодалась!
Обед был готов и ожидал нас в комнате миссис Фэйрфакс.
Глава XII
Та надежда на безбурную жизнь, которую сулила мне моя первая встреча с Торнфильдхоллом, еще сильней укрепилась во мне после более продолжительного знакомства с этим местом и его обитателями. Миссис Фэйрфакс оказалась такой, как я и предполагала, — уравновешенной, добродушной женщиной, хорошо воспитанной и неглупой. Моя ученица была девочка живая, довольно своенравная и избалованная — и поэтому иногда упрямая: но так как ее предоставили целиком моим заботам и никто не вмешивался в мои методы ее воспитания, она скоро отвыкла от своих маленьких капризов и стала послушной и восприимчивой к учению. У нее не было никаких особых талантов, никаких резко выраженных черт характера или своеобразных чувств и вкусов, благодаря которым она стала бы выше обычного уровня детей ее возраста; но не было у нее и недостатков или пороков, которые ставили бы ее ниже этого уровня. Она делала вполне удовлетворительные успехи, питала ко мне искреннюю, хотя, быть может, и не очень глубокую привязанность, а ее простодушие, живость и желание нравиться внушали и мне ответное чувство, достаточное, чтобы сделать наше взаимное общение приятным.
Это — замечу в скобках — может быть сочтено за холодность теми, кто любит разглагольствовать об ангельской природе детей и кто считает долгом воспитателей относиться к ним с обожанием; но я пишу эту книгу не для того, чтобы льстить родительскому эгоизму, не для того, чтобы потворствовать лицемерию или повторять всякий вздор. Моя цель — говорить только правду. Я добросовестно заботилась об успехах и развитии Адели и питала спокойную привязанность к ее маленькой особе, так же как я питала благодарность к миссис Фэйрфакс за ее доброту, за ее неизменно ровное и ласковое отношение ко мне, отвечая ей таким же уважением.
Пусть порицает меня кто хочет, если я добавлю к этому, что порой, когда я одна бродила по парку, или выходила за ворота и смотрела на дорогу, или, воспользовавшись тем, что Адель играет с няней, а миссис Фэйрфакс расставляет банки с вареньем в кладовой, взбиралась по лестнице на третий этаж, открывала дверь чердака и, выбравшись на крышу, окидывала взором далекие поля и холмы и всматривалась в туманный горизонт; что мне хотелось тогда обладать особой силой зрения, которая помогла бы мне проникнуть за эти пределы, достигнуть иного, деятельного мира, увидеть города и местности, полные жизни, о которых я слышала, но которых никогда не видела; что я мечтала о большем жизненном опыте, о более широком общении с людьми, о знакомстве с более разнообразными характерами, чем те, которые меня окружали до сих пор. Я очень ценила все хорошие качества миссис Фэйрфакс и Адели, но я верила, что существует другая, более деятельная доброта, — а то, во что я верила, я желала и увидеть.
Кто будет порицать меня? Без сомнения, многие. Меня назовут слишком требовательной. Но что я могла поделать? По натуре я человек беспокойный, неугомонность у меня в характере, и я не однажды страдала из-за нее. Тогда моим единственным утешением было ходить по коридору третьего этажа взад и вперед, в тишине и уединении, и отдаваться внутреннему созерцанию тех ярких образов, которые теснились передо мною, прислушиваться к нараставшему в моем сердце волнению, смущавшему меня, но полному жизни, и в лучшие минуты внимать той бесконечной повести, которую создавала моя фантазия, насыщая ее событиями, огнем, чувством — всем, чего я желала и чего лишена была в этот период моего существования.
Напрасно утверждают, что человек должен довольствоваться спокойной жизнью: ему необходима жизнь деятельная; и он создает ее, если она не дана ему судьбой. Миллионы людей обречены на еще более однообразное существование, чем то, которое выпало на мою долю, — и миллионы безмолвно против него бунтуют. Никто не знает, сколько мятежей — помимо политических — зреет в недрах обыденной жизни. Предполагается, что женщине присуще спокойствие; но женщины испытывают то же, что и мужчины; у них та же потребность проявлять свои способности и искать для себя поле деятельности, как и у их собратьев мужчин; вынужденные жить под суровым гнетом традиций, в косной среде, они страдают совершенно так же, как страдали бы на их месте мужчины. И когда привилегированный пол утверждает, что призвание женщины только печь пудинги да вязать чулки, играть на рояле да вышивать сумочки, то это слишком ограниченное суждение. Неразумно порицать их или смеяться над ними, если они хотят делать нечто большее и учиться большему, чем то, к чему обычай принуждает их пол.
Во время этих одиноких прогулок по коридору я нередко слышала смех Грэйс Пул. Это был все тот же отрывистый, низкий, глухой смех, который так взволновал меня, когда я впервые услышала его. До меня доносилось также ее бормотание, еще более странное, чем смех. В иные дни она безмолвствовала; но звуки ее голоса всегда вызывали у меня недоумение. Я не раз видела ее; она выходила из своей комнаты то с тазом, то с тарелкой или подносом в руках, направлялась на кухню и обычно возвращалась оттуда с кружкой портера (прости мне эту грубую правду, романтический читатель). При виде ее мое любопытство, вызванное ее странным смехом, гасло: ни в этой неповоротливой фигуре, ни в лице с резкими чертами не было ничего, способного вызвать интерес. Я не раз старалась вовлечь Грейс в разговор, но она была чрезвычайно молчалива: все мои попытки пресекались ее односложными ответами.
Остальные обитатели этого дома: Джон и его жена, Ли — горничная и Софи — няня-француженка — были вполне достойные, однако ничем не примечательные люди. С Софи я болтала по-французски и иногда расспрашивала ее о родине; но у нее не было дара ни к описанию, ни к рассказу, и она обычно давала такие краткие и неопределенные ответы, что они могли скорее отбить охоту к расспросам, чем вызвать ее.
Так прошли октябрь, ноябрь и декабрь. Однажды в январе, после обеда, миссис Фэйрфакс попросила, чтобы я не занималась с Аделью ввиду того, что девочка простужена; Адель горячо поддержала эту просьбу; я вспомнила ту радость, которую доставляли мне такие случайные праздники, когда я была ребенком, и, сочтя необходимым проявить известную уступчивость, согласилась. Был ясный, спокойный день, хотя очень холодный. Я устала, просидев все долгое утро в библиотеке. Миссис Фэйрфакс только что написала письмо, которое нужно было отправить на почту, поэтому я надела шляпу и плащ и предложила отнести его в Хэй: до этой деревушки всего две мили — это будет только приятной прогулкой. Усадив Адель в маленькое креслице возле камина в комнате миссис Фэйрфакс и дав ей ее лучшую восковую куклу (которую я обычно хранила в шкафу завернутой в серебряную бумагу), а также книжку с картинками, я ушла, ответив поцелуем на ее «Возвращайтесь скорее, моя милая, моя дорогая мадемуазель Жаннет».
Земля была застывшая, воздух тих, ни один человек не встретился мне на дороге. Сначала я шла быстро, чтобы согреться, потом замедлила шаг, наслаждаясь и предвкушая те удовольствия, которые сулило это время дня и года. Было три часа; церковный колокол только что прозвонил, когда я проходила мимо колокольни. Угасающий день и низко стоявшее над горизонтом бледное лучистое солнце придавали особое очарование этому часу. Я отошла уже на милю от Торнфильда, передо мной тянулась узкая дорога, славившаяся летом своими зарослями шиповника, а осенью орехами и ежевикой. Еще и сейчас между ветвями кое-где алели уцелевшие ягоды боярышника и шиповника. Но главная прелесть этой дороги состояла зимой в полной пустынности и безгласной тишине. Если и долетало сюда дыхание ветра, то оно не вызывало ни малейшего шороха, ибо здесь не было ни деревца остролиста, ни какого-либо другого представителя той же вечнозеленой породы, а нагие кусты орешника и боярышника были так же безмолвны, как белые истертые камни, которыми была выложена дорога. По обе стороны ее широко и вольно раскинулись поля, где уже бродил скот; а маленькие коричневые птички, порой трепыхавшиеся в кустах, были похожи на блеклые листья, которые забыли упасть.
Дорога, ведшая в Хэй, непрерывно поднималась в гору. Пройдя половину пути, я присела на ступеньку изгороди, которой огорожено было поле. Я закуталась в плащ и сунула руки в муфту, так что мне не было холодно, хотя морозило все сильнее: это доказывала толстая корка льда, покрывавшая тропинку, по которой еще недавно, после внезапной оттепели, стекал ручеек. С моего места мне хорошо был виден весь Торнфильд; подо мной, в центре долины, высился серый массив дома с зубчатыми стенами: он резко выделялся на фоне рощицы с черными грачиными гнездами. Я сидела до тех пор, пока среди деревьев не опустилось солнце, пунцовое и ясное. Тогда я повернула на восток.
Над холмом стояла луна; она была еще бледна, как облачко, но быстро становилась все ярче и поднималась все выше, озаряя деревню, которая тянулась по верху холма, полускрытая деревьями, и посылала в небо голубые струйки дыма из своих многочисленных труб. До нее оставалась еще миля, но в глубокой тишине уже доносились ко мне несложные звуки ее жизни. Мой слух улавливал также ропот ручьев, текущих где-то в ущельях и оврагах; по ту сторону Хэя было много возвышенностей, и, конечно, там были ручьи: в прозрачной вечерней тишине доносилось их журчание — не только самых близких, но и самых отдаленных.
И вдруг в тихий ропот и журчание, такие далекие и вместе с тем такие отчетливые, ворвались иные звуки: раздался громкий топот, какой-то металлический лязг, заглушившие мягкий лепет струй; не так ли на картине кряжистый утес или мощные извилины старого дуба, выступив отчетливо и резко, вдруг закроют от вас и лазурный холм вдали, и солнечный горизонт, и жемчужные облака, где краски неуловимо переходят одна в другую.
Шум доносился с дороги: видимо, приближалась лошадь. Ее еще не видно было за поворотом, но топот становился все громче. Я быстро поднялась со ступеньки, однако дорога была здесь слишком узка, и пришлось снова сесть, чтобы лошадь могла пройти. В те дни я была молода, и какие только фантастические образы, то смутные, то ослепительные, не волновали мое воображение! Среди прочего вздора в моей душе жили и далекие воспоминания о детских сказках; и когда они снова всплывали, юность придавала им ту силу и живость, каких не знает детство. Пока я ожидала в сумерках появления лошади, все более приближавшейся, мне вспомнились некоторые из сказок Бесси, где фигурировал дух, известный жителям Северной Англии под названием Гитраша: он появляется в образе коня, мула или большой собаки и бегает по пустынным дорогам, иногда настигая запоздалых путников, — так же как сейчас меня настигала эта лошадь.
Она была уже совсем рядом, но я все еще не видела ее. И вдруг, кроме топота, я услышала шорох, и из кустов выбежала огромная собака, резко выделявшаяся на фоне бурого орешника своей черной с белым шерстью. Она в точности соответствовала воплощению Гитраша, как его описывала Бесси: существо, похожее на льва, с длинной шерстью и крупной головой. Пес спокойно пробежал мимо, даже не обратив на меня загадочного собачьего взора, как мне и представлялось заранее. Позади шла лошадь, очень крупная; на ней сидел всадник. Появление человеческого существа — всадника — сразу же рассеяло чары. Никто никогда не ездил верхом на Гитраше, он всегда появлялся один; духи же, насколько я понимала, хотя и могли принимать образ бессловесного животного, вряд ли соблазнились бы оболочкой обыкновенного человека. Нет, это был не Гитраш, а просто путник, спешивший в Милкот ближайшей дорогой. Он миновал меня, и я продолжала идти вперед, но, сделав несколько шагов, обернулась: я услышала, что лошадь скользит по обледенелой тропинке. Путник воскликнул: «Этого еще не хватало!», и тут же лошадь грохнулась. Я остановилась. Конь и всадник лежали на земле. Собака подбежала и, убедившись, что и всадник и лошадь беспомощны, начала лаять так громко, что вечерние холмы отозвались звонким эхом на этот басистый лай, неожиданно гулкий и мощный. Она обнюхала поверженного всадника, и его коня, а затем подбежала ко мне, — ведь это все, что она могла сделать: кругом не было никого, чтобы просить о помощи. И я вняла ее молчаливой мольбе и подошла к всаднику, который силился выпутаться из стремян. Судя по его энергичным движениям, он, видимо, не очень пострадал при падении; все же я не удержалась и спросила его:
— Вы ушиблись, сэр?
Кажется, он выругался, но я и сейчас в этом не уверена; во всяком случае, он пробормотал что-то и не сразу ответил.
— Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? — снова спросила я.
— Отойдите куда-нибудь подальше, — ответил он наконец и приподнялся, сначала встав на колени, а затем во весь рост. После этого раздался грохот скользящих копыт, стук и звон, сопровождаемые понуканием всадника, а также лаем и прыжками пса, и я невольно отступила как можно дальше. Однако мне не хотелось уходить, не увидев результата этих усилий. Наконец попытки увенчались успехом: лошадь снова стала на ноги, а собака успокоилась после приказа хозяина: «Куш, Пилот!» Тогда путник, наклонившись, стал ощупывать свое колено и ступню, словно проверяя их целость; видимо, он все же испытывал боль, ибо схватился за ступеньку, с которой я только что поднялась, и сел на нее.
Мне очень хотелось быть ему полезной или по крайней мере проявить внимание, и я опять подошла к нему.
— Если вы ушиблись, сэр, и вам нужна помощь, я могу сходить в Торнфильдхолл или Хэй.
— Благодарю вас, я и так обойдусь! Кости у меня целы, просто вывих, — и он, снова приподнявшись, сделал попытку стать на ноги, однако это движение вызвало у него болезненное «ой!».
Еще не окончательно стемнело, да и луна светила все ярче, так что я видела его совершенно отчетливо. На нем был плащ для верховой езды с меховым воротником и стальными застежками. Фигуру его было трудно рассмотреть, но он казался среднего роста и широкоплеч. Лицо смуглое, черты суровые, лоб массивный. Глаза под густыми сросшимися бровями горели гневным упрямством. Уже не юноша, он, пожалуй, еще не достиг средних лет, — ему могло быть около тридцати пяти. Я не чувствовала перед ним ни страха, ни особой робости. Будь он романтическим молодым героем, я бы не отважилась надоедать ему расспросами и навязывать свои услуги, но я, вероятно, еще не видела красивых юношей и, уж конечно, ни с одним не говорила. В теории я преклонялась перед красотой, галантностью, обаятельностью; но если бы я встретила все эти достоинства, воплощенными в мужском образе, я бы сразу поняла, что такой человек не найдет во мне ничего притягательного, и бежала бы от него, как от огня или молнии, которые скорее пугают, чем влекут к себе.
Если бы незнакомец улыбнулся мне и добродушно ответил, когда я обратилась к нему, если бы отклонил мою просьбу с приветливой благодарностью, — я, может быть, пошла бы дальше, не возобновив своих вопросов; но его сердитый вид и резкий тон придали мне смелости. Корда он сделал мне знак уйти, я осталась на месте и заявила:
— Я ни в коем случае не могу бросить вас здесь, сэр, в такой поздний час, на пустынной дороге; по крайней мере пока вы не окажетесь в силах сесть на лошадь.
Когда я сказала это, он поднял глаза. До сих пор он едва ли хоть раз взглянул на меня.
— Вам самой давно пора быть дома, — сказал он, — если ваш дом по соседству. Откуда вы взялись?
— Вон оттуда, снизу. И я ничуть не боюсь, — ведь светит луна; я с удовольствием сбегаю в Хэй, если хотите; да мне и нужно туда на почту — отправить письмо.
— Вы живете там, внизу? Вы хотите сказать — вон в том доме с башнями? — спросил он, указывая на Торнфильдхолл, залитый ярким лунным светом и тем резче выделявшийся на фоне лесов, которые издали казались сплошной темной массой.
— Да, сэр.
— А чей это дом?
— Мистера Рочестера.
— Вы знаете мистера Рочестера?
— Нет, я его никогда не видела.
— Разве он не живет там?
— Нет.
— А вы знаете, где он теперь?
— Нет, не знаю.
— Вы не прислуга в доме, это ясно. Вы… — Он остановился, окинув взглядом мою одежду, которая была, как всегда, очень проста: черный мериносовый плащ и черная касторовая шляпка; и то и другое не надела бы даже камеристка знатной дамы. Он, видимо, затруднялся решить, кто же перед ним. Я помогла ему:
— Я гувернантка.
— Ах, гувернантка, — повторил он. — Черт побери, я и забыл! Гувернантка! — и снова принялся рассматривать меня. Минуты через две он поднялся со ступеньки, но едва сделал движение, как лицо его снова исказилось от боли.
— Я не стану посылать вас за помощью, — сказал он, — но вы сами можете мне помочь, если будете так добры.
— Хорошо, сэр.
— У вас нет зонтика, которым я мог бы воспользоваться как тростью?
— Нет.
— Тогда постарайтесь взять мою лошадь и подвести ее ко мне. Вы не боитесь?
Сама я побоялась бы коснуться лошади, но так как мне было предложено это сделать, пришлось послушаться. Положив свою муфту на ограду, я подошла к рослому коню и попыталась схватить его за уздечку, однако лошадь была горячая и не давала мне приблизиться. Я делала все новые попытки, но тщетно. При этом я смертельно боялась ее передних копыт, которыми она непрерывно била. Путник ждал, наблюдая за мной; наконец он рассмеялся.
— Да, уж я вижу, — сказал он, — гора отказывается идти к Магомету! Поэтому все, что вы можете сделать, это помочь Магомету подойти к горе.
Я приблизилась к нему.
— Извините меня, — сказал он, — необходимость заставляет меня воспользоваться вашей помощью.
Его рука тяжело легла на мое плечо, и, весьма ощутительно надавив на него, путник доковылял до своей лошади. Как только ему удалось взять в руки уздечку, он сразу же подчинил себе коня и вскочил в седло, делая при этом ужасные гримасы, так как вывихнутая щиколотка причиняла ему при каждом движении резкую боль.
— Ну вот, — сказал он; и я видела, что он уже не кусает себе губы. — Дайте мне мой хлыст, вон он лежит возле изгороди.
Я поискала хлыст и подала ему.
— Благодарю вас, а теперь бегите с вашим письмом в Хэй и возвращайтесь как можно скорее домой.
Он коснулся лошади шпорами, она взвилась на дыбы, затем поскакала галопом. Собака бросилась следом, и все трое быстро исчезли из виду, —
Как вереск, что в степи сухой Уносит, воя, ветер.Я подобрала свою муфту и зашагала дальше. Эпизод был закончен и уже отошел в прошлое; в нем не было ничего значительного, ничего романтического и, пожалуй, ничего интересного; и все же он внес какое-то разнообразие хотя бы в один час моей бесцветной жизни. Кто-то нуждался в моей помощи и попросил ее; я ее оказала. Мне удалось что-то сделать, и я была рада этому; и хотя услуга эта была ничтожной и случайной, все же я имела возможность действовать, а я так устала от своего однообразного существования. Это новое лицо было как новая картина в галерее моей памяти, оно резко отличалось от всех хранившихся там образов: во-первых, это было лицо мужчины; во-вторых, оно было смуглое, решительное и суровое. И это лицо все еще стояло перед моими глазами, когда я вошла в Хэй и бросила письмо в почтовый ящик. Я видела это лицо перед собой, пока спускалась под гору, торопясь домой. Дойдя до изгороди, я приостановилась, словно ожидая, что опять услышу на дороге топот копыт, увижу всадника в плаще и большого ньюфаундлендского пса, похожего на Гитраша. Но передо мной лишь темнела изгородь и серебристая подстриженная ива безмолвно возносила свою стройную вершину навстречу лучам луны. Я ощущала только легчайшее дуновение ветра, проносившегося за милю отсюда между деревьями, обступившими Торнфильд. И когда я посмотрела вниз, туда, откуда доносился этот непрерывный шелест, мой взгляд невольно отметил одно из окон фасада, в котором трепетал огонек. Это напомнило мне о том, что уже поздно, и я поспешила домой.
Мне не хотелось возвращаться в Торнфильд: переступить через его порог — значило вернуться домой, в стоячее болото; опять бродить по безмолвному холлу, подниматься по мрачной лестнице, сидеть в своей одинокой комнатке, а затем беседовать с безмятежной миссис Фэйрфакс и проводить длинные зимние вечера только с ней, с ней одной — одна мысль об этом была способна погасить то легкое возбуждение, которое было вызвано моей прогулкой, и снова сковать мои силы цепями однообразного и слишком тихого существования, безмятежность и спокойствие которого я уже переставала ценить. Как полезно было бы мне тогда очутиться среди бурь и треволнений необеспеченной жизни, чтобы тоска по тишине и миру, которые меня сейчас так угнетали, пришли ко мне как результат сурового и горького опыта; да, это было мне так же необходимо, как долгая прогулка человеку, засидевшемуся в слишком удобном кресле.
У ворот я помедлила, помедлила и на лужайке перед домом. Я ходила взад и вперед по мощеной аллее; ставни стеклянной входной двери были прикрыты, и я не могла заглянуть внутрь. Казалось, и взор мой и душа влеклись прочь от этого мрачного здания, от этой серой громады, полной темных закоулков, — таким оно по крайней мере мне тогда представлялось, — к распростертому надо мною небу, к этому голубому морю без единого облачка. Луна торжественно поднималась все выше, ее лик словно парил над холмами, из-за которых она показалась; и они отступали все дальше и дальше вниз, тогда как она стремилась к зениту, в неизмеримые и неизведанные бездны полуночного мрака. А за ней следовали трепетные звезды; при виде их мое сердце задрожало и горячее побежала в жилах кровь. Но иногда достаточно пустяка, чтобы возвратить нас на землю: в холле пробили часы, и это заставило меня оторваться от луны и звезд; я открыла боковую дверь и вошла.
В холле было полутемно, горела только бронзовая лампа высоко под потолком; на нижних ступеньках дубовой лестницы лежал теплый красноватый отблеск, — он падал из большой столовой, раздвижные двери которой были открыты; в камине жарко пылал огонь, бросая яркие блики на мраморную облицовку и медную каминную решетку, на пышные пунцовые шторы и полированную мебель; он озарял также и расположившуюся перед камином группу. Но едва я успела взглянуть на нее, едва до меня донеслись веселые голоса, среди которых мне послышался и голос Адели, как дверь уже захлопнулась.
Я поспешила в комнату миссис Фэйрфакс; здесь тоже топился камин, но свечи не были зажжены, и хозяйка отсутствовала. Зато перед камином важно уселся большой, черный с белым, пес, совершенно такой же, как встреченный мною на дороге Гитраш. Он настолько был похож на того пса, что я невольно произнесла: «Пилот!» — и собака поднялась, подошла и стала обнюхивать меня. Я погладила ее, а она помахала пушистым хвостом. Но животное все еще казалось мне каким-то фантастическим существом, я не могла представить себе, откуда оно взялось. Позвонив, я попросила, чтобы принесли свечу; кроме того, мне хотелось узнать, что у нас за гость. Вошла Ли.
— Откуда эта собака?
— Она прибежала за хозяином.
— За кем?
— За хозяином, за мистером Рочестером. Он только что приехал.
— Да что вы? И миссис Фэйрфакс у него?
— Да, и мисс Адель. Они все в столовой, а Джона послали за врачом. С хозяином случилось несчастье: его лошадь упала, и он вывихнул себе ногу.
— Лошадь упала на дороге в Хэй?
— Да, когда он спускался с холма. Она поскользнулась на обледеневшей тропинке.
— А… Принесите мне, пожалуйста, свечу, Ли.
Ли принесла свечу, а за ней следом вошла миссис Фэйрфакс, повторившая мне ту же новость. Она добавила, что мистер Картер, врач, уже прибыл и находится сейчас у мистера Рочестера. Затем она вышла распорядиться относительно чая, а я поднялась наверх, чтобы раздеться.
Глава XIII
По требованию врача мистер Рочестер рано лег в этот вечер и поздно поднялся на следующее утро, А когда наконец сошел вниз, то сразу же занялся делами: явился его управляющий и кое-кто из арендаторов.
Нам с Аделью пришлось освободить библиотеку. Она служила теперь приемной для посетителей. В одной из комнат наверху затопили камин, я перенесла туда наши книги и устроила там классную комнату. В это же утро мне пришлось убедиться, что Торнфильд стал иным. В доме уже не царила тишина, как в церкви: через каждый час или два раздавался стук в парадную дверь или звон колокольчика, в холле слышались шаги и разнообразные голоса, — ручеек из внешнего мира заструился через наш дом, ибо этот дом обрел хозяина. Что касается меня — так он мне нравился больше.
В этот день нелегко было заниматься с Аделью. Она то и дело выбегала из комнаты и, перегнувшись через перила, высматривала, не видно ли где мистера Рочестера, и то и дело изобретала предлоги, чтобы сойти вниз, но я подозревала, что у нее одна цель — библиотека, где ее отнюдь не желали видеть; а когда я, наконец, рассердилась и велела ей сидеть смирно, она продолжала все время болтать о своем друге, monsieur Edouard Fairfax de Rochester, как она его называла (я до сих пор не знала всех его имен), строя предположения относительно тех подарков, какие он ей привез: он, видимо, вчера вечером намекнул ей, что, когда из Милкота приедет его багаж, она найдет там коробку, содержимое которой будет для нее небезынтересно.
— А это значит, — продолжала она по-французски, — что там есть подарок для меня, а может быть, и для вас, мадемуазель. Он спросил меня, как зовут мою гувернантку. Говорит: «Это такая маленькая особа, худенькая и бледненькая?» Я сказала, что да, такая. Ведь это же правда, мадемуазель?
Мы с моей ученицей, как обычно, обедали в комнате миссис Фэйрфакс; во вторую половину дня пошел снег, и мы остались в классной комнате. В сумерки я разрешила Адели убрать книги и сойти вниз, ибо, судя по тишине и по тому, что никто не звонил у парадного входа, можно было предположить, что мистер Рочестер, наконец, свободен. Оставшись одна, я подошла к окну, но ничего не было видно — снег и сумерки образовали плотную пелену и скрыли от глаз даже кусты на лужайке. Я опустила штору и вернулась к камину.
Вглядываясь в причудливый пейзаж, возникший из пылающих углей и пепла, я старалась уловить в нем сходство с виденным мною изображением Гейдельбергского замка на Рейне, когда вошла миссис Фэйрфакс. С ее появлением рассеялись мрачные мысли, которые уже подстерегали меня, воспользовавшись моим одиночеством.
— Мистеру Рочестеру будет очень приятно, если вы и ваша ученица придете сегодня вечером пить чай в гостиную, — сказала она. — Он был так занят весь день, что не мог пригласить вас к себе раньше.
— А в котором часу будет чай? — осведомилась я.
— О, в шесть часов. В деревне он ведет правильный образ жизни. Самое лучшее, если вы переоденетесь сейчас же. Я пойду с вами и помогу вам. Вот вам свеча.
— Разве необходимо переодеваться?
— Да, лучше бы. Я всегда к вечеру переодеваюсь, когда мистер Рочестер дома.
Эта церемония показалась мне несколько претенциозной, однако я вернулась к себе и вместо черного шерстяного надела черное шелковое платье; это было мое лучшее платье, и притом единственная смена, если не считать светло-серого, которое, по моим ловудским понятиям о туалетах, я считала слишком нарядным и годным лишь для высокоторжественных случаев.
— Сюда нужно брошку, — сказала миссис Фэйрфакс.
У меня было лишь одно украшение — жемчужная брошка, которую мне подарила на память мисс Темпль. Я приколола ее, и мы сошли вниз. Не имея привычки к общению с посторонними, я чувствовала себя особенно смущенной оттого, что предстану перед мистером Рочестером после столь официального вызова. Я предоставила миссис Фэйрфакс войти в столовую первой и спряталась за нее, когда мы проходили через комнату; затем, миновав арку с опущенной драпировкой, я вошла в элегантную гостиную.
На столе стояли две зажженные восковые свечи и еще две — на камине. В тепле и свете ослепительно пылавшего камина растянулся Пилот, а рядом с ним стояла на коленях Адель. На кушетке, слегка откинувшись назад, полулежал мистер Рочестер, его нога покоилась на валике; он смотрел на Адель и на собаку. Пламя ярко освещало все его лицо. Я сразу же узнала в нем вчерашнего незнакомца, — это были те же черные густые брови, тот же массивный угловатый лоб, казавшийся квадратным в рамке темных волос, зачесанных набок. Я узнала его резко очерченный нос, скорее характерный, чем красивый, раздувающиеся ноздри, говорившие о желчности натуры, жесткие очертания губ и подбородка, — да, все это носило, несомненно, отпечаток угрюмости. Его фигура — он был теперь без плаща — соответствовала массивной голове; не отличаясь ни высоким ростом, ни изяществом, он все же был сложен превосходно, ибо при широких плечах и груди имел стройный стан.
Мне казалось, что мистер Рочестер заметил, как мы вошли, но, может быть, не хотел это обнаружить, ибо не поднял головы, когда мы приблизились.
— Вот мисс Эйр, сэр, — сказала миссис Фэйрфакс с присущим ей спокойствием.
Он поклонился, все еще не отводя глаз от ребенка и собаки.
— Пусть мисс Эйр сядет, — сказал он. И в его чопорном и принужденном поклоне, в нетерпеливых, однако вежливых интонациях его голоса было что-то, как бы говорившее: какое мне, черт побери, дело до того, здесь мисс Эйр или нет! В данную минуту я нисколько не расположен ее видеть.
Я села, и мое смущение исчезло. Безукоризненно вежливый прием вызвал бы, вероятно, во мне чувство неловкости. Я бы не сумела ответить на него с подобающей изысканной любезностью; но эта своенравная резкость снимала с меня всякие обязательства, спокойствие же и самообладание, наоборот, давали мне преимущество над ним. Кроме того, в эксцентричности его поведения было что-то неожиданное и вызывающее. И мне было интересно посмотреть, как он будет держаться дальше.
Впрочем, он продолжал вести себя так, как вел бы себя истукан, то есть не двигался и не говорил. Миссис Фэйрфакс, видимо, находила, что кто-нибудь должен же быть любезен, и начала говорить сама — как обычно, очень ласково и, как обычно, одни банальности. Она выразила мистеру Рочестеру сочувствие по поводу того, что ему весь день докучали делами и что у него такая невыносимая боль, и заметила напоследок, что надо быть очень терпеливым и осторожным, если он хочет скорее поправиться.
— Сударыня, я попросил бы чашку чая, — был единственный ответ, последовавший на эту тираду.
Она торопливо позвонила и, когда Ли принесла чайный прибор, принялась с хлопотливым усердием расставлять чашки. Мы с Аделью перешли к столу, однако хозяин остался на кушетке.
— Будьте добры, передайте мистеру Рочестеру его чашку, — обратилась ко мне миссис Фэйрфакс, — как бы Адель не пролила.
Я исполнила ее просьбу. Когда он брал чашку из моих рук, Адель, видимо, решила, что настала подходящая минута и надо напомнить и обо мне.
— А ведь в вашем чемодане, мсье, наверное есть подарок и для мисс Эйр?
— О каких подарках ты говоришь? — сердито спросил он. — Вы разве ожидали подарки, мисс Эйр? Вы любите получать подарки? — и он испытующе посмотрел мне в лицо своими темными, злыми и недоверчивыми глазами.
— Право, не знаю, сэр. У меня в этом отношении мало опыта, но обычно считается, что получать подарки очень приятно.
— Обычно считается? А что вы думаете?
— Мне, вероятно, понадобилось бы некоторое время, сэр, чтобы дать вам удовлетворительный ответ. Ведь подарки бывают разные, и тут надо еще поразмыслить, прежде чем ответить.
— Вы, мисс Эйр, не так простодушны, как Адель: она откровенно требует от меня подарка, вы же действуете исподтишка.
— У меня меньше уверенности в моих правах, чем у Адели, она может опираться на права давнего знакомства и на силу обычая: она утверждает, что вы всегда ей дарили игрушки. Мне же не на что опереться в моих требованиях, так как я здесь чужая и не сделала решительно ничего, заслуживающего благодарности.
— Ах, не напускайте на себя, пожалуйста, еще сверхскромность. Я экзаменовал Адель и вижу, что вы немало потрудились. У нее не бог весть какие способности и уж вовсе нет никаких талантов, и все-таки за короткое время она достигла больших успехов.
— Вот вы мне и сделали подарок, сэр; и я вам чрезвычайно признательна. Самая большая радость для учителя, когда похвалят его ученика.
— Гм… — мистер Рочестер промычал что-то невразумительное и начал молча пить чай.
— Присядьте к огню, — сказал мне мой хозяин, когда чай был убран и миссис Фэйрфакс уселась в уголке со своим вязаньем, а Адель принялась водить меня за руку по комнате, показывая книги в роскошных переплетах и красивые безделушки на консолях и шифоньерках. Мы послушались, как нам и полагалось. Адель хотела усесться у меня на коленях, но ей было приказано играть с Пилотом.
— Вы прожили в моем доме три месяца?
— Да, сэр.
— Вы приехали из…?
— Из Ловудской школы в …ширском графстве.
— А, из благотворительного учреждения! Сколько вы там пробыли?
— Восемь лет.
— Восемь лет! Ну, значит, вы очень живучи. Мне кажется, если прожить там половину этого времени, так подорвешь и не такое здоровье. Неудивительно, что вы похожи на существо из другого мира. А я-то спрашивал себя, откуда у вас такое лицо! Когда вы вчера вечером встретились мне на дороге в Хэй, я почему-то вспомнил о феях и чуть не спросил вас, не вы ли напустили порчу на мою лошадь; я и сейчас еще не разубедился в этом. Кто ваши родители?
— У меня их нет.
— Наверно, никогда и не было, а? Вы их помните?
— Нет.
— Я так и думал. И что же, вы ждали своих сородичей, сидя у изгороди?
— Кого ждала, сэр?
— Маленьких человечков в зеленом? Был как раз подходящий лунный вечер. Я, вероятно, помешал вашим танцам, поэтому вы и сковали льдом проклятую тропинку?
Я покачала головой.
— Маленькие человечки в зеленом покинули Англию лет сто назад, — сказала я, продолжая разговор в том же тоне, что и он. — И теперь ни в Хэе, ни в окрестных селах не осталось от них и следа. Я думаю, что ни летняя, ни осенняя, ни зимняя луна больше никогда не озарит их игр.
Миссис Фэйрфакс уронила на колени вязанье и, удивленно подняв брови, прислушивалась к нашему странному разговору.
— Что ж, — продолжал мистер Рочестер. — Если у вас нет родителей, то должны быть какие-нибудь родственники — дяди и тети?
— Нет. По крайней мере я о них ничего не знаю.
— А где ваш дом?
— У меня нет дома.
— Где живут ваши братья и сестры?
— У меня нет братьев и сестер.
— Кто же посоветовал вам приехать сюда?
— Я дала объявление в газетах, и миссис Фэйрфакс написала мне.
— Да, — сказала добрая старушка, для которой последние вопросы были гораздо понятнее, — и я каждый день благодарю провидение за то, что оно помогло мне сделать этот выбор. Общество мисс Эйр для меня неоценимо, а в отношении Адели она оказалась доброй и внимательной воспитательницей.
— Пожалуйста, не трудитесь превозносить ее, — отозвался мистер Рочестер, — похвалы меня не убедят, я буду сам судить о ней. Она начала с того, что заставила упасть мою лошадь.
— Сэр?! — удивилась миссис Фэйрфакс.
— Я ей обязан этим вывихом.
Вдова, видимо, растерялась.
— Мисс Эйр, вы когда-нибудь жили в городе?
— Нет, сэр.
— Вы бывали в обществе?
— Нет, только в обществе учениц и учительниц Ловуда, а теперь — обитателей Торнфильда.
— Вы много читали?
— Только те книги, которые случайно попадали мне в руки, да и тех было не слишком много и не очень-то ученые.
— Вы жили, как монахиня, и, без сомнения, хорошо знаете религиозные обряды. Ведь Брокльхерст, который, насколько мне известно, является директором Ловуда, священник? Не так ли?
— Да, сэр.
— И вы, девочки, наверное, обожали его, как монашки в монастыре обожают своего настоятеля?
— О нет!
— Как равнодушно вы об этом говорите. Подумайте — послушница и не обожает своего настоятеля! Это звучит почти кощунственно!
— Мистер Брокльхерст был мне антипатичен, и не я одна испытывала это чувство. Он грубый человек, напыщенный и в то же время мелочный; он заставлял нас стричь волосы и из экономии покупал плохие нитки и иголки, которыми нельзя было шить.
— Это очень плохая экономия, — заметила миссис Фэйрфакс, снова почувствовавшая себя в своей сфере.
— И это главное, чем он обижал вас? — спросил мистер Рочестер.
— Когда он один ведал провизией, еще до того, как был назначен комитет, он морил нас голодом, а кроме того, изводил своими бесконечными наставлениями и вечерними чтениями книг его собственного сочинения — о грешниках, пораженных внезапной смертью или страшными карами, так что мы боялись ложиться спать.
— Сколько вам было лет, когда вы поступили в Ловуд?
— Около десяти.
— И вы пробыли там восемь лет. Значит, вам теперь восемнадцать.
Я кивнула.
— Как видите, арифметика вещь полезная; без нее я едва ли угадал бы ваш возраст. Это трудное дело, когда детский облик и серьезность не соответствуют одно другому, — как у вас, например. Ну, и чему же вы научились в Ловуде? Вы умеете играть на рояле?
— Немножко.
— Конечно, всегда так отвечают. Пойдите в библиотеку… я хочу сказать: пожалуйста. (Извините мой тон, я привык говорить «сделайте» и привык, что все делается по моему приказанию. Я не могу менять своих привычек ради новой обитательницы моего дома.) Итак, пойдите в библиотеку, захватите с собой свечу, оставьте дверь открытой, сядьте за рояль и сыграйте что-нибудь.
Я встала и пошла исполнять его желание.
— Довольно! — крикнул он спустя несколько минут. — Вы действительно играете «немножко», я вижу. Как любая английская школьница. Может быть, чуть-чуть лучше, но не хорошо.
Я закрыла рояль и вернулась. Мистер Рочестер продолжал:
— Адель показывала мне сегодня утром рисунки и сказала, что это ваши. Я не знаю, принадлежат ли они только вам. Вероятно, к ним приложил руку и ваш учитель?
— О нет! — воскликнула я.
— А, это задевает вашу гордость! Ну, пойдите принесите вашу папку, если вы можете поручиться, что ее содержимое принадлежит только вам; но не давайте слова, если не уверены, я сейчас же отличу подделку.
— Тогда я ничего не скажу, а вы судите сами, сэр.
Я принесла папку из библиотеки.
— Пододвиньте стол, — сказал он, и я подкатила столик к дивану. Адель и миссис Фэйрфакс тоже подошли.
— Не мешайте, — сказал мистер Рочестер, — вы получите от меня рисунки, когда я их посмотрю. О господи! Да не заслоняйте мне…
Он неторопливо принялся рассматривать каждый набросок и каждую акварель. Три из них он отложил, остальные после осмотра отодвинул.
— Возьмите их на тот стол, миссис Фэйрфакс, — сказал он, — и посмотрите вместе с Аделью. А вы, — он взглянул на меня, — садитесь на свое место и отвечайте на мои вопросы. Я вижу, что эти рисунки сделаны одной и той же рукой Это — ваша рука?
— Да.
— А когда вы это успели? Ведь тут понадобилось немало времени и кое-какие мысли.
— Я сделала их во время последних двух каникул в Ловуде. У меня тогда не было других занятий.
— Откуда вы взяли сюжеты?
— Я сама их придумала.
— Вот эта самая голова придумала, которая сидит на ваших плечах?
— Да, сэр.
— И там есть еще такие же мысли?
— Думаю, что есть, вернее — надеюсь.
Он разложил перед собой наброски и снова стал по очереди их рассматривать.
Пока он занят ими, я вам расскажу, читатель, их содержание. Во-первых, должна предупредить, что в них не было ничего примечательного. Эти образы возникли в моем воображении, и когда я видела их умственным взором, еще до того, как перенесла их на бумагу, они поражали меня своей живостью; но моя рука была бессильна, она не поспевала за моей фантазией, и я набросала только слабое подобие представшего мне видения.
Рисунки были сделаны акварелью. На первом — низкие, синевато-багровые тучи клубились над бурным морем. Все морское пространство тонуло в полумраке, сквозь мглу проступал лишь передний план, или вернее ближайшие волны, так как земли не было видно. Луч света падал на полузатопленную мачту, на которой сидел баклан, большой и темный, с обрызганными пеной крыльями; в клюве он держал золотой браслет с драгоценными камнями, которым я придала всю ту яркость, какую могла извлечь из своей палитры, и всю ту выпуклость и четкость, на которую был способен мой карандаш. Под мачтой и сидевшей на ней птицей сквозь зеленую воду просвечивало тело утопленницы. Отчетливо виднелась только прекрасная стройная рука, с которой был сорван или смыт браслет
На переднем плане второй картины выступал высокий горный пик, поросший травой, по которой ветер как будто гнал сухие листья. Над ним и за ним широко раскинулось небо — темно-голубое, каким оно бывает в сумерках. А на фоне этого неба, со всей той мягкостью и воздушностью, какую только я могла ей придать, я набросала фигуру женщины, видную по пояс. Туманное чело венчала звезда; черты лица, казалось, были затянуты дымкой, но глаза светились каким-то темным огнем, а волосы, подобно черной туче, разорванной бурей или молнией, окутывали плечи. На шее лежал бледный отблеск, как бы от лунного света. Тот же легкий отблеск озарял и прозрачные облака, из которых вставало это видение вечерней звезды.
На третьей была изображена вершина айсберга, вздымавшаяся к полярному зимнему небу. Сноп северного сияния разбросал свои туманные копья по горизонту. На переднем плане вырисовывалась гигантская голова, прислонившаяся к айсбергу, две прозрачных руки закрывали лицо черным вуалем. Были видны только бескровный лоб, белый, как кость, и тускло блестевший, лишенный всякого выражения глаз. Над висками, среди складок черного тюрбана, смутное и прозрачное, как облако, светилось кольцо белого пламени, служившее оправой для нескольких более ярких искр. Это кольцо было как бы «подобьем царственной короны», и оно венчало «ту форму, что формы не имеет».
— Вы чувствовали себя счастливой, когда рисовали эти картины? — вдруг спросил меня мистер Рочестер.
— Я была целиком поглощена ими, сэр; да, я была счастлива. Словом, когда я их рисовала, я испытывала самую сильную радость в своей жизни.
— Ну, это еще немного. Как вы рассказывали, ваша жизнь не богата радостями, но мне кажется, что когда вы запечатлевали эти странные образы, вы жили в том фантастическом мире, в котором живет художник. Вы подолгу сидели над ними каждый день?
— Мне нечего было делать во время каникул, и я просиживала над ними с утра до ночи. Этому благоприятствовали и длинные летние дни.
— И вы чувствовали себя удовлетворенной результатом вашей усердной работы?
— О нет. Меня все время мучил контраст между замыслом и выполнением. Каждый раз я представляла себе то, что была бессильна воплотить.
— Не совсем: вам все же удалось закрепить на бумаге хотя бы тень ваших видений; но, вероятно, не больше. Чтобы довести дело до конца, вам не хватало ни мастерства, ни знаний; все же для девушки, только что окончившей школу, это странные рисунки. Что касается замысла, то он принадлежит царству фей. Эти глаза вечерней звезды вам, вероятно, приснились? Как могли вы придать. им эту ясность, и притом без всякого блеска? Ведь звезда над ними затмевает их лучи. И что таится в их суровой глубине? А кто научил вас рисовать ветер? Чувствуешь, что в небе над горой настоящая буря. И где вы видели. Латмос? Ибо это Латмос! Нате, возьмите ваши рисунки..
Едва я успела завязать папку, как он взглянул на часы и откровенно сказал:
— Уже девять часов. О чем вы думаете, мисс Эйр? Адели давно пора спать. Пойдите и уложите ее.
Перед тем как выйти из комнаты, Адель подошла и поцеловала его. Он терпеливо принял эту ласку, но, видимо, она не произвела на него большого впечатления. Пилот и то ответил бы приветливее.
— Ну, я вам всем пожелаю спокойной ночи. — Он сделал рукой жест, указывая на дверь и как бы говоря этим, что устал от нашего общества и отпускает нас. Миссис Фэйрфакс сложила вязанье, я взяла свою папку. Мы поклонились ему — он ответил нам коротким кивком — и вышли.
— Вы сказали, что в мистере Рочестере нет никаких бросающихся в глаза особенностей, миссис Фэйрфакс, — заметила я, войдя к ней в комнату, после того как уложила Адель.
— А по-вашему, есть?
— Мне кажется, он очень непостоянен и резок.
— Верно. Он может показаться таким новому человеку, но я настолько привыкла к его манере, что просто не замечаю ее. Да если и есть у него странности в характере, то их можно извинить.
— Чем же?
— Отчасти тем, что у него такая натура, — а кто из нас в силах бороться со своей натурой? Отчасти, конечно, тем, что тяжелые мысли мучают его и лишают душевного равновесия.
— Мысли о чем?
— Прежде всего о семейных неприятностях.
— Но ведь у него нет семьи?
— Теперь нет, но была, по крайней мере были родные. Он потерял старшего брата всего несколько лет назад.
— Старшего брата?
— Да. Наш мистер Рочестер не так давно стал владельцем этого поместья, всего девять лет.
— Девять лет — срок немалый. Разве он так любил своего брата, что до сих пор не может утешиться?
— Ну, это вряд ли; насколько я знаю, между ними часто бывали недоразумения. Мистер Роланд Рочестер был не совсем справедлив к нашему мистеру Эдварду. Возможно, он восстановил против него отца. Старик очень любил деньги и старался сохранить семейную собственность неприкосновенной. Ему не хотелось делить имение, но все же он мечтал о том, чтобы и мистер Эдвард был богат и поддерживал их имя на должной высоте. И едва сын достиг известного возраста, как отец предпринял кое-какие меры — не очень-то красивые — и в результате натворил кучу бед. Старик и мистер Роланд действовали заодно ради того, чтобы приобрести богатство, и из-за них мистер Эдвард попал в затруднительное положение. В чем там было дело, я толком так и не знаю, но он не мог вынести всего того, что на него свалилось. Мистер Рочестер не очень-то легко прощает. Вот он и порвал с семьей и уже много лет скитается по свету. Мне кажется, он никогда не живал в Торнфильде больше двух недель сряду, с тех пор как сделался владельцем этого имения после смерти брата, не оставившего завещания. Неудивительно, что он ненавидит старый дом и избегает его.
— А почему бы мистеру Рочестеру избегать его?
— Может быть, он кажется ему слишком мрачным.
Этот ответ не удовлетворил меня. Мне хотелось знать больше; однако миссис Фэйрфакс или не желала, или не могла дать мне более подробных сведений о происхождении и причинах этих горестей мистера Рочестера. Она утверждала, что они тайна для нее самой и все ее сведения сводятся к догадкам. Мне было ясно, что она не намерена продолжать разговор на эту тему, и я прекратила расспросы.
Глава XIV
В последующие дни я мало видела мистера Рочестера. По утрам он был занят всевозможными делами, а во вторую половину дня приезжали джентльмены из Милкота и из соседних поместий и нередко оставались обедать. Когда его нога зажила и можно было садиться на лошадь, он стал много выезжать — очевидно, отдавал визиты — и возвращался домой только поздно вечером.
В эти дни он даже Адель вызывал к себе только изредка, а я лишь случайно встречалась с ним в холле, на лестнице или в коридоре, причем иногда он проходил мимо с холодным и надменным видом, отвечая на мой поклон только кивком или равнодушным взглядом, — а иногда приветливо кланялся, с чисто светской улыбкой. Эти перемены в его настроениях не обижали меня, я чувствовала, что все это ко мне не имеет отношения. Тут действовали какие-то иные причины.
Однажды, когда у него были гости к обеду, он прислал за моей папкой: видимо, хотел показать мои рисунки. Джентльмены уехали рано; в Милкоте, — так сообщила миссис Фэйрфакс, — предполагалось какое-то многолюдное собрание. Так как вечер оказался дождливым и холодным, мистер Рочестер не поехал. Едва гости отбыли, как он позвонил, — Адель и меня позвали вниз. Я пригладила ей волосы щеткой, одела поизящнее и, убедившись, что сама, как обычно, несколько напоминаю квакершу и в моем туалете нечего поправлять, настолько было все просто и скромно, включая и гладкую прическу, спустилась с Аделью вниз, причем маленькая француженка оживленно обсуждала вопрос о том, пришел ли, наконец, ее «ящик», который вследствие какой-то ошибки задержался в пути. На этот раз ее надежды оправдались: когда мы вошли, то увидели на столе долгожданную картонную коробку. Адель словно инстинктивно угадала, что это ее коробка.
— Ma boite, ma boite![11] — воскликнула она, подбегая к столу.
— Да, это твоя boite наконец-то! Садись с ней в уголок, о ты, истинная дочь Парижа, и открой ее, — услышала я низкий насмешливый голос мистера Рочестера, донесшийся из глубины огромного кресла возле камина. — И смотри, — продолжал он, — не надоедай мне подробностями этого увлекательного процесса или какими-нибудь замечаниями относительно содержимого коробки. Словом, производи все операции в полном молчании. Tiens toi tranquille, enfant comprends tu?[12]
Но Адель, видимо, не нуждалась в этом предупреждении. Она забралась вместе со своим сокровищем на диван и торопливо развязывала бечевку, придерживавшую крышку. Открыв коробку и развернув покровы шелковой бумаги, она только тихо воскликнула:
— Oh ciel! Que c'est beau![13] — и предалась восхищенному созерцанию своих сокровищ.
— А мисс Эйр здесь? — спросил хозяин, приподнимаясь в кресле и оглядываясь на дверь, возле которой я стояла.
— Так вот вы где! Идите сюда, садитесь. — Он подвинул стул к своему креслу. — Я не люблю детской болтовни, — продолжал он, — так как я старый холостяк и у меня нет никаких приятных воспоминаний, связанных с детским лепетом. Я был бы не в состоянии провести целый вечер наедине с малышом. Не отодвигайте ваш стул, мисс Эйр. Пусть он стоит там, где я его поставил, то есть — пожалуйста… Черт побери все эти вежливости! Я постоянно забываю о них… Не испытываю я также особой симпатии и к простодушным старушкам. Однако о своей мне приходится помнить. Я не имею права забывать о ней, она все-таки носит фамилию Фэйрфакс, или была замужем за Фэйрфаксом, — а говорят, что родственниками нельзя пренебрегать.
Он позвонил, прося пригласить миссис Фэйрфакс, которая вскоре явилась со своей корзиночкой для вязанья.
— Добрый вечер, сударыня! Я послал за вами, рассчитывая на ваше милосердие: я запретил Адели разговаривать со мной о своих подарках, а она жаждет излиться перед кем-нибудь. Будьте столь добры, возьмите на себя роль публики и собеседницы. Это будет истинным благодеянием.
И действительно, едва Адель увидала миссис Фэйрфакс, как усадила ее на диван и тотчас же выложила ей на колени все те вещицы из фарфора, слоновой кости и воска, которые нашла в своей boite. Она засыпала ее объяснениями на ломаном английском языке, на котором тогда говорила.
— Теперь я выполнил свой долг внимательного хозяина, — продолжал мистер Рочестер, — то есть предоставил гостям занимать друг друга, и могу на свободе подумать о собственных удовольствиях. Мисс Эйр, подвиньте ваш стул еще немного вперед, вы все-таки сидите слишком позади меня. Чтобы видеть вас, я должен переменить свое положение в удобном кресле, а я отнюдь не собираюсь этого делать.
Я исполнила его требование, хотя гораздо охотнее осталась бы в тени; но мистер Рочестер так умел приказывать, что вы поневоле ему повиновались.
Мы сидели, как я уже упоминала, в столовой; люстра, зажженная к обеду, заливала комнату праздничным светом. Ярко пылал камин, красные драпировки тяжелыми пышными складками свисали с высокого окна и с еще более высокой арки; все было тихо, слышалась только сдержанная болтовня Адели (она не смела говорить слишком громко) да во время пауз доносился шум зимнего дождя, хлеставшего в оконные стекла.
Сейчас мистер Рочестер, сидевший в своем роскошном кресле, выглядел иначе, чем обычно. Он был не такой строгий, не такой угрюмый. Его губы улыбались, глаза блестели, может быть от выпитого вина, — в чем я не уверена, но что было весьма вероятно. Словом, после обеда его настроение слегка поднялось. Он стал гораздо общительнее и откровеннее, гораздо снисходительнее и добродушнее, чем казался по утрам. И все же лицо его оставалось довольно мрачным, голова была откинута на мягкую спинку кресла; словно высеченные из гранита черты и темные глаза озаряло пламя камина, — а глаза у него были действительно прекрасные — большие, черные, и в их глубине что-то все время менялось, в них на мгновение вспыхивала какая-то мягкость или что-то близкое к ней.
Минуты две он смотрел на огонь, а я смотрела на него. Вдруг он обернулся и перехватил мой взгляд, прикованный к его лицу.
— Вы рассматриваете меня, мисс Эйр, — сказал он. — Как вы находите, я красив?
Если бы у меня было время подумать, я бы ответила на этот вопрос так, как принято отвечать в подобных случаях: что-нибудь неопределенное и вежливое, но ответ вырвался у меня до того, как я успела удержать его:
— Нет, сэр!..
— Честное слово, в вас есть что-то своеобразное! Вы похожи на монашенку, когда сидите вот так, сложив руки, — тихая, строгая, спокойная, устремив глаза на ковер, за исключением тех минут, впрочем, когда ваш испытующий взор устремлен на мое лицо, как, например, сейчас; а когда задаешь вам вопрос или делаешь замечание, на которое вы принуждены ответить, вы сразу ошеломляете человека если не резкостью, то, во всяком случае, неожиданностью своего ответа. Ну, так как же?
— Сэр, я слишком поторопилась, прошу простить меня. Мне следовало сказать, что нелегко ответить сразу на вопрос о наружности, что вкусы бывают различны, что дело не в красоте и так далее.
— Вот уж нет, вам не следовало говорить ничего подобного. Скажите тоже — дело не в красоте! Вместо того чтобы смягчить ваше первое оскорбление, утешить меня и успокоить, вы говорите мне новую колкость. Продолжайте. Какие вы находите во мне недостатки? По-моему, у меня все на месте и лицо, как у всякого другого?..
— Мистер Рочестер, разрешите мне взять назад мои слова; я не то хотела сказать, это была просто глупость.
— Вот именно, я тоже так думаю, и вам придется поплатиться за нее. Ну, давайте разберемся: мой лоб вам не нравится?
Он приподнял черную прядь волос, лежавшую над его бровями, и показал высокий, умный лоб; лицу его, однако, недоставало выражения доброты и снисходительности.
— Что ж, сударыня, я, по-вашему, дурак?
— Отнюдь нет, сэр. Но не примите за грубость, если я отвечу вам другим вопросом: считаете ли вы себя человеком гуманным?
— Ну вот опять! Колкость вместо ожидаемого комплимента. А все потому, что я заявил о своей нелюбви к детям и старушкам. Нет, молодая особа, я не слишком гуманен, но совесть у меня есть. — И он указал на выпуклости своего лба, которые, как говорят, свидетельствуют о чувствительной совести и которые были у него, к счастью, достаточно развиты, придавая особую выразительность верхней части лица. — Кроме того, — продолжал он, — в моей душе жила когда-то своеобразная грубоватая нежность, и в вашем возрасте я был довольно отзывчив, особенно по отношению к угнетенным, несчастным и забитым. Но с тех пор жизнь сильно потрепала меня, она основательно обработала меня своими кулаками, и теперь я могу похвастаться тем, что тверд и упруг, как резиновый мяч, хотя в двух-трех местах сквозь оболочку мяча можно проникнуть вглубь и коснуться чувствительной точки, таящейся в самой средине. Так вот, смею я надеяться?
— Надеяться на что, сэр?
— На мое превращение из резинового мяча в живого человека.
«Нет, он, наверное, выпил лишнее!» — решила я, не зная, что ответить на этот странный вопрос. Действительно, откуда мне было знать, способен он на это превращение или нет?
— Вы очень смущены, мисс Эйр, и хотя вас нельзя назвать хорошенькой, так же как меня нельзя назвать красавцем, смущение вам идет; кроме того, оно отвлекает ваш взгляд от моей физиономии и заставляет вас рассматривать цветы на ковре; поэтому продолжайте смущаться. Сударыня, я расположен быть сегодня общительным и откровенным!
После этого заявления он поднялся с кресла и встал, положив руку на мраморную каминную доску. В этой позе его фигура была видна так же отчетливо, как и лицо. Ширина плеч не соответствовала росту. Вероятно, многие сочли бы его некрасивым, однако в его манере держаться было столько бессознательной гордости, столько непринужденности, такое глубокое равнодушие к своему внешнему облику, такая надменная уверенность в превосходстве своих более высоких качеств, заменяющих физическую красоту, что, глядя на него, вы невольно готовы были поверить в него, как он сам в себя верил.
— Я расположен сегодня быть общительным и откровенным, — повторил он. — Вот почему я послал за вами. Меня не удовлетворяет общество камина и подсвечников, а также Пилота, ибо они вовсе лишены дара речи. Адель уже чуть-чуть лучше, но и она не годится; то же самое и миссис Фэйрфакс. Вы же, я в этом уверен, можете, если захотите, удовлетворить моим требованиям. Вы заинтересовали меня в первый же раз, когда я вас сюда позвал. С тех пор я почти забыл вас, другие мысли занимали меня. Но сегодня я решил провести спокойный вечер, отбросив все, что докучает мне, и помнить только приятное. Мне хотелось бы заставить вас высказаться, узнать вас лучше, поэтому — говорите.
Вместо того чтобы заговорить, я улыбнулась. Это была отнюдь не снисходительная или покорная улыбка.
— Говорите же, — настаивал он.
— Но о чем, сэр?
— О чем хотите. Я целиком предоставляю вам и выбор темы и ее обсуждение.
Я сидела и молчала. «Если он хочет, чтобы я говорила единственно ради того, чтобы болтать, то увидит, что напрасно обратился за этим ко мне», — думала я.
— Вы онемели, мисс Эйр?
Я все еще молчала. Он слегка наклонил ко мне голову и бросил на меня быстрый взгляд, словно проникший в самую глубину моей души.
— Упрямитесь? — сказал он. — Рассердились? О, это понятно. Я высказал свое требование в нелепой, почти дерзкой форме. Мисс Эйр, я прошу извинить меня. Прежде всего имейте в виду, что я вовсе не хочу обращаться с вами, как с существом, ниже меня стоящим, то есть (поправился он) я притязаю только на то превосходство, которое дают мне двадцать лет разницы между нами и целый век жизненного опыта. Это вполне законно et j'y tiens[14], — как сказала бы Адель; и вот на основе этого превосходства, и только его, я прошу вас теперь быть такой доброй и немножко поговорить со мной, чтобы отвлечь меня от мыслей, которые окончательно мне опостылели и тревожат меня, как больной зуб.
Он снизошел до объяснения, почти до просьбы о прощении. Я не осталась равнодушной к его словам и не хотела этого скрыть.
— Я охотно готова развлечь вас, сэр, если смогу, очень охотно, — но с чего же мне начать? Ведь я не знаю, что вас интересует. Задавайте мне вопросы, и я постараюсь ответить на них.
— Тогда прежде всего скажите: вы согласны, что я имею некоторое право на властный, а иногда, может быть, резкий тон? Я и в самом деле бываю очень настойчив, но имею на это право по той причине, на которую уже указал, а именно: что я гожусь вам в отцы, что я приобрел большой жизненный опыт, общаясь со многими людьми разных национальностей, исколесил половину земного шара, тогда как вы спокойно жили на одном месте среди все тех же людей.
— Поступайте как вам угодно, сэр.
— Это не ответ, или вернее — ответ, способный вызвать раздражение, так как он слишком уклончив. Выскажитесь яснее.
— Я не думаю, сэр, чтобы вы имели право приказывать мне лишь потому, что вы старше меня, или потому, что лучше знаете жизнь. Ваши притязания на превосходство могут основываться только на том, какие вы извлекли уроки из жизни и вашего опыта.
— Гм, неплохо сказано, но согласиться с этим я не могу, потому что никаких уроков я не извлек, разве только самые неподходящие. Оставив в стороне вопрос о превосходстве, вы все-таки должны примириться с тем, чтобы иногда подчиняться моим приказаниям, не обижаясь и не сердясь на мой повелительный тон. Согласны?
Я улыбнулась. Мне пришло в голову, что все же мистер Рочестер весьма своеобразный человек. Он, видимо, забывает, что платит мне в год тридцать фунтов за то, чтобы я исполняла его приказания.
— Это хорошая улыбка, — сказал он, мгновенно уловив скользнувшее по моему лицу выражение. — Но говорите.
— Я подумала, сэр, о том, что далеко не всякий хозяин будет спрашивать свою подчиненную, которой он платит деньги, не обижают ли ее и не сердят ли его приказания.
— Свою подчиненную, которой он платит деньги? Это вы моя подчиненная, которой я плачу? Ах да, я забыл про ваше жалованье! Ну, что же! Хоть на этой меркантильной основе вы мне разрешите слегка подразнить вас?
— Нет, сэр, не поэтому, а потому, что вы забыли об этом, и потому, что вам не безразлично, как ощущает ваша подчиненная свою зависимость, — я соглашаюсь от всего сердца.
— И вы согласны обойтись без некоторых общепринятых фраз и форм вежливости и не считать, что это дерзость?
— Я уверена, сэр, что никогда не приму отсутствие формальности за дерзость. Первое мне нравится, а второго не потерпит ни одно свободнорожденное существо ни за какое жалованье.
— Вздор! Большинство свободнорожденных существ стерпит за деньги что угодно; поэтому говорите только о себе и не судите о вещах, в которых вы совершенно не разбираетесь; впрочем, в душе я пожимаю вам руку за ваш ответ, хотя он и неверен, а также за то, как вы ответили. Вы говорили искренне и прямо, — не часто слышишь такой тон: обычно на искренность отвечают напускной любезностью, или холодностью, или тупым и грубым непониманием. Из трех тысяч молодых гувернанток не нашлось бы и трех, которые ответили бы мне так, как вы. Но я не собираюсь льстить вам: если вы сотворены иначе, чем огромное большинство, — это не ваша заслуга, Такой вас сделала природа. И потом, я слишком тороплюсь с моими заключениями. Пока что я не имею оснований считать вас лучше других. Может быть, при кое-каких положительных чертах вы таите в себе возмутительные недостатки.
«Может быть, и вы тоже?» — подумала я. Когда у меня мелькнула эта мысль, наши взгляды встретились. Казалось, он прочел ее, и ответил, словно она была высказана вслух:
— Да, да, вы правы! У меня у самого куча недостатков. Я знаю их и вовсе не собираюсь оправдываться, уверяю вас. Одному богу известно, как у меня мало оснований быть строгим к другим. В моей прежней жизни было немало дурных поступков, да и весь характер этой жизни таков, что всякие насмешки и порицания, с которыми я обратился бы к моим ближним, прежде всего обратятся на меня самого. Когда мне шел двадцать первый год, я вступил, или, вернее (как и все грешники, я готов переложить половину ответственности за свои несчастия на других), я был увлечен на ложную тропу, и с тех пор так и не вернулся на правильный путь. А ведь я мог быть совсем иным — таким же, как вы, но только мудрее, и почти таким же непорочным. Я завидую покою вашей души, чистоте вашей совести, незапятнанности ваших воспоминаний. Знаете, маленькая девочка, чистые воспоминания, ничем не оскверненные, — это восхитительное сокровище, это неиссякающий источник живительных сил! Не так ли?
— А каковы были ваши воспоминания, когда вам было восемнадцать лет, сэр?
— О, тогда все было хорошо! Это были чистые и здоровые воспоминания! Никакая грязь, никакая гниль не отравляла их. В восемнадцать лет я был подобен вам, совершенно подобен. Природа создала меня неплохим человеком, мисс Эйр, — а вы видите, каков я теперь? Вы скажете, что не видите, — по крайней мере я льщу себя тем, что читаю это в ваших глазах (предупреждаю, вам нужно научиться скрывать свои мысли: я очень легко угадываю их). Так вот, поверьте мне на слово, я не могу назвать себя негодяем, и вы не должны приписывать мне ничего подобного, ибо, скорее в силу обстоятельств, чем природных склонностей, я самый обычный грешник, предававшийся всем тем убогим развлечениям, которым предаются богатые и ничтожные люди. Вас удивляет, что я признаюсь в этом? Вам в жизни предстоит быть невольным поверенным многих тайн ваших ближних; люди инстинктивно чувствуют, как и я, что не в вашем характере рассказывать о себе, но что вы готовы выслушать чужие исповеди. И они почувствуют также, что вы внимаете им не с враждебной насмешливостью, а с участием и симпатией, и хотя не говорите красивых слов, но можете утешить и ободрить.
— Откуда вы знаете? Как вы беретесь предсказывать все это, сэр?
— Знаю прекрасно. Поэтому и говорю, нимало не задумываясь. Вы скажете, что я должен был подняться выше обстоятельств? Да, должен был, должен был, но, как видите, этого не случилось. Когда судьба посмеялась надо мной, я еще не был умудрен жизнью и не знал, что никогда нельзя терять хладнокровие. Я предался отчаянию, и тогда я пал. И вот теперь, когда растленный глупец вызывает во мне отвращение своими жалкими пороками, мне трудно утешить себя мыслью, что я лучше его. Я вынужден признать, что и я такой же. А как я жалею теперь, что не устоял! Одному богу известно, как жалею! Если вас будут увлекать соблазны, мисс Эйр, вспомните о вашей совести. Муки совести способны отравить жизнь.
— Говорят, сэр, раскаяние исцеляет.
— От них раскаяние не исцеляет. Исцелить может только второе рождение. И я мог бы переродиться, у меня есть силы, но… но какой смысл думать об этом, когда несешь на себе бремя проклятья? А уж если мне навсегда отказано в счастье, я имею право искать в жизни хоть каких-нибудь радостей, и я не упущу ни одной из них, чего бы мне это ни стоило.
— Тогда вы будете падать все ниже, сэр.
— Возможно. Но отчего же, если эти радости чисты и сладостны? И я получу их такими же чистыми и сладостными, как дикий мед, который пчелы собирают с вереска?
— Пчелы жалят, а дикий мед горек, сэр.
— Откуда вы знаете? Вы никогда не пробовали его. Какой у вас серьезный, почти торжественный вид! Но вы так же мало смыслите во всем этом, как вот эта камея (он взял с каминной полки камею), и вы не имеете никакого права наставлять меня, ведь вы — всего-навсего молодая послушница, еще не переступившая порога жизни и не ведающая ее тайн.
— Я только напоминаю вам ваши собственные слова, сэр. Вы сказали, что ошибки приводят к угрызениям совести, и признали, что это отравляет жизнь.
— Но кто сейчас говорит об ошибках! Едва ли мелькнувшая у меня мысль была ошибкой. Она скорее откровение, чем соблазн. Она очень светла, очень целительна, я знаю. Вот она опять! Нет это не дьявол, уверяю вас, а если дьявол, то он облекся в одежды светлого ангела. Я думаю, что должен впустить прекрасную гостью, если она просится в мое сердце.
— Остерегайтесь, сэр, это не настоящий ангел.
— Еще раз, откуда вы знаете? На основании чего можете вы отличить павшего серафима — ангела бездны — от вестника неба, отличить истинного праведника от искусителя?
— Я сужу по выражению вашего лица, сэр: вы были смущены и опечалены, когда эта мысль возвратилась к вам. Я уверена, что вы навлечете на себя другое несчастье, если последуете ей.
— Нисколько! Она несет мне сладчайшую в мире весть, да и потом, вы же страж моей совести! Поэтому можете не беспокоиться. Приди ко мне, прекрасная странница.
Он сказал это, словно обращаясь к видению, представшему только перед ним; затем, протянув руки, он прижал их к груди, словно заключая невидимое существо в свои объятия.
— Теперь, — продолжал он, снова обращаясь ко мне, — я принял странницу и знаю: она — переодетая богиня. Я в этом совершенно уверен. И она уже принесла мне добро, мое сердце было подобно склепу, теперь оно будет алтарем.
— Говоря по правде, сэр, я вас совсем не понимаю. Я не могу продолжать этот разговор, так как он для меня слишком загадочен. Я знаю одно: вы сказали, что у вас много недостатков и что вы скорбите о собственном несовершенстве. Вы сказали, что нечистая совесть может стать для человека проклятием всей его жизни. И мне кажется, если бы вы действительно захотели, то со временем могли бы стать другим человеком, достойным собственного уважения. Если вы с этого же дня придадите своим мыслям и поступкам большую чистоту и благородство, через несколько лет у вас будет запас безупречных воспоминаний, которые доставят вам радость.
— Справедливая мысль! Правильно сказано, мисс Эйр. И в данную минуту я энергично мощу ад.
— Сэр?
— Я полон добрых намерений, и они тверже кремня. Конечно, мои знакомства и мои интересы станут иными, чем они были до сих пор.
— Лучше?
— Да, лучше. Настолько, насколько чистое золото лучше грязи. Вы, кажется, сомневаетесь? Но я в себе не сомневаюсь. Я знаю свою цель и свои побуждения и в данную минуту ставлю себе закон, непреложный, как закон мидян и персов, и утверждаю, что истина только в этих новых целях.
— Какая же это истина, сэр, если она требует для своего утверждения нового закона?
— И все же это истина, мисс Эйр, хотя она, бесспорно, требует нового закона: небывалое сочетание обстоятельств требует и небывалого закона.
— Опасное утверждение, сэр; ведь ясно, что этим легко злоупотребить.
— О добродетельная мудрость! Такая опасность есть, не спорю, но я клянусь всеми домашними богами — не злоупотреблять.
— Вы тоже человек и грешны.
— Верно; и вы тоже. Но что из этого?
— Человеческое и грешное не должно притязать на власть, которую можно признать только за божественным и совершенным.
— Какую власть?
— Власть сказать по поводу новой, не освященной традициями линии поведения: это правильно.
— Это правильно, вот именно; и вы это сказали.
— Пусть это будет правильно, — сказала я, вставая, ибо считала бессмысленным продолжать спор, в котором все от первого до последнего слова было мне непонятно. Кроме того, я чувствовала себя неспособной проникнуть в мысли моего собеседника — по крайней мере сейчас — и испытывала ту неуверенность, ту смутную тревогу, которой обычно сопровождается сознание собственной недогадливости.
— Куда вы идете?
— Укладывать Адель, ей давно пора быть в постели.
— Вы боитесь меня, оттого что я, как сфинкс, говорю загадками?
— Да, ваши слова мне непонятны, сэр, я ошеломлена, но, разумеется, не боюсь.
— Нет, вы боитесь, вы из самолюбия опасаетесь попасть в смешное положение.
— В этом смысле — да, у меня нет ни малейшего желания говорить глупости.
— Если бы даже вы их и сказали, то так спокойно и важно, что я принял бы их за умные мысли. Неужели вы никогда не смеетесь, мисс Эйр? Не трудитесь отвечать: я вижу, что вы смеетесь редко; но вы можете смеяться очень весело. Поверьте, по природе вы вовсе не суровы, не больше, чем я порочен. Ловуд все еще держит вас в своих тисках. Он сковывает выражение вашего лица, заглушает ваш голос, связывает ваши движения. И вы в присутствии мужчины — брата, или отца, или хозяина, называйте там, как хотите, — боитесь весело улыбнуться, заговорить свободно, быстро задвигаться. Но со временем, надеюсь, вы научитесь держаться со мной так же естественно, как я с вами, а я иначе не могу. И тогда ваши взгляды и движения будут живее и разнообразнее, чем они дерзают быть сейчас. По временам я вижу между тесными прутьями клетки прелюбопытную птицу — живую, неугомонную и отважную пленницу; будь она свободна, она бы взлетела под облака. Вы все еще намерены уйти?
— Уже пробило девять, сэр.
— Неважно, подождите минутку, Адели еще не хочется спать. Моя поза, мисс Эйр, спиной к огню и лицом к вам, благоприятствует наблюдению. Беседуя с вами, я по временам смотрел и на Адель (у меня есть основания считать ее интересным объектом для наблюдения; основания, которые я, может быть — и даже наверное, — когда-нибудь сообщу вам): десять минут тому назад она извлекла из своей коробки розовое шелковое платьице, развернула его, и на лице ее вспыхнул восторг; кокетство у нее в крови, оно ослепляет ее разум, захватывает все ее существо. «Я хочу его примерить! И сию же минуту!» — воскликнула Адель и выбежала из комнаты. Сейчас она у Софи и переодевается, через несколько минут она вернется, и я знаю, кого увижу перед собой — Селину Варанс в миниатюре, такой, какой она появлялась на сцене, — впрочем, это неважно. Во всяком случае, мои нежнейшие чувства получат удар. Таково мое предположение. Останьтесь и посмотрите, сбудется ли оно.
Вскоре мы действительно услышали в холле детские шаги Адели. Девочка вся преобразилась, как и предсказывал ее опекун. Вместо коричневого платьица, которое было на ней, она оказалась в розовом шелковом, очень коротком, собранном у пояса в пышные складки. На ее головке лежал веночек из розовых бутонов. На ногах были шелковые чулки и белые атласные туфельки.
— Est-ce que ma robe me va bien?.. — воскликнула она подбегая к нам. — Et mes souliers? Et mes bas? Tenez, je crois que je vais danser![15]
И, приподняв платьице, она затанцевала по комнате. Дойдя до мистера Рочестера, она легко повернулась на носках и, упав перед ним на одно колено, воскликнула:
— Monsieur, je vous remercie mille fois de votre bonte! — Затем, поднявшись, добавила: — C'est comme cela que maman faisait, n'est-ce pas, monsieur?[16]
— Вот именно, — последовал ответ, — и comme cela[17] она выманивала английское золото из моего кармана. Я тоже был зеленым, желторотым юнцом, мисс Эйр, — увы, совсем желторотым! — и был так же свеж и непосредствен, как вы теперь. Моя весна прошла, но она оставила мне этот французский цветочек, от которого в иные минуты мне очень хотелось бы отделаться. Перестав ценить тот стебель, на котором он расцвел, убедившись, что это такая порода, которая признает только золотое удобрение, я испытываю лишь весьма относительную привязанность к этому цветку, особенно когда он кажется таким искусственным, как сейчас. Я сохраняю его у себя и выращиваю скорее во имя католического принципа, гласящего, что одно доброе дело может искупить множество грехов — больших и малых. Когда-нибудь я объясню вам все это. Спокойной ночи!
Глава XV
И мистер Рочестер вскоре все объяснил мне. Как-то под вечер мы с Аделью встретили его в саду; и пока она играла в волан и забавлялась с Пилотом, он предложил мне погулять по длинной буковой аллее, откуда мы могли наблюдать за девочкой.
Тогда он рассказал мне, что Адель — дочь французской танцовщицы Селины Варанс, к которой он некогда питал une grande passion[18]. На эту страсть Селина как будто отвечала с удвоенным пылом. Он считал, что она его обожает, невзирая на то, что он некрасив. Он верил, что она предпочитает его taill d'athlete[19] изяществу Аполлона Бельведерского.
— И знаете, мисс Эйр, я был так польщен тем, что эта галльская сильфида отдает столь явное предпочтение британскому гному, что снял для нее особняк, дал ей целый штат слуг, экипаж, задаривал ее шелками, бриллиантами, кружевами… Короче говоря, я самым банальным образом шел навстречу собственному разорению, как и всякий другой безумец. Я, видимо, не был наделен способностью изобрести новый и оригинальный путь к позору и гибели и следовал обычным путем, добросовестно стараясь ни на дюйм не отклониться от проторенной дорожки. И меня постигла, как я этого и заслужил, судьба всех безумцев. Однажды вечером, когда Селина не ждала меня, я зашел к ней, но ее не оказалось дома. Вечер был теплый, а я устал слоняться по Парижу, поэтому я решил ее дождаться и расположился в будуаре. Я был счастлив дышать воздухом, освященным ее недавним присутствием. Впрочем, нет, преувеличиваю, мне никогда не казалось, что от Селины веет добродетелью. То был скорее аромат курений или благовонных лепешек, запах мускуса и амбры, но отнюдь не аромат святости. Я уже начинал задыхаться от благоухания оранжерейных цветов и ароматических эссенций, когда мне пришло в голову выйти на балкон. От луны и газовых фонарей на улице было очень светло, всюду царили мир и тишина. На балконе стояли два-три кресла; я сел и вынул сигару… Я и сейчас закурю, если разрешите.
Последовала пауза, во время которой он достал и закурил сигару. Затянувшись и выпустив душистую струю дыма в морозный, бессолнечный воздух, он продолжал:
— В те дни, мисс Эйр, я любил также и конфеты, — и вот я сидел, простите мне эту грубость, уплетая шоколад, куря сигару и рассматривая экипажи, которые катились передо мной по аристократическим улицам в сторону находящегося неподалеку здания Оперы. Вдруг появилась элегантная карета, запряженная двумя великолепными английскими лошадьми, она была отчетливо видна на фоне этой ярко освещенной городской ночи, — и я узнал экипаж, который подарил Селине. Она возвращалась; разумеется, от нетерпения мое сердце заколотилось о чугунную решетку, на которую я опирался. Как я и предполагал, карета остановилась перед подъездом особняка, и моя волшебница (очень подходящее слово для оперной дивы) выпорхнула на мостовую. Хотя Селина и куталась в плащ, что было как будто совершенно не нужно в такой теплый июньский вечер, я сразу узнал ее по маленькой ножке, высунувшейся из-под платья, когда она спрыгивала со ступеньки кареты. Перегнувшись через перила балкона, я уже готов был прошептать «Mon ange!»[20] — разумеется, так тихо, чтобы это мог уловить только слух влюбленной, когда, следом за ней, из экипажа выпрыгнул какой-то человек. Он был также скрыт плащом, но на этот раз о мостовую звякнули шпоры, и под сводами подъезда проплыла черная мужская шляпа.
— Вы никогда не испытывали ревности, мисс Эйр, верно? Конечно, нет; мне незачем и спрашивать, ведь вы никогда не знали любви. Вам еще предстоит пережить оба эти чувства; ваша душа еще спит, и нужен толчок, чтобы пробудить ее. Вам кажется, что вся жизнь так и будет течь спокойно, как та река, которая несла вашу юность, и вы будете плыть, ничего не видя и не чувствуя, не замечая угрожающих вам рифов, не слыша, как кипят вокруг них волны. Но я вам говорю, и вы запомните мои слова: настанет день, когда вы окажетесь перед узким скалистым ущельем, где река жизни превратится в ревущий водоворот, пенящийся и грохочущий; и тогда вы либо разобьетесь об острые рифы, либо вас подхватит спасительный вал и унесет в более спокойное место, как он унес меня…
Мне нравится этот тусклый день; мне нравится это свинцовое небо, мне нравится угрюмый, застывший от мороза мир. Мне нравится Торнфильд, его освященная преданьями старина и его уединенное местоположение; старые деревья с грачиными гнездами, кусты боярышника, серый фасад и ряды темных окон, отражающих свинцовое небо; а вместе с тем, как долго я ненавидел самую мысль о нем, как избегал его, точно этот дом зачумлен. Как и теперь ненавижу…
Он стиснул зубы и замолчал; затем остановился и топнул ногой о мерзлую землю. Казалось, им овладела какая-то ненавистная ему мысль и так крепко держала его, что он не мог сдвинуться с места.
Мы были на главной аллее, когда он остановился. Перед нами высился дом. Подняв глаза, он окинул его таким взглядом, какого я никогда не видала у него ни раньше, ни потом. Казалось, в этих больших глазах под черными бровями схватились не на жизнь, а на смерть страдание, стыд, гнев, нетерпение, презрение, ненависть. Это была неистовая борьба; но вот возникло новое чувство и взяло верх. Во взгляде мистера Рочестера появилось что-то жестокое и циничное, упрямое и решительное, оно укротило душевную бурю и вернуло ему самообладание. Он продолжал:
— Я потому молчал несколько мгновений, мисс Эйр, что спорил со своей судьбой, она стояла вон там, возле ствола, — ведьма, подобная одной из тех, которые явились Макбету под Форесом.
«Ты любишь Торнфильд», — сказала она, подняв палец, и затем начертала в воздухе зловещие письмена, которые протянулись вдоль всего дома, между нижним и верхним рядом окон: «Что ж, люби его, если можешь, люби, если смеешь».
«Я буду любить его, — ответил я, — и осмелюсь любить его!»
— И сдержу свое слово, — добавил он упрямо, — я сломлю все препятствия на пути к счастью, к добру — да, к добру! Я хочу стать лучше, чем я был, чем я есть; и так же, как Левиафан сломал стрелу и копье Иова, так же препятствия, которые другими считаются железом и сталью, станут для меня соломой и гнилушками!
Тут к нему подбежала Адель со своим воланом.
— Уходи! — крикнул он резко. — Не приближайся ко мне, дитя, ступай к Софи.
Затем мы продолжали прогулку молча, и я решилась напомнить ему о том, на чем он так внезапно остановился.
— Вы что же, ушли с балкона, сэр, — спросила я, — когда мадемуазель Варанс вошла в комнату?
Я ждала какой-нибудь резкости в ответ на неуместный вопрос, но он, наоборот, вышел из своей угрюмой задумчивости, повернулся ко мне, и его лицо прояснилось.
— О, я и забыл про Селину. Ну, продолжу, чтобы закончить… Когда я увидел свою волшебницу в сопровождении кавалера, мне почудилось, что я слышу возле себя шипение и что змея с зелеными глазами поднялась, извиваясь бесчисленными кольцами на залитом лунным светом балконе, скользнула под мою одежду и мгновенно нашла себе путь в самые глубины моего сердца. Как странно, — воскликнул он, вдруг опять отвлекаясь от своего рассказа, — как странно, что я выбрал именно вас своей наперсницей! И еще более странно, что вы слушаете меня совершенно спокойно, словно это самая обычная вещь на свете, чтобы мужчина, подобный мне, рассказывал всякие истории о своей возлюбленной неискушенной, молодой девушке. Но последняя странность объясняет первую; как я уже говорил вам, вы, с вашей серьезностью, рассудительностью и тактом, прямо созданы, чтобы быть хранительницей чужих тайн. Кроме того, я знаю, с какой чистой душой соприкоснулся, знаю, что ваша душа не способна заразиться ничем дурным; у вас совершенно своеобразный, единственный в своем роде ум. К счастью, я не собираюсь осквернять его, — но если бы даже и хотел, он не воспринял бы этой скверны. Чем больше мы будем общаться, тем лучше; я не могу погубить вас, но зато вы можете исцелить меня.
После этого отступления он продолжал:
— Я остался на балконе. «Они, без сомнения, войдут в ее будуар, — решил я, — надо подготовить им западню». Просунув руку в открытую дверь, я задернул гардины, оставив лишь небольшую щель, через которую мог наблюдать. Затем притворил раму настолько, чтобы все же слышать шепот любовников, и прокрался обратно к своему креслу. В эту минуту они вошли. Я быстро приник к щели. Горничная Селины зажгла лампу, поставила ее на стол и удалилась. Теперь они были мне видны совершенно отчетливо; они сбросили плащи, и вот передо мной появилась Варанс, блистая атласом и драгоценностями, — все это были, разумеется, мои дары, — и ее спутник — молодой человек в офицерской форме. Я узнал в нем одного кутилу виконта, глупого и порочного юношу, которого встречал в обществе и которого не удосужился возненавидеть, так как слишком глубоко презирал. Когда я узнал его, моя ревность утратила свое жало, ибо в то же мгновение моя любовь к Селине была как бы потушена. Женщина, которая могла обманывать меня с таким соперником, была недостойна моей любви, она вызывала лишь презрение, — правда, в меньшей мере, чем я, позволивший себя обмануть искательнице приключений.
Они принялись беседовать, и их разговор окончательно все разъяснил мне. Это была фривольная, бессердечная, бессмысленная болтовня, которая могла скорее утомить, чем взбесить слушателя. На столе лежала моя визитная карточка, что и послужило для них поводом заговорить обо мне. Ни у одного из них не хватило смелости и остроумия, чтобы метко высмеять меня. Они бранили меня со всей мещанской грубостью, на какую были способны; особенно Селина, которая довольно ехидно издевалась над моими физическими недостатками — «уродством», как она говорила, — хотя обычно она восторгалась тем, что называла моей «beaute male»[21]. В этом Селина была полной противоположностью вам: ведь вы при второй же встрече заявили мне совершенно категорически, что я отнюдь не красавец. Меня сразу же поразил контраст…
Тут Адель снова подбежала к нам.
— Мсье, только что приходил Джон, он сказал, что здесь ваш управляющий и хочет повидать вас.
— А, в таком случае я буду краток. Открыв дверь, я вошел и направился к ним. Я заявил, что избавляю Селину от своего покровительства, и предложил ей освободить дом; вручил кошелек с деньгами на необходимые расходы, пренебрег слезами, истериками, мольбами, протестами, припадками и условился встретиться с виконтом в Булонском лесу. На другое утро я имел удовольствие увидеть его перед собой. Я всадил пулю в его тощее, хилое плечо, слабое, как крылышко цыпленка, и уже думал, что раз навсегда покончил со всей этой историей. Однако, к несчастью, Варанс за полгода перед тем подарила мне эту девочку — Адель, которая была, по ее словам, моей дочерью; может быть, это и так, хотя я не вижу в ее чертах никаких признаков столь мрачного отцовства. Пилот больше похож на меня, чем она. Спустя несколько лет после нашего разрыва Селина бросила ребенка на произвол судьбы и бежала с каким-то музыкантом или певцом в Италию. Я в свое время отказался признать за Аделью какие бы то ни было права на мою поддержку, не признаю их и сейчас, так как не являюсь ее отцом. Но, услышав, что она покинута, я извлек ее из грязи парижских трущоб и перевез сюда, чтобы она могла расти на здоровой почве английского деревенского сада. А миссис Фэйрфакс нашла вас, чтобы воспитывать ее. Но теперь вы знаете, что она незаконная дочь французской танцовщицы, и вы, может быть, иначе отнесетесь к своей задаче и к своей воспитаннице? Может быть, вы явитесь ко мне однажды и сообщите, что нашли себе другое место и что я должен искать себе новую гувернантку и так далее? Да?
— Нет. Адель не ответственна ни за грехи матери, ни за ваши. Я привязалась к ней; а теперь, когда узнала, что она в известном смысле сирота — мать ее бросила, а вы, сэр, от нее отрекаетесь, — моя привязанность к ней станет еще крепче. Неужели я могла бы предпочесть какого-нибудь избалованного ребенка из богатой семьи, ненавидящего свою гувернантку, маленькой одинокой сиротке, которая относится ко мне, как к другу?
— Ах, вот как вы на это смотрите! Ну, а теперь мне пора домой; и вам тоже, уже темнеет.
Но я осталась еще на несколько минут с Аделью и Пилотом, побегала и сыграла партию в волан. Когда я вошла в дом и сняла с девочки пальто и шляпу, я посадила ее на колени и продержала целый час, разрешив ей болтать сколько вздумается. Я даже не удерживала ее от того жеманства и тех легких вольностей, к которым она была так склонна, когда чувствовала, что на нее обращают внимание, и которые выдавали легкомыслие ее характера, вероятно унаследованное от матери и едва ли присущее маленькой англичанке. Однако у нее были и достоинства, и теперь я была склонна даже преувеличивать их. Но я тщетно искала в ней какого-нибудь сходства с мистером Рочестером: ни своими чертами, ни своим выражением — ничем это личико не напоминало его. И мне было жаль: если бы удалось установить такое сходство, он больше уделял бы ей внимания.
Лишь вечером, удалившись к себе в комнату, я подробно могла вспомнить все рассказанное мне мистером Рочестером. Как он и отметил, сама эта история была достаточно тривиальна. Страсть богатого англичанина к французской танцовщице и ее измена — случай, довольно обычный в обществе. Но было нечто, бесспорно, очень странное в том глубоком волнении, которое овладело им, когда он попытался выразить свои теперешние чувства — радость, вызванную решением отныне жить здесь, в этом старом доме, в этой местности.
С удивлением размышляла я над этим обстоятельством; но, сознавая, что бессильна разгадать эту загадку в настоящую минуту, я постепенно отвлеклась в сторону и задумалась над отношением хозяина ко мне самой. Мне казалось, что его исповедь — это благодарность за мою скромность; так я и приняла ее. В последнее время он стал относиться ко мне ровнее, чем вначале. Я чувствовала, что никогда ему не мешаю; он больше не приветствовал меня с ледяным высокомерием при случайных встречах и, казалось, бывал им рад. Всегда у него находилось для меня ласковое слово, а иногда и улыбка. Если же он приглашал меня к себе, то удостаивал сердечного приема, и я чувствовала, что действительно развлекаю его и что эти вечерние беседы так же приятны ему, как и мне.
Сама я говорила сравнительно мало, зато с наслаждением слушала его. Он был общителен по природе; очевидно, ему нравилось рисовать перед неискушенной слушательницей картины жизни и нравов (я имею в виду не те, где изображалась бы порочная жизнь и постыдные нравы, но такие, которые уносили меня в другой, более широкий мир, радовавший своей новизной); и я с радостью воспринимала от него новые идеи и, представляя себе те эпизоды, о которых он рассказывал мне, мысленно следовала за ним в неведомые области, которые он раскрывал передо мной, никогда не удивляя и не смущая мой ум какими-либо рискованными намеками.
Та непринужденность, с какой держался мистер Рочестер, постепенно ослабила мою внутреннюю скованность; дружеская откровенность, корректная и сердечная, с которой он подходил ко мне, привлекала меня к нему. Временами он казался мне скорее родственником, чем хозяином. Иногда он опять впадал в свой властный тон; но это меня не смущало: я знала, что это у него в характере. И я была так счастлива, так удовлетворена новыми интересами, вошедшими в мою жизнь, что перестала горевать о своем одиночестве, о том, что у меня нет родных. Ущербный месяц моей судьбы словно вступил в новую фазу, белые листы в моей жизни заполнялись. Я поздоровела и окрепла.
Казался ли мне теперь мистер Рочестер некрасивым? Нет, читатель: чувство благодарности и множество других впечатлений, новых и приятных, делали его лицо для меня самым желанным. Его присутствие в комнате согревало меня больше, чем самый яркий огонь. Но я не забывала о его недостатках, — да и не могла забыть, так как он слишком часто обнаруживал их передо мной. Он был горд, насмешлив, резок со всеми ниже его стоящими. В глубине души я знала, что та особая доброта, с какой он относится ко мне, не мешает ему быть несправедливым и чрезмерно строгим к другим. На него находили странные, ничем не объяснимые настроения. Сколько раз, когда он посылал за мной, я находила его к библиотеке, где он сидел в одиночестве, положив голову на скрещенные руки, и когда он поднимал ее, на его лице появлялось хмурое, почти злобное выражение. Но я верила, что его капризы, его резкость и былые прегрешения против нравственности (я говорю — былые, так как теперь он как будто исправился) имели своим источником какие-то жестокие испытания судьбы. Я верила, что от природы это человек с многообещающими задатками, более высокими принципами и более чистыми стремлениями, чем те, которые развились в нем в силу известных обстоятельств, воспитания или случайностей судьбы. Мне чудилось, что он представляет собой превосходный материал, хотя в настоящее время все его дарования казались заглохшими и заброшенными. Не могу отрицать, что я скорбела его скорбью, какова бы она ни была, и многое дала бы, чтобы смягчить ее.
Наконец я погасила свечу и легла в постель, но не могла заснуть, вспоминая его взгляд, когда он остановился посреди аллеи и сказал, что перед ним предстала его судьба и побуждала его дерзнуть и быть счастливым в Торнфильде.
«А почему бы и нет? — спрашивала я себя. — Что отталкивает его от этих мест? Скоро ли он опять уедет? Миссис Фэйрфакс говорила, что он редко живал в этом доме больше двух недель кряду, — а вот живет же он здесь уже два месяца. Если он уедет, это внесет такую грустную перемену. Может быть, его не будет весну, лето, осень. Какими безрадостными покажутся мне солнечный свет и прекрасные дни!»
Не знаю, забылась я после этих размышлений или нет, — во всяком случае, я сразу же проснулась, услышав, как мне казалось, прямо над своей комнатой какое-то смутное бормотание, странное и зловещее. Я пожалела, что погасила свечу. Ночь была непроницаема, моя душа — угнетена. Я поднялась, села на кровати, прислушалась: все было тихо.
Я попыталась снова заснуть, но мое сердце тревожно билось, и душевное спокойствие было нарушено. Далеко внизу, в холле, часы пробили два. В это же мгновение мне почудилось, что кто-то прикоснулся к моей двери, словно, пробираясь ощупью по темному коридору, кто-то провел по ней рукой. Я спросила: «Кто здесь?» Ответа не было. От страха меня охватил озноб.
Но тут я вспомнила, что это мог быть Пилот: когда забывали закрыть кухонную дверь, он нередко пробирался к двери мистера Рочестера и ложился у порога. Сколько раз утром я сама видела его там. Эта мысль несколько успокоила меня, я легла. Тишина успокаивает, и так как во всем доме теперь царило глубокое безмолвие, я снова задремала. Но в эту ночь мне, видимо, не было суждено уснуть. Едва сон приблизился к моему изголовью, как он уже бежал, спугнутый страшным происшествием.
Раздался сатанинский смех — тихий, сдавленный, глухой. Казалось, он прозвучал у самой замочной скважины моей двери. Кровать находилась недалеко от входа, и мне сначала почудилось, что этот дьявольский смех раздался совсем рядом, чуть ли не у моего изголовья; я поднялась, огляделась, однако ничего не увидела. Но вот зловещие звуки повторились: я поняла, что они доносятся из коридора. Моим первым побуждением было вскочить и запереть дверь на задвижку, а вторым — крикнуть: «Кто здесь?» Раздались какие-то стоны, а затем шаги по коридору, направлявшиеся к лестнице, которая вела на третий этаж. Недавно была сделана дверь, отделявшая ее от коридора. Я услышала, как она открылась и закрылась, а затем все стихло.
«Неужели это Грэйс Пул? — спрашивала я себя. — Она, верно, одержима дьяволом!» Боясь долее оставаться одна, я решила пойти к миссис Фэйрфакс. Поспешно набросила я платье и шаль, отодвинула задвижку и дрожащей рукой открыла дверь. В коридоре горела свеча, она стояла на дорожке, покрывавшей пол. Это обстоятельство меня поразило. Но еще больше я удивилась, когда заметила, что в воздухе висит какая-то мгла, словно он полон дыма. А когда я оглянулась вокруг, стараясь отыскать источник этой синеватой мглы, то ощутила резкий запах гари.
Что-то скрипнуло, где-то приоткрылась дверь. Это была дверь мистера Рочестера, и из нее клубами вырывался дым. Я уже не думала о миссис Фэйрфакс, я не думала о Грэйс Пул и о ее таинственном смехе: в мгновение ока я очутилась в комнате моего хозяина. Вокруг кровати вздымались языки пламени, занавески уже пылали, а среди огня и дыма мистер Рочестер лежал без движения, погруженный в глубокий сон.
— Проснитесь! Проснитесь! — крикнула я.
Я стала трясти его, но он только забормотал что-то и отвернулся к стене. От дыма он лишился сознания. Нельзя было терять ни минуты — уже тлели простыни. Я бросилась к тазу и кувшину. К счастью, оба оказались полны воды. Я схватила их, вылила воду на кровать и на спящего, бросилась к себе в комнату, принесла свой кувшин с водой, тоже вылила на кровать — и, с божьей помощью, погасила огонь, пожиравший ее. Шипение гаснущего пламени и звон разбитого кувшина, который я отшвырнула, вылив его содержимое, а главное, ледяная ванна, в которой очутился мистер Рочестер, помогли ему, наконец, очнуться. Хотя в комнате было темно, я знала, что он проснулся, так как слышала, что он бормочет какие-то ругательства, недоумевая по поводу своего пробуждения в луже ледяной воды.
— Что это, наводнение?!
— Нет, сэр, — отвечала я. — Но здесь был пожар. Вставайте, прошу вас, вы залиты водой, я сейчас принесу свечу.
— Во имя всех фей в христианском мире, скажите, это вы, Джейн Эйр? — спросил он. — Что вы сделали со мной, колдунья? Кто здесь в комнате, кроме вас? Так вы решили утопить меня?
— Я принесу вам свечу, сэр. И, ради бога, вставайте. Кто-то задумал черное дело: вам надо как можно скорее выяснить, кто и что.
— Ну вот, я и на ногах! Непременно принесите мне свечу, но подождите две минуты, пока я надену на себя что-нибудь сухое… Да, вот мой халат. А теперь бегите.
Я побежала и принесла свечу, которая все еще стояла в коридоре. Он взял ее у меня, поднял и осмотрел кровать, всю почерневшую и опаленную, с намокшими простынями, и лужи воды на ковре.
— Что это такое? Кто это сделал? — спросил он.
Я вкратце рассказала ему все, что мне было известно: странный смех, услышанный мной в коридоре, шаги, поднимавшиеся на третий этаж, дым, запах гари, который привел меня к нему в комнату, наконец пожар и то, как я затушила его, вылив всю воду, какая была под рукой.
Он слушал нахмурившись; по мере того как я говорила, его лицо все больше выражало озабоченность, но не удивление. Когда я смолкла, он заговорил не сразу.
— Может быть, позвать миссис Фэйрфакс?
— Миссис Фэйрфакс? Нет. На кой черт ее звать! Что она может сделать? Пусть спит сном праведных.
— Тогда я позову Ли и разбужу Джона и его жену.
— Ничего подобного! Сидите смирно. У вас есть платок? Если вам холодно, можете взять вон там мой плащ. Завернитесь в него и сядьте в кресло; вот я укутаю вас. А теперь поставьте ноги на скамеечку, чтобы не замочить их. Я вас покину на несколько минут; свечу возьму с собой. Сидите здесь до моего возвращения; ведите себя тихо, как мышь. Мне нужно подняться на третий этаж. Не забудьте: не двигайтесь и никого не зовите.
Мистер Рочестер вышел. Я следила за удаляющимся светом свечи. Он на цыпочках прошел по коридору, почти беззвучно открыл дверь на лестницу, притворил ее за собой, и свет исчез. Наступила полная темнота. Тщетно старалась я уловить какие-нибудь звуки — я не слышала ничего. Прошло очень много времени, усталость все больше овладевала мной. Несмотря на плащ, мне было холодно, к тому же я не видела смысла в моем пребывании здесь, раз не надо было будить остальных. Я уже намеревалась ослушаться мистера Рочестера, рискуя вызвать его гнев, когда на стене коридора снова появился слабый отблеск свечи и послышались его шаги, приглушенные ковром. «Надеюсь, это он, — подумала я, — а не кто-нибудь еще».
Он вернулся бледный и очень мрачный.
— Я все выяснил, — сказал он, ставя свечу на умывальник. — Как я предполагал, так оно и есть.
— А именно, сэр?
Ответа не последовало: мистер Рочестер стоял, скрестив руки, глядя в пол. Через несколько минут он каким-то странным тоном спросил:
— Я забыл, — вы говорили, что видели что-то, когда открыли дверь своей комнаты?
— Нет, сэр, только свечу на полу.
— Но вы слышали странный смех? Вы ведь и раньше слышали такой смех или что-то в этом роде?
— Да, сэр! У вас тут есть женщина-швея, ее зовут Грэйс Пул, — это она так смеется. Странная особа!
— Совершенно верно, Грэйс Пул, — вы угадали. Она, как вы говорите, действительно странная. Я обо всем этом подумаю. Но все-таки я рад, что вы единственный человек, кроме меня, кто знает все подробности сегодняшнего происшествия. Вы не болтливы; ничего не говорите об этом. Я сам объясню, что здесь произошло (он указал на кровать). А теперь возвращайтесь в свою комнату. Я прекрасно проведу ночь в библиотеке на диване. Сейчас около четырех. Через два часа встанут слуги.
— Спокойной ночи, сэр, — сказала я, собираясь удалиться.
Мистер Рочестер казался удивленным, что было весьма непоследовательно, — ведь он сам только что предложил мне уйти.
— Как! — воскликнул он. — Вы уже уходите от меня? И уходите так?
— Вы же сами сказали, сэр.
— Но нельзя так сразу, не простившись, не сказав ни слова сочувствия и привета… во всяком случае, не так резко и сухо… Ведь вы спасли мне жизнь, вырвали меня у мучительной и ужасной смерти! И спокойно удаляетесь, как будто бы мы чужие люди! Давайте хоть пожмем друг другу руки.
Он протянул мне руку, я дала ему свою. Он взял ее одной рукой, затем обеими.
— Вы спасли мне жизнь; мне приятно, что я именно перед вами в таком огромном долгу. Больше я ничего не скажу. Я не перенес бы такого долга в отношении никого другого. Но вы — иное дело. Ваше благодеяние для меня не бремя, Джен.
Он смолк и посмотрел на меня. Какие-то слова почти ощутимо трепетали на его устах, но голос ему не повиновался.
— Еще раз спокойной ночи, сэр! В данном случае не может быть и речи ни о каком долге, благодеянии, бремени или обязательстве.
— Я знал, — продолжал он, — что вы когда-нибудь сделаете мне добро, я видел это по вашим глазам, когда впервые встретил вас: их выражение и улыбка недаром (он опять остановился)… недаром, — продолжал он торопливо, — озарили радостью самые глубины моего сердца. Говорят, есть врожденные симпатии; я слышал также о том, что существуют добрые гении; в самой нелепой басне есть крупица правды. Ну, моя дорогая спасительница, спокойной ночи!
Его голос был полон своеобразной силы, его взгляд — странного огня.
— Я рада, что не спала, — сказала я, собираясь уходить.
— Как, вы все-таки уходите?
— Мне холодно, сэр.
— Холодно? Да ведь вы стоите в луже! Тогда идите, Джен, идите! — Но он все еще держал мою руку, и невозможно было высвободить ее.
Я сказала:
— Мне кажется, идет миссис Фэйрфакс.
— Ну, расстанемся.
Он отпустил мои пальцы, и я вышла.
Я легла в постель, но и подумать не могла о сне. До самого утра я носилась по бурному и радостному морю, где волны тревог перемежались с волнами радости. Минутами мне казалось, что я вижу по ту сторону кипящих вод какой-то берег, сладостнее рая, и время от времени освежающий ветерок пробуждал мои надежды и торжествующе нес мою душу к этому берегу; но я так и не могла достигнуть его даже в воображении, ибо навстречу дул береговой ветер и неустанно отгонял меня. Здравый смысл противостоял бреду, рассудок охлаждал страстные порывы. Слишком взволнованная, чтобы предаться отдыху, я встала, едва рассвело.
Глава XVI
После этой ночи, проведенной без сна, мне и хотелось и страшно было снова увидеться с мистером Рочестером. Я жаждала услышать его голос, но боялась встретиться с ним взглядом. Всю первую половину дня я ежеминутно ожидала его появления; хотя он и был редким гостем в классной комнате, но все же иногда забегал на минутку, и мне почему-то казалось, что в этот день он непременно появится.
Однако утро прошло, как обычно: ничто не нарушило моих мирных занятий с Аделью. Вскоре после завтрака я услышала какой-то шум в комнате рядом со спальней мистера Рочестера, а затем голоса миссис Фэйрфакс, Ли и кухарки — жены Джона, и даже грубоватый бас самого Джона. До меня донеслись восклицания: «Какое счастье, что хозяин не сгорел в постели. Опасно оставлять на ночь зажженную свечу!» — «Слава богу, что он не растерялся и схватил кувшин с водой». — «Удивительно, как это он никого не разбудил!» — «Надеюсь, мистер Рочестер не простудился, он ведь остаток ночи провел на диване в библиотеке…»
Ко всем этим разговорам вскоре прибавился шум уборки: за стеной мыли и скребли, передвигали мебель; и когда я проходила мимо спальни мистера Рочестера, спускаясь вниз обедать, я увидела в открытую дверь, что все там снова приняло обычный вид; только с кровати были сняты занавески. Ли стояла на подоконнике, протирая закопченные дымом стекла. Я только что собралась заговорить с ней, чтобы узнать, как ей объяснили вчерашний пожар, но, сделав несколько шагов, увидела в комнате еще фигуру: в кресле возле кровати сидела какая-то женщина и пришивала кольца к новым занавескам. Это была не кто иная, как Грэйс Пул.
Как обычно, замкнутая и угрюмая, в коричневом шерстяном платье, клетчатом переднике, белой косынке и чепце, она казалась всецело погруженной в свою работу; ни на низком лбу, ни в будничных чертах ее лица не было и намека на тот ужас, ту растерянность или ожесточение, которые естественны для женщины, покушавшейся на убийство и уличенной в этом. Я была поражена, потрясена. Почувствовав мой пристальный взгляд, она подняла голову, но ничто не дрогнуло, ничто не изменилось в ее чертах, не выдало ни волнения, ни сознания виновности, ни страха перед карой. Она сказала: «Доброе утро, мисс», — как всегда флегматично и кратко, а затем, взяв еще кольцо и тесьму, продолжала шить.
«Сейчас испытаю ее, — решила я, — такое притворство превосходит мое понимание».
— Доброе утро, Грэйс, — сказала я. — Что здесь случилось? Несколько минут назад мне послышались какие-то разговоры.
— Просто хозяин ночью читал в постели, потом заснул, а свеча осталась гореть, и занавеска вспыхнула; к счастью, он проснулся, когда пламя еще не успело охватить кровать и простыни, и ему удалось погасить огонь, залив его водой.
— Странная история, — сказала я вполголоса, затем, пристально посмотрев на нее, добавила: — И неужели мистер Рочестер никого не разбудил, неужели никто ничего не слышал?
Она снова подняла на меня глаза, и на этот раз мне показалось, что в них мелькнула какая-то искра внимания. Казалось, она исподтишка изучает меня; затем она ответила:
— Вы знаете, мисс, слуги спят так далеко — они едва ли могли что-нибудь услышать. Спальня миссис Фэйрфакс и ваша ближе всего к комнате хозяина; однако миссис Фэйрфакс говорит, что тоже ничего не слышала: у пожилых людей сон крепкий. — Она помолчала и затем добавила с каким-то напускным равнодушием, но все же многозначительно подчеркивая слова: — А вот вы молоды, мисс, и, вероятно, спите чутко; вы-то должны были бы слышать шум.
— Так оно и было, — сказала я, понижая голос, чтобы Ли, все еще протиравшая окно, не слышала меня. — И сначала я решила, что это Пилот; но ведь Пилот не может смеяться, а я уверена, что слышала смех, и престранный.
Она взяла новую нитку, тщательно навощила ее, спокойно вдела в иглу и заметила с полным самообладанием:
— Знаете, мисс, едва ли хозяин стал бы смеяться, когда ему угрожала такая опасность. Вам, наверно, приснилось.
— Нет, не приснилось, — возразила я с некоторой горячностью, так как ее хладнокровие возмущало меня.
Она снова обратила в мою сторону проницательный, испытующий взгляд.
— А вы сказали хозяину, что слышали смех? — спросила она.
— У меня не было случая говорить с ним сегодня.
— И вам не захотелось открыть дверь и выглянуть в коридор? — продолжала Грэйс.
Казалось, это она теперь ведет допрос, пытаясь выжать из меня какие-то сведения. Вдруг мне пришло в голову: как бы она, догадавшись о моих подозрениях, не сыграла со мной какой-нибудь злой шутки. И я решила, что следует быть настороже.
— Наоборот, я заперла дверь на задвижку, — ответила я.
— А разве вы не запираете свою дверь каждый вечер, когда ложитесь спать?
«Черт побери, она хочет узнать мои привычки, она что-то замышляет!» И негодование снова взяло во мне верх над осторожностью. Я резко ответила:
— До сих пор я очень часто забывала про задвижку. Я не видела в этом необходимости, считая, что в Торнфильдхолле мне не угрожает никакая опасность, но с этого дня (продолжала я с особым ударением) я буду всякий раз запирать ее покрепче, прежде чем лечь в постель.
— И хорошо сделаете. Правда, у нас тут кругом спокойно, и, насколько я знаю, никто никогда не пытался ограбить этот дом, хотя всем известно, что здесь в кладовых одной серебряной посуды на многие сотни фунтов. Кроме того, как вы видите, для такого большого дома здесь очень мало слуг, — ведь хозяин не живет у нас подолгу, а когда приезжает, ему, как холостяку, мало что нужно. Но осторожность никогда не мешает. Дверь запереть нетрудно, и лучше, если вы будете защищены от любой неожиданности. Многие люди, мисс, полагаются во всем на провидение, а я считаю: на бога надейся, а сам не плошай, и береженого бог бережет. — Тут женщина замолчала. Она и так говорила слишком долго и эту тираду произнесла с назидательностью квакерши.
Я все еще стояла на том же месте, сраженная таким сверхъестественным самообладанием и непостижимым лицемерием, когда вошла повариха.
— Миссис Пул, — сказала она, обращаясь к Грэйс. — Обед для слуг скоро будет готов, вы не сойдете вниз?
— Нет. Поставьте пинту портера и кусок пудинга на поднос, я захвачу с собой наверх.
— А мяса вы не хотите?
— Немного, и ломтик сыру. Вот и все.
— А как насчет саго?
— Пока ничего не нужно. Я спущусь к чаю и сварю сама.
Тут повариха обратилась ко мне, сказав, что миссис Фэйрфакс ждет меня, и я сошла вниз.
За обедом я была так занята размышлениями о загадочном поведении Грэйс Пул и еще больше о том, какое положение она занимает в Торнфильде и почему ее в это же утро не отправили в тюрьму или по крайней мере не рассчитали, что совершенно не слышала рассказа миссис Фэйрфакс относительно ночных происшествий. Ведь мистер Рочестер совершенно ясно высказал мне свою уверенность в том, что преступницей была именно она; какая же таинственная причина удерживала его от того, чтобы открыто изобличить ее? Отчего он просил и меня хранить тайну? Это было очень странно: ни с чем не считающийся, вспыльчивый и гордый джентльмен находился, казалось, во власти одной из самых ничтожных своих служанок, и притом настолько, что даже когда она покусилась на его жизнь, он не решился открыто обвинить ее в этом, а тем более покарать.
Будь Грэйс молода и красива, я могла бы допустить, что мистер Рочестер находился под влиянием чувств, более властных, чем осторожность или страх; но в отношении столь мало привлекательной, некрасивой и пожилой особы такое предположение казалось невероятным. «Правда, — размышляла я, — она была молода, и эта молодость совпала с молодостью ее хозяина. Миссис Фэйрфакс как-то говорила мне, что Грэйс уже давно живет в этом доме. Не думаю, чтобы она когда-нибудь была хорошенькой. Но даже при отсутствии внешнего очарования она могла привлечь его оригинальностью и силой характера. Мистер Рочестер любитель решительных и эксцентрических натур, а Грэйс уж во всяком случае эксцентрична. Что, если из-за случайной прихоти он оказался во власти этой женщины и она теперь оказывает тайное влияние на его поступки, пользуясь его прошлым, от которого он не в силах отмахнуться, которого не может забыть?» Но тут мне представились с такой отчетливостью квадратная плоская фигура миссис Пул и ее незначительное, сухое, топорное лицо, что я сказала себе: «Нет, невозможно! Мое предположение не может быть верным!» «И все же, — продолжал тайный голос, живущий в сердце каждого из нас, — ты ведь тоже некрасива, а мистеру Рочестеру как будто нравишься; во всяком случае, тебе это не раз казалось. А что было этой ночью? Вспомни его слова, вспомни его взгляд, его голос!»
Я слишком хорошо помнила все — и слова, и взгляд, и тон, и в эту минуту снова живо их себе представила. Я вошла в классную комнату, Адель рисовала. Я наклонилась над ней и стала водить ее карандашом. Вдруг она с изумлением посмотрела на меня.
— Что с вами, мадемуазель? — спросила она. — Ваши пальцы дрожат, а щеки у вас красные, как вишни!
— Просто я наклонилась, Адель, и кровь прилила к моим щекам. — И она продолжала рисовать, а я продолжала думать.
Я поспешила отогнать ужасные предположения, которые возникли у меня в отношении Грэйс Пул. Они казались мне отвратительными. Я мысленно сравнила себя с ней и нашла, что мы все же совсем разные. Бесси Ливен однажды сказала мне, что я настоящая леди, — и она сказала правду: я и чувствовала себя такой. А ведь теперь я выглядела гораздо лучше, чем тогда, когда Бесси видела меня. Я пополнела и посвежела, стала живей и здоровей, так как узнала целящую силу светлых надежд и беспечных радостей.
«Скоро вечер, — сказала я себе, взглянув в окно. — За целый день я не слышала в доме ни голоса мистера Рочестера, ни его шагов; но, несомненно, я его сегодня еще увижу». Утром я боялась этой встречи, а теперь желала ее, и меня все больше охватывало нетерпение.
Когда сумерки окончательно сгустились и Адель ушла от меня вниз в детскую, поиграть с Софи, я уже горячо желала этой встречи. Я прислушивалась, не зазвонит ли внизу колокольчик, не поднимется ли кто-нибудь наверх, чтобы позвать меня; иногда мне казалось, что я слышу шаги самого мистера Рочестера, и я оборачивалась к двери, ожидая, что она вот-вот откроется и он войдет. Но дверь не открывалась, и только все гуще становился мрак за окном. Однако было еще не поздно, мистер Рочестер нередко присылал за мной и в семь и в восемь вечера, а теперь только шесть. Наверное, мои ожидания не будут обмануты — именно сегодня, когда мне столько хочется сказать ему. Я решила опять навести его на разговор о Грэйс Пул и послушать, что он мне ответит. Я решила прямо спросить его, считает ли он, что именно она покушалась на него прошлой ночью, и если да, то почему он держит в тайне это преступление. Меня нимало не заботило то обстоятельство, что мое любопытство может раздражить его; мне доставляло особое удовольствие то сердить его, то снова успокаивать, — при этом верный инстинкт не позволял мне заходить слишком далеко. Я никогда не отваживалась на простое поддразнивание и, так сказать, искусно играла с огнем. Не теряя ни на миг должной почтительности и не забывая о своем положении, я осмеливалась спорить с ним без страха и смущения, — это нравилось и ему и мне.
Наконец ступеньки скрипнули под чьими-то шагами. Вошла Ли, но только для того, чтобы сообщить мне, что чай подан в комнате миссис Фэйрфакс. Я была рада сойти вниз, так как это все же могло приблизить меня к мистеру Рочестеру.
— Вы, наверное, очень хотите чаю, — сказала мне эта добрейшая леди, когда я вошла к ней, — вы так мало кушали за обедом. Я боюсь, — продолжала она, — что вы нездоровы сегодня: у вас горят щеки и вид лихорадочный.
— О нет, я чувствую себя отлично. Как нельзя лучше.
— Тогда докажите это и кушайте как следует. Не заварите ли вы чай, пока я довяжу этот ряд? — Докончив его, она поднялась и спустила занавеску, по-видимому, более не рассчитывая работать при свете дня; и в самом деле, сумерки быстро сгущались, и уже наступала темнота.
— Сегодня чудесный вечер, — сказала она, глядя в окно, — хотя звезд и не видно. В общем погода благоприятствует поездке мистера Рочестера.
— Поездке? Разве мистер Рочестер уехал? Я и не знала, что его нет дома.
— Он уехал сейчас же после завтрака. Он отправился в Лиз, имение мистера Эштона. Это за десять миль отсюда, по ту сторону Милкота. Там собралось самое изысканное общество: лорд Ингрэм, сэр Джордж Лин, полковник Дэнт и другие.
— Вы ждете его обратно сегодня?
— Нет. И даже не завтра. Возможно, он прогостит там неделю и больше. Ведь когда собираются вместе эти утонченные светские люди, они окружены такой роскошью и весельем, всем, что может доставить удовольствие и развлечение, что они не спешат расстаться друг с другом. Особенно там рады джентльменам; а мистер Рочестер так оживлен и интересен в обществе, что является всеобщим любимцем; он очень нравится дамам, хотя, казалось бы, недостаточно красив для этого. Но я думаю, что его таланты и умение держаться, а может быть, богатство и старинный род, искупают некоторые недостатки его наружности.
— У Эштона будут и дамы?
— А как же! Прежде всего миссис Эштон и ее три дочери, очень элегантные молодые барышни; затем Бланш и Мери Ингрэм — это настоящие красавицы! Я видела Бланш шесть-семь лет назад, когда она была восемнадцатилетней девушкой. Мистер Рочестер давал на рождество большой бал, и она тоже приехала. Вы бы Видели столовую в этот вечер, как богато она была украшена, как ослепительно освещена! Собралось не меньше пятидесяти дам и джентльменов, и все из лучших семей нашего графства; но царицей бала была мисс Ингрэм.
— Вы говорите, миссис Фэйрфакс, что видели ее? Расскажите, какая она.
— Да, я видела ее. Двери столовой были распахнуты настежь; это было на рождество, и слугам тоже разрешили собраться в холле и послушать, как дамы играют и поют. Мистер Рочестер пригласил меня в столовую; я уселась в укромном уголке и смотрела на них. Я никогда не видела более великолепного зрелища! Дамы были одеты роскошно, большинство из них, по крайней мере молодые, показались мне красавицами, но всем им было далеко до мисс Ингрэм.
— Опишите ее.
— Высокая, прекрасно сложенная, покатые плечи, длинная грациозная шея, смуглая чистая кожа, благородные черты, глаза, похожие на глаза мистера Рочестера, — большие и темные, такие же блестящие, как ее бриллианты. И потом у нее замечательные волосы — черные, как вороново крыло, и так красиво причесаны: на затылке корона из толстых кос, а спереди длинные блестящие локоны. Она была одета во все белое. Палевый шарф закрывал ей одно плечо и грудь и, завязанный на боку, спадал длинными концами ниже колен. В волосах у нее был приколот золотистый цветок, он красиво выделялся среди черной массы ее кудрей.
— И, наверно, все восхищались мисс Ингрэм?
— Да, конечно! И не только ее красотой, но и талантами. Она была в числе тех дам, которые пели. Какой-то джентльмен аккомпанировал ей на рояле. Они спели дуэт с мистером Рочестером.
— С мистером Рочестером? Я не знала, что он поет.
— О, у него отличный бас, и он прекрасный знаток музыки.
— А какой голос у мисс Ингрэм?
— Очень сильный и звучный. Она пела восхитительно; такое наслаждение было слушать ее! А потом она сыграла. Я не судья в музыке, но мистер Рочестер отлично разбирается, и он сказал, что мисс Ингрэм превосходная музыкантша.
— И что же, эта прекрасная и блистательная дама до сих пор не замужем?
— Похоже, что так. Я предполагаю, что ни у нее, ни у ее сестры нет большого состояния. Все владения старого лорда Ингрэма — майоратные, и старший сын унаследовал почти все.
— Но неужели ни один богатый аристократ или же просто джентльмен не увлекся ею? Хотя бы мистер Рочестер? Ведь, он, кажется, человек состоятельный.
— О да! Но, видите ли, между ними значительная разница в летах. Мистеру Рочестеру под сорок, а ей всего двадцать пять.
— Что ж из этого? Мы часто видим еще более неравные браки.
— Верно. Но едва ли мистер Рочестер женился бы на ней. Что же вы ничего не кушаете? Вы и крошки не проглотили с тех пор, как сидите за столом.
— Спасибо. Я очень хочу пить, и у меня вовсе нет аппетита. Могу я попросить вторую чашку?
Я хотела вернуться к обсуждению возможного брака между мистером Рочестером и красавицей Бланш, но тут вошла Адель, и пришлось переменить тему разговора.
Оставшись одна, я перебрала в уме все полученные сведения, заглянула в свое сердце, проверила свои мысли и чувства и решила вернуть их на безопасный путь здравого смысла.
И вот я предстала перед собственным судом. Услужливый свидетель — память напомнила мне о тех надеждах, желаниях и ощущениях, которые я лелеяла со вчерашнего вечера, а также о том особом состоянии духа, в котором я находилась примерно уже две недели. Потом заговорил разум и спокойно, со свойственной ему трезвостью, упрекнул меня в том, что я не пожелала заглянуть в глаза действительности и увлеклась несбыточными мечтами. И тогда я произнесла над собой приговор, который гласил:
«Не было еще на свете такой дуры, как Джен Эйр, и ни одна идиотка не предавалась столь сладостному самообману, глотая яд, словно восхитительный нектар».
«Ты, — говорила я себе, — очаровала мистера Рочестера? Ты вообразила, что можешь нравиться ему, быть чем-то для него? Брось, устыдись своей глупости! Ты радовалась весьма двусмысленным знакам внимания, которые оказывает джентльмен из знатной семьи, светский человек, тебе, неопытной девушке, своей подчиненной? Как же ты осмелилась, несчастная, смешная дурочка? Неужели даже во имя собственных интересов ты не стала умнее, ведь еще сегодня утром ты переживала заново все происходившее этой ночью? Закрой лицо свое и устыдись. Он сказал что-то лестное о твоих глазах, слепая кукла! Одумайся! Посмотри, до чего ты глупа! Ни одной женщине не следует увлекаться лестью своего господина, если он не предполагает жениться на ней. И безумна та женщина, которая позволяет тайной любви разгореться в своем сердце, ибо эта любовь, неразделенная и безвестная, должна сжечь душу, вскормившую ее; а если бы даже любовь была обнаружена и разделена, она, подобно блуждающему огоньку, заведет тебя в глубокую трясину, откуда нет выхода.
Слушай же, Джен Эйр, свой приговор. Завтра ты возьмешь зеркало, поставишь его перед собою и нарисуешь карандашом свой собственный портрет, — но правдиво, не смягчая ни одного недостатка. Ты не пропустишь ни одной резкой линии, не затушуешь ни одной неправильности, и ты напишешь под этим портретом: «Портрет гувернантки — одинокой, неимущей дурнушки».
Затем возьми пластинку из слоновой кости, которая лежит у тебя в ящике для рисования, смешай самые свежие, самые нежные и чистые краски, выбери тонкую кисть из верблюжьего волоса и нарисуй самое пленительное лицо, какое может представить твое воображение; наложи на него нежнейшие тени и мягчайшие оттенки, в соответствии с тем, как миссис Фэйрфакс описала тебе прекрасную Бланш Ингрэм, — да смотри, не забудь шелковистые кудри и восточные глаза. Что? Ты хочешь принять за образец глаза мистера Рочестера? Оставь ты все это! Никаких колебаний! Никаких охов и вздохов, никаких сожалений! Только здравый смысл и решимость! Вспомни величественные, но гармонические очертания скульптурной шеи и груди, нежную руку, покажи округлое и ослепительное плечо, не забудь ни бриллиантового кольца, ни золотого браслета, добросовестно изобрази одежду, воздушный узор кружев и сверкающий атлас, изящные складки шарфа и чайную розу — и подпиши под этим портретом: «Бланш, прекрасная молодая аристократка».
И если когда-нибудь ты снова вообразишь, будто мистер Рочестер хорошо к тебе относится, вынь эти два изображения и сравни их. Скажи себе: «Вероятно, мистер Рочестер мог бы завоевать любовь этой знатной дамы, если бы захотел; так неужели же можно допустить, чтобы он относился серьезно к этой невзрачной нищей плебейке?»
«Так и сделаю», — сказала я себе. Приняв решение, я постепенно успокоилась и заснула.
Я сдержала свое слово. За час или два мой собственный портрет карандашом был набросан; и меньше чем в две недели я закончила миниатюру на слоновой кости с воображаемого облика Бланш Ингрэм. Она выглядела прелестно, и контраст между этим воображаемым портретом и моим реальным был слишком велик, чтобы у меня могли еще оставаться насчет себя какие-нибудь иллюзии. Работа послужила мне на пользу: мои руки и голова были заняты, а новые чувства, которые мне хотелось сохранить в моем сердце, постепенно окрепли.
Благотворное воздействие целительной дисциплины не замедлило сказаться на моем душевном состоянии, и я готова была встретить предстоящие события с подобающим спокойствием, тогда как, застигни они меня раньше, я, вероятно, была бы не в силах не только подавить свои чувства, но и сдержать открытое их проявление.
Глава XVII
Прошла неделя — от мистера Рочестера не было никаких вестей; прошло десять дней, а он все не возвращался. Миссис Фэйрфакс сказала, что нет ничего удивительного, если он из Лиза проехал прямо в Лондон, а оттуда на континент и появится опять в Торнфильде лишь через год: он уже не раз нежданно-негаданно покидал свое поместье. При этих словах я почувствовала, как меня охватил холод и сердце мое упало. Я чуть не пережила сызнова глубокое разочарование, но, вспомнив о своих принципах, сейчас же взяла себя в руки. Я даже удивилась, с какой быстротой мне удалось преодолеть это мгновенное колебание, как легко я отстранила от себя мысль о том, что поступки мистера Рочестера могут быть для меня чем-то полным глубокого жизненного интереса. Но я укротила себя вовсе не с помощью рабской мысли о собственном ничтожестве. Напротив, я сказала себе:
«У тебя нет ничего общего с хозяином Торнфильда; он просто платит тебе жалованье за то, что ты воспитываешь эту девочку, и ты вправе ожидать хорошего отношения к себе, поскольку добросовестно исполняешь свои обязанности. Будь уверена, что это единственная связь, которую он готов признать между вами. Поэтому не делай его предметом своих нежных чувств, своего разочарования и отчаяния. Он человек другой касты; оставайся же в своем кругу и уважай себя настолько, чтобы не отдавать всех сил души и сердца тому, кому они не нужны и в ком это вызвало бы только пренебрежение.
Я спокойно продолжала свои обычные занятия; но время от времени у меня возникали смутные планы о том, как бы мне покинуть Торнфильд. Я заранее сочиняла объявления и размышляла о возможности новой работы. С этими мыслями я не считала нужным бороться, ничто не мешало им окрепнуть и принести свои плоды.
Мистер Рочестер отсутствовал уже около двух недель, когда миссис Фэйрфакс получила письмо по почте.
— Это от хозяина, — сказала она, взглянув на конверт. — Теперь, я думаю, мы узнаем, ожидать ли нам его возвращения или нет.
Она сломала печать и начала читать письмо, а я продолжала пить кофе (мы сидели за завтраком). Кофе был горячий, вероятно, поэтому мои щеки вдруг вспыхнули румянцем; но почему же задрожала моя рука и я невольно пролила половину чашки на блюдечко? Мне не хотелось раздумывать об этом.
— Иной раз мне кажется, что мы живем слишком уединенно; зато сейчас нам будет очень много дела, во всяком случае на некоторое время, — сказала миссис Фэйрфакс, все еще держа перед собой письмо.
Прежде чем позволить себе какой-нибудь вопрос, я завязала Адели передник, затем дала ей еще булочку и снова налила молока. Только после этого я сказала небрежно:
— Вероятно, мистер Рочестер не скоро вернется?
— Наоборот, скоро: через три дня, пишет он, — то есть будет в ближайший четверг. И не один. Бог весть, сколько знатных гостей приедет с ним из Лиза. Он пишет, чтобы приготовили все самые лучшие спальни и чтобы сделали полную уборку библиотеки и гостиной, и предлагает нанять на кухню нескольких помощниц из гостиницы в Милкоте или где удастся. Дамы привезут с собой своих камеристок, а мужчины своих камердинеров, так что здесь будет полным-полно. — Миссис Фэйрфакс наскоро проглотила свой завтрак и поспешно ушла, чтобы тут же начать приготовления.
Эти три дня, как она и предполагала, были полны суеты. До сих пор мне казалось, что все комнаты в Торнфильде содержатся в необыкновенном порядке и прекрасно обставлены; но я, видимо, ошибалась. Появились три поденщицы, и началось такое мытье, обметанье, выбивание ковров, протирание картин, зеркал и люстр, такое основательное протапливание спален и просушивание перед огнем одеял и пуховых перин, какого я в жизни своей не видела и не увижу. Адель бегала среди всей этой кутерьмы в страшном возбуждении. Казалось, уборка и ожидаемый приезд гостей приводят ее в восторг. Она потребовала, чтобы Софи пересмотрела все ее «туалеты», как она называла свои платьица, чтобы она освежила их, проветрила и отгладила. Сама Адель ничего не делала, а только носилась по парадным комнатам, скакала по кроватям, каталась по матрацам и взбиралась на перины и подушки, наваленные перед ярко пылавшими каминами, пламя которых так и ревело в трубах. Я освободила ее от занятий, потому что миссис Фэйрфакс привлекла к работе и меня, и теперь проводила целые дни в кладовых, помогая — вернее, мешая — ей и поварихе. Я училась делать кремы, ватрушки и французские пирожные, жарить птицу и украшать блюда с десертом.
Гостей ожидали в четверг под вечер, к обеду. Я была занята приготовлениями к их приезду, и у меня не было времени предаваться несбыточным грезам. Мне помнится, я была так же весела и деятельна, как и все другие, не говоря уже об Адели. Правда, время от времени что-то сжимало мне сердце, и мое бодрое настроение падало. Вопреки моей воле, что-то отбрасывало меня в мрачный мир сомнений, неуверенности и смутных предчувствий. Они охватили меня с особой силой, когда я увидела, что дверь на лестницу в третий этаж (которая за последнее время была неизменно заперта) медленно отворяется, пропуская Грэйс Пул в накрахмаленном чепце, белом фартуке и косынке, когда я увидела, как она беззвучно скользит по коридору в своих войлочных туфлях, заглядывает в полные беспорядка шумные спальни и то там, то здесь бросает несколько слов, объясняя поденщице, чем протирать решетку или мрамор камина или как выводить пятна с обоев, и затем проходит дальше. Обычно она спускалась в кухню раз в день, съедала свой обед, выкуривала перед огнем маленькую трубочку и затем возвращалась к себе, неизменно унося с собой пинту портера, чтобы выпить ее наверху, в своем мрачном логове. Только один час из двадцати четырех проводила Грэйс внизу с другими слугами, все остальное время она сидела у себя наверху, в комнате с низким потолком и дубовыми панелями; там она шила и, может быть, смеялась своим угрюмым смехом, одинокая, как узница, заключенная в тюрьму.
Самое странное было то, что решительно никто в доме, кроме меня, не обращал внимания на ее привычки и не удивлялся им, никто не обсуждал ее положения, ее занятий, никто не сожалел о ее замкнутости и одиночестве. Правда, мне как-то пришлось невольно подслушать разговор, происходивший между Ли и одной из поденщиц и, видимо, касавшийся Грэйс. Ли сказала что-то, чего я не расслышала, а поденщица заметила:
— Что ж, наверное, хорошее жалованье платят.
— Да, — отвечала Ли, — хотела бы я получать столько. Не то, что мне платят мало, — нет, в Торнфильде на это не скупятся, но я не получаю и одной пятой того, что платят ей. И она откладывает деньги: она ездит каждые три месяца в милкотский банк. Меня нисколько не удивит, если, уйдя отсюда, она сможет жить на свои сбережения, но она, видно, привыкла к дому; и потом ей еще нет сорока, она сильная и здоровая и может справиться с любой работой. Слишком рано ей уходить на покой.
— Она, наверное, хорошо делает свое дело? — спросила поденщица.
— Ах, она прекрасно понимает, что от нее требуется, ее учить не приходится, — многозначительно подтвердила Ли, — а ведь не всякий согласился бы на это, ни за какие деньги.
— Это уж конечно, — последовал ответ. — А разве хозяин…
Поденщица хотела продолжать, но в эту минуту Ли обернулась и увидела меня; она сейчас же толкнула свою собеседницу в бок.
— Разве она не знает? — услышала я шепот поденщицы.
Ли покачала головой, и разговор, конечно, прервался. Все, что я вывела из него, сводилось к одному: в Торнфильде есть какая-то тайна, от участия в которой я была намеренно отстранена.
Наступил четверг. Все было закончено еще накануне: разостланы ковры, повешены пологи, кровати покрыты ослепительными покрывалами, туалеты уставлены необходимыми принадлежностями, мебель протерта, букеты цветов поставлены в вазы; спальни и гостиные совершенно преобразились, они стали свежими и светлыми. Большой холл также был убран, старые резные часы почищены, перила и ступеньки доведены до зеркального блеска; в столовой буфет сверкал серебром; гостиная и будуар были заставлены тропическими растениями.
День клонился к вечеру. Миссис Фэйрфакс облеклась в свое самое парадное черное атласное платье, надела перчатки, золотые часы, — ей предстояло встречать гостей, провожать дам в их комнаты и так далее. Адель тоже потребовала, чтобы ее одели. Я считала, что едва ли она может надеяться на то, что ее позовут к гостям в этот же день. Однако, чтобы доставить девочке удовольствие, я разрешила Софи нарядить ее в одно из ее пышных коротких кисейных платьиц. Мне переодеваться было незачем: я знала, что не покину сегодня то убежище, каким являлась для меня классная комната. А она была теперь «приятным убежищем в часы тревог».
Стоял кроткий ясный весенний день, один из тех дней, какие бывают в конце марта или в начале апреля и своим блеском предвещают лето. Этот день уже померк, но даже вечер был теплым, и я сидела за работой в классной комнате при открытом окне.
— Как долго их нет, — сказала миссис Фэйрфакс, войдя ко мне в своем шуршащем платье. — Я рада, что заказала обед на час позднее того времени, которое назначил мистер Рочестер; ведь уже начало седьмого, и я послала Джона к воротам покараулить: оттуда видно дорогу далеко в сторону Милкота. — Она подошла к окну. — Вот он, — продолжала она. — Ну, Джон (старушка высунулась из окна), какие новости?
— Они едут, сударыня, — последовал ответ. — Через десять минут будут здесь.
Адель бросилась к окну. Я последовала за ней, однако постаралась стать так, чтобы меня скрывала занавесь и я, видя все, осталась бы невидимой.
Десять минут, о которых говорил Джон, длились бесконечно; но вот мы услышали шум колес. Появилось четверо всадников, а за ними две открытые коляски, над которыми развевались вуали и перья; два всадника были элегантные молодые люди; третьим оказался мистер Рочестер, он сидел на своем черном жеребце Мезруре, а Пилот бежал впереди. Рядом с ним ехала дама; ее лиловая амазонка почти касалась земли, длинная вуаль трепетала по ветру; перемешиваясь с ее складками, по плечам струились черные кудри.
— Мисс Ингрэм! — воскликнула миссис Фэйрфакс и поспешила вниз, чтобы занять свой пост.
Кавалькада, следуя изгибу дороги, быстро завернула за угол дома, и я потеряла ее из виду. Адель стала проситься вниз, но я взяла ее на колени и попыталась объяснить ей, что она ни в коем случае не должна стараться попасть на глаза этим дамам ни сейчас, ни в другое время. Что мистер Рочестер очень рассердится. Услышав это, она, конечно, расплакалась; но когда я сделала строгое лицо, согласилась отереть слезы.
Из холла донесся веселый шум; низкие голоса мужчин и серебристые — женщин гармонически сливались, и все покрывал негромкий, но звучный голос хозяина Торнфильдхолла, приветствовавшего своих изысканных и знатных гостей. Затем на лестнице раздался шорох платьев. В коридоре послышались быстрые шаги, тихий и оживленный смех, хлопанье дверями, шепот.
— Они переодеваются, — сказала Адель, которая внимательно прислушивалась к каждому звуку, и, вздохнув, добавила: — Когда у мамы бывали гости, я ходила за ними повсюду — и в гостиную, и в их комнаты; я часто смотрела, как камеристки причесывают и одевают дам, и это было очень занятно. Так и сама научишься.
— А ты не голодна, Адель?
— Ну, конечно, мадемуазель! Мы уже пять-шесть часов ничего не ели.
— Пока дамы у себя в комнатах, я спущусь вниз и постараюсь раздобыть тебе чего-нибудь поесть.
И, выскользнув из своего убежища, я осторожно пробралась на черную лестницу, которая вела прямо в кухню; там суетились люди и веяло нестерпимым жаром. Суп и рыба были уже почти готовы, и повариха хлопотала около плиты в таком состоянии души и тела, которые заставляли опасаться, как бы она в конце концов не воспламенилась сама. В людской столовой, у огня, сидели два кучера и три камердинера; камеристки находились, вероятно, наверху, со своими госпожами; новые слуги, нанятые в Милкоте, сновали взад и вперед. Наконец я пробралась в кладовую. Там я взяла холодную жареную курицу, белый хлеб, несколько сладких пирожков, две тарелки, ножи и вилки и поспешила обратно. Я уже была в коридоре и только что собиралась затворить за собой дверь черной лестницы, как усиливающийся гул голосов известил меня о том, что дамы собираются покинуть свои комнаты. Чтобы вернуться в классную, я должна была пройти мимо их дверей; не желая быть застигнутой здесь с моей добычей, я остановилась в конце коридора, где, из-за отсутствия окон, обычно было полутемно, а теперь царил уже глубокий сумрак, так как солнце село.
И вот, одна за другой, гостьи выходили из своих комнат; каждая выпархивала весело и беззаботно, и их платья яркими пятнами мелькали в полутьме. На мгновение они столпились в другом конце коридора, и до меня донеслось их негромкое щебетанье, полное сдержанного оживления. Затем они спустились по лестнице так же легко и беззвучно, как спустилась бы с холма волна тумана. Эта стайка произвела на меня впечатление невиданного мною до сих пор аристократического изящества.
Войдя в класс, я увидела, что Адель выглядывает из приоткрытой двери.
— Какие красавицы! — воскликнула она по-английски. — О, как мне хотелось бы пойти к ним! Как вы полагаете, мистер Рочестер пришлет за нами после обеда?
— Нет, не думаю; у мистера Рочестера и без нас много дела. Забудь на сегодня об этих дамах; может быть, ты увидишь их завтра. Вот твой обед.
Она действительно проголодалась, поэтому курица и пирожки на некоторое время отвлекли ее. Хорошо, что я позаботилась о пище, иначе мы обе, а также Софи, с которой я поделилась, рисковали бы остаться вовсе без обеда, — внизу все были слишком заняты, чтобы помнить, о нас. Десерт был подан только в девять часов, а в десять лакеи все еще продолжали бегать взад и вперед с подносами и кофейными чашками. Я разрешила Адели лечь гораздо позднее, чем обычно, так как она заявила, что совершенно не может спать, когда внизу хлопают двери и люди снуют туда и сюда. Кроме того, добавила она, вдруг мистер Рочестер все-таки пришлет за ней, а она будет не одета. Какая жалость!
Я рассказывала ей сказки, пока она была в состоянии слушать, а затем вышла с ней в коридор. Лампа в холле была зажжена, и девочке нравилось смотреть через балюстраду, как слуги входят и выходят. Уже поздно вечером из гостиной, куда был перенесен рояль, донеслись звуки музыки. Мы с Аделью сели на верхнюю ступеньку лестницы и стали слушать. Но вот под аккомпанемент рояля полился звучный голос, — это пела одна из дам, и пела так, что заслушаешься. После соло последовал дуэт, а затем веселая песенка; в перерывах до нас доносилось оживленное жужжание голосов. Я внимательно прислушивалась к ним и вдруг поймала себя на том, что стараюсь разобраться в этих звуках и уловить в их слитном гуле характерные интонации мистера Рочестера; и когда мне, наконец, удалось, различить его голос среди остальных, я начала вслушиваться, стараясь уловить отдельные слова.
Часы пробили одиннадцать. Я взглянула на Адель, прислонившуюся головой к моему плечу: ее веки наконец отяжелели. Я взяла ее на руки и отнесла в постель. Дамы и джентльмены внизу разошлись по своим комнатам лишь около часу.
Следующий день прошел так же весело; гости предприняли прогулку, чтобы полюбоваться живописной местностью по соседству с имением. Они выехали с раннего утра, некоторые верхом, другие в экипажах. Я видела их отъезд и возвращение. Мисс Ингрэм, как и вчера, была единственной всадницей, и, как вчера, мистер Рочестер скакал рядом с ней. Оба они несколько отделились от остальной компании. Я указала на это обстоятельство миссис Фэйрфакс, стоявшей рядом со мной у окна.
— Вот вы говорили, что они едва ли поженятся, — заметила я. — Но мистер Рочестер оказывает ей явное предпочтение перед всеми остальными дамами.
— Да, пожалуй; он, без сомнения, восхищается ею.
— А она им, — добавила я. — Посмотрите, как она наклоняет к нему голову, словно они беседуют наедине. Мне хотелось бы рассмотреть ее лицо, я еще ни разу не видела его.
— Вы увидите ее сегодня вечером, — отозвалась миссис Фэйрфакс. — Я сказала мистеру Рочестеру, что Адель только и мечтает быть представленной этим дамам, и он ответил: «Ах, так? Ну, пусть придет сегодня после обеда в гостиную, и попросите мисс Эйр сопровождать ее».
— Разумеется, он сказал это из вежливости; я уверена, что мне незачем туда ходить, — ответила я.
— Я обратила его внимание на то, что вы не привыкли к такому обществу и вам едва ли захочется предстать перед этими веселыми гостями, притом совершенно вам незнакомыми; а он ответил с обычной решительностью: «Глупости! Если она начнет возражать, скажите, что это мое личное желание; а если она будет упираться, скажите, что я сам приду за ней и приведу ее».
— Ну, таких хлопот я ему не доставлю, — ответила я. — Если иначе нельзя, я пойду, но мне очень не хочется. А вы там будете, миссис Фэйрфакс?
— Нет. Я отпросилась, и он отпустил меня. Я научу вас, как избежать неприятной минуты появления на глазах у всех, — это ведь самое тягостное. Отправляйтесь в гостиную, пока там еще никого нет, перед тем как дамы встанут из-за стола, и выберите себе местечко в каком-нибудь укромном уголке. После того как войдут мужчины, вам незачем оставаться, разве только вы сами этого захотите. Пусть мистер Рочестер увидит, что вы здесь, а потом можете ускользнуть, — никто не обратит внимания.
— А как вы думаете, они долго прогостят?
— Возможно, недели две-три, но, конечно, не дольше. После пасхальных каникул сэру Джорджу Лину, который только что избран членом парламента от Милкота, придется вернуться в Лондон. Вероятно, мистер Рочестер уедет с ним. Меня вообще удивляет, что он на этот раз так долго прожил в Торнфильде.
Я ожидала с некоторым трепетом того часа, когда мне придется появиться с моей воспитанницей в гостиной. Узнав, что она наконец-то будет представлена дамам, Адель находилась весь день в состоянии крайнего возбуждения и успокоилась лишь тогда, когда Софи приступила к церемонии одевания. Этот процесс захватил ее целиком; и вот наконец ее волосы были убраны и лежали на плечах в виде длинных, тщательно расчесанных локонов, розовое атласное платье было надето, кушак завязан и натянуты кружевные перчатки, и девочка приняла торжественный и важный вид. Не было нужды предупреждать Адель о том, чтобы она берегла свой туалет: она важно уселась на свой стульчик, аккуратно загнув атласный подол, чтобы не смять его, и уверила меня, что не встанет с места, пока я не буду готова. Но я собиралась недолго: быстро надела свое лучшее платье (серебристо-серое, которое купила к свадьбе мисс Темпль и с тех пор не надевала), быстро пригладила волосы, быстро приколола свое единственное украшение — жемчужную брошку. И вот мы спустились вниз.
К счастью, в гостиную был другой ход, помимо столовой, где все сидели за обедом. Когда мы вошли, гостиная была пуста. Огонь бесшумно пылал в мраморном камине. Среди изысканных цветов, которыми были украшены столы, стояли восковые свечи, ярко освещавшие пустую комнату; с арки спускался пунцовый занавес. Как ни была тонка эта стена, отделявшая нас от обедающих, они говорили настолько приглушенными голосами, что я не могла ничего разобрать, кроме мягкого гула. Адель, которая, видимо, все еще была под властью торжественности этой минуты, села без возражений на скамеечку, которую я указала ей. Я же устроилась на подоконнике, взяла со стола какую-то книгу и сделала попытку углубиться в нее. Тогда Адель поставила свою скамеечку у моих ног. Через несколько мгновений она коснулась моего колена.
— Ты что, Адель?
— Можно взять один из этих чудных цветов, мадемуазель? Только чтобы дополнить мой туалет.
— Ты слишком много думаешь о своем туалете, Адель, но цветок можешь взять.
Я вынула из вазы одну розу и прикрепила ее к поясу девочки. Та вздохнула с чувством огромного удовлетворения, словно чаша ее счастья переполнилась. Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку, которую была не в силах сдержать: что-то невыразимо комическое и печальное было в той серьезности и почти благоговении, с какими эта маленькая парижанка относилась к своей внешности.
Раздался шум отодвигаемых стульев. Драпировки раздвинулись. Передо мной на мгновение открылась столовая, где люстра изливала свой ослепительный свет на серебро и хрусталь роскошно сервированного для десерта длинного стола. Под аркой появилась группа дам. Они вошли в гостиную, и драпировки снова сомкнулись.
Их было всего восемь. Но, когда они вошли пестрой толпой, казалось, что их гораздо больше. Некоторые из них были очень высоки ростом, многие — в белом, и платье каждой ниспадало столь пышными, волнующимися складками, что это придавало фигуре особую величественность, какую придают луне волны тумана. Я встала и поклонилась им; одна-две кивнули в ответ, остальные лишь посмотрели на меня.
Они рассеялись по комнате, напоминая мне легкостью и живостью движений стаю белокрылых птиц. Некоторые опустились на диваны и оттоманки, некоторые склонились над столами, рассматривая цветы и книги, остальные собрались вокруг камина. Все говорили негромко, но с выразительными и звучными интонациями, как видно — для них привычными. Впоследствии я узнала, как звали каждую из них, а потому могу привести их имена.
Во-первых, здесь были миссис Эштон и ее две дочери. В молодости миссис Эштон, должно быть, отличалась красотой и хорошо сохранилась до сих пор; старшая дочь, Эми, была скорей маленького роста; в ее тоненькой фигурке, в ее чертах и движениях было что-то наивное, полудетское, и это придавало ей особую привлекательность. Ей очень шло белое кисейное платье с голубым кушаком. Вторая, Луиза, была выше и изящнее, с очень хорошеньким личиком, — французы зовут такие лица minois chiffonne[22]. Обе сестры напоминали две нежные лилии.
Леди Лин — крупная, рослая особа, лет сорока, в роскошном атласном платье «шанжан», с весьма надменным лицом — держалась очень прямо. Ее волосы, оттененные голубым пером и убором из драгоценных камней, казались особенно темными.
Полковница Дэнт была менее эффектна, но, по-моему, гораздо более аристократична. У нее была стройная фигура, бледное нежное лицо и светлые волосы. Ее черное атласное платье, шарф из дорогих заграничных кружев и жемчужное ожерелье нравились мне больше, чем радужное великолепие титулованной гостьи.
Но самыми эффектными — может быть, оттого, что они были самыми рослыми, — показались мне вдовствующая леди Ингрэм и ее дочери Бланш и Мери. Все три были статны и высоки ростом. Вдове могло быть лет за сорок. Ее стройная фигура отлично сохранилась. В черных волосах не было ни одной серебряной нити, — по крайней мере так казалось при свете свечей; зубы блистали нетронутой белизною. Многие сочли бы ее, несмотря на ее возраст, просто ослепительной, да она и была такой, но только по внешности. Во всем ее облике, в манере держаться чувствовалось что-то нестерпимо надменное. У нее был римский нос и двойной подбородок, переходивший в полную шею. Высокомерие не только портило величие ее черт, оно убивало его. Казалось, даже ее подбородок был как-то неестественно вздернут. Взгляд был холоден и жесток. Миссис Ингрэм чем-то напоминала мне миссис Рид. Она так же цедила слова сквозь зубы, в ее низком голосе слышались те же напыщенные интонации, безапелляционные и решительные. На ней было красное бархатное платье, а на голове тюрбан из индийского шелка, придававший ей, как она, вероятно, воображала, что-то царственное.
Бланш и Мери были одинакового роста, прямые и стройные, как два тополя. Мери казалась слишком худой, но Бланш была сложена, как Диана. Я рассматривала ее, конечно, с особым интересом. Прежде всего мне хотелось проверить, совпадает ли ее внешность с описанием миссис Фэйрфакс; во-вторых, похожа ли она на ту миниатюру, которую я нарисовала наугад; и в-третьих, сознаюсь в этом, — достойна ли она быть избранницей мистера Рочестера.
Оказалось, что она в точности соответствует и нарисованному мной портрету и описанию миссис Фэйрфакс: прекрасный бюст, покатые плечи, грациозная шея, темные глаза и черные кудри. Но черты ее лица явно напоминали материнские, с той разницей, что Бланш была молода: тот же низкий лоб, тот же надменный профиль, та же гордость. Правда, это была не столь отталкивающая гордость; мисс Ингрэм то и дело смеялась, однако ее смех звучал иронически, и таким же было выражение ее прихотливо изогнутых, надменных губ.
Говорят, что гении самоуверенны. Я не знаю, была ли мисс Ингрэм гением, но самоуверенной она была в высшей степени. Она принялась спорить о ботанике с кроткой миссис Дэнт. Видимо, миссис Дэнт не занималась этой наукой, хотя, по ее словам, очень любила цветы, особенно полевые, а мисс Ингрэм занималась. И она с надменным видом стала засыпать миссис Дэнт научными терминами. Я заметила, что мисс Ингрэм (выражаясь школьным жаргоном) разыгрывает миссис Дэнт; и, может быть, это высмеиванье и было остроумно, но ему недоставало добродушия. Затем мисс Ингрэм села за рояль, — ее исполнение было блестящим; она спела, — и ее голос звучал прекрасно; заговорила по-французски с матерью, — и выяснилось, что она говорит отлично, очень бегло и с хорошим произношением.
Мери казалась мягче и приветливее, чем Бланш. У нее были более нежные черты и цвет лица несколько светлей (мисс Ингрэм была смугла, как испанка). Но Мери недоставало оживления, ее лицо было маловыразительно, а глаза лишены огня. По-видимому, ей нечего было сказать, и, усевшись в свое кресло, она застыла в нем, словно статуя в нише. Обе сестры были в белоснежных туалетах.
Считала ли я теперь, что мисс Ингрэм действительно может стать избранницей мистера Рочестера? Нет, я по-прежнему этого не могла бы сказать, ведь мне было неизвестно, какие женщины ему нравятся. Если его привлекала величественность, то величественности в ней было сколько угодно, к тому же она была весела и блистала талантами. Большинство мужчин, наверное, восхищается ею, решила я. А в том, что мистер Рочестер пленен ею, я, кажется, уже имела возможность убедиться. Последняя тень сомнения должна исчезнуть после того, как я увижу их вдвоем.
Не думайте, читатель, что Адель все время так и сидела на скамеечке у моих ног, — нет! Когда дамы вошли, она встала им навстречу, почтительно присела и сказала с важностью:
— Здравствуйте, сударыни!
Мисс Ингрэм насмешливо взглянула на нее и воскликнула:
— Ах, какая куколка!
Леди Лин заметила:
— Это, вероятно, воспитанница мистера Рочестера, маленькая француженка, о которой он говорил?
Миссис Дэнт ласково взяла ее за руку и поцеловала в щеку. А Луиза и Эми Эштон воскликнули:
— Какая прелестная девочка!
Затем они подозвали ее к себе, и она, усевшись между ними, начала усиленно болтать то по-французски, то на ломаном английской языке, завладев вниманием не только барышень, но и миссис Эштон и леди Лин и чувствуя себя на седьмом небе.
Наконец подали кофе, и вошли мужчины. Я сидела в тени, если только можно было говорить о тени в этой ярко освещенной гостиной. Оконная занавес наполовину скрывала меня. Снова раздвинулись драпировки. Входят мужчины. Их группа производит внушительное впечатление. Все они в черном. Большинство — высокого роста; некоторые молоды. Генри и Фредерик Лин — сногсшибательные щеголи; полковник Дэнт — видный мужчина с выправкой военного. Мистер Эштон, окружной судья, держится с большим достоинством; при совершенно белых волосах у него черные брови и усы, и это придает ему вид театрального «благородного отца». Лорд Ингрэм, как и его сестры, очень высок. Как и они, он красив, но, подобно Мери, кажется вялым и апатичным, точно рост заменил ему все: живость и горячность крови и даже ум.
Но где же мистер Рочестер?
Он входит последним. Я не смотрю на арку, но вижу его. Я стараюсь сосредоточить свое внимание на спицах и петлях кошелька, который вяжу, — мне хотелось бы думать только об этой работе и видеть только серебряные бусинки и шелковые нитки, лежащие у меня на коленях. Однако я отчетливо вижу его фигуру и невольно вспоминаю нашу последнюю встречу, после того как я оказала ему то, что он назвал важной услугой, и он держал мою руку в своей, наблюдая за мной взглядом, полным глубокого волнения, доля которого относилась и ко мне! Как сблизил нас этот миг! Что же произошло с тех пор, что встало между нами? Отчего теперь мы так далеки, так чужды друг другу? Я не ждала, что он подойдет и заговорит со мной, поэтому нисколько не удивилась, когда он даже не взглянув на меня, уселся в другом конце комнаты и принялся беседовать с дамами.
Как только я убедилась, что его внимание занято ими и что я могу незаметно смотреть на него, я невольно устремила на него свой взор. Мои глаза не повиновались мне, они то и дело обращались в его сторону и останавливались на нем. Смотреть на него доставляло мне глубокую радость — волнующую и вместе с тем мучительную, драгоценную, как золото без примеси, но таящую в себе острую боль. Удовольствие, подобное тому, какое должен испытывать погибающий от жажды человек, который знает, что колодец, к которому он подполз, отравлен, но все же пьет божественную влагу жадными глотками.
Должно быть, верна поговорка: «Не по хорошу мил, а по милу хорош». Лицо моего хозяина, бледное, смуглое, с угловатым массивным лбом, широкими, черными как смоль бровями, глубоким взглядом, резким профилем и решительным, суровым ртом — воплощение энергии, твердости и воли, — не могло считаться красивым, если иметь в виду обычные каноны красоты, но мне оно казалось более чем прекрасным, оно было для меня полно интереса и неодолимого очарования, оно лишало меня власти над моими чувствами и отдавало их во власть этого человека. Я не хотела любить его; читатель знает, какие я делала усилия, чтобы вырвать из своей души первые побеги этой любви; а теперь, при мимолетном взгляде на него, они снова ожили и мощно зазеленели. Он заставил меня опять полюбить его, хотя сам, по-видимому, даже не замечал меня.
Я сравнивала его с гостями. Что значило перед ним галантное изящество Линов, томная элегантность лорда Ингрэма и даже военная осанка полковника Дэнта! Что значило все это в сравнении с природным обаянием мистера Рочестера и его внутренней силой! Меня нисколько не восхищали ни манеры их, ни осанка; однако я вполне допускала, что большинство женщин сочло бы их привлекательными, красивыми, внушительными. И они же сочли бы мистера Рочестера угрюмым и некрасивым. Я видела улыбки его гостей, слышала их смех. В мерцании свечей было, кажется, больше души, чем в этих улыбках; звон колокольчика был содержательнее, чем этот смех. И я видела, как улыбался мистер Рочестер: его суровые черты смягчились, в глазах вспыхнули блеск и нежность, взгляд стал проникновенным и ласковым. Он говорил в эту минуту с Луизой и Эми Эштон, и меня удивило, как равнодушно они отнеслись к его взгляду, который как будто проникал в самую глубину души; я ожидала, что они опустят глаза и что румянец окрасит их щеки, и с радостью отметила в них всякое отсутствие волнения. «Он для них не то, что для меня, — думалось мне, — между ними нет ничего общего, а между нами есть — я уверена в этом; я чувствую, как меня влечет к нему, я понимаю тайный язык его взглядов и движений. Хотя его богатство и положение в обществе и разделяют нас, в моем уме и в моем сердце, в моей крови и в моих нервах есть нечто, что меня роднит с ним. Неужели это я говорила себе всего несколько дней назад, что мое дело — только получать от него жалованье? Неужели это я запрещала себе видеть в нем что-либо иное, кроме опекуна моей ученицы? Это было кощунством, надругательством над природой. Все добрые, честные, сильные чувства моей души невольно устремляются к нему. Я знаю, что должна скрывать свои переживания, что должна убить в себе всякую надежду, должна помнить, что он не может любить меня, — ибо, говоря, что между нами есть какое-то внутреннее родство, я вовсе не предполагаю, что наделена той же силой влияния и той же способностью очаровывать, как и он. Я хочу только сказать, что у нас одинаковые с ним вкусы и ощущения. И поэтому я должна то и дело повторять себе, что мы разлучены навеки; но, пока я живу и мыслю, я не могу не любить его».
Подали кофе. Как только вошли мужчины, дамы защебетали, как птички. Разговор становился все громче и веселей. Полковник Дэнт и мистер Эштон спорят о политике; их жены внимают им. Гордые вдовы — леди Лин и леди Ингрэм — любезно беседуют. Сэр Джордж (я забыла описать его наружность: это очень высокий и розовощекий деревенский джентльмен) стоит перед диваном, на котором расположились дамы, и, держа в руке чашку кофе, время от времени вставляет слово. Мистер Фредерик Лин уселся позади Мери Ингрэм и показывает ей книгу с великолепными гравюрами; она смотрит, улыбается, но сказать ей нечего. Долговязый и флегматичный лорд Ингрэм стоит, скрестив руки, за спинкой кресла, на которое уселась веселая и живая Эми Эштон. Время от времени она поглядывает на него и трещит, как сорока; он нравится ей больше, чем мистер Рочестер. Генри Лин поместился на скамеечке у ног Луизы. Адель примостилась тут же. Он пытается говорить с девочкой по-французски, и Луиза хохочет над его ошибками. Кто же будет парой Бланш Ингрэм? Она стоит у стола одна, грациозно склонясь над альбомом. Видимо, она ждет, чтобы кто-нибудь подошел к ней; но слишком долго ждать она не намерена. Она сама подыщет себе собеседника.
Мистер Рочестер, поговорив с Эштонами, отходит к камину; теперь он один. Бланш делает несколько шагов и становится против него.
— А мне казалось, мистер Рочестер, что вы не любите детей.
— Так оно и есть.
— Тогда ради чего вы взяли на себя заботу об этой куколке (она указала на Адель)? Где вы ее подобрали?
— Я не подобрал ее, она была оставлена мне.
— Вам следовало отправить ее в школу.
— Я не мог сделать этого. Школы слишком дороги.
— Ну, вы, вероятно, держите для нее гувернантку. Я только что видела здесь какую-то особу, — она ушла? Ах нет, она все еще сидит вон там, за шторой. Вы, конечно, платите ей? По-моему, это стоит не дешевле, и вам в результате приходится содержать двоих.
Я боялась, или, говоря по правде, надеялась, что упоминание обо мне заставит мистера Рочестера хоть раз взглянуть в мою сторону, и невольно забилась поглубже в угол. Но он даже не повернул головы.
— Я об этом не подумал, — сказал он равнодушно, глядя прямо перед собой.
— Конечно, вы, мужчины, никогда не считаетесь ни с экономией, ни со здравым смыслом. Вы бы послушали, что говорит мама насчет гувернанток: у нас с Мери, когда мы были маленькими, их перебывало по крайней мере с десяток. Одни были отвратительны, другие смешны. И каждая по-своему несносна. Ведь правда, мама?
— Что ты сказала, мое сокровище?
Молодая особа, представлявшая собой это сокровище, повторила свой вопрос с надлежащим пояснением.
— Ах, моя дорогая, не упоминай о гувернантках! Одно это слово уже действует мне на нервы. Бестолковость, вечные капризы!.. Поверьте, я была просто мученицей! Слава богу, эта пытка кончилась.
Тут миссис Дэнт наклонилась к благочестивой даме и что-то шепнула ей на ухо. По ответу я поняла, что миссис Дэнт напомнила ей о присутствии здесь одной из представительниц этой проклятой породы.
— Тем лучше, — заявила леди. — Надеюсь, это послужит ей на пользу. — И добавила тише, но достаточно громко, чтобы я слышала: — Я сразу обратила на нее внимание. Ведь я отличная физиономистка и читаю на ее лице все недостатки этой породы.
— Какие же это недостатки, мадам? — громко спросил мистер Рочестер.
— Я вам на ухо скажу, какие, — ответила она и трижды многозначительно качнула своим тюрбаном.
— Но мое любопытство пройдет, оно жаждет удовлетворения именно сейчас.
— Спросите у Бланш, она ближе к вам, чем я.
— О, не отсылай его ко мне, мама. Я могу сказать обо всем этом племени только одно: они несносны! Правда, я не слишком от них пострадала и скорее старалась им сама насолить. Какие проделки мы с Теодором устраивали над нашей мисс Уилсон, и миссис Грейс, и мадам Жубэр! Мери была слишком большой соней, чтобы участвовать в таких шалостях. Особенно смешно было с мадам Жубэр. Мисс Уилсон была жалким, болезненным существом, слезливым и ничтожным, и она не стоила того, чтобы с ней бороться, а миссис Грэйс была груба и бесчувственна, на нее ничто не действовало. Но бедная мадам Жубэр! Как сейчас вижу ее ярость, когда мы, бывало, окончательно выведем ее из себя — разольем чай, раскрошим на полу хлеб с маслом, начнем подбрасывать книги к потолку и оглушительно стучать линейкой по столу и каминными щипцами по решетке. Теодор, ты помнишь это веселое время?
— Да, конечно, помню, — грассируя, отозвался лорд Ингрэм. — Бедная старушенция обычно кричала: «Ах, гадкие дети!» А тогда мы начинали читать ей нотации за то, что она дерзает учить таких умных детей, как мы, а сама так невежественна.
— Да, я помню. А потом, Тедо, я помогала тебе изводить твоего учителя, этого бедного мистера Вининга, ходячую проповедь, как мы его звали. Он и мисс Уилсон осмелились влюбиться друг в друга, — по крайней мере мы с Тедо так решили. Нам удалось подметить нежные взгляды и вздохи, которые казались нам признаками de la belle passion[23], и все скоро узнали о нашем открытии. Мы воспользовались им для того, чтобы выжить их из нашего дома. Мамочка, как только узнала об этой истории, усмотрела в ней безнравственные тенденции. Разве не так, леди мать?
— Разумеется, душа моя, и я была права. Поверь, существует тысяча причин, по которым любовные интрижки между гувернантками и учителями не могут быть допущены ни на мгновение ни в одном порядочном доме. Во-первых…
— Помилосердствуй, мама, избавь нас от перечислений. Право же, мы сами все это знаем: опасность дурного примера для невинных детских душ, рассеянность влюбленных — и отсюда пренебрежение своими обязанностями; затем взаимное их понимание и поддержка, а отсюда дерзость, мятеж и полный беспорядок. Я права, баронесса Ингрэм из Ингрэм-парка?
— Мой чистый ангел, ты права, как всегда.
— Тогда не о чем больше и говорить. Давайте переменим тему.
Эми Эштон, которая не слышала или не обратила внимания на этот приказ, заявила своим кротким голоском маленькой девочки:
— А мы с Луизой тоже дразнили нашу гувернантку, но она была так добра, что все решительно переносила. Ничем нельзя ее было вывести из себя. Она никогда на нас не сердилась. Ведь верно, Луиза?
— Никогда! Мы могли делать что угодно: шарить в ее столе или рабочей корзинке, все перевернуть вверх дном в ее ящиках. Она была так добродушна, что давала нам все, чего бы мы ни попросили.
— Ну, — заметила мисс Ингрэм с саркастической усмешкой, — кажется, все теперь займутся воспоминаниями о своих гувернантках. Во избежание этого я еще раз предлагаю другую тему. Мистер Рочестер, вы поддерживаете меня?
— Сударыня, я поддерживаю вас в этом, как и во всем остальном.
— Тогда беру дальнейшее на себя. Сеньор Эдуардо, вы нынче в голосе?
— Донна Бианка, если вы прикажете, я буду в голосе.
— А тогда, сеньор, слушайтесь моего королевского приказа — приведите в готовность ваши легкие и другие вокальные органы, чтобы служить моим желаниям.
— Кто не захочет быть Риччио[24] при столь божественной Мери?
— Бросьте вашего Риччио! — воскликнула она, тряхнув кудрями и направляясь к роялю. — Я считаю, что скрипач Давид был препротивным субъектом, черный Босвел[25] нравится мне гораздо больше. По-моему, мужчина ничего не стоит, если в нем нет чего-то дьявольского. Пусть история говорит что угодно, но, мне кажется, он был как раз таким диким, неистовым героем злодейского типа, какому я согласилась бы отдать свою руку.
— Джентльмены, вы слышите? Кто из вас больше всего похож на Босвела? — воскликнул мистер Рочестер.
— Я бы сказал, что, пожалуй, вы, — отозвался полковник Дэнт.
— Клянусь честью, я вам чрезвычайно благодарен! — отозвался мистер Рочестер.
Мисс Ингрэм, с горделивой грацией усевшись за рояль, расправила вокруг себя пышные складки своей белоснежной одежды и заиграла бравурное вступление. Вместе с тем она продолжала говорить. Очевидно, она была сегодня в ударе. Ее речи и выражение лица были предназначены, казалось бы, для того, чтобы не только вызывать восхищение, но прямо-таки ослеплять своих слушателей. Сегодня она, видимо, собиралась показать себя особенно бесшабашной и смелой.
— О, мне так надоели наши теперешние молодые люди! — восклицала Бланш, исполняя оглушительные пассажи на рояле. — Бедные, ничтожные существа, которые не смеют шага сделать за решетку папиного парка и даже до решетки боятся дойти без маминого позволения и охраны. Это люди, которые только и заняты своим красивым лицом, белыми руками и маленькими ногами. Как будто настоящему мужчине нужна красота! Как будто очарование не является исключительным преимуществом женщины, ее законным достоянием и наследием! Некрасивая женщина — это просто оскорбление природе. От мужчин же требуется только одно — сила и решительность. Пусть их девизом будет охота, стрельба, война, — все остальное вздор. Будь я мужчиной, мой девиз был бы именно таков.
— Когда я решу выйти замуж, — продолжала она, сделав паузу, хотя никто ей не возражал, — я найду себе такого мужа, который не будет соперничать со мной в красоте, а скорее будет оттенять ее. Я не потерплю соперника у своего престола, моя власть должна быть безраздельна; я хочу, чтобы он любовался только мной, а не собственным отражением в зеркале. А теперь, мистер Рочестер, пойте, я буду вам аккомпанировать.
— Повинуюсь.
— Вот песенка корсара. Вы знаете теперь мое отношение к корсарам. Поэтому спойте ее con spirite[26].
— Приказания, исходящие из уст мисс Ингрэм, кажется, воспламенили бы стакан снятого молока.
— Берегитесь! Если вы не сумеете мне угодить, я пристыжу вас, показав, как нужно исполнять такие вещи.
— Вы хотите выдать мне премию за неспособность? Теперь я уж наверное провалюсь.
— Ну, смотрите! Если вы это сделаете нарочно, я вам назначу соответствующее наказание.
— Мисс Ингрэм должна быть снисходительна, так как она может возложить наказание, превышающее человеческие силы.
— Объясните, что это значит? — приказала молодая дама.
— Извините меня, сударыня, никаких объяснений здесь не нужно. Чуткость должна подсказать вам, что ваша нахмуренная бровь уже является серьезнейшим наказанием.
— Пойте, — снова приказала Бланш и заиграла громкий аккомпанемент.
«Теперь я могу ускользнуть», — решила я. Но звуки, раздавшиеся вслед за тем, заставили меня остановиться. Миссис Фэйрфакс говорила, что у мистера Рочестера прекрасный голос, — и действительно, у него был глубокий, мощный бас, в который он вкладывал особое чувство, особую выразительность. Этот голос проникал в сердце и странно волновал. Я подождала, пока последний глубокий и полный звук замер и снова зажурчал прерванный на мгновение разговор. Тогда я выбралась из своего уголка и вышла через боковую дверь, которая, к счастью, находилась поблизости. Я очутилась в узеньком коридоре, ведущем в холл. Сделав несколько шагов, я заметила, что у меня развязалась ленточка туфли, и чтобы завязать ее, опустилась на колено на ковер у подножия лестницы. В это время за мной открылась дверь из столовой. Кто-то из мужчин вышел оттуда. Я торопливо поднялась и очутилась лицом к лицу с мистером Рочестером.
— Как вы поживаете? — спросил он.
— Очень хорошо, сэр.
— Отчего вы не подошли и не поговорили со мной в гостиной?
Мне казалось, что я могла задать ему тот же вопрос; но я не осмелилась и просто сказала:
— Я не решилась беспокоить вас, так как вы, видимо, были заняты, сэр.
— Что вы делали в мое отсутствие?
— Ничего особенного, занималась, как обычно, Аделью.
— И стали гораздо бледней, чем были. Я увидел это с первого же взгляда. Что случилось?
— Решительно ничего, сэр.
— Вы не простудились в ту ночь, когда едва не утопили меня?
— Ничуть.
— Вернитесь в гостиную, вы убегаете слишком рано.
— Я устала, сэр.
Он с минуту смотрел на меня.
— И чем-то огорчены, — сказал он. — Чем? Расскажите мне!
— Ничем, решительно ничем. Я не огорчена.
— А я утверждаю, что огорчены. И настолько, что еще одно слово — и на ваших глазах выступят слезы, — видите, они уже появились, сверкают, и вот уже одна капля катится по щеке. Если бы у меня было время и я бы не опасался, что какой-нибудь сплетник слуга пройдет здесь, я бы все-таки добился от вас, в чем дело. Ну, на сегодня отпускаю вас. Но имейте в виду, что, пока здесь мои гости, я хочу, чтобы вы появлялись в гостиной каждый вечер; таково мое желание, пожалуйста, не пренебрегайте им. А теперь идите и пришлите Софи за Аделью. Спокойной ночи, моя… — он смолк, прикусил губу и торопливо вышел.
Глава XVIII
Дни в Торнфильдхолле проходили весело и в суете. Как отличались они от первых трех месяцев, которые я провела под этой крышей, полных тишины, однообразия и уединения! Казалось, отсюда изгнаны все печальные чувства, забыты все мрачные воспоминания. Везде была жизнь, все было полно движения. Нельзя было пройти по коридору, раньше столь тихому, или войти в одну из парадных комнат, раньше столь пустынных, не встретив хорошенькую камеристку или элегантного камердинера.
Кухня, буфетная, людская, столовая, вестибюль — всюду было полно людей, а гостиные пустели только тогда, когда голубое небо и волшебный солнечный свет чудесного весеннего дня звали гостей в парк. Но даже когда погода испортилась и дождь зарядил на несколько дней, это не повлияло на настроение гостей. Домашние развлечения стали только более оживленными и разнообразными, вследствие того, что прогулкам на открытом воздухе был положен конец.
В первый вечер, когда решили переменить программу, я была крайне озадачена: все заговорили об игре в шарады, а я, по своему невежеству, не понимала, что это значит. Были призваны слуги, обеденные столы передвинуты, свечи перенесены, стулья расставлены полукругом перед аркой. Мистер Рочестер и другие джентльмены отдавали распоряжения, а дамы порхали вверх и вниз по лестницам, то и дело слышались звонки, которыми они призывали своих горничных. Была приглашена миссис Фэйрфакс и запрошена о том, какие имеются в доме запасы одежды, шалей и всякого рода декоративных тканей. Были осмотрены гардеробы на третьем этаже, и горничные притащили вниз груды парчовых платьев, атласных камзолов, черных шелковых плащей и кружевных жабо; часть вещей была отобрана и отнесена в гостиную.
Тем временем мистер Рочестер снова пригласил дам и теперь отбирал некоторых из них в свою группу.
— Мисс Ингрэм, конечно, пойдет ко мне. — Затем он выбрал обеих барышень Эштон и миссис Дэнт. Он взглянул на меня: я случайно оказалась неподалеку, так как застегивала миссис Дэнт расстегнувшийся браслет.
— А вы будете играть? — спросил он.
Я отрицательно покачала головой, очень опасаясь, как бы мистер Рочестер не вздумал настаивать; но он этого не сделал и разрешил мне спокойно вернуться на мое обычное место.
Мой хозяин и его группа скрылись за драпировкой. Остальное общество, по указанию полковника Дэнта, расселось на стульях, расставленных полукругом. Один из джентльменов, мистер Эштон, видимо, заметив меня в углу, предложил пригласить и меня в их компанию. Но леди Ингрэм запротестовала:
— Нет, — услышала я ее слова. — Разве вы не видите, что она слишком глупа?
Вскоре зазвонил колокольчик, и занавес поднялся. В глубине высилась крупная фигура сэра Джорджа Лина (которого мистер Рочестер также пригласил в свою группу), закутанная в белую простыню. Перед ним на столе лежала большая раскрытая книга. Рядом стояла Эми Эштон, в плаще мистера Рочестера, и также держала в руках книгу. Кто-то незримый весело названивал в колокольчик. Тогда Адель (которая потребовала, чтобы ее тоже включили в игру) выбежала вперед и разбросала на полу цветы из корзины, висевшей у нее на руке. Но вот появилась величественная мисс Ингрэм, во всем белом, с длинной вуалью на голове и в венке из роз. Рядом с ней выступал мистер Рочестер; они вдвоем приблизились к столу и опустились на колени; миссис Дэнт и Луиза Эштон, также одетые в белое, стали позади. Последовала церемония в виде пантомимы, в которой нетрудно было узнать церемонию брачного обряда. Когда он был окончен, полковник Дэнт и его группа посовещались шепотом, и затем полковник возгласил:
— Брайд![27]
Мистер Рочестер поклонился, и занавес был опущен.
Наступил довольно длинный перерыв, затем занавес снова поднялся. Перед зрителями открылась более тщательно подготовленная сцена. Как я уже упоминала, из столовой в гостиную вели две ступеньки. И вот примерно на расстоянии ярда от них мы увидели большой мраморный бассейн, в котором я узнала одну из достопримечательностей нашей оранжереи; бассейн этот обычно стоял окруженный тропическими растениями, и в нем плавали золотые рыбки. Очевидно, доставить сюда это громоздкое сооружение стоило немалых трудов.
На полу возле бассейна сидел мистер Рочестер, в одежде из восточных тканей и с тюрбаном на голове. Его темные глаза, смуглая кожа и резкие черты как нельзя больше соответствовали такому костюму: он выглядел настоящим восточным эмиром, героем экзотической легенды. Затем появилась мисс Ингрэм. На ней было также восточное одеяние — широкий алый шарф опоясывал ее бедра, на голове был вышитый платок, ее чудесные руки были обнажены до плеч; одной рукой она грациозно поддерживала на голове кувшин. Ее фигура, черты лица, весь ее облик наводили на мысль об иудейской принцессе патриархальных времен, и таковую она, видимо, и должна была изображать.
Она приблизилась к бассейну и склонилась над ним, словно желая наполнить кувшин, затем снова поставила его на голову. Но вот сидевший возле бассейна обратился к ней с просьбой. Она поспешно опустила руку с кувшином и дала ему напиться. Тогда он вынул из-за пазухи шкатулку, открыл ее и извлек оттуда драгоценные браслеты и серьги. Женщина изобразила удивление и восторг. Преклонив колена, он сложил сокровища к ее ногам. Она взглядом и жестами выразила недоверие и радость. Незнакомец надел браслеты на ее руки и вдел серьги ей в уши. Это были Елеазар и Ревекка; не хватало только верблюдов.
И снова группа отгадывающих склонилась друг к другу головами. Очевидно, они не могли решить, какое слово или слог изображены в этой сцене. Тогда полковник Дэнт попросил представить целое. Занавес снова опустился.
Когда он поднялся в третий раз, открылась только часть гостиной, остальное пространство было скрыто ширмой, задрапированной какой-то грубой темной материей. Мраморный бассейн исчез. На его месте стоял деревянный стол и кухонная табуретка. Все это освещалось тусклым светом фонаря, так как свечи были погашены.
На этом мрачном фоне выделялась фигура человека; он сидел, стиснув руки на коленях и опустив глаза. Я узнала мистера Рочестера, хотя его лицо было загримировано и одежда в беспорядке (рубаха свисала с одного плеча, словно была порвана во время драки), а выражение отчаяния и злобы и растрепанные, торчащие волосы действительно изменили его лицо до неузнаваемости. Когда он сделал движение, звякнула цепь: на его руках были кандалы.
— Брайдуэлл![28] — воскликнул полковник Дэнт; и шарада была разгадана.
Через некоторое время, понадобившееся исполнителям, чтобы переодеться в обычную одежду, они возвратились в столовую. Мистер Рочестер вел под руку мисс Ингрэм. Она расхваливала его игру.
— Знаете ли вы, — сказала Бланш, — что из всех трех образов мне больше всего понравился последний. О, живи вы немного раньше, какой обаятельный разбойник с большой дороги из вас вышел бы!
— Я всю краску смыл с лица? — спросил он, повернувшись к ней.
— Увы, да. Как жалко. Ничто так не идет к вашему лицу, как этот резкий кармин.
— Значит, вы могли бы полюбить разбойника с большой дороги?
— Интереснее английского разбойника может быть только итальянский бандит. А его способен превзойти только левантийский пират.
— Ну, кто бы я ни был, помните, что вы моя жена. Мы были обвенчаны час тому назад в присутствии всех этих свидетелей.
Она заулыбалась и густо покраснела.
— А теперь, Дэнт, — продолжал мистер Рочестер, — ваша очередь.
И когда новая группа удалилась, мистер Рочестер и остальные гости уселись на стульях перед аркой. Мисс Ингрэм села по правую руку от него, все прочие разместились по обе стороны от них. Но теперь я не смотрела на актеров. Я уже не ждала с интересом, чтобы поднялся занавес. Мое внимание было целиком поглощено зрителями. Мой взгляд, до того устремленный на сцену, теперь неотрывно следил за сидевшими на просцениуме. Какую шараду разыграл полковник Дэнт и его группа, какое они выбрали слово и как его изобразили, мне уже трудно было бы вспомнить, Но я до сих пор вижу, как совещались зрители после каждой сцены, вижу, как мистер Рочестер повертывается к мисс Ингрэм, а мисс Ингрэм повертывается к нему, вижу, как она склоняет к нему голову, так, что ее черные кудри почти касаются его плеча и задевают его щеки, слышу их шепот, ловлю взгляды, которыми они обмениваются; и сейчас, вспоминая об этом, я испытываю те самые чувства, какие испытывала тогда.
Я уже говорила вам, читатель, что привыкла восхищаться мистером Рочестером. Так не могла же я перемениться к нему только оттого, что он перестал на меня обращать внимание и все это время ни разу не взглянул в мою сторону; оттого, что все его внимание было приковано к знатной даме, которая настолько презирала меня, что опасалась задеть краем платья, а если случайно взор ее темных и властных глаз падал на меня, тотчас же отводила его, словно я была недостойна даже ее взгляда. Не могла же я перемениться к нему оттого, что знала о его предстоящем браке с упомянутой дамой и ежедневно видела подтверждение этому в ее горделивой уверенности, что так и будет, оттого, что я видела его ухаживания за ней, — правда, он ухаживал на особый лад — небрежно, словно вызывая ее на то, чтобы она сама искала его внимания. Но тем больше было в этой небрежности обаяния, а в этой гордости — какой-то притягательной силы.
Нет, во всем этом не было ничего, что могло бы охладить или изгнать любовь, но достаточно для того, чтобы вызвать отчаяние. А также — скажете вы, читатель, — чтобы пробудить ревность. Но разве женщина в моем положении могла ревновать к женщине, подобной мисс Ингрэм? Нет, я не ревновала. Ту боль, которую я испытывала, трудно назвать этим словом. Мисс Ингрэм не стоила ревности, она была слишком ничтожна, чтобы вызывать подобное чувство. Простите мне этот кажущийся парадокс, но я имею в виду именно то, что сказала. Она казалась очень эффектной, но лишенной всякой естественности; она обладала красивой внешностью, была блестяще образованна, но ее ум был беден и сердце черство; ничто не произрастало на этой почве, никакие плоды не могли освежить вас здесь своей сочностью. Она не была добра; в ней не чувствовалось ничего своего, она повторяла книжные фразы, но никогда не отстаивала собственных убеждений, да и не имела их. Она толковала о высоких чувствах, но участие и жалость были чужды ей, а также нежность и правдивость. В этом смысле она то и дело выдавала себя, — хотя бы, например, тем, с каким презрением и недоброжелательством относилась к маленькой Адели. Она вечно отсылала ее от себя с каким-нибудь обидным словом, если девочка слишком приближалась к ней, а иногда просто выгоняла из комнаты и обращалась с ней холодно и насмешливо. Но, кроме моих, были еще глаза, которые наблюдали за проявлениями ее характера, — наблюдали пристально, упорно, хитро. Да, будущий жених, сам мистер Рочестер, установил наблюдение за своей предполагаемой невестой; и вот это-то его коварство и настороженность, его полнейшее понимание всех недостатков его избранницы, это очевидное отсутствие всякой страсти в его чувстве к ней и вызывали во мне нестерпимую боль.
Я видела, что он собирается жениться на ней по причинам семейного или политического характера, — оттого, что ее положение и связи подходили ему, но я чувствовала, что он не отдал ей своей любви и что при всех ее совершенствах она не могла завоевать это сокровище. Вот тут-то и таилась причина моих постоянных мук и терзаний, поэтому меня и сжигал неугасимый огонь: она была неспособна очаровать его.
Если бы она победила его, и он, покорившись ее власти, искренне положил бы к ее ногам свою любовь, я закрыла бы лицо свое, отвернулась бы к стенке и (выражаясь фигурально) умерла бы для них. Будь мисс Ингрэм женщина доброй и благородной души, наделенная силой чувства, пылкостью, великодушием, умом, я бы выдержала бой с двумя тиграми — ревностью и отчаянием. Пусть они разорвали и уничтожили бы мое сердце, но сознание ее неизмеримого превосходства дало бы мне покой до конца моих дней. И чем больше было бы это превосходство и чем искреннее мое признание его, тем глубже и спокойнее было бы мое отречение. Но постоянно видеть, как мисс Ингрэм старается покорить мистера Рочестера и как она все вновь и вновь терпит поражение, видеть, как каждая пущенная ею стрела неизменно пролетает мимо цели, в то время как сама она горделиво торжествует победу, хотя эта гордость и самоуверенность все более и более отдаляют ее от цели: видеть все это — значило находиться в непрестанном волнении и подвергать себя вечным терзаниям.
Взирая на эти безуспешные попытки, я ведь представляла себе и то, как она могла добиться успеха. Эти стрелы, метившие в грудь мистера Рочестера и безобидно падавшие к его ногам, могли — я это знала, — пущенные более искусной рукой, пронзить его гордое сердце, вызвать любовь в его угрюмом взгляде и мягкость в насмешливом лице; но еще лучше, еще успешнее можно было выиграть эту битву без всякого оружия.
«Отчего ее чары не действуют на него, раз ей выпало счастье находиться к нему столь близко? — спрашивала я себя. — Нет, она, вероятно, не любит его, не питает к нему истинного чувства. Если бы мисс Ингрэм любила его, она бы так щедро не рассыпала золото своих улыбок, не бросала б ему таких многозначительных взглядов, не возводила так умильно глаза к небу, не расточала столько внимания!» Мне казалось, что если бы она спокойно сидела с ним рядом, меньше говорила и меньше смотрела на него, она бы скорее покорила его сердце. Как часто я видела на его лице совсем иное выражение, чем эта холодная сдержанность, хотя мисс Ингрэм так настойчиво заигрывает с ним. Это другое выражение появлялось само собой, его нельзя было вызвать никакими ухищрениями и рассчитанными маневрами, его надо было просто принять, отвечать на то, о чем он спрашивал, без всяких претензий, обращаться к нему, когда это было нужно, без всяких ужимок, — и тогда это выражение усиливалось, становилось все ласковее и естественнее и согревало сердце благодатным теплом. «Сможет ли она угодить ему, когда они поженятся? Не думаю, чтобы ей это удалось. А почему бы и нет? Его жена могла бы, я уверена, чувствовать себя счастливейшей женщиной на свете».
До сих пор я не сказала ничего в осуждение планов мистера Рочестера — его предполагаемой женитьбы из чисто светских соображений. Узнав об этом впервые, я удивилась: как это у него могла быть подобная цель? Я считала его человеком, на которого в выборе жены едва ли могут влиять столь банальные мотивы; но чем больше я размышляла о положении и воспитании их обоих, тем меньше чувствовала себя вправе осуждать его или мисс Ингрэм за то, что они поступают согласно взглядам и принципам, внушавшимся им, без сомнения, с раннего детства. Все люди их круга следовали этим принципам: вероятно, для этого имелись причины, смысл которых оставался для меня недоступным. Мне казалось, что, будь я на его месте, я слушалась бы только голоса своего сердца. Тут как будто не могло быть сомнений. Но самая очевидность этой истины рождала во мне догадку, что существуют какие-то серьезные препятствия, о которых я ничего не знаю. Иначе весь мир вел бы себя так, как мне представлялось естественным.
Однако я замечала, что не только в этом вопросе, но и во многом другом становлюсь все снисходительнее к моему хозяину. Постепенно я забывала о тех недостатках, к которым была так чувствительна первое время. Вначале я стремилась изучить все стороны его характера, хорошие и дурные, и, взвесив их, составить о нем справедливое суждение. Теперь же я ничего дурного уже не замечала. Его насмешливость, его резкость, когда-то неприятно поражавшие меня, теперь казались мне как бы приправой к изысканному блюду: острота ее раздражает небо, но без нее пища казалась бы пресной. Что касается загадочного выражения, которое появлялось порой в его глазах, поражая внимательного наблюдателя, и снова исчезало, едва вы, успевали заглянуть в эти темные глубины, то я затруднялась сказать, было ли оно угрюмым или печальным, многозначительным или безнадежным. Это выражение раньше повергало меня в трепет, словно, бродя по склону потухшего вулкана, я вдруг чувствовала, что земля подо мной колеблется, и видела перед собой разверстую пропасть; я и теперь улавливала в его лице такое выражение, но сердце уже не замирало в груди, и, вместо того чтобы бежать без оглядки, мне хотелось подойти поближе, проникнуть в эту тайну. Мисс Ингрэм казалась мне счастливой: настанет день, когда она сможет заглянуть в эту пропасть, разгадать ее загадки и изучить их природу.
Но в то время как все мои помыслы были поглощены только моим хозяином и его будущей невестой и я замечала только их, слышала только их разговоры и наблюдала за их движениями, которые были полны для меня скрытого смысла, остальная компания развлекалась как умела. Леди Лин и леди Ингрэм продолжали величественно беседовать, кивая друг другу своими тюрбанами, наподобие двух разряженных марионеток, и симметрически воздевая к небу четыре руки, чтобы выразить изумление, негодование или ужас, — в зависимости от того, о ком или о чем они судачили. Кроткая миссис Дэнт беседовала с добродушной миссис Эштон, и время от времени обе дамы удостаивали и меня любезного слова или приветливой улыбки. Сэр Джордж Лин, полковник Дэнт и мистер Эштон спорили о политике, о делах графства, о судебных процессах. Молодой лорд Ингрэм флиртовал с Эми Эштон; Луиза занималась музыкой с одним из молодых Линов, а Мери Ингрэм томно выслушивала любезности другого Лина. Иногда они, точно сговорившись, переставали играть свои роли и прислушивались к игре главных актеров, ибо в конце концов мистер Рочестер и столь непосредственно связанная с ним мисс Ингрэм составляли жизнь и душу всей компании. Если он в течение часа отсутствовал, гостями овладевали заметное уныние и скука, а его возвращение всегда давало новый толчок к оживленным разговорам.
Эту потребность в его животворном влиянии общество ощущало, видимо, особенно остро, в один из тех дней, когда он был вызван по делам в Милкот и его ожидали обратно только вечером. После полудня пошел дождь. Прогулку, которую гости намеревались совершить, чтобы посмотреть цыганский табор, только что расположившийся на выгоне под Хэем, пришлось отменить. Кое-кто из мужчин ушел в конюшни; молодежь вместе с дамами отправилась играть на бильярде; вдовствующие леди Ингрэм и леди Лин засели с горя за карты. Бланш Ингрэм, хранившая высокомерное молчание, несмотря на все усилия миссис Дэнт и миссис Эштон вовлечь ее в разговор, сначала мурлыкала сентиментальную песенку и наигрывала на рояле, а затем, достав в библиотеке какой-то роман, с надменным равнодушием расположилась на диване, решив сократить с помощью интересной книги докучные часы ожидания. В гостиной и во всем доме царила тишина; только из бильярдной доносились веселые голоса играющих.
Смеркалось, и звон часов уже предупредил о том, что пора переодеваться к обеду, когда маленькая Адель, прикорнувшая рядом со мной в оконной нише, воскликнула:
— Вон возвращается мистер Рочестер!
Я обернулась. Мисс Ингрэм вскочила с дивана. Остальные также оторвались от своих занятий, ибо одновременно раздался скрип колес и топот копыт по мокрому гравию. Приближалась карета.
— Что за фантазия возвращаться домой в таком экипаже? — сказала мисс Ингрэм. — Ведь он уехал верхом на Мезруре, и Пилот был с ним; куда же он дел собаку?
Ее внушительная фигура в пышных одеждах настолько приблизилась к окну, что я вынуждена была откинуться назад, рискуя сломать себе позвоночник. В своем нетерпении она сначала не заметила меня, но затем с презрительной гримасой поспешила отойти к другому окну. Карета остановилась, кучер позвонил у дверей, и из экипажа вышел одетый по-дорожному джентльмен; но это был не мистер Рочестер. Это был незнакомый высокий элегантный мужчина.
— Какая досада! — воскликнула мисс Ингрэм. — Вот противная обезьянка! — обратилась она к Адели. — Кто позволил тебе торчать у окна? Зачем ты нас обманула? — И она бросила на меня злобный взгляд, словно это была моя вина.
В холле послышались голоса, и приезжий вошел в гостиную. Он поклонился леди Ингрэм, видимо считая ее старшей из присутствующих дам.
— Кажется, я явился не вовремя, сударыня? — сказал он. — Моего друга, мистера Рочестера, нет дома? Но я приехал издалека и надеюсь, что могу, на правах старинной дружбы, расположиться в этом доме до возвращения его хозяина?
Манеры джентльмена были очень вежливы; акцент чем-то поразил меня: не иностранный, но и не вполне английский. Лет ему могло быть столько же, сколько и мистеру Рочестеру, то есть между тридцатью и сорока. Цвет лица у него был необычно смуглый. И все же, на первый взгляд, он казался красивым мужчиной. Однако при ближайшем рассмотрении в его лице выступало что-то неприятное; черты у него были тонкие, но какие-то слишком вялые; глаза большие, пожалуй, красивые, но взгляд их был равнодушный, безучастный. Так, по крайней мере, мне показалось.
Звон колокола, призывавшего гостей переодеваться к обеду, заставил все общество разойтись. После обеда я еще раз увидела приехавшего джентльмена. Казалось, он чувствует себя, как дома. Его лицо понравилось мне еще меньше. Оно поразило меня: что-то в нем было неуравновешенное и вместе с тем безжизненное. Глаза как-то бесцельно блуждали, и это придавало его лицу странное выражение; я никогда не видела такого взгляда. Этот красивый и довольно приятный джентльмен чем-то отталкивал от себя. В правильном овале его гладкого лица не ощущалось никакой силы; в очертаниях носа с горбинкой и маленького вишневого рта не было никакой твердости; от ровного низкого лба не веяло мыслью; в бездушных карих глазах не было ничего располагающего.
Прячась в моем обычном уголке и рассматривая гостя при свете жирандолей, стоявших на камине и ярко освещавших это вялое лицо, — он сидел в кресле у самого огня, однако старался придвинуться еще ближе, словно ему было холодно, — я сравнивала его с мистером Рочестером. Казалось, контраст между ними был не меньше, чем между сонным гусем и гордым соколом, между смирной овцой и смелой лайкой, ее хранительницей. Он сказал, что мистер Рочестер его старинный друг. Странная это, вероятно, была дружба, — более чем наглядное доказательство того, что, как говорят, противоположности сходятся.
Рядом с ним сидело три джентльмена, и до меня доносились обрывки их разговора. Сначала мне было трудно уловить тему их беседы, — болтовня Луизы Эштон и Мери Ингрэм, сидевших неподалеку от меня, мешала мне слушать. Барышни обсуждали приезжего; по их мнению, он был обаятельный мужчина. Луиза сказала, что он «душка» и что она таких «обожает»; а Мери обратила ее внимание на «его прелестный рот и тонкий нос», считая их признаками совершенной красоты в мужчине.
— А какой чудесный лоб! — воскликнула Луиза. — Такой гладкий, ни морщин, ни бугров, — я это просто ненавижу. И какие славные глаза и улыбка!
Но вот, к моему великому облегчению, мистер Генри Лин отозвал их на другой конец комнаты, чтобы условиться относительно отложенной экскурсии в Хэй.
Теперь я могла сосредоточить все свое внимание на группе перед камином. Вскоре я узнала, что приезжего зовут мистер Мэзон; он только что прибыл в Англию из какой-то жаркой страны; вероятно, поэтому и лицо у него было смуглое и он сидел так близко к огню, кутаясь в плащ. Затем я услышала названия Ямайка, Кингстон, Спаништаун, — это указывало на то, что он жил в Вест-Индии. Я с немалым изумлением услышала, что он впервые встретился и познакомился с мистером Рочестером именно там. Мистер Мэзон рассказывал о том, как его друг невзлюбил знойный климат, ураганы и дожди в этих краях. Мне было известно, что мистер Рочестер много путешествовал, об этом поведала мне миссис Фэйрфакс, но я полагала, что он не выезжал за пределы Европы, — до сих пор я никогда не слышала, чтобы он посещал более отдаленные земли.
Я была погружена в эти мысли, когда произошел несколько неожиданный эпизод. Мистер Мэзон, поеживавшийся от холода всякий раз, как кто-нибудь открывал дверь, попросил подложить углей в камин, хотя он был еще полон жара. Лакей, явившийся на зов, проходя мимо мистера Эштона, что-то сказал ему вполголоса, причем я разобрала всего несколько слов: «старуха», «так пристает…».
— Скажите, что я ее в тюрьму посажу, если она не уберется отсюда, — отозвался судья.
— Нет, подождите, — прервал его полковник Дэнт. — Не отсылайте ее, Эштон. Может быть, это будет интересно. Лучше спросите дам. — И он, уже громко, продолжал: — Вот, сударыни, вы хотели отправиться в Хэй посмотреть цыганский табор. А Сэм говорит, что в людской столовой находится старуха цыганка, она просит, чтобы ее провели к «господам», она им погадает. Хотите видеть ее?
— Слушайте, полковник, — воскликнула леди Ингрэм, — неужели вы впустите сюда какую-то подозрительную цыганку? Гоните ее без всяких разговоров, и сейчас же!
— Но я никак не могу заставить ее уйти, миледи, — отозвался лакей. — И никто из слуг не может. Там миссис Фэйрфакс, она старается выпроводить ее, но старуха взяла стул, уселась около камина и говорит, что не двинется с места, пока ей не разрешат войти сюда.
— А что ей нужно? — спросила миссис Эштон.
— Она хочет погадать господам, сударыня. И клянется, что без этого не уйдет.
— А какова она собой? — заинтересовались обе мисс Эштон.
— Отвратительная старая ведьма, мисс, черная, как сажа!
— Настоящая ворожея! — воскликнул Фредерик Лин. — Конечно, нужно привести ее сюда.
— Разумеется! — подхватил его брат. — Как можно упустить такое развлечение!
— Мальчики, вы с ума сошли! — воскликнула миссис Лин.
— Я не могу допустить в своем присутствии столь неприличное развлечение, — прошипела вдовствующая леди Ингрэм.
— Ну, мама, что за глупости! — раздался насмешливый голос Бланш. И она повернулась на табуретке перед роялем. До сих пор она сидела, молча, рассматривая какие-то ноты. — Я хочу, чтобы мне предсказали мою судьбу. Сэм, впустите эту красотку.
— Но, сокровище мое, пойми сама…
— Понимаю и знаю заранее все, что ты скажешь. Но будет так, как я хочу. Скорей, Сэм!
— Да, да, да! — закричала молодежь, и дамы, и джентльмены. — Пусть войдет, очень интересно!
Слуга все еще медлил.
— Да это такая скандалистка, — сказал он.
— Ступайте! — изрекла мисс Ингрэм; и он вышел.
Гостями овладело волнение. Когда Сэм вернулся, все еще продолжался перекрестный огонь насмешек и шуток.
— Она не хочет войти, — сказал Сэм. — Она говорит, что ей не пристало показываться перед всей честной компанией (она так выразилась), и требует, чтобы ее отвели в отдельную комнату; если господа хотят погадать, пусть заходят к ней поодиночке.
— Вот видишь, моя прелесть! — начала леди Ингрэм. — Старуха фокусничает. Послушайся меня, мой ангел…
— Проводите ее в библиотеку, — отрезал ангел. — Я тоже не собираюсь слушать ее перед всей компанией и предпочитаю остаться с ней вдвоем. В библиотеке топится камин?
— Да, сударыня, но только это такая продувная бестия…
— Ну, довольно разговоров, болван! Делайте, как я приказываю.
Сэм снова исчез. Гостями овладело еще большее оживление.
— Она приготовилась, — сказал лакей, появившись вновь. — Спрашивает, кто будет первым.
— Мне кажется, не мешает сначала взглянуть на нее, прежде чем пойдет кто-нибудь из дам, — заметил полковник Дэнт. — Скажите ей, Сэм, что придет джентльмен.
Сэм вышел и вернулся.
— Она говорит, сэр, что не желает гадать джентльменам, так что пусть не беспокоятся и приходить к ней. И насчет дам тоже, — едва сдерживая усмешку, продолжал он. — Она просит к себе только молодых и незамужних.
— Честное слово, она не глупа! — воскликнул Генри Лин.
Мисс Ингрэм торжественно поднялась.
— Я иду первая, — заявила она таким тоном, каким бы мог сказать предводитель героического отряда, идущего на верную гибель.
— О моя дорогая, о мое сокровище! Остановись, подумай! — взмолилась ее мать. Но мисс Ингрэм величественно проплыла мимо нее и скрылась за дверью, которую распахнул перед ней полковник Дэнт. Мы услышали, как она вошла в библиотеку.
На минуту воцарилось молчание. Леди Ингрэм, решив предаться отчаянию, картинно ломала руки. Мисс Мери уверяла всех, что у нее ни за что не хватило бы храбрости пойти в библиотеку. Эми и Луиза Эштон возбужденно хихикали и явно робели.
Минуты текли очень медленно. Их прошло не меньше пятнадцати, когда дверь из библиотеки, наконец, снова открылась, и под аркой показалась мисс Ингрэм.
Будет ли она смеяться? Отнесется ли к этому как к шутке? Все взгляды обратились на нее с жадным любопытством, но она встретила их холодно, с непроницаемым видом. Она не казалась ни веселой, ни взволнованной; держась чрезвычайно прямо, она проследовала через комнату и непринужденно уселась на свое прежнее место.
— Ну, Бланш? — обратился к ней лорд Ингрэм.
— Что она сказала тебе, сестра? — спросила Мери.
— Как, какое у вас впечатление? Она настоящая гадалка? — засыпала ее вопросами миссис Эштон.
— Не спешите, не горячитесь, господа, — отозвалась мисс Ингрэм, — что означают все эти расспросы? Поистине, вы готовы всему верить и изумляться, судя по тому, какой шум все подняли вокруг этой цыганки, а особенно ты, мама! Вы, должно быть, уверены, что в доме находится настоящая колдунья, которая связана с самим чертом. Я же увидела просто нищенку цыганку; она гадала мне по руке, как доморощенная хиромантка, и сказала то, что обычно говорится в таких случаях. Мое любопытство удовлетворено, и, я думаю, мистер Эштон хорошо сделает, если посадит ее завтра в тюрьму, как и грозился.
Мисс Ингрэм взяла книгу и поглубже уселась в кресло, явно отклоняя дальнейшие разговоры. Я наблюдала за ней с полчаса. Она ни разу не перевернула страницы, и на ее помрачневшем лице все явственнее проступало раздражение и разочарование. Она, видимо, не услышала ничего для себя приятного и, судя по ее угрюмой молчаливости, находилась под сильным впечатлением от разговора с цыганкой, хотя не считала нужным в этом признаться.
Мери Ингрэм, Эми и Луиза Эштон уверяли, что боятся идти одни, и вместе с тем всем им хотелось пойти. Начались переговоры, причем посредником был Сэм. После бесконечных хождений туда и сюда Сэм, которому все это уже, вероятно, порядком надоело, сообщил, что. капризная сивилла, наконец, позволила барышням явиться втроем.
Их беседа с цыганкой оказалась более шумной, чем беседа мисс Ингрэм. Из библиотеки то и дело доносились нервные смешки и легкие вскрики. Минут через двадцать барышни, наконец, ворвались в комнату бегом, вне себя от волнения.
— Она сумасшедшая! — кричали они наперебой. — Она нам сказала такие вещи! Она все знает про нас! — и, задыхаясь, упали в кресла, подставленные им мужчинами.
Когда их начали осаждать вопросами, они рассказали, что цыганка знает, что каждая из них говорила и делала, когда была еще ребенком; она описала книги и украшения, находящиеся у них дома, — например, альбомы, подаренные им родственниками. Барышни уверяли, что она даже угадывала их мысли и шепнула каждой на ухо имя того, кто ей всех милей, а также назвала каждой ее заветное желание.
Мужчины потребовали разъяснения относительно последних двух пунктов. Но, возмущенные такой дерзостью, барышни только краснели в ответ. Мамаши тем временем предлагали им нюхательные соли и обмахивали их веерами, все вновь и вновь напоминая о том, что недаром же их предостерегали от этого необдуманного поступка; более пожилые джентльмены посмеивались, а молодежь усиленно навязывала взволнованным барышням свои услуги.
Среди всего этого смятения я почувствовала, что кто-то коснулся моего локтя, обернулась и увидела Сэма.
— Прошу вас, мисс, цыганка заявила, что в комнате есть еще одна незамужняя барышня, которая у нее не побывала. Она клянется, что не уйдет отсюда, пока не поговорит со всеми. Я думаю, она вас имела в виду, больше ведь никого нет. Что мне сказать ей?
— О, я, конечно, пойду, — отвечала я, так как мое любопытство было задето, выскользнула из комнаты, никем не замеченная, ибо все гости столпились вокруг испуганного трио, и быстро притворила за собою дверь.
— Хотите, мисс, — предложил Сэм, — я подожду вас в холле? Если вы испугаетесь, позовите меня, и я войду.
— Нет, Сэм, возвращайтесь на кухню. Я не боюсь.
Я и не боялась, но была очень заинтригована.
Глава ХIX
Когда я вошла в библиотеку, там царила обычная тишина, а сивилла — если она была сивиллой — сидела в кресле в уютном уголке у камина. На ней был красный плащ и черный чепец, вернее — широкополая цыганская шляпа, подвязанная под подбородком полосатым платком. На столе стояла погасшая свеча. Цыганка сидела, склонившись к огню, и, видимо, читала маленькую черную книжечку, напоминавшую молитвенник; она бормотала себе что-то под нос, как обычно при чтении бормочут старухи, и не сразу прекратила свое занятие при моем появлении. Казалось, она намеревалась сначала дочитать до точки.
Я подошла к камину, чтобы согреть руки, которые у меня несколько озябли в гостиной, так как я сидела там далеко от огня. Теперь я вполне овладела собой; да в облике цыганки и не было ничего, что могло бы смутить меня. Наконец она закрыла книжечку и взглянула на меня. Широкие поля ее шляпы затеняли часть лица, однако я увидела, когда она подняла голову, что лицо у нее очень странное: оно было какое-то и коричневое и черное. Растрепанные космы волос торчали из-под белой повязки, завязанной под подбородком и закрывавшей массивную нижнюю челюсть. Ее глаза сразу встретились с моими; они смотрели смело и в упор.
— Что ж, вы хотите, чтобы я и вам погадала? — сказала она голосом столь же решительным, как и ее взгляд, и столь же резким, как ее черты.
— А это уж ваше дело, матушка: хотите — гадайте хотите — нет. Но только предупреждаю вас, что я в гадание не верю.
— Вот дерзкая барышня! Впрочем, так я и ожидала! Я знала это уже по вашим шагам, только вы порог переступили.
— Разве? У вас тонкий слух.
— Да. И тонкое зрение, и ум.
— Все это вам нужно при вашем ремесле.
— Нужно, особенно когда попадется такая особа. Отчего вы не дрожите?
— Мне не холодно.
— Отчего вы не побледнели?
— Я не больна.
— Почему вы не хотите, чтобы я вам погадала?
— Потому что я не настолько глупа.
Старая ведьма захихикала под своей шляпой, затем извлекла коротенькую черную трубку, и закурила ее. Покурив некоторое время, она распрямила согнутую спину, вынула трубку изо рта и, пристально глядя на пламя, сказала очень веско:
— А все-таки вам холодно. И вы больны и недогадливы.
— Докажите, — отозвалась я.
— И докажу, несколькими словами! Вам холодно оттого, что вы одиноки, — ваш огонь не соприкасается с другим огнем. Вы больны оттого, что самые высокие и сладостные чувства, дарованные человеку, не знакомы вам. И вы недогадливы оттого, что предпочитаете страдать, но не хотите поманить счастье к себе, да и сами шагу не сделаете ему навстречу.
Она снова сунула в рот коротенькую черную трубку и энергично затянулась.
— Вы можете это сказать каждой девушке, которая живет одна в богатом доме и зависима.
— Сказать-то я могу каждой, но будет ли это верно для каждой?
— Если ее судьба сложилась так же, как моя, — да.
— Если она сложилась так же… но найдите мне еще кого-нибудь, кто очутился бы в вашем положении.
— Нетрудно найти тысячи.
— Ни одной. Ваше положение особое, вы близки к счастью, вам стоит только протянуть руку. Все условия в отдельности налицо, достаточно одного движения, и они соединятся. Судьба разъединила их, но дайте только им сблизиться, и вы узнаете блаженство.
— Я не понимаю ребусов, я в жизни не отгадала ни одной загадки.
— Если вы хотите, чтобы я высказалась яснее, покажите мне вашу ладонь.
— И положить на нее серебро, вероятно?
— Без сомнения.
Я дала старухе шиллинг. Она сунула его в старый носок, который вытащила из кармана, и, завязав его узлом, приказала мне протянуть руку. Я сделала это. Она наклонилась к моей ладони и принялась рассматривать, не касаясь ее.
— Все здесь слишком тонко, — сказала она. — Я не могу гадать по такой руке, на ней почти нет линий. Да и потом — что такое ладонь? Не на ней написана судьба.
— Я согласна с вами, — сказала я.
— Нет, — продолжала она. — Она написана в чертах лица: на лбу, вокруг глаз, в самих глазах, в линиях рта. Станьте на колени, поднимите голову.
— Ага, это уже ближе к делу, — сказала я, исполняя ее приказ. — Скоро я начну вам верить.
Я опустилась на колени в двух шагах от нее. Она помешала угли в камине, вспыхнула багряная струйка огня, но ее лицо оказалось еще в большей тени, мое же было ярко освещено.
— Хотела бы я знать, с какими чувствами вы пришли ко мне сегодня? — сказала она, поглядев на меня некоторое время. — Хотела бы я знать, какие мысли бродят у вас в голове в те часы, когда вы сидите в гостиной, а все эти знатные господа мелькают мимо вас, как тени в волшебном фонаре? Между вами и ими так же мало сочувствия и понимания, как если бы они действительно были бесплотными тенями человеческих существ.
— Я часто чувствую усталость, иногда мне хочется спать, но редко бывает грустно.
— Значит, у вас есть какая-то тайная надежда, которая поддерживает вас и утешает, нашептывая о будущем?
— Нет! Самое большее, о чем я мечтаю, — это скопить денег и со временем открыть школу в маленьком домике, где я буду полноправной хозяйкой.
— Этого слишком мало, чтобы поддерживать бодрость духа. Вы любите сидеть на подоконнике… видите, я знаю ваши привычки.
— Вы узнали их от слуг.
— Ах, как вы проницательны! Что ж, может быть и от них. Говоря по правде, у меня здесь есть знакомая, миссис Пул.
Услышав это имя, я вскочила.
«Вот как, вы с ней знакомы! — пронеслось у меня в голове. — Ну, тогда тут все-таки не без черта!»
— Не пугайтесь, — продолжало странное создание. — Миссис Пул — надежная женщина, молчаливая и спокойная. На нее вполне можно положиться. Но я спросила вас о другом: когда вы сидите на подоконнике, неужели вы только и думаете, что об этой вашей будущей школе? Не испытываете ли вы интереса к кому-нибудь из гостей, сидящих на диванах и креслах перед вами? Нет ли среди них одного лица, за выражением которого вы наблюдаете? Одной фигуры, за движениями которой вы следите хотя бы из любопытства?
— Мне нравится наблюдать за всеми без различия.
— Но не выделяете ли вы кого-нибудь среди всех остальных — одного или, может быть, двух?
— Очень часто, когда жесты или взгляды какой-нибудь пары раскрывают мне целую повесть, мне интересно наблюдать за ними.
— А какую повесть вы слушаете охотнее всего?
— О, выбор у меня небогатый! Тема всегда одна и та же — ухаживанье, а в перспективе обычная катастрофа — то есть брак.
— А вам нравится эта неизменная тема?
— Нет. Я не интересуюсь ею. Она меня не касается.
— Не касается? Если молодая дама, пышущая здоровьем, блещущая красотой и наделенная всеми благами происхождения и богатства, сидит и улыбается, глядя в глаза джентльмену, которого вы…
— Я… что?
— Которого вы знаете и которого, быть может, выделяете среди других…
— Я не знаю здешних джентльменов. Я и двух слов ни с кем из них не сказала; что же касается моего мнения о них, то одни — не столь молоды, но зато почтенны и достойны уважения, другие — молоды, элегантны, красивы и жизнерадостны. Но, разумеется, каждый из них вправе получать улыбки от той, от кого ему хочется, — мне и в голову не приходит, что это может иметь какое-то отношение ко мне.
— Вы не знаете этих джентльменов? Вы ни с одним из них не сказали двух слов? Неужели и с хозяином дома тоже?
— Он уехал.
— Глубокомысленное замечание! Ловкая увертка! Он уехал в Милкот сегодня утром и вернется вечером или завтра утром. Неужели это обстоятельство заставляет вас исключить его из списка ваших знакомых? Зачеркнуть, как будто он не существует?
— Нет. Но я не могу себе представить, какое отношение мистер Рочестер имеет к этому разговору.
— Я говорила о дамах, которые улыбаются, глядя в глаза джентльменам. А за последнее время столько улыбок было послано мистеру Рочестеру, что его взоры наполнились ими, как два блюдечка. Разве вы не замечали этого?
— Мистер Рочестер вправе пользоваться вниманием своих гостей.
— Никто не говорит о правах, но разве вы не замечали, что из всех здешних разговоров о браках наиболее оживленные и упорные толки касаются мистера Рочестера?
— Жадность слушателя опережает речь рассказчика, — я сказала это скорей самой себе, чем цыганке; ее странные вопросы, голос, манеры словно окутывали меня каким-то сном. Одно за другим срывались с ее губ совершенно неожиданные заявления, и в конце концов мне показалось, что я опутана целой сетью мистификаций. Я только дивилась: что это за незримый дух в течение стольких дней наблюдал за работой моего сердца и знал каждое его биение?
— Жадность слушателя! — повторила цыганка. — Да, мистер Рочестер много раз сидел и слушал то, что пленительные уста с таким удовольствием сообщали ему. Мистер Рочестер так охотно внимал им и, казалось, был так благодарен за это развлечение. Вы не обратили внимания?
— Благодарен! Я что-то не замечала на его лице особой благодарности.
— Не замечали? Значит, вы следили за ним! А что же вы заметили, если не благодарность?
Я промолчала.
— Любовь, — верно? И, заглядывая в будущее, вы видели его женатым, а его жену счастливой?
— Гм, не совсем так. Хоть вы и колдунья, но иногда плохая отгадчица.
— А какого же дьявола вы тогда видели?
— Ну, это не важно. Я пришла сюда, чтобы спрашивать, а не исповедоваться. А это уже известно, что мистер Рочестер намерен жениться?
— Да. На прекрасной Мисс Ингрэм.
— И скоро?
— По всей видимости — да. И, без сомнения (хотя вы с вашей дерзостью, за которую вас следовало бы наказать, кажется, не верите в это), они будут исключительно удачной парой. Как может он не любить такую прекрасную, знатную, остроумную и образованную барышню? И она, вероятно, любит его; а если и не его особу, то по крайней мере — его кошелек. Она считает поместье Рочестеров завидным приобретением; хотя (да простит меня бог!) час назад я сказала ей на этот счет нечто такое, отчего настроение у нее резко понизилось. Она сразу повесила нос. Я бы посоветовала ее черномазому красавчику быть настороже: если появится другой, с большими доходами и землями, она, пожалуй, натянет женишку нос.
— Послушайте, матушка, я пришла сюда не для того, чтобы заглянуть в будущее мистера Рочестера. Я хочу заглянуть в свое будущее. А вы до сих пор ничего не сказали обо мне.
— Ваше будущее еще не определилось; в вашем лице одна черта противоречит другой. Судьба предназначила вам счастье: я знала это и до того, как пришла сюда сегодня вечером. Я сама видела, как она положила его чуть ли не под самым вашим носом. От вас зависит протянуть руку и взять его; но возьмете ли вы — вот вопрос, который я стараюсь разрешить. Опуститесь опять на ковер.
— Не задерживайте меня, от камина ужасно жарко.
Я опустилась на колени. Цыганка не наклонилась ко мне, но только пристально уставилась мне в глаза, откинувшись на спинку кресла; затем начала бормотать:
— В ее глазах вспыхивает пламя; их взор прозрачен, как роса, он мягок и полон чувства, эти глаза улыбаются моей болтовне; они выразительны; впечатление за впечатлением отражается в их чистой глубине; когда они перестают улыбаться — они печальны; бессознательная усталость отягощает веки — это признак меланхолии, проистекающей от одиночества. Теперь она отводит глаза; они уклоняются от моего проницательного взгляда; они насмешливо вспыхивают, словно отрицая ту правду, которую я только что открыла, — они не хотят признать моего обвинения в чувствительности и печали; но их гордость и замкнутость лишь подтверждают мое мнение. Итак, глаза благоприятствуют счастью.
Что касается рта, то он любит смеяться; он готов высказывать все, что постигает ум, но, мне кажется, он будет молчать о том, что испытывает сердце. Подвижный и выразительный, он не предназначен к тому, чтобы ревниво оберегать тайны молчаливого одиночества; это рот, который готов много говорить и часто улыбаться, выражать человеческие теплые чувства к собеседнику. Его форма тоже благоприятствует счастливой судьбе.
Я вижу только одного врага этого счастья — лоб; лоб как будто говорит: «Я могу жить и одна, если уважение к себе и обстоятельства этого потребуют. Мне незачем ради блаженства продавать свою душу. У меня в груди есть тайное сокровище, дарованное мне с самого рождения; оно поддержит мою жизнь, даже если мне будет отказано во всех внешних радостях или если за них придется заплатить тем, что для меня всего дороже». Этот лоб заявляет: «Здесь разум крепко сидит в седле и держит в руках поводья, он не позволит чувствам вырваться вперед и увлечь его на какое-нибудь безрассудство. Пусть страсти беснуются в душе, как истые язычники, во всей своей первобытной силе, пусть желания рисуют тысячу суетных картин, но в каждом случае последнее слово будет принадлежать трезвому суждению, и только разум будет решать. Пусть мне угрожают бури, землетрясения и пожары, я всегда буду следовать этому тихому тайному голосу, послушная велениям совести».
Хорошо сказано, лоб, с твоим заявлением будут считаться. Твои планы — честные планы, они в согласии с голосом совести и советами разума. Я знаю, как скоро молодость увянет и цвет ее поблекнет, если в поднесенной ей чаше счастья будет хотя бы одна капля стыда, хотя бы привкус угрызения. А я не желаю ни жертв, ни горя, ни уныния, — это меня не привлекает. Я хочу исцелять, а не разрушать, заслужить благодарность, а не вызывать горькие слезы, — нет, ни одной! Пусть я пожну улыбки, радость, нежность, — вот чего я хочу. Но довольно! Мне кажется, я в каком-то сладостном бреду. О, если бы продлить эту минуту навеки, но я не дерзаю. Я еще крепко держу себя в руках. Я не преступлю данной мною клятвы, но это может превзойти мои силы. Встаньте, мисс Эйр, оставьте меня. Представление окончено.
Где я? Не сон ли это? Или я спала? Или я до сих пор грежу? Голос старухи внезапно изменился. Ее интонация, ее жесты — все в ней вдруг показалось мне знакомым, как мое собственное лицо в зеркале, как слова, произносимые моими собственными устами. Я встала, но не ушла. Я посмотрела на цыганку, помешала угли в камине и опять посмотрела; но она ниже надвинула шляпу на лицо и снова жестом предложила мне уйти. Пламя озаряло ее протянутую руку. Настороженная, взволнованная всем происшедшим, я сразу обратила внимание на эту руку. Рука была так же молода, как и моя: нежная и сильная, гибкие, стройные пальцы; на мизинце блеснуло широкое кольцо, наклонившись вперед, я взглянула на него и тут же узнала перстень, который видела перед тем тысячу раз. Я снова посмотрела ей в лицо; теперь оно уже не было отвращено от меня, цыганка сбросила чепец и повязку. Голова ее склонилась.
— Ну что, Джен, узнаете меня? — спросил знакомый голос.
— Вам остается только снять красный плащ, сэр, и тогда…
— Но завязки затянулись, помогите мне.
— Разорвите их, сэр.
— Ну вот. Итак, прочь личину! — И, сбросив с себя свой наряд, мистер Рочестер предстал передо мной.
— Послушайте, сэр, что за странная идея?
— А ведь ловко сыграно, правда?
— С дамами у вас, наверно, вышло удачнее.
— А с вами нет?
— Со мной вы вели себя не как цыганка.
— А как кто? Как я сам?
— Нет, как легкомысленный комедиант. Словом, вы хотели что-то выведать у меня или во что-то вовлечь меня. Вы болтали глупости, чтобы заставить меня болтать глупости. Это едва ли хорошо, сэр.
— Вы простите меня, Джен?
— Не могу сказать, пока всего не обдумаю. Если я во зрелом размышлении найду, что не наговорила слишком много вздора, то постараюсь простить вас; но вам не следовало этого делать.
— О, вы вели себя очень корректно, очень осторожно, очень благоразумно.
Я обдумала все происшедшее и пришла к выводу, что мистер Рочестер прав. Это меня успокоило. Ведь я действительно была настороже с самого начала этого свидания. Я чувствовала, что за всем этим кроется какая-то мистификация, но мне и в голову не приходило, что цыганка — мистер Рочестер.
— Ну, — сказал он, — над чем вы задумались? Что означает эта торжествующая улыбка?
— Я удивлена и поздравляю себя, сэр. Надеюсь, вы разрешите мне теперь удалиться?
— Нет, подождите еще минутку и расскажите мне, что делают эти люди там, в гостиной.
— Вероятно, говорят о цыганке.
— Сядьте, расскажите, что они говорят обо мне?
— Я бы не хотела, сэр, оставаться дольше; вероятно, уже около одиннадцати часов. Ах да, знаете ли вы, мистер Рочестер, что, после того как вы утром уехали, сюда прибыл еще один гость?
— Гость? Нет. Кто же это? Я никого не ждал. Он уехал?
— Нет. Он сказал, что знает вас давным-давно и что берет на себя смелость расположиться здесь до вашего возвращения.
— Ах, дьявол! Он назвал себя?
— Его фамилия Мэзон, сэр. Он приехал из Вест-Индии, из Спаништауна на Ямайке.
Мистер Рочестер держал меня за руку, словно собираясь подвести к креслу. Когда я произнесла имя гостя, он судорожно стиснул мою кисть. Улыбка на его губах застыла, дыхание как будто остановилось.
— Мэзон! Из Вест-Индии! — сказал он, и эти слова прозвучали так, словно их произнес автомат: — Мэзон! Из Вест-Индии! — И он трижды повторил эти слова, все с большими промежутками, видимо, не отдавая себе в этом отчета.
— Вам нехорошо, сэр? — спросила я.
— Джен, вы нанесли мне удар. Вы нанесли мне удар, Джен! — Он покачнулся.
— О сэр, облокотитесь на меня!
— Джен, вы когда-то предложили мне ваше плечо, — дайте мне опереться на него еще раз.
— Конечно, сэр, конечно! И вот моя рука.
Он сел и заставил меня сесть рядом. Он держал мою руку обеими руками и пожимал ее. Вместе с тем он глядел на меня каким-то тревожным и горестным взглядом.
— Мой маленький друг, — сказал он, — как хотел бы я быть сейчас на уединенном острове, только с вами, и чтобы всякие волнения, опасности и отвратительные воспоминания сгинули бесследно.
— Не могу ли я помочь вам, сэр? Я готова жизнь отдать, если она вам понадобится.
— Джен, если помощь мне будет нужна, я обращусь за ней только к вам. Это я обещаю.
— Благодарю вас, сэр. Скажите мне, что надо сделать, я по крайней мере попытаюсь.
— Принесите мне, Джен, стакан вина из столовой. Они, наверно, сейчас ужинают; и скажите мне, там ли Мэзон и что он делает.
Я вышла. Все действительно были в столовой и ужинали, как предполагал мистер Рочестер; они не сидели за столом, ибо ужин был приготовлен на серванте, и гости брали, что каждому хотелось, стоя маленькими группами, держа в руках тарелки и стаканы. Все были чрезвычайно веселы. Всюду раздавались смех и болтовня. Мистер Мэзон, стоя у камина, беседовал с полковником и миссис Дэнт и казался таким же веселым, как и остальные. Я налила в стакан вина (увидев это, мисс Ингрэм нахмурилась. «Какая дерзость!» — вероятно, подумала она про меня) и возвратилась в библиотеку.
Ужасная бледность уже исчезла с лица мистера Рочестера, и вид у него был опять решительный и угрюмый. Он взял у меня стакан из рук.
— Пью за ваше здоровье, светлый дух, — сказал он и, проглотив вино, вернул мне стакан. — Что они делают, Джен?
— Смеются и болтают, сэр.
— А вам не показалось, что у них важный и загадочный вид, словно они узнали что-то необыкновенное?
— Ничуть! Они шутят и веселятся.
— А Мэзон?
— Он тоже смеется.
— Если бы все эти люди пришли сюда и оплевали меня, что бы вы сделали, Джен?
— Выгнала бы их из комнаты, сэр, если бы могла.
Он слегка улыбнулся.
— А если бы я вошел к ним и они только посмотрели бы на меня ледяным взглядом и, насмешливо перешептываясь, один за другим покинули меня? Тогда что? Вы бы ушли с ними?
— Думаю, что нет, сэр. Мне было бы приятнее остаться с вами.
— Чтобы утешать меня?
— Да, сэр, чтобы утешать вас по мере моих сил.
— А если бы они предали вас анафеме за то, что вы остались со мной?
— Я, вероятно, даже не узнала бы об этом, а если бы и узнала, какое мне до них дело?
— Значит, вы рискнули бы общественным мнением ради меня?
— Я сделала бы это ради любого друга, который заслуживал бы моей поддержки. А вы, я уверена, заслуживаете.
— Вернитесь теперь в столовую, подойдите тихонько к Мэзону и шепните ему на ухо, что мистер Рочестер вернулся и хочет видеть его. Проводите его сюда и затем оставьте нас.
— Хорошо, сэр.
Я исполнила его просьбу. Гости с удивлением уставились на меня, когда я решительно прошла среди них. Я отыскала мистера Мэзона, передала ему поручение и проводила его в библиотеку, а затем поднялась наверх.
Поздно ночью, когда я уже давно лежала в постели, я услышала, что гости расходятся по своим комнатам. До меня донесся голос мистера Рочестера: «Сюда, Мэзон. Вот твоя комната».
Этот голос звучал весело; я успокоилась и скоро заснула.
Глава XX
Я забыла задернуть занавеску, как делала обычно, и спустить жалюзи. Поэтому, когда луна, яркая и полная (стояла ясная ночь), оказалась против моего окна и заглянула в него, ее светлый взор пробудил меня. Была глубокая ночь, и, открыв глаза, я сразу увидела серебристо-белый и кристально-ясный диск. Луна была великолепна, но как-то слишком торжественна. Я приподнялась и протянула руку, чтобы задернуть занавеску.
Боже, какой вопль!
Ночь, ее тишина, ее покой словно были разорваны неистовым, пронзительным, диким криком, пронесшимся из одного конца дома в другой.
Сердце у меня замерло, пульс, казалось, перестал биться; моя вытянутая рука оцепенела, словно парализованная. Вопль замер и больше не повторялся. Какое бы существо ни издало этот чудовищный крик, повторить его было невозможно; самый огромный кондор в Андах не мог дважды издать такой крик в своем заоблачном гнезде. Существо, испустившее такой вопль, непременно должно было передохнуть, чтобы повторить его.
Этот вопль раздался на третьем этаже, у меня над головой. В комнате над моею я услышала шум борьбы, и, судя по этому шуму, то была борьба не на жизнь, а на смерть. Кто-то полупридушенным голосом крикнул:
— Помогите! помогите! помогите! — три раза, с судорожной торопливостью.
— Неужели никто не слышит? — снова раздался голос и затем, среди яростного топота и возни, которые продолжались наверху, до меня сквозь доски и штукатурку донеслось:
— Рочестер! Рочестер! Ради бога! Сюда!
Где-то распахнулась дверь. Кто-то пробежал, вернее — пронесся по коридору. Над моей головой послышались еще чьи-то шаги, что-то упало — и наступила тишина.
Я набросила на себя одежду и, дрожа от ужаса, выбежала из комнаты. Гости уже все проснулись. Из каждой комнаты доносились восклицания, испуганный шепот; дверь за дверью открывалась, выглядывал один, выглядывал другой; постепенно коридор наполнился людьми. Мужчины и женщины повскакивали с постелей. «Что же это?», «Кто убит? Что случилось?», «Принесите свечу!», «Где пожар?», «Где разбойники?», «Куда бежать?» — доносилось отовсюду. Если бы не лунный свет, гости оказались бы в непроглядной тьме. Все бегали взад и вперед, собирались кучками, некоторые рыдали, другие едва держались на ногах. Смятение было неописуемое.
— Куда к черту провалился Рочестер? — кричал полковник Дэнт. — Его нигде нет.
— Здесь! Здесь я! — отвечал ему из темноты знакомый голос. — Успокойтесь, пожалуйста, все. Я иду.
Дверь в конце коридора открылась, и появился мистер Рочестер со свечой в руке. Он только что спустился с верхнего этажа. Одна из дам торопливо подбежала к нему и схватила его за руку. Это была мисс Ингрэм.
— Произошло ужасное событие? — спросила она. — Говорите скорее, лучше узнать сразу!
— Да не тормошите вы меня, еще задушите, — отвечал он, так как барышни Эштон от страха прижимались к нему, а обе вдовствующие леди в необъятных белых капотах неслись на него, как два корабля под всеми парусами.
— Все в порядке, все в порядке! — закричал он. — Это просто репетиция пьесы «Много шуму из ничего». Дамы, не теснитесь вокруг меня, а то я могу рассвирепеть.
И действительно, вид у него был свирепый. Его черные глаза метали молнии. Сделав над собой усилие, он добавил спокойно:
— Просто одной из служанок приснился страшный сон — вот и все. Эта особа нервная и неуравновешенная. Она приняла свой сон за привидение или что-то в этом роде и до смерти перепугалась. А теперь я должен проводить вас в ваши комнаты: пока в доме не воцарится покой, ее не удастся привести в себя. Джентльмены, будьте добры, покажите дамам пример. Мисс Ингрэм, я уверен, что вы не поддадитесь вздорному страху. Эми и Луиза, возвращайтесь в ваши гнездышки, как пара голубок. А вы, сударыни, — обратился он к вдовам, — наверняка смертельно простудитесь, если задержитесь в этом холодном коридоре.
И так, то шуткой, то твердостью, он заставил их всех разойтись по спальням. Я не стала ждать его приказания и вернулась к себе так же незаметно, как поднялась.
Однако я не легла. Наоборот, я поспешила одеться. Шум борьбы после вопля и сказанные затем слова слышала, вероятно, только я одна, ибо все это происходило как раз в комнате надо мной, а следовательно, я была уверена, что вовсе не сон, приснившийся одной из служанок, поверг весь дом в ужас и что объяснение, данное мистером Рочестером, просто выдумано им для успокоения гостей. Поэтому я решила одеться и быть готовой ко всему. Я села у окна и долго просидела так, глядя на безмолвный парк и посеребренные луной поля и ожидая неведомо чего. Но мне казалось, что за этим странным воплем, борьбой и зовом о помощи должно последовать еще какое-то событие.
Однако все успокоилось. В доме воцарилась полная тишина. Постепенно смолкли все шорохи и шепоты, и примерно через час в Торнфильдхолле было безмолвно, как в пустыне. Казалось, сон и ночь снова вступили в свои права. Луна уже заходила. Мне стало неприятно в холоде и темноте, и я решила лечь, как была, одетой. Я отошла от окна и едва слышно прошла по ковру. Когда я наклонилась, чтобы снять башмаки, кто-то осторожно постучал ко мне в дверь.
— Меня зовут? — спросила я.
— Вы не спите? — откликнулся голос, которого я ждала, то есть голос моего хозяина.
— Не сплю, сэр.
— Одеты?
— Да.
— Тогда выходите, только тихонько.
Я вышла. В коридоре стоял мистер Рочестер, держа свечу.
— Вы мне нужны, — сказал он, — идите за мной. Не спешите и не шумите.
На мне были легкие туфли, я ступала по ковру бесшумно, как кошка. Мистер Рочестер поднялся по лестнице и остановился в темном и низком коридоре все того же рокового третьего этажа; я остановилась рядом с ним.
— У вас есть губка в вашей комнате? — спросил он шепотом.
— Да, сэр.
— А есть у вас соли, нюхательные соли?
— Да.
— Пойдите и принесите.
Я вернулась, нашла на умывальнике губку и в комоде соли и опять поднялась наверх. Он ждал меня, в руке у него был ключ. Подойдя к одной из низеньких черных дверей, он вложил ключ в замок, помедлил и снова обратился ко мне:
— Вы не упадете в обморок при виде крови?
— Думаю, что нет, хотя мне трудно за себя поручиться.
Я почувствовала тайный трепет, отвечая ему. Но ни страха, ни слабости.
— Дайте мне вашу руку, — сказал он. — Не стоит рисковать обмороком.
Я вложила свои пальцы в его руку.
— Она теплая и крепкая и ничуть не дрожит, — заметил он и, повернув ключ в замке, открыл дверь.
Я вошла в комнату, которую мне уже однажды показывала миссис Фэйрфакс, — в тот первый день, когда мы осматривали дом. Стены были затянуты гобеленами, но теперь они в одном месте были приподняты, и я увидела потайную дверь. Эта дверь была открыта. В соседней комнате горел свет, и оттуда доносилось странное хриплое рычание, словно там находилась злая собака. Мистер Рочестер поставил свечу на пол и, сказав мне: «Подождите минутку», прошел в смежную комнату. Он был встречен взрывом смеха, сначала оглушительным, затем перешедшим в характерное для смеха Грэйс Пул жуткое и раздельное «ха-ха». Значит, она была там. Видимо, он дал какие-то указания молча, хотя кто-то к нему и обратился вполголоса. Потом вышел и запер за собою дверь.
— Сюда, Джен, — сказал он.
Мы обогнули широкую, с задернутым пологом кровать, которая занимала значительную часть комнаты. Возле изголовья стояло кресло. В нем сидел мужчина, полуодетый; он молчал, голова была откинута назад, глаза закрыты. Мистер Рочестер поднес ближе свечу, и я узнала в этом не подававшем никаких признаков жизни бледном человеке сегодняшнего приезжего, Мэзона. Я заметила также у него под мышкой и на плече пятна крови.
— Держите свечу, — сказал мистер Рочестер; и я взяла у него свечу. Он взял с умывальника таз с водой. — Держите, — сказал он. Я повиновалась. Окунув губку в воду, он провел ею по мертвенно-бледному лицу Мэзона. Спросил мой флакон с солями и поднес его к ноздрям гостя. Мистер Мэзон вскоре приоткрыл глаза. Он застонал. Мистер Рочестер распахнул рубашку раненого, плечо и рука которого были перевязаны, смыл губкой кровь, стекавшую крупными каплями.
— Что со мной? Я тяжело ранен? — пробормотал мистер Мэзон.
— Пустяки! Небольшая царапина! Только не раскисай, будь мужчиной! Я сейчас сам отправлюсь за врачом. К утру мы, надеюсь, увезем тебя отсюда. Джен! — продолжал он, обращаясь ко мне.
— Да, сэр?
— Мне придется оставить вас здесь с этим джентльменом на час или два; вы будете вытирать губкой кровь, как я вытирал сейчас, если она появится. А если ему сделается дурно, вы дадите ему выпить воды из этого вот стакана и понюхать соли из вашего флакона. Вы не должны разговаривать с ним ни под каким предлогом. Помни, Ричард, я запрещаю тебе под страхом смерти разговаривать с ней. Достаточно тебе открыть рот и пошевельнуться, и я не отвечаю за последствия.
Бедный Мэзон снова застонал; он сидел неподвижно — боязнь смерти, а может быть и чего-то другого, точно парализовала его. Мистер Рочестер вложил мне в руку окровавленную губку, и я начала стирать кровь, как делал он. Несколько секунд он наблюдал за мной, затем сказал: «Не забудьте — никаких разговоров», — и вышел из комнаты. Странное я испытала чувство, когда ключ повернулся в замке и звук удаляющихся шагов мистера Рочестера замер вдали.
И вот я сидела на третьем этаже, запертая в одной из его таинственных камер; вокруг меня была ночь. Перед моими глазами — доверенный моим заботам бледный, окровавленный человек; от убийцы меня отделяла тонкая дверь. Да, это было ужасно; я все готова была перенести, но содрогалась при мысли о том, что Грэйс Пул может кинуться на меня.
И все же я должна оставаться на своем посту. Я должна следить за этим мертвенным лицом, смотреть на эти посиневшие, недвижные уста, которым запрещено открываться, на эти глаза, то закрытые, то блуждающие по комнате, а по временам останавливающиеся на мне и словно остекленевшие от ужаса. Я все вновь и вновь должна опускать руку в таз с водой и стирать выступающие капли крови; следить за тем, как постепенно догорает свеча, как тени сгущаются на старинных потертых гобеленах вокруг меня, становятся черными за тяжелым пологом массивной кровати и странно трепещут над старинным шкафом против меня: его створки состоят из двенадцати делений, в каждом из которых — изображение сумрачного лика одного из апостолов, сделанное искусной рукой, причем каждый лик заключен как бы в деревянную раму, а над ними высится распятие из черного дерева.
В зависимости от игры тени и света выступал то бородатый врач Лука со склоненным челом, то голова святого Иоанна с прядями длинных волос, то дьявольское лицо Иуды, — оно словно вдруг оживало, и в нем проступали угрожающие черты архипредателя-сатаны, принявшего образ своего слуги.
И в этой мрачной комнате я вынуждена была бодрствовать и сторожить: прислушиваться к движениям дикого зверя или дьявола по ту сторону двери. Однако мистер Рочестер, уходя, как будто заколдовал страшное создание. В течение всей ночи из-за таинственной двери до меня только трижды, и притом с большими промежутками, донеслись приглушенные звуки: то был скрип половицы под чьими-то осторожными шагами, уже знакомое хриплое рычание и затем тоскливый человеческий стон.
К тому же меня мучили собственные мысли. Что за преступление таилось в этом уединенном доме, владелец которого не мог ни покончить с ним, ни пресечь его? Какая тайна прорывалась здесь то вспышкой пожара, то кровопролитием в самые глухие часы ночи? Что это за существо, которое, приняв облик обыкновеннейшей женщины, так непостижимо меняло голос? То это был насмешливый демон, то дикий коршун, терзающий падаль.
И незнакомец, над которым я склонялась, этот банальный и кроткий человек, — каким образом он угодил в эту паутину ужаса? Отчего фурия накинулась на него? И как он очутился в этой отдаленной части дома в столь неподходящий час, когда ему давно следовало мирно спать в своей постели? Я сама слышала, как мистер Рочестер указал ему комнату внизу, — так что же привело его сюда? И почему он так беззлобно относится к совершенному над ним насилию, а возможно, и предательству? Почему так покорно подчинился этому заточению, на которое его обрек мистер Рочестер? И зачем это понадобилось мистеру Рочестеру? На его гостя было совершено нападение; его собственной жизни еще недавно угрожало какое-то гнусное злодейство; и оба эти покушения он предпочитал держать в тайне и предать забвению? Я только что была свидетельницей полной покорности мистера Мэзона мистеру Рочестеру, я видела, как настойчивая воля последнего безоговорочно подчинила себе инертность его гостя: те несколько слов, которыми они обменялись, подтверждали это. Очевидно, и в их прежних отношениях энергия моего хозяина, как правило, брала верх над пассивностью его приятеля. Чем же тогда объяснить испуг мистера Рочестера, когда он узнал о приезде мистера Мэзона? Отчего одно имя этого незначительного человека, который подчинялся теперь каждому его слову, как ребенок, сразило его несколько часов тому назад, словно удар молнии, обрушившийся на мощный дуб?
О, я не могла забыть ни его взгляда, ни его бледности, когда он прошептал: «Джен, вы нанесли мне удар, вы нанесли мне удар, Джен!» Я не могла забыть, как дрожала рука, опиравшаяся на мое плечо; а ведь нелегко было согнуть этот решительный характер и вызвать трепет в сильном теле Фэйрфакса Рочестера.
— Когда же он придет? Когда же он придет? — восклицала я про себя, так как ночь тянулась бесконечно, а мой пациент стонал, слабел, угасал, и ни утро, ни помощь не приходили. Все вновь и вновь подносила я воду к губам Мэзона, все вновь и вновь предлагала понюхать освежающие соли, — мои усилия казались тщетными. Физические или душевные страдания, потеря крови, а может быть, все вместе взятое вызвало у него внезапный упадок сил. Он так стонал, казался таким слабым, растерянным и несчастным, что я боялась: вот-вот он умрет, а я не могу даже заговорить с ним!
Свеча наконец догорела; когда огонек потух, я заметила вдоль края занавесок бледно-серую кайму света. Значит, утро все-таки близко. Затем я услышала, как на дворе залаял в своей будке Пилот. Моя надежда воскресла. И не напрасно: через пять минут скрип ключа в замке известил меня о том, что мое дежурство кончено. Оно продолжалось не больше двух часов, но мне казалось, что протекла неделя.
Вошел мистер Рочестер в сопровождении врача, за которым он ездил.
— Ну, а теперь, Картер, поторопитесь, — обратился он к врачу. — Даю вам полчаса на то, чтобы промыть рану, наложить повязку, свести больного вниз и так далее.
— А можно ли ему двигаться, сэр?
— Безусловно, можно. Ничего серьезного нет; просто он разнервничался, и надо поднять у него настроение. Пойдемте, принимайтесь за дело.
Мистер Рочестер отдернул плотные занавеси на окнах, поднял полотняную штору и впустил в комнату как можно больше дневного света. И я с радостью отметила, как светло уже было на дворе! Какие яркие розовые полосы озаряли восток! Затем он подошел к Мэзону, которого осматривал врач.
— Ну, приятель, как дела? — спросил он.
— Боюсь, что она меня прикончила, — последовал едва слышный ответ.
— Глупости, мужайся. Через две недели ты будешь здоров, как прежде. Просто немного крови потерял — вот и все. Картер, скажите ему, что никакой опасности нет.
— Могу, и с полной уверенностью, — отозвался Картер, который уже снял со своего пациента повязку. — Жалею, что не оказался здесь раньше, тогда он не потерял бы столько крови. Но что это? Плечо не только порезано, оно изорвано. Эта рана не от ножа, тут поработали чьи-то зубы.
— Она кусала меня, — прошептал больной. — Она накинулась на меня, как тигрица, когда Рочестер отнял у нее нож.
— А зачем ты ей поддался? Надо было сопротивляться, — заметил мистер Рочестер.
— Но что можно было сделать при таких обстоятельствах? — возразил Мэзон. — О, это было ужасно, — добавил он содрогнувшись. — Я не ждал этого, она вначале была так спокойна.
— Я предупреждал тебя, — ответил его друг, — я говорил тебе: будь начеку, когда ты с ней. И потом, ты же мог подождать до завтра, и я пошел бы с тобой; это было просто безумием — попытаться устроить свидание сегодня же ночью и с глазу на глаз.
— Мне казалось, что это будет полезно.
— Тебе казалось! Тебе казалось! Я просто из себя выхожу, когда слушаю тебя. Ну, как бы там ни было, ты пострадал, и, кажется, пострадал достаточно за то, что не послушался моего совета; поэтому я умолкаю. Картер, скорей, скорей! Сейчас взойдет солнце, и мы должны его увезти отсюда.
— Сию минуту, сэр. Плечо уже перевязано. Я сейчас осмотрю только еще эту рану на руке. Тут тоже, видимо, побывали зубы.
— Она сосала кровь; она сказала, что высосет всю кровь из моего сердца! — воскликнул Мэзон.
Я видела, как мистер Рочестер содрогнулся: странное выражение отвращения, ужаса и ненависти исказило его лицо до неузнаваемости, но он сказал только:
— Замолчи, Ричард, и не обращай внимания на ее глупую болтовню; не повторяй ее.
— Хотел бы я забыть… — последовал ответ.
— Ничего, и забудешь, как только уедешь из Англии; очутишься опять в Спаништауне и будешь вспоминать о ней так, как будто она давно умерла. Или лучше не вспоминай о ней вовсе.
— Эту ночь забыть невозможно!
— Нет, возможно. Возьми себя в руки! Два часа тому назад ты считал, что погиб, а вот же ты жив и болтаешь как ни в чем не бывало. Ну, Картер кончил или почти кончил свое дело; я живо приведу тебя в порядок. Джен (впервые после своего возвращения обратился он ко мне), возьмите этот ключ, спуститесь в мою спальню и пройдите прямо в гардеробную; откройте верхний ящик гардероба, выньте чистую рубашку и шейный платок и принесите их сюда. И попроворней.
Я пошла, отперла шкаф, достала упомянутые предметы и вернулась с ними.
— А теперь, — сказал он, — зайдите за кровать. Я приведу его в порядок. Но не выходите из комнаты. Вы можете еще понадобиться.
Я последовала его указанию.
— Никто там не просыпался, когда вы ходили вниз, Джен? — спросил меня мистер Рочестер.
— Нет, сэр. Всюду было очень тихо.
— Мы увезем тебя без шума, Дик. Так будет лучше и для тебя, и для этого несчастного создания, там за дверью. Я слишком долго избегал огласки и меньше всего желал бы ее теперь. Помогите ему, Картер, надеть пиджак… А где твой меховой плащ? Тебе ведь без него и мили не проехать в этом проклятом холодном климате. Я знаю. Он в твоей комнате. Джен, бегите вниз в комнату мистера Мэзона — она рядом с моей — и принесите плащ, который вы там найдете.
Снова я побежала и снова вернулась, таща широчайший плащ, подбитый и опушенный мехом.
— А теперь у меня для вас еще одно поручение, — сказал мой неугомонный хозяин: — Вам придется опять спуститься в мою комнату. Какое счастье, что у вас бархатные лапки, Джен. Если бы вы топали, как лошадь, это было бы ужасно. Откройте средний ящик моего туалетного стола, там вы найдете маленький пузырек и стаканчик. Живо!
Я поспешила вниз и принесла флакончик.
— Отлично! А теперь, доктор, я позволю себе сам определить ту дозу, которая ему необходима, на мою ответственность. Я приобрел это средство в Риме у итальянского шарлатана; вы такого субъекта, наверное, выгнали бы, Картер. Пользоваться этим средством без нужды незачем, но при случае оно хорошо подхлестывает; как теперь, например. Джен, дайте немного воды.
Он протянул мне стаканчик, и я налила его до половины водой из графина, стоявшего на умывальнике.
— Довольно, а теперь смочите носик флакона.
Я исполнила его просьбу. Тогда он накапал в стаканчик двенадцать капель какой-то алой жидкости и предложил ее Мэзону.
— Пей, Ричард. Это даст тебе примерно на час те силы, которых тебе недостает.
— А оно мне не повредит? Оно возбуждает?
— Пей, пей, пей!
Мистер Мэзон подчинился, так как возражать, видимо, не приходилось. Он был совсем одет, в лице еще оставалась бледность, но он уже не производил впечатления ослабевшего и изнемогающего человека. Мистер Рочестер дал ему посидеть три минуты, затем взял его под руку.
— Теперь я уверен, что ты можешь подняться на ноги, — сказал он. — Попробуй.
Больной встал.
— Картер, возьмите его под другую руку. Приободрись, Ричард! Сделай шаг… вот так.
— Я действительно чувствую себя лучше, — заметил мистер Мэзон.
— Не сомневаюсь. А теперь, Джен, бегите на черную лестницу, отоприте боковую дверь и скажите кучеру кареты, которую вы увидите во дворе или за воротами, — я не велел ему греметь колесами по камням, — чтобы он приготовился. Мы идем. И потом, Джен, если кто-нибудь уже встал, подайте нам сигнал с нижней площадки лестницы.
Было около половины пятого, и солнце уже всходило, но в кухне еще царили сумрак и тишина. Боковая дверь оказалась запертой, и я постаралась открыть ее как можно бесшумнее. Двор был пуст, но ворота были открыты настежь, и за ними я увидела запряженную парой лошадей карету и кучера, сидевшего на козлах. Я подошла к нему и сказала, что джентльмены сейчас будут. Он кивнул. Затем я внимательно огляделась кругом и прислушалась. Всюду еще дремала тишина раннего утра, в окнах третьего этажа, где спала прислуга, занавески были задернуты. Птицы щебетали в густой листве плодовых деревьев, цветущие ветви которых свисали, подобно белым гирляндам, через стену, тянувшуюся в глубине двора, да в конюшнях лошади изредка переступали с ноги на ногу, и это были единственные звуки, нарушавшие тишину.
Наконец джентльмены появились. Мэзон, поддерживаемый мистером Рочестером и врачом, шел без особых усилий. Они помогли ему сесть в карету, затем сел и мистер Картер.
— Присматривайте за ним, — сказал мистер Рочестер последнему, — и держите его у себя, пока он не поправится окончательно. Я приеду через день-два его навестить. Ну, как ты сейчас, Ричард?
— Свежий воздух оживил меня, Фэйрфакс.
— Оставьте окно с этой стороны открытым, Картер, ветра нет. До свиданья, Дик!
— Фэйрфакс…
— Ну, что такое?
— Пусть ее берегут; пусть обращаются с ней как можно мягче, пусть ее… — Он смолк и залился слезами.
— Я и так стараюсь; и буду делать, что возможно, — последовал ответ. Мистер Рочестер захлопнул дверцу кареты, экипаж тронулся.
— Но как бы я благодарил бога, если бы все это кончилось, — добавил он, закрывая и запирая на засов ворота.
Затем он медленно и рассеянно направился к калитке в стене, окружавшей плодовый сад. Я решила, что больше ему не нужна, и уже собиралась повернуть к дому, когда он снова окликнул меня:
— Джен! — Он уже открыл калитку и стоял возле нее, ожидая меня. — Пойдите сюда, подышите несколько минут свежим воздухом. Этот дом — настоящая тюрьма, вам не кажется?
— Он мне кажется роскошным замком, сэр.
— В вас говорит невинная восторженность, — отвечал он. — Вы смотрите на все сквозь розовые очки. Вы не видите, что это золото — мишура, а шелковые драпировки — пыльная паутина, что мрамор — грязные камни, а полированное дерево — гнилушки. А вот здесь, — он указал рукой на густую листву, под которую мы вступали, — все настоящее, сладостное и чистое.
Он медленно шел по дорожке, вдоль которой с одной стороны тянулись яблони, груши и вишни, а с другой пестрел бордюр из самых разнообразных незатейливых цветов: левкоев, гвоздик, анютиных глазок, вперемежку с шиповником, жимолостью и душистыми травами. Они были свежи, как только могут быть свежи растения после апрельских дождей и туманов, в пленительное весеннее утро. Солнце только что показалось на румяном востоке, и его лучи уже озаряли цветущие, покрытые росой плодовые деревья и тихие дорожки сада.
— Джен, хотите цветок?
Он сорвал полураспустившуюся розу, первую из расцветших в этом году, и протянул мне.
— Благодарю вас, сэр.
— Нравится вам этот восход, Джен? Это небо с высокими и легкими облаками, которые, конечно, растают, когда воздух согреется? Этот покой и благоухание?
— Да, очень.
— Вы ведь провели странную ночь, Джен.
— Да, сэр.
— Какая вы бледная. Вам, вероятно, было страшно, когда я оставил вас с Мэзоном.
— Я боялась, что кто-то придет из другой комнаты.
— Но я же запер дверь, ключ лежал у меня в кармане. Я был бы нерадивым пастухом, если бы мою овечку, мою любимую овечку, оставил без защиты возле волчьего логова. Вы были в безопасности.
— А что, Грэйс Пул и дальше будет жить тут, сэр?
— О да! Не ломайте себе голову над этим, просто забудьте о ней.
— Но мне кажется, ваша жизнь не может быть в безопасности, пока она здесь.
— Не тревожьтесь обо мне, я буду осторожен.
— А эта опасность, о которой вы упоминали вчера, больше не угрожает вам, сэр?
— Я не могу сказать этого, пока Мэзон не выехал из Англии. И даже тогда. Жить для меня, Джен, — значит стоять на тонкой коре вулкана, она каждую минуту может треснуть, и пламя вырвется наружу.
— Но, мне кажется, мистер Мэзон легко поддается влиянию, и вы, сэр, очевидно, можете в любую минуту на него воздействовать. Он никогда по своей воле не повредит вам и не предаст вас.
— О нет! Мэзон не предаст меня и никогда намеренно не причинит мне вреда. Но, сам того не ведая, он в любую минуту может несколькими неосторожными словами лишить меня навеки если не жизни, то возможности счастья.
— Скажите ему, чтобы он был осторожен, сэр. Объясните, чего вы опасаетесь, и укажите, как избегнуть опасности.
Мистер Рочестер язвительно рассмеялся, порывисто схватил мою руку и так же быстро оттолкнул от себя.
— Если бы я мог это сделать, дурочка, то в чем же была бы опасность. Она рассеялась бы в одно мгновение. С тех пор как я знаю Мэзона, мне достаточно было сказать ему: «Сделай то-то», и все было сделано. Но в данном случае я бессилен, я не могу сказать: «Смотри, не повреди мне, Ричард». Ведь он не должен и догадываться, что может в какой-то мере повредить мне. Вы озадачены? Придется вам с этим мириться и в дальнейшем. Ведь вы мой маленький друг, не правда ли?
— Я охотно готова служить вам и слушаться вас во всем, что хорошо.
— Вот именно, я вижу это. Я вижу, как вы веселы и довольны, как сияет ваш взгляд и лицо, когда вы трудитесь для меня и со мной, когда вы помогаете мне в том, что, как вы метко выразились, хорошо. А прикажи я вам сделать нехорошее, вы бы не бегали легкой поступью по моим поручениям, ваши руки проворно не исполняли бы их, ваш взгляд не был бы оживлен и лицо весело. Мой маленький друг повернулся бы тогда ко мне, спокойный и бледный, и сказал бы: «Нет, сэр, это невозможно. Я не могу, оттого что это нехорошо». И вы были бы непоколебимы, как неподвижная звезда. Вы тоже имеете власть надо мной и можете ранить меня, и я не смею показать вам, в каком месте я уязвим, иначе, несмотря на вашу преданность и дружбу, вы сейчас же отвернетесь от меня.
— Если вам от мистера Мэзона угрожает такая же опасность, как от меня, сэр, то вы в полной безопасности.
— Дай бог, чтоб это было так. Вот, Джен, скамейка, сядьте.
Перед нами была беседка, вернее ниша в стене, заросшая плющом. В ней стояла скамья. Мистер Рочестер опустился на нее, однако оставил место и для меня. Но я продолжала стоять перед ним.
— Сядьте же, — сказал он. — Места хватит нам обоим. Надеюсь, вы не боитесь сесть около меня? Нет? Надеюсь, вы не думаете, что это нехорошо, Джен?
Я ответила ему тем, что села. Я чувствовала, что отказываться было бы неловко.
— А пока солнце пьет росу, мой маленький друг, пока цветы в старом саду просыпаются и охорашиваются, а птицы и неугомонные пчелки приступают к дневной работе, я расскажу вам одну историю, а вы поставьте себя на место ее главного героя. Но сначала посмотрите на меня и скажите, что вы чувствуете себя легко и вас нисколько не беспокоит, что я задерживаю вас здесь.
— Нет, сэр. Я вполне спокойна.
— А тогда, Джен, призовите на помощь всю свою фантазию и представьте себе, что вы не благовоспитанная и выдержанная девушка, а буйный юноша, избалованный с детства; представьте, что вы находитесь в далекой чужой стране; допустите, что вы совершили там роковую ошибку — неважно какую и по каким мотивам, но последствия которой преследуют вас всю жизнь и омрачают все ваше существование. Заметьте, я не сказал «преступление». Я имею в виду не пролитие крови или что-нибудь подобное, что карается законом. Я сказал — ошибка. И вот, последствия вашей ошибки становятся со временем для вас совершенно невыносимыми; вы принимаете меры, чтобы освободиться от них: необычные меры, но в них нет ничего преступного или противозаконного. И все-таки вы несчастны, ибо вас навсегда покинула надежда. В самый полдень солнце для вас меркнет, и вы чувствуете, что затмение кончится лишь в час заката. Ваша память питается только горькими и унизительными воспоминаниями. Вы переезжаете с места на место, ища покоя в одиночестве, счастья в удовольствиях; я имею в виду грубые, низменные удовольствия, затемняющие разум и притупляющие чувства. И вот, с тоской в сердце и опустошенной душой вы возвращаетесь из добровольного изгнания и встречаетесь с новым лицом, как и где — неважно. Вы находите в нем многие из тех светлых и добрых черт, которых тщетно ищете вот уже двадцать лет, но которых ни в ком еще не встречали. Перед вами воплощенная свежесть и здоровье, без пятнышка, без гнили. Общество такого человека живит и воскрешает. Вы чувствуете, что возвращаются ваши лучшие дни, что в вас просыпаются более высокие желания, более чистые помыслы. Вы жаждете начать жизнь сначала и провести остаток ваших дней более достойно, как подобает бессмертному существу. Так неужели человек, чтобы достичь этого, не имеет права переступить через препятствие, которое является чисто формальным, Через преграду, совершенно условную, которая не освящена его совестью и не оправдана его рассудком?
Он смолк, ожидая ответа. Но что я могла сказать? О, если бы какой-нибудь добрый дух внушил мне справедливый и верный ответ. Тщетная надежда! Западный ветер шелестел хвоей вокруг меня, но нежный Ариель не воспользовался его дыханием, чтобы ответить вместо меня; птицы пели в кронах деревьев, но их песнь, хотя и сладостная, была бессловесна.
А мистер Рочестер настойчиво продолжал:
— Неужели этот человек, этот бродяга и грешник, теперь раскаивающийся и ищущий покоя, не имеет права презреть мнение света, чтобы привязать к себе нежное, благородное и чистое создание, чтобы обрести душевный мир и возродиться к новой жизни?
— Сэр, — отвечала я, — ни отдых странника, ни исправление грешника не зависят от окружающих людей. Мужчины и женщины смертны; философы изменяют мудрости, а христиане — добру; если кто-то, известный вам, страдал и заблуждался, пусть он ищет не среди равных себе, а выше — те силы, которые помогут ему искупить его грехи и даруют ему исцеление.
— Но орудие! Бог, чья воля здесь творится, избирает и орудие для своих целей. Это я сам, — говорю вам без всяких иносказаний, — вел суетную, беспутную и праздную жизнь, и, мне кажется, я нашел средство для своего исцеления, нашел в…
Он замолчал. Птицы продолжали распевать, листья тихонько шептались. Мне даже показалось странным, что и те и другие не прекратили своего пения и шепота, чтобы уловить эту непрозвучавшую тайну. Но им пришлось бы ждать немало времени, так продолжительно было молчание. Наконец я взглянула на своего собеседника; он тревожно смотрел на меня.
— Маленький друг, — сказал он внезапно изменившимся тоном, причем изменилось и его лицо, оно потеряло всю свою мягкость и серьезность, стало жестким и насмешливым, — вы, наверно, заметили мои нежные чувства к мисс Ингрэм? Как вы думаете, если я женюсь на ней, — не правда ли, она славно меня возродит?
Он тут же вскочил и ушел на другой конец дорожки, а когда возвратился, то напевал что-то.
— Джен, Джен, Джен! — сказал он, остановившись передо мной. — Вы совсем побледнели от этих бессонных ночей. Вы не браните меня за то, что я нарушаю ваш покой?
— Браню вас? Нет, сэр.
— Тогда в доказательство этого пожмите мне руку. Какие холодные пальцы! Они были теплее этой ночью, когда я коснулся их у двери таинственной комнаты. Джен, вы еще будете бодрствовать со мной?
— Всякий раз, когда смогу вам быть полезной, сэр.
— Например, в ночь перед моей свадьбой! Я уверен, что не засну. Вы обещаете провести эту ночь со мной? С вами я могу говорить о моей возлюбленной: вы ведь видели ее и узнали.
— Да, сэр.
— Она изумительна! Правда, Джен?
— Да, сэр.
— Богиня, настоящая богиня, Джен! Рослая, смуглая, сильная! А волосы такие, какие, наверно, были у женщин Карфагена. Вон Дэнт и Лин уже в конюшне. Ради бога, возвращайтесь через палисадник, той калиткой.
Когда я уходила в одну сторону, а он в другую, я услышала, как он уже весело говорил кому-то во дворе:
— А Мэзон опередил вас всех сегодня утром. Он уехал перед восходом. Я встал в четыре и проводил его.
Глава XXI
Странное это явление — закон внутренней симпатии, а также предчувствия и предзнаменования; вместе они образуют единую загадку, ключа от которой человечество еще не нашло. Я никогда не смеялась над предчувствиями, оттого что и со мной бывали в этом смысле странные случаи. И я верю, что существует внутренняя симпатия — например, между отдаленными родственниками, которые долго были разлучены, совершенно забыли друг друга, и вот, невзирая на их отчуждение, вдруг сказывается единство того корня, откуда они произошли, и эта связь превосходит человеческое понимание. Что же касается предзнаменований, то они, может быть, результат тайных симпатий между природой и человеком.
Когда я была всего шестилетней девочкой, я слышала однажды вечером, как Бесси Ливен говорила Марте Эббот, что она видела во сне маленького ребенка и что видеть во сне детей наверняка к неприятностям — или для тебя, или для твоих родственников. Вряд ли мне запомнились бы эти слова, если бы не последовавшее затем событие, из-за которого они врезались мне в память: на другой день Бесси была вызвана домой, к смертному ложу своей маленькой сестры.
Я не раз вспоминала за последнее время это поверье и этот случай, так как в течение недели не проходило ни одной ночи, чтобы мне не приснился ребенок — иногда я убаюкивала его, иногда качала на своих коленях, иногда смотрела, как он играет с маргаритками на лугу или плещется ручками в воде. Сегодня это мог быть плачущий ребенок, завтра — смеющийся. Он то прижимался ко мне, то убегал от меня; но как бы ни был окрашен этот сон и какие бы ни рождал чувства, он посещал меня семь ночей подряд, едва я вступала в страну сновидений.
Меня очень угнетала навязчивость этого образа, этого наваждения, и когда приближалась ночь, а с ней и час таинственного сна, я начинала нервничать. Я находилась в обществе призрачного младенца и в ту лунную ночь, когда меня разбудил ужасный вопль, донесшийся сверху. А во вторую половину следующего дня меня вызвали вниз, сказав, что кто-то дожидается меня в комнате миссис Фэйрфакс. Войдя туда, я увидела мужчину, напоминавшего по виду слугу из аристократического дома. Он был одет в глубокий траур, и на шляпе, которую он держал в руках, была креповая повязка.
— Вы едва ли помните меня, мисс, — сказал он, вставая при моем появлении. — Моя фамилия Ливен, я служил кучером у миссис Рид, когда вы еще жили в Гейтсхэде, восемь или девять лет тому назад. Я и теперь продолжаю жить там.
— Ах, Роберт, здравствуйте! Я очень хорошо помню вас. Вы иногда позволяли мне покататься на пони мисс Джорджианы. А как поживает Бесси? Вы ведь женаты на Бесси?
— Да, мисс. Моя жена совершенно здорова, благодарю вас. Два месяца тому назад она родила еще одного малыша, теперь у нас трое; и мать и ребенок чувствуют себя отлично.
— А как семья моей тети, Роберт?
— К сожалению, не могу порадовать вас хорошими вестями, мисс, — наоборот, они очень плохие. В семье большая беда.
— Надеюсь, никто не умер? — спросила я, взглянув на его черную одежду.
Он опустил глаза и, взглянув на креп вокруг тульи своей шляпы, ответил:
— Вчера была неделя, как мистер Джон умер в своей лондонской квартире.
— Мистер Джон?
— Да.
— А как его мать перенесла это?
— Видите ли, мисс Эйр, это не обычное несчастье: он ведь вел дурную жизнь, за последние три года он вытворял бог знает что и умер ужасной смертью.
— Я слышала от Бесси, что он пошел по плохой дорожке.
— Еще бы, хуже нельзя! Мистер Джон губил свою жизнь и свое состояние с самыми дурными мужчинами и женщинами. Он запутался в долгах и попал в тюрьму. Его матушка дважды помогала ему выкрутиться, но стоило ему оказаться на свободе, и он опять возвращался к прежним товарищам и привычкам. У него в голове какого-то винтика не хватало. Эти негодяи, с которыми он водился, безобразно его обирали. Он приехал в Гейтсхэд недели три тому назад и потребовал, чтобы миссис все отдала ему. Миссис отказала: у нее давно уже пошатнулись дела из-за его беспутства. Тогда он опять уехал, и вскоре пришла весть о том, что он умер. Какая была у него смерть, бог его знает. Ходят слухи, что он покончил с собой.
Я молчала; новости действительно были ужасны. Роберт Ливен продолжал:
— Миссис сама с некоторых пор больна; она очень располнела, но это ей не на пользу, а потеря денег и страх перед бедностью совсем сломили ее. И когда она узнала о смерти мистера Джона, — все это случилось уж очень неожиданно, — с ней сделался удар. Три дня она была без языка, но, наконец, в прошлый вторник ей стало как будто получше, она все старалась что-то сказать, делала знаки моей жене и бормотала. Только вчера утром Бесси удалось разобрать, что она произносит ваше имя, и, наконец, она услышала слова: «Привезите Джен Эйр, вызовите Джен Эйр, мне нужно поговорить с ней». Бесси не была уверена, в своем ли она уме и понимает ли, что говорит, но она все-таки сказала об этом мисс Рид и мисс Джорджиане и посоветовала вызвать вас. Барышни сначала не хотели; но мать становилась все беспокойнее и то и дело повторяла: «Джен, Джен», так что они, наконец, согласились. Я выехал из Гейтсхэда вчера, и, если бы вы могли собраться, мисс, я бы хотел увезти вас с собой завтра рано утром.
— Да, Роберт, я соберусь: мне кажется, следует поехать.
— Я тоже так думаю, мисс. Бесси сказала… она уверена, что вы не откажетесь. Но вам, вероятно, надо спроситься, перед тем как уехать?
— Да, я сделаю это сейчас же. — Отправив его в людскую столовую и попросив жену Джона и самого Джона позаботиться о нем, я пошла разыскивать мистера Рочестера.
Его не было ни в одной из комнат первого этажа; я не нашла его ни во дворе, ни в конюшне, ни в парке. Тогда я спросила миссис Фэйрфакс, не видела ли она его? Да, он, кажется, играет на бильярде с мисс Ингрэм. Я поспешила в бильярдную. До меня скоро донесся стук шаров и веселый гул голосов: мистер Рочестер, мисс Ингрэм и обе барышни Эштон с их поклонниками были увлечены игрой. Нужно было иметь некоторую храбрость, чтобы нарушить столь интересную партию. Однако у меня было неотложное дело, поэтому я прямо направилась к хозяину дома, стоявшему рядом с мисс Ингрэм. Когда я подошла, она обернулась и надменно взглянула на меня; ее глаза, казалось, спрашивали: «Что нужно здесь этому ничтожеству?» И когда я произнесла вполголоса: «Мистер Рочестер!», она сделала движение, словно ей хотелось выгнать меня прочь. Она была необычайно эффектна в эту минуту; на ней было утреннее платье из небесно-голубого крепа; лазоревый шарф обвивал ее темные волосы. Она играла с большим азартом, и гнев, с которым она встретила мое появление, отнюдь не способствовал смягчению ее надменных черт.
— Эта особа вас спрашивает, — обратилась она к мистеру Рочестеру, и мистер Рочестер обернулся, чтобы узнать, о какой «особе» идет речь. Увидев меня, он сделал странную гримасу, одну из своих характерных двусмысленных гримас, положил кий и вышел со мной из комнаты.
— Ну, Джен? — спросил он, прислонившись спиной к двери классной, которую закрыл за собой.
— Пожалуйста, сэр, позвольте мне уехать на неделю или две.
— Зачем? Куда?
— Чтобы повидать одну больную даму, которая прислала за мной.
— Какую больную даму? Где она живет?
— В Гейтсхэде, это в …шире.
— В …шире? Но ведь это же за сто миль отсюда. Кто она, что это за дама, которая посылает за вами в такую даль?
— Ее фамилия Рид, сэр. Миссис Рид.
— Рид из Гейтсхэда? В Гейтсхэде был какой-то Рид, судья.
— Это его вдова, сэр.
— А какое вы имеете к ней отношение? Откуда вы знаете ее?
— Мистер Рид был моим дядей, он брат моей матери.
— Черт побери! Вы никогда мне этого не говорили. Вы всегда уверяли, что у вас нет никаких родственников.
— Таких, которые бы меня признавали, у меня и нет, сэр. Мистер Рид умер, а его жена выгнала меня…
— Отчего?
— Оттого, что я была бедна и ей в тягость и она не любила меня.
— Но у Рида остались дети, — у вас должны быть двоюродные братья и сестры? Еще вчера сэр Джордж Лин говорил о каком-то Риде из Гейтсхэда и уверял, что это отъявленный негодяй; а Ингрэм упоминала о какой-то Джорджиане Рид из той же местности, которая год-два тому назад произвела в Лондоне фурор своей красотой.
— Джон Рид тоже умер, сэр. Он погубил себя и почти разорил свою семью; и есть предположение, что он покончил с собой. Это известие так поразило его мать, что с ней сделался удар.
— А чем же вы ей поможете? Глупости, Джен! Мне и в голову бы не пришло мчаться за сто миль, чтобы повидать какую-то старуху, которая, пожалуй, еще отправиться на тот свет до вашего приезда; и потом, вы говорите, что она выгнала вас?
— Да, сэр. Но это было очень давно. И тогда у нее были совсем другие обстоятельства. А теперь мне бы не хотелось пренебречь ее просьбой.
— И долго вы там пробудете?
— По возможности недолго, сэр.
— Обещайте мне, что не дольше недели…
— Я не хотела бы давать слово, может быть мне придется нарушить его.
— Во всяком случае вы вернетесь? Вы ни под каким видом не останетесь там?
— О, нет! Я, разумеется, вернусь, если все пойдет хорошо.
— А кто поедет с вами? Вы же не можете отправиться в такое путешествие одна.
— Нет, сэр. Мисс Рид прислала своего кучера.
— Ему можно доверять?
— Да, сэр, он прожил в доме десять лет.
Мистер Рочестер задумался.
— Когда вы хотите ехать?
— Завтра рано утром, сэр.
— В таком случае вам понадобятся деньги; ведь не можете же вы путешествовать без денег, а я предполагаю, что у вас их немного: я еще не давал вам вашего жалования. Сколько у вас всего-навсего, Джен? — спросил он улыбаясь.
Я показала свой кошелек; он действительно был очень тощ.
— Пять шиллингов, сэр.
Он взял кошелек, высыпал содержимое на ладонь и тихонько рассмеялся, словно его смешила эта скудость. Затем он извлек свой бумажник.
— Вот, — сказал он, протягивая мне банкнот: это было пятьдесят фунтов, а он задолжал мне всего лишь пятнадцать. Я сказала, что у меня нет сдачи.
— Не нужно мне сдачи, вы это знаете. Это ваше жалование.
Но я отказалась взять больше того, что мне принадлежало по праву. Сначала он рассердился, затем, словно одумавшись, сказал:
— Ну хорошо, хорошо. Лучше не давать вам всего сейчас, а то вы, может быть, имея пятьдесят фунтов, возьмете да и проживете там три месяца. Вот вам десять. Достаточно?
— Да, сэр; стало быть, за вами еще пять.
— Вернитесь сюда за ними; я буду вашим банкиром и сберегу вам сорок фунтов.
— Мистер Рочестер, раз представляется случай, я бы хотела поговорить с вами еще об одном деле.
— О деле? Интересно послушать, что это такое.
— Вы дали мне понять, сэр, что очень скоро собираетесь жениться.
— Да. Ну так что же?
— В таком случае, сэр, Адель следовало бы поместить в школу. Я уверена, что вы сами понимаете необходимость этого.
— Чтобы убрать ее подальше от моей жены, для которой девочка может оказаться обузой? Ваше предложение не лишено смысла. Согласен. Адель, как вы предлагаете, поступит в школу; а вы, вы, разумеется, отправитесь ко всем чертям?
— Надеюсь, нет, сэр. Но мне так или иначе придется искать другое место.
— Ну еще бы! — воскликнул он странно изменившимся голосом, лицо его исказилось смешной и мрачной гримасой. Он несколько мгновений смотрел на меня.
— И, вероятно, старуха Рид или барышни, ее дочери, будут по вашей просьбе подыскивать вам место? Так?
— Нет, сэр. Я не в таких отношениях с моими родственниками, чтобы иметь основание просить их об услугах, — но я дам объявление в газетах.
— Вы еще бог весть что придумаете, — пробурчал он. — Попробуйте только дать объявление! Очень жалею что не уплатил вам вместо десяти фунтов один соверен. Верните мне девять фунтов, Джен, они мне понадобятся.
— И мне тоже, сэр, — возразила я, закладывая за спину руки, в которых был кошелек. — Я ни в коем случае не могу обойтись без этих денег.
— Маленькая скряга! — сказал он. — Вам жалко денег! Ну, дайте мне хоть пять фунтов, Джен.
— Ни пяти шиллингов, ни пяти пенсов.
— Дайте мне хоть посмотреть на деньги.
— Нет, сэр, я вам не доверяю.
— Джен!
— Сэр?
— Обещайте мне одну вещь.
— Я обещаю вам все, сэр, что буду в силах исполнить.
— Не давайте объявления. Предоставьте это дело мне; когда нужно будет, я вам найду место.
— С радостью, сэр, если вы, в свою очередь, обещаете мне, что я и Адель заблаговременно уедем отсюда — прежде, чем в этот дом войдет ваша жена.
— Отлично, отлично. Даю вам честное слово. Значит, вы отбываете завтра?
— Да, сэр. Рано утром.
— Вы явитесь сегодня в гостиную после обеда?
— Нет, сэр. Мне нужно собираться в дорогу.
— Значит, нам придется с вами на некоторое время проститься?
— Видимо, так, сэр.
— А как люди прощаются, Джен? Научите меня, я не совсем знаю как.
— Они говорят до свиданья или другое слово, какое им нравится.
— Ну, тогда скажите его.
— До свиданья, мистер Рочестер, скоро увидимся.
— А что я должен сказать?
— То же самое, если вам угодно, сэр.
— До свиданья, мисс Эйр, скоро увидимся. И это все?
— Да.
— А мне такое расставание кажется сухим, и скучным, и недружественным. Мне хотелось бы чего-нибудь другого. Маленького прибавления к этому ритуалу. Что, например, если бы мы пожали друг другу руку? Но нет, это меня тоже не удовлетворило бы. Значит, ничего больше вы не скажете мне, Джен, кроме вашего «до свиданья»?
— Этого достаточно, сэр. Иногда одно слово может прозвучать теплее, чем множество слов.
— Возможно. Но все-таки это звучит очень сухо и холодно: «до свиданья…»
«Сколько еще он будет стоять, прислонившись к двери? — спрашивала я себя. — Мне пора укладываться». Но в это время зазвонил колокол к обеду, и мистер Рочестер сорвался с места, не прибавив ни слова. Больше я его в течение этого дня не видела, а на другое утро уехала до того, как он встал.
Первого мая, в пять часов пополудни, я подъехала к сторожке у ворот Гейтсхэда. Прежде чем войти в дом, я заглянула в сторожку. Здесь было очень чисто и уютно. Решетчатые окна были завешены белыми занавесочками, пол безукоризненно чист, каминные щипцы весело сверкали, и жарко пылали дрова. Бесси сидела у огня, укачивая малютку, а Роберт и его сестра тихонько играли в углу.
— Слава богу! Я была уверена, что вы приедете! — воскликнула миссис Ливен, когда я вошла.
— Да, Бесси, — сказала я, целуя ее. — Надеюсь, я не опоздала? Как себя чувствует миссис Ряд? Жива еще?
— Да, жива. И сейчас, пожалуй, чувствует себя лучше. Доктор говорит, что она еще протянет недели две. Но совсем она едва ли поправится.
— Она вспоминала обо мне?
— Миссис говорила о вас еще сегодня утром. Ей хотелось, чтоб вы приехали. Но сейчас она спит, — по крайней мере, спала десять минут назад, когда я была в доме. Она обычно впадает в забытье после обеда и приходит в себя только к шести-семи часам. Отдохните часок, мисс, а потом я пойду вместе с вами.
Вошел Роберт. Бесси положила уснувшего младенца в колыбель и подошла к мужу поздороваться. Она потребовала, чтобы я сняла шляпку и выпила чаю, так как я бледна и утомлена с дороги. Я с радостью приняла ее гостеприимство и покорно дала раздеть себя, как в детстве, когда Бесси укладывала меня спать.
Прошлое властно нахлынуло на меня, когда я смотрела, как она хлопочет, ставит на поднос свои лучшие чашки, делает бутерброды, поджаривает к чаю сладкий хлеб, награждая маленьких Роберта и Джен то подзатыльником, то ласковым шлепком, как награждала когда-то меня. Бесси осталась такой же проворной, вспыльчивой и доброй.
Чай был готов, и я хотела подойти к столу. Но Бесси потребовала прежним своим повелительным тоном, чтобы я оставалась там, где сижу. Она все подаст мне к камину, заявила она. Придвинув круглый столик, Бесси поставила на него чашку чаю и тарелку с поджаренным хлебом, совершенно так же, как делала это когда-то, когда я еще сидела в детском креслице и ей удавалось похитить для меня какое-нибудь необычное лакомство; и я, улыбаясь, подчинилась ей, как в былые дни.
Она расспрашивала меня, счастливо ли я живу в Торнфильдхолле и что за человек моя хозяйка. А когда я сказала ей, что у меня есть только хозяин, — то хороший ли он человек и нравится ли мне? Я ответила, что он скорее некрасив, но настоящий джентльмен, что он очень добр ко мне и я довольна. Затем я начала описывать ей веселое общество, гостящее у нас в доме. Бесси слушала с интересом. Это было как раз то, что она любила.
Так, в разговорах, незаметно прошел час. Бесси принесла мне мою шляпку и верхнюю одежду, мы вдвоем вышли из сторожки и направились к дому. Точно так же сопровождала она меня около девяти лет назад, но тогда мы из дома шли к воротам. В холодное, пасмурное январское утро я покинула этот постылый кров с отчаянием и горечью в сердце; изгнанная теткой и всеми отверженная, я должна была искать убежища в негостеприимном Ловуде, в далеком, неведомом краю. И вот тот же постылый кров снова передо мной. Мое будущее все еще было неопределенным: я вступала на этот порог со стесненным сердцем, все еще чувствуя себя странницей на земле, но теперь меня поддерживала более твердая вера в себя и в свои силы и я меньше трепетала перед угнетением. Нанесенные мне когда-то мучительные раны зарубцевались, и пламя ненависти погасло.
— Пройдите сначала в маленькую столовую, — сказала Бесси, входя со мною в дом, — барышни, наверно, там.
Через мгновение я оказалась в знакомой комнате. Каждая вещь в ней имела такой же вид, как и в то утро, когда я была впервые представлена мистеру Брокльхерсту. Даже коврик перед камином, на котором он стоял, был тот же самый. Взглянув на книжный шкаф, я увидела, что оба тома Бьюика «Жизнь английских птиц» занимают то же место, на третьей полке, а «Путешествия Гулливера» и «Арабские сказки» стоят на четвертой. Неодушевленные предметы остались теми же, зато живые существа изменились до неузнаваемости.
Я увидела перед собой двух молодых девушек; одна была очень высокая, почти такого же роста, как мисс Ингрэм, но крайне худая и угрюмая, с нездоровым, желтоватым цветом лица. В ней было что-то аскетическое, и это еще подчеркивалось крайней простотой ее черного шерстяного платья с крахмальным белым полотняным воротничком, гладко зачесанными волосами и монашеским украшением на шее в виде черных четок с распятием. То была, без сомнения, Элиза, хотя в этом удлиненном, уже очерствевшем лице почти не осталось никакого сходства с прежней девочкой.
Другая была, разумеется, Джорджиана, но уже не та Джорджиана, которую я помнила, не та тоненькая, похожая на ангелочка девочка одиннадцати лет. Это была вполне расцветшая, пышная барышня, с румяным, как у куклы, лицом, с красивыми, правильными чертами, томными синими глазами и золотистыми локонами. На ней также было черное платье, но такого элегантного и кокетливого покроя, что рядом с ним платье ее сестры казалось монашеским.
Каждая из сестер чем-то напоминала мать, однако каждая по-разному: у худой и бледной старшей сестры были материнские желтоватые глаза; младшая, цветущая и пышная, унаследовала ее челюсть и подбородок, может быть, слегка смягченные, но все же придававшие какую-то странную жесткость ее чувственному, сдобному личику.
Когда я приблизилась, обе девушки поднялись, чтобы поздороваться со мной, и обе назвали меня «мисс Эйр». Элиза приветствовала меня отрывисто и резко, без улыбки; затем она снова села и уставилась на огонь в камине, словно совершенно забыв о моем присутствии. Джорджиана прибавила к своему «здравствуйте» несколько общих замечаний о моем путешествии, о погоде и так далее; она говорила с растяжкой, цедя слова сквозь зубы. Эти замечания сопровождались недружелюбными взглядами, которыми она искоса мерила меня с головы до ног, то рассматривая мой скромный коричневый плащ, то задерживаясь на моей простенькой дорожной шляпке. Молодые особы отлично умеют дать вам понять, что считают вас «чудачкой», не прибегая к словам. Они делают это с помощью высокомерных взглядов, холодности в обращении, небрежности тона, выражая таким образом свои чувства в полной мере и обходясь при этом без единого грубого выражения или жеста.
Однако теперь насмешка, скрытая или явная, уже не имела надо мной власти. Сидя между моими кузинами, я изумлялась тому, как свободно я себя чувствую, невзирая на полное пренебрежение одной и полусаркастическое внимание другой: Элиза уже не могла унизить меня, а Джорджиана — оскорбить. Дело в том, что я была занята совсем другим. За последние несколько месяцев я пережила настолько глубокие чувства, мои страдания и радости были так сильны и утонченны, что кузины уже не могли ни опечалить, ни обрадовать меня, а их тон не мог вызвать во мне ни добрых, ни злых чувств.
— Как здоровье мисс Рид? — спросила я, спокойно взглянув на Джорджиану, которая сочла необходимым гордо выпрямиться при этом прямом вопросе, словно я позволила себе неожиданную вольность.
— Миссис Рид? Ах, вы хотите сказать — мама. Она в очень плохом состоянии. Сомневаюсь, чтобы вы могли повидать ее сегодня.
— Если бы вы поднялись наверх и сказали ей, что я приехала, я была бы вам очень благодарна.
Джорджиана даже вскочила, так она была поражена, и в изумлении широко раскрыла синие глаза.
— Я знаю, что она высказывала настойчивое желание повидать меня, — добавила я, — и не хотела бы откладывать исполнение ее желаний дольше, чем это необходимо.
— Мама не любит, когда ее вечером беспокоят, — заметила Элиза.
Тогда я спокойно поднялась, сняла, хотя и без приглашения, шляпку и перчатки и заявила, что пойду поищу Бесси, которая, вероятно, в кухне, и попрошу ее узнать, расположена ли миссис Рид принять меня сегодня вечером или нет. Я вышла, отыскала Бесси и, попросив ее исполнить мое поручение, продолжала и дальше действовать столь же решительно. Обычно я стушевываюсь при всякой грубости. Еще год тому назад, будь я встречена так, как сегодня, я, вероятно, решила бы уехать из Гейтсхэда завтра же утром. Но теперь я сразу же поняла, что это было бы нелепо: я приехала за сто миль, чтобы повидать мою тетю, и должна остаться при ней до ее выздоровления или же смерти; что касается глупости или гордости ее дочерей, то лучше по возможности не замечать их. Поэтому я обратилась к экономке, сообщила, что, вероятно, прогощу здесь неделю или две, попросила ее отвести мне комнату и отнести мой чемодан наверх и отправилась с ней сама. На площадке я встретила Бесси.
— Миссис Рид проснулась, — сказала она. — Я сообщила ей, что вы здесь. Пойдемте посмотрим, узнает ли она вас.
Мне не нужно было указывать дорогу в эту столь знакомую мне комнату, куда меня столько раз вызывали в былые дни для наказания или выговора. Я опередила Бесси и тихонько открыла дверь. На столе стояла лампа под абажуром, так как уже темнело. Я увидела ту же кровать с золотистыми занавесками, тот же туалетный стол, и кресло, и скамеечку для ног, на которую меня сотни раз ставили на колени, принуждая просить прощения за грехи, которых я не совершала. И я невольно заглянула в тот угол, где когда-то маячила страшная тень гибкого хлыста, который выглядывал оттуда, только и ожидая случая, чтобы выскочить с бесовским проворством и отхлестать меня по дрожащим рукам или вытянутой шее. Я приблизилась к кровати, отдернула занавеси и наклонилась над горой подушек.
Я хорошо помнила лицо миссис Рид и теперь пристально вглядывалась в знакомые черты. Какое счастье, что время уничтожает в нас жажду мести и заглушает порывы гнева и враждебности! Я покинула эту женщину в минуту горечи и ненависти, а вернулась с одним лишь чувством жалости к ее великим страданиям и с искренним желанием забыть и простить все нанесенные мне обиды, примириться с ней и дружески пожать ей руку.
Знакомое лицо было передо мной: такое же суровое, жесткое, как и прежде. Те же глаза, которых ничто не могло смягчить, и те же слегка приподнятые властные и злые брови. Как часто они хмурились, выражая угрозу и ненависть, и как живо вспомнились мне печали и ужасы детства, когда я рассматривала теперь их суровые очертания. И все же я наклонилась и поцеловала ее. Она посмотрела на меня.
— Это Джен Эйр? — спросила она.
— Да, тетя Рид. Как вы себя чувствуете, милая тетя?
Когда-то я поклялась, что никогда больше не назову ее тетей; но сейчас мне не казалось грехом, если я нарушу и забуду эту клятву. Мои пальцы сжали ее руку, лежавшую поверх простыни. Если бы она их ласково пожала в ответ, я испытала бы в эту минуту истинную радость. Но черствую натуру трудно умилостивить, и нелегко рассеять закоренелые предубеждения. Миссис Рид отняла свою руку и, отвернув от меня лицо, заметила, что сегодня хорошая погода. Затем она снова взглянула на меня таким ледяным взглядом, что я сразу поняла: ее мнение обо мне и ее чувства остались неизменными и непреклонными. Я догадалась по ее каменным глазам, непроницаемым для нежности, не знающим слез, что она твердо решила считать меня неисправимой: найдя во мне перемену к лучшему, она не испытала бы бескорыстной радости, а только унижение.
Мое сердце сжалось болью, а затем гневом; но я решила покорить миссис Рид, взять верх над ее природой и ее упорством. Слезы душили меня, как в детстве, я подавила их усилием воли и, поставив стул у изголовья, села и склонилась над подушкой.
— Вы посылали за мной, — сказала я, — и вот я здесь. Я останусь до тех пор, пока вам не станет лучше.
— О, разумеется! Ты видела моих дочерей?
— Да.
— Ну так скажи им: ты останешься здесь, пока я с тобой не переговорю кое о чем, что у меня на душе; сегодня уже поздно и мне трудно вспомнить… Что-то я хотела тебе сказать… подожди…
Ее блуждающий взгляд и затрудненная речь свидетельствовали о том, какое крушение постигло это некогда мощное тело. Она беспокойно заворочалась в постели, натягивая на себя простыню. Мой локоть, опиравшийся на край кровати, придерживал одеяло. Она сразу рассердилась.
— Сядь прямо, — сказала она, — не раздражай меня и не держи одеяло. Ты Джен Эйр?
— Да, я Джен Эйр.
— Никто не поверит, каких хлопот и неприятностей стоил мне этот ребенок. Взвалить на меня такое бремя! Сколько она мне причиняла огорчений каждый день, каждый час своим непонятным характером, своими вспышками раздражения и этой дикой манерой — следить за каждым моим движением. Один раз она говорила со мной прямо как сумасшедшая, уверю вас, или как дьявол, — никогда не видела такого ребенка! Конечно, я рада была избавиться от нее. Что с ней сталось в Ловуде? Говорят, там была эпидемия тифа и многие девочки умерли; однако она осталась жива. Но я сказала, что Джен умерла. Я хотела, чтобы она умерла.
— Странное желание, миссис Рид. За что вы так ненавидите ее?
— Я всегда терпеть не могла ее мать; она была единственной сестрой моего мужа, и он очень любил ее. Когда семья отреклась от этой женщины после ее недостойного брака, Рид один был на ее стороне, а когда пришла весть о ее смерти, он плакал, как дурак. Потом он послал за ребенком, хотя я настаивала, чтобы отдать его кормилице и платить за содержание. Я возненавидела эту девчонку с первой минуты, как увидела ее, — болезненное, вечно ноющее создание. Она хныкала все ночи напролет в своей колыбели; никогда она не плакала, как нормальный, здоровый ребенок, нет, — обязательно ноет и пищит. Рид жалел ее, нянчился и возился с ней, точно она была его родной дочерью, — какое там, своих в этом возрасте он куда меньше замечал. Он старался, чтобы и дети мои полюбили эту нищенку, но мои малютки терпеть ее не могли, а он сердился на них, так как они не скрывали этого.
Когда он окончательно слег, то постоянно требовал, чтобы ее приносили к нему, и за час до смерти заставил меня поклясться, что я не оставлю ее. Это было все равно, что навязать мне какое-нибудь нищее отродье из работного дома; но он был от природы слабого характера. Джон совсем не похож на отца, и я этому рада. Джон весь в меня и в моих братьев, он настоящий Гибсон. О, если бы он перестал мучить меня этими письмами с вечными требованиями денег. Нет у меня никаких денег; мы разоряемся с каждым днем, придется отпустить половину прислуги и запереть часть дома или сдавать ее. Но я никогда не соглашусь на это. А с другой стороны, как нам жить? Две трети моих доходов идут на погашение процентов по закладным. Джон отчаянно играет и вечно проигрывает. Бедный мальчик, он окружен негодяями; он пьянствует, опустился, выглядит ужасно, — мне стыдно за него, когда я его вижу.
Возбуждение все больше овладевало ею.
— Мне кажется, лучше оставить ее одну, — сказала я, обращаясь к Бесси, которая стояла по другую сторону кровати.
— Может быть, и лучше, мисс. Но она так много говорит по вечерам, утром она спокойнее.
Я поднялась.
— Постой! — воскликнула миссис Рид. — Есть еще одна вещь, которую я хочу сказать тебе. Он угрожает мне, он постоянно угрожает, что убьет себя или меня. Иногда мне снится, будто он лежит на столе с огромной раной на шее или с распухшим, почерневшим лицом. Положение ужасное, у меня тяжелые заботы. Что мне делать, как раздобыть денег?
Бесси едва уговорила миссис Рид выпить успокаивающих капель. Скоро больная затихла и, наконец, задремала. Я вышла.
Прошло свыше десяти дней, прежде чем у нас состоялся новый разговор. Она или бредила, или находилась в забытьи, и доктор запретил все, что могло бы болезненно взволновать ее. Я старалась кое-как наладить мои отношения с Джорджианой и Элизой. Сначала обе держались очень холодно. Элиза проводила полдня за шитьем, чтением или письмом и едва удостаивала нескольких слов меня или сестру. Джорджиана часами болтала всякий вздор своей канарейке и не замечала меня. Но я твердо решила, что сама сумею и развлечься и заняться; я привезла с собой принадлежности для рисования, и они теперь послужили мне для того и для другого.
Запасшись карандашами и несколькими листами бумаги, я обычно садилась в стороне от сестер, возле окна, и делала кое-какие наброски, изображавшие мимолетные картины, которые возникали в калейдоскопе моего воображения: полоску моря между двумя скалами; диск восходящей луны с вырисовывающимся на нем черным силуэтом корабля; заросли камышей и кувшинок, среди которых появляется головка наяды, увенчанная лотосами; эльфа, сидящего на краю птичьего гнезда, под цветущей веткой боярышника.
Однажды утром мне захотелось нарисовать голову. Я еще точно не знала какую и не хотела об этом думать. Взяв мягкий черный карандаш, я углубилась в работу. Вскоре на бумаге передо мной появился широкий выпуклый лоб и угловатые контуры лица; довольная началом, я принялась заполнять эти контуры, вписывая в них отдельные черты. Под таким лбом следовало нарисовать густые горизонтальные брови и правильный нос с прямой переносицей и широкими ноздрями; затем выразительный рот, конечно не тонкогубый, и решительный раздвоенный подбородок. И, разумеется, черные усы и черные, как вороново крыло, волосы, приглаженные у висков и волнистые надо лбом. Оставались еще глаза. Я нарочно приберегла их под конец, так как они требовали особой тщательности исполнения. Я нарисовала их большими, придав им красивую форму, а ресницы сделала длинными и темными, зрачок крупным и блестящим. «Хорошо, но еще не совсем то, что нужно, — сказала я себе, рассматривая свою работу. — Надо придать глазам больше силы и выразительности». Я навела тени резче, чтобы оттенить их блеск; два-три удачных штриха помогли мне достичь моей цели. И вот передо мной было лицо друга, — так не все ли мне равно, что эти молодые особы повертываются ко мне спиной? Я смотрела на портрет и радовалась его сходству с оригиналом. Я была целиком поглощена рисунком и испытывала большое удовлетворение.
— Это что — портрет вашего знакомого? — спросила Элиза, которая подошла ко мне незамеченной. Я ответила, что нет, — это просто так, моя фантазия, и поспешила заложить рисунок среди других листов бумаги.
Я, конечно, солгала: это было на самом деле очень похожее изображение мистера Рочестера. Но какое это имело значение для нее или для кого-нибудь еще, кроме меня самой? Джорджиана тоже подошла, чтобы посмотреть. Рисунки ей очень понравились, но про этот она сказала: «Какой некрасивый мужчина». Сестры, казалось, были удивлены моим искусством. Я предложила сделать их портреты. И вот обе они позировали мне по очереди для карандашного наброска. Затем Джорджиана извлекла свой альбом. Я обещала ей написать в нем акварель. Это сразу привело ее в хорошее настроение; она предложила прогулку по парку. Не прошло и двух часов, как мы уже увлеклись чрезвычайно откровенным разговором. Джорджиана рассказывала мне о той восхитительной зиме, которую провела в Лондоне два года назад, о всеобщем восторге, который она вызывала, о том внимании, которое ей было оказано; она сделала мне даже некоторые намеки на одержанную ею победу над некой титулованной особой.
В течение второй половины дня и вечера эти намеки становились все прозрачнее; она пересказывала мне чувствительные беседы и описывала сентиментальные положения, — словом, в этот день я выслушала от нее импровизацию романа из жизни высшего общества. День за днем она возобновляла свои излияния; их тема всегда была одна и та же: она сама, ее увлечения, ее горести. Казалось странным, что она ни разу не упомянула ни о болезни матери, ни о смерти брата или о тех мрачных перспективах, которые ожидали семью. Казалось, ее душа целиком захвачена воспоминанием о былых удовольствиях и мечтами о новых развлечениях. Она заходила каждый день на пять минут в комнату матери, вот и все.
Элиза по-прежнему была немногословна; у нее, видимо, не было времени на разговоры. Я никогда не встречала более занятой особы, хотя было очень трудно определить, что именно она делала, или, вернее, обнаружить результаты ее усердных трудов. Она вставала по будильнику. Я не знаю, что она делала до завтрака, но все остальное время у нее было расписано по часам, и каждый час был посвящен определенным занятиям. Три раза в день она читала маленькую книжку, — как я потом выяснила, это был обыкновенный молитвенник. Я однажды спросила, что больше всего привлекает ее в этой книжке, и она сказала: «Литургия». Три часа она отдавала вышиванию золотыми нитками роскошной каймы на куске пунцовой материи, которая могла бы быть ковром. На мой вопрос, каково назначение этой вышивки, она пояснила мне, что это покров на алтарь в новой церкви, только что построенной близ Гейтсхэда. Два часа она отдавала своему дневнику, два — работе в саду и один час — подведению счетов. Она, видимо, не нуждалась ни в каком обществе, ни в каких разговорах. Вероятно, она была по-своему счастлива: этот раз навсегда заведенный порядок удовлетворял ее; и ничто не могло раздражить Элизу сильнее, чем какое-нибудь неожиданное событие, вторгавшееся в ее расписание.
Однажды вечером, когда Элиза была настроена общительнее, чем обычно, она сказала мне, что поведение Джона и нависшая над семьей угроза разорения глубоко подействовали на нее; но теперь, добавила моя кузина, выводы ею сделаны и решение принято. Свое собственное состояние она сумела сохранить, и когда мать умрет, — совершенно невероятно, чтобы она поправилась или протянула долго, спокойно пояснила Элиза, — она, наконец, выполнит давно взлелеянный план: отыщет себе тихую обитель, где ей удастся поставить прочную преграду между собою и легкомысленным миром. Я спросила, будет ли Джорджиана сопровождать ее.
Конечно нет. Между нею и Джорджианой нет ничего общего и никогда не было. Она ни при каких условиях не стеснит себя обществом сестры. Пусть Джорджиана идет своей дорогой, а она, Элиза, пойдет своей.
Джорджиана, когда не изливалась передо мной, проводила большую часть дня на диване, негодуя на уныние родительского дома и мечтая все вновь и вновь, что тетя Гибсон, наконец, пригласит ее в Лондон.
— Насколько было бы лучше, — говорила она, — если бы мне удалось уехать месяца на два, пока все будет кончено.
Я не спросила, что она имеет в виду под этим «все будет кончено», но думаю, что она намекала на предполагаемую кончину матери и мрачный похоронный обряд. Элиза обычно не обращала никакого внимания на безделье и вечные жалобы сестры, как будто это ноющее, томящееся создание не находилось у нее перед глазами. Но однажды, когда она захлопнула свою приходо-расходную книгу и принялась за вышивание, она вдруг обратилась к Джорджиане со следующей тирадой:
— Джорджиана! Мне кажется, свет не видывал более тщеславной и глупой обезьяны, чем ты. Ты не имела никакого права родиться, ты только зря небо коптишь. Вместо того чтобы жить для себя, и в себе, и собой, как должно жить разумное создание, ты только и ищешь, как бы повиснуть на другом, более сильном человеке, а если не находится никого, кто бы согласился обременить себя таким толстым, слабым, рыхлым и бесполезным существом, ты начинаешь вопить, что ты несчастна, что с тобой дурно обращаются и тобой пренебрегают. И потом, существование для тебя должно быть постоянной сменой удовольствий и впечатлений, иначе мир кажется тебе темницей. Тебе нужно, чтоб тобой восхищались, за тобой ухаживали, льстили, чтобы вокруг тебя была музыка, танцы, общество, а если этого нет, ты начинаешь томиться и впадаешь в уныние. Неужели ты не можешь устроиться так, чтобы не зависеть ни от чьих прихотей и ни от чьих желаний, кроме своих собственных?
Когда ты не знаешь, чем заполнить день, подели его на части, каждую часть займи чем-нибудь, не сиди без дела и четверти часа, десяти минут, пяти минут, пользуйся каждым мгновением, делай намеченное тобою методически, с суровым постоянством, — и день пройдет так быстро, что ты не заметишь, как он кончился. И ты не будешь зависеть ни от кого и ждать, чтобы тебе помогли провести время. Тебе не придется искать ни общества, ни разговоров, ни сочувствия, ни поддержки — словом, ты будешь жить, как должно жить независимое существо.
Послушайся моего совета — кстати, он будет первым и последним, — и тогда, что бы ни случилось, ты не будешь нуждаться ни во мне, ни в ком-нибудь другом. А если не послушаешься, ты так все и будешь томиться, ныть, бездельничать и страдать от последствий собственной дурости, как бы они ни были тяжелы и мучительны. Говорю тебе это прямо; и потом — предупреждаю: больше ты не услышишь от меня того, что я скажу тебе сейчас, но действовать я буду сообразно этому. После смерти нашей матери я в отношении тебя умываю руки; с той минуты, как ее гроб будет опущен в склеп под гейтсхэдской церковью, мы с тобой разойдемся, как будто никогда и не знали друг друга. И, пожалуйста, не воображай, что, если мы родились от одних родителей, я допущу малейшую уступку твоим притязаниям. И опять-таки, говорю тебе прямо: если бы весь род человеческий, за исключением нас двух, погиб и мы очутились бы с тобой одни на всей земле, я бы предоставила тебе гибнуть со всем старым миром, а сама ушла бы в новый.
Она смолкла.
— Ты могла бы обойтись без этой бесполезной тирады, — отозвалась Джорджиана. — Всякому известно, что ты самое эгоистическое, бессердечное существо в мире. И я знаю, как ты меня ненавидишь. Ты показала это своей безобразной проделкой с лордом Эдвином Виром. Ты не могла стерпеть, чтобы я была вознесена над тобой, чтобы у меня был титул, чтобы меня принимали в тех кругах, куда ты носа показать не смеешь. Поэтому ты взяла на себя роль шпиона и доносчика и навсегда погубила все мои надежды.
Джорджиана извлекла носовой платок и целый час после этого судорожно сморкалась. Элиза продолжала оставаться холодной и бесстрастной и усердно занималась своим делом.
Великодушные чувства значат очень мало для некоторых людей, но здесь передо мной были два совершенно противоположных характера. В одном было кислоты хоть отбавляй, зато другой был невыносимо пресен. Чувство без разума не слишком питательная еда; но и разум, не смягченный чувством, — горькая и сухая пища и не годится для человеческого потребления.
День клонился к вечеру. Было сыро и ветрено. Джорджиана заснула на диване, читая какой-то роман. Элиза ушла в новую церковь на богослужение. В отношении религии она была строгой формалисткой: никакая погода не могла удержать ее от аккуратнейшего выполнения того, что она считала своим религиозным долгом; что бы там ни было, она каждое воскресенье три раза бывала в церкви и в течение недели присутствовала на всех службах.
Я решила подняться наверх и посмотреть, как чувствует себя больная, которая была большую часть дня предоставлена самой себе: даже слуги не обращали на нее должного внимания, а нанятая сиделка, за которой никто не следил, пользовалась всяким случаем, чтобы выскользнуть из комнаты. Правда, на Бесси можно было положиться, но у нее была своя семья, и она лишь изредка могла приходить в дом. Как я и предполагала, возле больной никого не было. Сиделка отсутствовала. Миссис Рид лежала неподвижно, видимо, погруженная в забытье; ее изможденное лицо тонуло в подушках. Огонь в камине почти угас. Я подложила углей, оправила постель и стала смотреть на ту, которая не могла меня видеть. Затем я подошла к окну.
Дождь хлестал по стеклам, ветер выл. «Вот лежит человеческое существо, — думала я, — которому вскоре будут чужды все земные страсти. Куда уйдет ее дух, ныне стремящийся покинуть свою земную оболочку? Куда он направится, получив, наконец, свободу?»
Погруженная в размышления об этой великой тайне, я вспомнила Элен Бернс и ее последние слова. Мысленно я как будто все еще слышала незабвенный звук ее голоса, все еще видела ее бледное одухотворенное лицо, изможденные черты и далекий взгляд, когда она лежала недвижно на смертном ложе и шептала о своей надежде возвратиться на грудь божественного отца.
В это время до меня донесся слабый голос!
— Кто это?
Я знала, что миссис Рид уже много дней не произносила ни слова. Неужели жизнь возвратилась к ней? Я подошла к кровати.
— Это я, тетя Рид.
— Кто я? — последовал ответ. — Кто вы? — Она смотрела на меня с удивлением и с некоторой тревогой, но взгляд ее был сознателен. — Я вас не знаю. Где Бесси?
— Она у себя, тетя.
— Тетя, — повторила она. — Кто зовет меня тетей? Вы не из семьи Гибсонов, и все-таки я знаю вас — это лицо, эти глаза и лоб мне очень знакомы; ну да, вы похожи на… Джен Эйр!
Я промолчала. Я боялась вызвать нервное потрясение у больной, назвав себя.
— Да, — продолжала она, — боюсь, что это ошибка. Мое воображение обманывает меня. Я хотела бы видеть Джен Эйр, потому нахожу сходство там, где его нет. Да и потом за восемь лет она, наверное, изменилась.
Я принялась мягко убеждать ее, что я и есть та, кого она хотела бы видеть. И убедившись, что она меня понимает и что сознание ее вполне ясно, я рассказала ей, как Бесси послала за мной своего мужа в Торнфильд.
— Я знаю, что очень больна, — сказала миссис Рид, помолчав. — Несколько минут тому назад я хотела повернуться и почувствовала, что не могу двинуть ни одним членом. Мне нужно облегчить душу перед смертью. То, что кажется нам пустяками, когда мы здоровы, лежит камнем на сердце в такие минуты, как сейчас. Здесь ли сиделка, или мы с тобой одни в комнате?
Я успокоила ее, сказав, что мы одни.
— Так вот. Я вдвойне виновата перед тобой, и теперь очень сожалею об этом. Первая моя вина в том, что я нарушила обещание, данное моему мужу: вырастить тебя как собственного ребенка; другая вина… — она смолкла. — В конце концов, может быть, теперь это не так важно, — пробормотала она про себя. — И потом… я могу поправиться, стоит ли так унижаться перед ней?
Она сделала усилие, желая повернуться, но это ей не удалось. Выражение ее лица изменилось. Казалось, она прислушивается к чему-то в себе, что могло быть началом близящейся агонии.
— Да, с этим нужно покончить. Передо мною вечность; лучше, если я скажу ей. Подойди к моему комоду, открой его и вынь письмо, которое ты там увидишь.
Я выполнила ее желание.
— Прочти письмо, — сказала она.
Оно не было пространным, и вот что оно содержало:
«Сударыня!
Не будете ли вы так добры прислать мне адрес моей племянницы Джен Эйр и сообщить, как она живет? Я намерен написать ей, чтобы она приехала ко мне на Мадейру. Провидение благословило мои труды, и я приобрел состояние, а так как я не женат и бездетен, то хотел бы усыновить ее при своей жизни и завещать ей все, что после меня останется.
Примите уверения, сударыня, и т.д. и т.д.
Джон Эйр. Мадейра».
Дата на письме показывала, что оно написано три года назад.
— Отчего я никогда не слышала об этом? — спросила я.
— Оттого, что я так возненавидела тебя, что была не в силах содействовать твоему благосостоянию. Я не могла забыть, как ты вела себя со мной, Джен, ту ярость, с которой ты однажды на меня набросилась, твой тон, когда ты заявила мне, что ненавидишь меня больше всех на свете, твой недетский взгляд и голос, когда ты уверяла, что при одной мысли обо мне все в тебе переворачивается и что я обращаюсь с тобой жестоко и несправедливо. Я не могу забыть того, что испытала, когда ты вскочила и излила на меня весь яд своей души: я почувствовала такой ужас, как если бы животное, которое я толкнула или побила, вдруг посмотрело на меня человеческими глазами и прокляло меня человеческим голосом. Дай мне воды. О, только поскорей!
— Дорогая миссис Рид, — сказала я, поднося к ее губам воду, — забудьте обо всем этом, изгоните все из своей памяти. Простите мне мои страстные речи, я была тогда ребенком, ведь с тех пор прошло восемь или девять лет.
Она не ответила, но, выпив воды и переведя дух, продолжала:
— Говорю тебе, я была не в силах это забыть и отомстила тебе. Я не могла допустить, чтобы ты была усыновлена своим дядей и жила в богатстве и роскоши, и я написала ему. Очень сожалею, писала я, что вынуждена огорчить его, но Джен Эйр умерла. Она стала жертвой тифозной эпидемии в Ловуде. А теперь поступай, как хочешь. Пиши ему и опровергни мои слова, уличи меня во лжи как можно скорей. Ты, наверное, родилась мне на горе, и мой последний час омрачен воспоминанием о проступке, который я совершила только из-за тебя.
— Если бы я могла уговорить вас больше не думать об этом, тетя, и отнестись ко мне с добротой и простить меня…
— У тебя очень дурной характер, и я до сих пор отказываюсь понимать тебя. Как могла ты в течение девяти лет спокойно и терпеливо выносить все, а потом вдруг точно с цепи сорвалась? Этого я не в силах понять.
— У меня вовсе не такой плохой характер, как вы думаете. Я вспыльчива, но не злопамятна. Много раз, когда я еще была ребенком, я готова была полюбить вас, если бы вы сделали хоть шаг мне навстречу; и сейчас я искренне хочу помириться с вами. Поцелуйте меня, тетя.
Я приблизила свою щеку к ее губам, но она не коснулась ее. Она сказала, что ей трудно дышать оттого, что я наклонилась над ней, и снова потребовала воды. Когда я опустила ее обратно на подушки, — пока она пила, мне пришлось поднять ее и поддерживать, — я прикрыла ее ледяную руку своей рукой. Ослабевшие пальцы отстранились от моего прикосновения. Тускнеющие глаза избегали моих глаз.
— Любите меня или ненавидьте, как хотите, — сказала я наконец, — но я вас прощаю от всей души. Просите прощения у бога, и да будет с вами мир.
Бедная страдалица! Слишком поздно ей было меняться. Она всю жизнь ненавидела меня и так и умерла с этим чувством.
Вошла сиделка, а за нею Бесси. Однако я помедлила еще с полчаса, надеясь, что уловлю какой-нибудь проблеск дружественных чувств. Но я ждала напрасно. Миссис Рид вскоре снова впала в забытье и больше не приходила в себя. В полночь она умерла. Я не была при этом, чтобы закрыть ей глаза; не было возле нее и дочерей. Нам только на другое утро пришли сказать, что все кончено. Она уже лежала на столе, когда Элиза и я пошли посмотреть на нее. Джорджиана, разразившись громкими рыданиями, сказала, что боится подойти к матери. И вот передо мной лежало окоченевшее и неподвижное, некогда столь сильное и деятельное тело Сары Рид. Ее суровые глаза были прикрыты холодными веками, но лоб и черты лица ее хранили выражение непримиримости. Странные и мрачные чувства вызывало во мне это неподвижное тело. Я смотрела на него с невыразимой тоской. Напрасно я искала в себе более теплых или нежных чувств — жалость, надежду, покорность неизбежному. Меня волновала не скорбь о понесенной утрате, а лишь тревога за ее судьбу. Без слез, но с ужасом взирала я на эту смерть!
Элиза равнодушно глядела на мать. Помолчав несколько мгновений, она заметила:
— При таком сложении она могла бы дожить до глубокой старости. Заботы сократили ей жизнь. — На миг ее губы искривились, но это скоро прошло, она повернулась и вышла из комнаты. Я последовала за ней. Никто из нас не проронил ни слезинки.
Глава ХXII
Мистер Рочестер отпустил меня всего на неделю. Однако прошел целый месяц, прежде чем мне удалось выехать из Гейтсхэда. Я хотела его покинуть немедленно после похорон, но Джорджиана попросила меня остаться до ее отъезда в Лондон, куда она, наконец, была приглашена своим дядей, мистером Гибсоном, приехавшим на похороны сестры и занявшимся семейными делами. Джорджиана заявила, что ни за что не останется одна с Элизой: от нее она не видит ни сочувствия в своем горе, ни защиты в своих страхах, ни помощи в своих приготовлениях; поэтому я вняла ее малодушным просьбам и эгоистическим жалобам и сделала для нее все, что было в моих силах, обшила ее и уложила ее туалеты. Однако, пока я работала, Джорджиана бездельничала; и я говорила себе: «Если бы нам было суждено навсегда остаться вместе, кузина, все бы пошло по-другому. Я не стала бы мириться с ролью кроткой самаритянки. Я назначила бы тебе твою долю работы и заставила бы выполнять ее, или дело осталось бы незаконченным. Кроме того, тебе пришлось бы оставлять про себя хотя бы часть твоих скучных, притворных жалоб. Только оттого, что эта наша встреча мимолетна и произошла при столь мрачных обстоятельствах, соглашаюсь я терпеливо и спокойно исполнять твои прихоти».
Наконец Джорджиана уехала; но теперь Элиза стала настойчиво просить, чтобы я погостила еще неделю. Она утверждала, что ее планы требуют всего ее времени и внимания; она намеревалась уехать куда-нибудь в далекие края и поэтому проводила весь день в своей комнате, заперев дверь на задвижку, и там укладывала чемоданы, разбирала вещи в комодах, жгла бумаги и ни с кем не виделась. Она просила меня вести хозяйство, принимать посетителей и отвечать на соболезнующие письма.
Наконец, однажды утром, она сказала мне, что я свободна.
— И я очень обязана вам, — добавила она, — за ваши ценнейшие услуги и тактичное поведение! Какая разница — жить с таким человеком, как вы, или с Джорджианой: вы делаете свое дело и ни на ком не виснете. Завтра, — продолжала она, — я покидаю Англию. Я решила поселиться под Лиллем — это нечто вроде монастыря; там я могу жить тихо и спокойно. Я решила посвятить свое время изучению догматов католической церкви, а также ознакомлению с ее обрядами; если эта религия, как я надеюсь, удовлетворит мои стремления к достойной и упорядоченной жизни, я приму учение римской церкви и, вероятно, уйду в монастырь.
Я не выразила удивления по поводу ее планов и не пыталась отговорить ее. «Это как раз по тебе, — подумала я, — ну что ж, скатертью дорога».
Когда мы расставались, она сказала:
— Прощайте, кузина Джен Эйр. Желаю вам всего хорошего. Вы все-таки не лишены здравого смысла.
Я ответила:
— И вы тоже, кузина Элиза. И все-таки через год-два вы будете заживо погребены в каком-нибудь французском монастыре. Однако это не мое дело. И если вам это нравится, так и поступайте.
— Вы совершенно правы, — отозвалась Элиза.
На этих словах мы расстались, чтобы идти каждая своей дорогой.
Так как мне больше не представится случая говорить об обеих сестрах, то упомяну здесь же, что Джорджиана сделала блестящую партию, выйдя замуж за богатого, но очень потасканного джентльмена, Элиза же приняла постриг и в настоящее время является настоятельницей монастыря, где она была послушницей и которому пожертвовала все свое состояние.
Я не знала, что чувствуют люди, возвращаясь домой после долгого или короткого отсутствия: я никогда не испытывала этого ощущения. Когда я была еще ребенком, я знала, что значит возвращаться «домой» в Гейтсхэд после длинной прогулки и ожидать, что сейчас тебя будут бранить за твой озябший или угрюмый вид; и позднее — что значит возвращаться из церкви «домой» в Ловуд, ощущая мучительную потребность в сытном обеде и отрадном тепле и зная, что ни того, ни другого не будет. Ни одно из этих возвращений не могло быть ни приятным, ни желанным; никакое чувство не влекло меня тогда, подобно магниту, к какому-нибудь определенному месту, становясь все сильнее по мере того, как я к нему приближалась. Каково же будет мое возвращение в Торнфильд?
Путешествие мое было скучным, очень скучным. Я проехала пятьдесят миль в первый день и ночевала в гостинице, на второй день — опять пятьдесят миль. В течение первого дня я не переставала думать о миссис Рид и ее последних минутах: я видела перед собой ее искаженное, бледное лицо, слышала странно изменившийся голос, вновь представляла себе день похорон, гроб, заупокойную службу, вереницу одетых в черное арендаторов и слуг, — родственников было очень мало, — мрачные своды склепа, безмолвие церкви, торжественность богослужения. Затем мои мысли перешли к Элизе и Джорджиане; я видела одну в центре бального зала, другую в монашеской келье и размышляла об их характерах и склонностях, делавших их столь несхожими между собой. Когда я вечером приехала в большой город, эти мысли рассеялись; ночь дала им другое направление. Я легла в постель, и воспоминания уступили место мыслям о том, что ждет меня впереди.
Итак, я возвращаюсь в Торнфильд. Но сколько мне удастся там еще прожить? Недолго, в этом я была уверена. Миссис Фэйрфакс писала мне, что за время моего отсутствия гости разъехались; мистер Рочестер отбыл в Лондон три недели назад, его ждали домой еще на прошлой неделе. Миссис Фэйрфакс предполагала, что он уехал в связи с предстоящей свадьбой, так как говорил что-то о приобретении нового экипажа; она добавляла, что мысль о его женитьбе на мисс Ингрэм все еще кажется ей странной. Но, судя по тому, что говорят все кругом, и по тому, что она сама наблюдает, надо полагать, что событие это скоро свершится. «Странно было бы сомневаться в этом, — добавила я мысленно. — Я нисколько не сомневаюсь».
Предо мной вставал вопрос: куда же я поеду? Всю ночь мне снилась мисс Ингрэм, а под утро, в особенно ярком сновидении, я видела, как она запирает передо мной ворота Торнфильда и указывает на незнакомую мне дорогу; а мистер Рочестер стоит тут же, скрестив руки, и насмешливо улыбается, как будто издеваясь и над ней и надо мной.
Я не написала миссис Фэйрфакс точно о дне своего возвращения, и за мной не выслали в Милкот экипажа. Меня больше привлекала спокойная одинокая прогулка. И вот, оставив чемодан на постоялом дворе, я в тихий июньский вечер, около шести часов, вышла на дорогу, ведущую к Торнфильду; она тянулась полями, и ею редко пользовались.
Летний вечер не был ни ярким, ни сверкающим. Он был мягкий и тихий. По обеим сторонам дороги косцы сгребали сено. Небо, хотя и не безоблачное, сулило ясную погоду; его голубизна, кое-где проступавшая сквозь легкий облачный покров, казалась особенно светлой и спокойной. Закат алел теплым сиянием, дождевые тучи не омрачали его. Казалось, среди мраморных облаков горит огонь, зажженный на алтаре, и через эту завесу просвечивает золотистый багрянец.
Чем меньше было расстояние, остававшееся до Торнфильда, тем радостней становилось у меня на душе, так что я даже вдруг остановилась и спросила себя: что означает эта радость? Ведь я же не домой возвращаюсь, не на постоянное свое место, не туда, где близкие друзья скучают по мне и ждут моего приезда. «Конечно, миссис Фэйрфакс встретит тебя своей спокойной, приветливой улыбкой, — говорила я себе, — а маленькая Адель будет хлопать в ладоши и прыгать вокруг; но ты прекрасно знаешь, что думаешь не о них, а о ком-то другом, кто не думает о тебе».
Но разве юность не упорна и не безрассудна? И безрассудство твердило мне, что мне радостно будет опять увидеть мистера Рочестера, независимо от того, взглянет ли он на меня; и добавляло: «Спеши, спеши, будь с ним, пока это тебе дано, ведь еще несколько дней или недель самое большее, и вы расстанетесь навек». И, судорожно подавив в себе какое-то еще неведомое мне отчаянье, какое-то новое тяжелое чувство, которого я не могла и не хотела в себе допустить, я поспешила вперед.
В торнфильдских лугах тоже, наверное, сгребают сено, а может быть, косцы уже кончили работу и возвращаются домой с граблями на плечах, — именно сейчас, когда возвращаюсь и я. Впереди еще одно-два поля, затем только перейти дорогу — и я окажусь перед воротами Торнфильда. Как пышно цветет шиповник в этом году! Но мне некогда нарвать букет, надо торопиться домой. Я миновала высокий куст шиповника, протянувший густолиственные цветущие ветви над тропинкой. Вот уже передо мной знакомая изгородь — и вдруг я увидела мистера Рочестера, который сидел с записной книжкой и карандашом в руках и что-то писал.
Нет, это не привидение, и все-таки каждый нерв мой трепещет. На миг я теряю власть над собой. Что это значит? Я не ожидала, что буду так дрожать при встрече с ним, что голос откажется мне служить или что мной овладеет такое волнение. Я сейчас же поверну обратно, я не допущу в себе такого безумия. Есть и другая дорога к дому. Но если бы я знала даже двадцать других дорог, было уже поздно: он увидел меня.
— Алло! — крикнул он и отложил книжку и карандаш. — Так вот вы наконец! Подойдите сюда, пожалуйста!
Кажется, я подхожу, но как, и сама не знаю. Я едва сознаю свои движения и забочусь только об одном — казаться спокойной, а главное — подчинить себе выражение своего лица, которое, я чувствую, упорно не повинуется мне и стремятся выразить то, что я твердо решила скрыть. Но у меня есть вуаль, и я опускаю ее. Может быть, мне все-таки удастся сдержать себя и выйти с достоинством из этого положения.
— Так это Джен Эйр? И вы идете пешком из Милкота? Ну, конечно, одна из ваших проделок! Не послать за экипажем, который, громыхая колесами, привезет вас, как обыкновенную смертную, — нет, вы предпочитаете незаметно пробраться к себе домой вместе с сумерками, точно вы греза или тень. Где вы, черт вас возьми, пропадали весь этот месяц?
— Я была у своей тети, сэр, она умерла.
— Ответ в стиле Джен Эйр. Святители и ангелы господни! Она прилетела из другого мира, из дома, где побывала смерть, и возвещает мне это, встретив меня наедине в сумерках. Если бы я смел, я прикоснулся бы к вам, чтобы убедиться, материальное вы существо или тень, о легкокрылый эльф!.. Но скорее я мог бы поймать блуждающий болотный огонь, чем вас. Изменница, изменница! — добавил он, помолчав. — Целый месяц ее не было возле меня! И она, конечно, совершенно забыла обо мне, клянусь!
Я знала, что для меня будет радостью снова свидеться с моим хозяином, невзирая на мучительный страх, что он скоро перестанет быть моим хозяином, и на уверенность, что я ничего для него не значу. Но у мистера Рочестера была такая способность распространять вокруг себя радость (или так по крайней мере мне казалось), что даже и те крохи, которые случайно перепадали мне, бедной перелетной птице, казались мне пиршеством. Его последние слова были для меня бальзамом. Из них как будто явствовало, что ему в какой-то мере важно, забыла я его или нет. И он назвал Торнфильд моим домом. О, если бы он был моим!
Мистер Рочестер не вставал со ступеньки, а мне не хотелось просить его, чтобы он посторонился. Я осведомилась, был ли он в Лондоне.
— Да. Как вы узнали об этом, разве вы ясновидящая?
— Миссис Фэйрфакс написала мне в письме.
— Она сообщила вам, зачем я еду?
— О да, сэр. Об этом знают все.
— Вы должны посмотреть коляску, Джен, и сказать, подходит ли она для миссис Рочестер. И будет ли моя невеста похожа на настоящую королеву, когда откинется на пунцовые подушки. Мне хотелось бы, Джен, чтобы моя внешность хоть немного соответствовала ее внешности. Скажите мне вы, фея, не можете ли вы с помощью какого-нибудь волшебного зелья или чего-нибудь в этом роде превратить меня в красивого мужчину?
— Никакое зелье тут не поможет, сэр.
А мысленно я добавила: «Единственное волшебство, которое подействует, — это любящее сердце. А для него вы достаточно красивы. Или вернее — ваша суровость пленительнее всякой красоты».
Мистер Рочестер иногда угадывал мои мысли с необъяснимой проницательностью. И в данном случае он не обратил внимания на мои слова, но улыбнулся мне своей особенной улыбкой, которой улыбался в очень редких случаях. Казалось, она слишком хороша для обыденной жизни. В ней чувствовалась доброта, согревшая меня сейчас подобно солнечному лучу.
— Проходите, Дженет, — сказал он, пропуская меня. — Идите домой, и пусть ваши усталые ножки отдохнут у дружеского порога.
Мне оставалось только молча послушаться его. Не было никакой нужды в дальнейших разговорах. Но какая-то неведомая сила удержала меня и заставила обернуться. И я сказала, или что-то во мне сказало за меня и вопреки моему желанию:
— Благодарю вас, мистер Рочестер, за вашу великую доброту. Я почему-то рада этому возвращению к вам. Там, где вы, — мой дом, мой единственный дом.
И я зашагала прочь с такой быстротой, что он не мог бы меня догнать, если бы даже и пытался.
Увидев меня, маленькая Адель пришла в восторг, а миссис Фэйрфакс встретила меня со своей обычной приветливостью. Ли заулыбалась, и даже Софи ласково сказала мне: «Bon soir!»[29]. Это было очень приятно. Нет большего счастья, чем чувствовать, что люди любят тебя и радуются твоему присутствию.
В этот вечер я решила не заглядывать в будущее, не слушать того голоса, который напоминал мне о близости разлуки и о надвигающемся горе. Когда мы напились чаю, миссис Фэйрфакс принялась за свое вязанье; я села около нее на низенькой скамеечке, а Адель, став на колени, тесно прижалась ко мне. Казалось, взаимная привязанность охватила нас золотым обручем мира. Я вознесла безмолвную молитву о том, чтобы разлука не была такой скорой и не развела нас в разные стороны. Но когда неожиданно вошел мистер Рочестер и, взглянув на нас, залюбовался этой столь дружественной группой, когда он сказал, что, вероятно, старушка теперь успокоилась, так как ее приемная дочка возвратилась, и добавил, что Адель вероятно, est prete a croquer sa petite maman Anglaise[30], у меня вдруг возникла смутная надежда, что, может быть, и после своего брака он оставит нас где-нибудь вместе под своим покровительством и не лишит нас счастья иногда видеться с ним.
Первые две недели после моего возвращения прошли относительно спокойно. Никто не вспоминал о близкой свадьбе хозяина, и я не видела никаких приготовлений к этому событию. Почти каждый день я спрашивала миссис Фэйрфакс, не слышала ли она чего-нибудь определенного, — и всегда ее ответ был отрицательным. Однажды она сказала мне, что прямо спросила мистера Рочестера, скоро ли он введет в дом молодую жену, — но он ответил только какой-то шуткой и одним из своих странных взглядов, поэтому она совершенно не знает, что и думать.
Одно обстоятельство особенно удивляло меня: всякие посещения Ингрэм-парка, всякие поездки туда и сюда прекратились. Правда, до именья Ингрэмов было двадцать миль и оно находилось на границе другого графства, но что значит такое расстояние для пылкого влюбленного! Столь опытный и неутомимый всадник, как мистер Рочестер, мог съездить туда за одно утро. И я уже лелеяла надежду, для которой не было никаких оснований: может быть, дело расстроилось? или слухи были неверны? а может быть, невеста разонравилась жениху или жених невесте? Обычно, глядя на лицо своего хозяина, я видела на нем следы печали или гнева. Никогда еще оно не было таким безоблачно ясным, таким светлым и добрым, как в эти две недели. И если я временами, играя в его присутствии с Аделью, вдруг становилась печальной, он даже заметно веселел. Никогда он не вызывал меня к себе так часто, как в эти дни, никогда не был ласковее со мной, и — увы! — никогда еще я так сильно не любила его!
Глава XXIII
Над Англией стояло сияющее лето. Наша омываемая морями страна еще не видела, чтобы столько дней подряд небо оставалось таким ясным и солнце таким лучезарным. Казалось, будто погожие деньки, словно стая чудесных перелетных птиц, перекочевали к нам прямо из Италии и опустились отдохнуть на скалах Альбиона. Сено все было убрано. После покоса поля вокруг Торнфильда казались выстриженными. Дороги были белы и горячи, деревья стояли в пышном летнем уборе, густолиственные леса и рощи красивой темной каймой окружали залитые солнцем луга.
Как-то вечером Адель, весь день собиравшая землянику, легла спать чуть не с курами. Я подождала, пока она заснет, затем вышла во двор и направилась в сад.
Наступал самый сладостный час суток. «Угасло дня сверкающее пламя», и роса свежими каплями пала на жаждущие поля и опаленные холмы. Закат был безоблачным, и теперь на западе разливался торжественный багрянец. Он горел пурпуром в одной точке, на вершине горы, а затем расстилался по небу, охватывая всю западную его половину и становясь все мягче и мягче. На востоке было свое очарование. Небо там было темно-синее, с одним-единственным скромным украшением — восходила одинокая звезда; скоро должна была появиться и луна, но она еще пряталась за горизонтом.
Я расхаживала некоторое время по террасе; но скоро из окна до меня донесся хорошо знакомый мне тонкий аромат — аромат сигары; я увидела, что дверь на террасу из библиотеки слегка приоткрыта. Может быть, оттуда за мной наблюдали? Поэтому я отправилась во фруктовый сад. Это было самое уединенное и восхитительное место во всем парке. Там росло множество деревьев и цветов; с одной стороны сад был защищен высокой стеной, а с другой тянулась буковая аллея, отделявшая его от лужайки. Повалившийся забор служил единственной преградой между ним и тихими полями. К этому забору вела извилистая аллея, обсаженная лаврами, и в конце ее, под высоким каштаном, стояла скамья. Здесь можно было бродить в полном уединении. И так сладко пахло медвяной росой, и такое царило безмолвие в этих все густевших сумерках, что мне казалось, я не в силах буду уйти отсюда. Но когда я бродила среди цветов и плодовых деревьев в верхней части сада, озаренного светом восходящей луны, что-то вдруг заставило меня остановиться. Это было не звук, не чье-то появление, но снова тот же предостерегающий аромат.
Вокруг меня, как ладан, благоухали шиповник и жасмин, но встревоживший меня аромат исходил не от листьев и не от цветов. Это был — я сразу узнала его — запах сигары мистера Рочестера. Я оглянулась вокруг и прислушалась. Я видела ветви деревьев, обремененные наливающимися плодами, слышала соловья, заливавшегося в роще за полмили отсюда. Но никого не было видно, никто не шел по дорожке. Однако аромат все усиливался. Зная, что надо бежать, я бросилась к калитке, которая вела на участок с молодыми насаждениями, — и увидела входящего мистера Рочестера. Я нырнула в хвойную заросль. Он, наверно, пришел не надолго, и если не шуметь, он не заметит меня.
Но нет: вечерний час, видимо, так же привлекает его, как и меня. И ему также нравится этот старый сад. Он медленно идет по дорожке, то приподнимая ветку крыжовника с крупными, как слива, ягодами, то срывая ягодку со шпалерной вишни, то останавливаясь над цветущим кустом, чтобы вдохнуть аромат лепестков или полюбоваться каплями росы на них. Мимо пролетает большая ночная бабочка, она садится на травинку возле ноги мистера Рочестера. Он видит ее и наклоняется, чтобы рассмотреть.
Теперь он стоит спиной ко мне и занят бабочкой; если пройти неслышно, мне, может быть, удастся ускользнуть, решила я.
Я сделала несколько шагов по газону, чтобы шорох гравия не выдал меня. Мистер Рочестер стоял среди клумб, на расстоянии одного-двух футов от того места, где мне нужно было пройти. Бабочка, видимо, целиком завладела его вниманием. «Я пройду благополучно», — подумала я, но когда переступила через его длинную тень, которую отбрасывала на дорожку взошедшая луна, еще не успевшая подняться высоко, он сказал спокойно и не оборачиваясь:
— Джен, подите сюда и посмотрите на это создание.
Я двигалась совершенно беззвучно, он стоял ко мне спиной, неужели его тень почувствовала меня? Я вздрогнула и подошла к нему.
— Посмотрите на ее крылья, — сказал он. — Такие бабочки есть в Вест-Индии. Не часто увидишь в Англии такую большую и яркую ночную бабочку. Ну вот, она и упорхнула.
Бабочка улетела. Я тоже сделала несколько робких шагов, но мистер Рочестер последовал за мной, и когда мы дошли до калитки, он сказал:
— Вернитесь. В такую чудесную ночь стыдно сидеть дома. Можно ли хотеть спать, когда солнечный закат встречается с восходом луны?
Обычно я довольно находчива, но бывают мгновения, когда я совершенно теряюсь. И, как нарочно, это случается со мной в самые критические минуты, когда уместное слово или благовидный предлог могли бы выручить меня из трудного положения. Я не хотела гулять в столь поздний час вдвоем с мистером Рочестером по темному саду. Но, испытывая крайнее замешательство, я все-таки нерешительно следовала за ним, тщетно стараясь выдумать какой-нибудь предлог, чтобы уйти. Однако он был так спокоен и сдержан, что мне вдруг стало стыдно за мое смятение. Если во всем этом было что-то дурное, оно, видимо, заключалось только во мне самой. Сам же он ни о чем не подозревал и был совершенно спокоен.
— Джен, — заговорил он, когда мы вошли в обсаженную лаврами аллею и медленно направились к обвалившемуся забору и каштану, — хорошо летом в Торнфильде, правда?
— Да, сэр.
— Вы, наверное, все-таки успели привыкнуть к этому дому? Особенно вы, кто так чувствует красоту природы и так умеет привязываться.
— Да, я привязалась к нему.
— И кроме того, не знаю каким образом, но вы привыкли к этому легкомысленному существу, к маленькой Адели. И даже к простодушной миссис Фэйрфакс.
— Да сэр; по-разному, но я полюбила их обеих.
— И вам не хотелось бы расстаться с ними?
— Да.
— Жаль, — сказал он, вздохнув, и замолчал. — Так всегда бывает в жизни, — продолжал он после паузы. — Не успеешь привязаться к какому-нибудь приятному, спокойному месту, и уже какой-то голос заставляет тебя встать и удалиться из него, так как час отдыха миновал.
— Мне пора удалиться, сэр? — спросила я. — Мне надо покинуть Торнфильд?
— Вероятно, надо, Джен. Мне очень жаль, Джен… но, видимо, вам придется уехать.
Это был удар. Но я не дала ему сразить меня.
— Что ж, сэр, я буду готова, как только вы отдадите приказ уезжать.
— Приказ уже отдан. Я даю вам его сегодня вечером.
— Значит, вы все-таки женитесь, сэр?
— Без-услов-но. Вот имен-но. Со свойственной вам проницательностью вы попали в самую точку.
— И скоро, сэр?
— Очень скоро, моя… то есть мисс Эйр. Вы помните, Джен, наш разговор в первый раз, когда я или слухи оповестили вас о том, что я намерен надеть на свою шею холостяка священное ярмо и перейти в блаженное состояние супружества, то есть прижать к моей груди мисс Ингрэм? (Правда, чтобы обхватить ее, нужны длинные руки; но это не беда: чем объемистее такой прекрасный предмет, как моя красавица Бланш, тем лучше.)
Ну, так вот. Я говорю… Слушайте меня, Джен! Ведь вы же не для того отвернулись, чтобы найти еще одну ночную бабочку?.. Так вот, я хочу напомнить вам, что именно вы первая сказали, с той чуткостью, которую я так уважаю в вас, с тем предвидением, осторожностью и смирением, которые так украшают ваше ответственное и зависимое положение, что в случае, если я женюсь на мисс Ингрэм, и вам, и маленькой Адели лучше убраться отсюда. Я ни словом не заикнусь о той обиде, которую вы этим своим предложением наносите моей возлюбленной. Когда вы будете далеко отсюда, Дженет, постараюсь забыть об этом. Я буду помнить только о мудрости вашего предложения; а она такова, что я решил последовать вашему совету. Адель поступит в школу, а вам, мисс Эйр, нужно найти новое место.
— Хорошо, сэр. Я сейчас же дам объявление, а до тех пор, надеюсь… — Я хотела сказать: надеюсь, что смогу остаться здесь, пока найду себе какое-нибудь убежище. Но я замолчала, так как чувствовала себя не в силах произнести столь длинную фразу: мой голос не слушался меня.
— Примерно через месяц, надеюсь, я буду уже женат, — продолжал мистер Рочестер. — А тем временем я сам займусь подысканием для вас какой-нибудь работы и убежища.
— Благодарю вас, сэр, мне очень жаль, что я вас затрудняю.
— О, пожалуйста, не извиняйтесь! Я считаю, что любая из моих служащих, которая так прекрасно исполняет свои обязанности, как вы, имеет некоторое право на мое участие в устройстве ее дальнейшей судьбы. Кстати, я слышал от своей будущей тещи относительно места, которое для вас, по-моему, подойдет: вам придется взять на себя воспитание пяти дочерей миссис Дионайзиус О'Голл из Биттерн-лоджа, Коннот, Ирландия. Надеюсь, вам понравится Ирландия; говорят, люди там необыкновенно сердечны.
— Это очень далеко, сэр.
— Пустяки. Такая девушка, как вы, не должна пугаться ни расстояния, ни путешествия.
— Не путешествия, а расстояния. И потом — море. Это такая преграда…
— Преграда между чем, Джен?
— Между мною и… Англией… И Торнфильдом, и…
— И чем еще?
— И вами, сэр.
Это вырвалось у меня невольно, и так же, помимо моей воли, слезы хлынули из моих глаз. Разумеется, я плакала беззвучно и старалась не всхлипывать, но мысль о миссис О'Голл из Биттерн-лоджа сжала холодом мое сердце. И еще холодней стало мне при мысли о пенистых волнах, которым, видимо, суждено было, как пропастью, разлучить меня с моим хозяином, рядом с которым я сейчас шла; но самой тяжкой была мысль о еще более непроходимой пропасти — богатстве, сословном положении и общепринятых взглядах, которые отделяли меня от того, к кому меня так естественно и неодолимо влекло.
— Это очень далеко, — повторила я.
— Далеко, не спорю. И когда вы уедете в Биттерн-лодж, Коннот, Ирландия, я больше никогда не увижу вас, Джен. Это бесспорно, так как эта страна никогда особенно не привлекала меня. Мы ведь были добрыми друзьями, Джен, верно?
— Да, сэр.
— А когда друзьям угрожает разлука, им хочется провести вдвоем те немногие часы, которые им остались. Давайте поговорим спокойно о путешествии и о разлуке хоть полчаса, пока звезды не загорятся на небе. Вот каштан, и вот скамья вокруг его старого ствола. Давайте посидим здесь мирно сегодня вечером, хотя бы нам больше никогда не было суждено сидеть рядом. — Он опустился на скамью и усадил меня. — До Ирландии очень далеко, Дженет, и мне жаль, что приходится отправлять моего маленького друга в такое утомительное путешествие; но если иначе нельзя, что же делать? Как вы думаете, Джен, между нашими душами есть какое-то родство?
Я не могла решиться на ответ в эту минуту, слезы душили меня.
— Иногда, — продолжал он, — у меня бывает странное чувство по отношению к вам. Особенно когда вы вот так рядом со мной, как сейчас. Мне кажется, что от моего сердца тянется крепкая нить к такой же точке в вашем маленьком существе. Но если между нами ляжет бурное море и еще сотни две миль, то я боюсь, что эта нить порвется. И мне грустно оттого, что тогда мое сердце будет кровоточить. Что касается вас, то вы меня забудете.
— Я вас никогда не забуду, сэр, вы это знаете…
Нет, я не могла продолжать.
— Джен, вы слышите, как соловей поет в роще? Послушайте!
Я слушала и судорожно рыдала. Я не в силах была сдерживать свои чувства. Я вынуждена была дать волю слезам, так как отчаяние потрясало мое существо. И когда я, наконец, заговорила, то лишь для того, чтобы сказать:
— Лучше бы мне не родиться на свет или по крайней мере никогда не приезжать в Торнфильд!
— Оттого, что вам жаль расстаться с ним?
Глубокое волнение, пробужденное печалью и любовью, все сильнее овладевало мной, рвалось наружу, требовало своих прав, хотело жить, взять верх над всем. Да, — и заговорить во весь голос!
— Мне больно уезжать из Торнфильда! Я люблю Торнфильд! Люблю оттого, что я жила в нем полной и радостной жизнью, — по крайней мере иногда. Здесь меня не запугивали, здесь меня не унижали, заставляя прозябать среди ничтожных людишек, не исключали из мира, где есть свет и живая жизнь, и высокие чувства, и мысли. Я говорила как равная с тем, кого я почитала, кем восхищалась; я имела возможность общаться с человеком незаурядным и сильным, человеком широкого ума. Я узнала вас, мистер Рочестер; и меня повергает в тоску и ужас мысль о том, что я буду оторвана от вас навеки. Я понимаю, что должна уехать, но это для меня все равно что умереть.
— А почему вы должны уехать? — спросил он вдруг.
— Как? Разве вы сами не сказали мне почему?
— Какую же я вам привел причину?
— Причина — мисс Ингрэм, красавица аристократка, ваша невеста!
— Моя невеста! Какая невеста? У меня нет никакой невесты!
— Ну, так будет.
— Да, будет! Будет! — Он стиснул зубы.
— Значит, я должна уехать; вы сами сказали.
— Нет, вы останетесь! Клянусь, что вы останетесь! И так и будет!
— А я вам говорю, что уеду! — возразила я почти со страстью. — Неужели вы думаете, что я могу остаться и превратиться для вас в ничто? Или вы думаете, что я автомат, бесчувственная машина и можно вырвать у меня мой насущный хлеб и лишить меня глотка живительной воды? Вы думаете, что если я небогата и незнатна, если я мала ростом и некрасива, то у меня нет души и нет сердца? Вы ошибаетесь! У меня такая же душа, как и у вас, и, безусловно, такое же сердце. Если бы бог дал мне немножко красоты и большое богатство, вам было бы так же трудно расстаться со мной, как мне теперь расстаться с вами. Я говорю с вами сейчас, презрев обычаи и условности и даже отбросив все земное; это дух мой говорит с вашим духом, словно мы уже прошли через врата могилы и предстоим перед престолом божьим, равные друг другу, — как оно и есть на самом деле.
— Так оно и есть, — повторил мистер Рочестер. — Да, — добавил он, заключил меня в объятия, привлек к себе на грудь и прижался губами к моим губам, — так оно и есть, Джен!
— Да, так, сэр, — подхватила я, — и все-таки не так, потому что вы женатый человек, или все равно что женатый, и вы связали себя с существом, не достойным вас, к которому вы не чувствуете симпатии и которое, я уверена, вы по-настоящему не любите. Ведь я слышала, как вы насмехались над ней. Я бы презирала такой союз! А поэтому я лучше вас! Пустите меня!
— Куда, Джен? В Ирландию?
— Да, в Ирландию. Я вам все высказала и теперь могу ехать куда угодно.
— Джен, потише, не вырывайтесь, как дикая птичка, которая в борьбе теряет свои перышки.
— Я не птица, и никакие сети не удержат меня, я свободное человеческое существо, с независимой волей, которая теперь требует, чтобы я вас покинула.
Я сделала еще усилие и вырвалась из его объятий. Теперь я стояла перед ним выпрямившись.
— И ваша свободная воля решит вашу судьбу, — сказал он. — Я предлагаю вам руку и сердце и все, чем я владею.
— Вы просто шутите, и мне странно слушать вас.
— Я прошу вас пройти рядом со мной через жизнь — быть моим вторым я, моим лучшим земным спутником.
— Вы уже избрали себе спутницу, к ней и обращайтесь.
— Джен, помолчите минутку, вы слишком возбуждены. Я тоже помолчу.
По лавровой аллее пронесся порыв ветра, и ветки каштана затрепетали. Ветер умчался дальше, дальше, в бесконечное пространство и там стих. Единственные звуки, нарушавшие тишину этой ночи, были трели соловья. Слушая их, я вновь заплакала. Мистер Рочестер сидел молча, ласково и серьезно глядя на меня. Прошло некоторое время, и он заговорил. Он сказал:
— Поди ко мне, Джен. Давай объяснимся и постараемся понять друг друга.
— Я никогда больше не подойду к вам. Между нами легла пропасть. Я не могу вернуться.
— Но, Джен, я зову вас как свою жену, я только на вас и собирался жениться.
Я молчала. Мне казалось, что он смеется надо мной.
— Поди сюда, Джен, подойди ко мне.
— Между нами стоит ваша невеста.
Он поднялся, шагнул ко мне и обнял меня.
— Вот моя невеста, — сказал он, опять привлекая меня к себе. — Здесь равное мне существо, здесь моя любовь. Джен, хотите быть моей женой?
Я все еще ничего не отвечала и только молча вырывалась из его объятий. Я все еще не доверяла ему.
— Ты сомневаешься во мне, Джен?
— Безусловно.
— Ты не веришь мне?
— Ни капли.
— Значит, я лгун, по-твоему? — продолжал он пылко допрашивать меня. — Маленький скептик, я найду способ убедить тебя. Разве я люблю мисс Ингрэм? Нисколько, и ты это знаешь. А она разве любит меня? Нисколько. И мне не стоило особого труда в этом убедиться: я распространил слух, что мое состояние втрое меньше предполагаемого, и после этого явился к ней, чтобы узнать, как она отнесется к этому. И она и мать обдали меня холодом. Я не хочу, я не могу жениться на мисс Ингрэм. А тебя, необыкновенное, можно сказать, неземное существо, я люблю превыше всего на свете. Тебя — бедную и незнатную, тебя — невзрачную дурнушку, — как ты себя называешь, я прошу выйти за меня замуж.
— Как? Меня? — пробормотала я, начиная верить в серьезность его слов, убежденная их искренностью и прямотою. — Меня, у которой нет ни одного друга на свете, кроме вас, если только вы мне друг; ни гроша за душой, кроме того, что вы платите мне?
— Тебя, Джен. Ты должна быть моей, всецело моей. Хочешь? Скажи да, скорей!
— Мистер Рочестер, дайте мне поглядеть вам в лицо, станьте так, чтобы на него светила луна.
— Зачем?
— Оно скажет мне правду. Повернитесь.
— Ну, вот. Вы прочтете на нем не больше, чем на исчерканной, скомканной странице. Читайте, но только скорей. Я страдаю.
Лицо его было взволнованно, оно пылало, судорожно подергивалось, в глазах вспыхивал странный огонь.
— О Джен! Ты мучишь меня! — воскликнул он. — Твой испытующий и вместе с тем преданный и всепрощающий взгляд терзает меня.
— Почему терзает? Если вы не обманываете меня и ваше предложение искренне, то я могу относиться к вам только с благодарностью и преданностью.
— Благодарность! — воскликнул он и порывисто продолжал: — Джен, прими скорей мое предложение. Скажи: Эдвард, — назови меня по имени, — Эдвард, я согласна быть твоей женой.
— Вы говорите серьезно? Вы действительно любите меня? Вы в самом деле хотите, чтобы я была вашей женой?
— Да, хочу! И если тебе нужна клятва, я готов поклясться.
— Тогда, сэр, я согласна выйти за вас замуж.
— Скажи: Эдвард! О моя маленькая жена!
— Дорогой Эдвард!
— Поди ко мне, поди ко мне без разговоров, — сказал он и добавил взволнованно, шепча мне на ухо и прижимаясь щекой к моей щеке: — Дай мне счастье, и я сделаю тебя счастливой. Бог да простит меня! — продолжал он после паузы. — И пусть люди в это не вмешиваются. Я добыл ее, и я ее удержу.
— Да ведь некому вмешиваться. У меня нет родных.
— Нет — и отлично! — сказал он.
Если бы я меньше любила его, мне, наверное, показались бы странными его тон и мрачное выражение лица. Но, сидя рядом с ним, возвращенная от ужаса разлуки к райской радости соединения, я думала только о том блаженстве, которым он так щедро дарил меня. А он повторял все вновь и вновь:
— Ты счастлива, Джен?
И все вновь и вновь я отвечала:
— Да.
— Это все искупит, это все искупит, — шептал он про себя. — Разве я не нашел ее, одинокую, бесприютную, никем не пригретую? Разве я не буду охранять, лелеять, беречь ее? Разве не горит в моем сердце любовь и не тверды мои решения? Это все искупит перед богом. Я знаю, что мой создатель разрешает мне это. А что мне земной приговор! Суд людей я презираю!
Но что случилось с небом? Луне еще рано было садиться, а между тем все вокруг погрузилось во мрак. Как ни близко было от меня лицо мистера Рочестера, я с трудом различала его черты. И что случилось с каштаном? Он шумел и стонал, а по лавровой аллее с воем проносился ветер.
— Надо уходить, — сказал мистер Рочестер. — Погода меняется, а я бы мог здесь просидеть с тобою до утра, Джен.
«И я, — пронеслось у меня в голове, — я тоже». Может быть, я сказала бы вслух эти слова, но тут из тучи, на которую я смотрела, внезапно вырвалась бледная сверкающая стрела, раздались грохот и треск совсем поблизости, и я прижалась головой к плечу мистера Рочестера.
Хлынул дождь. Мы побежали второпях через парк в дом. Но не успели добежать до дверей, как оказались мокрыми насквозь. В холле он быстро снял с меня шаль и только стал выжимать воду из моих распустившихся волос, как миссис Фэйрфакс появилась на пороге своей комнаты. Ни я, ни мистер Рочестер вначале ее не заметили. Горела лампа, часы показывали полночь.
— Ступай сними скорей мокрую одежду, — сказал он. — И спокойной ночи, спокойной ночи, моя голубка!
Он несколько раз поцеловал меня. Когда я, наконец, вырвавшись из его объятий, подняла глаза, я увидела вдову — бледную, оскорбленную, негодующую. Я только улыбнулась ей и побежала наверх. «Объяснения можно отложить до завтра», — решила я. Все же, когда я очутилась у себя в комнате, мне стало неприятно при мысли, что старушка хотя бы на минуту может неверно истолковать то, чему она была свидетельницей. Но радость вскоре заглушила все другие чувства. И несмотря на то, что ветер выл, гром гремел чуть ли не над самой крышей дома и то и дело яростно вспыхивали молнии, а дождь лил как из ведра, — я не испытывала ни страха, ни робости. За те два часа, что длилась буря, мистер Рочестер трижды подходил к моей двери и спрашивал, как я себя чувствую. А это могло придать мне спокойствие и уверенность при любых обстоятельствах.
Я еще не успела встать на другое утро, когда ко мне прибежала Адель и сказала, что в большой каштан в конце плодового сада ударила молния и расколола его надвое.
Глава XXIV
Пока я вставала и одевалась, я обдумывала все, что произошло, и спрашивала себя: не сон ли это? Я не могу окончательно поверить до тех пор, пока снова не увижу мистера Рочестера и он не повторит мне слова любви и своего обещания.
Причесываясь, я посмотрела на себя в зеркало и увидела, что сейчас лицо мое не бесцветно — оно сияло надеждой, на щеках горел румянец, а в глазах моих, казалось, заглянувших в самый источник радости, словно остались ее блистающие лучи. Как часто я опасалась смотреть на своего хозяина, так как думала, что ему будет неприятен мой вид. А сейчас я была уверена, что если он взглянет в мое лицо, это не охладит его любви. Я выбрала простое, чистое и светлое летнее платье и надела его. Казалось, еще ни одно платье так не шло ко мне, ибо ни одного я не надевала в таком блаженном настроении.
Когда я сбежала вниз в холл, я не удивилась, что ночную бурю сменило сияющее июньское утро и что до меня в открытую стеклянную дверь донесся свежий и благоухающий ветерок. Природа должна радоваться, если я счастлива! По дороге к дому шла нищенка с маленьким мальчиком, бледные, оборванные, — я подбежала к ним и отдала все, что было в моем кошельке, что-то около четырех шиллингов. Все люди, и дурные и хорошие, должны были участвовать сегодня в моем ликовании. Грачи кричали, и распевали птички, но веселее всего звучала музыка моего сердца.
Из окна выглянула миссис Фэйрфакс и сказала с видом оскорбленного достоинства:
— Мисс Эйр, вы придете завтракать?
За столом она была спокойна, но холодна. Однако я ничего не могла сказать ей. Приходилось ждать, пока мой хозяин даст ей нужные объяснения; уж пусть она потерпит. Я проглотила, что была в силах, и поспешила наверх. Навстречу мне из классной комнаты выбежала Адель.
— Куда ты идешь? Пора заниматься.
— Мистер Рочестер отправил меня в детскую.
— А где он?
— Вот там. — И она указала на комнату, откуда вышла. Я вошла и увидела его.
— Поди сюда и поздоровайся со мной, — сказал он.
Я с радостью подошла. И теперь я была встречена не холодными словами и даже не пожатием руки, — он обнял меня и поцеловал. И это мне казалось вполне естественным — быть так любимой и ласкаемой им.
— Джен, у тебя сегодня цветущий вид. Ты улыбаешься, ты прехорошенькая, — сказал он. — Ты действительно сегодня прехорошенькая. Я просто не узнаю моего бледного маленького эльфа. Разве это мое горчичное семечко? Эта девушка с сияющим личиком, румяными щеками и розовым ртом, с шелковистыми каштановыми волосами и карими глазами? (У меня зеленые глаза, читатель, но вы уж извините его за ошибку. Для него они сегодня имели другой цвет.)
— Это все-таки Джен Эйр, сэр.
— Скоро это будет Джен Рочестер, — добавил он. — Через четыре недели, Дженет, и ни на один день позднее! Ты слышишь меня?
Я слышала, и все еще не вполне понимала. У меня кружилась голова. Меня пронизало странное ощущение: оно даже не так обрадовало, как поразило и оглушило меня; оно было подобно страху.
— Ты была такая румяная и вдруг побледнела, Джен. Что с тобой?
— Оттого что вы назвали меня новым именем — Джен Рочестер. И оно мне кажется ужасно странным.
— Да, миссис Рочестер, — сказал он. — Молодая миссис Рочестер, жена Фэйрфакса Рочестера.
— Этого не может быть, сэр. Это звучит слишком невероятно. Человеческим существам не дано переживать в этом мире полного счастья, а я родилась не для того, чтобы моя судьба отличалась от судьбы моих ближних. Когда я представляю себе счастье, выпавшее на мою долю, мне кажется, что это волшебная сказка, сон наяву.
— Который я могу и хочу превратить в действительность. И займусь этим сегодня же. Я утром написал моему банкиру в Лондон, чтобы он мне прислал кое-какие драгоценности, которые у него хранятся, — это наследственные драгоценности всех хозяев Торнфильда. Через день-два я надеюсь положить их тебе на колени. Я хочу, чтобы ты пользовалась всеми преимуществами и всем тем вниманием, какое я оказал бы дочери пэра, если бы собирался на ней жениться.
— О сэр, не надо драгоценностей! Я не хочу и слышать о них. Драгоценности и Джен Эйр — несовместимы. Лучше не дарите их мне!
— Я сам надену на твою шею бриллиантовое ожерелье и золотой обруч на твою голову: он тебе очень пойдет, природа отметила твое лицо чертами аристократизма, Джен. И я надену браслеты на эти тонкие кисти и отягощу эти пальчики феи золотыми кольцами.
— Нет, нет, сэр! Давайте говорить о другом! Не обращайтесь со мной так, словно я красавица. Я ваша простенькая гувернантка, ваша квакерша.
— Для меня ты красавица, и красавица, желанная моему сердцу. Нежная и воздушная.
— Скромная и ничтожная, хотите вы сказать. Вы грезите, сэр, или насмехаетесь. Ради бога, не нужно иронии.
— Я заставлю мир признать тебя красавицей, — продолжал он, в то время как я испытывала все большую неловкость от его странного тона, так как чувствовала, что он или сам обманывается, или обманывает меня. — Я разодену мою Джен в кружева и шелк и украшу ее волосы розами. И я покрою головку, которую люблю, бесценной вуалью.
— А тогда вы и не узнаете меня, сэр. Я уже не буду больше вашей Джен Эйр, а обезьянкой в шутовском кафтане, вороной в павлиньих перьях. Мне так же странно было бы видеть себя в платье придворной дамы, как вас, мистер Рочестер, в каком-нибудь театральном костюме. И я вовсе не считаю вас красавцем, сэр, хотя люблю вас глубоко, слишком глубоко, чтобы льстить вам. Так не льстите и вы мне.
Но он продолжал все в том же духе, невзирая на мои возражения:
— Я сегодня же повезу тебя в Милкот, и ты должна выбрать себе материй на платья. Говорю тебе, через месяц мы поженимся. Свадьба будет скромная, вон в той церкви, затем я тут же умчу тебя в город, а через несколько дней я увезу мое сокровище в страны, где ярче светит солнце; ты увидишь виноградники Франции и равнины Италии, увидишь все, что было замечательного в прошлом и есть в настоящем; ты познакомишься с жизнью больших городов и научишься ценить себя, сравнивая себя с другими.
— Я буду путешествовать? И с вами, сэр?
— Ты увидишь Париж, Рим и Неаполь, Флоренцию, Венецию и Вену — все дороги, по которым бродил я, мы снова пройдем вместе. И везде, где побывало мое копыто, оставит свой след и твоя ножка сильфиды. Десять лет прошло с тех пор, как я, словно безумный, бежал в Европу, и моими спутниками были презрение, ненависть и гнев. Теперь я побываю там исцеленный и очищенный, вместе с моим ангелом-хранителем.
Когда он сказал это, я засмеялась.
— Да я вовсе не ангел, — воскликнула я, — и не стану им, пока жива! Я буду сама собой. Мистер Рочестер, пожалуйста, не ждите и не требуйте от меня, чтобы я была похожа на ангела. Это так же мало пристало мне, как и вам. Ведь я жду от вас вовсе не этого.
— Чего же ты ждешь от меня?
— Некоторое время вы, может быть, будете таким, как сейчас, но очень недолго; затем вы остынете, начнете капризничать, а потом сделаетесь раздражительным, и мне будет очень трудно угождать вам. Но когда вы как следует привыкните ко мне, вы, может быть, опять ко мне привяжетесь. Я говорю: привяжетесь, не полюбите. Я думаю, что вашей любви хватит на полгода, и то еще хорошо. Я читала в книгах, написанных мужчинами, что этот срок считается предельным для пылкости мужа. Но думаю, что как друг и товарищ я никогда окончательно не наскучу своему дорогому хозяину.
— Наскучишь? Привяжусь опять? Конечно, я буду все больше к тебе привязываться. И заставлю тебя признать, что я не только привязан, но и люблю тебя истинной, горячей и постоянной любовью.
— Но разве вы не капризны, сэр?
— В отношении женщин, которые нравятся мне только лицом, я становлюсь дьяволом, когда убеждаюсь, что в них нет ни души, ни сердца. Тогда мне в них вдруг открывается пошлость, банальность, а может быть, и тупость, грубость и дурной нрав; но чистый взгляд и живая речь, пламенная душа и характер, который гнется, но не ломается, восприимчивый и устойчивый, — в отношении такого существа я всегда буду нежен и верен.
— А вы когда-нибудь встречали такое существо, сэр? И вы любили такую женщину?
— Я люблю ее сейчас.
— Но до меня, — если я действительно отвечаю вашим высоким требованиям?
— Я никогда не встречал никого, похожего на тебя, Джен. Ты покоряешься мне и ты владеешь мной. Ты как будто уступаешь мне и очаровываешь своей мягкостью. И когда я наматываю на палец эту шелковистую нить, я чувствую трепет в руке и в сердце. Ты зачаровываешь меня и побеждаешь. Но эти чары слаще, чем я могу выразить, и эта победа, одержанная тобой, дороже мне всякой моей победы. Отчего ты улыбаешься, Джен? Что значит это непонятное, коварное выражение твоего лица?
— Я вспомнила, сэр (вы извините мою мысль, она возникла невольно), я вспомнила о Геркулесе и Самсоне…
— Ты вспомнила, маленький лукавый эльф…
— Тише, сэр, вы сейчас рассуждаете не очень разумно. Не более разумно, чем действовали эти джентльмены. Но если бы они женились, то супружеской строгостью, наверно, возместили бы все упущенное ими во время своего жениховства. Я хотела бы знать, как вы мне ответите через год, если я попрошу у вас какой-нибудь милости, которую вам будет неудобно или не захочется оказать мне.
— Ну, попроси у меня сейчас, Дженет. Ну, хоть какой-нибудь пустяк, мне хочется, чтобы ты попросила…
— И попрошу, сэр. Моя просьба уже готова.
— Говори! Но если ты будешь так смотреть на меня и так улыбаться, клянусь, я соглашусь на все заранее, и ты одурачишь меня.
— Ничуть, сэр. Я прошу вас об одном: не посылайте за драгоценностями и не украшайте меня розами. Это все равно, что обшить золотым кружевом вот этот простой носовой платок, который вы держите в руке.
— Может быть, ты хочешь сказать, что золото не нуждается в позолоте? Я знаю это. Ну, хорошо. Твоя просьба будет исполнена: пока я отменю приказание, данное банкиру. Но ты еще ничего у меня не попросила, ты просто отменила мой подарок. Попробуй еще раз.
— Тогда, сэр, будьте так добры, удовлетворите мое любопытство по одному интересующему меня вопросу.
Он смутился.
— Что, что такое? — сказал он торопливо. — Любопытство — опасный порок. Хорошо, что я не дал клятвы исполнить твою просьбу…
— Но тут не может быть никакой опасности, сэр.
— Говори скорей, Джен. Я предпочел бы вместо вопроса о какой-то тайне, чтобы ты попросила у меня половину моего состояния.
— Послушайте, царь Артаксеркс, что мне делать с половиной вашего состояния? Уж не думаете ли вы, что я еврей-ростовщик, который ищет, как бы повыгодней поместить свои деньги? Я предпочла бы, чтобы вы подарили мне ваше доверие целиком. Ведь я не лишусь вашего доверия, раз уж вы допустили меня в свое сердце?
— Нет, вы не лишитесь моего доверия, Джен. Но ради бога, не стремитесь брать на себя ненужное бремя, не тянитесь к яду.
— А почему бы и нет, сэр? Вы только что сказали мне, как вы жаждете быть покоренным и как вам приятно подчиняться. Так почему бы мне не воспользоваться вашим признанием? Я начну настаивать и требовать, а может быть, даже плакать и дуться — чтобы испытать мою власть над вами.
— Ну-ну! Попробуйте только! Настаивайте, требуйте — и конец игре.
— Уже конец игре? Не надолго же вас хватило! Но отчего вы так помрачнели? Ваши брови теперь толще моего пальца, а ваш лоб напоминает образ из одного замысловатого стихотворения, где лоб был назван «крепостью громов». Вероятно, вы будете таким, когда женитесь?
— Если вы будете такая, как сейчас, то я, как христианин, должен буду отказаться от общения с эльфом или саламандрой. Ну что вы хотели спросить, дерзкая девчонка? Говорите скорей
— Ну, вот. Теперь вы стали невежливы. Но резкость мне нравится гораздо больше, чем лесть. И я предпочту быть дерзкой девчонкой, чем ангелом. Вот что я хотела спросить: отчего вы так старались убедить меня, что собираетесь жениться на мисс Ингрэм?
— И все? Ну, это еще куда ни шло! — Морщины на его лбу разгладились. Улыбаясь, он посмотрел на меня и потрепал мои волосы, словно был очень доволен, что избежал какой-то опасности. — Что ж, я, пожалуй, рискну сознаться, — продолжал он, — хотя и вызову твое негодование, Джен. А я видел, какая ты горячка, когда негодуешь. Ты вчера вечером в холодном лунном свете буквально пылала, когда взбунтовалась против судьбы и утверждала свое равенство со мной. Кстати, Дженет, ведь это ты сделала мне предложение!
— Разумеется, я. Но, пожалуйста, к делу, сэр. Что же насчет мисс Ингрэм?
— Ну, я потому притворялся, будто ухаживаю за мисс Ингрэм, чтобы ты так же без памяти влюбилась в меня, как я влюбился в тебя. Я знал, что ревность в этом деле лучший мой союзник.
— Замечательно! А теперь я вижу, что вы еще и мелкий эгоист! Стыдно, недостойно вести себя таким образом! Как же вы не подумали о чувствах мисс Ингрэм, сэр?
— Все ее чувства сводятся к одному — к гордыне. Гордыню надо смирять. А ты ревновала, Джен?
— Дело не в этом, мистер Рочестер. Вас это ни в какой мере не касается. Ответьте мне еще раз с полной правдивостью: вы уверены, что мисс Ингрэм не будет страдать от вашего легкомыслия? Она не почувствует себя обманутой и покинутой?
— Ни в какой мере! Я же говорил тебе, как она, наоборот, презрела меня. Мысль о грозящем мне разорении сразу охладила или, вернее, погасила ее пламя.
— У вас коварный ум, мистер Рочестер. И я боюсь, что ваши принципы несколько эксцентричны.
— Моими принципами никто не занимался, Джен. И, может быть, они слегка одичали от недостаточного внимания к ним.
— Нет, серьезно, могу ли я наслаждаться радостью, выпавшей мне на долю, не опасаясь, что кто-то будет испытывать ту горечь и боль, которую я испытывала еще так недавно?
— Можешь, моя добрая девочка. Нет на свете ни одного существа, которое бы любило меня такой чистой любовью, как ты, ибо я, как бальзам, приложил к моей душе, Джен, эту веру в твою любовь.
Я прижалась губами к его руке, лежавшей на моем плече. Я любила его очень сильно — сильнее, чем могла высказать, сильнее, чем вообще можно выразить словами.
— Попроси еще что-нибудь, — сказал он. — Мне приятно, когда ты просишь и я уступаю.
У меня была готова новая просьба.
— Сообщите о ваших намерениях миссис Фэйрфакс, сэр. Она видела меня вчера вечером вместе с вами в холле и была оскорблена в своих лучших чувствах. Объясните ей все до того, как мы снова с ней встретимся. Мне тяжело, что эта добрая женщина судит обо мне превратно.
— Ступай к себе в комнату и надень шляпу. Сегодня ты поедешь со мной в Милкот; а пока ты одеваешься, я все объясню старушке. Вероятно, она решила, Дженет, что ты очертя голову всем пожертвовала ради любви?
— Вероятно, она думает, что я забыла и свое положение и ваше, сэр.
— Положение, положение! Твое положение в моем сердце, и дорого поплатятся те, кто посмеет оскорбить тебя теперь или потом. Ступай.
Я быстро оделась. И когда я услышала, что мистер Рочестер выходит из гостиной от миссис Фэйрфакс, я поспешила туда. Старушка только что читала свою утреннюю порцию Библии. Перед ней еще лежала раскрытая книга, а на ней поблескивали ее очки. Казалось, она позабыла о своем занятии, прерванном сообщением мистера Рочестера. Взгляд, устремленный на противоположную стену, выражал изумление безмятежной души, встревоженной неожиданной вестью. Увидев меня, она поднялась, сделала усилие, чтоб улыбнуться, и пробормотала поздравление. Но и улыбка и поздравление как-то не вышли. Она надела очки, захлопнула Библию и отодвинула кресло от стола.
— Я так удивлена, — начала она, — я просто не знаю, что вам сказать, мисс Эйр. Не во сне ли мне это приснилось? Случается, что я задремлю, когда сижу одна, и мне мерещится то, чего никогда не было. Не раз, например, мне снилось, когда я так дремала, что мой дорогой супруг, скончавшийся пятнадцать лет назад, входит и садится рядом со мной, и я даже слышу, как он зовет меня по имени Алиса, как звал обычно. А теперь скажите мне, это действительно правда, что мистер Рочестер сделал вам предложение? Не смейтесь надо мной, но мне показалось, что он был здесь пять минут назад и сказал, будто через месяц вы станете его женой.
— Он сказал мне то же самое, — ответила я.
— Сказал? И вы поверили ему? И вы согласились?
— Да.
Она растерянно посмотрела на меня.
— Вот уж никогда не подумала бы. Он такой гордый. Все Рочестеры были гордые, а его отец к тому же любил деньги. Самого мистера Рочестера тоже считают расчетливым. И он собирается жениться на вас?
— Так он сказал мне.
Миссис Фэйрфакс окинула меня взглядом. По ее глазам я видела, что она не находила во мне тех чар, которые помогли бы ей разрешить эту загадку.
— Странно, очень странно, — продолжала она. — Но, очевидно, это так, раз вы говорите. Не знаю только, что из этого выйдет; тут трудно что-нибудь сказать. В таких случаях скорее желательно равенство положения и состояния; и потом между вами двадцать лет разницы. Он вам в отцы годится.
— Ну, уж нет, миссис Фэйрфакс! — воскликнула я, задетая за живое. — Какой он мне отец! Да это никому, кто увидит нас вместе, и в голову не придет! Мистеру Рочестеру по виду можно дать двадцать пять лет, и он так же молод.
— И он действительно женится на вас по любви? — спросила она.
Я была так оскорблена ее холодностью и недоверием, что слезы невольно выступили у меня на глазах.
— Мне не хочется огорчать вас, — продолжала вдова, — но вы молоды и мало знаете мужчин, а потому я обязана предостеречь вас. Есть такая пословица: не все то золото, что блестит, — так вот, я боюсь, что в данном случае не все окажется таким, как надеемся вы и я.
— Отчего? Разве я урод? — спросила я. — Разве невозможно, чтобы мистер Рочестер искренне привязался ко мне?
— Нет, вы очень хорошенькая, а за последнее время стали еще лучше. И мистеру Рочестеру вы пришлись по душе, это видно. Я всегда замечала, как он вас балует. Меня крайне беспокоило, что он оказывает вам такое заметное предпочтение; и, любя вас, я все собиралась поговорить с вами. Но мне трудно было коснуться этого даже намеком. Я знала, что такое предположение поразит, да, пожалуй, и обидит вас. А вы держались настолько скромно, умно и тактично, что я надеялась — вы сами сможете за себя постоять. Вы не представляете себе, что я пережила вчера вечером, когда искала вас по всему дому и нигде не могла найти, а тут и хозяина тоже нигде не было; а затем в полночь вы явились вместе.
— Ну, теперь это не важно, — прервала я ее нетерпеливо. — Достаточно того, что все в порядке.
— Я надеюсь, что все и будет в порядке до самого конца, — сказала она. — Но поверьте мне, тут нужна большая осторожность. Старайтесь не подпускать мистера Рочестера слишком близко, не доверяйте ни себе, ни ему: люди его положения обычно не женятся на гувернантках.
Я начинала по-настоящему сердиться, но, к счастью, вбежала Адель.
— Возьмите меня, возьмите меня с собой в Милкот! — кричала она. — Мистер Рочестер не хочет, хотя в новой коляске места сколько угодно. Попросите его, мадемуазель, чтобы он позволил мне ехать с вами.
— Хорошо, Адель! — и я поспешила вместе с ней к мистеру Рочестеру, радуясь возможности поскорей уйти от своей мрачной наставницы. Коляску как раз подавали к подъезду. В ожидании ее мой хозяин расхаживал перед дверью, и Пилот следовал за ним по пятам.
— Ведь можно Адель поехать с нами, не правда ли, сэр?
— Я сказал ей, что нет. Никаких ребят! Едете только вы.
— Позвольте ей поехать, мистер Рочестер. Очень прошу вас. Так будет лучше.
— Ничего подобного. Она только помешает.
Тон и взгляд у него были самые повелительные. Тяжелый гнет сомнений и неприятный холодок, которым веяло от предостережений миссис Фэйрфакс, успели уже отравить мою радость. Я вдруг почувствовала всю эфемерность и неосновательность своих надежд. Сознание моей власти над мистером Рочестером, которое мне давала его любовь, исчезло. Я готова была без дальнейших возражении подчиниться ему, но, подсаживая меня в экипаж, он заглянул мне в лицо.
— Что случилось? — спросил он. — Почему мы так насупились? Вам действительно хочется, чтобы девчонка поехала? Вам будет неприятно, если она останется?
— Я предпочла бы, чтобы вы взяли ее, сэр.
— Тогда скорей беги за шляпой, как стрела! — крикнул он Адели.
Она послушалась его и помчалась со всей быстротой, на какую была способна.
— В конце концов одно потерянное утро уж не так много значит, — сказал он, — если я собираюсь в ближайшем будущем овладеть навеки вашими мыслями, беседой и вашим обществом.
Когда Адель очутилась в экипаже, она прежде всего бросилась целовать меня, выражая этим свою благодарность за мое посредничество. Однако ее тотчас усадили в уголок, рядом с мистером Рочестером, и она только жалобно поглядывала оттуда на меня. Строгий сосед пугал ее; когда он бывал в таком настроении, она не решалась поверять ему свои наблюдения или обращаться с каким-нибудь вопросом.
— Пусть Адель сядет возле меня, — предложила я, — она, может быть, мешает вам, сэр? А тут места совершенно достаточно.
Он передал ее мне, словно комнатную собачку.
— Я обязательно отправлю ее в школу, — сказал он, но уже улыбаясь.
Адель, услышав это, спросила его, поедет ли она в школу без мадемуазель?
— Да, — ответил он, — без мадемуазель. Я собираюсь увезти мадемуазель на луну, я отыщу пещеру среди белых долин и вулканических кратеров, и там мадемуазель будет со мной, и только со мной.
— А что же она будет есть? Вы уморите ее голодом, — заметила Адель.
— Я буду утром и вечером собирать для нее манну небесную. На луне холмы и долины сплошь белые от манны, Адель.
— А если ей захочется согреться, где она найдет огонь?
— Огонь есть в огнедышащих горах: когда ей станет холодно, я отнесу ее на какую-нибудь вершину и положу на краешек кратера.
— Ой, как ей там будет плохо, совсем неудобно! А кто ей даст платье, когда она износит его? Там ведь не достанешь нового.
Мистер Рочестер прикинулся смущенным.
— Гм… — сказал он, — а что бы ты придумала, Адель? Ну-ка, поразмысли хорошенько. Может быть, белое или розовое облако сойдет ей за платье, а из радуги можно выкроить недурной шарф?
— Она гораздо лучше так, — заявила Адель после некоторого размышления. — И потом ей, наверное, скоро надоест жить на луне только с вами одним. Я, на месте мадемуазель, ни за что не согласилась бы ехать.
— А вот она согласилась, она дала мне слово.
— Но ведь вы не можете туда подняться? Ведь нет дороги на луну — только по воздуху; а ни вы, ни она не умеете летать.
— Посмотри, Адель, на поле! — Мы выехали за ворота Торнфильда и быстро катили в Милкот по гладкой дороге; пыль была прибита вчерашней грозой, а низкие изгороди и стройные сосны по обеим сторонам сияли яркой и свежей зеленью. — По этому полю, Адель, я шел однажды вечером, две недели назад, как раз в тот день, когда ты помогала мне в саду сгребать сено. Я устал от работы и, присев отдохнуть на каменную ступеньку, вынул записную книжку и карандаш и начал писать. Я писал об одном несчастье, которое случилось со мной давным-давно, и о том, как бы мне хотелось, чтобы для меня настали счастливые дни. Я писал очень быстро, несмотря на то, что дневной свет угасал и едва освещал страницы, когда вдруг на тропинке появилось какое-то существо и остановилось в двух шагах от меня. Я взглянул: оно было небольшого роста, с легкой вуалью на голове. Я поманил его к себе, и оно подошло совсем близко и стало у моего колена. Ни я, ни оно не произнесли ни слова, но мы ясно читали в глазах друг друга, и вот что выяснилось из нашего немого разговора.
Это была фея, она пришла из страны эльфов, пришла с тем, чтобы дать мне счастье. Я должен уйти с этой феей от обыкновенной жизни в какое-нибудь совершенно уединенное место, вроде луны. Фея кивнула головой, показывая мне на рог месяца, который как раз поднимался над деревьями. Она рассказала мне о серебряной долине и алебастровой пещере, где мы можем поселиться. Я ответил, что охотно отправился бы туда, но напомнил, как и ты мне, что ведь у меня нет крыльев и я не умею летать. «О, — ответила мне фея, — это не важно! Вот тебе талисман, который устранит все трудности, — и она дала мне красивое золотое кольцо. — Надень его, — сказала она, — на четвертый палец левой руки, и я буду твоей, а ты моим. Мы покинем землю и создадим себе на луне собственный рай». Она снова указала мне на луну. Это кольцо, Адель, лежит у меня в кармане под видом соверена, но я надеюсь, что он скоро опять превратится в золотое кольцо.
— Но какое ко всему этому имеет отношение мадемуазель? Какое мне дело до феи? Вы сказали, что возьмете с собой на луну мадемуазель.
— А мадемуазель и есть фея, — сказал мистер Рочестер таинственным шепотом.
Тут я посоветовала девочке не обращать внимания на его шутки, в ответ на что она со свойственным ей здравым смыслом француженки заявила, что она ни на минуту не поверила его рассказу о феях, так как никаких фей нет. А если бы они и были, то ни одна фея не стала бы являться мистеру Рочестеру, не подарила бы ему кольца и не поселилась бы с ним на луне.
Этот час, проведенный в Милкоте, был для меня довольно тягостным. Мистер Рочестер заставил меня зайти в один из лучших магазинов шелковых товаров. Там мне было приказано выбрать с полдюжины шелковых платьев. Мне очень этого не хотелось, и я умоляла отложить покупку до другого раза. Однако он и слушать не хотел моих возражений. Наконец, после энергичных уговоров вполголоса, мне удалось свести шесть к двум, но зато эти два он поклялся выбрать сам. С тревогой следила я за тем, как скользили его глаза вдоль полок с яркими кусками материй. Наконец он остановил свой выбор на роскошном шелке аметистового цвета и великолепном темно-розовом атласе. Я снова начала шептать ему, что уж лучше пусть он купит мне сразу золотое платье и серебряную шляпу, ибо я, конечно, никогда не решусь надеть выбранные им туалеты. После бесконечных уговоров, так как он был упрям, как пень, я убедила его обменять эти две материи на скромный черный атлас и серебристо-серый шелк. «Ну, уж ладно», — сказал он. Но он еще заставит меня сверкать, как цветочная клумба!
И рада же я была выбраться из магазина шелковых тканей, а затем из ювелирной лавки! Чем больше он покупал мне, тем ярче пылали мои щеки от досады и какого-то странного чувства унижения. Когда мы снова сели в экипаж и я, изнемогая, откинулась на спинку сиденья, то вспомнила — о чем среди всех последних событий, и печальных и радостных, совершенно забыла — о письме моего дяди Джона Эйр к миссис Рид, о его намерении усыновить меня и сделать своей наследницей. «Вот будь у меня хоть небольшое собственное состояние — это было бы действительно кстати, — пронеслось в моих мыслях. — Я не могу вынести, чтобы мистер Рочестер наряжал меня, как куклу; я же не Даная, чтобы меня осыпали золотым дождем. Как только мы вернемся домой, я напишу на Мадейру дяде Джону, что собираюсь выйти замуж, и сообщу за кого. Если бы я была уверена, что в один прекрасный день принесу мистеру Рочестеру в приданое хоть небольшое состояние, мне было бы легче переносить то, что я живу пока на его средства». Эта мысль меня несколько успокоила (я действительно в тот же день написала дяде), и я, наконец, решилась поднять Голову и встретиться взглядом с моим хозяином и возлюбленным, который настойчиво засматривал мне в глаза. Он улыбнулся. И мне показалось, что так улыбнулся бы расчувствовавшийся султан, глядя на свою рабыню, удостоенную им богатых подарков. Я изо всех сил стиснула его руку, искавшую мою, так что она покраснела, и отбросила ее.
— Пожалуйста, не смотрите так на меня, — сказала я, — а не то я клянусь не носить ничего до самой смерти, кроме моих старых школьных платьев. Я так и поеду венчаться в этом бумажном лиловом платье, а вы можете сшить себе халат из серого шелка и целый десяток черных атласных жилетов.
Он засмеялся и потер себе руки.
— Ну, разве она не удивительна! — воскликнул он. — Разве она не оригинальна, ни пикантна! Да я не отдал бы одной этой маленькой английской девочки за целый сераль одалисок с их глазами газели, формами гурий и тому подобное.
Это экзотическое сравнение еще больше уязвило меня.
— Я ни на одну минуту не собираюсь заменять вам сераль, сударь, так что ваше сравнение неуместно. Если вам это нравится, сделайте милость — отправляйтесь немедленно на базары Стамбула и употребите деньги, которые вам не удалось здесь истратить, на приобретение рабынь оптом и в розницу.
— А что вы станете делать, Дженет, пока я буду приценяться к грудам пышной плоти и целому ассортименту черных глаз?
— Я буду готовиться в миссионеры, чтобы проповедовать свободу порабощенным, и в первую очередь — обитательницам вашего гарема. Я проникну туда и подниму там бунт. Вы, паша и деспот, попадете к нам в руки. И я соглашусь отпустить вас на волю только при условии, что вы подпишете самый либеральный манифест, когда-либо выпущенный тираном.
— Я отдамся на вашу милость, Джен.
— Не надейтесь на мою милость, мистер Рочестер, раз вы позволяете себе смотреть на меня такими глазами. А то мне кажется, что, какой бы вы указ ни издали в силу необходимости, первое, что вы сделаете, освободившись, — это начнете нарушать его условия.
— Однако чего же вы хотите, Джен? Я боюсь, вы заставите меня совершить церемонию брака не только перед алтарем, но еще и в конторе нотариуса. Вы собираетесь выговорить особые условия. Каковы же они?
— Я хочу только сохранить спокойствие духа, сэр, и не быть под гнетом обязательств. Вы помните, что вы говорили о Селине Варанс, о бриллиантах и шелках, которыми задаривали ее? Ну, так я не буду вашей английской Селиной Варанс. Я останусь по-прежнему гувернанткой Адели, буду зарабатывать себе содержание и квартиру и тридцать фунтов в год деньгами. На эти средства я буду одеваться, а от вас потребую только…
— Чего же?
— Уважения. И если я буду платить вам тем же, мы окажемся квиты.
— Ну, знаете, в смысле непревзойденной дерзости и несравненной природной заносчивости нет равной вам, — сказал он. Мы уже приближались к Торнфильду. — Не соблаговолите ли вы пообедать со мной сегодня? — спросил он, когда мы въехали в ворота.
— Нет, благодарю вас, сэр.
— А отчего «нет, благодарю вас», смею спросить?
— Я с вами никогда не обедала, сэр, и не вижу причины отступать от этого, пока…
— Пока что? Как вы любите не договаривать.
— Пока иначе уже будет нельзя.
— Вы, может быть, воображаете, что я ем, как людоед или обжора, и боитесь быть моей соседкой за столом?
— Я вовсе не предполагала этого, сэр. Но я хотела бы жить этот месяц так, как жила.
— Вы сейчас же прекратите этот рабский труд гувернантки.
— Отнюдь нет! Прошу прощения, сэр, не прекращу. Я буду делать свое обычное дело. Мы с вами не будем видеться весь день, как и до сих пор. Вечером вы можете присылать за мной, когда захотите меня видеть, и я приду. Но ни в какое другое время дня.
— Мне необходимо покурить, Джен, или взять понюшку табаку, чтобы немножко прийти в себя от всего этого, — pour me donner une contenance[31], как сказала бы Адель, — а у меня, к несчастью, нет с собой ни моих сигар, ни моей табакерки. Но послушайте, что я вам шепну. Сейчас ваша власть, маленький тиран, но скоро будет моя, и тогда я уж вас схвачу и посажу, выражаясь фигурально, вот на такую цепь (при этом он коснулся своей часовой цепочки).
Он сказал это, помогая мне выйти из экипажа. Пока он извлекал оттуда Адель, я поспешила к себе наверх.
Вечером он пригласил меня к себе. Но я уже приготовила для него занятие, так как твердо решила не проводить все время в нежных разговорах с глазу на глаз. Я помнила о его прекрасном голосе и знала, что он любит себя слушать, как любят обычно хорошие певцы. Сама я не обладала голосом и была, на его строгий вкус, плохой музыкантшей, но прекрасное исполнение слушала с радостью. Как только спустились романтические сумерки и раскинули над лугами свое синее звездное покрывало, я встала, открыла рояль и попросила его во имя всего святого спеть что-нибудь. Он сказал, что я волшебница с причудами и что лучше он споет в другой раз. Но я уверила его, что время самое подходящее.
— Нравится вам мой голос? — спросил он.
— Очень.
Мне не хотелось поддерживать в нем тщеславие, которое было, кстати сказать, его слабой стороной, но, в виде исключения, по некоторым причинам я была готова польстить ему.
— Ну, тогда, Джен, вы должны аккомпанировать.
— Хорошо, сэр. Я попробую.
И я попробовала, но он в ту же минуту стащил меня с табуретки, обозвав маленьким сапожником. Затем, бесцеремонно отстранив меня, — я только этого и хотела, — уселся на мое место и начал сам себе аккомпанировать: он играл так же хорошо, как и пел. Я взобралась на подоконник и смотрела оттуда на тихие деревья и туманные луга, в то время как он своим бархатным голосом напевал чувствительный романс:
Любовь, какую ни один, Быть может, человек Из сердца пламенных глубин Не исторгал вовек, — Примчалась бурною волной И кровь мою зажгла, И жизни солнечный прибой Мне в душу пролила. Ее приход надеждой был, И горем был уход. Чуть запоздает — свет не мил, И в бедном сердце — лед. Душою жадной и слепой Я рвался к небесам — Любимым быть любовью той, Какой любил я сам. Но, наши жизни разделив. Пустыня пролегла — Как бурный штормовой прилив, Безжалостна и зла. Она коварна, как тропа В глуши, в разбойный час; Закон и Злоба, Власть, Толпа Разъединяли нас. Сквозь тьму преград, сквозь мрак обид, Зловещих снов, скорбей, Сквозь все, что мучит и грозит, Я устремлялся к ней. И радуга легка, светла, Дождя и света дочь, Как в полусне, меня вела, Пресветлая, сквозь ночь. На облаках смятенной тьмы Торжественный рассвет, И нет тревог, хоть бьемся мы В кольце нещадных бед. Тревоги нет. О светлый миг! Все, что я смел с пути, Примчись на крыльях вихревых И мщенья возвести! Поставь, Закон, свой эшафот, Низвергни, Злоба, в прах! О власть, где твой жестокий гнет? — Мне уж неведом страх. Мне руку милая дала В залог священных уз, Две жизни клятвою сплела — И нерушим союз. Она клялась мне быть женой, И поцелуй пресек Ей путь иной: она со мной На жизнь, на смерть — навек. О, наконец вслед за мечтой Взлетел я к небесам: Блажей, любим любовью той, Какой люблю я сам.[32]Едва закончив, мистер Рочестер встал и подошел ко мне; меня смутило его взволнованное лицо и блестящий соколиный взгляд, нежность и страсть в каждой черте. Я растерялась, затем овладела собой. Нет, я не желала ни идиллических сцен, ни пылких объяснений, а тут мне угрожало и то и другое. Я должна была приготовить оружие защиты. Я отточила свой язычок, и когда он подошел ко мне, спросила задорно, на ком он собственно собирается жениться.
Что за странный вопрос задает ему его любимая Джен?
Ничуть не странный, наоборот, совершенно естественный и необходимый. Ведь он только что пел о том, что его любимая должна умереть вместе с ним. Так что же он хочет сказать этой чисто языческой идеей? Я отнюдь не собираюсь умирать вместе с ним, пусть не надеется.
О, единственно о чем он просит, чего он жаждет, это чтобы я любила его живого. Смерть не для таких, как я.
Вот еще! Я так же умру, как и он, когда настанет мой час, но я собираюсь ждать этого часа, а не спешить ему навстречу.
Прощу ли я ему это эгоистическое желание и не докажу ли свое прощение примиряющим поцелуем?
Нет уж, увольте!
Тут я услышала, как он назвал меня «злой девчонкой» и затем добавил:
— Другая женщина растаяла бы, если бы в ее честь были спеты такие стансы.
Я уверила его, что я от природы сурова и черства и у него будет полная возможность в этом убедиться. Да и вообще я собираюсь показать ему за этот месяц целый ряд неприятных черт моего характера. Пусть знает, какой выбор он сделал, пока еще не все потеряно.
Не собираюсь ли я успокоиться и поговорить разумно?
Успокоиться я могу, что же касается разумности, то я льщу себя надеждой, что говорю разумно.
Он негодовал, ворчал и чертыхался. «Очень хорошо, — решила я, — злись и негодуй, сколько хочешь, но я уверена, что в отношении тебя это самая правильная линия поведения, лучше не придумаешь. Я люблю тебя сильней, чем могу сказать, но я не собираюсь разводить сентименты, а своей колючей трезвостью я и тебя удержу на краю пропасти. Я сохраню то расстояние между тобой и мной, которое необходимо для нашего общего блага».
Мало-помалу я довела его до сильного раздражения. Когда он, наконец, рассердившись, отошел на другой конец комнаты, я встала и, сказав: «Желаю вам доброй ночи, сэр», — как обычно, спокойно и почтительно, выскользнула через боковую дверь и тихонько улизнула.
Так я держала себя с ним в течение всего критического месяца, остававшегося до свадьбы, и достигла наилучших результатов. Правда, мистер Рочестер был все время сердит и недоволен, но в общем я видела, что это его скорее развлекает и что овечья покорность и голубиное воркованье больше поддерживали бы в нем деспотизм, но меньше импонировали бы его трезвому уму и здравым чувствам и даже, пожалуй, меньше пришлись бы ему по вкусу.
В присутствии посторонних я была, как и раньше, почтительна и скромна: иная манера держаться была бы неуместна. Лишь во время наших вечерних встреч я начинала дразнить и раздражать его. Как только часы били семь, он ежедневно посылал за мной. Но когда я теперь появлялась перед ним, он уже не встречал меня такими нежными словами, как «моя любовь», «моя голубка», — в лучшем случае он называл меня «дерзким бесенком», «лукавым эльфом», «насмешницей», «оборотнем» и все в таком роде. Вместо нежных взглядов я видела теперь одни гримасы, пожатие руки мне заменял щипок, вместо поцелуя в щеку меня пребольно дергали за ухо. Ну что ж — это было не так плохо. Сейчас я решительно предпочитала эти грубоватые знаки внимания всяким иным, более нежным. Я видела, что миссис Фэйрфакс одобряет меня; ее тревога улеглась; и я была уверена, что веду себя правильно. Но мистер Рочестер клялся, что я извожу его бесчеловечно, и грозился отомстить мне самым свирепым образом за мое теперешнее поведение, уверяя, что час расплаты уже не за горами. Я только посмеивалась над его угрозами. «Я знаю теперь, как держать тебя в пределах благоразумия, — думала я, — и не сомневаюсь, что смогу это сделать и дальше, а если одно средство потеряет силу, мы придумаем другое».
Однако все это давалось мне не легко; как часто мне хотелось быть с ним ласковой и не дразнить его. Мой будущий муж становился для меня всей вселенной и даже больше — чуть ли не надеждой на райское блаженство. Он стоял между мной и моей верой, как облако, заслоняющее от человека солнце. В те дни я не видела бога за его созданием, ибо из этого создания я сотворила себе кумир.
Глава XXV
Месяц жениховства миновал; истекали его последние часы. Предстоявший день — день венчания — наступал неотвратимо. Все приготовления были закончены. Мне, во всяком случае, нечего было больше делать. Все мои чемоданы, упакованные, запертые и увязанные, стояли в ряд вдоль стены в моей комнатке. Завтра в это время они будут далеко по дороге в Лондон, так же как и я сама, — вернее, не я, а некая Джен Рочестер, особа, которой я еще не знаю. Оставалось только прикрепить ярлычки с адресом — четыре беленьких карточки, они лежали в комоде. Мистер Рочестер сам написал на каждой: «Миссис Рочестер, Н-ская гостиница, Лондон». Я так и не решилась прикрепить их к чемоданам и никому не поручила это сделать. Миссис Рочестер! Но ведь такой не существует в природе. Она родится только завтра, во сколько-то минут девятого. Уж лучше я подожду и сначала уверюсь, что она родилась на свет живая, и только тогда передам ей эти ее вещи. Достаточно того, что в шкафу против моего туалетного столика принадлежащий ей наряд вытеснил мое черное ловудское платье и соломенную шляпу, — ибо я не могла назвать своим это венчальное серебристо-жемчужное платье и воздушную вуаль, висевшие на вешалке. Я захлопнула шкаф, чтобы не видеть призрачной одежды, которая в этот вечерний час — было около девяти часов — светилась в сумерках, заливших мою комнату зловещим, неестественно белым светом. «Оставайся одна, белая греза, — сказала я. — Меня лихорадит, я слышу, как воет ветер, я хочу выйти из дому и почувствовать его дыханье!»
Меня лихорадило не только от спешки приготовлений, не только от предчувствий, связанных с ожидающей меня великой переменой и той новой жизнью, которая начиналась для меня завтра. Разумеется, обе эти причины не могли не влиять на мое настроение, тревожное и взволнованное, гнавшее меня в этот поздний час в недра темнеющего парка. Но была и третья причина, действовавшая гораздо сильнее.
Меня преследовала странная и жуткая мысль. Произошло что-то, чего я не могла понять. Никто ничего не видел и не слышал, а было это не далее, как нынче ночью. Мистер Рочестер не ночевал дома и все еще не возвращался; ему пришлось уехать по делу в одно из своих имений, состоявшее из двух-трех ферм, за тридцать миль от Торнфильда. Дело это требовало личного присутствия моего хозяина в связи с его предполагаемым отъездом из Англии. И вот теперь я ожидала его. Я жаждала снять с себя бремя мучившей меня загадки и получить ключ к ней. Но подожди и ты, читатель, пока он не вернется. И когда я открою ему мою тайну, ты также узнаешь ее.
Я отправилась в фруктовый сад, ища там защиты от резкого ветра, который весь день дул с юга, хотя и не принес с собой ни капли дождя. Вместо того чтобы стихнуть к вечеру, он, казалось, шумел и выл еще громче. Деревья непрерывно клонились в одну сторону, они лишь изредка затихали. Ветер мчал облака по всему небу, громоздя их друг на друга; в течение всего этого июльского дня сквозь их пелену ни разу не блеснуло голубое небо.
С неизъяснимым наслаждением бежала я навстречу ветру, как бы отдавая свою тревогу этим безмерным воздушным потокам, проносившимся с воем над землей. Спустившись по лавровой аллее, я увидела останки каштана. Он стоял весь черный и обуглившийся; расколовшийся ствол зиял расщепом. Дерево не развалилось, основание ствола и крепкие корни удерживали его, хотя общая жизнь была нарушена и движение соков прекратилось. Сучья по обеим сторонам уже омертвели, и буря следующей зимы повалит, наверное, одну, а то и обе половины на землю. Но сейчас каштан все еще казался единым деревом, — развалиной, но целостной развалиной.
«Вы правы, держась друг за дружку, — сказала я, словно эти гигантские обломки были живыми существами и могли слышать меня. — Я думаю, что, хотя вы опалены и обуглены, какое-то чувство жизни в вас еще осталось, оно притекает к вам из ваших крепко переплетенных друг с другом честных и верных корней. У вас никогда больше не будет зеленых листьев, и птицы не станут вить гнезда и идиллически распевать свои песни на ваших ветвях. Время радости и любви миновало для вас, но вы не одиноки; у каждого есть товарищ, сочувствующий ему в его угасании». Я подняла голову, и в это мгновение луна показалась между ветвями дерева. Ее туманный диск был багрово-красен; казалось, она бросила мне печальный, растерянный взгляд и снова спряталась в густой пелене облаков. В Торнфильде на миг стало тихо, но вдали над лесами и водами ветер проносился с диким, печальным воем; в нем была такая скорбь, что я не выдержала и убежала прочь.
Возвращаясь обратно садом, я то здесь, то там поднимала упавшие яблоки, которые валялись повсюду между корней и в траве; отделив созревшие от незрелых, я отнесла их в кладовую. После этого я отправилась в библиотеку, чтобы проверить, горит ли огонь в камине, ибо знала, что в такой угрюмый вечер, как сегодня, мистеру Рочестеру будет приятно согреться у жаркого камелька, когда он вернется; да, в камине был огонь, и он разгорался все ярче. Я придвинула кресло поближе к огню, подкатила столик, опустила занавеси и приказала внести свечи, чтобы зажечь их, как только мой хозяин приедет. Закончив все приготовления, я почувствовала еще большее беспокойство; мне не сиделось на месте, что-то гнало меня вон из дома. Небольшие кабинетные часы в библиотеке и старые часы в холле пробили десять раз.
«Как поздно! — сказала я себе. — Побегу к воротам; временами все же показывается луна, и дорогу видно далеко. Может быть, он подъезжает, и если я побегу ему навстречу, то буду избавлена от нескольких лишних минут ожидания».
Ветер выл в вершинах деревьев, стоявших возле ворот. Но дорога, насколько хватало глаз — справа и слева, — была тиха и пустынна; если бы не набегающие тени облаков, оживлявшие ее в те минуты, когда из-за туч выглядывала луна, дорога казалась бы длинной белой лентой, не оживленной никаким движением.
Невольные слезы выступили у меня на глазах — слезы разочарования и досады. Мне стало стыдно, и я отерла их. Я все еще медлила. Теперь луна совсем скрылась в свои облачные покои и плотно задернула занавес туч. Ночь становилась все темнее, ветер быстро нагонял тучи.
— Скорей бы он приехал! Скорей бы он приехал! — восклицала я, охваченная какими-то мрачными предчувствиями. Я ждала его еще до чая, а теперь уже стемнело. Что могло задержать его? Уж не случилось ли чего-нибудь? Я снова вспомнила событие прошлой ночи, и мне представилось, что это было предвестием какого-то надвигающегося несчастья. Слишком уж высоко я занеслась в своих надеждах, видимо, им не суждено сбыться. За последнее время я была так счастлива! Может быть, моя звезда уже прошла через свой зенит и теперь начинает закатываться? «Нет, я все-таки не могу вернуться в дом, — решила я. — Не могу сидеть у камина, когда он где-то там скитается в непогоду. Лучше утомить тело, чем так надрывать сердце. Пойду ему навстречу».
И я пустилась в путь, но ушла не далеко: не успела я пройти и четверть мили, как услышала конский топот. Какой-то всадник приближался быстрым галопом, рядом с лошадью бежала собака. Исчезните, злые предчувствия! Это был мистер Рочестер. Он ехал верхом на Мезруре, а за ним следовал Пилот. Увидев меня, ибо луна показалась на голубом небесном поле и теперь плыла, окруженная слабым сиянием, он снял шляпу и помахал ею над головой. Я бросилась к нему бегом.
— Вот видишь, — воскликнул он, протягивая мне руку и наклоняясь с седла, — ты не можешь и минуты прожить без меня! Стань на кончик моего сапога, дай мне обе руки. Ну, влезай!
Я послушалась. Радость придала мне ловкости, и я вскочила в седло перед ним. Он встретил меня нежным поцелуем и не скрывал своего торжества, которого я постаралась не заметить. Но вдруг он забеспокоился и спросил:
— А может быть, что-нибудь случилось, Дженет, что ты выбежала мне навстречу в такой поздний час? Что произошло?
— Ничего. Мне казалось, вы никогда не приедете. Я не в силах была ждать вас дома, когда за окном дождь и ветер.
— Дождь и ветер — это верно. И посмотри-ка, ты уже вымокла, как русалка; накинь мой плащ. У тебя словно лихорадка, Джен. И щеки и руки горячие. Нет, правда, что случилось?
— Теперь ничего. Я уже не чувствую ни страха, ни огорчения.
— Значит, ты чувствовала и то и другое?
— Пожалуй. Но я расскажу вам после, сэр, и, мне кажется, вы только посмеетесь над моей тревогой.
— Я посмеюсь над тобой от души, только когда пройдет завтрашний день. До тех пор я не осмелюсь: моя судьба обманщица, я ей не верю. Но неужели это ты, девушка, ускользающая, как угорь, и колкая, как шиповник? Я не мог тебя пальцем коснуться весь этот месяц, чтобы не уколоться, а теперь мне кажется, что в моих объятиях кроткая овечка. Ты вышла в поле, чтобы встретить своего пастыря, Джен?
— Я стосковалась по вас, но только не гордитесь. Вот мы уже и в Торнфильде. Пустите меня, я слезу.
Он спустил меня возле крыльца. Джон взял лошадь, а мистер Рочестер последовал за мною в холл и сказал, чтобы я поскорее переоделась и затем пришла к нему в библиотеку. И когда я уже направилась к лестнице, он еще раз остановил меня и приказал не задерживаться долго. Я не стала мешкать. Через пять минут я уже снова была с ним. Он ужинал.
— Возьми стул и составь мне компанию, Джен. Дай бог, чтобы это был наш последний ужин в Торнфильде — на долгие, долгие месяцы.
Я села возле него, но сказала, что не могу есть.
— Из-за того, что тебе предстоит путешествие, Джен? Это мысль о поездке в Лондон тебя лишает аппетита?
— Сегодня вечером, сэр, мое будущее кажется мне туманным. Бог знает, какие мысли приходят мне в голову, и все в жизни представляется сном.
— Кроме меня; я, кажется, достаточно реален, — коснись меня.
— Вы, сэр, главный призрак и есть. Вы только сон.
Он, смеясь, вытянул руку.
— Разве это похоже на сон? — сказал он, поднеся ее к моим глазам. Рука у него была сильная и мускулистая, с длинными пальцами.
— Да, хоть я и прикасаюсь к ней, но это сон, — сказала я, отводя его руку. — Сэр, вы отужинали?
— Да, Джен.
Я позвонила и приказала убрать со стола. Когда мы опять остались одни, я помешала угли в камине и села на скамеечку у ног мистера Рочестера.
— Скоро полночь, — сказала я.
— Да. Но ты помнишь, Джен? Ты обещала просидеть со мной всю ночь накануне моей свадьбы.
— Помню. И я исполню свое обещание, просижу с вами по крайней мере час или два. Мне спать совершенно не хочется.
— У тебя все готово?
— Все, сэр.
— У меня тоже, — отозвался он. — Я все устроил, и завтра, через полчаса после венчания, мы покинем Торнфильд.
— Очень хорошо, сэр.
— С какой странной улыбкой ты произнесла это: «Очень хорошо, сэр», и отчего у тебя на щеках горят два ярких пятна, отчего так странно блестят твои глаза? Ты больна?
— По-моему, нет.
— По-твоему! Так в чем же дело? Скажи мне, что с тобой?
— Не могу, сэр. У меня нет слов сказать вам, что я испытываю. Мне хотелось бы, чтобы этот час длился вечно. Кто знает, что готовит нам завтрашний день!
— Это ипохондрия. Ты просто переутомилась или переволновалась.
— А вы, сэр, счастливы и спокойны?
— Спокоен? — нет. Счастлив? — да, до самой глубины моего сердца.
Я подняла глаза, чтобы увидеть подтверждение этих слов на его лице. Оно выражало глубокое волнение.
— Доверься мне, Джен, — сказал он, — сними с души то бремя, которое тебя гнетет, передай его мне. Чего ты боишься? Что я окажусь плохим мужем?
— Я меньше всего об этом думаю.
— Может быть, тебя тревожит новая сфера, в которую ты вступаешь, новая жизнь, которой ты начнешь жить?
— Нет.
— Ты мучишь меня, Джен. Твой взгляд и тон, их печаль и решимость тревожат меня. Я прошу дать мне объяснение.
— Тогда, сэр, слушайте. Вы ведь не были дома прошлой ночью?
— Не был. Верно. Ах, помню… Ты намекнула мне давеча на какое-то событие, которое произошло в мое отсутствие, — вероятно, какие-нибудь пустяки. Однако оно растревожило тебя. Скажи, что это? Может быть, миссис Фэйрфакс обмолвилась каким-нибудь неудачным замечанием или ты услышала болтовню слуг и твоя гордость и самолюбие были задеты?
— Нет, сэр. — Пробило двенадцать. Я подождала, пока умолкнет серебристый звон настольных часов и хриплый, дрожащий голос больших часов в холле, и затем продолжала: — Весь день вчера я была очень занята и очень счастлива среди всех этих хлопот, ибо меня, вопреки вашим предположениям, не мучат никакие страхи относительно новой сферы и всего прочего. Наоборот, надежда жить с вами бесконечно радует меня, так как я люблю вас. Нет, сэр, не ласкайте меня сейчас, — дайте досказать.
Еще вчера я верила в милость провидения и в то, что события сложатся к вашему и моему благу. День был очень ясный, если помните, и такой спокойный, что я ничуть не тревожилась за вас. После чая я расхаживала по террасе, думая о вас. И вы представлялись мне так живо, что я почти не чувствовала вашего отсутствия. Я думала о жизни, которая лежит передо мной, о вашей жизни, сэр, настолько более широкой и разнообразной, чем моя, насколько море шире вливающегося в него ручья. Я не согласна с моралистами, называющими наш мир унылой пустыней. Для меня он цветет, как роза. На закате вдруг похолодало, и появились тучи. Я вошла в дом. Софи позвала меня наверх, чтобы показать мне мое венчальное платье, которое только что принесли; а под ним в картонке я нашла и ваш подарок — вуаль, которую вы, в вашей княжеской расточительности, выписали для меня из Лондона, — решив, видимо, что если я не хочу надеть на себя драгоценности, то вы все же заставите меня принять нечто не менее ценное. Я улыбалась, развертывая ее, рисуя себе, как я буду подтрунивать над вашими аристократическими вкусами и вашими усилиями вырядить свою плебейскую невесту, как дочку пэра. Я представляла себе, как покажу вам кусок кружева, который сама приготовила себе, и спрошу: не достаточно ли оно хорошо для женщины, которая не может принести мужу ни богатства, ни красоты, ни связей? Я отчетливо видела выражение вашего лица и слышала ваши негодующие республиканские возгласы, а также надменные слова о том, что при таком богатстве и положении вам нет никакой необходимости жениться на деньгах или на титуле.
— Как хорошо ты изучила меня, колдунья! — прервал меня мистер Рочестер. — Но чем же испугала тебя вуаль, уж не обнаружила ли ты в ней яд или кинжал? Отчего у тебя такое мрачное лицо?
— Нет, нет, сэр. Помимо изящества и богатства выделки, я не обнаружила в ней ничего, кроме гордости Фэйрфакса Рочестера, и она меня нисколько не испугала, ибо я привыкла к лицезрению этого демона. Однако становилось все темнее, и ветер усиливался. Он вчера не так завывал, как сегодня, а скулил тонко и жалобно, навевая тоску. Мне хотелось, чтобы вы были дома. Я вошла в эту комнату и, увидев ваше пустое кресло и холодный камин, почувствовала озноб. Когда я, наконец, легла, то никак не могла заснуть. Меня мучило какое-то тревожное волнение. В шуме все усиливающегося ветра мне чудились какие-то заглушенные стенания. Сначала я не могла понять, в доме это или за окном, но унылый звук все повторялся. Наконец я решила, что где-нибудь возле дома лает собака. И я была рада, когда звуки прекратились. Потом я забылась, но мне и в сновидении продолжала рисоваться темная, бурная ночь, меня преследовало желание быть с вами, и я испытывала печальное и странное ощущение какой-то преграды, вставшей между нами. В первые часы ночи мне снилось, что я иду по извилистой и неведомой дороге; меня окружал полный мрак, лил дождь. Я несла на руках ребенка — крошечное, слабое создание; оно дрожало в моих холодных объятиях и жалобно хныкало над моим ухом. Мне казалось, что вы идете по той же дороге, но только впереди; я напрягала все силы, чтобы догнать вас, и старалась произнести ваше имя и окликнуть вас, чтобы вы остановились. Но мои движения были скованы, и я не могла произнести ни звука. А вы уходили все дальше и дальше.
— И эти сны все еще угнетают тебя, Джен, теперь, когда я подле тебя? Ты просто нервная девочка; забудь эти призрачные угрозы и думай только о действительном счастье. Ты говоришь, что любишь меня, Дженет. Да, этого я не забуду, и ты не можешь отрицать своих слов. Они были произнесены твоими устами, я слышал их мягкое и чистое звучание; слишком торжественная, пожалуй, но сладостная музыка: «Надежда жить с вами, Эдвард, бесконечно радует меня оттого, что я люблю вас». Ты любишь меня, Джен? — повторил он.
— Я люблю вас, сэр, всей силой моего сердца.
— Как странно, — сказал он после короткой паузы. — Эти слова почему-то отозвались в моем сердце болью. Отчего? Может быть, оттого, что ты произнесла их с особой, почти религиозной силой и что твой взгляд, обращенный ко мне сейчас, полон бесконечной веры, правды и преданности? Мне кажется, рядом со мной не человек, а дух. Стань лукавым бесенком, Джен, ты очень хорошо умеешь делать злые глаза. Улыбнись одной из своих робких и дерзких улыбок, скажи мне, что ненавидишь меня, дразни меня, оскорбляй, но не огорчай меня так. Я предпочитаю гнев, чем такую печаль.
— Я буду дразнить вас и оскорблять сколько вашей душе угодно, когда кончу мой рассказ. Но выслушайте меня до конца.
— Я думал, Джен, ты уже все рассказала. Я думал, что нашел причину твоей грусти в этом сне.
Я покачала головой.
— Как? Еще что-то? Но я не верю, чтобы это было серьезно. Я заранее выражаю недоверие. Продолжай.
Беспокойное выражение его лица и нервная жестикуляция удивили меня, однако я продолжала:
— Мне приснился еще один сон: будто Торнфильд превратился в угрюмые развалины, в обитель сов и летучих мышей. От величественного фасада ничего не осталось, кроме полуразрушенной стены, очень высокой, но готовой вот-вот упасть. И мне снилось, что я иду в лунную ночь среди этих поросших травой развалин. Я то спотыкаюсь о мраморный обломок камина, то об упавший кусок лепного карниза. Кутаясь в шаль, я продолжаю нести неведомого мне ребенка. Я не могу его нигде положить, как ни устали мои руки, — несмотря на его тяжесть, я должна нести его. Вдруг с дороги ко мне донесся топот лошади, я была уверена, что это вы. Вы отправлялись на много лет в далекую страну. Я стала карабкаться по шаткой стене с отчаянной, пагубной поспешностью, мечтая последний раз взглянуть на вас сверху. Камни покатились из-под моих ног, ветки остролиста, за которые я хваталась, выскальзывали у меня из рук, ребенок, в ужасе охвативший мою шею, душил меня. Но все же я вскарабкалась на стену. И я увидела вас — далекую точку на белой дороге; вы все более и более удалялись. Ветер был такой сильный, что я не могла стоять. Я присела на край стены и стала укачивать на руках плачущего ребенка. Вы скрылись за изгибом дороги. Я наклонилась вперед, чтобы проводить вас взглядом. Стена начала осыпаться, я покачнулась. Ребенок скатился с моих колен, я потеряла равновесие, упала и — проснулась.
— Но теперь, Джен, это все?
— Это только присказка, сэр, а сейчас последует сказка. Когда я проснулась, какой-то свет ослепил меня. Я решила, что уже наступил день, но ошиблась. Это был только свет свечи. Я подумала, что, вероятно, вошла Софи. На туалетном столике стояла свеча, а дверца гардероба, в который я с вечера повесила свое венчальное платье и вуаль, была открыта. До меня донесся какой-то шорох. Я окликнула: «Софи, что вы там делаете?» Никто не ответил, но от шкафа отошла какая-то фигура, она взяла свечу, подняла ее и осветила ею мой наряд, висевший на вешалке. «Софи! Софи!» — закричала я опять. Но вошедшая безмолвствовала. Я приподнялась на постели и наклонилась вперед. Сначала я удивилась, затем растерялась. И вдруг кровь застыла у меня в жилах. Мистер Рочестер, это была не Софи, не Ли, не миссис Фэйрфакс; это была даже — я в этом убедилась и убеждена до сих пор — это была даже не та странная женщина, Грэйс Пул!
— И все-таки это была одна из них, — прервал меня мой хозяин.
— Нет, сэр, я серьезно уверяю вас, что это не так. Существо, стоявшее передо мной, никогда до того не появлялось в Торнфильдхолле, и рост его и очертания были мне совершенно незнакомы.
— Опиши его, Джен.
— Это была, видимо, женщина, сэр, высокая и рослая, с густыми черными волосами, спускавшимися вдоль спины. Я не знаю, какое на ней было платье, я видела, что оно прямое и белое, но была ли то рубашка, саван или простыня, не могу сказать.
— А ты разглядела ее лицо?
— Сначала нет, но вот она сняла с вешалки мою вуаль, долго смотрела на нее, затем набросила себе на голову и обернулась к зеркалу. В эту минуту я совершенно отчетливо увидела в нем отражение ее лица.
— И какое же у нее было лицо?
— Ужасным и зловещим показалось оно мне, сэр. Я никогда не видела такого лица. Оно было какое-то страшное, какое-то дикое. Я хотела бы навсегда забыть, как она вращала воспаленными глазами и какими странно одутловатыми, сине-багровыми были ее щеки.
— Призраки обыкновенно бледны, Джен.
— Это лицо, сэр, было багрово. Губы распухли и почернели, лоб был нахмурен, брови высоко приподняты над налитыми кровью глазами. Сказать, что это лицо напоминало мне?
— Скажи.
— Вампира из немецких сказок.
— А! И что же она сделала?
— Она сорвала, сэр, мою вуаль со своей головы, разорвала ее пополам, бросила на пол и принялась топтать ногами.
— Потом что?
— Потом отдернула занавеску и посмотрела в окно. Может быть, она увидела, что близится рассвет, но только, взяв свечу, женщина направилась к двери. Возле моей кровати она остановилась. Свирепые глаза яростно уставились на меня. Она поднесла свечу к самому моему лицу и погасила ее. Я лишь увидела эту страшную фигуру, склоненную надо мной, — и потеряла сознание. Только второй раз, второй раз в жизни я потеряла сознание от ужаса.
— Кто был подле тебя, когда ты очнулась?
— Никого, сэр, но на дворе уже стоял день. Я встала, облила голову и лицо холодной водой, выпила воды; почувствовала, что хотя я и ослабела, но не больна, и решила, что никто, кроме вас, не узнает об этом видении. А теперь, сэр, скажите мне, кто и что эта женщина?
— Прежде всего — создание твоего возбужденного мозга. Это бесспорно. Я должен быть осторожен с тобой, мое сокровище. Твои нервы не созданы для грубых потрясений.
— Уверяю вас, сэр, что нервы мои тут ни при чем. Существо это было вполне реальное. Все это совершилось в моей комнате.
— А твои предшествующие сны — тоже реальность? Разве Торнфильд превратился в развалины? Разве я отделен от тебя непреодолимым препятствием? Разве я покинул тебя без единой слезы, без слова, без поцелуя?
— Пока еще нет.
— А разве я собираюсь это сделать? Уже начался день, который свяжет нас навеки, и когда мы будем вместе, эти воображаемые ужасы исчезнут. Я за это ручаюсь.
— Воображаемые ужасы, сэр? Как я хотела бы, чтобы это было так. И хочу теперь больше, чем когда-либо, раз даже вы не можете объяснить тайну этой страшной гостьи.
— А раз даже я не могу, Джен, значит, этого не было.
— Но, сэр, когда я сказала себе то же самое, проснувшись на другое утро, и когда обвела взглядом комнату, чтобы ободрить себя и успокоить при ярком дневном свете видом знакомых мне предметов, то на ковре, как полное опровержение моих гипотез, я обнаружила разорванную пополам вуаль.
Я почувствовала, как мистер Рочестер вздрогнул и затрепетал. Он порывисто обнял меня.
— Слава богу! — воскликнул он. — Если какое-то злое существо было подле тебя в прошлую ночь, то пострадала только вуаль. Подумать только, что могло случиться!
Задыхаясь, он так прижал меня к себе, что я едва могла перевести дух. Спустя несколько мгновений он продолжал уже бодрым тоном:
— А теперь, Дженет, я тебе все объясню. Это был полусон, полуреальность. В твою комнату бесспорно зашла какая-то женщина. И этой женщиной могла быть только Грэйс Пул. Ты с полным правом назвала ее странным существом. Вспомни, что она сделала со мной, что сделала с Мэзоном. На грани сна и бодрствования видела ее ты, но так как ты была в лихорадке, почти в бреду, — она показалась тебе фантастическим существом: длинные растрепанные волосы, припухшее и почерневшее лицо, огромный рост — все это плод твоего воображения. Это результат кошмара. Вуаль была разорвана на самом деле, и это на нее очень похоже. Ты, конечно, спросишь, зачем я держу эту женщину в доме? Когда мы будем уже не первый день женаты, я скажу тебе, но не теперь. Ты удовлетворена, Джен? Ты принимаешь такое объяснение тайны?
Я задумалась. Это объяснение казалось единственно возможным. Правда, я не была удовлетворена им, но, чтобы доставить мистеру Рочестеру удовольствие, сделала вид, что вполне согласна с ним. Разговор, однако, принес мне облегчение, и я ответила моему хозяину веселой улыбкой. Был уже четвертый час ночи, и нам надо было расстаться.
— Софи, кажется, спит с Аделью в детской? — спросил он, когда я зажгла свечу.
— Да, сэр.
— В кроватке Адели найдется достаточно места и для тебя. Проведи сегодня ночь с ней, Джен. Неудивительно, что все это так подействовало на тебя, и я предпочел бы, чтобы ты спала не одна. Обещай мне ночевать в детской.
— Я лягу там с удовольствием, сэр.
— И хорошенько запри дверь изнутри. Когда поднимешься наверх, разбуди Софи, под предлогом, будто хочешь напомнить ей, чтобы она подняла тебя завтра вовремя. Ты должна одеться и позавтракать до восьми. А теперь отгони все мрачные мысли, Дженет. Разве ты не слышишь, что ветер стих и только шепчет в листьях, а дождь уже не стучит в оконные стекла? Посмотри (он приподнял занавеску), какая чудесная ночь!
И он был прав. Половина неба была чиста и безбурна. Ветер переменился и теперь гнал облака на восток, и они тянулись длинными серебристыми рядами; мирно светила луна.
— Ну, — сказал мистер Рочестер, вопросительно заглядывая мне в лицо, — как теперь чувствует себя моя Дженет?
— Ночь ясна, сэр, и я тоже.
— И сегодня ночью тебе не приснится ни разлука, ни печаль, а только счастливая любовь и блаженный союз.
Его пророчество исполнилось лишь наполовину. Я не видела в эту ночь печальных снов, но мне не снилась и радость, ибо я не спала вовсе. Я держала маленькую Адель в своих объятиях, сторожа ее детский сон, такой спокойный, такой бесстрастный, такой невинный, и ждала приближения утра; все мое существо бодрствовало. И как только встало солнце, встала и я. Я помню, как Адель прижалась ко мне, когда я уходила от нее, помню, что поцеловала ее и сняла ее ручки с моей шеи. Я заплакала от странного волнения и ушла, чтобы мои рыдания не нарушили ее тихий покой. Она казалась мне символом моей прошедшей жизни, а тот, кого я теперь готовилась встретить, был прообразом моего неведомого будущего, которое и привлекало — и страшило меня.
Глава XXVI
Софи пришла в семь — одеть меня; она возилась так долго, что мистер Рочестер, очевидно, выведенный из терпения этой задержкой, послал наверх, спросить, отчего я не иду. Она как раз прикрепляла вуаль к моим волосам, — это был тот скромный кусок кружева, который приготовила я. Как только она отпустила маня, я бросилась к двери.
— Минуточку! — крикнула она по-французски. — Вы хоть посмотрите на себя в зеркало, вы даже не взглянули.
Уже у самой двери я обернулась. Я увидела в зеркале фигуру в светлом платье и вуали и не узнала себя, — она показалась мне какой-то чужой.
— Джен! — раздался внизу голос, и я бросилась на лестницу. Мистер Рочестер встретил меня на полдороге. — Как ты копаешься, — сказал он, — у меня сердце разрывается от нетерпения, а ты так долго не идешь!
Он привел меня в столовую, осмотрел с головы до ног, заявил, что я прекрасна, как лилия, и не только гордость его жизни, но и свет очей его, и затем, предупредив, что дает мне всего десять минут на завтрак, позвонил. Вошел один из недавно нанятых лакеев.
— Что, Джон закладывает?
— Да, сэр.
— А вещи снесли вниз?
— Сейчас сносят, сэр.
— Отправляйтесь в церковь и посмотрите, там ли мистер Вуд (священнослужитель) и причетник. Вернитесь и доложите мне.
Как читатель уже знает, церковь находилась сейчас же за воротами. Слуга вскоре вернулся.
— Мистер Вуд в ризнице, сэр. Он облачается.
— А коляска?
— Лошадей запрягают.
— В церковь мы пойдем пешком, но карета должна быть здесь к той минуте, как мы вернемся. Вещи погрузить и привязать, и кучер пусть сидит на месте.
— Слушаю, сэр.
— Джен, ты готова?
Я встала. Странная это была свадьба — ни шаферов, ни подруг, ни родственников; никого, кроме мистера Рочестера и меня. В холле нас поджидала миссис Фэйрфакс. Мне хотелось сказать ей несколько слов, но мою руку словно сжали железные тиски; мистер Рочестер повлек меня вперед так стремительно, что я едва поспевала за ним; заглянув ему мельком в лицо, я увидела, что он не допустил бы ни секунды промедления. Я подумала, что для жениха у мистера Рочестера довольно странный вид: лицо его выражало мрачную решимость и непреклонную волю, глаза сверкали из-под нахмуренных бровей.
Я не заметила, какой был день — ясный или пасмурный. Когда мы спешили по главной аллее к воротам, я не смотрела ни на небо, ни на землю. Мое сердце было в моих взорах, а они были словно прикованы к мистеру Рочестеру. Мне хотелось увидеть то незримое, на что, казалось, был устремлен его пристальный, горячий взгляд. Мне хотелось уловить те мысли, с которыми он, казалось, борется так упорно и непреклонно. У церковной ограды он остановился, заметив, что я совсем задохнулась.
— Я жесток в моей любви, — сказал он. — Отдохни минутку, обопрись на меня, Джен.
Как сейчас помню старую серую церковь, спокойно возвышавшуюся перед нами; вокруг ее шпиля летал грач, чернея на фоне румяного утреннего неба. Я помню также зеленые могилки и фигуры каких-то двух незнакомцев, бродивших среди памятников и читавших надписи, вырезанные на некоторых замшелых плитах. Я обратила на них внимание потому, что, увидев нас, они зашли за церковь. Я не сомневалась, что они войдут в боковую дверь и будут присутствовать на церемонии. Мистер Рочестер их не заметил; он пристально смотрел мне в лицо, от которого внезапно отхлынула вся кровь. Я почувствовала на лбу капли пота, мои губы и щеки похолодели. Когда я оправилась, он бережно повел меня по дорожке к церковным дверям.
Мы вошли в тихий, скромный храм. Священник уже ждал нас в своем белом облачении возле низкого алтаря, рядом с ним стоял причетник. Все было тихо, только в дальнем углу шевелились две тени. Мое предположение оказалось правильным: незнакомцы проскользнули в церковь раньше нас и теперь стояли у склепа Рочестеров, повернувшись к нам спиной и рассматривая сквозь решетку старую мраморную гробницу с коленопреклоненным ангелом, охранявшим останки Дэймера Рочестера, убитого при Марстонмуре во время войны Алой и Белой Розы, и Элизбет Рочестер — его жены.
Мы заняли свои места. Услышав позади себя осторожные шаги, я взглянула через плечо: один из незнакомцев приближался к церковной кафедре. Служба началась. Уже было дано объяснение того, что такое брак, затем священник подошел к нам и, слегка поклонившись мистеру Рочестеру, продолжал:
— Я прошу и требую от вас обоих (как в страшный день суда, когда все тайны сердца будут открыты): если кому-либо из вас известны препятствия, из-за которых вы не можете сочетаться законным браком, то чтобы вы признались нам, ибо нельзя сомневаться в том, что все, кто соединяется иначе, чем это дозволяет слово божье, богом не соединены и брак их не считается законным.
Он замолчал, как того требовал обычай. Когда это молчание бывало нарушено? Может быть, раз в столетие. Священник, не отрывая глаз от книги, которую держал в руках, лишь на миг перевел дыхание и хотел продолжать, он уже протянул руку к мистеру Рочестеру, и его губы уже открылись, чтобы спросить: «Хочешь взять эту женщину себе в жены?» — когда совсем близко чей-то голос отчетливо произнес:
— Брак не может состояться, я заявляю, что препятствие существует.
Священник стоял онемев, не спуская глаз с говорившего, растерялся и причетник. Мистер Рочестер вздрогнул, словно перед ним разверзлась пропасть; он крепче уперся в землю, чтобы сохранить равновесие, и, не повертывая головы, не глядя ни на кого, сказал:
— Продолжайте.
Когда он произнес это слово низким и глухим голосом, воцарилось глубокое молчание. Затем мистер Вуд сказал:
— Я не могу продолжать, раз такое заявление сделано. Я должен выяснить, соответствует ли оно действительности.
— Бракосочетание должно быть прервано, — снова раздался голос позади нас. — Я имею возможность доказать справедливость моего заявления: для брака существует непреодолимое препятствие.
Мистер Рочестер слышал, но казался по-прежнему непоколебимым. Он стоял гордо выпрямившись и только сжал мою руку в своей. Как горячо было это пожатие и как напоминал его массивный лоб в эту минуту бледный непроницаемый мрамор! Как горели его глаза, настороженные и полные мятежного огня!
Мистер Вуд, казалось, растерялся.
— А каков характер этого препятствия? — спросил он. — Может быть, его можно устранить? Объяснитесь.
— Едва ли, — последовал ответ. — Я назвал его непреодолимым. И я говорю не без оснований.
Незнакомец вышел вперед и облокотился о балюстраду. Он продолжал, выговаривая каждое слово отчетливо, спокойно, уверенно, но не громко:
— Это препятствие состоит в том, что мистер Рочестер уже женат и его жена жива.
Мои нервы отозвались на эти спокойные слова так, как не отзывались на самый страшный удар грома; моя кровь ощутила их коварное вторжение, как не ощущала мороза и пламени, — но я крепко держала себя в руках и не собиралась упасть в обморок. Я посмотрела на мистера Рочестера и заставила его взглянуть на меня, — его лицо напоминало бескровное изваяние. Глаза были мрачны и пылали. Он ничего не отрицал; казалось, он бросал вызов всему миру. Не говоря ни слова, без улыбки, как будто не признавая во мне человеческое существо, он только обнял меня за талию и привлек к себе.
— Кто вы? — спросил он незнакомца.
— Моя фамилия Бриггс, я поверенный из Лондона.
— И вы мне хотите навязать какую-то жену?
— Я готов напомнить вам, сэр, о существовании вашей супруги, которая признана законом, если и не признана вами.
— Потрудитесь описать ее, как ее имя, кто ее родственники, где она живет?
— Пожалуйста! — Мистер Бриггс спокойно извлек из кармана листок бумаги и торжественно прочел:
«Я утверждаю и могу доказать, что двадцатого октября такого-то года (пятнадцать лет тому назад) Эдвард Фэйрфакс Рочестер из Торнфильдхолла в …ширском графстве и из замка Ферндин в …шире женился на моей сестре Берте-Антуанетте Мэзон, дочери Джонаса Мэзона, коммерсанта, и Антуанетты, его жены-креолки; венчание происходило в Спаништауне, на Ямайке. Запись брака может быть найдена в церковных книгах, а копия с нее находится у меня в руках. Подпись: Ричард Мэзон».
— Это — если только документ подлинный — доказывает, что я был женат, но не доказывает, что упомянутая здесь женщина, ставшая моей женой, жива.
— Три месяца тому назад она еще была жива, — возразил мистер Бриггс.
— Откуда это вам известно?
— У меня есть свидетель, показания которого даже вы, мистер Рочестер, едва ли сможете опровергнуть.
— Давайте его сюда или убирайтесь к дьяволу.
— Сначала я представлю его вам. Он здесь. Мистер Мэзон, будьте так добры, подойдите сюда.
Услышав это имя, мистер Рочестер стиснул зубы. Все его тело конвульсивно вздрогнуло. Я была настолько близко от него, что физически ощущала волну ярости или отчаяния, словно обдавшую его с головы до ног. Второй незнакомец, до сих пор остававшийся на заднем плане, подошел ближе. Из-за плеча мистера Бриггса выступило бледное лицо. Да, это был сам Мэзон. Мистер Рочестер обернулся и с гневом посмотрел на него. Обычно его глаза были черными, но теперь в них был странный, красноватый, я бы сказала, кровавый отблеск, напоминавший разгорающийся пожар. Он сделал движение, занес свою сильную руку, готовый ударить Мэзона, швырнуть его на каменный пол, выбить дух из его тощего тела, но Мэзон отпрянул и закричал тонким голосом: «Ради бога!» Презрение охладило порыв мистера Рочестера. Его пыл угас, словно под дуновением ветра. Он только спросил:
— А ты что имеешь сказать?
Побелевшие губы Мэзона пролепетали что-то нечленораздельное.
— Иди к дьяволу, если не можешь выговорить ни слова. Я спрашиваю, что ты имеешь сказать?
— Сэр, сэр, — прервал его священник. — Не забывайте, что вы в священном месте. — Затем, обратившись к Мэзону, он мягко спросил: — Вам известно, сэр, жива или нет жена этого джентльмена?
— Смелее, — подбадривал его адвокат. — Говорите же.
— Она живет в Торнфильдхолле, — наконец выговорил Мэзон, — я видел ее в апреле этого года. Я ее брат.
— В Торнфильдхолле? — изумился священник. — Не может быть. Я давно живу в этих местах, сэр, и никогда не слышал о хозяйке Торнфильдхолла.
Я увидела, как лицо мистера Рочестера исказилось мрачной гримасой, и он пробормотал:
— Еще бы! Я постарался, чтобы никто не слышал о ней и не догадывался, что она моя жена. — Он замолчал. Несколько минут он как бы что-то взвешивал. Затем, видимо, решился и заявил:
— Довольно! Сейчас все это вырвется наружу, как пуля из ружья. Вуд, захлопните вашу книгу и снимите ваше облачение. Джон Грин (это был причетник), уходите из церкви. Венчания сегодня не будет.
Тот повиновался.
— Двоеженство — неприятное слово! — продолжал мистер Рочестер с вызовом. — И все-таки я собирался стать двоеженцем. Как видите, судьба посмеялась надо мной, а может быть, провидение вмешалось в мои дела, — будем считать, что это перст провидения. В данную минуту я, наверно, немногим лучше самого дьявола. И — как мой духовный отец, вероятно, сказал бы мне — заслуживаю, без всякого сомнения, строжайшей кары божьей, вплоть до неугасимого огня и вечной муки. Джентльмены, мой план сорвался! То, о чем этот поверенный и его клиент сообщили вам, правда. Я в некотором роде женат. Женщина, которая называется моей женой, жива. Вы сказали, Вуд, что никогда не слышали о миссис Рочестер, но до вас, вероятно, не раз доходили сплетни относительно загадочной сумасшедшей, которая содержится в доме под замком. Иные, наверное, нашептывали вам, что это моя незаконная сестра, другие — что это моя отставная любовница. Так вот, разрешите мне сказать, что это не кто иная, как моя жена, на которой я женился пятнадцать лет назад. Ее зовут Берта Мэзон, она сестра вон того решительного господина, который своими дрожащими руками и побелевшими щеками показывает вам, на что способен храбрый мужчина. Смелее, Дик, не бойся! Я скорее ударю женщину, чем тебя. Берта Мэзон — сумасшедшая, и она происходит из семьи сумасшедших. Три поколения идиотов и маньяков! Ее мать, креолка, была сумасшедшая и страдала запоем. Это стало мне известно лишь после того, как я женился на ее дочери; ибо до брака все эти семейные секреты держались в тайне. Берта, как преданная дочь, пошла по стопам своих родителей во всех отношениях. Такова была моя прелестная жена: добродетельная, умная, скромная! Вы можете себе представить, каким я был счастливым человеком! Какие на мою долю выпали разнообразные удовольствия! Это было райское блаженство, если бы вы только знали! Но довольно объяснений! Бриггс, Вуд, Мэзон, я приглашаю вас всех в мой дом, посетить пациентку миссис Пул — мою жену! Вы увидите, на каком существе меня женили обманом, и убедитесь сами, имел ли я право разорвать эти узы и искать близости с существом, в котором прежде всего видел человека. Эта девушка, — продолжал он, взглянув на меня, — знала не больше вашего, Вуд, о мерзкой тайне. Она верила мне безусловно, у нее и в мыслях не было, что ее собирается завлечь в ловушку мнимого брака негодяй, уже связанный с дурной, безумной и озверевшей женщиной! Я всех вас приглашаю! Идемте!
Все еще продолжая крепко держать меня за руку, он вышел из церкви. Трое мужчин последовали за ним. Перед подъездом дома стояла коляска.
— Поворачивай в конюшню, Джон, — сказал мистер Рочестер холодно. — Сегодня мы никуда не едем.
При нашем появлении миссис Фэйрфакс, Адель, Софи и Ли бросились нам навстречу, чтобы поздравить нас.
— Уходите отсюда все! — крикнул хозяин. — Никому не нужны ваши поздравления! Во всяком случае не мне! Они опоздали на пятнадцать лет!
Он поспешил дальше и стал подниматься по лестнице, все еще держа меня за руку и знаками приглашая мужчин следовать за ним. Мы поднялись на второй этаж, прошли коридор, поднялись на третий. Мистер Рочестер открыл своим ключом низенькую черную дверь, и мы вступили в обитую гобеленами комнату с огромной кроватью и резным шкафом.
— Узнаешь эту комнату, Мэзон? — сказал мистер Рочестер. — Здесь она искусала тебя и хватила ножом.
Он раздвинул гобелены на стене, под которыми оказалась вторая дверь. Ее он также открыл. Перед нами была комната без окон; в камине, окруженном крепкой высокой решеткой, горел огонь, а с потолка спускалась зажженная лампа. У камина стояла, наклонившись, Грэйс Пул и, видимо, что-то варила в кастрюльке.
В дальнем темном углу комнаты какое-то существо бегало взад и вперед. Сначала трудно было даже разобрать, человек это или животное. Оно бегало на четвереньках, рычало и фыркало, точно какой-то диковинный зверь. Но на нем было женское платье; масса черных седеющих волос, подобно спутанной гриве, закрывала лицо страшного существа.
— Здравствуйте, миссис Пул! — сказал мистер Рочестер. — Как вы и как сегодня ваша больная?
— Ничего, сэр, благодарю вас! — отозвалась Грэйс, осторожно ставя кипящее варево на решетку. — Беспокойна, но по крайней мере не бесится.
Неистовый вопль опроверг ее слова. Одетая в платье женщины гиена поднялась на ноги и выпрямилась во весь рост.
— О сэр, она увидела вас! — воскликнула Грэйс. — Ушли бы вы лучше!
— Одну минуту, Грэйс. Дайте мне побыть одну минуту.
— Осторожнее, сэр! Ради бога, будьте осторожны!
Безумная залаяла. Она откинула с лица спутанные пряди волос и диким взглядом обвела посетителей. Я без труда узнала это багровое лицо, эти одутловатые щеки. Миссис Пул сделала несколько шагов вперед.
— Не мешайте, — сказал мистер Рочестер, отстраняя ее. — Ножа у нее, надеюсь, нет, а я настороже.
— Никогда не знаешь, что у нее есть, сэр; она ужасно хитрая. Она кого хочешь перехитрит.
— Лучше уйдем отсюда, — прошептал Мэзон.
— Ступай к дьяволу! — порекомендовал ему зять.
— Берегитесь! — крикнула Грэйс.
Три джентльмена быстро отступили. Мистер Рочестер загородил меня собой. Сумасшедшая, сделав прыжок, вцепилась ему в горло и впилась зубами в щеку; завязалась борьба. Она была очень рослая, почти такая же, как ее муж, но только гораздо толще. В завязавшейся борьбе она обнаружила чисто мужскую силу и чуть не задушила мистера Рочестера, несмотря на его атлетическое сложение. Он мог сразить ее одним ударом, но не хотел поднимать на нее руку. Он только защищался. Наконец ему удалось схватить ее за локти. Грэйс Пул дала ему веревку, и он связал руки безумной за спиной, другой веревкой он привязал ее к стулу. Все это происходило под неистовые вопли сумасшедшей, делавшей судорожные попытки вырваться. Затем мистер Рочестер обернулся к зрителям; он посмотрел на них с улыбкой, полной горечи и отчаянья.
— Вот это моя жена, — сказал он. — Это единственные супружеские объятия, которые мне суждено испытать, единственные ласки, которые могут скрасить часы моего досуга. А вот та, которую я мечтал назвать своей! — Он положил мне руку на плечо. — Молоденькая девушка, которая стоит так сурово и спокойно у самых дверей ада, глядя с полным самообладанием на проделки этого демона. Не правда ли, это было бы приятным разнообразием после такого дьявольского кушанья? Вуд и Бриггс, посмотрите, какой контраст! Сравните эти чистые глаза с теми вон, налитыми кровью, это лицо — с той маской, этот стройный стан — с той глыбой мяса, — и потом судите меня, вы, священник, и вы, представитель закона. И вспомните, что каким судом судите, таким и вас будут судить. А теперь прочь отсюда, я должен запереть мое сокровище.
Мы все вышли. Мистер Рочестер задержался на мгновенье, чтобы отдать какое-то приказание Грэйс Пул. Когда мы спускались по лестнице, поверенный обратился ко мне.
— Вы, сударыня, — сказал он мне, — полностью оправданы, и ваш дядя будет рад слышать это, если он еще окажется жив, когда мистер Мэзон вернется на Мадейру.
— Мой дядя? Как? Разве вы знаете его?
— Мистер Мэзон его знает. Мистер Эйр был много лет коммерческим корреспондентом их торгового дома. Когда ваш дядя получил от вас письмо относительно предполагаемого брака между вами и мистером Рочестером, мистер Мэзон, который жил в это время на Мадейре ради поправления здоровья, случайно встретился с ним, возвращаясь на Ямайку. Мистер Эйр упомянул о письме, так как ему было известно, что мой клиент знаком с неким джентльменом по фамилии Рочестер, Мистер Мэзон, естественно пораженный и расстроенный, объяснил, как обстоит дело. Ваш дядя, к сожалению, сейчас при смерти. Принимая во внимание его возраст, характер его болезни и ту стадию, которой она достигла, трудно допустить, чтобы он поправился. Поэтому он не мог поспешить в Англию, чтобы вызволить вас из ловушки, в которую вас чуть не завлекли, но он умолил мистера Мэзона не терять времени и предпринять все, чтобы расстроить этот мнимый брак. Он отправил его ко мне за поддержкой. Я не стал терять времени и очень рад, что не опоздал. Вы, без сомнения, тоже. Не будь я уверен, что ваш дядя умрет раньше, чем вы доберетесь до Мадейры, я посоветовал бы вам поехать туда с мистером Мэзоном; но при создавшемся положении я считаю, что вам лучше остаться в Англии и ждать распоряжений от мистера Эйра или известия о нем. У нас здесь есть еще какие-нибудь дела? — обратился он к мистеру Мэзону.
— Нет, нет, поедем скорее, — испуганно ответил тот. И, даже не дождавшись мистера Рочестера, чтобы проститься с ним, они удалились.
Священник остался, чтобы сказать несколько назидательных слов упрека или увещания своему высокомерному прихожанину. Выполнив этот долг, он тоже покинул дом.
Стоя на пороге моей спальни, куда я спаслась бегством, я слышала, как он удалялся. Когда все ушли, я заперла дверь на задвижку, чтобы никто не проник ко мне, и не стала плакать и скорбеть — я была для этого еще слишком спокойна, — но машинально сняла с себя свадебный наряд, вместо которого надела свое вчерашнее платьице, — а я-то думала, что уже никогда не надену его! Потом села на стул. Меня охватили мучительная слабость и усталость. Я сложила руки на столе, опустила на них голову и погрузилась в размышления; до этой минуты я только слушала, смотрела, двигалась, ходила туда и сюда или давала вести себя, наблюдая, как событие следует за событием и за одной тайной разверзается другая; но теперь я стала раздумывать.
В общем утро было довольно спокойное, кроме короткой сцены с сумасшедшей. Весь эпизод в церкви совершился бесшумно, не было ни взрыва страстей, ни громких споров, вызовов или оскорблений, не было слез и рыданий. Было произнесено всего несколько слов: спокойное заявление о невозможности брака. Мистер Рочестер задал несколько коротких угрюмых вопросов, последовали ответ, объяснение, доказательства. Мой хозяин открыто сознался во всем, затем привел живое подтверждение своих слов. Чужие ушли, и все было кончено.
Я сидела в своей комнате, как обычно, такая же, как и была, без всякой видимой перемены. Я не была замарана, оскорблена, унижена. И все же где Джен Эйр вчерашнего дня? Где ее жизнь, где ее надежды?
Та Джен Эйр, которая с надеждой смотрела в будущее, Джен Эйр — почти жена, стала опять одинокой, замкнутой девушкой. Жизнь, предстоявшая ей, была бледна, будущее уныло. Среди лета грянул рождественский мороз, белая декабрьская метель пронеслась над июльскими полями, мороз сковал зрелые яблоки, ледяные ветры сорвали расцветающие розы, на полях и лугах лежал белый саван, поляны, еще вчера покрытые цветами, сегодня были засыпаны глубоким снегом, и леса, которые еще двенадцать часов назад благоухали, как тропические рощи, теперь стояли пустынные, одичалые, заснеженные, как леса Норвегии зимой. Все мои надежды погибли, они убиты по воле коварного рока, как были убиты в одну ночь все первенцы в Египте. Я вспомнила свои заветные мечты, которые вчера еще цвели и сверкали. Они лежали, как мертвые тела, недвижные, поблекшие, бескровные, уже неспособные ожить. Я оглянулась на мою любовь: это чувство, которое принадлежало мистеру Рочестеру, которое он взрастил, замерзало в моем сердце, как больное дитя в холодной колыбели. Тоска и тревога овладели мной. Моя любовь не могла устремиться в объятия мистера Рочестера, не могла согреться на его груди. О, никогда не вернет он этого чувства, ибо вера обманута, надежда растоптана. Мистер Рочестер уже не был для меня тем, что раньше, он оказался не таким, каким я его считала. Я не винила его ни в чем, не утверждала, что он обманул меня, но в нем исчезла та черта безупречной правдивости, которая так привлекала меня, и поэтому я сама должна была покинуть его. Это мне было совершенно ясно. Когда, как, куда бежать — я пока еще не знала, но он и сам, без сомнения, поспешит удалить меня из Торнфильда. Видимо, он не любил меня по-настоящему. Это было лишь мимолетное увлечение, но оно наткнулось на препятствие, и я больше не нужна ему. Мне было бы даже страшно встретиться с ним теперь. Вероятно, самый вид мой стал ему ненавистен. О, как я была слепа, как слаба в своих поступках!
Мои глаза были закрыты; казалось, вокруг меня сгущается мрак, и мысли бушуют во мне, словно темный и бурный прилив. Обессилев, ослабев, без воли, я, казалось, лежала на дне высохшей большой реки. Я слышала, как с гор мчится мощный поток и приближается ко мне, но у меня не было желания встать, у меня не было сил спастись от него. Я лежала в изнеможении, призывая смерть. Одна только мысль трепетала во мне еще какой-то слабой жизнью: это было воспоминание о Боге; оно жило в молчаливой молитве; ее непроизнесенные слова слабо брезжили в моем помутившемся сознании, я должна была выговорить их вслух, но не имела сил…
«Не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому».
О, оно было близко! И так как я не просила небо отвратить его, не сложила рук, не преклонила колен, не открыла уст, оно обрушилось на меня; могучий, полноводный поток захлестнул меня со страшной силой. Горькое сознание утраченной жизни, моя разбитая любовь, мои погибшие надежды, моя поверженная вера — все это хлынуло на меня мощной темной массой. Этот страшный чае не поддается описанию. Поистине «все воды твои и волны твои пронеслись надо мной».
Глава XXVII
Близился вечер. Я, наконец, подняла голову, огляделась кругом и, увидев, что солнце уже на западе и его лучи золотят стены моей комнаты, спросила себя: «Что же мне делать?»
Но последовавший за этим ответ: «Немедленно покинь Торнфильд» — прозвучал так повелительно и был так ужасен, что я невольно заткнула уши. «Нет, нет, — говорила я себе, — об этом пока не может быть и речи! Пусть я перестала быть невестой Эдварда Рочестера — это еще полбеды. Пусть я очнулась от ослепительных грез и нашла, что все это лишь пустой и тщетный обман, — это ужас, к которому еще можно привыкнуть, с которым можно справиться. Но что я должна покинуть своего хозяина решительно и бесповоротно, сейчас и навсегда — это выше моих сил! Я не могу этого сделать!»
Однако внутренний голос твердил мне, что нет — могу, и предвещал, что я так и сделаю. Я боролась с собственным решением, я желала себе слабости, чтобы избежать этой новой голгофы, которая лежала передо мной, — но неумолимое сознание твердило мне, что это еще только первый шаг, и угрожало сбросить меня в бездонную пропасть отчаяния.
— Тогда пусть меня другие оторвут от него! — восклицала я. — Пусть кто-нибудь поможет мне!
«Нет, ты сама это сделаешь, и никто не поможет тебе, ты сама вырвешь себе правый глаз, сама отрубишь правую руку. Твое сердце будет жертвой, а ты — священником, приносящим ее!»
Я вскочила, чтобы бежать от страшного одиночества, в котором меня застал этот беспощадный судья, от молчания, в котором зазвучал этот грозный голос. Когда я встала, у меня закружилась голова, и я почувствовала, что не держусь на ногах от горя и истощения. Весь этот день я ничего не пила и не ела, так как утром мне не хотелось завтракать. И я с щемящим чувством тоски подумала о том, что вот уже сколько времени сижу взаперти, а никто не прислал узнать, как я себя чувствую, и не позвал меня вниз. Даже маленькая Адель не постучалась в дверь, даже миссис Фэйрфакс не зашла навестить меня. «Друзья всегда забывают тех, кто несчастен», — прошептала я, отодвигая задвижку и выходя из комнаты. На пороге я на что-то наткнулась. Голова моя все еще кружилась, в глазах стоял туман, руки и ноги ослабели. Не в силах устоять, я упала, но не на пол, — чья-то рука подхватила меня. Я подняла голову: меня поддерживал мистер Рочестер, сидевший на стуле у порога моей комнаты.
— Наконец-то ты вышла, — сказал он. — Как долго я тебя ждал, как прислушивался, но я не слышал ни одного движения, ни одного рыдания, — еще пять минут этой смертельной тишины, и я бы взломал замок, как грабитель. Значит, вы решили пощадить меня, вы заперлись и скорбите одна? Лучше бы вы пришли и излили на меня свое негодование. Я знаю, у вас страстная душа, я ждал подобной сцены, я был готов к потоку слез, но я хотел, чтобы они были пролиты на моей груди. Однако они пролились на бесчувственный пол или на ваш носовой платок. Но я заблуждаюсь, вы и не плакали вовсе? Я вижу бледные щеки и угасший взгляд, но никаких следов слез. Вероятно, ваше сердце плакало кровавыми слезами?
Ну, что же, Джен, ни одного слова упрека, горечи или боли — ничего, чтобы уколоть мое чувство или пробудить мой гнев? Вы сидите спокойно там, куда я вас посадил, и смотрите на меня тоскливым, безжизненным взглядом, Джен, у меня и в мыслях не было так оскорбить вас. Если бы у человека была единственная овечка, которая дорога ему, как родное дитя, которая ела и пила с ним из одной посуды и спала у него на груди, а он по какой-то случайности убил ее, то он не мог бы оплакивать своей преступной оплошности больше, чем я. Вы можете когда-нибудь простить меня?
Читатель, я простила его в ту же минуту. В его глазах было такое глубокое раскаянье, такая подлинная скорбь в его голосе, такая мужественная энергия в каждом жесте, и, кроме того, во всем его существе сквозила такая неизменная любовь, что я простила ему все! Но молча, только в глубине своего сердца.
— Теперь вы знаете, что я негодяй, Джен! — воскликнул он с тоской, вероятно удивленный моим упорным молчанием и покорностью, которые были скорее результатом слабости, чем нежелания говорить.
— Знаю, сэр.
— Тогда так и скажите мне, честно и прямо, не щадите меня.
— Я не могу, я устала и больна. Дайте мне воды.
Он не то вздохнул, не то застонал и, взяв меня на руки, понес вниз. Сначала я даже не узнала комнаты, в которой очутилась. Голова моя кружилась, и перед глазами был туман. Но затем я ощутила живительную близость тепла, — несмотря на то, что стояло лето, я совершенно закоченела. Он поднес к моим губам стакан вина, я глотнула и снова почувствовала, что жива. Затем он заставил меня что-то съесть, и вскоре я вполне оправилась. Я увидела, что нахожусь в библиотеке и сижу в его кресле, а он стоит рядом. «Если бы я могла сейчас уйти из жизни без особых страданий, это было бы самое лучшее, — подумала я, — тогда мне не пришлось бы рвать все струны моего сердца, уходя от мистера Рочестера, так как я, видимо, все-таки должна буду уйти от него. Но я не хочу покидать его, я не могу его покинуть».
— Ну, как ты себя чувствуешь теперь, Джен?
— Гораздо лучше, сэр. Скоро я совсем успокоюсь.
— Выпей еще вина, Джен.
Я выпила. Мистер Рочестер поставил стакан на стол, остановился передо мной и внимательно на меня посмотрел. Вдруг он отвернулся, издав какое-то восклицание, полное затаенного страстного волнения. Он быстро прошелся по комнате и снова вернулся ко мне, он наклонился, словно желая поцеловать меня, но я помнила, что теперь ласки для меня запретны. Я отстранила его.
— Как? Что это значит? — воскликнул он нетерпеливо. — О, я знаю, ты не хочешь поцеловать мужа Берты Мэзон. Ты считаешь, что мои ласки отданы и объятия заняты.
— Во всяком случае они не для меня, сэр, и я не имею права притязать на них.
— Отчего, Джен? Впрочем, я не буду вызывать тебя на утомительные объяснения и отвечу за тебя. Оттого, что у меня есть уже жена, скажешь ты. Я верно угадал?
— Да.
— Если ты так думаешь, хорошего же ты обо мне мнения: ты должна считать меня хитрым интриганом, низким и подлым распутником, который клянется в бескорыстной любви, чтобы завлечь тебя в ловко расставленные сети, обольстить и лишить чести. Что ты скажешь на это? Я вижу, что ничего. Во-первых, ты еще очень слаба и еле дышишь, а во-вторых, ты еще никак не можешь привыкнуть к тому, чтобы бранить и поносить меня. Кроме того, у тебя на глазах уже слезы, и, если ты будешь говорить слишком много, они хлынут рекой; а у тебя нет ни малейшего желания упрекать, доказывать, делать сцены; ты думаешь о том, как тебе надо действовать, — говорить ты считаешь бесполезным. Я знаю тебя, и я настороже.
— Я не хочу, сэр, ни в чем идти против вас…
Мой дрогнувший голос показал мне, что я еще не могу отважиться на длинную фразу.
— В твоем понимании — нет, но в моем — ты собираешься погубить меня. Я женатый человек, — ведь ты это хотела сказать? — и в качестве женатого человека ты оттолкнешь меня, постараешься уйти с моей дороги; ведь ты только что отказалась поцеловать меня. Ты хочешь стать для меня совсем чужой, жить в этом доме только как гувернантка Адели. Если я когда-нибудь скажу тебе ласковое слово или дружеские чувства опять привлекут тебя ко мне, ты скажешь: «Этот человек чуть не сделал меня своей любовницей. Я должна быть по отношению к нему подобна льду и камню». И ты станешь льдом и камнем.
Я откашлялась, чтобы придать своему голосу твердость:
— Все вокруг изменилось, сэр, и я тоже должна измениться, — в этом не может быть сомнения; чтобы избежать мучительных колебаний и постоянной борьбы с сердечной склонностью и воспоминаниями, есть только один путь — у Адели должна быть новая гувернантка.
— О, Адель уедет в школу, я уже все устроил; и я отнюдь не собираюсь мучить тебя гнусными воспоминаниями, связанными с Торнфильдхоллом, этим проклятым местом, этим мерзостным склепом, в котором живое воплощение смерти вопиет к ясному небу, — этой тесной каменной преисподней, где властвует один только реальный дьявол, худший, чем легион воображаемых. Джен, ты не останешься здесь, и я тоже. Как жаль, что мы встретились в Торнфильде, где таятся привидения. Я потребовал от своих домочадцев, еще не зная тебя, чтобы от тебя было скрыто все касающееся этого проклятого места, — я просто боялся, что ни одна гувернантка не согласится жить при Адели, зная, кто обитает в этом доме. Но я не мог удалить больную в другое место, хотя у меня и есть еще один старый дом, в Ферндине; он еще более безлюден и уединен, и там я мог бы спокойно держать ее, если бы не вредная для здоровья местность в лесной глуши, — это и заставило меня отказаться от подобного плана. Вероятно, сырые стены скоро бы освободили меня от моей обузы. Но каждый грешник грешит по-своему, а я не имею склонности к тайному смертоубийству, даже в тех случаях, когда ненавижу безгранично.
Однако скрывать от тебя присутствие этой сумасшедшей женщины было все равно, что, накрыв ребенка плащом, положить его под ядовитым деревом: уже одно дыхание этой фурии отравляет воздух. Но я запру Торнфильдхолл, заколочу парадный вход и забью досками окна первого этажа. Я дам миссис Пул двести фунтов в год, чтобы она жила здесь с моей женой, как ты называешь эту страшную ведьму. Грэйс на многое пойдет ради денег, а кроме того, здесь останется с ней ее сын, трактирщик. Она будет не так одинока, и он сможет помогать ей во время приступов бешенства моей жены, когда той вздумается сжигать людей в их кроватях, бросаться на них с ножом или впиваться им в горло…
— Сэр, — прервала я его, — вы беспощадны к несчастной женщине. Вы к ней несправедливы. Вы говорите о ней с отвращением, с мстительной ненавистью. Это жестоко — она же не виновата в своем безумии.
— Джен, моя любимая крошка (так я буду звать тебя, ибо так оно и есть), ты не знаешь, о чем говоришь, и опять неверно судишь обо мне: не потому я ненавижу ее, что она безумна, — будь ты безумна, разве бы я ненавидел тебя?
— Думаю, что да, сэр.
— Тогда ты ошибаешься, и ты меня совсем не знаешь, не знаешь, на какую любовь я способен. Каждая частица твоей плоти так же дорога мне, как моя собственная: в болезни и в страданиях она все равно мне дорога. Душа твоя для меня бесценное сокровище, и если бы она заболела, она все равно оставалась бы моим сокровищем; если бы ты неистовствовала, я держал бы тебя в своих объятиях, а не надел бы на тебя смирительную рубашку. Твое прикосновение, даже в припадке безумия, имело бы все ту же прелесть для меня. Если бы ты набросилась на меня с такой же яростью, как эта женщина сегодня утром, я обнял бы тебя не только нежно, но и горячо. Я бы не отстранился от тебя с отвращением, и в твои тихие минуты у тебя не было бы иного стража, иной сиделки, кроме меня. Я был бы всегда возле тебя и ходил бы за тобой с неутомимой нежностью, даже если бы ты никогда не улыбнулась мне, и не уставал бы смотреть в твои глаза, если бы даже они не узнавали меня. Но для чего я думаю об этом? Я ведь говорил о том, чтобы увезти тебя из Торнфильда. Все, как ты знаешь, готово для немедленного отъезда; завтра ты отправишься. Я прошу тебя потерпеть еще одну только ночь под этой кровлей, Джен, а затем ты простишься с ее тайнами и ужасами навеки. У меня есть убежище, надежный приют, где меня не будут преследовать ненавистные воспоминания, нежелательные вторжения или ложь и злословие.
— Возьмите с собой Адель, сэр, — прервала я его, — вы будете не так одиноки.
— Что ты хочешь сказать, Джен? Я уже объяснил тебе, что отправлю Адель в школу; зачем мне общество ребенка, к тому же и не моего собственного, а незаконной дочери какой-то французской танцовщицы? Зачем ты ее навязываешь мне, зачем хочешь, чтобы она служила для меня развлечением?
— Вы говорили, что хотите уединиться, сэр, а одиночество и отрешенность — мучительны, они не для вас.
— Одиночество! Одиночество! — подхватил он с раздражением. — Я вижу, что должен объясниться. Что значит это выражение сфинкса на твоем лице? Ты будешь со мной в моем одиночестве. Понимаешь?
Я покачала головой. Нужно было немалое мужество, чтобы рискнуть на это немое возражение, видя, как он все больше волнуется. Он бегал по комнате, но тут вдруг остановился, словно прикованный к месту. Он посмотрел на меня долгим и пристальным взглядом. Я ответила глаза, уставилась на огонь и постаралась принять спокойный и уверенный вид.
— Вот уже опять задоринка в нелегком характере Джен, — сказал он наконец и притом более спокойно, чем можно было ожидать, судя по его виду. — Шелковая нить до сих пор скользила ровно, но я знал, что рано или поздно появится узелок и начнутся всякие затруднения. И вот они. Тысячи поводов для недоразумений, отчаяния и бесконечных тревог. Клянусь богом, надо быть каким-то Самсоном, чтобы распутать эти узлы!
Он снова заходил по комнате, но затем остановился прямо передо мной.
— Джен, ты хочешь послушаться здравого смысла? (Он наклонился и приблизил губы к моему уху.) Потому что, если ты не захочешь, я на все пойду. — Его голос был хриплым, его взгляд — взглядом человека, готового разорвать нестерпимые оковы и дать волю своей необузданности.
Я поняла, что еще мгновение, еще один бешеный порыв, и я уже не смогу справиться с ним. Только сейчас, вот в эту ускользающую секунду, я еще имею возможность подчинить его своей воле и удержать. Одно движение вражды, испуга, бегства — и все для меня и для него будет кончено. Но я ничуть не испугалась. Я чувствовала присутствие какой-то особой внутренней силы, какого-то таинственного воздействия, которое поддерживало меня. То была поистине критическая минута, но она была не лишена своеобразного очарования, такого, какое, может быть, испытывает индеец, когда мчится в своей пироге по речной стремнине. Я взяла его стиснутые руки, расправила судорожно сведенные пальцы и мягко сказала:
— Сядьте. Я буду говорить с вами, сколько вы захотите, и выслушаю все, что вы собираетесь сказать, — и разумное и неразумное.
Он сел, но все еще молчал. Я давно уже боролась со слезами, зная, что ему будет неприятно видеть меня плачущей. Но теперь я решила дать волю своим слезам. Если он рассердится, тем лучше. Я не стала сдерживаться и разрыдалась.
Скоро я услышала то, чего ждала: он заботливо уговаривал меня успокоиться. Я сказала, что не могу, пока он в таком состоянии.
— Но я не сержусь, Джен. Я просто слишком сильно люблю тебя, а между тем твое личико застыло в такой решительности, стало таким холодным и непреклонным, что я перестал владеть собой. Тише, тише, вытри глаза.
Его смягчившийся голос доказывал, что он укрощен; я тоже начала успокаиваться. Он сделал попытку положить мне голову на плечо, но я не позволила. Он хотел привлечь меня к себе — нет!
— Джен! Джен! — сказал он с такой бесконечной горечью, что каждый нерв во мне затрепетал. — Ты, значит, не любишь меня? Ты ценила только мое положение и преимущество быть моей женой, а теперь, когда ты считаешь, что я уже не гожусь в мужья, ты вздрагиваешь от моего прикосновения, точно я жаба или обезьяна?
Эти слова резанули меня по сердцу. Но что я могла сказать или сделать? Вероятно, и не надо было ничего ни делать, ни говорить. Но меня мучили угрызения совести, и, щадя его оскорбленные чувства, я не могла удержаться от желания пролить бальзам на рану, которую нанесла.
— Нет, я люблю вас, — воскликнула я, — и больше, чем когда-либо, но я не могу показывать вам это чувство и поощрять его в себе и говорю с вами об этом в последний раз.
— В последний раз, Джен? Как? Ты все еще любишь меня! И думаешь, что можешь, живя со мной и видя меня ежедневно, все еще оставаться холодной и далекой?
— Нет, сэр. Этого я, конечно, не смогла бы и поэтому вижу только один выход. Но я боюсь, что вы очень рассердитесь.
— О, скажи! Если я буду бушевать, то ты можешь расплакаться.
— Мистер Рочестер, я должна покинуть вас.
— На сколько времени, Джен? На несколько минут, чтобы пригладить волосы — они у тебя растрепались — и освежить лицо — твои щеки пылают?
— Я должна покинуть Торнфильд и Адель. Я должна навсегда расстаться с вами, начать новую жизнь, среди чужих людей и в чужом месте.
— Конечно. А разве я не сказал тебе то же самое? Но только мы не расстаться должны, а, наоборот, навсегда соединиться. Что же касается новой жизни, то все так и будет. Ты станешь моей женой. Я не женат, ты будешь миссис Рочестер и по существу и формально. Пока я жив, я буду предан одной тебе. Мы уедем на юг Франции и поселимся в беленьком домике, который я когда-то приобрел на берегу Средиземного моря. Там ты будешь вести счастливую, безмятежную и невинную жизнь. Не бойся, у меня и в мыслях нет вовлечь тебя в грех, сделать своей любовницей. Отчего же ты качаешь головой, Джен? Будь благоразумна, а не то я за себя не ручаюсь.
Его голос и руки дрожали. Его широкие ноздри раздувались, глаза сверкали. И все-таки я решилась заговорить:
— Сэр, ваша жена жива, вы сами признали это сегодня утром. Если бы я стала жить с вами, я неизбежно сделалась бы вашей любовницей: утверждать другое, значило бы лукавить или просто лгать.
— Джен, ты забываешь, что я отнюдь не уравновешенный человек. Я не долготерпелив, я не холоден и не бесстрастен. Из жалости к себе и ко мне тронь мой пульс — видишь, как он бьется? Берегись!
Он отогнул рукав и показал мне свою руку; кровь отлила от его щек и губ, они стали мертвенно бледны. Я была в полном отчаянии. Волновать его, противясь его желанию, было жестоко, но уступить я тоже не могла; я сделала то, что делают человеческие существа, когда они доведены до крайности, — обратилась за помощью к стоящему выше меня. Слова: «Боже, помоги мне» невольно сорвались с моих губ.
— Безумец! — внезапно воскликнул мистер Рочестер. — Я уверяю ее, что не женат, и не объясню, почему! Я забыл, что она ничего не знает ни об этой женщине, ни об обстоятельствах, которые привели меня к этому роковому союзу. О, я уверен, что Джен согласится со мной, когда узнает все, что знаю я. Дай мне твою руку, Дженет, чтобы я не только видел тебя, но и осязал, и я в нескольких словах расскажу тебе всю суть. Ты можешь выслушать меня?
— Да, сэр. Я могу слушать вас часами.
— Я прошу только несколько минут, Джен. Ты когда-нибудь слышала о том, что я не старший сын в роде, что у меня был брат старше меня?
— Я вспоминаю, что миссис Фэйрфакс говорила мне об этом.
— А ты слышала, что мой отец был жадным человеком, который выше всего на свете ценил деньги?
— Я слышала, что он был таким.
— Ну так вот, Джен, поэтому он решил не дробить своего состояния, он и мысли не допускал о том, что придется мне выделить какую-то долю наследства. Все должно было перейти к моему брату Роланду. Но он также не мог примириться и с той мыслью, что другой его сын будет беден. Поэтому я должен был выгодно жениться. Он стал искать мне невесту. Мистер Мэзон, плантатор и коммерсант в Вест-Индии, был его старым знакомым. Мой отец знал, что у него весьма солидное состояние. Он стал наводить справки. Выяснилось, что у мистера Мэзона есть сын и дочь и что отец даст за дочерью тридцать тысяч фунтов. Этого было достаточно. Когда я закончил образование, меня отправили на Ямайку, чтобы я там женился на девушке, которая уже была для меня сосватана. Мой отец ни словом не обмолвился о ее деньгах, но зато рассказал мне, что красотой мисс Мэзон гордится весь город. И это не было ложью. Она оказалась красивой девушкой, в стиле Бланш Ингрэм: высокая, величественная брюнетка. Ее семья, да и она также, хотели завлечь меня, потому что я хорошего рода. Мне показывали ее на вечерах, великолепно одетую, мы редко встречались наедине и очень мало разговаривали. Она всячески отличала меня и старалась обворожить, пуская в ход все свои чары. Мужчины ее круга, казалось, восхищались ею и завидовали мне. У меня кружилась голова, я был увлечен, и в силу моего невежества, наивности и неопытности, решил, что люблю ее.
Нет такого безумия, на которое человека не толкнуло бы идиотское желание первенствовать в обществе, а также чувственный угар, слепота и самоуверенность юности, толкающая на бессмысленные поступки. Ее родственники поощряли мои ухаживания, присутствие соперников подстегивало меня. Она делала все, чтобы покорить меня. Не успел я опомниться, как свадьба состоялась. О, я не оправдываюсь, вспоминая об этом поступке, я испытываю глубокое презрение к самому себе. Я нисколько не любил, нисколько не уважал, я в сущности даже не знал ее, я не был уверен в существовании хотя бы одной положительной черты в натуре моей жены. Я не заметил ни в ней, ни в ее поведении ни скромности, ни благожелательности, ни искренности, ни утонченности. И все-таки я на ней женился. Слепец! Жалкий, безумный слепец! Я согрешил бы гораздо меньше, если бы…
Но я не должен забывать, с кем говорю. Матери моей невесты я никогда не видел и считал, что она умерла. Лишь когда прошел медовый месяц, я узнал о своей ошибке: она была сумасшедшая и находилась в сумасшедшем доме. Оказывается, существовал еще и младший брат, тоже совершенный идиот! Старший, которого ты знаешь, — я не могу его ненавидеть, хотя презираю всю семью, ибо в его слабой душе есть какие-то искры порядочности и он проявляет неустанную заботу о своей несчастной сестре, а также воспылал ко мне некогда чисто собачьей преданностью, — вероятно, окажется со временем в таком же состоянии. Мой отец и брат Роланд все это знали: но они помнили только о тридцати тысячах фунтов и были в заговоре против меня. Все эти открытия ужаснули меня. Но, кроме обмана, я ни в чем не мог упрекнуть мою жену, хотя и обнаружил, что она по своему складу совершенно чужда мне, что ее вкусы противоречат моим, что ее ум узок, ограничен, банален и не способен стремиться к чему-нибудь более высокому. Вскоре я понял, что не могу провести ни одного вечера, ни одного часа в приятном общении с ней, между нами не мог иметь места никакой дружеский разговор: на какую бы тему я ни заговорил, она придавала всему какое-то грубое и пошлое истолкование, извращенное и нелепое.
Я убедился также, что у меня не может быть спокойной и налаженной семейной жизни, потому что никакая прислуга не была в состоянии мириться с внезапными и бессмысленными вспышками ее гнева, ее оскорблениями, ее нелепыми, противоречивыми приказаниями. Но даже и тогда я не осуждал ее. Я пытался перевоспитать ее, воздействовать на нее; таил в себе свое раскаяние, свое отвращение и подавлял глубокую антипатию к ней, которая разгоралась во мне.
Джен, я не буду смущать тебя отвратительными подробностями. Достаточно нескольких слов, и ты поймешь, что я испытал. Я прожил с этой женщиной четыре года, и она почти беспрерывно мучила меня. Ее дурные наклонности созревали и развивались с ужасающей быстротой. Ее пороки множились со дня на день. Только жестокость могла наложить на них узду, а я не хотел быть жестоким. Какой пигмейский ум был у нее и какие дьявольские страсти! Какие ужасные страдания они навлекли на меня! Берта Мэзон, истинная дочь своей презренной матери, провела меня через все те гнусные и унизительные испытания, какие выпадают на долю человека, чья жена не отличается ни воздержанностью, ни нравственной чистотой.
Тем временем мой брат умер, а вскоре умер и отец. Я стал богат, но вместе с тем — постыдно беден. Ведь со мной было связано существо грубое, нечистое и развращенное. Закон и общество признали эту женщину моей женой, и я никак не мог освободиться от нее, хотя врачи уже установили, что моя жена сумасшедшая и что те излишества, которым она предавалась, ускорили развитие давно таившейся в ней душевной болезни. Джен, тебе тяжело слушать мой рассказ? Ты кажешься совсем больной. Может быть, отложим до другого дня?
— Нет, сэр, кончайте. Мне жаль вас, мне глубоко вас жаль.
— Жалость, Джен, со стороны некоторых людей — унизительная подачка, и хочется швырнуть ее обратно тому, кто с ней навязывается. Эта жалость присуща грубым, эгоистическим сердцам; в ней сочетается раздражение от неприятных нам сетований с тупой ненавистью к тому, кто страдает. Не такова твоя жалость, Джен. От другого чувства посветлело сейчас твое лицо, другое чувство горит в твоем взоре и заставляет биться твое сердце и дрожать твои руки. Твоя жалость, моя любимая, это страдающая мать любви, ее отчаяние сродни высокой страсти. И я принимаю ее, Джен. Пусть дочь придет ко мне, мои объятия раскрыты.
— Нет, сэр, продолжайте. Что же вы сделали, когда узнали, что она сумасшедшая?
— Джен, я был близок к полному отчаянию. Только остатки уважения к себе удержали меня на краю бездны. В глазах света я был, несомненно, покрыт бесчестьем, но перед собственной совестью я был чист, ибо до конца оставался в стороне от ее преступной жизни и порочных страстей. И все-таки общество связывало мое имя с ее именем, и я соприкасался с ней ежедневно. Ее тлетворное дыхание смешивалось с тем воздухом, которым я дышал, и я не могу забыть, что был некогда ее мужем. Это воспоминание было и осталось невыразимо отвратительным. Более того, я знал, что, пока она жива, я никогда не смогу стать мужем другой женщины. И хотя она была на пять лет старше (ее семья и мой отец обманули меня даже в отношении возраста), она обещала пережить меня, так как хотя и была душевнобольной, но обладала несокрушимым физическим здоровьем. И вот в двадцать шесть лет я дошел до состояния полной безнадежности.
Однажды ночью я проснулся от ее криков (как только врачи признали ее сумасшедшей, ее пришлось, конечно, держать взаперти); была удушливая вест-индская ночь. Такие ночи часто предшествуют в этих широтах неистовому шторму. Не в силах заснуть, я встал и распахнул окно. Мне казалось, что воздух насыщен фосфором. Нигде ни одной струйки свежести. В комнату влетели москиты и наполнили ее однообразным жужжанием; море, шум которого доносился ко мне, волновалось, словно во время землетрясения; черные тучи проносились над ним. Луна садилась в воду, огромная, красная, как раскаленное пушечное ядро, — она бросала свой последний кровавый взгляд на мир, содрогавшийся от предвестий бури. Эта атмосфера и пейзаж физически угнетали меня, а в ушах моих неустанно звучали проклятия, которые выкрикивала сумасшедшая; она то и дело примешивала к ним мое имя, и притом с такой дьявольской ненавистью, с такими эпитетами… ни одна уличная девка не будет употреблять таких слов. Нас разделяли две комнаты, но перегородки в Вест-Индии очень тонки, и они не могли заглушить ее волчьего воя.
«Эта жизнь, — сказал я себе наконец, — сущий ад. Этот воздух, эти звуки — порождение бездны. Я имею право избавиться от них, если это в моих силах. Мои мучения кончатся, когда я освобожусь от плоти, сковывающей мою душу. Я не боюсь вечного огня, в который верят фанатики: хуже того, что есть сейчас, не может быть, я уйду отсюда и вернусь к моему небесному отцу».
Я говорил себе это, опустившись на колени и отпирая чемодан, в котором находились заряженные пистолеты. Я решил застрелиться. Впрочем, мысль эта владела мною лишь мгновение. Так как я не был безумен, приступ крайнего и беспредельного отчаяния, вызвавший во мне желание покончить с собой, тут же прошел. Свежий морской ветер, дувший из Европы, ворвался ко мне в окно, гроза разразилась, полились потоки дождя, загремел гром и вспыхнула молния, — воздух очистился. Тогда я принял твердое решение. Бродя под мокрыми апельсинными деревьями моего сада, среди затопленных дождем гранатов и ананасов, в лучах тропического рассвета, я стал рассуждать, Джен, — и ты послушай, ибо истинная мудрость утешила меня в этот час и указала мне путь, которым я должен был следовать.
Сладостный ветер из Европы все еще лепетал среди освеженных листьев, и Атлантический океан гремел торжествующе и свободно; мое сердце, уже так давно омертвевшее и высохшее, вдруг ожило, расширилось, зазвучало той же музыкой, наполнилось живой кровью; все мое существо возжаждало обновления, моя душа захотела чистоты. Я почувствовал, что мои надежды воскресают и что обновление возможно. Стоя под цветущими ветками на краю моего сада, я смотрел в морскую даль, более синюю, чем небо. Там была Европа, там открывались светлые дали. «Поезжай, — сказала мне надежда, — и поселись опять в Европе, где никто не знает, как замарано твое имя и какое презренное бремя ты несешь. Пусть сумасшедшая едет с тобой в Англию, запри ее в Торнфильде, охраняй и заботься о ней, а сам отправляйся в любую страну и завяжи новые отношения, какие тебе захочется. Эта женщина, которая так злоупотребляла твоим долготерпением, так осквернила твое имя, так оскорбила твою честь, так обманула твою юность, — она тебе не жена, и ты ей не муж. Дай ей все, что от тебя зависит, и ты можешь считать, что выполнил свою обязанность перед богом и людьми. Пусть самое имя ее, пусть история вашей близости будет предана забвению. Ты не обязан говорить о них ни одному живому существу. Дай ей удобства и безопасное жилище, защити ее унижение тайной и расстанься с ней».
Я так и поступил. Отец и брат не сообщили о моей женитьбе никому из знакомых. В первом же письме, которое я написал им, я высказал им свое отношение к моей женитьбе, так как уже испытывал глубокое отвращение к этому браку; зная характер и особенности моей жены, я предвидел для себя постыдное и печальное будущее и тогда же настоятельно просил держать все это в тайне. А вскоре недостойное поведение моей жены, о котором я сообщил отцу, приняло такие формы, что ему оставалось лишь краснеть за подобную невестку. Он не только не старался разгласить наш брак, но стремился скрыть его не меньше, чем я.
И вот я повез ее в Англию. Это было ужасное путешествие; с таким чудовищем — на корабле! Я был рад, когда, наконец, привез ее в Торнфильд и благополучно поселил на третьем этаже, в той комнате, которую она за десять лет превратила в берлогу дикого зверя, в обиталище демона. Мне сначала никак не удавалось найти кого-нибудь, кто бы ходил за ней, так как это должна была быть женщина, на верность которой я мог бы положиться; приступы буйного помешательства, которым была подвержена моя жена, должны были неизбежно выдать ее тайну. У нее бывали и спокойные периоды, они длились иногда по нескольку дней, иногда по нескольку недель, и тогда она осыпала меня оскорблениями. Наконец я нанял Грэйс Пул. Она и доктор Картер (это он и перевязывал раны Мэзона в ту ночь, когда безумная напала на своего брата) — вот два единственных человека, которым я открыл истинное положение дел. Миссис Фэйрфакс, вероятно, кое-что подозревает, но точно ей ничего неизвестно. Грэйс оказалась в общем хорошей сиделкой, хотя, отчасти по ее собственной вине, ее бдительность не раз бывала обманута и усыплена, — но тут уж ничего не поделаешь, тут виновата ее профессия. Сумасшедшая хитра и коварна. Она всегда умеет воспользоваться недосмотром своей сиделки. Однажды она добыла нож, которым чуть не заколола своего брата, и дважды завладела ключом от своей комнаты и выскользнула оттуда среди ночи. В первый раз она вознамерилась сжечь меня в моей постели, во второй раз явилась к тебе. Благодарю провидение, которое охраняло тебя; она излила свою ярость только на твой венчальный убор, который, может быть, напомнил ей ее собственную свадьбу. Подумать страшно, что могло бы случиться, когда это страшное существо, вцепившееся сегодня утром мне в горло, склонило свое багрово-черное лицо над гнездом моей голубки! Просто кровь стынет в жилах…
— И что же, сэр? — спросила я, когда он смолк. — Что вы сделали, когда поселили ее здесь, куда вы поехали?
— Что я сделал, Джен? Я превратился в вечного странника. Куда я поехал? Я начал скитаться, как болотный огонек. Я изъездил всю Европу, повидал множество стран. Я был одержим желанием найти хорошую, разумную женщину, которую мог бы полюбить, — полную противоположность той фурии, которая осталась в Торнфильде.
— Но вы же не могли жениться, сэр?
— Я решил, что могу, и был твердо убежден, что не только могу, но и должен. Вначале я никого не хотел обманывать так, как обманул тебя. Я намеревался рассказать любимой женщине всю мою историю и открыто добиваться ее любви. И мне казалось настолько правильным, что меня следует считать свободным человеком, которого можно любить и который может любить, что я никогда не сомневался, что встречу женщину, способную понять мои обстоятельства и принять меня, невзирая на то проклятие, которое лежит на мне.
— И что же, сэр?
— Когда ты начинаешь меня допрашивать, Джен, я не могу не улыбаться. Ты раскрываешь глаза, как нетерпеливая птичка, и делаешь беспокойные движения, словно ты не можешь дождаться ответа, выраженного в словах, и тебе хотелось бы прочитать его прямо в человеческом сердце. Но прежде чем я буду продолжать, скажи, что ты разумеешь под твоим «и что же, сэр?» Эту коротенькую реплику ты произносишь очень часто; и сколько раз она вела меня, как путеводная нить, сквозь бесконечные разговоры. Я сам хорошенько не знаю, почему она так действует на меня.
— Я хочу сказать: что же вы сделали? Как вы поступили? Каков был результат?
— Вот именно. А что бы ты хотела знать?
— Удалось ли вам встретить женщину, которая вам стала дорога? Предлагали вы ей выйти за вас, и что она вам ответила?
— Я могу ответить тебе только, нашел ли я ту, которая мне стала дорога, и просил ли я ее сделаться моей женой; но то, что она ответит мне, все еще скрыто в тумане грядущего. Десять лет скитался я неутомимо, жил то в одной столице, то в другой; иногда в Петербурге, чаще в Париже, заезжал и в Рим, в Неаполь и Флоренцию. У меня были деньги, я принадлежал к старинному роду — и поэтому мог сам выбирать себе знакомых. Имея доступ во все круги общества, я искал мой идеал женщины среди английских леди, французских графинь, итальянских синьор и немецких баронесс, но не мог найти ее. Иногда на миг, во взгляде, в интонации, в облике какой-нибудь женщины, мне казалось, я вижу что-то, предвещавшее осуществление моей мечты. Но я очень скоро бывал разочарован. Не думай, что я искал совершенства души или тела. Я мечтал встретить женщину, которая была бы во всем полной противоположностью креолке; однако я искал ее тщетно. Я не встретил ни одной, которую, будь я даже свободен, — памятуя полученный мною тяжелый урок, — попросил бы выйти за меня. Разочарование привело меня к безрассудствам. Я стал искать развлечений, хотя никогда не опускался до разврата. Излишества всякого рода мне глубоко противны. Это было как раз стихией моей вест-индской Мессалины. Неискоренимое отвращение и к ней и ко всему, что напоминало ее, налагало на меня узду даже среди удовольствий. Всякое веселье, переходящее в разгул, казалось, приближало меня к ней и к ее порокам, и я избегал его.
Все же мне трудно было оставаться одному. И я начал заводить себе любовниц. В первый раз мой выбор пал на Селину Варанс, — еще один жизненный эпизод, при мысли о котором меня охватывает горькое презрение к себе. Ты уже знаешь, что это была за особа и чем кончилась моя связь с ней. У нее были две преемницы: итальянка Гиацинта и немка Клара. Обе они слыли замечательными красавицами. Но какую цену имела для меня эта красота уже через два-три месяца? Гиацинта была груба и невысоких нравственных правил, — я устал от нее через три месяца. Клара была честным, кротким созданием, — но что могло быть у меня общего с этой ограниченной и тупой мещанкой? Я с удовольствием выделил ей достаточную сумму, она начала какое-то дело, — и, таким образом, мы расстались по-хорошему. Но, Джен, я вижу, по твоему лицу, что все это тебе не слишком нравится. Ты уже готова считать меня безнравственным повесой. Верно?
— Да, мне сейчас труднее любить вас, чем раньше, сэр. Но разве вам не приходило в голову, что вести такую жизнь по меньшей мере дурно? Сначала одна любовница, потом другая; и вы говорите об этом, словно это в порядке вещей.
— Нет. И мне это не нравилось. Это была недостойная жизнь, и лучше было бы никогда к ней не возвращаться. Заводить себе содержанку — это все равно что покупать раба. И тот и другая — и по природе и уж во всяком случае по положению — как бы существа низшие, и общение с ними на равной ноге унизительно. Мне теперь стыдно думать о днях, проведенных с Селиной, Гиацинтой и Кларой.
Я почувствовала правду этих слов и сделала из них тот вывод, что, если бы я забылась и забыла все, некогда внушенное мне, если бы под каким-либо предлогом или, ссылаясь на то или другое оправдание, не устояла перед соблазном и стала преемницей этих несчастных женщин, сэр Рочестер со временем испытал бы ко мне то же чувство, с каким теперь вспоминал о них. Я не высказала своей мысли вслух; достаточно было того, что эта истина открылась мне. Но я запечатлела ее в своем сердце, чтоб она там хранилась и оказала мне помощь в минуты испытаний.
— Ну, Джен, почему ты не говоришь: «И что же, сэр?» Я ведь еще не кончил. Какой у тебя строгий вид! Я вижу, ты осуждаешь меня, но дай мне досказать до конца. Так вот, в январе этого года, порвав со всеми любовницами, в мрачном и суровом настроении, в каком и полагается быть одинокому, никому не нужному скитальцу, измученный разочарованиями, озлобленный против людей и особенно против всей женской природы (ибо существование разумной, любящей и преданной женщины я начинал почитать несбыточной мечтой), я вернулся в Англию, куда меня призывали дела.
В морозный зимний вечер я подъезжал к Торнфильдхоллу. Ненавистное место! Я не ждал там никакой радости, никакого отдыха для себя. Неподалеку от замка, у изгороди, я увидел маленькую фигурку, сидевшую в полном одиночестве. Я проехал мимо, обратив на нее так же мало внимания, как на иву, росшую по ту сторону дороги. Я не предчувствовал, чем она станет для меня. Никакой внутренний голос не подсказал мне, что судья моей жизни, мой добрый или злой гений поджидает меня здесь, в этом смиренном облике. Я не узнал его даже и тогда, когда с Мезруром случилось несчастье и она подошла ко мне и самым серьезным образом предложила мне свою помощь. Худенькая девушка, почти дитя! Казалось, маленькая пташка прыгает около моих ног и предлагает понести меня на своих крошечных крылышках. Я отмахнулся от нее, но незнакомое создание не отходило. Оно стояло возле меня, смотрело на меня и говорило со странной настойчивостью и повелительностью: я должен получить помощь, и именно из ее рук; и я принял помощь.
Когда я оперся на хрупкое плечо девушки, во всем моем существе проснулось что-то новое, словно в меня влились какие-то свежие чувства и силы. Я был рад узнать, что этот эльф должен вернуться ко мне, что он принадлежит моему дому, иначе, если бы он, выскользнув из моих рук, исчез за изгородью, я, наверно, испытал бы чувство странного сожаления. Я слышал, как ты возвратилась в тот вечер домой, Джен, хотя ты, вероятно, и не подозревала, что я думаю о тебе и наблюдаю за тобой. На следующий день я опять видел — незаметно для тебя, — как ты два часа играла с Аделью в коридоре. Я помню, была вьюга, вы не могли пойти гулять. Я сидел в своей комнате, дверь была приоткрыта, я мог все слышать и видеть. В течение некоторого времени твое внимание было целиком поглощено Аделью; однако мне чудилось, что твои мысли отсутствуют. Но ты была с ней очень кротка, моя маленькая Джен, ты говорила только с ней и развлекала ее. Когда она, наконец, оставила тебя, ты сразу погрузилась в мечты и принялась задумчиво шагать по коридору. Время от времени, проходя мимо окон, ты бросала взгляд на густо валивший снег; ты прислушивалась к рыдавшему ветру и снова начинала ходить и грезить. И мне казалось, что в этих грезах наяву нет ничего мрачного; по временам в твоих глазах вспыхивало что-то радостное, на лице отражалось легкое волнение, которое говорило не о горестных, печальных и унылых размышлениях. Скорее можно было предположить по твоему взгляду, что ты предаешься юношеским мечтам, когда самый дух юности летит ввысь вслед за надеждой, устремляясь к небу своих желаний. Голос миссис Фэйрфакс, говорившей с кем-то из слуг в холле, наконец заставил тебя очнуться. И как странно ты улыбнулась, Дженет. Это была удивительно умная улыбка. Она была насмешлива, — казалось, ты иронизируешь над собственными мечтами. Ты словно говорила себе: «Мои видения прекрасны, но я не должна забывать, что они совершенно нереальны. В моей фантазии я вижу алеющее небо и цветущий рай, но я прекрасно знаю, что мне нужно идти суровым путем и что мне грозят черные бури». Ты побежала вниз и попросила мисс Фэйрфакс дать тебе какую-нибудь работу — подсчитать недельные расходы или что-то в этом роде. Я рассердился на тебя за то, что ты исчезла из моего поля зрения.
С нетерпением ждал я вчера, когда мог вызвать тебя к себе. Я подозревал, что передо мной совершенно новая для меня, незнакомая мне человеческая разновидность. И мне хотелось исследовать ее и узнать глубже. Ты вошла в комнату с робким и независимым видом, — существо в странном и милом наряде, примерно таком же, как сейчас. Я вызвал тебя на разговор. Очень скоро я убедился, что ты — сочетание странных противоположностей. Я видел, что ты строга, скромна, как и полагается, и вместе с тем робка непомерно; но в то же время я видел, что ты по природе утонченная, хотя не привыкла к обществу и очень боишься привлечь внимание какой-нибудь неловкостью или промахом. Когда я к тебе обращался, ты смотрела на меня открытым, смелым и горячим взглядом, и он был полон проницательности и силы. Когда я задавал тебе настойчивые вопросы, ты бесстрашно и искусно парировала их. Очень скоро ты освоилась со мной, и мне даже казалось, что ты чувствуешь ту симпатию, которая возникла между тобой и твоим угрюмым, сердитым хозяином, Джен; ты как-то удивительно быстро успокоилась и сделалась добродушно мила со мной. Когда я рычал, ты не обнаруживала ни страха, ни удивления, ни недовольства моей угрюмостью. Ты наблюдала за мной и время от времени улыбалась мне с таким прелестным лукавством, которое трудно описать. Я был и доволен и взволнован тем, что я нашел в тебе: мне понравилось то, что я увидел, и я хотел видеть еще больше.
Однако в течение долгого времени я держался от тебя вдалеке и редко искал твоего общества. Как интеллектуальный сибарит, я хотел продлить удовольствие этого нового и волнующего знакомства. Кроме того, меня некоторое время преследовал страх, что, если я буду слишком свободен в обращении с этим цветком, его лепестки увянут и его чарующая свежесть исчезнет. Я тогда еще не знал, что прелесть этого цветка не временная, но что он скорее напоминает неразрушимый и драгоценный камень. Кроме того, мне хотелось знать, будешь ли ты искать моего общества, если я отдалюсь от тебя, — но ты не искала его. Ты оставалась в классной так же упорно, как твой письменный стол или мольберт, а при случайной встрече проскакивала мимо меня с такой быстротой и таким безразличием, какие только допускала вежливость. Твоим обычным выражением в те дни, Джен, была глубокая задумчивость: не мрачная, ибо ты не была больна, но и не ликующая, так как у тебя было мало надежд и никаких удовольствий.
Меня интересовало, что ты думаешь обо мне и думаешь ли вообще. Я решил узнать это, и снова стал искать встреч с тобой. В твоем взгляде, когда ты обращалась к людям, и в твоей манере говорить с ними была какая-то радостная теплота. Я видел, что сердце твое открыто для общения с ними; молчаливой тебя делала уединенная классная комната и скучное однообразие твоей жизни. Я позволил себе удовольствие быть добрым с тобой. Моя доброта не замедлила вызвать в тебе волнение, твое лицо стало мягким, твой тон нежным; мне нравилось, когда твои губы с благодарной радостью произносили мое имя. В те дни для меня было большим удовольствием случайно повстречаться с тобой, Джен. Ты держалась с забавной нерешительностью; твой взгляд выдавал смущение и затаенное недоверие. Ты не знала, какой на меня найдет стих: собираюсь ли я разыграть хозяина и напустить на себя угрюмость, или же ты встретишь во мне благожелательного друга. Но я уже слишком привязался к тебе, чтобы находить удовольствие в первой роли; и когда я радушно протягивал тебе руку, на твоем юном, нежном личике расцветала такая светлая радость, что иногда мне трудно было удержаться от желания привлечь тебя к моему сердцу.
— Не вспоминайте больше о тех днях, сэр, — прервала я его, отирая украдкой несколько слезинок. То, что он говорил, было для меня мукой, ибо я хорошо знала, что должна сделать, и притом скоро. А все эти воспоминания и рассказы о его чувствах только увеличивали трудность моей задачи.
— Ты права, Джен, — отозвался он. — Зачем нам думать о прошлом, когда настоящее настолько лучше, а будущее настолько светлей?
Эта самодовольная уверенность заставила меня внутренне содрогнуться.
— Теперь ты видишь, как обстоит дело, не правда ли? — продолжал он. — После юности и зрелых лет, проведенных в невыразимой тоске и печальном одиночестве, я, наконец, впервые встретил то существо, которое могу любить, — я встретил тебя. К тебе меня влечет неудержимо, ты мое лучшее я, мой добрый ангел. Я привязан к тебе глубоко и крепко, считаю тебя доброй, талантливой, прелестной. В моем сердце живет благоговейная и глубокая страсть. Она заставляет меня тянуться к тебе, как к источнику моей жизни, учит познавать в тебе цель и смысл моего существования и, горя чистым и ярким пламенем, сливает нас обоих в одно.
Именно потому, что таковым были мои чувства, я и решил жениться на тебе. Утверждать, что у меня уже есть жена, — значит просто насмехаться надо мной; теперь ты знаешь, что это был только отвратительный демон. Я сделал ошибку, пытаясь обмануть тебя, но я боялся упрямства, которое есть в твоем характере, боялся привитых тебе предрассудков, прежде чем рискнуть на откровенные разговоры, я хотел, чтобы ты стала моей. Это было малодушием: я должен был обратиться к твоему благородству и чуткости сразу же, как делаю это сейчас, — открыть тебе всю мою жизнь, полную отчаяния, описать ту жажду и голод, ту тоску о более высоком и достойном существовании, которые я испытываю; открыть тебе не только мое решение (это слово слишком невыразительно), но и мое неудержимое влечение к преданной и верной любви, если меня любят преданно и верно. И только после этого должен был я попросить тебя принять от меня обет верности и дать мне свой. Джен, дай мне его теперь.
Наступила пауза.
— Отчего ты молчишь, Джен?
Это была настоящая пытка. Мне казалось, что раскаленная железная рука сжимает мне сердце. Ужасная минута, полная борьбы, мрака и огня! Ни одно человеческое создание, жившее когда-либо на земле, не могло желать более сильной любви, чем та, которую мне дарили, а того, кто меня так любил, я просто боготворила. И я была вынуждена отказаться от моей любви и моего кумира. Одно только страшное слово звучало в моих ушах, напоминая мне мой мучительный долг: «бежать!»
— Джен, ты понимаешь, чего я хочу от тебя? Только обещания: «Я буду вашей, мистер Рочестер».
— Мистер Рочестер, я не буду вашей.
Снова последовало продолжительное молчание.
— Джен, — начал он опять с такой нежностью, что скорбь и ужас объяли меня и лишили сил, ибо этот тихий голос был голосом просыпающегося льва, — Джен, ты хочешь сказать, что пойдешь в мире одним путем, а я должен идти другим?
— Да.
— Джен (наклоняясь ко мне и обнимая меня), ты и сейчас настаиваешь на этом?
— Да.
— А теперь? — он бережно поцеловал меня в лоб и в щеку.
— Да! — И я решительно вырвалась из его объятий.
— О Джен, это больно! Это… это неправильно; правильно было бы любить меня.
— Неправильно было бы послушаться вас.
Брови у него взлетели; странное выражение скользнуло по его лицу. Он встал, но все еще сдерживался. Ища опоры, я положила руку на спинку стула; я дрожала, я трепетала, но я решилась.
— Одно мгновение, Джен! Подумай о том, что ждет меня, когда тебя не будет. Ты отнимаешь у меня всякую надежду на счастье. Что же останется? Вместо жены — эта сумасшедшая наверху; с таким же успехом ты могла бы отослать меня к трупам вон там, на кладбище. Что я буду делать, Джен, где искать мне друга и надежду?
— Поступите так, как я; доверьтесь богу и самому себе; уповайте на него, надейтесь, что мы встретимся там.
— Значит, ты не уступишь!
— Нет!
— Ты обрекаешь меня на ужасную жизнь и на мрачную смерть? — Его голос зазвучал громче.
— Я советую вам жить безгрешно и желаю вам умереть спокойно.
— Значит, ты лишаешь меня любви и спасения? Ты снова толкаешь меня на случайную страсть, на порок?
— Мистер Рочестер, я меньше всего толкаю вас на эту жизнь, также не желаю ее и для себя. Мы родились, чтобы терпеть и страдать: вы так же, как и я. Смиритесь! Вы забудете меня раньше, чем я вас.
— Значит, ты допускаешь, что я лжец. Ты оскорбляешь меня; я заявляю, что не изменю тебе, а ты утверждаешь мне в лицо, что изменю. Но о каких же изуверских взглядах, о каких извращенных суждениях говорят твои поступки! Неужели лучше ввергнуть своего ближнего в отчаяние, чем преступить созданный человеком закон, если это никому не принесет вреда? Ведь у тебя же нет ни друзей, ни родных, которых ты бы оскорбила, живя со мной.
Это была правда. И от этих слов даже моя совесть и мой разум изменили мне и предались ему, обвинив меня в грехе за то, в чем я ему отказываю. Они заговорили почти так же громко, как и мое сердце. А сердце не унималось. «О, уступи, — говорило оно, — подумай о его горе, подумай о тех опасностях, на которые ты его толкаешь, оставив одного! Вспомни, какая это натура! Подумай о том, какое отчаяние и безнадежность последуют за этой скорбью. Утешь его, спаси его, люби его! Скажи ему, что ты любишь его и будешь принадлежать ему. Кому на свете ты нужна? Кого ты этим оскорбишь?»
И все же я отвечала себе непреклонно: «Я оскорблю себя. Чем глубже мое одиночество, без друзей, без поддержки, тем больше я должна уважать себя. Я не нарушу закона, данного богом и освященного человеком. Я буду верна тем принципам, которым следовала, когда была в здравом уме, тогда как сейчас я безумна. Правила и законы существуют не для тех минут, когда нет искушения, они как раз для таких, как сейчас, когда душа и тело бунтуют против их суровости; но как они ни тяжелы, я не нарушу их. Если бы я для своего удобства нарушала их, какая была бы им цена? А между тем их значение непреходяще, — я в это верила всегда, и если не верю сейчас, то оттого, что я безумна, совсем безумна: в моих жилах течет огонь, и мое сердце неистово бьется. В этот час я могу опереться только на ранее сложившиеся убеждения, только на решения, принятые давно, — и на них я опираюсь».
Я осталась при своем. Мистер Рочестер, не спускавший с меня глаз, понял это. Его ярость дошла до высших пределов, и он, конечно, должен был уступить ей на мгновенье, что бы за этим ни последовало. Он быстро подошел ко мне, схватил мою руку и обнял за талию. Казалось, он пожирает меня своим пылающим взглядом. Я чувствовала себя, как былинка, объятая горячим дыханием пламени; но я все еще владела собой, и меня не покидала уверенность, что я нахожусь в полной безопасности. К счастью, душа имеет своего глашатая — часто бессознательного, но верного глашатая, — это глаза. Я взглянула в его искаженное страстью лицо и невольно вздохнула. Мне было больно от его объятий, мои силы почти иссякали.
— Никогда, — сказал он, стиснув зубы, — никогда не встречал я создания более хрупкого и более непобедимого. В руке моей она, как тростник (и он стал трясти меня изо всей силы), я мог бы согнуть ее двумя пальцами; но какой толк, если бы я согнул ее, если бы я растерзал, раздавил ее? Загляните в эти глаза, перед вами существо решительное, неукротимое, свободное! Оно глядит на меня не только с отвагой, но с суровым торжеством. Как бы я ни поступил с его клеткой, я не могу поймать его, это своевольное, прекрасное создание! Если я уничтожу, если я разрушу его хрупкую тюрьму, мое насилие только освободит пленницу. Я могу завоевать ее дом, но она убежит до того, как я успею назвать себя хозяином ее обители. А я хочу именно тебя, о дух, со всей твоей волей и энергией, мужеством и чистотой тебя хочу я, а не только твою хрупкую обитель, твое слабое тело. Ты сама могла бы прилететь и прильнуть к моему сердцу, если бы захотела. Но, схваченная против своей воли, ты ускользнешь из моих объятий, исчезнешь, как благоухание, не дав мне даже вдохнуть его. О, приди ко мне, Джен, приди!
Сказав это, он отпустил меня и только смотрел на меня. И мне было гораздо труднее противостоять этому взгляду, чем его железным объятиям. Но, конечно, было бы неразумно уступить теперь. Я имела смелость противостоять его ярости и укротить ее. Я должна победить и его скорбь! Я направилась к двери.
— Ты уходишь, Джен?
— Ухожу, сэр.
— Ты покидаешь меня?
— Да.
— Ты не придешь ко мне? Ты не хочешь быть моей утешительницей, моей спасительницей? Моя бесконечная любовь, моя нестерпимая тоска, моя горячая молитва — все для тебя ничто?
Какой невыразимый пафос был в его голосе, как трудно было ответить ему с твердостью: «Я ухожу».
— Джен!
— Мистер Рочестер!
— Хорошо, уходи, но помни, что ты оставляешь меня в смертельной тоске. Пойди в свою комнату, обдумай все, что я тебе сказал, и, Джен, подумай о моих страданиях, подумай обо мне.
Он отвернулся, он бросился ничком на диван. «О Джен, моя надежда, моя любовь, моя жизнь!» — с тоской срывалось с его губ. Затем я услышала глухое рыдание.
Я была уже у двери, но, читатель, я повернула обратно. Я вернулась с такой же решительностью, с какой уходила. Я опустилась на колени рядом с ним. Я повернула к себе его лицо, я поцеловала его в щеку, я погладила его волосы.
— Бог да благословит вас, мой дорогой хозяин, — сказала я. — Бог да сохранит вас от зла и ошибок, да направит вас, облегчит вашу боль, вознаградит за вашу былую доброту ко мне.
— Любовь маленькой Джен была бы мне лучшей наградой, — ответил он. — Без нее мое сердце разбито. Но Джен отдаст мне свою любовь. Да, великодушно и благородно.
Кровь бросилась ему в лицо. В глазах вспыхнуло пламя, он вскочил и выпрямился, он раскрыл мне объятия; но я уклонилась от них и сразу же вышла из комнаты.
«Прощай!» — крикнуло мое сердце, когда я уходила; а отчаяние добавило: «Прощай навеки!»
Я думала, что не засну в эту ночь. Но как только я легла, меня охватила легкая дремота. Я была перенесена в свое детство, мне снилось, что я лежу в красной комнате в Гейтсхэде, что ночь темна и мое сердце угнетено странным страхом. Тот самый свет, который когда-то довел меня до обморока, казалось, опять скользит вверх по стене и, трепеща, останавливается на середине темного потолка. Я подняла голову и взглянула туда: вместо крыши надо мной клубились облака, высокие и хмурые; свет был такой, какой бывает, когда за туманами всходит луна. Я ждала, что она появится, ждала со странным волнением, словно на ее диске должен был быть написан мой приговор. И вот она появилась, но никогда луна так не выходит из-за облаков. Сначала я увидела чью-то руку, раздвинувшую траурные складки облаков, затем в голубизне неба появилась не луна, а белая человеческая фигура, склонявшая к земле свое лучезарное чело. Она смотрела и смотрела на меня, она обратилась к моему духу; казалось, она говорит из неизмеримых далей, и вместе с тем так близко, словно этот шепот раздавался в моем сердце:
— Дочь моя, беги искушения!
— Мать моя, обещаю!
Так ответила я, очнувшись от этого сна, похожего скорее на виденье. Еще царил мрак; однако в июле ночи коротки, светать начинает вскоре после полуночи. «Для того, что мне сегодня предстоит, чем раньше подняться, тем лучше», — подумала я. И поднялась. Я была одета, так как сняла только башмаки. Я знала, где в ящиках комода лежит белье и кое-какие безделушки. Отыскивая эти предметы, я нащупала жемчужное ожерелье, которое мистер Рочестер заставил меня принять несколько дней назад. Я оставила его, оно принадлежало не мне, а той воображаемой невесте, которая растаяла в воздухе. Из своих вещей я сделала сверток, а кошелек, в котором было двадцать шиллингов (все мое достояние), положила в карман; я надела соломенную шляпу, взяла в руки туфли и на цыпочках вышла из комнаты.
— До свиданья, голубушка миссис Фэйрфакс, — прошептала я, пробираясь мимо ее двери. — До свиданья, милая крошка Адель, — сказала я, заглянув в детскую. Но войти, чтобы поцеловать ее, было невозможно: мне предстояло обмануть чуткое ухо, — кто знает, может быть, сейчас оно прислушивается.
Мне следовало пройти мимо спальни мистера Рочестера не задерживаясь; но у его порога мое сердце на мгновение перестало биться, и мне пришлось остановиться. В этой комнате не спали: ее обитатель тревожно бегал взад и вперед, и я слышала, как он то и дело глубоко вздыхал. Если я сделаю определенный выбор, то здесь для меня откроется рай — недолговечный рай. Достаточно мне войти и сказать: «Мистер Рочестер, я буду любить вас и проживу с вами всю жизнь до самой смерти», — и к моим устам будет поднесен кубок блаженства. Я думала об этом.
Мой добрый хозяин не может спать, с нетерпением он ожидает утра; но когда он пришлет за мной, меня уже не будет. Он станет искать меня, но тщетно. И тогда он почувствует себя покинутым, свою любовь отвергнутой. Он будет страдать, может быть, придет в отчаяние. Об этом я тоже думала. Моя рука протянулась к двери, но я отвела ее и поспешила дальше.
Печально спускалась я по лестнице. Я знала, что мне надо делать, и выполняла все машинально: отыскала в кухне ключ от боковой двери, нашла бутылочку с маслом и перо, смазала ключ и замок, выпила воды и взяла хлеба, так как, может быть, мне предстояло идти далеко, а мои силы, и без того подорванные, не должны были мне изменить. Все это я проделала совершенно беззвучно. Открыла дверь, вышла и тихо притворила ее за собой. На дворе уже светало, большие ворота были закрыты на засов, но калитка рядом оказалась только притворенной. Через нее я и вышла и тоже закрыла ее за собой. И вот Торнфильд остался позади.
За полями, на расстоянии одной мили от Торнфильда, тянулась дорога, она вела в сторону, противоположную Милкоту; по этой дороге я никогда не ходила, но часто смотрела на нее, спрашивая себя, куда она ведет. К ней-то я и направилась. Сейчас нельзя было позволять себе никаких размышлений, нельзя было оглядываться, нельзя было даже смотреть вперед. Ни одной мысли не следовало допускать ни о прошлом, ни о будущем. Прошлое — это была страница такого небесного блаженства и такой смертельной печали, что если бы я прочла хоть одну строку на ней, это лишило бы меня мужества и сломило бы мою энергию. Будущее же было совершенно пусто. Оно было, как мир после потопа.
Я шла вдоль полей, изгородей и лугов, пока не поднялось солнце. Вероятно, было чудесное летнее утро; мои башмаки, которые я надела, выйдя из дому, скоро намокли от росы. Но я не смотрела ни на восходящее солнце, ни на сияющее небо, ни на пробуждающуюся природу.
Тот, кто идет по живописной местности к эшафоту, не смотрит на цветы, улыбающиеся ему по пути. Он думает о топоре и плахе, о страшном ударе, сокрушающем кости и жилы, и о могиле в конце пути. А я думала о печальном бегстве и бездомном скитании и о…, с каким отчаянием я думала о том, что покинула! Но разве можно было поступить иначе!
Я представляла себе, как мистер Рочестер сидит в своей комнате и, ожидая восхода, надеется, что я скоро приду и скажу: «Я остаюсь с тобой и буду твоей». Как я мечтала об этом, как жаждала вернуться… Ведь еще не поздно, и я могу уберечь его от горького разочарования! Я была уверена, что мое бегство еще не обнаружено. Я могла еще вернуться и стать его утешительницей, его гордостью, его спасительницей в несчастье, а может быть, и в отчаянии. О, этот страх, что он погубит себя, — как он преследовал меня! Страх был, как зазубренная стрела в моей груди, она разрывала мне рану, когда я пыталась извлечь ее, а воспоминания все глубже загоняли ее в тело. В кустах и деревьях запели птицы. Птицы — трогательно нежные супруги; птицы — эмблема любви… А как же я? Раздираемая сердечными страданиями и отчаянными усилиями остаться верной себе, я возненавидела себя.
На что мне сознание моей правоты, на что уважение к себе! Я оскорбила, ранила, бросила моего друга. Я была себе ненавистна. И все же я не могла повернуть, не могла остановить свой шаг. Быть может, мною руководил сам бог? Что до моей собственной воли и сознания, то они бездействовали: страстная скорбь сломила мою волю и ослепила сознание. Я отчаянно рыдала, идя своим одиноким путем быстро, быстро, как обезумевшая. Вдруг меня охватила слабость, она возникла в сердце и разлилась по всем членам, — я упала. Я пролежала несколько минут на земле, уткнувшись лицом в мокрую траву. Я боялась — или надеялась? — что здесь и умру. Но скоро я была снова на ногах: сначала я ползла на четвереньках, затем кое-как встала, одержимая одним безотчетным стремлением — добраться до дороги.
Когда я, наконец, достигла ее, я была вынуждена присесть возле изгороди. Сидя здесь, я услышала шум колес и увидела приближавшийся дилижанс. Я встала и подняла руку. Дилижанс остановился. Я спросила кучера, куда он едет. Он назвал мне какое-то очень отдаленное место, где, как я была уверена, у мистера Рочестера нет никаких знакомых. Я спросила, сколько стоит проезд. Он сказал — тридцать шиллингов. Но у меня было только двадцать. Ну, за двадцать, так за двадцать, он согласен. Я вошла, кучер помог мне сесть. Внутри никого не было; он захлопнул дверцу, и мы покатили.
Дорогой читатель, желаю тебе никогда не испытывать того, что испытывала я тогда. Пусть твои глаза никогда не прольют таких бурных, горячих, мучительных слез, какие хлынули из моих глаз. Пусть тебе никогда не придется обратиться к небу с такими отчаянными и безнадежными молитвами, какие произносили мои уста в этот час. Желаю тебе никогда не знать страха, что ты навлечешь несчастье на того, кого любишь.
Глава XXVIII
Прошло два дня. Стоял летний вечер; кучер высадил меня на перекрестке, называемом Уиткросс. Он не мог везти меня дальше за те деньги, которые я ему дала, а у меня не было больше ни шиллинга. Экипаж уже успел отъехать на милю от меня; и вот я одна. В этот миг я обнаруживаю, что позабыла свой сверток в задке кареты, куда положила его для сохранности; там он остался, там он и будет лежать, — и теперь у меня нет абсолютно ничего. Уиткросс — не город, даже не деревня: это всего лишь каменный столб, поставленный на перекрестке четырех дорог и выбеленный мелом, вероятно, для того, чтобы быть более приметным на расстоянии и в темноте. Четыре дощечки отходят в равные стороны от его верхушки; ближайший город, согласно надписи, отстоит на десять миль, самый дальний — больше чем на двадцать. Хорошо знакомые названия этих городов говорят мне, в каком графстве я очутилась: это одно из центральных графств севера — унылая, то болотистая, то холмистая земля. Позади и по обеим сторонам раскинулась безлюдная местность; пустынные холмы встают над глубокой долиной, расстилающейся у моих ног. Население здесь, должно быть, редкое, — никого не видно на этих дорогах; они тянутся на восток, запад, север и юг — белые, широкие, тихие; все они проложены через болота и пустоши, где растет вереск, густой и буйный, подступая к самому их краю. Все же случайный спутник может пройти мимо, а сейчас мне не хочется никому попадаться на глаза: незнакомые люди могут дивиться, что я здесь делаю одна, стоя без всякой цели, с растерянным видом возле придорожного столба. Меня спросят, а я смогу дать лишь такой ответ, который покажется невероятным и возбудит подозрения. Никакие узы не связывают меня больше с человеческим обществом, никакие соблазны или надежды не влекут меня туда, где находятся подобные мне существа, ни у кого при виде меня не найдется ни доброй мысли на мой счет, ни сочувствия. У меня нет родных, кроме всеобщей матери — природы; я прильну к ее груди и буду молить о покое.
Я углубилась в заросли вереска, держась стежки, которая пересекала бурые заросли; бредя по колено в густой траве, я поворачивала, следуя изгибам тропинки, и вскоре нашла в глухом месте черный от мха гранитный утес и уселась под ним. Высокие, поросшие вереском откосы обступили меня; утес нависал над моей головой; вверху простиралось небо.
Понадобилось некоторое время, прежде чем я успокоилась даже в этом уединенном убежище; я боялась, что вблизи бродит отбившийся от стада скот, что меня обнаружит какой-нибудь охотник или браконьер. Когда проносился порыв ветра, я пугливо поднимала голову, воображая, что это бык несется на меня; когда свистел кулик, мне казалось, что это человек. Однако, увидев, что мои страхи неосновательны, и успокоенная глубокой тишиной, воцарившейся с наступлением ночи, я, наконец, уверовала в надежность своего убежища. До сих пор у меня не было ни одной мысли, я только прислушивалась, всматривалась, трепетала; теперь ко мне вернулась способность размышлять.
Что мне делать? Куда идти? О, мучительные вопросы, когда делать было нечего и идти было некуда, когда моему дрожащему телу предстоял еще долгий путь, прежде чем я доберусь до человеческого жилья; когда мне предстояло обращаться с мольбой к равнодушному милосердию, прежде чем я обрету кров, вызывать презрительное сочувствие и почти, наверное, получать отказы, прежде чем люди выслушают мой рассказ или удовлетворят хотя бы одну из моих нужд.
Я коснулась вереска: он был сух и еще хранил тепло знойного летнего дня. Я взглянула на небо — оно было ясное; звезда кротко мерцала над краем утеса. Мало-помалу выпала роса, но я почти не ощущала ее; не слышно было даже шелеста ветра. Природа казалась благосклонной и доброй, мне чудилось, что она любит меня, всеми отверженную; и я, ожидавшая от людей лишь недоверия, неприязни и оскорблений, прильнула к ней с дочерней нежностью. Во всяком случае, сегодня я буду ее гостьей, — ведь я ее дитя; она, как мать, приютит меня, не требуя денег, не назначая платы. У меня еще сохранился кусочек хлеба — остаток булки, купленной на последнее пенни в городке, через который мы проезжали в полдень. Я заметила спелые ягоды черники, блестевшие там и сям среди вереска, словно бусы из черного агата, набрала пригоршню и съела их с хлебом. Этот незатейливый ужин если не утолил, то все же несколько умерил мучительный голод. Окончив трапезу, я прочла вечернюю молитву и улеглась.
Возле утеса вереск был очень густ; когда я легла, мои ноги утонули в нем; обступив меня с обеих сторон высокой стеной, он все же давал доступ ночному воздуху. Я сложила вдвое свою шаль и накрылась ею, как одеялом; отлогая мшистая кочка послужила мне подушкой. Устроившись так, я по крайней мере в начале ночи не чувствовала холода.
Мой сон был бы спокоен, если бы не тоскующее сердце. Оно сетовало на свои кровоточащие раны, на оборванные струны; оно трепетало за мистера Рочестера и его судьбу. Оно скорбело о нем с мучительной жалостью; оно порывалось к нему в неумолимой тоске; бессильное, как подстреленная птица, оно все еще вздрагивало подбитыми крылами в тщетных попытках лететь к любимому.
Истерзанная этими мыслями, я стала на колени.
Наступила ночь, и взошли светила, — спокойная, тихая ночь, слишком безмятежная для страха. Мы знаем, что бог вездесущ; но, без сомнения, мы больше всего чувствуем его присутствие, созерцая величие его творений; и именно в безоблачном ночном небе, где его миры свершают свой безмолвный путь, мы яснее всего чувствуем его бесконечность, его всемогущество. Я стала на колени, чтобы помолиться за мистера Рочестера. Взглянув вверх, я увидела сквозь пелену слез величественный Млечный Путь. Вспомнив, что он собой представляет, какие бессчетные солнечные системы несутся там, в пространстве, оставляя лишь слабый светящийся след, я ощутила могущество и силу божью. Я была уверена, что он властен спасти свое создание: во мне крепло убеждение, что ни земля, и ни одна из душ, живущих на ней, не погибнет, и я вознесла ему благодарность; ведь жизнедавец есть также спаситель душ. Мистер Рочестер будет спасен; он божье дитя, и бог будет хранить его. Я снова приникла к груди утеса и скоро во сне позабыла печаль.
Однако на следующий день нужда предстала передо мной во всей своей неприглядной наготе. Когда я проснулась и огляделась вокруг, птицы уже давно покинули свои гнезда, пчелы уже давно отправились собирать с вереска мед; роса еще не высохла, но длинные утренние тени стали уже укорачиваться, и солнце залило блеском землю и небо.
Какой тихий, жаркий, чудесный день! Золотистой пустыней лежали передо мной луга! Повсюду солнечный блеск. Если бы можно было жить в этом блеске, если бы можно было питаться этим сиянием! Я увидала ящерицу, скользившую по утесу; я увидала пчелу, деловито сновавшую среди сладкой черники. Будь я пчелой или ящерицей, я нашла бы здесь подходящую пищу и постоянный приют. Но я была человеком, и у меня были потребности человека: мне нельзя было задерживаться там, где их нечем удовлетворить. Я поднялась и оглянулась на ложе, которое только что покинула. Взирая на будущее без надежды, я теперь жалела об одном, — что творец не счел за благо призвать мою душу к себе минувшей ночью, во время моего сна; тогда этому усталому телу, освобожденному смертью от дальнейшей борьбы с судьбой, оставалось бы только тихо разрушаться и, покоясь в мире, постепенно слиться воедино с этой пустыней. Однако жизнь со всеми своими потребностями, муками и обязанностями все еще не покинула меня; надо было нести ее бремя, утолять ее нужды, терпеть страдания, выполнять свой долг. Я двинулась в путь.
Достигнув Уиткросса, я зашагала по дороге, спиной к солнцу, жарко и высоко пылавшему в небе. Чем еще могла я руководствоваться в выборе направления? Я шла долго, и когда решила, что, пожалуй, сделала все возможное и могу со спокойной совестью уступить усталости, которая уже овладевала мною, могу прекратить это вынужденное движение вперед и, усевшись на первый попавшийся камень, отдаться неодолимой апатии, сковывавшей мое сердце и все мое существо, — я вдруг услышала звон колокола — это был церковный колокол.
Я пошла на звон, и вот среди романтических холмов, изменчивые очертания которых я уже с час назад перестала замечать, увидела деревню и, несколько поодаль, колокольню. Вся долина направо от меня пестрела пастбищами, нивами и рощами; сверкающая речка извивалась среди зелени самых разнообразных оттенков — спеющих хлебов, темных массивов леса, светлых лугов. Мое внимание привлек стук колес, и, взглянув на дорогу перед собой, я увидела нагруженный воз, медленно поднимавшийся на холм; немного позади пастух гнал двух коров. Людская жизнь и людской труд окружали меня. Я должна продолжать борьбу: отстаивать свою жизнь и трудиться, как все прочие.
Было около двух часов, когда я вошла в деревню. В конце ее единственной улицы находилась небольшая лавка, в окне которой были выставлены булки. Как мне хотелось съесть такую булку! Подкрепившись, я могла бы в известной мере восстановить свои силы; без пищи мне было трудно продолжать свой путь. Как только я очутилась среди себе подобных, ко мне вернулось желание снова обрести волю и энергию. Я чувствовала, как унизительно было бы упасть в обморок от голода на проезжей дороге, посреди деревни. Нет ли чего-нибудь, что я могла бы предложить в обмен на булку? Я стала обдумывать. У меня была шелковая косынка на шее, у меня были перчатки. Я плохо себе представляла, как поступают люди в крайней нужде. Возьмут ли у меня хотя бы один из этих предметов? Вероятно, не возьмут, но нужно попытаться.
Я вошла в лавку; там находилась женщина. Увидав прилично одетую особу, по ее предположениям — даму, она с любезным видом пошла ко мне навстречу. Чем она может мне служить? Мне стало стыдно; у меня язык не поворачивался высказать просьбу, с которой я пришла. Я не осмеливалась предложить ей поношенные перчатки или измятую косынку; к тому же я чувствовала, что это будет бесполезно. Я лишь попросила позволения присесть на минуту, так как очень устала. Обманутая в своих надеждах, женщина холодно согласилась на мою просьбу. Она указала мне стул; я опустилась на него. Слезы подступали к моим глазам, но, сознавая, как они неуместны, я подавила их. Затем спросила, есть ли у них в деревне портниха или швея.
— Да, две или три. Но и на них едва хватает работы.
Я размышляла; я дошла до крайности, очутилась лицом к лицу с нуждой. И притом без средств, без друзей, без денег. Надо что-то предпринять. Но что? Я должна куда-то обратиться. Но куда?
Не знает ли она — может быть, кто-нибудь по соседству ищет прислугу?
Нет, она не слыхала.
— Какой главный промысел в здешних местах? Чем занимается большинство жителей?
— Некоторые батрачат на фермах; многие работают на игольной фабрике мистера Оливера и на литейном заводе.
— Мистер Оливер принимает на работу женщин?
— Нет, там работают одни мужчины.
— А что делают женщины?
— Не знаю, — был ответ. — Кто — одно, кто — другое. Бедняки перебиваются, как умеют.
Видимо, ей надоели мои расспросы; и в самом деле, какое право я имела ей докучать? Вошли двое-трое соседей, стул явно был нужен. Я простилась.
Я пошла вдоль по улице, оглядывая на ходу все дома справа и слева, но не могла придумать никакого предлога или основания, чтобы войти в один из них. Около часа или дольше я бродила вокруг деревни, то удаляясь от нее, то снова возвращаясь. Выбившись из сил и испытывая уже нестерпимый голод, я свернула в переулок и уселась под изгородью. Однако не прошло и нескольких минут, как я снова была на ногах, снова металась в поисках какого-нибудь выхода или по крайней мере совета. В конце переулка стоял красивый домик, перед ним был разбит сад, безукоризненно чистый и полный ярких цветов. Я остановилась. Какое я имела право подойти к белой двери и коснуться сверкающего молотка? Разве я могла надеяться, что обитатели этого жилища сжалятся надо мной? Все же я подошла и постучала. Чисто одетая молодая женщина с кротким лицом открыла дверь. Голосом, какой мог быть только у изнемогающего существа, охваченного глубокой безнадежностью, голосом жалким, тихим и дрожащим я спросила, не нужна ли им прислуга.
— Нет, — отвечала она, — мы не держим прислуги.
— Не скажете ли вы мне, где я могла бы получить какую-нибудь работу? — продолжала я. — Я не здешняя, у меня нет знакомых в этих местах. Я ищу работы, все равно какой.
Но она не обязана была думать за меня или искать для меня место; к тому же моя внешность, странное состояние и просьба должны были показаться ей весьма подозрительными. Женщина покачала головой — ей, мол, очень жаль, но она не может дать мне никаких сведений; и белая дверь закрылась — вполне вежливо и учтиво, однако оставив меня за порогом. Останься эта дверь открытой чуть подольше, и я, вероятно, попросила бы кусочек хлеба, так я пала духом…
Я не в силах была вернуться в неприветливую деревню, да там, видимо, и нечего было рассчитывать на помощь. Пожалуй, я предпочла бы свернуть с дороги в лес, который виднелся невдалеке и своей густой тенью обещал мне гостеприимный приют; но я была так измучена, так слаба, так истерзана голодом, что инстинкт заставлял меня блуждать вокруг человеческого жилья, где была хоть какая-то надежда на пищу. Я знала, что уединение не будет уединением, покой не будет покоем, пока голод, этот ястреб, терзает мне внутренности.
Я подходила к домам, удалялась от них, возвращалась и снова отходила, преследуемая сознанием, что я не могу предъявлять никаких требований и не вправе ожидать никакого интереса к моей одинокой судьбе. Между тем день клонился к вечеру, а я все еще бродила, как бездомная, голодная собака. Переходя через поле, я увидела колокольню и поспешила к ней. Возле кладбища, в саду, стояло небольшое, но красивое, прочное строение; я не сомневалась в том, что это жилище пастора. Я вспомнила, что иногда люди, приезжающие в места, где у них нет друзей, и ищущие работы, обращаются к священнику за рекомендацией и помощью. Ведь обязанность священника — помочь, по крайней мере советом, тому, кто нуждается в помощи. Мне казалось, что я имею некоторое право на совет. И так, ободрившись и собрав последние остатки сил, я двинулась вперед. Я подошла к дому и постучала в кухонную дверь. Мне отворила старая женщина; я спросила, не это ли дом священника?
— Да.
— Священник дома?
— Нет.
— Скоро он вернется?
— Нет.
— Он далеко ушел?
— Не очень, мили за три. Его вызвали, так как у него внезапно скончался отец; сейчас он находится в Маршэнде и, по всей вероятности, пробудет там еще недели две.
— А жена священника дома?
Нет, никого нет, кроме нее самой, а она — экономка.
Но к ней, читатель, я не в силах была обратиться за той помощью, без которой погибала; я все еще не могла просить милостыню. И снова я поплелась прочь.
Еще раз я сняла свою косынку и представила себе булки в лавочке. О, хотя бы корку, хотя бы глоток супу, чтобы смягчить муки голода! Инстинктивно я снова пошла по направлению к деревне, снова отыскала лавочку и вошла в нее; и хотя там, кроме хозяйки, были еще посторонние, я отважилась на просьбу: не даст ли она мне хлеба в обмен на мою косынку?
Женщина взглянула на меня с явным подозрением: нет, она никогда не продавала свой товар таким способом.
Почти отчаявшись, я попросила полбулки; она опять отказала: откуда она знает, где я взяла эту косынку, сказала она.
Тогда не обменяет ли она на хлеб мои перчатки?
Нет, на что они ей нужны!
Не весело, читатель, останавливаться на этих подробностях. Некоторые уверяют, что приятно вспоминать пережитые в прошлом страдания, но мне и сейчас тяжело возвращаться мыслью к этому периоду моей жизни: нравственное унижение в соединении с физической мукой — это слишком горестные воспоминания, чтобы на них задерживаться. Я не порицала тех, кто отталкивал меня. Я чувствовала, что этого и следовало ожидать и что тут ничего не поделаешь: обыкновенный нищий нередко вызывает подозрения; хорошо одетый нищий их вызывает неизбежно. Положим, я просила только работу, но кто был обязан заботиться об этом? Конечно, не тот, кто видел меня впервые и ничего не знал обо мне. Что касается женщины, не захотевшей взять мою косынку в обмен на свой хлеб, — то и она была права, если мое предложение показалось ей подозрительным или обмен невыгодным. Словом, позвольте мне быть краткой. Мне трудно говорить об этом.
В сумерки я проходила мимо фермы; у раскрытой двери дома сидел фермер за ужином, состоявшим из хлеба и сыра. Я остановилась и сказала:
— Не дадите ли вы мне кусок хлеба? Я очень голодна.
Он удивленно взглянул на меня; однако, не говоря ни слова, отрезал толстый ломоть от своей ковриги и протянул мне. Кажется, он не принял меня за нищую, но решил, что я эксцентричная дама, которой пришла фантазия отведать черного хлеба. Как только я отошла от дома, я села на землю и съела хлеб.
Я потеряла надежду найти приют под крышей и стала искать его в том лесу, о котором уже упоминала. Однако я плохо провела ночь; мой отдых часто нарушался, земля была сырая, воздух холодный, к тому же близ меня не раз проходили люди, и я была вынуждена все снова и снова менять свое убежище: у меня не было отрадного чувства безопасности и покоя. Под утро пошел дождь; он продолжался весь следующий день. Не спрашивайте у меня, читатель, подробного отчета об этом дне; я все так же искала работы, все так же получала отказы, все так же страдала от голода; лишь один раз мне удалось поесть. У двери одной фермы я увидела девочку, которая собиралась выбросить из миски холодную кашу в свиную кормушку.
— Не отдашь ли ты мне это? — спросила я.
Она посмотрела на меня с удивлением.
— Мама! — крикнула она. — Тут женщина просит у меня кашу.
— Ладно, дочка, — отвечал голос из дома, — отдай ей, ежели она нищая. Свинья все равно не будет есть.
Девочка вытряхнула мне в руку застывшую густую массу, и я с жадностью проглотила ее.
Когда влажные сумерки стали сгущаться, я остановилась на глухой тропе, по которой плелась уже больше часа.
«Последние силы покинули меня, — сказала я себе. — Я чувствую, что дальше идти не могу. Неужели и эту ночь я проведу как отверженная? Неужели мне придется под этим дождем положить голову на холодную, мокрую землю? Боюсь, что так и будет, кто меня приютит? Но как это будет тяжело, ведь я голодна, ослабела, озябла, а никому до меня нет дела, а впереди полная безнадежность. По всей вероятности, я не доживу до утра. Отчего же я не могу примириться с близостью смерти? Зачем борюсь за ненужную жизнь? Я знаю, я верю, что мистер Рочестер жив; а к тому же смерть от голода и холода — это такая судьба, с которой природа не может примириться. О провидение, поддержи меня еще немного! Помоги, направь мои стопы!»
Мой затуманенный взор блуждал по мрачной, мглистой окрестности. Я поняла, что далеко отошла от деревни: ее совсем не было видно; исчезли даже окружавшие ее плодородные поля. Проселки и тропинки снова привели меня к пустоши; и лишь узкая полоса едва возделанной земли, почти такой же дикой и бесплодной, как вересковые заросли, у которых она была отвоевана, отделяла меня от хмурых гор.
«Что ж, лучше умереть там, чем на улице или на людной дороге, — размышляла я. — И пусть лучше галки и вороны будут клевать мое тело, чем его запрячут в нищенский гроб и оно сгниет в убогой могиле».
Итак, я повернула к горам. Я подошла к ним. Теперь оставалось только найти укромное местечко, где бы можно было улечься, чувствуя себя если не в безопасности, то по крайней мере скрытой от чужих глаз. Но вокруг меня расстилалась пустыня, лишь окраска ее была различна — зеленая там, где болота заросли камышом и мхом; черная там, где на сухой почве рос только вереск. В наступающих сумерках я едва могла различить эти оттенки; я вспоминала их лишь как чередующиеся светлые и темные пятна, ибо краски померкли вместе с дневным светом.
Мой взор все еще блуждал по трясинам и зарослям, теряясь в диких дебрях, как вдруг в темноте, далеко впереди, между болотами и скалами, вспыхнул огонек. «Это блуждающий огонек», — решила я и ждала, что он вот-вот исчезнет. Однако он продолжал гореть ровным светом, не удаляясь и не приближаясь. «Тогда это может быть костер, который только сейчас разожгли», — предположила я и стала наблюдать, не начнет ли огонек разгораться; но нет, он не уменьшался и не увеличивался. «Вероятно, это свеча в доме, — решила я. — Если так, мне ни за что до нее не добраться: она слишком далеко от меня; но будь она даже рядом, какой от этого был бы толк? Я постучала бы в дверь, а ее все равно захлопнули бы у меня перед носом».
И я легла и приникла лицом к земле. Некоторое время я лежала неподвижно. Ночной ветер проносился над холмами и надо мной и, стеная, замирал вдалеке. Лил дождь, и я промокла до костей. О, если бы окоченеть и отдаться милосердию смерти — пусть тогда хлещет, я ничего не почувствую. Но моя все еще живая плоть содрогалась под холодными потоками. Через некоторое время я снова поднялась.
Огонек горел все так же упорно, поблескивая сквозь дождь. Я снова попыталась идти; медленно повлекла я свое измученное тело навстречу этому огоньку. Он вел меня по склону и через большое болото, непроходимое зимой; даже сейчас, в разгаре лета, под ногами хлюпало, и я то и дело проваливалась. Дважды я падала, но всякий раз поднималась и снова пускалась в путь. Огонек был моей последней надеждой. Я должна до него дойти!
Перебравшись через болото, я увидала на темном вереске светлую полосу. Я приблизилась к ней; это была дорога, она вела прямо на огонек, который светил откуда-то сверху, точно со шпиля, окруженного деревьями, — видимо, это были ели, в темноте я с трудом разглядела их очертания и темную хвою. Когда я подошла поближе, моя путеводная звезда исчезла: какая-то преграда встала между нами. Я протянула руку и нащупала впереди темную массу — это были неотесанные камни низкой стены, над нею — нечто вроде частокола, а за ним — высокая колючая изгородь. Я продолжала продвигаться ощупью. Вдруг впереди что-то забелело: это была калитка; она открылась, едва я до нее дотронулась. По обеим сторонам виднелись кусты остролиста или тиса.
Войдя в калитку и миновав кусты, я увидела силуэт дома — темное, низкое и довольно длинное строение. Однако путеводный огонек исчез. Кругом все было темно. Может быть, обитатели легли спать? Я боялась, что так оно и есть. Разыскивая дверь, я повернула за угол, — и вот вновь засиял приветливый свет сквозь ромбовидные стекла маленького решетчатого оконца, находившегося на высоте примерно одного фута от земли; оно казалось еще меньше из-за плюща или какого-то другого вьющегося растения, листва которого густо покрывала всю эту часть стены. Окно было настолько узко и так прикрыто листвой, что занавеска или ставни, видимо, оказались ненужными; наклонившись и отодвинув в сторону свисавшие над окном листья, я заглянула внутрь. Я увидела комнату с чисто выскобленным, посыпанным песком полом; ореховый буфет с рядами оловянных тарелок, отражавших красноватый блеск горевшего в очаге торфа; разглядела стенные часы, простой некрашеный стол и несколько стульев. Свеча, яркий огонек которой послужил мне маяком, стояла на столе; при ее свете пожилая женщина, несколько грубоватая на вид, но в платье, отличавшемся такой же безукоризненной чистотой, как и все вокруг нее, вязала чулок.
Мой взгляд лишь скользнул по этим предметам — в них не было ничего необычного. Гораздо интереснее была группа, расположившаяся у очага. В его мирном тепле и розоватых отблесках сидели две молодые грациозные женщины, леди с головы до ног; одна устроилась в низкой качалке, другая на скамеечке. Обе они были в глубоком трауре, в платьях, отделанных крепом; этот мрачный наряд особенно подчеркивал красоту их лица и стана. Большой старый пойнтер положил свою массивную голову на колени одной из девушек, на коленях у другой лежала, свернувшись, черная кошка.
Странно было видеть этих изящных дам в столь скромной кухне. Кто они? Не могли же они быть дочерьми сидевшей за столом пожилой особы, ибо у нее был вид крестьянки, они же казались воплощением изящества. Я никогда не встречала этих женщин, а между тем, при взгляде на их лица, мне показалась давно знакомой каждая их черта. Я не могла бы назвать их хорошенькими — они были для этого чересчур бледны и серьезны, их лица, склоненные над книгой, казались задумчивыми до строгости. На столике между ними стояла вторая свеча и лежали два больших тома, они то и дело в них заглядывали, видимо сличая их с другими книгами, меньшего размера, которые держали в руках, как делают люди, пользующиеся словарем при чтении иностранного автора. Все это совершалось настолько беззвучно, словно фигуры были тенями, а озаренная свечами комната — картиной. Стояла такая тишина, что было слышно, как зола осыпается с решетки и как тикают часы в темном углу; и мне казалось, что я различаю даже позвякивание спиц в руках у старухи. Поэтому, когда, наконец, чей-то голос нарушил эту странную тишину, я его хорошо расслышала.
— Слушай, Диана, — сказала одна из девушек, отрываясь от своего занятия, — Франц и старый Даниель проводят ночь вместе, и Франц рассказывает сон, от которого он пробудился в ужасе, — слушай! — И она прочла тихим голосом несколько фраз, из которых я не поняла ни одного слова, так как они были на незнакомом мне языке; это не был ни французский, ни латинский. Я не знала, был ли то греческий или немецкий.
— Какое сильное место, — сказала она, дочитав. — Я просто в восторге.
Другая девушка, подняв голову и глядя на огонь, повторила только что прочитанную сестрою строчку. Впоследствии я познакомилась с неведомым мне языком и неведомой книгой, поэтому я все же приведу здесь эту строчку, хотя, когда я впервые ее услышала, она прозвучала для меня, как бряцание металла, лишенное всякого смысла.
— Da trat hervor einer, anzusehen wie die Sternennacht. (Тогда выступил вперед некто, видом своим подобный звездной ночи.)
— Прекрасно! Прекрасно! — воскликнула ее сестра, и ее глубокие черные глаза засверкали. — Видишь, как превосходно изображен мрачный и могучий архангел. Эта строка стоит сотни высокопарных страниц. Ich wage die Gedanken in der Schalle meines Zornes und die Werke mit dem Gewichte meines Grimms. (Я взвешиваю мысли на чаше моего гнева и меряю дела мерой моей ярости.) Мне очень нравится!
Обе вновь замолчали.
— А что, есть на свете страна, где говорят по-таковски? — спросила старая женщина, подняв голову от вязанья.
— Да, Ханна, — эта страна гораздо больше Англии, и там говорят именно так.
— Ну, уж не знаю, как это они понимают друг друга; а если бы одна из вас поехала туда, ведь вы бы понимали, что они там говорят, правда?
— Мы, вероятно, кое-что поняли бы, но не все, потому что мы не такие ученые, как вы думаете, Ханна. Мы не говорим по-немецки и не можем читать без помощи словаря.
— А какой вам от этого прок?
— Мы собираемся со временем преподавать этот язык, или по крайней мере его основы, как принято выражаться, и тогда мы будем зарабатывать больше, чем теперь.
— Может быть. Однако кончайте-ка учиться; довольно уж вы потрудились сегодня.
— Да, что верно, то верно. Я устала. А ты, Мери?
— Смертельно. Какая же это неблагодарная работа — корпеть над языком, когда не имеешь другого учителя, кроме словаря.
— Ты права. Особенно над таким языком, как немецкий. Когда же, наконец, вернется Сент-Джон?
— Теперь уж скоро; сейчас ровно десять, — и Мери взглянула на золотые часики, которые вынула из-за пояса. — Какой сильный дождь! Ханна, будьте добры, взгляните, не погас ли огонь в гостиной.
Женщина встала и открыла дверь, через которую я смутно разглядела коридор. Вскоре я услышала, как она где-то за стеной помешивает угли; она быстро вернулась.
— Ах, детки, — просто сердце сжимается, когда я вхожу в ту комнату: она такая мрачная… и еще это пустое кресло, задвинутое в угол.
Она отерла глаза фартуком; лица девушек, и без того серьезные, стали теперь печальными.
— Но он в лучшем мире, — продолжала Ханна. — Нечего жалеть, что его больше нет с нами. Всякому можно пожелать такой спокойной смерти.
— Вы говорите, он не вспоминал о нас? — спросила одна из девушек.
— Не успел, голубки мои; он отошел в одну минуту, ваш отец. Накануне ему было чуточку не по себе, но ничего серьезного, и когда мистер Сент-Джон спросил его, не вызвать ли одну из вас, — он прямо-таки рассмеялся. Ровно две недели назад, встав утром, он почувствовал небольшую тяжесть в голове, — прилег отдохнуть, да так и не проснулся; он уже совсем окоченел, когда ваш брат вошел к нему в комнату. Эх, детки, такого, как он, уже не будет, потому что вы и мистер Сент-Джон совсем другой породы, чем те, что ушли; правда, ваша мать была во многом такая, как и вы, и такая же ученая. Ты ее вылитый портрет, Мери, а Диана больше похожа на отца.
Девушки казались столь схожими между собой, что мне было непонятно, в чем видит разницу старая служанка (так я определила пожилую женщину). Обе были стройны, у обеих были выразительные, породистые, одухотворенные черты. Правда, у одной волосы казались чуть темнее, чем у другой, и они по-разному причесывались: светло-каштановые косы Мери были разделены пробором и зачесаны гладко, более темные волосы Дианы падали на шею локонами.
Часы пробили десять.
— Вы уже, наверно, проголодались? — заметила Ханна. — Да и мистер Сент-Джон не откажется поесть, когда вернется.
И она принялась накрывать на стол. Обе девушки встали; видно, они собирались перейти в гостиную. До этой минуты я с таким вниманием их рассматривала, их внешность и разговор вызвали во мне столь живой интерес, что я почти забыла о собственном бедственном положении; теперь я вновь ощутила его, и, в силу контраста, оно представилось мне еще более отчаянным и безнадежным. Мне казалось совершенно немыслимым пробудить у обитателей этого дома участие к себе, заставить их поверить в реальность моей нужды и страданий, упросить их дать приют бездомной скиталице. Нащупав дверь и нерешительно постучав, я почувствовала, что моя надежда — не более как химера. Ханна отворила.
— Что вам надо? — спросила она удивленно, оглядывая меня при свете свечи, которую держала в руке.
— Могу я поговорить с вашими хозяйками? — спросила я.
— Лучше скажите, что вам от них нужно. Откуда вы пришли?
— Я не здешняя.
— Что вам нужно в такой поздний час?
— Пустите меня переночевать в сарае или еще где-нибудь и не пожалейте для меня куска хлеба.
Выражение недоверия, которого я так опасалась, появилось на лице Ханны.
— Кусок хлеба я дам вам, — сказала она, помолчав, — но мы не можем пустить ночевать бродягу. Где это видано?
— Позвольте мне поговорить с вашими хозяйками.
— Нет, ни в коем случае. Что они могут сделать для вас? И нечего вам шататься в эту пору. Как вам не стыдно!
— Но куда же я пойду, если вы меня выгоняете? Что мне делать?
— О! Я уверена, вы отлично знаете, куда вам идти и что делать. Лишь бы вы не делали ничего дурного — вот и все. Вот вам пенни. И уходите…
— Пенни не накормит меня, и у меня нет сил идти дальше. Не закрывайте дверь. О, не закрывайте, ради бога!
— Да как же, этак мне всю кухню зальет дождем…
— Скажите молодым дамам… Пустите меня к ним…
— Ни за что на свете! Вы, видно, не из порядочных, — иначе не поднимали бы такого шума. Пошли прочь!
— Но я умру, если вы меня прогоните!
— Как бы не так. Боюсь, что у вас на уме худое, — оттого и бродите на ночь глядя около жилья порядочных людей. Ежели вас тут целая шайка громил или других там злодеев и они где-нибудь поблизости, — скажите им, что мы не одни в доме: у нас есть мужчина, и собаки, и ружья. — Тут честная, но непреклонная служанка захлопнула дверь и закрыла ее на засов.
Это было чересчур! Меня пронзила острая, жестокая боль, взрыв отчаяния потряс мое сердце. Измученная до крайности, не в силах сделать ни шагу, я упала на мокрое крыльцо. Я стонала, ломала руки, рыдала в смертельной тоске. О, этот призрак смерти! О, этот последний час, приближающийся ко мне во всем своем ужасе! И это одиночество — изгнание из среды своих ближних! Не только искра надежды, последняя капля мужества иссякла во мне на какие-то минуты. Но вскоре я снова попыталась овладеть собой.
— Мне остается только умереть, — сказала я, — но я верю в бога. Попытаюсь смиренно принять его волю.
Эти слова я произнесла не только мысленно, но и вслух, и, затаив все свои страдания глубоко в сердце, я старалась заставить его умолкнуть.
— Все люди должны умереть, — произнес чей-то голос совсем близко от меня, — но не все обречены на мучительный и преждевременный конец, какой выпал бы на вашу долю, если бы вы погибли здесь от истощения.
— Кто это говорит? Кто? — спросила я, испуганная этими неожиданными словами, ибо я уже потеряла всякую надежду на помощь. Какой-то человек стоял подле меня, но непроглядная ночь и мое ослабевшее зрение мешали мне рассмотреть его. Громким, продолжительным стуком в дверь прибывший возвестил о себе.
— Это вы, мистер Сент-Джон? — крикнула Ханна.
— Да, да, открывайте скорей.
— Ух, как вы, верно, промокли да продрогли в такую собачью ночь! Входите! Ваши сестры беспокоятся, кругом рыщет недобрый люд. Тут приходила нищенка… Я вижу, она еще не ушла, — вишь, улеглась здесь! Вставайте! Какой стыд! Пошли прочь, говорю вам!
— Тише, Ханна. Мне нужно сказать два слова этой женщине. Вы исполнили свой долг, не впустив ее в дом, теперь дайте мне исполнить мой — и впустить ее. Я стоял поблизости и слышал и вас и ее. Мне кажется, это необычайный случай, — и я должен в нем разобраться. Молодая женщина, встаньте и войдите со мной в дом.
Я с трудом повиновалась. Через минуту я стояла в ослепительно чистой кухне, у самого очага, дрожащая, обессилевшая, сознавая, что произвожу впечатление в высшей степени странное, жуткое и плачевное. Обе молодые девушки, их брат — мистер Сент-Джон, и старая служанка пристально смотрели на меня.
— Сент-Джон, кто это? — спросила одна из сестер.
— Не знаю; я нашел ее у дверей.
— Она совсем побелела, — сказала Ханна.
— Белая, как мел или как смерть. Она сейчас упадет, посадите ее.
И в самом деле, голова у меня закружилась; я чуть было не упала, но мне подставили стул. Я все еще не теряла сознания, хотя уже не могла говорить.
— Может быть, глоток воды приведет ее в чувство? Ханна, принесите воды. Она истощена до крайности. Как она худа! Ни кровинки в лице!
— Настоящее привидение!
— Что она, больна или только изголодалась?
— Изголодалась, я полагаю. Ханна, это молоко? Дайте мне его сюда и кусок хлеба.
Диана (я узнала ее по длинным локонам, которые закрыли от меня огонь, когда она склонилась надо мной) отломила кусок хлеба, окунула его в молоко и положила мне в рот. Ее лицо было совсем близко от меня; я прочла в нем участие, а ее взволнованное дыхание свидетельствовало о симпатии ко мне. В ее простых словах звучало то же чувство; все это действовало на меня, как бальзам.
— Попытайтесь выпить молока.
— Да, попытайтесь, — ласково повторила Мери; ее рука сняла с меня мокрую шляпу и приподняла мою голову. Я начала есть то, что они мне предлагали, сперва вяло, затем с жадностью.
— Не слишком много сразу, удержите ее, — сказал брат, — пока довольно. — И он отодвинул чашку с молоком и тарелку с хлебом.
— Еще немного, Сент-Джон, — взгляни, какие у нее голодные глаза.
— Сейчас больше нельзя, сестра. Посмотрим, сможет ли она теперь говорить; спроси, как ее зовут.
Я почувствовала, что могу говорить, и отвечала:
— Меня зовут Джен Эллиот. — Желая сохранить свою тайну, я еще раньше решила назваться вымышленным именем.
— А где вы живете? Где ваши близкие?
Я молчала.
— Можно послать за кем-нибудь из ваших знакомых?
Я отрицательно покачала головой.
— Что вы можете рассказать о себе?
Теперь, когда я, наконец, переступила порог этого дома и очутилась перед его хозяевами, я уже больше не чувствовала себя изгнанницей, бродягой, отверженной всеми на свете. Я решила сбросить личину нищей; и ко мне вернулись мои обычные манеры. Я почти пришла в себя и, когда мистер Сент-Джон попросил меня рассказать о себе, сказала после краткой паузы:
— Сэр, сегодня я не могу сообщить вам никаких подробностей.
— Но в таком случае, — спросил он, — чего вы ждете от меня?
— Ничего, — отвечала я, моих сил хватало только на самые короткие ответы.
Тут вмешалась Диана.
— Вы хотите сказать, — спросила она, — что мы вам оказали необходимую помощь и теперь можем отпустить вас опять скитаться по болотам, ночью, под дождем?
Я взглянула на Диану. В ее чертах внутренняя сила сочеталась с добротой. Я почувствовала внезапный прилив мужества. Отвечая улыбкой на ее сострадательный взгляд, я сказала:
— Я вам доверяюсь. Я знаю, что, будь я даже бездомной, бродячей собакой, вы и то не прогнали бы меня из дому, в такую ночь; нет, я ничего не боюсь. Делайте со мной, что хотите, но не требуйте от меня длинного повествования, — я едва дышу, у меня горло сжимается, когда я говорю.
Все трое смотрели на меня в молчании.
— Ханна, — сказал наконец мистер Сент-Джон, — пусть она здесь пока посидит; не спрашивайте ее ни о чем; через десять минут дайте ей остатки молока и хлеба. Мери и Диана, пойдем в гостиную и обсудим этот случай.
Они ушли. Вскоре одна из девушек вернулась, не могу сказать, которая из двух. Сладостное оцепенение овладело мною в то время, как я сидела у живительного огня. Вполголоса она отдала Ханне какие-то распоряжения. Затем, с помощью служанки, я с трудом поднялась по лестнице, с меня сняли промокшую одежду, уложили в теплую, сухую постель. Почувствовав сквозь невероятную усталость вспышку благодарной радости, я обратилась к богу и заснула.
Глава XXIX
О последовавших затем трех днях и трех ночах у меня сохранилось лишь очень смутное воспоминание. Я могу припомнить только некоторые ощущения, испытанные мною тогда. Я лежала почти без единой мысли в голове и без всякого движения. Я знала, что нахожусь в маленькой комнате, на узкой кровати. К этой кровати я, казалось, приросла. Я лежала неподвижно, словно камень, и сбросить меня — значило бы убить. Я не чувствовала течения времени — как утро сменялось днем, а день — вечером. Если кто-нибудь входил или выходил из комнаты, я замечала это: я даже знала, кто именно, понимала все, что было сказано, если говоривший стоял возле меня, но не могла отвечать: мне трудно было шевельнуть губами, трудно двинуть рукой. Чаще всего меня навещала Ханна. Ее приход волновал меня. Я чувствовала, что мое присутствие в доме ее раздражает, что она не понимает ни меня, ни моих обстоятельств, что она предубеждена против меня. Раза два в день в моей комнате появлялись Диана и Мери. Стоя у моей кровати, они шепотом обменивались короткими фразами:
— Как хорошо, что мы ее приютили!
— Да, ее, конечно, нашли бы утром мертвой у нашей двери. Хотела бы я знать, что ей пришлось испытать в жизни?
— Видно, бедняжка перенесла немало. Бедная, измученная скиталица!
— Судя по ее выговору, она получила образование, а ее платье, хотя и было грязным и мокрым, мало поношено и хорошо сшито.
— Странное у нее лицо: худое и угрюмое, но все-таки оно мне нравится; и я могу себе представить, что когда она здорова и оживлена, оно может быть приятным.
Ни разу не услышала я ни слова сожаления об оказанном мне гостеприимстве, не заметила ни подозрительности, ни предубеждения. Это успокаивало меня.
Мистер Сент-Джон зашел лишь раз; взглянув на меня, он сказал, что мое состояние — это болезненная реакция после длительной и чрезмерной усталости. Нет надобности посылать за доктором: природа прекрасно справится своими силами. Каждый нерв у меня перенапряжен, и весь организм должен некоторое время находиться в дремотном покое. Никакой болезни нет. Выздоровление, раз начавшись, будет протекать достаточно быстро. Эти соображения он высказал в немногих словах, спокойным, тихим голосом; и после паузы добавил тоном человека, не привыкшего к пространным излияниям:
— Довольно необычное лицо; в нем безусловно нет никаких признаков вульгарности или испорченности.
— Отнюдь нет, — отвечала Диана. — Говоря по правде, Сент-Джон, у меня даже какое-то теплое чувство к бедной малютке. Я бы хотела, чтобы мы могли и дальше оказывать ей покровительство.
— Едва ли это возможно, — последовал ответ. — Вероятно, выяснится, что у этой молодой особы возникли недоразумения с ее близкими, после чего она их безрассудно покинула. Может быть, нам удастся вернуть ее в семью, если она не будет упорствовать; однако я замечаю в ее лице черты твердого характера, и это заставляет меня сомневаться в ее сговорчивости. — Он несколько минут разглядывал меня, затем добавил: — Она не глупа, но совсем не красива.
— Она так больна, Сент-Джон.
— Больная или здоровая, она всегда будет невзрачной. Ее черты совершенно лишены изящества и гармонии, присущих красоте.
На третий день я почувствовала себя лучше; на четвертый уже могла говорить, двигаться, приподниматься в кровати и повертываться. Ханна — это было в обеденное время — принесла мне каши и поджаренного хлеба. Я ела с наслаждением; пища мне нравилась, она была лишена того неприятного привкуса, который вызван был жаром и отравлял все, что бы я ни отведала. Когда Ханна ушла, я почувствовала, что силы возвращаются ко мне, я как бы ожила; бездействие угнетало меня. Хорошо бы встать. Но что я могла надеть? Только сырое, испачканное платье, в котором я спала на земле и проваливалась в болото? Мне было стыдно показаться моим благодетелям в таком неприглядном виде. Но я была избавлена от этого унижения.
На стуле возле кровати оказались все мои вещи, чистые и сухие. Мое черное шелковое платье висело на стене. На нем уже не было пятен, оно было тщательно выглажено и имело вполне приличный вид. Даже мои башмаки были вычищены и чулки приведены в порядок. Я увидела также все нужное для умывания и гребень и щетку, чтобы причесаться. После утомительных усилий, отдыхая каждые пять минут, я, наконец, оделась. Платье висело на мне, так как я очень похудела, но я прикрыла его шалью и в прежнем опрятном и приличном виде (не осталось ни пятна, ни следа беспорядка, который я так ненавидела и который, как мне казалось, унижал меня), держась за перила, спустилась по каменной лестнице в узкий коридор и, наконец, добралась до кухни.
Она была полна ароматом свежеиспеченного хлеба и теплом живительного огня. Ханна пекла хлебы. Как известно, предрассудки труднее всего искоренить из сердца, почва которого никогда не была вспахана и оплодотворена образованием; они произрастают упорно, стойко, как плевелы среди камней. При первом знакомстве Ханна отнеслась ко мне недоброжелательно; затем она понемногу смягчилась; а теперь, увидав, что я вхожу опрятно и хорошо одетая, она даже улыбнулась.
— Как? Вы уже встали? — заметила она. — Так вам, значит, лучше? Если хотите, садитесь в мое кресло возле очага.
Ханна указала на качалку; я села в нее. Она продолжала хлопотать, то и дело поглядывая на меня уголком глаза. Вынув хлебы из печи и повернувшись ко мне, она вдруг спросила меня в упор:
— А вам приходилось просить милостыню до того как вы пришли к нам?
На миг во мне вспыхнуло негодование; но, вспомнив, что мне не за что обижаться и что я в самом деле явилась сюда как нищая, я ответила спокойно и твердо:
— Вы ошибаетесь, принимая меня за попрошайку. Я не нищая; не больше, чем вы и ваши молодые хозяйки.
Помолчав, она сказала:
— Этого я никак в толк не возьму, — ведь у вас нет ни дома, ни денег?
— Отсутствие дома или денег еще не означает нищенства в вашем смысле слова.
— Вы из ученых? — спросила она вслед за этим.
— Да.
— Но вы никогда не были в пансионе?
— Я была в пансионе восемь лет.
Она широко раскрыла глаза.
— Так почему же вы не можете заработать себе на хлеб?
— Я зарабатывала и, надеюсь, опять буду зарабатывать. Что вы собираетесь делать с этим крыжовником? — спросила я, когда она принесла корзину с ягодами.
— Положу в пироги.
— Дайте мне, я почищу.
— Нет, я не позволю вам ничего делать.
— Но я должна же что-нибудь делать; дайте.
Ханна согласилась и даже принесла чистое полотенце, чтобы прикрыть мое платье.
— Не то испачкаетесь, — пояснила она. — Вы не привыкли к грязной работе, я вижу это по вашим рукам. Может быть, вы были портнихой?
— Нет, вы ошибаетесь. Да и не все ли равно, чем я была, пусть вас это не беспокоит. Скажите лучше, как называется эта усадьба?
— Одни называют ее Марш-энд, другие — Мурхауз.
— А джентльмена, который здесь живет, зовут мистер Сент-Джон?
— Нет, он не живет здесь; он только гостит у нас. А живет он в своем приходе в Мортоне.
— Это деревушка в нескольких милях отсюда?
— Ну да.
— Кто же он?
— Он пастор.
Я вспомнила ответ старой экономки из церковного дома, когда я выразила желание повидать священника.
— Так, значит, это дом его отца?
— Ну да; старый мистер Риверс жил здесь, и его отец, и дед, и прадед.
— Значит, имя этого джентльмена — мистер Сент-Джон Риверс?
— Сент-Джон — это его имя, а Риверс фамилия.
— А его сестер зовут Диана и Мери Риверс?
— Да.
— Их отец умер?
— Умер три недели назад от удара.
— Матери у них нет?
— Хозяйка умерла ровно год назад.
— Вы долго прожили в этой семье?
— Я живу здесь тридцать лет. Всех троих вынянчила.
— Значит, вы честная и преданная служанка. Я отдаю вам должное, хотя вы и были невежливы, что назвали меня нищенкой…
Она снова с изумлением посмотрела на меня.
— Видно, я, — сказала она, — здорово ошиблась на ваш счет; но тут шляется столько всякого жулья, что вы должны простить меня.
— …и хотя вы, — продолжала я строго, — собрались прогнать меня в такую ночь, когда и собаку не выгонишь.
— Ну да, это было нехорошо; но что поделаешь! Я больше думала о детях, чем о себе. Бедняжки! Некому о них позаботиться, кроме меня. Волей-неволей будешь сердитой.
Я несколько минут хранила строгое молчание.
— Не осуждайте меня очень, — снова заговорила она.
— Нет, я все-таки буду осуждать вас, — сказала я, — и скажу вам, почему. Не столько за то, что вы отказали мне в приюте и сочли обманщицей, а за ваш упрек, что у меня нет ни денег, ни дома. А между тем некоторые из самых лучших людей на свете были так же бедны, как я; и, как христианка, вы не должны считать бедность преступлением.
— И правда, не должна бы, — сказала она, — мистер Сент-Джон говорит то же самое. Неправа я была; и теперь я вижу, что вы совсем не такая, как мне показалось сначала. Вы очень милая и вполне приличная барышня.
— Пусть будет так. Я вас прощаю. Дайте вашу руку.
Она вложила свою белую от муки, мозолистую руку в мою; еще более приветливая улыбка озарила ее грубое лицо, и с этой минуты мы стали друзьями.
Старушка, видимо, любила поговорить. Пока я чистила ягоды, Ханна разделывала тесто для пирогов и рассказывала мне различные подробности о своих покойных хозяине и хозяйке и о «детях» — так она называла молодых девушек и их брата.
Старый мистер Риверс, рассказывала она, был человек довольно простой, но это не мешало ему быть джентльменом, и притом из очень старинного рода. Марш-энд принадлежал Риверсам с того самого дня, как был построен, добрых двести лет тому назад; правда, с виду это небольшой и скромный дом — не сравнить его с хоромами мистера Оливера в Мортон-Вейле. Но она еще помнит отца, Билла Оливера, — тот был всего-навсего рабочим на игольной фабрике, а Риверсы — дворяне еще со времен всех этих Генрихов, в этом может убедиться всякий, кто заглянет в книгу метрических записей, что хранится в мортонской церкви. Правда, старый джентльмен был человек простой, как все здешние. Он был страстный охотник и хороший хозяин, и все в таком роде. Ну, а хозяйка, та была совсем другая. Очень читать любила и вечно что-то изучала; и детки пошли в нее. Таких, как они, нет в здешнем краю, да и никогда и не было; полюбили они учение, все трое, чуть не с того самого дня, как говорить начали; и всегда они были особенные, не другим чета. Мистер Сент-Джон, как подрос, поступил в колледж, а потом сделался пастором; а девочки, как только окончили школу, решили пойти в гувернантки. Они говорили, что их отец потерял много денег из-за одного человека, которому доверился, а тот взял да и обанкротился; и так как отец теперь недостаточно богат, чтобы дать за ними приданое, они должны сами о себе позаботиться. Сестры почти не живут дома и приехали только на короткое время, по случаю смерти мистера Риверса; но они так любят Марш-энд, и Мортон, и вересковые пустоши, и наши горы! Обе барышни побывали в Лондоне и еще во многих больших городах; но они всегда говорят, что дома лучше всего. А как они дружны между собой! Никогда не поспорят, не поссорятся! Уж другой такой дружной семьи, вероятно, и на свете нет.
Покончив с чисткой крыжовника, я спросила, где сейчас обе девушки и их брат.
— Пошли гулять в Мортон, но они вернутся через полчаса, к чаю.
Они действительно вскоре вернулись и вошли через кухню. Мистер Сент-Джон, увидев меня, молча поклонился и прошел мимо, но обе девушки остановились. Мери в немногих словах ласково и спокойно выразила свое удовольствие, что я уже совсем поправилась и встала с постели; Диана взяла меня за руку и покачала головой.
— Надо было подождать, пока я вам позволю спуститься вниз, — сказала она. — Вы все еще очень бледны и худы. Бедное дитя! Бедная девочка.
Голос Дианы звучал для меня, как воркование голубки. Взгляд ее глаз мне было радостно встречать. Ее лицо казалось мне прелестным. Лицо Мери было таким же одухотворенным, ее черты так же привлекательны; но она была более замкнута и держалась, несмотря на мягкость, несколько отчужденно. Во взгляде и в речах Дианы была известная властность; по всему было видно, что это волевая натура. Мне всегда доставляло удовольствие уступать власти — если эта власть была разумной — и подчиняться твердой воле тогда, когда мне позволяли совесть и собственное достоинство.
— А что вы тут делаете? — продолжала она. — Вам здесь не место. Мы с Мери сидим иногда на кухне, потому что дома хотим пользоваться полной свободой и даже позволяем себе некоторые вольности, но вы — наша гостья, и ваше место в гостиной.
— Мне и здесь хорошо.
— Здесь возится Ханна, и вы перепачкаетесь в муке.
— К тому же в кухне для вас слишком жарко, — вставила Мери.
— Конечно, — прибавила сестра. — Идемте, извольте слушаться! — Не выпуская моей руки, она заставила меня встать и повела в соседнюю комнату. — Посидите здесь, — сказала она, усаживая меня на диван, — пока мы снимем пальто и приготовим чай. Это тоже привилегия, которой мы пользуемся в нашем уединенном домике среди болот; мы сами обслуживаем себя, когда нам захочется или когда Ханна занята — печет, варит пиво, стирает или гладит.
Она закрыла дверь и оставила меня наедине с мистером Сент-Джоном, сидевшим напротив с книгой или газетой в руках. Я сначала оглядела гостиную, затем ее хозяина.
Это была сравнительно небольшая комната, очень просто обставленная, но уютная благодаря царившим в ней чистоте и порядку. Старомодные кресла блестели, а ореховый стол сверкал как зеркало. Несколько поблекших портретов, изображавших мужчин и женщин былых времен, украшали оклеенные обоями стены; в шкафах со стеклянными дверцами виднелись книги и старинный фарфор. В комнате не было никаких излишних украшений, никакой современной мебели, кроме двух рабочих столиков и стоявшего у стены дамского секретера из розового дерева; мебель, ковер и занавески казались очень подержанными, но хорошо сохранились.
Мистер Сент-Джон, сидевший так же неподвижно, как и фигуры на потемневших портретах, не отрывая взгляда от страницы, которую он читал, и безмолвно сжав губы, был весьма удобным предметом для наблюдений. Своей неподвижностью он напоминал статую. Он был молод, вероятно лет двадцати восьми – двадцати девяти, высокий, стройный; его лицо невольно запоминалось. Безукоризненные, правильные черты, прямой классический нос, рот и подбородок афинянина. Редко встретишь английское лицо, столь близкое к античным образцам. Немудрено, что его шокировала неправильность моих черт — по контрасту с гармоничностью его собственных. У него были большие синие глаза с темными ресницами; над высоким лбом, белым, как слоновая кость, небрежно вились светлые волосы.
Пленительный образ, — не правда ли, читатель? Однако оригинал едва ли производил впечатление мягкой, уступчивой, чувствительной и кроткой натуры. Несмотря на его спокойствие, мне чудилось в линиях его лба и губ, в трепете ноздрей что-то неистовое, исступленное или беспощадное. Он не сказал ни слова и даже ни разу на меня не взглянул, пока не вернулись его сестры. Диана, занятая приготовлением чая, то и дело входила и выходила из комнаты, она принесла мне только что испеченный пирожок.
— Скушайте его сейчас, — сказала она, — вы, наверно, голодны. Ханна говорит, что после завтрака не давала вам ничего, кроме каши.
Я не отказалась, так как у меня появился сильный аппетит.
Между тем мистер Риверс закрыл книгу, подошел к столу и, усевшись, устремил на меня свои красивые синие глаза. Теперь его взгляд выражал бесцеремонную пытливость и настойчивость, которые показывали, что до сих пор он намеренно, а не из застенчивости, избегал смотреть на меня.
— Вы очень голодны? — спросил он.
— Да, сэр.
Мне всегда было свойственно отвечать коротко на краткий вопрос, и прямо — на прямой.
— Это хорошо, что легкий жар заставил вас последние три дня воздерживаться от пищи; было бы опасно сразу утолить ваш голод. Теперь вы уже можете кушать, хотя все же надо соблюдать меру.
— Я надеюсь, что недолго буду кормиться за ваш счет, сэр, — был мой весьма смущенный, неловкий и невежливый ответ.
— Нет, — сказал он холодно. — Как только вы сообщите нам местопребывание ваших близких, мы известим их, и вы возвратитесь домой.
— Это — я должна сказать вам прямо — не в моей власти; у меня нет никакого дома и никаких близких.
Все трое взглянули на меня, однако без тени недоверия. Я не чувствовала подозрительности в их взглядах, скорее любопытство. Я говорю о молодых девушках. Глаза Сент-Джона, хотя и очень ясные и прозрачные, — были, так сказать, труднопроницаемы. Казалось, он пользуется ими как орудием для проникновения в мысли других людей, а не для того, чтобы открывать собственные; это сочетание проницательности и замкнутости могло скорее привести в замешательство, чем ободрить.
— Вы хотите сказать, — спросил он, — что совершенно не имеете родственников?
— Да. Никакие узы не связывают меня с людьми; я не имею права постучаться ни в один дом в Англии.
— Довольно странное положение для вашего возраста. — Тут я увидела, что его взгляд устремлен на мои руки, которые я сложила перед собой на столе. Я недоумевала, зачем они ему понадобились; его слова скоро разъяснили все это.
— Вы еще не были замужем?
Диана засмеялась.
— Да ведь ей не больше семнадцати-восемнадцати лет, Сент-Джон, — сказала она.
— Мне около девятнадцати; но я незамужем. Нет.
Я почувствовала, как жгучий румянец вспыхнул на моем лице, ибо разговор о замужестве вызвал во мне горькие воспоминания. Все они заметили мое смятение и замешательство. Диана и Мери, сжалившись надо мной, отвели свой взор от моего покрасневшего лица; но их более холодный и суровый брат продолжал смотреть на меня, пока я не расплакалась.
— Где вы жили в последнее время? — спросил он тогда.
— Зачем ты так много спрашиваешь, Сент-Джон? — прошептала Мери.
Но он смотрел на меня, перегнувшись через стол, и, казалось, его неумолимый и пронзительный взгляд требует ответа.
— Я не могу назвать место и лицо, в доме которого проживала, — это моя тайна, — коротко отвечала я.
— И эту тайну вы, по-моему, вправе не открывать ни Сент-Джону, ни кому-либо другому, кто станет вас спрашивать, — заметила Диана.
— Однако если я ничего не буду знать ни о вас, ни о вашем прошлом, я ничем не смогу вам помочь, — сказал ее брат. — А ведь вы нуждаетесь в помощи, не так ли?
— Я нуждаюсь в ней и ее ищу. Мне надо, сэр, чтобы какой-нибудь подлинно добрый человек помог мне получить работу, которую я в силах выполнять; мне нужен заработок, который дал бы мне хотя бы самое необходимое.
— Не знаю, являюсь ли я подлинно добрым человеком, — однако я готов помочь вам как только могу, раз у вас такие честные намерения. Поэтому прежде всего скажите мне, чем вы занимались последнее время и что вы умеете делать?
Я уже допила свой чай. Он чрезвычайно подкрепил меня, как вино подкрепило бы великана; он дал новую силу моим ослабевшим нервам и возможность твердо отвечать проницательному молодому судье.
— Мистер Риверс! — сказала я, повернувшись к нему и глядя на него так же, как он глядел на меня, открыто и без всякой застенчивости. — Вы и ваши сестры оказали мне великую услугу, больше которой человек не может оказать ближнему: своим великодушным гостеприимством вы спасли мне жизнь. Это дает вам неограниченные права на мою благодарность и некоторое право на мою откровенность. Я расскажу вам историю скиталицы, которую вы приютили, насколько это возможно сделать без ущерба Для моего собственного душевного спокойствия и моральной и физической безопасности, а также без ущерба для других.
Я сирота, дочь священника. Мои родители умерли, прежде чем я могла их узнать. Я воспитывалась на положении бедной родственницы и получила образование в благотворительном заведении. Назову вам даже школу, где провела шесть лет в качестве ученицы и два года в качестве учительницы, — это Ловудский приют для сирот в …ширском графстве. Вы, вероятно, слыхали о ней, мистер Риверс. Там казначеем достопочтенный Роберт Брокльхерст.
— Я слышал о мистере Брокльхерсте и видел эту школу.
— Я оставила Ловуд около года назад и решила поступить гувернанткой в частный дом; получила хорошее место и была счастлива. Это место я вынуждена была оставить за четыре дня до того, как пришла к вам. Причину моего ухода я не могу и не вправе открыть: это было бы бесполезно, даже не безопасно, и прозвучало бы как вымысел. Я ничем не запятнала себя и так же не повинна ни в каком преступлении, как любой из вас троих. Но я действительно несчастна, и буду несчастна еще долго, ибо катастрофа, изгнавшая меня из дома, который был для меня раем, необычна и ужасна. Задумывая свой уход, я имела в виду только две цели: бежать и скрыться; поэтому мне пришлось бросить все, за исключением небольшого свертка, который в спешке и душевном смятении я забыла вынуть из кареты, доставившей меня в Утикросс. Вот почему я очутилась в этой местности без денег и вещей. Я провела две ночи под открытым небом и блуждала два дня, ни разу не переступив чей-либо порог; лишь однажды за это время мне удалось поесть; и когда я была доведена голодом и усталостью до полного отчаяния, вы, мистер Риверс, не дали мне погибнуть у вашей двери и приняли меня под свой кров. Я знаю все, что ваши сестры сделали для меня, так как ни на минуту не теряла сознания во время моего кажущегося забытья, и я так же глубоко в долгу перед ними за их сердечное, искреннее и великодушное участие, как и перед вашим евангельским милосердием…
— Не заставляй ее так много говорить, Сент-Джон, — сказала Диана, когда я замолчала, — ей, видимо, все еще вредно волноваться. Идите сюда и садитесь на диван, мисс Эллиот.
Я невольно вздрогнула, услыхав это вымышленное имя, — я совсем забыла о нем. Мистер Риверс, от которого ничего не ускользало, сразу это заметил.
— Вы сказали, что вас зовут Джен Эллиот? — спросил он.
— Да, — сказала я, — это имя, которым я считаю нужным называться в настоящее время, но это не настоящее мое имя, и оно звучит для меня непривычно.
— Вашего настоящего имени вы не скажете?
— Нет. Я боюсь больше всего на свете, что моя тайна будет раскрыта, и избегаю всяких объяснений, которые могут к этому привести.
— Вы, вероятно, совершенно правы, — сказала Диана. — А теперь, брат, оставь ее на время в покое.
Однако после короткой паузы Сент-Джон так же невозмутимо и с такой же настойчивостью продолжал свои расспросы:
— Вам не хочется долго пользоваться нашим гостеприимством? Я вижу, вы желаете как можно скорее избавиться от забот моих сестер, а главное — от моего милосердия? (Я прекрасно понимаю разницу и не обижаюсь, — вы правы.) Вы хотите стать независимой?
— Да, я об этом уже говорила. Укажите мне работу или место, где искать работы; это все, о чем я сейчас прошу; дайте мне возможность уйти хотя бы в самую бедную хижину, но покамест позвольте мне побыть здесь: я боюсь вновь испытать ужасы скитаний и бесприютности.
— Ну конечно, вы останетесь у нас, — сказала Диана, положив свою руку мне на голову.
— Разумеется, — повторила Мери с неподдельной искренностью, видимо им свойственной.
— Моим сестрам, как видите, доставляет радость заботиться о вас, — сказал мистер Сент-Джон, — как доставило бы радость ухаживать за полузамерзшей птичкой, которую зимний ветер загнал бы к нам в окно. Я же более склонен помочь вам устроиться и постараюсь это сделать; но, заметьте, мои возможности очень ограничены. Я всего лишь сельский пастор в бедном приходе; моя помощь будет самой скромной. И если вы склонны презирать будничную трудовую жизнь, то ищите более существенной помощи, чем та, какую я могу вам предложить.
— Она уже сказала, что согласна на всякий честный труд, если только сможет выполнить его, — отвечала за меня Диана, — и ты же знаешь, Сент-Джон, что ей больше не на кого надеяться; волей-неволей приходится иметь дело с таким сухарем, как ты.
— Я готова быть швеей, служанкой, сиделкой, если нельзя найти ничего получше, — отвечала я.
— Хорошо, — сказал холодно мистер Сент-Джон. — Раз ваши намерения таковы, то я обещаю вам помочь; я сделаю это, как удастся и когда удастся.
Тут он снова взялся за книгу, которую читал перед чаем. Вскоре я удалилась; я там много говорила и просидела так долго, что мои силы были уже на исходе.
Глава XXX
Чем ближе я знакомилась с обитателями Мурхауза, тем больше они мне нравились. За несколько дней мое здоровье настолько улучшилось, что я могла уже подняться с постели и даже немного погулять. Я могла участвовать во всех занятиях Дианы и Мери, беседовать с ними, сколько мне хотелось, и помогать им, когда они мне это позволяли. В этом общении заключалась для меня живительная отрада, которую я испытывала впервые, — отрада, вызванная полным сходством наших вкусов, чувств и убеждений.
Мне нравились те же книги, что и им, меня восхищало то же, что доставляло им радость, я благоговела перед тем же, что они одобряли. Они любили свой уединенный дом. В этом небольшом сером старинном здании с его низкой крышей, решетчатыми окнами, ветхими стенами, с его аллеей старых елей, покривившихся под натиском горных ветров, с его садом, тенистым от кустов тиса и остролиста, где цвели лишь самые неприхотливые цветы, я также находила глубокую и неизменную прелесть. Сестры любили лиловые заросли вереска, окружавшие дом, и глубокую долину, куда от калитки вела каменистая тропка, которая сначала извивалась между поросшими папоротником холмами, а затем — среди пустынных, граничивших с зарослями вереска лужаек, где паслись стада серых овец и ягнят с мохнатыми мордочками; повторяю, они были нежно и глубоко привязаны к этому пейзажу. Я понимала эти чувства и разделяла их искренне и горячо. Я испытывала на себе очарование окружающей местности, святость ее безлюдия. Мой взор наслаждался очертаниями пригорков, своеобразной окраской, какую придавали горам и долинам мох и шиповник, цветущие луга, мощный папоротник и живописные гранитные утесы. Все это было для меня, как и для них, чистым и сладостным источником радостей. Порывы бури и легкий ветерок, пасмурный и солнечный день, утренняя и вечерняя заря, лунная и облачная ночь — все это представляло для меня ту же прелесть, что и для них, и так же неотразимо действовало на душу.
Дома между нами царило такое же согласие. Обе девушки оказались более образованными и начитанными, чем я; но и я стремилась вступить на путь познания, уже пройденный ими. Я жадно поглощала книги, которые они мне давали, и мне доставляло большую радость обсуждать с ними по вечерам прочитанное днем. Наши мысли совпадали, наши мнения дополняли друг друга; словом, между нами царила полная гармония.
В нашем трио первенство и руководящая роль принадлежали Диане. Физически она во всем превосходила меня: она была красива, сильна, в ней чувствовался такой избыток жизненной энергии, что я не могла не изумляться. В начале вечера я еще была в состоянии поговорить немного, но когда проходил пароксизм оживления и разговорчивости, я любила молча сидеть на скамеечке у ног Дианы, положив голову к ней на колени, и слушать, как они с Мери углубленно обсуждают лишь поверхностно затронутую мною тему. Диана предложила учить меня немецкому языку. Эти уроки доставляли мне удовольствие. Роль учительницы нравилась и подходила ей, а мне — роль ученицы. Наши натуры дополняли друг друга; в результате родилась глубокая взаимная привязанность. Сестры узнали, что я рисую, и тотчас их карандаши и ящики с красками оказались к моим услугам. Мое мастерство — тут я их превосходила — удивляло и восхищало их. Мери могла часами сидеть и наблюдать за тем, как я рисую; потом она начала у меня брать уроки; это была послушная, понятливая и прилежная ученица. В таком кругу и таких занятиях дни казались часами, а недели — днями.
Что касается Сент-Джона, то, несмотря на интимность, возникшую столь быстро и естественно между мной и его сестрами, он продолжал держаться особняком. Одной из причин этой отчужденности было то, что он сравнительно мало бывал дома; как видно, он посвящал значительную часть своего времени посещению больных и бедных в своем приходе, где дома были разбросаны далеко друг от друга.
Казалось, никакая погода не могла помешать этим его пасторским обходам. И в дождь и в ведро он, окончив утренние занятия, брал шляпу и, в сопровождении Карло, старого пойнтера, принадлежавшего еще его отцу, отправлялся выполнять свою миссию любви или долга, не знаю, как именно он ее определял. Иногда, если погода была особенно плохая, сестры пытались его удержать. Тогда он говорил, улыбаясь своей странной, скорее торжественной, чем веселой улыбкой:
— Если ветер или дождик способны помешать мне выполнить столь легкую задачу, то могу ли я считать себя готовым для той цели, которую себе поставил?
Диана и Мери обычно отвечали на это вздохом и погружались в грустное раздумье.
Но, помимо частых отлучек Сент-Джона, существовало еще одно препятствие к дружбе с ним: в нем было что-то замкнутое; угрюмое и даже мрачное. Хотя он ревностно исполнял свои пасторские обязанности и был безупречен в своей жизни и привычках, — он все же, видимо, не обладал той душевной ясностью, тем внутренним спокойствием, которые являются наградой истинного христианина и деятельного филантропа. Нередко по вечерам, сидя у окна перед своим заваленным бумагами столом, он вдруг отрывал взор от книги или откладывал перо и, подперев голову рукой, отдавался потоку каких-то неведомых мыслей; однако было ясно, что они смущали и беспокоили его, так как в его глазах то и дело вспыхивал особый блеск и его зрачки расширялись.
Мне кажется, природа не являлась для него тем беспечным источником радостей, каким она была для его сестер. Раз, один только раз он сказал при мне о том, как глубоко чувствует прелесть этих простых, суровых гор и как с детства привязан к темной кровле и замшелым стенам родного дома; однако его слова звучали скорее угрюмо и печально, но не радостно. Видимо, он никогда не бродил по вересковым пустошам ради царившей там целительной тишины, не восхищался их мирной прелестью.
Так как он был необщителен, то я не сразу могла оценить его ум. Впервые я составила себе представление о его незаурядных способностях, услышав его проповедь в мортонской церкви. Как хотелось бы мне описать эту проповедь, но такая задача мне не по силам. Я даже не могу точно передать своих впечатлений от нее.
Он начал спокойно, и, что касается манеры изложения и тембра голоса, они оставались равными до конца. Но страстный, хотя и сдержанный пыл скоро зазвучал и в энергичной выразительности и во все нарастающем темпе его речи. Все это производило впечатление сдержанной, сосредоточенной силы, которой оратор искусно управлял. Сердце было взволновано, ум поражен его ораторской мощью, но слушатель не испытывал умиротворения. В словах проповедника была странная горечь и никакой ее целительной мягкости; он часто ссылался на принципы кальвинизма — избранность, предопределение, обреченность; и каждый раз это звучало как приговор судьбы. Когда он смолк, я, вместо того чтобы почувствовать себя свободнее, спокойнее, просветленнее, ощутила какую-то невыразимую печаль, ибо мне показалось (не знаю, как другим), что красноречие, которому я внимала, рождалось из каких-то отравленных горечью глубин, где кипели порывы неутоленных желаний и беспокойных стремлений. Я была уверена, что Сент-Джон Риверс, несмотря на чистоту своей жизни, добросовестность и пастырское усердие, еще не обрел того благодатного душевного мира, который превосходит всякое разумение; обрел его не больше, чем я, с моей затаенной мучительной тоской о разбитом кумире и потерянном рае; тоской, о которой я избегала говорить, но которая жестоко терзала меня.
Между тем прошел месяц. Диана и Мери скоро должны были покинуть Мурхауз и вернуться в совершенно иную обстановку, к другой жизни, ожидавшей их в одном из крупных городов Южной Англии; обе они были гувернантками в богатых и знатных семьях, где на них смотрели свысока, как на подчиненных, где никто не знал их врожденных высоких достоинств и не интересовался ими, где ценились лишь приобретенные ими профессиональные качества, подобно тому как ценится искусство повара или ловкость горничной. Мистер Сент-Джон до сих пор ни разу не заговаривал о месте, на которое обещал меня устроить; однако мне было совершенно необходимо найти какую-нибудь работу. Однажды утром, оставшись на несколько минут наедине с ним в гостиной, я решилась подойти к оконной нише, превращенной с помощью стоявших там стула, стола и книжной полки в его кабинет; я подыскивала слова, чтобы задать ему интересовавший меня вопрос, — ведь всегда бывает трудно разбить лед замкнутости, который покрывает, как панцирь, подобных ему людей; однако он вывел меня из затруднения, заговорив первым.
Когда я подошла, он поднял на меня глаза.
— Вы хотите о чем-то спросить меня, — сказал он.
— Да, скажите, вы не слышали ни о какой подходящей работе?
— Я нашел, или, вернее, придумал, кое-что для вас уже три недели назад; но так как вы были здесь, видимо, и полезны и счастливы, а мои сестры к вам привязались и находили большое удовольствие в вашем обществе, то я не хотел нарушать всего этого до тех пор, пока не приблизится время их отъезда из Марш-энда, за которым должен последовать и ваш отъезд.
— Ведь они уезжают через три дня? — спросила я.
— Да, когда они уедут, я вернусь к себе в Мортон, Ханна отправится со мной, и старый дом будет заколочен.
Я ждала, что он продолжит этот разговор; однако его мысли, казалось, приняли другое направление; я видела по его глазам, что он уже отвлекся и от меня и от моего дела. Мне пришлось вернуть его к предмету, представлявшему для меня такой живой и острый интерес.
— Какое же место вы имели в виду для меня, мистер Риверс? Надеюсь, эта отсрочка не помешает мне его получить?
— О нет, только от меня зависит устроить вас на это место, при условии, конечно, что вы захотите принять мое предложение.
Он снова замолчал, ему как будто не хотелось продолжать. Меня охватило нетерпение: один-два беспокойных жеста и настойчивый взгляд, устремленный на него, дали ему понять не хуже слов, чего я жду от него.
— Напрасно вы так спешите, — сказал он. — Должен вам сказать откровенно: я не могу вам предложить ничего заманчивого и выгодного. Поэтому, прежде чем объяснить, в чем дело, я прошу вас вспомнить мое предупреждение: если мне и удастся вам помочь, то это будет вроде того, как слепой помог бы хромому. Я беден; когда я уплачу долги отца, мне останется в наследство лишь этот старый хутор, ряд искалеченных елей позади него, а перед ним — клочок болотистой земли с кустами остролиста. Я безвестен. Правда, Риверсы — старинный род, но в настоящее время из трех оставшихся в живых его представителей двое зарабатывают себе на хлеб, служа у чужих людей, а третий считает, что будет чужаком на своей родине не только при жизни, но и в час смерти. При этом он мнит свой жребий счастливым и с нетерпением ждет того дня, когда крест разлуки со всем, что близко ему в этом мире, будет возложен на его плечи, и когда глава воинствующей церкви, ничтожнейшим членом которой он является, скажет ему: «Встань и следуй за мною!»
Сент-Джон произнес эти слова так, как говорил свои проповеди, — сдержанным, глубоким голосом; лицо его оставалось бледным, а в глазах горел тот же лихорадочный блеск. Он продолжал:
— И поскольку я сам безвестен и беден, то могу и вам предложить лишь работу скромную и незаметную. Может быть, вы даже найдете ее для себя унизительной, так как теперь я вижу, что вы привыкли к тому, что свет называет утонченностью; ваши вкусы стремятся к возвышенному, и до сих пор вы вращались в обществе людей хотя бы образованных. Но я считаю, что работа на благо людям не может быть унизительной. Я полагаю, что, чем бесплоднее и неблагодарнее почва, доставшаяся в удел христианскому пахарю, чем хуже награждается его труд, тем больше для него чести. В этом случае его удел — удел пионера, а первыми пионерами христианства были апостолы, и главою их был сам спаситель.
— Что же, — сказала я, когда он снова замолчал, — продолжайте.
Он поглядел на меня, прежде чем продолжать; казалось, он не спеша вглядывался в мое лицо, словно его черты и линии — это буквы на страницах книги. Результат своих наблюдений он выразил в следующих словах:
— Я думаю, что вы примете место, которое я вам предлагаю, — сказал он, — и некоторое время поработаете, но не с тем, чтобы остаться там навсегда, это для вас так же невозможно, как для меня навсегда замкнуться в тесных рамках моей должности сельского священника, среди сельской глуши; ибо ваша натура, как и моя, имеет в себе что-то, что противится всякому покою, хотя у вас это и выражается совсем по-другому.
— Объясните подробнее, — попросила я, когда он снова смолк.
— Хорошо, сейчас вы увидите, какую скромную, будничную и неблагодарную работу я вам предлагаю. Теперь, когда мой отец скончался и я сам себе хозяин, я недолго пробуду в Мортоне. Вероятно, уеду из этих мест не позже как через год; но пока я здесь, я буду отдавать все силы на служение моей пастве. Когда я прибыл сюда два года назад, в Мортоне не было ни одной школы; дети бедняков были лишены всякой возможности получать образование. Я открыл школу для мальчиков, а теперь собираюсь открыть другую — для девочек. Уже удалось нанять дом с примыкающим к нему коттеджем из двух комнат — для учительницы. Она будет получать тридцать фунтов в год; квартира для нее уже меблирована — правда, очень просто, но там есть все необходимое; этим мы обязаны любезности мисс Оливер, единственной дочери единственного богача в моем приходе — мистера Оливера, владельца игольной фабрики и чугунолитейного завода в этой долине. Эта дама намерена также оплачивать обучение и одежду одной сиротки, взятой из приюта, при условии, что девочка будет помогать учительнице в повседневной работе по дому и школе, так как та не сможет справляться одна. Хотите вы быть этой учительницей?
Он задал вопрос как-то торопливо; казалось, он ожидал, что я с негодованием или по меньшей мере с презрением отвергну такую возможность. Не зная до конца моих чувств и мыслей, хотя кое о чем он и догадывался, Сент-Джон не был уверен, как я ко всему этому отнесусь. Действительно, место было скромным, но зато давало мне надежное убежище, в котором я так нуждалась; оно казалось трудным по сравнению с работой гувернантки в богатом доме, но давало независимость; а боязнь очутиться в рабской зависимости от чужих людей жгла мою душу каленым железом; в этой действительности не было ничего позорного, недостойного, морально унизительного. Я решилась.
— Благодарю вас за ваше предложение, мистер Риверс, я с радостью принимаю его.
— Но вы до конца меня поняли? — спросил он. — Речь идет о сельской школе: вашими ученицами будут лишь дочери деревенских батраков, в лучшем случае — дочери фермеров. Вязанье, шитье, чтение, письмо и счет — вот все, чему вам придется их обучать. Разве вы можете здесь применить свои познания? Разве ваш ум, душа, ваши вкусы найдут в этом удовлетворение?
— Я сберегу их, пока они не понадобятся. Они останутся при мне.
— Так вы отдаете себе отчет в том, что берете на себя?
— Конечно.
Тут он улыбнулся, но в его улыбке не было ни горечи, ни грусти, она выражала радость и глубокое удовлетворение.
— Когда же вы приступите?
— Я перееду на свою новую квартиру завтра и, если хотите, начну занятия на будущей неделе.
— Отлично, пусть будет так.
Сент-Джон встал и прошелся по комнате. Затем остановился и снова поглядел на меня. Он покачал головой.
— Чем вы недовольны, мистер Риверс? — спросила я.
— Вы долго не останетесь в Мортоне, нет, нет.
— Отчего? Какие у вас основания так думать?
— Я прочел в ваших глазах; они не из тех, что обещают безбурное течение жизни.
— Я не честолюбива.
Он вздрогнул.
— Почему вы заговорили о честолюбии? Кто, по-вашему, честолюбив? Знаю за собой этот грех, но как вы догадались?
— Я говорила только о себе.
— Хорошо, но если вы не честолюбивы, то вы… — Он замолчал.
— Что я?
— Я хотел сказать: вас обуревают страсти; но вы могли бы понять это выражение не в том смысле и обидеться. Человеческие привязанности и симпатии имеют над вами большую власть. Я уверен, что вы недолго будете в силах проводить свой досуг в одиночестве и заниматься однообразным трудом, без всякого поощрения, точно так же, как и я, — прибавил он пылко, — недолго смогу жить погребенным в этой глуши, среди гор и болот; этому противится моя природа, дарованная мне богом; здесь способности, дарованные мне свыше, глохнут без пользы. Вы видите, сколько тут противоречий. Я, который только что проповедовал необходимость довольствоваться скромным уделом и доказывал, что даже дровосек и водовоз могут своими трудами достойно служить богу, — я, служитель божий, снедаем тревогой. Но надо же, однако, так или иначе примирять наши природные наклонности с нашими принципами!
Он вышел из комнаты. За этот час я больше узнала его, чем за целый месяц, и все же он приводил меня в недоумение. По мере того как приближался день разлуки с братом и родным домом, Диана и Мери становились все печальнее и молчаливее. Они старались не подавать и виду, но снедавшую их печаль едва ли можно было скрыть или преодолеть. Один раз Диана заметила, что эта разлука будет совсем не похожа на все предыдущие. Вероятно, с Сент-Джоном им придется расстаться на долгие годы, может быть, на всю жизнь.
— Он все принесет в жертву ради той цели, которой уже давно себя посвятил, — сказала Диана, — и свои родственные чувства и другие, еще более сильные. Сент-Джон кажется спокойным, Джен, но в иных случаях он неумолим, как смерть, а хуже всего то, что совесть не позволяет мне отговорить его от принятого сурового решения; и в самом деле, как могу я спорить с ним? Решение это справедливое, благородное, подлинно христианское, но оно разрывает мне сердце. — И ее прекрасные глаза наполнились слезами. Мери низко опустила голову над своей работой.
— Мы потеряли отца; скоро у нас не будет ни своего угла, ни брата, — прошептала она.
Тут произошло небольшое событие, как бы нарочно посланное судьбой, чтобы доказать справедливость поговорки: «Беда не приходит одна» и прибавить к их испытаниям новую горечь. Мимо окна мелькнул Сент-Джон, читавший какое-то письмо. Он вошел в комнату.
— Наш дядя Джон скончался, — сказал он.
Казалось, сестры были поражены, но приняли эту весть без особого волнения или горя; очевидно, это событие было для них скорее важным, чем печальным.
— Скончался? — повторила Диана.
— Да.
Она внимательно поглядела брату в лицо.
— И что же теперь? — спросила она тихим голосом.
— Что теперь? — повторил Сент-Джон, причем его лицо сохраняло свою мраморную неподвижность. — Что теперь? Да ничего. Читай.
Он бросил письмо ей на колени. Диана пробежала его глазами и передала Мери. Та молча прочла его и вернула брату. Все трое посмотрели друг на друга, и все трое улыбнулись невеселой, задумчивой улыбкой.
— Аминь! Мы и так проживем! — сказала наконец Диана.
— И будем жить не хуже прежнего, — заметила Мери.
— Верно, но только это слишком живо напоминает о том, что могло бы быть, — возразил мистер Риверс, — контраст слишком уж разителен.
Он сложил письмо, запер его в стол и вышел.
Несколько минут прошло в молчании. Затем Диана обратилась ко мне.
— Джен, вы, вероятно, удивляетесь нам и нашим тайнам, — сказала она, — и считаете нас бессердечными, видя, что нас мало трогает кончина столь близкого родственника, как дядя; но мы его совсем не знали. Это брат нашей матери. Отец долгое время был с ним в ссоре. По его совету, отец рискнул большей частью своего состояния и пошел на спекуляцию, которая его разорила. Они обменялись горькими упреками, расстались в гневе, да так и не помирились. Впоследствии дядя был более удачлив в своих предприятиях; оказывается, он накопил состояние в двадцать тысяч фунтов. Он не был женат, и у него не осталось близких родственников, кроме нас и еще одной особы, которая также приходится ему племянницей. Отец надеялся, что наш дядя загладит свою ошибку, оставив нам наследство; однако из письма видно, что дядя завещал все свое состояние той, неизвестной, племяннице, за исключением тридцати гиней на покупку трех траурных колец для Сент-Джона, Дианы и Мери Риверс. Разумеется, он вправе был так поступить, но все же эта новость огорчила нас. Мы с Мери считали бы себя богатыми, оставь он нам хоть по тысяче фунтов, а Сент-Джону такая сумма пригодилась бы для его добрых дел.
После такого объяснения ни мистер Риверс, ни его сестры к этой теме больше не возвращались. На следующий день я перебралась из Марш-энда в Мортон. Еще через день Диана и Мери уехали в далекий Б… Спустя неделю мистер Риверс и Ханна перебрались в дом священника, и старая усадьба опустела.
Глава XXXI
Итак, я, наконец, обрела себе пристанище — моим домом оказался коттедж в две комнатки. Одна внизу — с выбеленными стенами и посыпанным песком полом, где находились четыре крашеных стула и стол, стенные часы, буфет с двумя-тремя тарелками и мисками и с фаянсовым чайным прибором. Другая наверху — таких же размеров, как и кухня, с сосновой кроватью и комодом — весьма небольшим, но все же его не мог заполнить мой скудный гардероб, хотя благодаря доброте моих благородных и великодушных друзей он обогатился небольшим запасом самых необходимых вещей.
Вечер. Я только что отпустила сиротку, которая мне прислуживает, заплатив ей за труды апельсином. И вот я сижу одна у очага. Сегодня утром открылась деревенская школа. У меня двадцать учениц. Только три из них умеют читать; ни одна не умеет ни писать, ни считать. Несколько девочек вяжут, и лишь немногие кое-как шьют. Они говорят с резким местным акцентом. Нам с ними еще трудно понимать друг друга. Некоторые из них невоспитанны, грубы, упрямы и абсолютно неразвиты; другие послушны, хотят учиться и в обхождении приятны. Я не должна забывать, что эти бедно одетые маленькие крестьянки — такие же существа из плоти и крови, как и отпрыски самых знатных фамилий, и что зачатки природного благородства, чуткости, ума и доброты живут и в их сердцах, так же как и в сердцах детей знатного происхождения. Моим долгом будет развить эти зачатки; разумеется, эта задача даст мне некоторое удовлетворение. Я ведь не жду особенных радостей от предстоящей мне жизни, однако, если я приспособлюсь к ней и буду напряженно работать, я все-таки смогу жить день за днем.
Была ли я весела, спокойна и довольна в те утренние и дневные часы, которые провела в убогом, неуютном классе? Не обманывая себя, я должна была ответить: нет. Я чувствовала себя очень несчастной. Я чувствовала себя — идиотка я этакая! — униженной. Я боялась, что совершила шаг, который не поднимет меня по ступеням социальной лестницы, но, наоборот, сведет еще ниже. Меня приводили в ужас невежество, косность и грубость — все что я слышала и видела вокруг себя. Однако я не стану слишком порицать и презирать себя за эти чувства. Я знаю, что это нехорошие чувства, — а это уже большой шаг вперед, я постараюсь побороть их. Уже завтра я надеюсь хотя бы частично с ними справиться, а через две-три недели, быть может, мне удастся совершенно о них позабыть. Через несколько месяцев мое отвращение, пожалуй, сменится радостью, когда я увижу успехи и перемену к лучшему в моих учениках.
А пока суть да дело, меня мучил вопрос: правильный ли я сделала выбор? Не лучше ли было поддаться искушению, послушаться голоса страсти и, отказавшись от тягостных усилий и борьбы, уснуть среди цветов, в шелковых тенетах и проснуться на юге Франции, в роскошной вилле, где я могла бы теперь жить на положении возлюбленной мистера Рочестера, блаженно упиваясь его любовью, — потому что он любил бы, о, да, он горячо любил бы меня некоторое время. Ведь он действительно был ко мне привязан, никто другой так меня не полюбит. Мне больше никогда не придется узнать такого преклонения перед моим обаянием, молодостью, грацией, потому что никто другой не увидит во мне этих черт. Он любил меня и гордился мною, — а кроме него, ни один мужчина не будет испытывать ко мне подобных чувств. Но куда унеслись мои мысли и что я говорю, а главное — чувствую? «Что лучше, — спрашивала я себя, — быть рабыней своего господина и тешить себя мнимым блаженством где-нибудь под Марселем, предаваясь коротким часам обманчивого счастья, а потом заливаться горькими слезами раскаяния и стыда, или же быть сельской учительницей, свободной и честной, в овеваемом горными ветрами домике, в самом сердце Англии?»
Да, теперь я знаю, что была права, когда склонилась на сторону долга и закона и победила соблазны безрассудной минуты. Господь помог мне сделать правильный выбор. Я благодарю его за мудрое руководство!
Когда вечерние размышления привели меня к такому выводу, я поднялась, подошла к двери и стала смотреть на закат летнего солнца и на мирные поля перед моим коттеджем, который, так же как и школа, отстоял на полмили от деревни. Птицы допевали свои последние песни.
Был воздух чист, роса была бальзамом…Созерцая природу, я мнила себя счастливой и очень удивилась, вдруг заметив, что плачу. Отчего? Оттого, что судьба разлучила меня с моим хозяином, — ведь я больше никогда его не увижу, оттого, что я страшилась, как бы отчаяние, скорбь и безудержная ярость, вызванные моим уходом, не увлекли его слишком далеко от правильного пути. Эти мысли заслонили от меня прекрасное вечернее небо и пустынную долину. Я говорю пустынную — потому что в этой части Мортона не видно было ни одного здания, кроме церкви и церковного дома, полускрытых деревьями, и совсем вдали — Вейлхолла, где жил богач мистер Оливер со своей дочерью. Я закрыла лицо руками и прислонилась головой к притолоке; однако вскоре легкий шум у ограды, отделявшей мой садик от окрестных лугов, заставил меня поднять глаза. Пойнтер мистера Риверса, старый Карло, толкал носом калитку, а сам Сент-Джон стоял, опираясь на нее и скрестив руки; его брови были нахмурены, строгий, почти недовольный взгляд был устремлен на меня. Я пригласила его войти.
— У меня нет времени; я принес вам этот сверток, который сестры оставили для вас. Я полагаю, там ящик с красками, карандаши и бумага.
Я подошла, чтобы взять сверток, — это был желанный дар. Сент-Джон сурово всматривался, как мне показалось, в мое лицо: на нем были, без сомнения, еще очень заметны следы слез.
— Ваша работа в первый день утомила вас больше, чем вы предполагали? — спросил он.
— О нет! Напротив, я думаю, что со временем вполне налажу занятия с моими ученицами.
— Может быть, вы ожидали иных условий жизни… ваш коттедж, его обстановка… по правде сказать, они довольно убоги…
Я перебила его:
— Мой домик опрятен и защищает меня от непогоды; мебели вполне достаточно, и она удобна. Все, что я вижу вокруг себя, родит во мне благодарность, а не печаль. Я не такая дурочка и не такая сибаритка, чтобы сожалеть об отсутствии ковра, дивана и столового серебра; к тому же пять недель назад у меня не было ничего, — я была всеми отверженной нищей, бродягой, а теперь у меня есть знакомые, пристанище, работа. Я дивлюсь доброте божьей, великодушию моих друзей, милости судьбы. Я не ропщу.
— Так, значит, вас не угнетает одиночество? Ведь этот домик так темен и пуст.
— У меня до сих пор еще не хватает времени, чтобы насладиться покоем, а не то что тяготиться одиночеством.
— Хорошо. Надеюсь, вы действительно испытываете удовлетворение, о котором говорите; во всяком случае, здравый смысл подскажет вам, что еще рано поддаваться колебаниям и страхам, подобно жене Лота. Я не знаю, что вы покинули, перед тем как прийти к нам, но рекомендую вам решительно противиться всякому искушению и не оглядываться назад; идите твердо по своему новому пути — хотя бы несколько месяцев.
— Я так и собираюсь поступить, — отвечала я.
Сент-Джон продолжал:
— Это трудная задача — сдерживать свои желания и преодолевать свои наклонности. Но что это возможно, я убедился на собственном опыте. Бог даровал нам известную власть над своей судьбой; и когда наши силы жаждут деятельности, в которой нам отказано, когда наша воля стремится к пути, который закрыт для нас, мы не должны предаваться отчаянию; нам следует лишь поискать другой пищи для нашей души, столь же существенной, как и запретный плод, которого она жаждет вкусить, но, быть может, более чистой, и проложить для наших дерзаний дорогу, быть может, и более тяжелую, но такую же прямую и широкую, как та, которая преграждена нам судьбой.
Год назад я сам был крайне несчастен, мне казалось, что, став пастором, я сделал ошибку; мои однообразные обязанности смертельно утомляли меня. Я страстно стремился к деятельной жизни, к волнующим трудам литературного поприща, к судьбе художника, писателя, оратора — какой угодно, только не священника. Да, сердце политика, солдата, искателя славы, честолюбца, властолюбца билось под скромной одеждой священника. Я говорил себе: моя жизнь так тяжела, что я должен изменить ее или умереть! Однако после периода мрака и борьбы блеснул свет и явилось спасение. Моя замкнутая жизнь внезапно развернулась передо мной, как безбрежная даль, мой дух услыхал призыв с неба — встать, собрать все свои силы, развернуть крылья и воспарить ввысь. Господь возложил на меня некую миссию, и для того, чтобы достойно ее выполнить, требуются умение и сила, мужество и красноречие — лучшие качества солдата, государственного мужа и оратора.
Я решил стать миссионером. С этой минуты мое душевное состояние изменилось, оковы души распались, и все мои силы освободились; от прежней скованности осталась лишь саднящая боль, которую может излечить только время. Правда, отец противился моему решению, но после его смерти на моем пути не осталось ни одного серьезного препятствия; устроить кое-какие дела, найти покупателя на Мортон, разрубить или отсечь кое-какие отношения, рожденные чувственными соблазнами, — последняя схватка с человеческой слабостью, в которой, я знаю, я должен победить, ибо клялся победить, — и я покидаю Европу и еду на Восток.
Он говорил все это своим особенным, глухим и вместе патетическим голосом; замолчав, он взглянул не на меня, а на заходящее солнце, на которое смотрела и я. Оба мы стояли спиной к дорожке, что вела через поле к калитке, и не слышали шагов по заросшей травою тропе; баюкающее журчанье ручейка в долине — вот единственные звуки, доносившиеся до нас; и мы оба вздрогнули, когда раздался веселый голос, певучий, как серебряный колокольчик:
— Добрый вечер, мистер Риверс! Добрый вечер, старый Карло! Ваша собака быстрей узнает своих друзей, чем вы, сэр; она насторожила уши и замахала хвостом, когда я была только на краю поля, а вы все еще стоите ко мне спиной.
Это была правда. Хотя мистер Риверс и вздрогнул от этого музыкального голоса так, как будто молния пронзила тучу над его головой, однако он по-прежнему продолжал стоять в той же позе, в которой его застигла говорившая, — положив руку на калитку и повернув лицо к западу. Наконец он не спеша обернулся. Мне показалось, что рядом с ним возникло видение. В трех шагах от него стояла девушка в ослепительно белой одежде, юная и грациозная, чуть полненькая, но стройная; сначала она наклонилась, лаская Карло, затем подняла голову, откинув длинную вуаль, и перед нами расцвело лицо совершенной красоты. Выражение «совершенная красота» обязывает, однако я не отказываюсь от него: более гармоничных черт еще не создавал умеренный климат Альбиона, более чистых оттенков цвета роз и жасмина не лелеяли его влажные ветры и облачные небеса. Все в ней было очаровательно, без единого недостатка. У молодой девушки были правильные, изящные черты лица; глаза той формы и окраски, какие мы встречаем на картинах старинных мастеров, — большие, темные, выразительные; длинные густые ресницы, придающие глазам томную прелесть; тонко обрисованные брови, которые сообщают лицу особую ясность; белый гладкий лоб, дышащий покоем и оттеняющий живую игру красок; овальные щеки, свежие и гладкие; такой же свежий, алый, сочный, восхитительный ротик; безукоризненно ровные, блестящие зубы; маленький подбородок с ямочкой; пышные, густые косы — словом, все элементы, которые, соединяясь вместе, дают воплощение идеальной красоты. Я дивилась, глядя на прекрасное создание; я восхищалась ею от всей души. Природа, без сомнения, создала ее с явным пристрастием и, позабыв о своей обычной скупости мачехи, наделила свою любимицу дарами с царственной щедростью.
«Как относится Сент-Джон к этому ангелу?» — естественно задала я себе вопрос, когда увидела, что он обернулся и смотрит на нее; и так же естественно я стала искать ответа на этот вопрос в выражении его лица. Но он уже отвел взор от дивной пери и смотрел на кустик скромных ромашек, росших возле калитки.
— Чудесный вечер, но слишком поздно, чтобы вам гулять одной, — сказал он, давя ногой белоснежные головки закрывшихся цветов.
— О, я вернулась домой из С… (она назвала большой город, милях в двадцати отсюда) только сегодня днем. Папа сказал, что вы открыли школу и что приехала новая учительница; и вот я, после чая, надела шляпу и прибежала познакомиться с ней. Это она? — спросила девушка, указывая на меня.
— Да, — сказал Сент-Джон.
— Как вы думаете, вам понравится Мортон? — обратилась она ко мне с простотой и наивностью, хотя и детскими, но пленительными.
— Надеюсь, что понравится. У меня все основания верить в это.
— Ваши ученицы были внимательны?
— Безусловно.
— А вам нравится ваш домик?
— Очень.
— Хорошо я его обставила?
— Очень хорошо.
— И удачно выбрала вам служанку — Алису Вуд?
— Вполне. Она способная и расторопная.
«Так вот это кто, — сообразила я, — мисс Оливер, наследница, наделенная дарами фортуны так же щедро, как и дарами природы. Поистине она родилась под счастливой звездой».
— Я буду иногда приходить к вам и помогать на уроках, — прибавила она. — Для меня будет развлечением посещать вас, а я люблю развлекаться. Мистер Риверс, как весело я провела время в С…! Вчера танцевала до двух часов ночи, или, вернее, утра. Там из-за всех этих беспорядков расквартирован Н-ский полк, и офицеры такие все душки! Смотреть не захочешь на наших точильщиков и паяльщиков — да разве это молодежь!
Мне показалось, что у мистера Сент-Джона, слушавшего молодую девушку, как-то странно перекосилось лицо. Он крепко сжал губы, отчего нижняя часть его лица стала казаться необычно суровой и тяжелой. Отведя взгляд от ромашек, он устремил его на мисс Оливер. Это был строгий, многозначительный, испытующий взгляд. Она вновь отвечала ему смехом, и этот смех так шел к ее юности, розам щек, ямочкам и блестящим глазам!
Сент-Джон все еще стоял перед ней, безмолвный и строгий; она принялась ласкать Карло.
— Бедный Карло любит меня, — говорила она, — он не угрюм и не сторонится своих друзей; если бы он мог говорить, он бы не стал смотреть на меня букой.
Когда она, гладя Карло по голове, склонилась с естественной грацией перед его молодым, но суровым хозяином, я увидела, как вспыхнуло его лицо. Я увидела, как его мрачные глаза зажглись огнем и заблистали неудержимым волнением. И в этот миг он, оживший и порозовевший, показался мне красавцем почти в той же мере, в какой она была красавицей. Его грудь бурно вздымалась, как будто его пылкое сердце, наскучив деспотической властью ума, ширилось и рвалось к свободе. Но он, видимо, укротил его, подобно тому как отважный всадник укрощает храпящего скакуна. Ни словом, ни движением не отвечал он на нежные намеки, которые ему делались.
— Папа говорит, что вы к нам глаз не кажете, — продолжала мисс Оливер, взглянув на него. — Вы совсем забыли Вейлхолл. Сегодня вечером он один и не так здоров, — вернемся вместе, проведайте его!
— Время слишком позднее, чтобы беспокоить мистера Оливера, — отвечал Сент-Джон.
— Кто вам сказал, что слишком позднее? А я вам говорю, оно самое подходящее. Это как раз то время, когда папа больше всего нуждается в обществе. Фабрика закрывается, и ему нечем заняться. Пойдемте же, мистер Риверс. Почему вы такой дикарь и нелюдим? — Она старалась заполнить словами пропасть, созданную его молчанием.
— Ах, я совсем забыла! — воскликнула она, вдруг качнув прелестной кудрявой головкой и словно негодуя на себя. — Я так легкомысленна и рассеянна! Простите меня. Я и позабыла, что у вас есть серьезные основания не быть расположенным к болтовне со мной. Ведь Диана и Мери покинули вас, Мурхауз заперт, и вы так одиноки. Право же, мне жалко вас. Пойдемте, навестите папу.
— Не сегодня, мисс Розамунда, не сегодня.
Мистер Сент-Джон сказал это почти машинально, он один знал, каких усилий ему стоили эти отказы.
— Ну, если вы так упрямы, то я ухожу, я не решаюсь дольше оставаться здесь: уже выпала роса. Добрый вечер!
Она протянула ему руку. Он едва коснулся ее пальцев.
— Добрый вечер! — повторил он голосом тихим и глухим, как эхо.
Она отошла, но через мгновение вернулась.
— А вы не больны? — спросила она.
Вопрос был вполне уместен: лицо Сент-Джона стало белее ее платья.
— Вполне здоров, — отозвался он и с поклоном отошел к калитке. Мисс Оливер направилась в одну сторону, он — в другую. Она дважды обернулась и поглядела ему вслед, перед тем как исчезнуть, подобно волшебному видению, в сумраке долины; а Сент-Джон удалялся решительными шагами и ни разу не оглянулся.
Это зрелище чужих страданий и внутренней борьбы отвлекло мои мысли от моей собственной печальной участи. Недаром Диана Риверс сказала о своем брате: «Неумолим, как смерть». В ее словах не было преувеличения.
Глава XXXII
Я продолжала преподавать в сельской школе со всем усердием и добросовестностью, на какие была способна. Вначале это был тяжелый труд. Прошло некоторое время, прежде чем я, наконец, научилась понимать своих учениц. Глубоко невежественные, с непробужденными способностями, они казались мне безнадежными и, на первый взгляд, все одинаково тупыми; но вскоре я обнаружила, что заблуждалась. Они отличались друг от друга так же, как и образованные люди; и когда я ближе познакомилась с ними, а они со мной, это отличие стало выступать все ярче. Исчезло изумление, вызванное мною, моим языком, моими требованиями и порядками; и некоторые из этих неповоротливых разинь превратились в умненьких девочек. Многие оказались услужливыми и любезными; я нашла в их среде немало и таких, которые отличались врожденной вежливостью и чувством собственного достоинства, а также незаурядными способностями, пробуждавшими во мне интерес и восхищение. Скоро этим девочкам уже доставляло удовольствие хорошо выполнять свою работу, содержать себя в чистоте, регулярно учить уроки, усваивать скромные и приличные манеры. В иных случаях быстрота успехов была прямо изумительной, и я по праву гордилась своими ученицами; к некоторым из лучших я привязалась, а они — ко мне. Среди моих питомиц было несколько дочерей фермеров — почти взрослые девушки, они уже умели читать, писать и шить, их я обучала основам грамматики, географии, истории, а также более изысканным видам рукоделия. Я встретила среди них натуры, достойные уважения, девушек, жаждавших знаний и склонных к совершенствованию, и с ними я провела немало приятных вечеров у них дома. Их родители обычно осыпали меня знаками внимания. Мне доставляло удовольствие принимать их простодушное гостеприимство и отвечать им уважением, к чему они, вероятно, не привыкли; и это нравилось им и служило им на пользу, так как поднимало их в собственных глазах и внушало желание стать достойными такого отношения.
Я чувствовала, что меня начинают любить в этих местах. Когда я выходила из дому, меня встречали повсюду сердечными приветствиями и дружескими улыбками. Жить среди всеобщего уважения, пусть даже уважения рабочего люда, — это все равно, что «сидеть на солнце в тихий день»; безмятежные чувства пускают ростки и расцветают под лучами этого солнца. В те дни мое сердце чаще бывало переполнено благодарностью, чем унынием. И все же, читатель, признаюсь, что в разгар этого спокойного, этого полезного существования — после дня, проведенного в прилежных занятиях с моими ученицами, и вечера, посвященного рисованию или чтению в приятном одиночестве, — я обычно погружалась ночью в страшные сны; сны яркие, тревожные, полные мечтаний, взволнованные, бурные; сны, где среди необычайных эпизодов и приключений, среди романтических перипетий и опасностей я вновь и вновь встречала мистера Рочестера, и всякий раз в самый волнующий критический момент; и тогда сила его объятий, звук его голоса, взгляд его глаз, прикосновение его руки и щеки, любовь к нему, сознание, что я им любима, и надежда провести всю жизнь рядом с ним воскресали во мне со всей первоначальной силой и жаром. Когда же я просыпалась и вспоминала, где и в каком положении нахожусь, я вставала со своей кровати без полога, взволнованная и дрожащая, и только тихая темная ночь была свидетельницей то припадков отчаяния, то взрывов страстной тоски. А на следующее утро, ровно в девять часов, я начинала занятия в школе — спокойная, сдержанная, готовая к обычным дневным трудам.
Розамунда Оливер сдержала свое обещание наведываться ко мне. Это происходило обычно во время ее утренней прогулки верхом. Молодая девушка подъезжала галопом к дверям школы на своей лошадке, в сопровождении грума. Трудно себе представить более пленительную картину, чем эта всадница в пурпурной амазонке и черной бархатной шляпке, грациозно сидевшей на длинных локонах, которые ласкали ее щеки и развевались по плечам; в таком наряде она входила в скромное здание сельской школы и легко скользила между рядами восхищенных крестьянских девочек. Обычно она являлась в те часы, когда мистер Риверс давал урок катехизиса. Боюсь, что взор прекрасной посетительницы пронзал насквозь сердце молодого пастора. Какой-то инстинкт, казалось, предупреждал Сент-Джона о ее приближении, и если она появлялась в дверях даже в то время, когда он смотрел в противоположную сторону, его щеки вспыхивали, и его словно изваянные из мрамора черты, хотя и сохраняли неподвижность, все же непередаваемо изменялись; несмотря на внешнее спокойствие, в них сквозил какой-то затаенный жар, и это было красноречивее, чем порывистые движения и пылкие взгляды.
Розамунда, конечно, сознавала свою власть над ним; а он был не в силах скрыть от нее свои чувства. При всем его христианском стоицизме достаточно было ей приветливо, весело, даже нежно ему улыбнуться, как его рука начинала дрожать и глаза загорались. Он как будто говорил своим печальным и решительным взглядом то, чего не говорили его уста: «Я люблю вас, и знаю, что вы отдаете мне предпочтение перед другими. Не страх получить отказ заставляет меня молчать. Предложи я вам свое сердце, вы, вероятно, приняли бы его. Но это сердце уже возложено на священный алтарь; костер уже разведен вокруг него. Скоро от этой жертвы останется только пепел».
Тогда она надувала губки, как обиженное дитя; облако задумчивости омрачало ее лучезарную веселость; она поспешно выдергивала свою руку из его руки, и, затаив обиду, отворачивалась, предпочитая не видеть этот лик героя и мученика. Сент-Джон, без сомнения, отдал бы все на свете, чтобы броситься за ней, вернуть, удержать ее, когда она его так покидала; но ради нее он не хотел пожертвовать ни одним шансом на вечное спасение и не отступился бы ради ее любви ни от одной из своих надежд на истинное блаженство. Кроме того, предавшись единой страсти, он не мог бы удовлетворить тех разных людей, которые жили в его душе, — скитальца, правдоискателя, поэта, священника. Он не мог, он не хотел отречься от своего бурного пути миссионера ради уюта и тишины Вейлхолла. Я узнала обо всем этом от самого Сент-Джона, когда однажды мне удалось вызвать его, несмотря на всю его сдержанность, на откровенный разговор.
Мисс Оливер удостаивала мой коттедж частых посещений, и я вполне изучила ее характер, в котором не было ничего затаенного и фальшивого; она была кокетлива, но не бессердечна, требовательна, но не слишком эгоистична. Она была избалована с самого рождения, но не окончательно испорчена; вспыльчива, но добродушна; тщеславна (что же было ей делать, когда каждый взгляд, брошенный в зеркало, показывал ей расцвет ее очарования), но не жеманна; щедра и не кичилась своим богатством; естественна и в меру умна; весела, жива и беззаботна. Она казалась прелестной даже такой безучастной наблюдательнице, какой была хотя бы я; но в ней не было ни подлинной значительности, ни способности вызывать глубокое впечатление. Это было существо совсем другой породы, чем, например, сестры Сент-Джона. Тем не менее она мне нравилась почти так же, как моя воспитанница Адель, хотя к ребенку, которого мы наблюдаем и воспитываем, у нас возникает более интимная привязанность, чем к постороннему для нас человеку, взрослой особе, хотя бы и очень привлекательной.
В силу какой-то прихоти Розамунда заинтересовалась мною. Она уверяла, что я похожа на мистера Риверса (но только он, конечно, в десять раз красивее; хотя я и премилое создание, но он — сущий ангел). Тем не менее я была, по ее словам, добра, умна, замкнута и решительна, так же как он. Она находила, что для сельской учительницы я lusus naturae[33], и уверяла, что мое прошлое должно быть увлекательней всякого романа.
Однажды вечером, когда мисс Оливер со свойственной ей ребячливой предприимчивостью и легкомысленным любопытством рылась в буфете и ящике стола в моей маленькой кухоньке, она обнаружила две французские книги, томик Шиллера, немецкую грамматику и словарь, а затем мои рисовальные принадлежности и несколько набросков, в числе которых была сделанная карандашом головка девочки, одной из моих учениц, хорошенькой, как херувим, а также различные пейзажи, зарисованные с натуры в мортонской долине и окрестных лугах. Сперва она была поражена, потом загорелась восторгом.
Это я рисовала эти картинки? Знаю ли я французский и немецкий язык? Что я за прелесть, что за чудо! Я рисую лучше, чем учитель в лучшей школе С… Не набросаю ли я ее портрет, чтобы показать папе?
— С удовольствием, — отвечала я, ощущая трепет особой, чисто артистической радости при мысли, что буду рисовать с такой совершенной и ослепительной натуры. В этот день на ней было темно-синее шелковое платье, руки и шея были обнажены, единственным украшением являлись ее каштановые кудри, которые рассыпались по плечам с прихотливой грацией, присущей только натуральным локонам.
Я взяла лист тонкого картона и тщательно нанесла на него контур ее лица. Я заранее радовалась, представляя себе, как буду писать красками, но так как становилось уже поздно, я сказала ей, чтобы она пришла еще раз позировать мне.
Она так расхваливала меня своему отцу, что на следующий вечер мистер Оливер сам явился ко мне с дочерью; это был крупный седой человек средних лет, рядом с которым его прелестная дочь выглядела, как стройное деревце подле древней башни. Мистер Оливер казался молчаливым — возможно, потому, что был горд; однако со мной он держался весьма любезно. Эскиз портрета Розамунды чрезвычайно ему понравился; мистер Оливер сказал, что я должна непременно докончить его. Он настаивал также, чтобы я пришла на следующий день в Вейлхолл и провела с ними вечер.
Я отправилась туда и очутилась в большом красивом доме, где все говорило о богатстве его владельца. Розамунда казалась чрезвычайно веселой и довольной. Ее отец был также весьма приветлив; завязав со мной беседу после чая, он высказал свое одобрение моей деятельности в мортонской школе. Однако, добавил он, на основании всего виденного и слышанного он опасается, что я скоро перейду на другое место, более мне соответствующее.
— В самом деле, папа, — воскликнула Розамунда, — Джен так умна, что вполне может быть гувернанткой в аристократическом семействе!
Я подумала, что предпочту остаться там, где нахожусь сейчас, чем жить в каком-нибудь аристократическом семействе. Мистер Оливер заговорил о мистере Риверсе и о всей семье Риверсов с огромным уважением. Он рассказал мне, что это очень старинный местный дворянский род; что предки Риверсов были богаты; некогда им принадлежал весь Мортон; и даже теперь, по его мнению, представитель этого рода мог бы, если бы захотел, сделать самую блестящую партию. Он очень сожалел, что такой прекрасный и одаренный молодой человек решил уехать за границу в качестве миссионера; это значит — загубить столь ценную жизнь. Я поняла, что отец не стал бы чинить препятствий союзу Розамунды с Сент-Джоном. Мистер Оливер, видимо, считал, что знатное происхождение молодого священника, старинный род и духовный сан достаточно возмещают отсутствие денег.
Это было в праздничный день. Моя маленькая служанка, помогавшая мне прибирать домик, ушла, весьма довольная полученным пенни. Все вокруг меня было без единого пятнышка и блестело — выскобленный пол, начищенная решетка камина, вытертые стулья. Я сама принарядилась и теперь могла провести вторую половину дня, как мне хотелось.
Перевод нескольких страниц с немецкого занял час; затем я взяла палитру и карандаш и принялась за более легкое и приятное занятие — я стала заканчивать миниатюру Розамунды Оливер. Головка была уже готова; оставалось только сделать цветной фон, дописать драпировку, оттенить штрихом кармина свежие губы, прибавить кое-где мягкий завиток к прическе, придать большую глубину тени от ресниц под голубоватыми веками. Я была поглощена выполнением этих деталей, когда, после торопливого стука, дверь отворилась и вошел Сент-Джон Риверс.
— Я пришел посмотреть, как вы проводите праздник, — сказал он. — Надеюсь, не в размышлениях? Нет? Это хорошо! За столь приятным занятием вы не будете чувствовать одиночества. Видите, я все еще не доверяю вам, хотя до сих пор вы держались мужественно. Я принес книжку для приятного чтения по вечерам, — и он положил на стол только что вышедшую поэму: это было одно из тех замечательных творений, которых так часто удостаивалась счастливая публика того времени — золотого века современной литературы. Увы! Читатели нашей эпохи далеко не так избалованы. Но не бойтесь! Я не намерена увлекаться отступлениями, обвинять или негодовать. Я знаю, что поэзия не умерла, гений не утрачен и Маммоне не дана власть сковать их и убить; поэзия и гений когда-нибудь снова заявят о себе, они докажут свое право на существование, свою свободу и силу. Ангелы небесные! Вы только улыбаетесь, когда низменные души торжествуют, а слабые оплакивают грозящую им гибель. Поэзия погибла? Гений изгнан? Нет, посредственность, нет! Не позволяй зависти внушать тебе эту мысль. Они не только живы, но и наделены властью и искупительной силой; и без их божественного воздействия, распространяющегося всюду, ты находилась бы в аду — в аду собственного убожества!
Пока я жадно проглядывала блистательные страницы «Мармиона»[34] (ибо это был «Мармион»), Сент-Джон наклонился, чтобы лучше рассмотреть мой рисунок. Он вздрогнул, и его высокая фигура снова выпрямилась; однако он не проронил ни слова. Я взглянула на него, — он избегал моих глаз. Я угадывала его мысли и с легкостью могла читать в его сердце; в эту минуту я была спокойнее и хладнокровнее, чем Сент-Джон; я чувствовала, что у меня есть временное преимущество перед ним, и мне захотелось ему помочь, если это только возможно.
«При всей его твердости и самообладании, — размышляла я, — он слишком много берет на себя: прячет в себе каждое чувство, каждую боль, ничего не показывает другим, ничем не делится, все таит в себе. Я уверена, что ему будет легче, если он поговорит о прелестной Розамунде, на которой, по его мнению, ему не следует жениться. Я заставлю его разговориться».
Я начала с того, что сказала:
— Сядьте, мистер Риверс.
Но он ответил, как всегда, что не может остаться.
«Ну, что ж, — заметила я про себя, — стойте, если вам хочется, но никуда вы не уйдете, я так решила; одиночество столь же вредно для вас, как и для меня. Я постараюсь затронуть потаенные струны вашего доверия, найти доступ к этому непроницаемому сердцу и пролить в него, как бальзам, хоть каплю моего сочувствия».
— Что, этот портрет похож? — спросила я напрямик.
— Похож? На кого похож? Я хорошенько не рассмотрел его.
— Позвольте вам не поверить, мистер Риверс.
Он даже вздрогнул, пораженный моей внезапной и странной настойчивостью, и изумленно взглянул на меня. «О, это еще только начало, — говорила я себе. — Меня не смутит эта ваша чопорность; вы от меня так легко не отделаетесь». И я продолжала:
— Вы рассмотрели его достаточно внимательно и подробно; но я не возражаю, можете взглянуть еще раз. — Я встала и вложила портрет ему в руки.
— Портрет хорошо сделан, — сказал он, — очень мягкие, чистые тона, очень изящный и точный рисунок.
— Да, да, все это я знаю. Но что вы скажете о сходстве? На кого он похож?
После минутного колебания он ответил:
— На мисс Оливер, я полагаю.
— Конечно. Так вот, сэр, в награду за вашу удивительную догадливость обещаю сделать для вас тщательную и точную копию этого самого портрета, — если только вы не будете возражать против такого подарка. Мне не хотелось бы тратить время и силы на подношение, которое не будет иметь для вас никакой цены.
Он продолжал смотреть на портрет; чем дольше он смотрел, тем крепче сжимал его в руках, тем, казалось, сильнее желал получить его.
— Да, похож! — пробормотал он. — Глаза прекрасно схвачены. Они улыбаются. Краски, цвет и выражение переданы превосходно.
— Хочется вам иметь такой портрет или это будет вам неприятно? Скажите мне правду. Когда вы окажетесь на Мадагаскаре, или на мысе Доброй Надежды, или в Индии, — будет ли вам приятно иметь его при себе, или же он вызовет воспоминания, которые только взволнуют и расстроят вас?
Тут он быстро взглянул на меня, в его глазах промелькнули нерешительность и смятение, затем он снова принялся разглядывать портрет.
— Что я хотел бы его иметь, не отрицаю; другое дело, будет ли это осмотрительно и благоразумно.
С тех пор как я убедилась, что он действительно нравится Розамунде и что ее отец, видимо, не стал бы возражать против этого брака, — я, будучи менее экзальтированной, чем Сент-Джон, почувствовала сильное желание содействовать этому союзу. Мне казалось, что если бы в его руки перешло состояние мистера Оливера, он мог бы с помощью этих денег сделать не меньше добра, чем став миссионером и обрекая свой гений на увядание, а свои силы на истощение под лучами тропического солнца. Поэтому я сказала без колебаний:
— Насколько я могу судить, самое благоразумное и дальновидное, что вы можете сделать, это, не теряя времени, завладеть оригиналом.
Сент-Джон уселся, положил портрет перед собой на стол и, подперев голову руками, любовно склонился над ним. Я заметила, что он не сердится на мою дерзость и не шокирован ею. Более того, я обнаружила, что беседовать так откровенно на тему, которой он даже не считал возможным касаться, слышать, что о ней говорят так свободно, — скорее нравится ему и даже доставляет неожиданное облегчение. Замкнутые люди нередко больше нуждаются в откровенном обсуждении своих чувств, чем люди несдержанные. Самый суровый стоик все-таки человек, и вторгнуться смело и доброжелательно в «безмолвное море» его души — значит нередко оказать ему величайшую услугу.
— Вы нравитесь ей, я в этом уверена, — сказала я, стоя позади его стула, — а ее отец уважает вас. Розамунда прелестная девушка, хотя и немного легкомысленная; но у вас хватит серьезности на двоих. Вам следовало бы жениться на ней.
— Разве я ей нравлюсь? — спросил он.
— Безусловно; больше, чем кто-либо. Она не устает говорить о вас; это самая увлекательная тема для нее, тема, которая никогда ей не надоедает.
— Очень приятно слышать, — сказал он, — очень; продолжайте в том же духе еще четверть часа, — и он самым серьезным образом вынул часы и положил их на стол, чтобы видеть время.
— Но к чему продолжать, — спросила я, — когда вы, вероятно, уже готовите ответный удар, намереваясь сокрушить меня своими возражениями, или куете новую цепь, чтобы заковать свое сердце?
— Не выдумывайте таких ужасов. Вообразите, что я таю и млею, — как оно и есть на самом деле; земная любовь поднимается в моей душе, как забивший вдруг родник, и заливает сладостными волнами поля, которые я так усердно и с таким трудом возделывал, так старательно засевал семенами добрых намерений и самоотречения. А теперь они затоплены потоком нектара, молодые побеги гибнут — сладостный яд подтачивает их, и вот я вижу себя сидящим на оттоманке в гостиной Вейлхолла у ног моей невесты, Розамунды Оливер; она говорит со мной своим нежным голосом, смотрит на меня этими самыми глазами, которые ваша искусная рука так верно изобразила, улыбается мне своими коралловыми устами. Она моя, я принадлежу ей; эта жизнь и этот преходящий мир удовлетворяют меня. Тише! Молчите! Мое сердце полно восторга, мои чувства зачарованы, дайте спокойно протечь этим сладостным минутам.
Я исполнила его просьбу; минуты шли, Я стояла молча и слушала его сдавленное и частое дыхание.
Так, в безмолвии, прошло четверть часа; он спрятал часы, отодвинул портрет, встал и подошел к очагу.
— Итак, — сказал он, — эти короткие минуты были отданы иллюзиям и бреду. Моя голова покоилась на лоне соблазна, я склонил шею под его цветочное ярмо и отведал из его кубка. Но я увидел, что моя подушка горит; в цветочной гирлянде — оса; вино отдает горечью; обещания моего искусителя лживы, его предложения обманчивы. Все это я вижу и знаю.
Я посмотрела на него удивленно.
— Как странно, — продолжал он, — хотя я люблю Розамунду Оливер безумно, со всей силой первой подлинной страсти и предмет моей любви утонченно прекрасен, — я в то же самое время испытываю твердую, непреложную уверенность, что она не будет для меня хорошей женой, что она не та спутница жизни, какая мне нужна; я обнаружу это через год после нашей свадьбы, и за двенадцатью блаженными месяцами последует целая жизнь, полная сожалений. Я это знаю.
— Как странно! — вырвалось у меня невольно.
— Что-то во мне, — продолжал он, — чрезвычайно чувствительно к ее чарам, но наряду с этим я остро ощущаю ее недостатки: она не сможет разделять мои стремления и помогать мне. Розамунде ли быть страдалицей, труженицей, женщиной-апостолом? Розамунде ли быть женой миссионера? Нет!
— Но вам незачем быть миссионером. Вы могли бы отказаться от своих намерений.
— Отказаться? Как? От моего призвания? От моего великого дела? От фундамента, заложенного на земле для небесной обители? От надежды быть в сонме тех, для кого все честолюбивые помыслы слились в один великий порыв — нести знания в царство невежества, религию вместо суеверия, надежду на небесное блаженство вместо ужаса преисподней? Отказаться от этого? Да ведь это дороже для меня, чем кровь в моих жилах. Это та цель, которую я поставил себе, ради которой я живу!
После продолжительной паузы я сказала:
— А мисс Оливер? Ее разочарование, ее горе — ничто для вас?
— Мисс Оливер всегда окружена поклонниками и льстецами; не пройдет и месяца, как мой образ бесследно изгладится из ее сердца. Она забудет меня и, вероятно, выйдет замуж за человека, с которым будет гораздо счастливее, чем со мной.
— Вы говорите с достаточным хладнокровием, но вы страдаете от этой борьбы. Вы таете на глазах.
— Нет. Если я немного похудел, то из-за тревоги о будущем; оно все еще не устроено — мой отъезд постоянно откладывается. Сегодня утром я получил известие, что мой преемник, которого я так долго жду, приедет не раньше чем через три месяца; а может быть, эти три месяца растянутся на полгода.
— Как только мисс Оливер входит в класс, вы дрожите и краснеете.
Снова на лице его промелькнуло изумление. Он не представлял себе, что женщина посмеет так говорить с мужчиной. Что же до меня — я чувствовала себя совершенно свободно во время таких разговоров. При общении с сильными, скрытными и утонченными душами, мужскими или женскими, я не успокаивалась до тех пор, пока мне не удавалось сломить преграды условной замкнутости, перешагнуть границу умеренной откровенности и завоевать место у самого алтаря их сердца.
— Вы в самом деле оригинальны, — сказал он, — и не лишены мужества. У вас смелая душа и проницательный взор; но, уверяю вас, вы не совсем верно истолковываете мои чувства. Вы считаете их более глубокими и сильными, чем они есть. Вы приписываете мне чувства, на которые я вряд ли способен. Когда я краснею и дрожу перед мисс Оливер, мне не жалко себя. Я презираю свою слабость. Я знаю, что она позорна: это всего лишь волнение плоти, а не… — я утверждаю это — не лихорадка души. Моя душа тверда, как скала, незыблемо встающая из бездны бушующего моря. Узнайте же меня в моем истинном качестве — холодного и черствого человека.
Я недоверчиво улыбнулась.
— Вы вызвали меня на откровенность, — продолжал он, — и теперь она к вашим услугам. Если отбросить те белоснежные покровы, которыми христианство покрывает человеческое уродство, я по своей природе окажусь холодным, черствым, честолюбивым. Из всех чувств только естественные привязанности имеют надо мной власть. Разум, а не чувство ведет меня, честолюбие мое безгранично, моя жажда подняться выше, совершить больше других — неутолима. Я ценю в людях выносливость, постоянство, усердие, талант; ибо это средства, с помощью которых осуществляются великие цели и достигается высокое превосходство. Я наблюдаю вашу деятельность с интересом потому, что считаю вас образцом усердной, деятельной, энергичной женщины, а вовсе не потому, чтобы я глубоко сострадал перенесенным вами испытаниям или теперешним вашим печалям.
— Вы изображаете себя языческим философом, — сказала я.
— Нет. Между мной и философами-деистами большая разница: я верую, и верую в евангелие. Вы ошиблись прилагательным. Я не языческий, а христианский философ — последователь Иисуса.
Он взял свою шляпу, лежавшую на столе возле моей палитры, и еще раз взглянул на портрет.
— Она действительно прелестна, — прошептал он. — Она справедливо названа «Роза Мира».
— Не написать ли мне еще такой портрет для вас?
— Cui bone?[35] Нет.
Он накрыл портрет листом тонкой бумаги, на который я обычно клала руку, чтобы не запачкать картон. Не знаю, что он вдруг там увидел, но что-то привлекло его внимание. Он схватил лист, посмотрел на него, затем бросил на меня взгляд, невыразимо странный и совершенно мне непонятный; взгляд, который, казалось, отметил каждую черточку моей фигуры, ибо он охватил меня всю, точно молния. Его губы дрогнули, словно он что-то хотел сказать, но удержался и не произнес ни слова.
— Что случилось? — спросила я.
— Решительно ничего, — был ответ, и я увидела, как, положив бумагу на место, он быстро оторвал от нее узкую полосу. Она исчезла в его перчатке; поспешно кивнув мне и бросив на ходу: «Добрый вечер», он исчез.
— Вот так история! — воскликнула я.
Я внимательно осмотрела бумагу, но ничего на ней не обнаружила, кроме нескольких темных пятен краски там, где я пробовала кисть. Минуту-другую я размышляла над этой загадкой, но, не будучи в силах ее разгадать и считая, что она не может иметь для меня особого значения, я выбросила ее из головы и скоро о ней забыла.
Глава XXXIII
Когда мистер Сент-Джон уходил, начинался снегопад; метель продолжалась всю ночь и весь следующий день; к вечеру долина была занесена и стала почти непроходимой. Я закрыла ставни, заложила циновкой дверь, чтобы под нее не намело снегу, и подбросила дров в очаг. Я просидела около часа у огня, прислушиваясь к глухому завыванию вьюги, наконец зажгла свечу, взяла с полки «Мармиона» и начала читать:
Над кручей Нордгема закат, Лучи над Твид-рекой горят, Над замком, над холмами, Сверкает грозных башен ряд, И, сбросив траурный наряд, Стена оделась в пламя…[36]и быстро позабыла бурю ради музыки стиха.
Вдруг послышался шум. «Это ветер, — решила я, — сотрясает дверь». Но нет, — это был Сент-Джон Риверс, который, открыв дверь снаружи, появился из недр леденящего мрака и воющего урагана и теперь стоял передо мной; плащ, окутывавший его высокую фигуру, был бел, как глетчер. Я прямо оцепенела от изумления, таким неожиданным был для меня в этот вечер приход гостя из занесенной снегом долины.
— Дурные вести? — спросила я. — Что-нибудь случилось?
— Нет. Как легко вы пугаетесь! — отвечал он, снимая плащ и вешая его на дверь. Затем он спокойно водворил на место циновку, отодвинутую им при входе, и принялся стряхивать снег со своих башмаков.
— Я наслежу вам тут, — сказал Сент-Джон, — но вы, уж так и быть, меня извините. — Тут он подошел к огню. — Мне стоило немалого труда добраться до вас, право же, — продолжал он, грея руки над пламенем. — Я провалился в сугроб по пояс; к счастью, снег еще совсем рыхлый.
— Но зачем же вы пришли? — не удержалась я.
— Довольно-таки негостеприимно с вашей стороны задавать такой вопрос, но раз уж вы спросили, я отвечу: просто чтобы немного побеседовать с вами; я устал от своих немых книг и пустых комнат. Кроме того, я со вчерашнего дня испытываю нетерпение человека, которому рассказали повесть до половины и ему хочется поскорее услышать продолжение.
Он уселся. Я вспомнила его странное поведение накануне и начала опасаться, не повредился ли он в уме. Однако если Сент-Джон и помешался, то это было очень сдержанное и рассудительное помешательство. Никогда еще его красивое лицо так не напоминало мраморное изваяние, как сейчас; он откинул намокшие от снега волосы со лба, и огонь озарил его бледный лоб и столь же бледные щеки; к своему огорчению, я заметила на его лице явные следы забот и печали. Я молчала, ожидая, что он скажет что-нибудь более вразумительное, но он поднес руку к подбородку, приложил палец к губам; он размышлял. Неожиданный порыв жалости охватил мое сердце; я невольно сказала:
— Как было бы хорошо, если бы Диана и Мери поселились с вами; это никуда не годится, что вы совсем один: вы непростительно пренебрегаете своим здоровьем.
— Нисколько, — сказал он. — Я забочусь о себе, когда это необходимо; сейчас я здоров. Что вы видите во мне необычного?
Это было сказано с небрежным и рассеянным равнодушием, и я поняла, что мое вмешательство показалось ему неуместным. Я смолкла.
Он все еще продолжал водить пальцем по верхней губе, а его взор по-прежнему был прикован к пылающему очагу; считая нужным что-нибудь сказать, я спросила его, не дует ли ему от двери.
— Нет, нет, — отвечал он отрывисто и даже с каким-то раздражением.
«Что ж, — подумала я, — если вам не угодно говорить, можете молчать; я оставлю вас в покое и вернусь к своей книге».
Я сняла нагар со свечи и вновь принялась за чтение «Мармиона». Наконец Сент-Джон сделал какое-то движение; я исподтишка наблюдала за ним; он достал переплетенную в сафьян записную книжку, вынул оттуда письмо, молча прочел, сложил, положил обратно и вновь погрузился в раздумье. Напрасно я старалась вновь углубиться в свою книгу: загадочное поведение Сент-Джона мешало мне сосредоточиться. В своем нетерпении я не могла молчать; пусть оборвет меня, если хочет, но я заговорю с ним.
— Давно вы не получали вестей от Дианы и Мери?
— После письма, которое я показывал вам неделю назад, — ничего.
— А в ваших личных планах ничего не изменилось? Вам не придется покинуть Англию раньше, чем вы ожидали?
— Боюсь, что нет; это было бы слишком большой удачей.
Получив отпор, я решила переменить тему и заговорила о школе и о своих ученицах.
— Мать Мери Гаррет поправляется, она уже была сегодня в школе. У меня будут на следующей неделе еще четыре новые ученицы из Фаундри-Клоз, они не пришли сегодня только из-за метели.
— Вот как?
— За двоих будет платить мистер Оливер.
— Разве?
— Он собирается на рождество устроить для всей школы праздник.
— Знаю.
— Это вы ему подали мысль?
— Нет.
— Кто же тогда?
— Вероятно, его дочь.
— Это похоже на нее; она очень добрая.
— Да.
Опять наступила пауза; часы пробили восемь. Сент-Джон очнулся; он переменил позу, выпрямился и повернулся ко мне.
— Бросьте на минуту книгу и садитесь ближе к огню.
Не переставая удивляться, я повиновалась.
— Полчаса назад, — продолжал он, — я сказал, что мне не терпится услышать продолжение одного рассказа; подумав, я решил, что будет лучше, если я возьму на себя роль рассказчика, а вы слушательницы. Прежде чем начать, считаю нужным предупредить вас, что эта история покажется вам довольно заурядной; однако избитые подробности нередко приобретают некоторую свежесть, когда мы слышим их из новых уст. Впрочем, какой бы она ни была — обычной или своеобразной, — она не отнимет у вас много времени.
Двадцать лет назад один бедный викарий, — как его звали, для нас в данную минуту безразлично, — влюбился в дочь богатого человека; она отвечала ему взаимностью и вышла за него замуж вопреки советам всех своих близких, которые тотчас после свадьбы отказались от нее.
Не прошло и двух лет, как эта легкомысленная чета умерла, и оба они мирно легли под одной плитой. (Я видел их могилу, она находится на большом кладбище, подле мрачного, черного, как сажа, собора в одном перенаселенном промышленном городе …ширского графства.)
Они оставили дочь, которую с самого ее рождения милосердие приняло в свои объятия, холодные, как объятия сугроба, в котором я чуть не утонул сегодня вечером. Милосердие привело бесприютную сиротку в дом ее богатой родни с материнской стороны; ее воспитывала жена дяди (теперь я дошел до имен), миссис Рид из Гейтсхэда… Вы вздрогнули?.. Вы услышали шум? Это, вероятнее всего, крыса скребется на чердаке соседнего класса; там был амбар, пока я не перестроил и не переделал его, — а в амбарах обычно водятся крысы. Я продолжаю. Миссис Рид держала у себя сиротку в течение десяти лет; была ли девочка счастлива у нее, я затрудняюсь вам сказать, ибо ничего об этом не слышал; но к концу этого срока миссис Рид отправила племянницу туда, где вы сами так долго пробыли, — а именно в Ловудскую школу. Видимо, девочка сделала там весьма достойную карьеру; из ученицы она стала учительницей, подобно вам, — меня поражает, что есть ряд совпадений в ее истории и вашей, — но вскоре она покинула училище и поступила на место гувернантки, — и тут ваши судьбы опять оказались схожими, — она взяла на себя воспитание девочки, опекуном которой был мистер Рочестер.
— Мистер Риверс! — прервала я его.
— Я догадываюсь о ваших чувствах, — сказал он, — но возьмите себя в руки, я почти кончил; выслушайте меня. О личности мистера Рочестера я ничего не знаю, кроме одного факта: что он предложил этой молодой девушке законное супружество, и уже перед алтарем обнаружилось, что у него есть жена, хотя и сумасшедшая.
Каковы были его дальнейшее поведение и намерения, никто не знает, тут можно только гадать; но когда произошло одно событие, вызвавшее интерес к судьбе гувернантки, и начались официальные розыски, выяснилось, что она ушла, — и никто не знает, куда и как. Она покинула Торнфильдхолл ночью, после того как расстроился ее брак, и все попытки разыскать ее оказались тщетными; ее искали по всем окрестностям, но ничего не удалось узнать. Однако найти ее надо было во что бы то ни стало. Во всех газетах были помещены объявления. Я получил письмо от некоего мистера Бриггса, поверенного, сообщившего мне подробности, которые я вам только что изложил. Не правда ли, странная история?
— Скажите мне только одно, — попросила я, — ведь вы теперь все знаете, — что с мистером Рочестером?! Где он сейчас и что делает? Здоров ли?
— Что касается мистера Рочестера, то мне ничего не известно. Автор письма упоминает о нем лишь в связи с его бесчестной, противозаконной попыткой, о которой я уже говорил. Вам бы скорее следовало спросить об имени гувернантки и о том, что это за событие, которое потребовало ее розысков.
— Так, значит, никто не ездил в Торнфильдхолл? Никто не видел мистера Рочестера?
— Думаю, что нет.
— А ему писали?
— Конечно.
— И что же он ответил? У кого находятся его письма?
— Мистер Бриггс сообщает, что ответ на его запрос был получен не от мистера Рочестера, а от какой-то дамы; он подписан «Алиса Фэйрфакс».
Я похолодела от ужаса; мои худшие опасения, видимо, сбывались: он, вероятно, покинул Англию и в безутешном отчаянии поспешил в одно из тех мест, где живал прежде. Какой бальзам для своей нестерпимой боли, какое прибежище для своих бурных страстей искал он там? Я не решалась ответить на этот вопрос. О мой бедный хозяин, почти ставший моим мужем, кого я так часто называла «мой дорогой Эдвард»!
— Он, вероятно, был дурным человеком, — заметил мистер Риверс.
— Вы не знаете его, поэтому не делайте никаких выводов, — сказала я горячо.
— Хорошо, — отвечал он спокойно, — да и голова моя занята совсем не тем; мне нужно докончить рассказ. Если вы не спрашиваете, как зовут гувернантку, я должен сам назвать ее имя. Постойте, оно у меня здесь, — всего лучше видеть важные вещи написанными как полагается — черным по белому.
И он снова вытащил записную книжку, открыл ее и стал что-то в ней искать; из одного отделения он вынул измятую, наспех оторванную полоску бумаги: я узнала по форме и по пятнам ультрамарина, краплака и киновари похищенный у меня обрывок бумажного листа. Он встал и поднес полоску к моим глазам; я прочла выведенные тушью и моим собственным почерком слова: «Джен Эйр», — без сомнения, результат минутной рассеянности.
— Бриггс писал мне о Джен Эйр, — сказал он, — объявления называют Джен Эйр; а я знаю Джен Эллиот. Сознаюсь, у меня были подозрения, но только вчера вечером они превратились в уверенность. Вы признаете, что это ваше имя, и отказываетесь от псевдонима?
— Да… Да… Но где же мистер Бриггс? Может быть, он знает больше вашего о мистере Рочестере…
— Бриггс в Лондоне; я сомневаюсь, чтобы он что-нибудь знал о мистере Рочестере; его интересует не мистер Рочестер. Однако вы заняты пустяками и забываете о существенном, вы не спрашиваете, зачем мистер Бриггс разыскивает вас, что ему от вас нужно.
— Ну, что же ему нужно?
— Только сообщить вам, что ваш дядя, мистер Эйр, проживавший на Мадейре, умер, что он оставил вам все свое состояние и что вы теперь богаты, — только это, больше ничего.
— Я? Богата?
— Да, да, богаты — наследница большого состояния.
Последовала пауза.
— Конечно, вы должны удостоверить свою личность, — вновь заговорил Сент-Джон, — но это не представит трудностей; и тогда вы можете немедленно вступить во владение наследством. Ваши деньги помещены в английские бумаги; у Бриггса имеется завещание и необходимые документы.
Итак, мне выпала новая карта! Удивительное это превращение, читатель, — быть в один миг перенесенной из нищеты в богатство, — поистине замечательное превращение! Но этого как-то сразу не охватить, а потому и не чувствуешь во всей полноте счастья, выпавшего тебе на долю. А кроме того, в жизни есть другие радости, гораздо более волнующие и захватывающие; богатство — это нечто материальное, нечто целиком относящееся к внешней сфере жизни, в нем нет ничего идеального, все связанное с ним носит характер трезвого расчета; и таковы же соответствующие чувства. Люди не прыгают и не кричат «ура», узнав, что они получили состояние; наоборот, они сейчас же начинают размышлять о свалившихся на них обязанностях и всяких делах, мы довольны, но появляются серьезные заботы, и мы размышляем о своем счастье с нахмуренным челом.
Кроме того, слова: «завещание», «наследство» сочетаются со словами «смерть», «похороны». Я узнала, что умер мой дядя, единственный мой родственник; с тех пор как я услышала о его существовании, я лелеяла надежду все-таки увидеть его; теперь этого уже никогда не будет. К тому же деньги достались только мне; не мне и моему ликующему семейству, а лишь моей одинокой особе. Все же это великое благо, и какое счастье чувствовать себя независимой! Да, это я поняла — и эта мысль переполнила мое сердце радостью.
— Наконец-то вы подняли голову, — сказал мистер Риверс. — Я уже думал, что вы заглянули в глаза Медузе и окаменели; может быть, теперь вы спросите, как велико ваше состояние?
— Как велико мое состояние?
— О, совершенные пустяки! Собственно, не о чем и говорить — каких-нибудь двадцать тысяч фунтов, кажется так.
— Двадцать тысяч фунтов!
Я снова была поражена: я предполагала, что это четыре-пять тысяч. От этой новости у меня буквально захватило дыхание. Мистер Сент-Джон, смеха которого я до сих пор ни разу не слыхала, громко рассмеялся.
— Ну, — продолжал он, — если бы вы совершили убийство, и я сказал бы вам, что ваше преступление раскрыто, вы, наверно, выглядели бы не более потрясенной.
— Но это большая сумма! Вы не думаете, что тут может быть ошибка?
— Никакой ошибки.
— Может быть, вы неверно прочли цифры и там две тысячи?
— Это написано буквами, а не цифрами, — двадцать тысяч.
Я почувствовала себя, как человек с обычным средним аппетитом, вдруг очутившийся за столом с угощением на сто персон. Тут мистер Риверс встал и надел свой плащ.
— Если бы не такая бурная ночь, — сказал он, — я прислал бы Ханну составить вам компанию, — у вас слишком несчастный вид, чтобы оставлять вас одну. Но Ханна, бедняга, не может шагать по сугробам, как я, у нее недостаточно длинные ноги; итак, я оставляю вас наедине с вашими огорчениями. Спокойной ночи!
Он уже взялся за ручку двери. Внезапная мысль осенила меня.
— Подождите минуту! — воскликнула я.
— Что такое?
— Мне хочется знать, почему мистер Бриггс написал обо мне именно вам, и как он узнал про вас, и почему решил, что вы, живя в таком захолустье, можете помочь ему меня разыскать?
— О! Ведь я священник, — сказал Сент-Джон, — а к духовным лицам нередко обращаются с самыми необычными делами.
Снова брякнула щеколда.
— Нет, этим вы от меня не отделаетесь! — воскликнула я; и в самом деле, его поспешный и туманный ответ, вместо того чтобы удовлетворить мое любопытство, лишь разжег его до крайности. — Это очень странная история, — прибавила я, — и я должна ее выяснить.
— В другой раз.
— Нет! Сегодня, сегодня же! — Я встала между ним и дверью.
Казалось, он был в замешательстве.
— Вы не уйдете, пока не скажете мне всего! — заявила я.
— Лучше бы не сегодня.
— Нет, нет! Именно сегодня!
— Я предпочел бы, чтобы вам рассказали об этом Диана и Мери.
Разумеется, эти возражения довели мое любопытство до предела; оно требовало удовлетворения, и немедленно: так я и заявила Сент-Джону.
— Но я уже говорил вам, что я человек упрямый, — сказал он, — меня трудно убедить.
— И я тоже упрямая женщина, я не хочу откладывать на завтра!
— И потом, — продолжал он, — я холоден, и никакой горячностью меня не проймешь.
— Ну, а я горяча, а огонь растапливает лед. Вот от пламени очага весь снег на вашем плаще растаял; посмотрите на пол, кругом лужи. Если вы хотите, мистер Риверс, чтобы вам простили тяжкое преступление, которое вы совершили, наследив на чистом полу в кухне, — скажите мне то, о чем я вас прошу.
— Ну, хорошо, — ответил он, — я уступаю если не вашей горячности, то вашей настойчивости, — капля долбит и камень. К тому же вы рано или поздно все равно узнаете. Ваше имя Джен Эйр?
— Ну да, все это мы уже выяснили.
— Вы, может быть, не знаете, что мы с вами однофамильцы? Что мое полное имя Сент-Джон Эйр Риверс?
— Нет, конечно! Теперь-то я вспоминаю, что видела букву «Э» в числе ваших инициалов на книгах, которые вы давали мне читать, но я не спросила у вас, какое имя она обозначает. Ну и что же? Ведь вы не…
Я замолчала; я не осмеливалась допустить, а тем более выразить словами предположение, которое, едва вспыхнув во мне, сразу окрепло и в мгновение ока превратилось в непреложную уверенность. Отдельные факты сплетались и связывались в стройное целое; цепь, до сих пор казавшаяся бесформенной грудой звеньев, растянулась и распрямилась — звено к звену — с законченной и закономерной последовательностью. Я инстинктивно догадалась обо всем, прежде чем Сент-Джон произнес хоть слово. Однако невозможно требовать от читателя такой же догадливости, и потому я должна повторить его объяснения.
— Фамилия моей матери была Эйр; у нее было два брата: один — священник, женившийся на мисс Джен Рид из Гейтсхэда; другой — Джон Эйр, эсквайр, коммерсант, в последнее время проживавший в Фунчале на Мадейре. Мистер Бриггс, поверенный мистера Эйра, известил нас в августе этого года о кончине дяди и сообщил, что тот оставил все свое состояние сироте, дочери своего брата — священника, обойдя нас, вследствие ссоры между ним и моим отцом, которую оба они так и не могли забыть. Некоторое время спустя он снова написал нам, извещая, что наследница исчезла, и спрашивая, не знаем ли мы что-нибудь о ней. Ваше имя, случайно написанное на листке бумаги, помогло мне разыскать ее. Остальное вам известно.
Он снова собрался уходить, но я прислонилась спиной к двери.
— Дайте мне высказаться, — заявила я, — дайте мне перевести дух и хоть минутку подумать. — Я замолчала; он стоял передо мной с шляпой в руках, вполне спокойный. Я продолжала:
— Ваша мать была сестрой моего отца?
— Да.
— Следовательно, моей тетей…
Он отвесил мне поклон.
— И мой дядя Джон был вашим дядей Джоном? Вы, Диана и Мери — дети его сестры, а я — дочь его брата?
— Без сомнения.
— Так вы трое — мой кузен и мои кузины; значит, мы одной семьи — в нас общая кровь?
— Мы двоюродные, да.
Я наблюдала за ним. Выходило так, что я нашла брата, которым могла гордиться, которого могла любить, и двух сестер, наделенных такими душевными качествами, что уже при первом знакомстве они вызвали во мне живейшую симпатию и восхищение. Две девушки, которых я, стоя на коленях в мокрой траве, разглядывала сквозь низкое решетчатое оконце кухни Мурхауза с таким отчаянием и таким интересом, — эти девушки были моими близкими родственницами; а молодой статный джентльмен, который нашел меня почти умирающей на пороге своего дома, оказался моим кровным родственником. Какое чудесное открытие для несчастного, одинокого создания! Вот это действительно богатство! Душевное богатство! Сокровище чистых, драгоценных чувств. Вот это дар — светлый, яркий, живительный, — не то, что тяжеловесное золото — дар желанный и щедрый в своем роде, но пригнетающий, отрезвляющий своей материальностью. Охваченная внезапной радостью, я захлопала в ладоши; сердце учащенно билось, все нервы мои трепетали.
— О, как я рада! Как я рада! — восклицала я.
Сент-Джон улыбнулся.
— Разве я не говорил вам, что вы забываете о существенном, интересуясь пустяками? — заметил он. — Вы были мрачны, когда я сообщил вам, что вы получили состояние, а теперь из-за сущей безделицы разволновались.
— Безделица! Для вас это, может быть, и безделица: у вас есть сестры, зачем вам еще кузина; но ведь у меня никого не было, и вдруг сразу трое родственников, или двое, — если вы не хотите быть в их числе, — и притом они словно с неба свалились. Повторяю, я страшно рада.
Быстрыми шагами я ходила по комнате; затем остановилась, чуть не задыхаясь от мыслей, которые вспыхивали быстрей, чем я могла их охватить, понять, остановить, — мыслей о том, что могло, что должно быть и будет, и притом в самом близком будущем. Я смотрела на белую стену: она казалась мне небом, усеянным восходящими звездами, — и каждая из них, загораясь, сулила мне новую цель и радость. Теперь я могла отблагодарить спасших мне жизнь людей, которым до сих пор моя любовь ничего не в силах была дать. Если они были в тисках, я могла их освободить, если они были разлучены, я могла их соединить; независимость и обеспеченность, выпавшие мне на долю, могли стать доступными и для них. Разве нас не четверо? Двадцать тысяч фунтов, разделенные на равные доли, — это по пяти тысяч на каждого из нас: таким образом, справедливость восторжествует, и общее благополучие обеспечено. Теперь богатство уже не подавляло меня. Мне были завещаны не только деньги — но и жизнь, надежды, радость.
Не знаю, какой у меня был вид в то время, как эти мысли теснились у меня в голове, но вскоре я заметила, что мистер Риверс придвинул мне стул и ласково пытается меня усадить. Он убеждал меня успокоиться. Я с негодованием отвергла это подозрение в растерянности и беспомощности, стряхнула его руку и снова забегала по комнате.
— Напишите завтра же Диане и Мери, — сказала я, — пусть немедленно возвращаются домой; Диана говорила, что обе они считали бы себя богатыми, имея по тысяче фунтов; значит, по пяти тысяч их вполне устроит.
— Скажите, где достать стакан воды? — сказал Сент-Джон. — Возьмите же, наконец, себя в руки.
— Чепуха! А какое влияние полученное наследство окажет на вас? Может ли оно удержать вас в Англии, заставить вас жениться на мисс Оливер и зажить, как все простые смертные?
— Вы бредите, ваши мысли путаются. Я оглушил вас новостью, она слишком взволновала вас.
— Мистер Риверс! Вы просто выводите меня из терпения; я вполне владею своим рассудком; это вы не понимаете меня, вернее — делаете вид, что не понимаете.
— Может быть, я пойму, если вы объясните подробнее.
— Объяснить? Что тут объяснять? Совершенно очевидно, что двадцать тысяч фунтов — сумма, о которой идет речь, — будучи разделены поровну между одним племянником и тремя племянницами, составят по пяти тысяч на долю каждого. Я хочу одного, чтобы вы написали сестрам и сообщили о богатстве, которое им досталось.
— То есть вам, хотите вы сказать.
— Я уже изложила свою точку зрения; другой у меня нет и быть не может. Я вовсе не такая слепая, неблагодарная, черствая эгоистка, как вы думаете. Кроме того, я решила, что у меня будет свой домашний очаг и близкие. Мне нравится Мурхауз, и я буду жить в Мурхаузе; мне нравятся Диана и Мери, и я всю жизнь хочу быть связана с Дианой и Мери. Пять тысяч фунтов будут для меня радостью и благом, в то время как двадцать тысяч будут меня мучить и угнетать; двадцать тысяч никогда не были бы моими по справедливости, хотя бы и принадлежали мне по закону. Поэтому я отдаю вам то, что для меня совершенно излишне. Возражать и спорить бесполезно; давайте согласимся между собой и сразу решим этот вопрос.
— Это называется действовать по первому побуждению; вам нужно время, чтобы все обдумать, — только тогда ваше решение можно будет считать основательным.
— О, если весь вопрос в моей искренности, — это меня не беспокоит. Но скажите, вы-то сами согласны с тем, что такое решение справедливо?
— В какой-то мере оно, возможно, и справедливо, но ведь это идет вразрез со всеми обычаями. К тому же вы имеете право на все состояние: дядя нажил его собственными трудами; он волен был оставить его кому пожелает, и он оставил его вам. В конце концов вы можете владеть им по всей справедливости и с чистой совестью считать его своим.
— Для меня, — сказала я, — это столько же решение сердца, сколько и совести; я хочу побаловать свое сердце, — мне так редко приходилось это делать. Хотя бы вы спорили, возражали и докучали мне этим целый год, я все равно не откажусь от величайшего удовольствия, которое мне теперь предоставляется, — хотя бы частично отплатить за оказанное мне великое благодеяние и на всю жизнь приобрести себе друзей.
— Вам так кажется сейчас, — возразил Сент-Джон, — пока вы не знаете, что значит владеть, а следовательно, и наслаждаться богатством. Вы не можете себе представить, какой вес вам придадут эти двадцать тысяч фунтов, какое положение вы займете в обществе благодаря им, какие перспективы откроются перед вами, вы не можете…
— А вы, — перебила я его, — ни на столько не можете себе представить, до какой степени я жажду братской и сестринской любви. У меня никогда не было своего дома, у меня никогда не было братьев и сестер; я хочу и должна их иметь; скажите, вам, может быть, неприятно назвать меня сестрой?
— Джен, я и без того буду вашим братом, а мои сестры будут вашими сестрами, — для этого вам вовсе не нужно жертвовать своими законными правами.
— Брат? Да — за тысячи миль. Сестры? Да — на работе у чужих. Я богачка, купающаяся в золоте, которого не зарабатывала и ничем не заслужила. Вы же — без гроша. Замечательное равенство и братство! Тесный союз! Нежная привязанность!
— Но, Джен, ваша жажда семейных связей и домашнего очага может быть удовлетворена и иначе, чем вы предполагаете: вы можете выйти замуж.
— Опять вздор. Замуж? Я не хочу выходить замуж и никогда не выйду.
— Вы слишком много берете на себя; такое опрометчивое утверждение только доказывает, насколько вы сейчас взволнованы.
— Я не беру на себя слишком много: я знаю свои чувства, и мне претит самая мысль о замужестве. Никто не женится на мне по любви, а быть предметом денежных расчетов я не желаю. И я не хочу иметь возле себя постороннего человека — несимпатичного, чужого, непохожего на меня, — я хочу, чтобы это были родные, те, с кем у меня общие чувства и мысли. Скажите еще раз, что вы будете моим братом; когда вы произнесли эти слова, я была так довольна, так счастлива; повторите их, и, если можете, повторите искренне.
— Мне кажется, я могу; я всегда любил своих сестер и знаю, на чем основана моя любовь к ним: на уважении к их достоинствам и восхищении их способностями. У вас также есть ум и убеждения; ваши вкусы и привычки сродни привычкам и вкусам Дианы и Мери; ваше присутствие мне всегда приятно; в беседе с вами я с некоторых пор нахожу утешение и поддержку. Я чувствую, что легко и естественно найду в своем сердце место и для вас — моей третьей и младшей сестры.
— Благодарю вас; на сегодня с меня этого достаточно. А теперь лучше уходите, — если вы останетесь, вы, пожалуй, снова рассердите меня сомнениями или недоверием.
— А школа, мисс Эйр? Вероятно, ее теперь придется закрыть?
— Нет. Я останусь в ней учительницей до тех пор, пока вы не найдете мне заместительницу.
Он улыбнулся, видимо, одобряя это решение; мы пожали друг другу руку, и он ушел.
Нет нужды подробно рассказывать о борьбе, которую мне затем пришлось выдержать, о доводах, которые я приводила, чтобы разрешить вопрос наследства так, как мне хотелось. Задача оказалась не легкой, но решение мое было непоколебимо, и мои новые родственники вскоре убедились, что я действительно твердо намерена разделить наследство на четыре равные части; в глубине души они, вероятно, чувствовали справедливость этого желания и не могли не сознавать, что на моем месте поступили бы точно так же. Они в конце концов сдались и согласились поставить вопрос на решение третейского суда. Судьями были избраны мистер Оливер и один опытный юрист; оба они высказались в мою пользу. Моя цель была достигнута; акты о введении в наследство были составлены. Сент-Джон, Диана, Мери и я получили вполне достаточное средство к жизни.
Глава XXXIV
К рождеству все формальности были закончены. Приближалась праздничная пора. Я отпустила своих учениц и позаботилась о том, чтобы на прощание они не остались без подарков. Удача делает нас щедрыми, и дать хоть что-нибудь, когда мы получили много, значит лишь открыть клапан для избытка кипящих в нас чувств. Я давно уже с радостью замечала, что многие из моих учениц любят меня; при расставании с ними я еще больше в этом убедилась, так просто и искренне они выражали мне свою привязанность. Меня глубоко радовало сознание, что я завоевала какое-то место в их бесхитростных сердцах, и я обещала им на будущее время каждую неделю заглядывать в школу и заниматься с ними по часу.
Мистер Риверс пришел как раз тогда, когда я пропустила перед собой всех школьниц — их было теперь уже шестьдесят, — заперла дверь и стояла с ключом в руке, обмениваясь прощальными словами кое с кем из моих лучших учениц; это были вежливые, скромные и неглупые молодые девушки.
— Не кажется ли вам, что вы вознаграждены за эти долгие месяцы упорного труда? — спросил мистер Риверс, когда они ушли. — Не радует ли вас сознание, что вы принесли реальную пользу вашим ученицам?
— Безусловно.
— А ведь вы трудились всего несколько месяцев. Так разве целая жизнь, посвященная служению людям, совершенствованию ближних, не будет правильно прожитою жизнью?
— Да, — сказала я, — но я не могла бы всецело посвятить себя этому. Я хочу развивать и свои дарования, а не только дарования других. Теперь мне это удастся. Не напоминайте же мне больше о школе; все это позади, теперь я буду праздновать.
Лицо его стало серьезным.
— Что это? Чем это вы внезапно загорелись? Что вы собираетесь делать?
— Действовать, действовать как можно энергичней! И прежде всего я хочу попросить вас отпустить Ханну и поискать себе другую служанку.
— Она вам нужна?
— Да, пусть отправится со мной в Мурхауз. Диана и Мери вернутся домой через неделю, и я хочу, чтобы все было в порядке к их приезду.
— Понимаю, а я было подумал, что вы затеяли какое-то путешествие. Конечно, я отпущу Ханну.
— Скажите ей, чтобы она была готова к завтрашнему дню; вот ключ от школы, а утром я передам вам ключ от моего домика.
Сент-Джон взял ключ.
— Вы отдаете его с легким сердцем, — сказал он. — Мне не совсем понятно ваше веселое настроение, так как я не знаю, какое занятие вы избрали себе взамен того, которое оставляете. Какая у вас будет теперь цель в жизни, какие задачи, к чему будет влечь вас честолюбие!
— Моя ближайшая задача — вычистить (понимаете ли вы все значение этого слова?), вычистить весь Мурхауз, начиная с чердака до погреба; моя следующая задача — при помощи воска, олифы и бесчисленных суконок привести его в такой вид, чтобы все в нем блестело, как новое; моя третья задача — разместить с математической точностью каждый стул, стол, кровать, ковер; затем я разорю вас на уголь и торф, чтобы основательно протопить все комнаты, и, наконец, два последних дня перед приездом ваших сестер мы с Ханной будем сбивать яйца, чистить изюм, толочь пряности, печь сладкие рождественские булки, приготовлять начинку для пирогов и торжественно совершать ряд других кулинарных обрядов, о которых слова могут дать таким непосвященным, как вы, лишь приблизительное представление, — короче говоря, моей конечной целью будет приведение всего в полный порядок к ближайшему четвергу — дню приезда Дианы и Мери; а мои честолюбивые стремления сводятся к тому, чтобы эта встреча была идеалом всех встреч.
Сент-Джон слегка улыбнулся, однако он не был удовлетворен.
— Все это хорошо сейчас, — сказал он, — но в самом деле я надеюсь, что, когда пройдет первый порыв увлечения, вы направите ваш взор на нечто более высокое, чем домашние радости и удовольствия.
— Это лучшие вещи на свете, — перебила я его.
— Нет, Джен, нет, земная жизнь дана вовсе не для наслаждения, не пытайтесь сделать ее такой; и не для отдыха, — не предавайтесь лени.
— Наоборот, я намерена действовать.
— Джен, сейчас, конечно, все это вполне простительно; я даю вам два месяца, чтобы насладиться в полной мере вашим новым положением и прелестью столь поздно обретенных родственных связей; но затем, я надеюсь, вам наскучит Мурхауз, Мортон и общество сестер, вас перестанут удовлетворять эгоистическое спокойствие и комфорт обеспеченной жизни. Я верю, что живущая в вас энергия не даст вам покоя.
Я удивленно посмотрела на него.
— Сент-Джон, — сказала я, — с вашей стороны очень дурно так говорить. Я собираюсь быть счастливой, точно королева, а вы стараетесь посеять в моем сердце тревогу. Зачем?
— Затем, чтобы вы не зарыли в землю дарованные вам богом таланты; вам придется когда-нибудь дать в них богу отчет. Джен, предупреждаю вас, я буду наблюдать за вами неотступно и постараюсь обуздать тот чрезмерный пыл, с каким вы отдаетесь ничтожным домашним радостям. Не цепляйтесь так крепко за плотские узы; сберегите свой пыл и упорство для более достойной цели; остерегайтесь растрачивать их на ничтожное и преходящее. Вы слышите, Джен?
— Да, но с таким же успехом вы могли бы обращаться к стенке. Я чувствую, что у меня есть все основания быть счастливой, и я буду счастлива! До свиданья!
И я была счастлива в Мурхаузе; я усиленно работала, и Ханна тоже; ей нравилось, что я так весела среди этой суматохи, в доме, где все стояло вверх дном, что я умею чистить, выколачивать пыль, прибирать и стряпать. С какой радостью после одного-двух дней отчаянного беспорядка мы начали постепенно восстанавливать порядок из созданного нами же хаоса. Незадолго перед тем я совершила поездку в С…, чтобы купить кое-какую новую мебель, так как кузен и кузины предоставили мне право менять в доме все, что я захочу, и для этой цели была отложена известная сумма. Гостиную и спальни я оставила почти без изменений, так как знала, что Диане и Мери будет приятнее вновь увидеть старые столы, стулья и кровати, чем самую изысканную мебель. Однако кое-какие новшества были все же необходимы, чтобы придать праздничность возвращению сестер. Я приобрела красивые темные ковры и занавески неярких оттенков, тщательно подобранный фарфор и бронзовые статуэтки, покрывала, зеркала и туалетные принадлежности, — все это вносило новую ноту в убранство комнат и вместе с тем не слишком бросалось в глаза. Комнату для гостей и спальню, примыкавшую к маленькой гостиной, я обставила заново мебелью красного дерева с малиновой обивкой; в коридоре и на лестницах расстелила ковры. Когда все было закончено, я решила, что Мурхауз внутри является образцом веселого, непритязательного уюта, хотя снаружи он в это время года был мрачен и неприветлив.
Наконец наступил знаменательный четверг. Сестер ожидали к вечеру, и еще до сумерек были затоплены камины наверху и внизу; кухня блистала идеальной чистотой и порядком. Мы с Ханной приоделись, и все было готово.
Сент-Джон прибыл первым. Я попросила его не бывать в Мурхаузе, пока все не будет устроено; но одной мысли о происходящей в его стенах возне, о грязной и будничной работе было достаточно, чтобы держать Сент-Джона на расстоянии. Он застал меня в кухне, где я наблюдала за тем, как пеклись особые булочки к чаю. Подойдя, он спросил, удовлетворена ли я результатами своей неблагодарной работы. Я ответила приглашением произвести вместе со мной генеральный осмотр всего дома и не без труда его уговорила. Он едва ли заглядывал в открываемые мною двери. Осмотрев верхний и нижний этажи, он заявил, что я, должно быть, положила немало сил и забот, чтобы в столь короткое время произвести такие удивительные перемены, однако не выразил ни единым словом хоть какого-нибудь удовольствия по случаю обновления его жилища.
Его молчание омрачило мою радость. Мне пришло в голову, что эти новшества, быть может, нарушили дорогие ему воспоминания. Я спросила, так ли это. Разумеется, мой тон был довольно уныл.
Вовсе нет, напротив, он заметил, как внимательно и бережно я отнеслась ко всему, чем он мог дорожить; он даже опасается, что я уделила этим мелочам больше внимания, чем они заслуживают. Сколько драгоценных минут, например, потратила я на обдумывание убранства вот этой комнаты. Кстати, не могу ли я сказать, где стоит такая-то книга?
Я сняла томик с полки; он взял его и, направившись в свой привычный уголок у окна, сел и начал читать.
Право же, дорогой читатель, мне это не понравилось. Сент-Джон был прекрасный человек, но я почувствовала, что, пожалуй, он прав, называя себя черствым и холодным. Ни обычные человеческие чувства, ни домашние радости не привлекали его, мирные удовольствия жизни его не пленяли. Он действительно жил только ради самых высоких и благородных стремлений, ради благой и достойной цели, но при этом он и сам не знал отдыха и бывал недоволен, когда отдыхали другие. Глядя на его открытый лоб, холодный и бледный, как мрамор, на прекрасные черты сосредоточенного лица, я вдруг поняла, что он едва ли будет хорошим мужем и что быть его женой нелегко. Я вдруг постигла по какому-то наитию истинный характер его любви к мисс Оливер и согласилась с ним, что это лишь чувственная любовь. Мне стало ясно, что Сент-Джон должен был презирать себя за то смятение чувств, которое она в нем вызывала. Он должен был стремиться к тому, чтобы задушить и уничтожить эту любовь, так как сомневался, что она принесет им обоим прочное счастье. Я увидела, что Сент-Джон сделан из того же материала, из которого природа создает христианских и языческих подвижников.
«Гостиная не его сфера, — размышляла я. — Гималайский хребет, африканские джунгли, даже зачумленное гнилое Гвинейское побережье больше подходит для такой натуры. Как же ему не избегать домашнего очага? Здесь все ему чуждо, его силы скованы, они не могут развернуться и проявиться во всей полноте. На трудном и опасном поприще, там, где проверяется мужество и необходимы энергия и отвага, он будет говорить и действовать как признанный глава и начальник. Но даже беспечный ребенок будет иметь перед ним преимущество у этого очага. Он прав, что избрал деятельность миссионера, — теперь я это понимаю».
— Едут! Едут! — закричала Ханна, распахивая дверь гостиной. В тот же миг старый Карло радостно залаял.
Я выбежала из дома. Было уже темно, но явственно слышался стук колес. Ханна зажгла фонарь. Экипаж остановился у калитки; кучер открыл дверцу, и одна за другой оттуда вышли две знакомые мне фигуры.
Я бросилась к ним на шею и прижалась лицом сначала к нежной щеке Мери, затем к струящимся локонам Дианы. Обе девушки смеялись, они целовали меня и Ханну, гладили Карло, который обезумел от восторга; взволнованно спрашивали, все ли благополучно, и, успокоенные, наконец вошли в дом.
Обе они устали от долгой и тряской езды, продрогли на морозном ветру; но их милые лица быстро расцвели у веселого огня. Пока кучер и Ханна вносили вещи, они спросили, где Сент-Джон. В эту минуту он вышел из гостиной. Сестры кинулись ему на шею. Он спокойно поцеловал каждую из них, вполголоса произнес несколько приветственных слов, постоял немного, отвечая на вопросы, а потом заявил, что будет ожидать их в гостиной, и удалился туда, как в укромное убежище.
Я зажгла свечи, чтобы идти наверх, но Диана сначала распорядилась покормить их возницу, а затем обе девушки последовали за мной. Сестры были в восторге от отделки и убранства своих комнат, от новых драпировок, ковров и расписных фарфоровых ваз и горячо благодарили меня. Я радовалась, что угодила им и что мои труды придали дополнительную прелесть их радостному возвращению домой.
Это был восхитительный вечер. Мои кузины были так веселы и оживленны, так много и увлекательно рассказывали, что молчаливость Сент-Джона меньше бросалась в глаза, он искренне радовался возвращению сестер, однако их шумное оживление, их веселая болтовня явно его раздражали. Приезд Дианы и Мери был ему приятен, но сопровождавшие это событие суматоха и оживление сердили его. Ему, видимо, хотелось, чтобы поскорее наступило более спокойное завтра. В самый разгар нашего веселья, примерно через час после чая, раздался стук в дверь. Вошла Ханна и сказала, что, хотя время уже позднее, пришел какой-то бедный парень и просит, чтобы мистер Риверс посетил его мать, которая умирает.
— Где они живут, Ханна?
— У самого Уиткросс-Брау, добрых четыре мили отсюда, а идти все кочками да болотами.
— Скажите, что я приду.
— Поверьте мне, сэр, лучше бы вам не ходить. В темноте хуже нет дороги; через болото вам не пробраться. И потом ночь-то какая ненастная: ветер так и валит с ног. Лучше передать ей, сэр, что вы придете поутру.
Но Сент-Джон был уже в коридоре и надевал свой плащ; без ропота, без возражений он вышел. Было девять часов вечера. Вернулся он около полуночи, проголодавшийся и усталый, но казался счастливее, чем при уходе. Он выполнил свой долг, одержал над собою новую победу, проявил силу воли и самоотречения и был теперь доволен собою.
Боюсь, что всю последующую неделю мы испытывали его терпение. Наступило рождество; мы не занимались ничем определенным, проводили время в веселых домашних развлечениях. Целебный аромат вересковых зарослей, непринужденность домашней жизни, заря благополучия действовали на душу Дианы и Мери как живительный эликсир; они были веселы с утра и до полудня, и с полудня до ночи. Они могли без умолку говорить, и их речи, остроумные, содержательные и оригинальные, так очаровывали меня, что я предпочитала участие в их беседе всяким другим занятиям. Сент-Джон не порицал нашего оживления, но уклонялся от участия в нем и редко бывал дома: его приход был велик, население жило разбросанно, и ему каждый день приходилось навещать больных и бедняков в разных концах прихода.
Однажды утром, за завтраком, Диана, просидев несколько минут в раздумье, спросила брата, не изменились ли его планы.
— Не изменились и не изменятся, — последовал ответ. И он сообщил нам, что его отъезд из Англии теперь окончательно намечен на будущий год.
— А Розамунда Оливер? — спросила Мери. Эти слова, казалось, против воли сорвались с ее уст; видно было, что она с удовольствием взяла бы их обратно. Сент-Джон, державший в руках книгу (у него была дурная привычка читать за столом), закрыл ее и поднял глаза на сестру.
— Розамунда Оливер, — сказал он, — выходит замуж за мистера Гренби; это один из самых родовитых и уважаемых жителей С…, внук и наследник сэра Фредерика Гренби; я вчера узнал об этом от ее отца.
Мы невольно обменялись взглядом, потом все трое посмотрели на него; лицо его было неподвижно.
— Этот брак кажется мне чересчур поспешным, — сказала Диана, — они только что познакомились.
— Всего два месяца; они встретились в октябре на традиционном балу в С… Но там, где нет препятствий, где брак во всех отношениях желателен, нет нужды в отсрочках, они поженятся, как только замок С…, который сэр Фредерик отдает им, будет готов для их приема.
В первый же раз, что я осталась наедине с Сент-Джоном после его сообщения, у меня явилось сильное желание спросить у него, не огорчен ли он этим событием; но, казалось, он так мало нуждался в сочувствии, что я не решалась его выказать и даже устыдилась при воспоминании о том, на что я однажды дерзнула. К тому же я отвыкла разговаривать с ним: он снова облекся в ледяную броню своей замкнутости, которая замораживала и мою непосредственность. Несмотря на свое обещание, Сент-Джон относился ко мне не так, как к своим сестрам. Он по мелочам то и дело холодно подчеркивал разницу в отношении к нам, и это мало способствовало развитию нашей дружбы; словом, теперь, когда я была его признанной родственницей и жила под одной кровлей с ним, я чувствовала, что нас разделяет нечто большее, чем в то время, когда он видел во мне только сельскую учительницу. Я вспомнила, как далеко он зашел однажды в своей откровенности, и мне была непонятна его теперешняя холодность.
Поэтому я очень удивилась, когда он внезапно поднял голову от стола, над которым склонился, и сказал:
— Вы видите, Джен, бой был дан, и победа одержана. — От удивления я не сразу ему ответила, но после минутного колебания сказала:
— А вы уверены, что эта победа не обошлась вам слишком дорого? Еще одна такая победа, и вы будете конченным человеком.
— Не думаю; а если бы даже и так, это неважно; да мне больше и не придется вести такого рода борьбу. Исход битвы решает дело, путь свободен; и я благодарю всевышнего. — Сказав это, он вновь погрузился в молчание и в свои бумаги.
Когда наше счастливое волнение (то есть Дианы, Мери и мое) улеглось и мы вернулись к своим привычкам и постоянным занятиям, Сент-Джон стал чаще бывать дома; иногда он просиживал в одной комнате с нами целые часы. Мери рисовала, Диана занималась общеобразовательным чтением, курс которого она, к моему удивлению, решила пройти, я корпела над немецким языком, а он погружался в свою таинственную работу — тоже своего рода мистику — изучение одного из восточных языков, знание которого он считал для своих планов необходимым.
В эти часы, в своем уголке, он казался спокойным и сосредоточенным; но его голубые глаза порой отрывались от загадочных письмен экзотической грамматики, блуждали по комнате и подолгу, с настойчивым вниманием, останавливались на нас, его товарищах по занятиям; если кто-нибудь ловил его взгляд, он сейчас же отводил его; однако этот взгляд все вновь и вновь возвращался к нашему столу. Я недоумевала, что бы это могло означать. Так же непонятно было мне его неизменное удовольствие по такому, казалось бы, незначительному поводу, как мои еженедельные посещения мортонской школы; еще больше удивлялась я тому, что, когда была плохая погода — шел снег или дождь или дул сильный ветер — и кузины убеждали меня остаться дома, он каждый раз высмеивал их опасения и понуждал меня исполнить мой долг, невзирая на разбушевавшиеся стихии.
— Джен вовсе не такое слабое создание, как вы воображаете, — говорил он, — она так же мало боится ветра, дождя или снега, как любой из нас. У нее крепкий и выносливый организм; она легче приспособляется к переменам климата, чем иные люди, более, казалось бы, крепкие на вид.
И когда я возвращалась утомленная, измученная непогодой, я никогда не смела жаловаться, из боязни рассердить его; при всех обстоятельствах он требовал мужества; всякое малодушие вызывало в нем негодование.
Но однажды мне было разрешено остаться дома, так как я была сильно простужена. Вместо меня в Мортон пошли кузины; я сидела и читала Шиллера, а Сент-Джон был погружен в свою восточную каббалистику. Окончив перевод, я случайно взглянула в его сторону и сразу же очутилась под магическим действием сверлящих голубых глаз. Не могу сказать, сколько времени он рассматривал меня сверху донизу и вдоль и поперек; этот взгляд был так пронзителен и так холоден, что на миг мной овладел суеверный страх, словно в комнате находилось сверхъестественное существо.
— Джен, что вы делаете?
— Изучаю немецкий язык.
— Я хочу, чтобы вы бросили немецкий язык и занялись индустани.
— Вы это серьезно говорите?
— Очень серьезно, и даже настаиваю на этом; я объясню вам, почему.
Затем он рассказал мне, что язык, который он изучает, и есть индустани, но что, продвигаясь вперед, он забывает основы и ему будет весьма полезно иметь ученицу, с которой он сможет вновь и вновь повторять элементы языка и таким образом окончательно закрепит их в памяти; что он некоторое время колебался между мной и своими сестрами, но остановился на мне, так как я самая усидчивая из всех троих. Не окажу ли я ему этой услуги? Вероятно, мне недолго придется приносить эту жертву, так как остается всего лишь три месяца до его отъезда.
Такому человеку, как Сент-Джон, нелегко было отказать; чувствовалось, что каждое впечатление, будь то боль или радость, глубоко врезывалось ему в душу и оставалось там навсегда. Я согласилась. Когда кузины вернулись и Диана узнала, что брат похитил у нее ученицу, она рассмеялась; обе они заявили, что ни за что не поддались бы ни на какие уговоры Сент-Джона. Он отвечал спокойно:
— Я знаю.
Сент-Джон оказался крайне терпеливым и мягким, однако требовательным учителем; он задавал мне большие, трудные уроки, и, когда я их выполняла, не скупился на одобрение. Постепенно он приобретал надо мной известное влияние, которое отнимало у меня свободу мысли: его похвалы и внимание больше тяготили меня, чем его равнодушие. Я уже не решалась при нем свободно говорить и смеяться, ибо ощущение какой-то скованности упорно и назойливо напоминало мне, что живость (по крайней мере во мне) ему неприятна. Я знала, что он допускает только серьезные настроения и занятия и ничто другое при нем невозможно. Когда он говорил: «пойдемте» — я шла, «ступайте» — я уходила, «сделайте то-то» — я делала. Но это рабство было мне тягостно, и я не раз желала, чтобы он, как прежде, не замечал меня.
Однажды вечером, когда мы втроем окружили его, прощаясь перед отходом ко сну, он, по своему обыкновению, поцеловал обеих сестер и, также по своему обыкновению, пожал мне руку. Диана, шаловливо настроенная в этот вечер (она не была подвластна мучительному гнету его воли, ибо обладала сама не менее сильной волей — правда, иначе направленной), внезапно воскликнула:
— Сент-Джон, ты называешь Джен своей третьей сестрой, а обращаешься с ней не как с сестрой: что же ты ее не поцелуешь?
Она подтолкнула меня к нему. Я решила, что Диана слишком уж разошлась, и смутилась. Но не успела я опомниться, как Сент-Джон наклонил голову, его прекрасное античное лицо очутилось на одном уровне с моим, его пронзительные глаза вопрошающе посмотрели в мои — и он поцеловал меня. На свете не существует ни мраморных, ни ледяных поцелуев — но именно так мне бы хотелось назвать поцелуй моего преподобного кузена. Быть может, существуют испытующие поцелуи, — таким именно и был его поцелуй. Поцеловав меня, он посмотрел, какое это на меня произведет впечатление; оно отнюдь не было потрясающим: я уверена, что не покраснела, скорее слегка побледнела, ибо почувствовала, что этот поцелуй был как бы печатью, скрепившей мои оковы. С тех пор он никогда не забывал выполнить этот обряд, и та спокойная серьезность, с какой я принимала его поцелуй, казалось, даже придавала ему в глазах Сент-Джона некоторую прелесть. Что до меня, то мне с каждым днем все больше хотелось угождать ему, но и с каждым днем становилось яснее, что для этого мне придется в значительной мере отказаться от себя, подавить часть своих способностей, сообщить новое направление своим вкусам, принудить себя стремиться к целям, к которым у меня нет врожденного влечения. Он хотел воспитать меня для таких возвышенных сфер, которые были мне недоступны; для меня было мучением постоянно стремиться к идеалу, который он ставил передо мной. Достигнуть его было так же невозможно, как придать моим неправильным чертам непогрешимую классическую правильность его лица или сообщить моим изменчивым зеленым глазам лазурную синеву и великолепный блеск его глаз.
Однако не одно только его влияние угнетало меня. С некоторых пор у меня были причины для грусти; душу томила жестокая боль, отравлявшая радость жизни в самом ее истоке: это были муки неизвестности.
Быть может, вы думаете, читатель, что среди всех этих перемен я забыла мистера Рочестера? Ни на миг! Образ его не покидал меня, ибо это был не мираж, который способны рассеять солнечные лучи, не рисунок, начертанный на песке, который может смести буря, — он был как имя, высеченное на каменной плите, которое будет существовать так же долго, как и мрамор, на котором оно вырезано. Страстное желание узнать, что с ним, преследовало меня повсюду. Когда я жила в Мортоне, каждый вечер, вернувшись в свой коттедж, я думала об этом; и теперь, в Мурхаузе, каждую ночь, лежа в кровати, упорно размышляла все о том же.
Ведя необходимую переписку с мистером Бриггсом относительно наследства, я осведомилась, не знает ли он, где находится мистер Рочестер и здоров ли он; однако, как и предполагал Сент-Джон, Бриггс решительно ничего не знал о моем бывшем хозяине. Тогда я написала миссис Фэйрфакс. Я была уверена, что это верный путь, и надеялась вскоре получить ответ. К моему огорчению, прошло две недели, а ответа все не было. Но когда недели стали уже месяцами, а почта, приходившая каждый день, так ничего мне и не приносила, — мною овладело мучительное беспокойство.
Я снова написала; ведь мое первое письмо могло пропасть. Эта новая попытка дала мне новую надежду; она сияла мне в течение некоторого времени, затем также потускнела и увяла: я не получила в ответ ни строчки, ни слова. Когда прошло полгода в напрасном ожидании, моя надежда умерла; тогда я затосковала.
Стояла чудесная, сияющая весна, но она не радовала меня. Приближалось лето. Диана старалась меня развлечь; она уверяла, что у меня нездоровый вид, и хотела ехать со мной на морское побережье. Но Сент-Джон воспротивился этому; он заявил, что мне нужны не развлечения, а занятия; моя теперешняя жизнь слишком бесцельна, а между тем мне необходима цель. Вероятно, для того чтобы возместить этот пробел, он продолжал со мной уроки индустани и становился все требовательней; а я, словно потеряв рассудок, и не думала ему противиться — у меня не было на это сил.
Однажды я пришла на занятия более печальная, чем обычно; это было вызвано мучительным разочарованием: утром Ханна сказала, что на мое имя пришло письмо, но когда я спустилась вниз, почти уверенная, что наконец получу долгожданные вести, я нашла лишь незначительную деловую записку от мистера Бриггса. Это огорчение вызвало у меня слезы; и теперь, пока я корпела над замысловатыми письменами и цветистым стилем индийского писателя, мои глаза то и дело наполнялись слезами.
Сент-Джон подозвал меня и предложил читать; я попыталась, но голос изменял мне: слова прерывались рыданиями. Мы были с ним одни; Диана занималась музыкой в гостиной. Мери возилась в саду, — был чудесный майский день, ясный, солнечный, с легким ветерком. Сент-Джон не выказал удивления по поводу моих слез и даже не спросил меня о причине, он только сказал:
— Мы подождем несколько минут, Джен, покамест вы не успокоитесь.
И между тем как я старалась изо всех сил подавить этот приступ горя, он сидел, опершись на стол, безмолвно и терпеливо, напоминая врача, наблюдающего пытливыми очами заранее им предусмотренный и вполне понятный ему кризис в течении болезни его пациента. Подавив рыдания, я отерла глаза, пробормотав, что плохо себя чувствую сегодня. Я продолжала свои занятия, и урок прошел, как обычно. Сент-Джон убрал книги, запер стол и сказал:
— А теперь, Джен, вы пойдете со мной гулять.
— Я позову Диану и Мери.
— Нет. Сегодня утром мне нужна только одна спутница, и этой спутницей будете вы; оденьтесь и выходите через черный ход; идите по дороге к вершине Марш-Глен; я догоню вас через минуту.
Я не знаю ни в чем середины; и никогда в своих отношениях с людьми более властными и твердыми, наделенными характером, противоположным моему, я не могла найти середины между полной покорностью и решительным бунтом. Я всегда честно повиновалась до той минуты, когда во мне происходил взрыв протеста, иной раз прямо с вулканической силой; но так как в данном случае ни обстоятельства, ни мое душевное состояние не побуждали меня к бунту, я покорно выполнила приказание Сент-Джона и через десять минут уже шагала рядом с ним по глухой тропе.
С запада дул ветерок: он проносился над холмами, напоенный сладким благоуханием вереска и камыша; небо было безоблачно синее, река, вздувшаяся от весенних дождей, неслась вниз по лощине, полноводная и прозрачная, то отражая золотые лучи солнца, то сапфирную синеву неба. Свернув с тропы, мы зашагали по мягкой луговине с изумрудно-зеленой травой, пестревшей мелкими белыми цветочками и усеянной крупными золотыми звездами желтых цветов; холмы обступили нас со всех сторон.
— Давайте отдохнем, — сказал Сент-Джон, когда мы подошли к утесам, охранявшим ущелье, в конце которого ручей низвергался шумным водопадом; немного поодаль высились горы, уже без покрова травы и цветов, одетые лишь вереском и украшенные каменными глыбами. Здесь безлюдье превращалось в пустыню, веселые тона сменялись мрачными; горы словно стерегли это печальное одиночество, это последнее прибежище тишины…
Я села. Сент-Джон стоял возле меня. Он смотрел то на ущелье, то на стремнину; его взор то скользил по волнам, то поднимался к небу, от которого вода казалась голубой; он снял шляпу, и ветерок шевелил его волосы и ласкал его лоб. Чудилось, будто он находится в таинственном общении с гением этих мест, он словно прощался с ними взглядом.
— Все это я увижу во сне, — сказал он, — когда буду спать на берегах Ганга, и еще раз — в предназначенный час, когда иной сон сойдет на меня, на берегах еще более таинственной реки.
Странные слова странной привязанности! Суровой была любовь этого патриота к своему отечеству!
Сент-Джон также сел; по крайней мере полчаса мы молчали, затем он снова заговорил:
— Джен, я уезжаю через полтора месяца. Я заказал себе место на судне, которое отплывает в Ост-Индию двадцатого июня.
— Господь да сохранит вас, вы будете трудиться на его ниве, — ответила я.
— Да, — сказал он, — в этом моя гордость и радость. Я слуга непогрешимого владыки. Я не вверяю себя человеческому руководству, не подчиняюсь низменным законам и греховной власти подобных мне слабых земных червей; мой властелин, мой законодатель, мой капитан — Всевышний. Мне странно, что все вокруг меня не горят желанием вступить под его знамена.
— Не всем дано то, что дано вам, и было бы безрассудно слабому идти рядом с сильным.
— Я говорю не о слабых, мне нет дела до них. Я обращаюсь только к тем, кто достоин этого труда и способен его выполнить.
— Таких мало, и их нелегко найти.
— Вы правы; но если их найдешь, надо будить их, звать и увлекать за собой, показывать им, каковы их дарования и зачем они им даны, открывать им волю небес, предлагать от имени бога место в рядах его избранников.
— Если они действительно достойны такой задачи, разве им сердце не подскажет?
Мне казалось, словно страшные чары сгущаются вокруг и овладевают мной; я боялась, что этот человек произнесет какие-то роковые слова, которые закрепят его власть надо мной.
— А что говорит ваше сердце? — спросил Сент-Джон.
— Мое сердце молчит… мое сердце молчит, — отвечала я, потрясенная и испуганная.
— Тогда я буду говорить за него, — продолжал он своим звучным, решительным голосом. — Джен, поезжайте со мной в Индию, поезжайте как моя помощница, как ближайший мой товарищ.
Земля и небо закружились передо мной, горы заколебались. Казалось, я услышала призыв небес. Но я не была апостолом, вестник был мне незрим, и я не могла последовать призыву.
— О Сент-Джон! — воскликнула я. — Сжальтесь надо мной!
Но я взывала к человеку, который, следуя тому, что он считал своим долгом, не знал ни жалости, ни колебаний. Он продолжал:
— Бог и природа предназначили вас стать женой миссионера. Они наделили вас не внешними, но духовными дарами; вы созданы для труда, не для любви. Вы должны, вы будете женой миссионера. Вы будете моей: я зову вас не ради своего удовольствия, но для служения всевышнему.
— Но я не гожусь для этого, я не чувствую призвания, — взмолилась я.
Видно, он рассчитывал на такие возражения и нисколько не рассердился. И действительно, когда, прислонясь к скале и скрестив руки на груди, он устремил на меня свой взгляд, я поняла, что он подготовился к долгой и упорной борьбе и запасся терпением, не сомневаясь, что в этой борьбе он победит.
— Смирение, Джен, — сказал он, — основа всех христианских добродетелей; вы справедливо говорите, что не годитесь для этого дела. Но кто для него годится? И кто, будучи поистине призван, считает себя достойным такого призвания? Вот я, например, что я такое? Только прах и тлен. Вместе со святым Павлом я признаю себя величайшим из грешников; но я не позволяю сознанию моей греховности смущать меня. Я знаю своего небесного учителя, знаю, что он справедлив и всемогущ; и если он избрал столь слабое орудие для свершения великой задачи, он из безбрежного океана своей благодати устранит несоответствие между орудием и целью. Думайте, как я, Джен, верьте, как я. Я зову вас опереться на предвечного; не сомневайтесь, он выдержит бремя вашей человеческой слабости.
— Мне чужда жизнь миссионера, я не знаю, в чем его обязанности.
— Тут я, несмотря на все свои несовершенства, смогу оказать вам нужную помощь: я буду разъяснять вам ежечасно вашу задачу, всегда буду подле вас, помогая во всякое время. Это понадобится только вначале: вскоре (я знаю ваши способности) вы станете такой же деятельной и искусной, как я, и уже не будете нуждаться в моих наставлениях.
— Но силы, — разве у меня есть силы для такого дела? Я не чувствую их. Ничто во мне не откликается на ваш призыв. Передо мной не вспыхивает свет, жизнь не озаряется, я не слышу голоса, который бы наставлял или ободрял меня. О, если бы вы только знали, моя душа похожа на мрачную темницу, в недрах которой трепещет жалкий страх — страх, что вы убедите меня отважиться на то, чего я не в силах свершить!
— У меня для вас готов ответ, выслушайте его. Я наблюдаю за вами с первой минуты нашей встречи и достаточно изучил вас в течение десяти месяцев. За это время я подвергал вас различным испытаниям. И что же я увидел и установил? Ваши занятия в сельской школе доказали мне, что вы можете хорошо, аккуратно и добросовестно выполнять работу, даже не соответствующую вашим привычкам и склонностям; я убедился, что вы обладаете необходимыми способностями и тактом; вы добились своего, потому что настойчиво шли к цели. Вы спокойно учились жить. И внезапно к вам пришло богатство. Я угадал в вас душу, чистую от грехов Демоса; жадность осталась вам чуждой. В той твердой решимости, с какой вы разделили свое состояние на четыре части, оставив себе только одну и пожертвовав остальными во имя справедливости, я узнаю душу, жаждущую жертвы. В той готовности, с какой вы, по моему предложению, занялись предметом, интересовавшим вас, и тотчас заменили его другим, интересовавшим меня, в том неутомимом рвении, с каким вы продолжаете заниматься им до сих пор, в той неиссякающей энергии и невозмутимости, с какими вы преодолеваете его трудности, я вижу все те черты, которые ищу. Джен, вы послушны, усердны, бескорыстны, верны, постоянны и мужественны; в вас много мягкости и вместе с тем много героизма; перестаньте сомневаться в себе — я доверяю вам безгранично. Ваша деятельность как руководительницы индийской школы и моей помощницы в работе с индийскими женщинами будет для меня неоценимой поддержкой.
Стальной обруч сжимался вокруг меня; уговоры Сент-Джона медленно и неуклонно сковывали мою волю. Мне чудилось, что его последние слова открывают передо мной путь, казавшийся мне до сих пор недоступным. Моя работа, которую я считала до сих пор такой ничтожной, такой случайной, по мере того как он говорил и как бы творчески воссоздавал ее, приобрела более четкие очертания и более глубокий смысл. Сент-Джон ждал ответа. Перед тем как дать его, я попросила полчаса на размышления.
— Очень охотно, — согласился он и, встав, прошел дальше по тропинке, бросился наземь среди вереска и отдался своим мыслям.
«Я в силах сделать то, что он от меня требует; нельзя с этим не согласиться, — говорила я себе. — Но я чувствую, что недолго проживу под лучами индийского солнца. А что тогда? Но ему это все равно. Когда придет мой смертный час, он смиренно и безропотно вернет меня богу, который меня вручил ему. Все это для меня вполне ясно. Оставляя Англию, я покину любимую, но опустевшую для меня страну, — мистера Рочестера здесь нет; а если бы он даже и находился здесь, какое это может иметь для меня значение? Мне предстоит теперь жить без него; что может быть бессмысленней и малодушней, чем влачить свои дни в чаянии какой-то несбыточной перемены в моей судьбе, которая соединила бы меня с ним! Без сомнения (как однажды сказал Сент-Джон), я должна искать новых интересов в жизни, взамен утраченных; и разве дело, которое он сейчас мне предлагает, не самое достойное из всех, какие человек может избрать, а бог — благословить? Разве оно не заполнит благородными заботами и высокими стремлениями ту пустоту, которая оставалась после разбитых привязанностей и разрушенных надежд? Видимо, я должна ответить „да“, — и тем не менее я содрогаюсь при мысли об этом. Увы! Если я пойду за Сент-Джоном, я отрекусь от какой-то части самой себя; если я поеду в Индию, я обреку себя на преждевременную смерть. А что будет со мной до тех пор? О, я прекрасно знаю. Я это отчетливо вижу. Трудясь в поте лица, чтобы угодить Сент-Джону, я превзойду все его самые смелые ожидания. Если я поеду с ним, если принесу ту жертву, которой он от меня требует, — эта жертва будет полной: я положу на алтарь свое сердце, все свои силы, всю себя. Сент-Джон никогда не полюбит меня, но он будет мною доволен. Он обнаружит во мне энергию, какой и не подозревал, источник сил, о котором даже не догадывался. Да, я смогу нести такой же тяжкий труд, как и он, и столь же безропотно.
Итак, я могла бы согласиться на его предложение, если бы не одно условие, ужасное условие: он хочет, чтобы я стала его женой, а любви ко мне у него не больше, чем вот у того сурового гигантского утеса, с которого падает в стремнину пенистый поток. Он ценит меня, как воин хорошее оружие, — и только. Пока он не муж мне, меня это мало трогает; но могу ли я допустить, чтобы он осуществил свои расчеты, хладнокровно выполнил свои планы, пройдя со мною через брачную церемонию? Могу ли я принять от него обручальное кольцо и претерпеть всю видимость любви (он, без сомнения, будет педантично соблюдать ее), зная, что самое основное при этом отсутствует? Каково мне будет сознавать, что любая его ласка является жертвой, приносимой из принципа? Нет, такое мученичество было бы чудовищным. Я ни за что не пойду на это. Я могу сопровождать его как сестра, но не как жена; так я и скажу ему».
Я взглянула на холм, Сент-Джон все еще лежал там, как поверженная колонна: лицо его было обращено ко мне, взгляд пронизывал меня насквозь. Он поднялся на ноги и подошел ко мне.
— Я готова поехать в Индию, если останусь свободной.
— Ваш ответ требует пояснения, — сказал Сент-Джон. — Он неясен.
— Вы были до сих пор моим названым братом, а я — вашей названой сестрой; сохраним прежние отношения; нам лучше не вступать в брак.
Он покачал головой.
— В данном случае подобные отношения невозможны. Другое дело, если бы вы были моей родной сестрой. Тогда бы я взял вас с собой и не искал бы себе жены. Но в этих обстоятельствах наш союз или должен быть освящен и закреплен церковью, или его не должно существовать вовсе; практически возможен только такой план. Разве вы этого не видите, Джен? Подумайте минутку, у вас такой ясный ум, вы сразу поймете.
Но сколько я ни думала, здравый смысл подсказывал мне лишь одно, — а именно, что мы не любим друг друга так, как должны любить муж и жена; отсюда следовало, что мы не должны вступать в брак. Так я и сказала.
— Сент-Джон, — заявила я, — я считаю вас братом, вы меня — сестрой; пусть так будет и впредь.
— Нельзя, нельзя, — отвечал он резко и твердо, — это будет не то. Вы сказали, что согласны поехать со мной в Индию, — вспомните, ведь вы сказали это!
— Да, при одном условии.
— Так, так! Значит, против главного пункта — отъезда со мной из Англии и участия в моих будущих трудах — вы не возражаете. Вы, можно сказать, уже положили руку на плуг; вы слишком последовательны, чтобы ее снять. И у вас должна быть лишь одна мысль: как лучше всего выполнить то дело, за которое вы взялись. Чтобы это осуществить, вам необходим сотрудник: не брат — это слишком слабые узы, — но супруг. Мне также не нужна сестра: ее могут в любое время у меня отнять. Мне нужна жена, единственная помощница, которой я буду руководить в жизни и которую смогу удержать возле себя до самой смерти.
Я содрогнулась при этих славах: я чувствовала его власть, его волю всем своим существом.
— Найдите себе кого-нибудь другого, Сент-Джон, более подходящего…
— Подходящего для моих целей, вы хотите сказать, для моей миссии? Повторяю вам, мне не нужен бесцветный, средний человек, рядовой человек со всеми присущими ему эгоистическими чувствами, — мне нужен миссионер.
— Я отдам вашему делу всю свою энергию, ведь только это вам и нужно, я вам не нужна; для вас я только шелуха, которую терпят ради зерна, — вот я и оставлю ее себе.
— Вы не можете, не смеете этого делать. Неужели вы думаете, что господь удовлетворится половиной жертвы? Неужели он примет неполноценный дар? Я борюсь за дело господне, я зову вас под его стяг. Во имя его я не могу принять условной присяги, она должна быть безоговорочной.
— О, богу я готова отдать свое сердце, — сказала я. — Но вы в нем не нуждаетесь.
Я не могу поклясться, читатель, что в тоне, каким я произнесла эти слова, и в чувстве, какое я при этом испытывала, не было затаенного сарказма. До сих пор я ощущала безмолвный страх перед Сент-Джоном оттого, что не понимала его. Я боялась его, не будучи в силах разобраться, что в нем святого и что — человеческого; но этот разговор мне многое объяснил, передо мной как бы раскрылась вся сущность Сент-Джона. Я увидала его слабости, я поняла их. Мне стало ясно, что здесь, на поросшем вереском бугре, я сижу у ног человека, который, несмотря на свое прекрасное лицо, столь же грешен, как я сама. Словно завеса упала с моих глаз, и я увидела перед собою черствость и деспотизм. Ощутив в нем эти черты, я почувствовала его несовершенство и вооружилась мужеством. Это был равный мне человек, с которым я могла бороться и которому могла при случае дать отпор.
На некоторое время между нами воцарилось молчание; наконец я решилась взглянуть ему в лицо. В его взгляде, устремленном на меня, было угрюмое удивление и тревожный вопрос: «Неужели она смеется надо мной? Что это значит?»
— Не надо забывать, что это предмет чрезвычайной важности, — продолжал он, — предмет, о котором думать или говорить легковесно — грех. Надеюсь, Джен, вы вполне серьезно сказали, что готовы отдать свое сердце богу, — это все, что мне нужно. Вырвите только из сердца все земные привязанности и отдайте его творцу, и тогда осуществление царства божьего на земле будет вашей единственной радостью и целью и вы будете готовы в любую минуту сделать все, что этому способствует. Вы увидите, сколько новых сил даст нам наш телесный и духовный союз — единственный союз, который соединяет навеки судьбы и цели человеческих существ. И если вы отбросите все мелочные причуды, все нелепые предрассудки, все сомнения относительно степени, характера, силы или нежности испытываемых нами чувств, — то вы поспешите вступить в этот союз.
— Так ли это? — отозвалась я с недоверием и взглянула на его черты, прекрасные в своей гармоничности, но страшные своей беспощадной суровостью, на его энергичный, но холодный лоб, на глаза, яркие, глубокие и пронизывающие, но лишенные нежности, на его высокую, внушительную фигуру, — и представила себе, что я его жена. О нет, никогда! Быть его викарием, его спутницей — другое дело; в этой роли я готова переплыть с ним океан; трудиться над общим делом под лучами палящего солнца в азиатских пустынях; восхищаться его мужеством, самоотверженностью, энергией и состязаться с ним; безропотно покориться его властности; спокойно улыбаться, видя его неискоренимое честолюбие; всегда отделять в нем христианина от человека — глубоко чтить первого и охотно прощать второго. Конечно, мне придется нередко страдать, будучи связанной с ним лишь этими узами; мое тело будет в оковах, но мое сердце и душа останутся свободными. Я по-прежнему буду принадлежать себе; в минуты одиночества я смогу отдаваться свойственным мне от природы, непорабощенным желаниям. В моей душе будет уголок, всецело принадлежащий мне, куда ему не будет доступа и где втайне будут жить искренние, независимые чувства, которых не коснется его суровость, не растопчет его размеренная воинственная поступь. Но быть его женой, вечно возле него, вечно на привязи, укрощать свой внутренний жар, таить его в недрах своей души и незримо сгорать, не выдавая своих чувств ни единым стоном, хотя бы скрытое пламя и пожирало меня, — нет, это было бы выше моих сил!
— Сент-Джон! — воскликнула я под влиянием этих мыслей.
— Ну? — отозвался он ледяным тоном.
— Повторяю: я готова поехать с вами в качестве вашего товарища-миссионера, но не в качестве жены. Я не могу выйти за вас замуж и всецело принадлежать вам.
— Нет, вы должны всецело быть моей, — отвечал он твердо, — иначе все эти разговоры бесполезны. Как могу я, мужчина, которому нет еще тридцати, увезти с собой в Индию девятнадцатилетнюю девушку, если она не станет моей женой? Как могли бы мы всегда быть вместе — то в пустыне, то среди диких племен, — не будучи повенчанными?
— Отлично сможем, и при каких угодно обстоятельствах, — живо возразила я. — Совершенно так же, как если бы я была вашей родной сестрой или мужчиной и священником, вроде вас.
— Известно, что мы не брат и сестра, и я не могу выдавать вас за сестру; сделать это — значит навлечь на нас обоих оскорбительные подозрения. К тому же, хотя у вас и мужской ум, но сердце женское, — словом, из этого не выйдет ничего хорошего.
— Выйдет, — настаивала я с некоторым вызовом, — вот увидите. У меня женское сердце, но не в том, что касается вас; к вам у меня лишь чувство преданной дружбы, доверие товарища по оружию, сестринская привязанность, если хотите, покорность и почтение ученика к своему учителю, — ничего больше, не беспокойтесь.
— Все то, что мне нужно, — сказал он как бы про себя. — Именно то, что мне нужно. Но есть препятствия, их надо устранить. Уверяю вас, Джен, вы не будете раскаиваться, выйдя за меня замуж; мы должны пожениться. Повторяю: иного пути нет; и, без сомнения, брак вызовет чувство, которое оправдает наш союз даже в ваших глазах.
— Я презираю ваше представление о любви, — невольно вырвалось у меня; я поднялась и теперь стояла перед ним, прислонившись спиною к скале. — Я презираю то лживое чувство, которое вы мне предлагаете. Да, Сент-Джон, я презираю и вас, когда вы мне это предлагаете!
Он пристально посмотрел на меня, плотно сжав свой красиво очерченный рот. Был ли он разгневан или удивлен — трудно сказать: он в совершенстве владел своим лицом.
— Я не ожидал от вас таких слов, — сказал он. — Мне кажется, я не сделал и не сказал ничего, заслуживающего презрения.
Я была тронута его кротким тоном и поражена спокойным, торжественным выражением его лица.
— Простите мне эти слова, Сент-Джон, но вы сами виноваты, что они у меня так неосмотрительно вырвались. Вы затронули тему, относительно которой мы резко расходимся во мнениях, тему, относительно которой мы не должны допускать споров: самое понятие «любовь» уже служит яблоком раздора между нами; так что бы мы стали делать, если бы вопрос этот встал перед нами всерьез? Что пережили бы мы с вами? Дорогой кузен, откажитесь от мысли об этом браке, забудьте о нем.
— Нет, — сказал он, — я давно лелею этот план, и только он может обеспечить успех моей великой задачи; но сейчас я не буду настаивать. Завтра я уезжаю в Кембридж; там у меня много друзей, с которыми я хотел бы проститься. Я буду в отсутствии две недели; воспользуйтесь этим временем, чтобы обдумать мое предложение, и не забывайте, что если вы от него откажетесь, вы отвергаете не меня, а бота. Через мое посредство он открывает перед вами благородное поприще, но вступить на него вы можете, только став моей женой. Откажитесь стать моей женой, и вы навсегда замкнетесь в кругу эгоистического благополучия и бесплодного прозябания. Берегитесь, как бы вам не оказаться в числе тех, кто изменил вере и стал хуже неверных.
Он смолк. Отвернувшись от меня, он снова окинул взглядом реку и холмы.
Но на этот раз он не стал раскрывать предо мной своего сердца: я была недостойна такого доверия. Когда мы шли рядом домой, я чувствовала в его непреклонном молчании все, что он испытывал ко мне: разочарование сурового, властного фанатика, встретившего сопротивление там, где он ждал покорности, осуждение холодного и непреклонного ума, открывшего в другом человеке переживания и взгляды, которым он не может сочувствовать; словом, как человек, он бы охотно принудил меня повиноваться и, только как истинный христианин, он терпеливо переносил мою испорченность и предоставлял мне столь длительный срок для размышлений и раскаяния.
В этот вечер, поцеловав сестер, он не счел нужным даже пожать мне руку и молча вышел из комнаты. Хотя я и не чувствовала к нему любви, но была дружески к нему расположена и оскорбилась этой подчеркнутой небрежностью, так оскорбилась, что слезы выступили у меня на глазах.
— Я вижу, Джен, — сказала Диана, — что вы с Сент-Джоном поссорились во время сегодняшней прогулки. Все-таки пойди к нему, он, наверно, стоит в коридоре и поджидает тебя, — он готов помириться.
В подобных обстоятельствах я обычно не выказываю чрезмерного самолюбия. Мне всегда приятнее уступить, чем настаивать на своем; я побежала за ним, — он ждал возле лестницы.
— Доброй ночи, Сент-Джон, — сказала я.
— Доброй ночи, Джен, — отозвался он спокойно.
— Тогда пожмем друг другу руку, — прибавила я.
Каким холодным и вялым было его пожатие! Он был крайне задет тем, что произошло сегодня; никакое волнение не растопило бы лед его сердца, никакие слезы не тронули бы его. Нечего было и думать о радостном примирении, о веселой улыбке или ласковом слове; однако, как христианин, он помнил о том, что надо быть терпеливым и кротким; и когда я спросила, простил ли он меня, он отвечал, что, как правило, не помнит оскорблений; впрочем, ему нечего прощать, так как он и не обижен.
С этими словами он ушел. Я предпочла бы, чтобы он меня ударил.
Глава XXXV
Сент-Джон не уехал на следующий день в Кембридж, как предполагал. Он отложил свой отъезд на целую неделю; за это время он дал мне почувствовать, как сурово может наказывать человек добрый, но строгий, справедливый, но неумолимый, — того, кто его обидел. Без всякой враждебности, без единого слова укоризны, он все же давал мне ясно понять, что я лишилась его расположения.
Не то, чтобы Сент-Джон затаил в душе недостойное христианина чувство мести; он не тронул бы и волоса на моей голове, когда бы имел даже полную возможность это сделать. И по натуре и по убеждениям он был выше подобных низменных побуждений мести; он простил мне мои слова о том, что я презираю его и его чувства, но он не забыл этих слов; и я знала, что, пока оба мы живы, он их не забудет. Я видела по его взгляду, когда он смотрел на меня, что эти слова как бы все время стоят между нами, и что бы я ни говорила, они слышались ему в моем голосе, и отзвук их был в каждом его ответе.
Он не избегал моего общества и, как обычно, звал меня каждое утро к своему столу. Боюсь, что его греховной природе доставляло удовольствие (как христианин, он в нем не участвовал и не мог разделять его) показывать, как искусно он умеет, действуя и говоря по видимости так же, как и прежде, казнить меня своей отчужденностью, ибо он не вкладывал в каждое слово и каждый поступок того одобрения и интереса, которые раньше вносили в нашу дружбу некоторое суровое очарование.
Для меня он словно перестал быть живым человеком и превратился в мраморную статую, его глаза казались холодными яркими сапфирами, его язык — говорящим инструментом, и только.
Все это было для меня пыткой — утонченной, длительной пыткой. Она поддерживала во мне тайное пламя негодования и трепетную тревогу скорби, и я чувствовала, что если бы стала его женой, этот добрый человек, чистый, как ледяной горный ключ, скоро свел бы меня в могилу, не пролив ни единой капли моей крови и не запятнав своей кристальной совести ни малейшей тенью преступления. Особенно остро я это ощущала при всякой попытке умилостивить его. На мой зов не было отклика. Он, видимо, не страдал от нашей отчужденности, не стремился к примирению; и хотя мои слезы не раз начинали капать на страницу, над которой мы оба склонялись, они производили на него не больше впечатления, чем если бы сердце у него было каменное или железное. Между тем с сестрами он стал даже ласковее, чем прежде, словно боялся, что одной холодности недостаточно и она не убедит меня в полной мере, до какой степени я отвергнута и изгнана. Поэтому он и прибегал к силе контраста; однако я уверена, что он поступал так не по злобе, а из принципа.
В канун его отъезда, на закате, я увидела, что он гуляет один по саду, и, вспомнив, что этот человек, теперь такой чуждый, когда-то спас мне жизнь и что мы с ним близкие родственники, решила сделать последнюю попытку вернуть его дружбу. Я вышла и направилась к нему в ту минуту, когда он стоял, опершись о калитку; я сразу приступила к делу:
— Сент-Джон, я страдаю оттого, что вы все еще на меня сердитесь. Будем опять друзьями.
— А разве мы не друзья? — отвечал он невозмутимо, не отрывая взгляда от восходящей луны, на которую смотрел при моем приближении.
— Нет, Сент-Джон, мы уже не такие друзья, как были. И вы это знаете.
— Разве нет? Что ж, очень плохо. Что до меня, то я желаю вам только добра.
— Я вам верю, Сент-Джон, так как знаю, что вы не способны никому желать зла; но ведь я ваша родственница, и мне хотелось бы от вас более теплого чувства, чем то бесстрастное человеколюбие, с которым вы относитесь даже к чужим.
— Конечно, — ответил он. — Ваше желание вполне законно, но я и не считаю вас чужой.
Эти слова, произнесенные холодным, спокойным тоном, сильно уязвили и раздражили меня. Если бы я поддалась гордости и гневу, я немедленно ушла бы; но во мне говорило нечто сильнее этих чувств. Я глубоко чтила высокие дарования и принципы моего кузена, его дружбой я дорожила, — потерять ее было бы для меня тяжелым испытанием. Я не могла столь легко отказаться от попытки вернуть его расположение.
— Неужели мы с вами так и расстанемся, Сент-Джон? И неужели, когда вы уедете в Индию, вы покинете меня, не сказав мне ни единого ласкового слова?
Он перестал смотреть на луну и посмотрел на меня.
— Разве я покину вас, Джен, уезжая в Индию? Как? Разве вы не поедете в Индию?
— Вы ведь сказали, что я могу туда ехать, только выйдя за вас замуж.
— А вы не выйдете за меня? Вы настаиваете на своем решении?
Известно ли вам, читатель, как леденит сердце вопрос, заданный бездушным человеком? Его гнев похож на падающую снежную лавину, а его негодование — на бурный ледоход.
— Нет, Сент-Джон, я не выйду за вас. Я не изменила своего решения.
Лавина дрогнула и сдвинулась с места, но еще не рухнула.
— Я снова спрашиваю вас, почему вы мне отказываете? — спросил он.
— Тогда я отказала вам потому, что вы не любите меня, а теперь — потому, что вы меня ненавидите. Вы меня просто убиваете.
Его губы и щеки побелели — они стали мертвыми.
— Убиваю? Я вас убиваю? Такие слова не делают вам чести, они противоестественны, недостойны женщины, лживы. Они свидетельствуют о низости ваших мыслей и заслуживают строгого осуждения; их можно было бы назвать непростительными, если бы человек не был обязан прощать своего ближнего даже до семидесяти семи раз.
Все пропало. Я только подлила масла в огонь. Искренне желая изгладить в его душе следы прежней обиды, я нанесла ему новую, еще более глубокую, которая навсегда запечатлелась в его памятливом сердце.
— Теперь вы действительно будете меня ненавидеть, — сказала я. — Напрасно я решилась на попытку примириться с вами: я только приобрела врага на всю жизнь.
Этими словами я причинила ему новую боль, тем более острую, что в них была правда. Его бескровные губы судорожно скривились. Я поняла, какой взрыв гнева пробудила в нем. У меня сжалось сердце.
— Уверяю вас, вы неправильно поняли меня! — воскликнула я, схватив его за руку. — Я вовсе не хотела ни огорчить, ни оскорбить вас!
Он горько усмехнулся и решительным движением высвободил руку.
— А теперь вы, конечно, возьмете обратно свое обещание и вовсе не поедете в Индию? — спросил он после продолжительной паузы.
— Нет, я готова ехать, но как ваша помощница, — ответила я.
Снова последовало бесконечное молчание. Какая борьба происходила в нем между естественными чувствами и сознанием долга — не знаю, но глаза его метали молнии, вспыхивали необычным блеском, и странные тени проходили по его лицу. Наконец он проговорил:
— Я уже однажды говорил вам, что невозможно одинокой женщине ваших лет сопровождать одинокого мужчину моего возраста. После того что я сказал вам на этот счет, я имел основание думать, что вы никогда не вернетесь к подобной мысли. Однако вы сделали это: мне очень жаль, но тем хуже для вас.
Я перебила его. Несправедливые упреки всегда пробуждали во мне храбрость.
— Будьте благоразумны, Сент-Джон, — вы доходите до абсурда. Вы уверяете, что вас возмущают мои слова. На самом деле это не так; вы слишком умны и проницательны, чтобы не понять того, что я говорю. Повторяю, я буду, если хотите, вашим помощником, но никогда не буду вашей женой.
Его лицо снова покрыла мертвенная бледность, но, как и прежде, он овладел своим гневом и ответил холодно и спокойно:
— Мне не нужна помощница, которая не будет моей женой. Со мной вы, очевидно, не можете поехать, но если вы искренне хотите, я переговорю, когда буду в городе, с одним женатым миссионером, жене которого нужна спутница. Я думаю, они не откажутся вас взять, так как благодаря своим средствам вы не будете нуждаться в благотворительности. Таким образом вы избегнете позора, какой навлекли бы на себя, нарушив данное обещание и покинув ряды войска, в которое вступили.
Вам известно, читатель, что я не давала никакого официального обещания и не принимала на себя никаких обязательств; его приговор был слишком произволен и не заслужен мною. Я возразила:
— Ни о каком позоре, ни о каком бесчестном поступке или вероломном обмане не может быть и речи. Я ни в какой мере не обязана ехать в Индию, особенно с чужими людьми. С вами я отважилась бы на многое, оттого что восхищаюсь вами, доверяю вам и люблю вас как брата. Но я убеждена, что когда бы и с кем бы туда ни поехала, я проживу недолго в этом климате.
— Ах, так вы боитесь за себя? — сказал он с презрительной усмешкой.
— Боюсь. Бог не для того дал мне жизнь, чтобы я ее загубила, а я начинаю думать, что поступить по-вашему — для меня равносильно самоубийству. Кроме того, прежде чем я окончательно решусь покинуть Англию, я должна увериться, что не смогу принести больше пользы, оставшись здесь, чем уехав.
— Что вы имеете в виду?
— Объяснять нет смысла, но есть одно сомнение, которое давно уже мучит меня; и я никуда не поеду, пока оно не будет устранено.
— Я знаю, к чему обращено ваше сердце и за что оно цепляется. Чувство, которое вы питаете, беззаконно и нечестиво! Давно уже следовало подавить его; неужели вам не стыдно даже упоминать о нем? Ведь вы думаете о мистере Рочестере?
Это была правда. Я признала ее своим молчанием.
— Вы собираетесь разыскать мистера Рочестера?
— Я должна выяснить, что с ним сталось.
— Тогда, — сказал он, — мне остается только поминать вас в своих молитвах и от всего сердца просить бога, чтобы вас действительно не постигла судьба отверженных. Мне казалось, что в вас я встретил избранницу. Но человеку не понять путей господних. Да свершится воля его.
Он открыл калитку, вышел в сад и стал спускаться в долину. Скоро он скрылся из виду.
Вернувшись в гостиную, я застала Диану у окна; она казалась очень задумчивой. Диана была гораздо выше меня; положив руку мне на плечо, она наклонилась и стала всматриваться в мое лицо.
— Джен, — сказала она, — ты в последнее время просто на себя не похожа, я уверена, что это не случайно. Скажи мне, что у тебя происходит с Сент-Джоном? Я наблюдала за вами эти полчаса из окна; прости мне это шпионство, но с некоторых пор мне бог знает что приходит в голову, Сент-Джон такой чудак…
Она замолчала. Я не ответила; немного погодя она продолжала:
— Я уверена, что мой братец имел на тебя какие-то виды: он уже давно относится к тебе с таким вниманием и интересом, каким не удостаивал никого до сих пор. Что это значит? Уж не влюбился ли он в тебя, а, Джен?
Я положила ее прохладную руку на свой горячий лоб.
— Нет, Ди, нисколько.
— Тогда отчего же он не сводит с тебя глаз? Отчего часто беседует с тобой наедине, не отпускает от себя? Мы с Мери решили, что он хочет на тебе жениться.
— Это правда, он уже просил меня быть его женой.
Диана захлопала в ладоши.
— Так мы и думали. До чего же это было бы хорошо! И ты выйдешь за него, Джен, не правда ли? И тогда он останется в Англии!
— Ничуть не бывало, Диана; он предлагает мне брак с единственной целью — приобрести помощницу для осуществления своей миссии в Индии.
— Как? Он хочет, чтобы ты отправилась в Индию?
— Да.
— Безумие! Ты не протянешь там и трех месяцев! Но ты не поедешь, — ведь ты отказалась, не правда ли, Джен?
— Я отказалась выйти за него замуж.
— И этим, конечно, оскорбила его? — спросила она.
— Глубоко. Боюсь, что он никогда мне этого не простит; но я предложила сопровождать его в качестве его сестры.
— Ну, это чистое сумасшествие, Джен! Подумай только, какую задачу ты берешь на себя, с какими лишениями она связана. Подобные испытания, да еще в таком климате, убивают даже сильных, а ты ведь слабенькая. Сент-Джон — ты знаешь его — будет требовать от тебя невозможного, он заставит тебя работать даже в самые знойные часы дня; а я заметила, что ты, к сожалению, готова выполнять все, что он тебе прикажет. Удивляюсь, как еще у тебя хватило духу ему отказать. Значит, ты его не любишь, Джен?
— Не как мужа.
— А ведь он красивый.
— Но зато я дурнушка. Ты сама видишь, Ди, мы никак не подходим друг к другу.
— Дурнушка? Ты? Нисколько. Во всяком случае, ты и слишком хорошенькая и слишком добрая, чтобы быть заживо похороненной в Калькутте. — И она снова стала горячо меня убеждать, чтобы я отказалась от всякой мысли сопровождать ее брата.
— Мне и в самом деле ничего другого не остается, — сказала я. — Когда я только что опять предложила быть его помощницей, он был возмущен моей нескромностью. Кажется, он считает мое предложение сопровождать его, не выходя за него замуж, чем-то неприличным; как будто я с первого же дня не видела в нем только брата и не относилась к нему, как сестра.
— С чего ты взяла, что он тебя не любит, Джен?
— Ты бы послушала, что он говорит. Сколько раз он объяснял мне, что хочет жениться на мне только ради наилучшего выполнения своей миссии. Он заявил мне, что я создана для работы, а не для любви; и это, конечно, правда. Но, по-моему, если я не создана для любви, то, значит, не создана и для брака. Разве это не ужасно, Ди, быть прикованной на всю жизнь к человеку, который смотрит на тебя только как на полезное орудие?
— Невыносимо! Чудовищно! Об этом не может быть и речи!
— И потом, — продолжала я, — хоть я его и люблю только как брата, однако если бы мне пришлось стать его женой, я допускаю, что могла бы его полюбить иной, странной, мучительной любовью, — ведь он так умен, и нередко в его взгляде, жестах и речах сквозит какое-то величие. А в таком случае моя судьба оказалась бы невыносимо печальной. Моя любовь только раздражала бы его, и если бы я посмела обнаружить свои чувства, он немедленно дал бы мне помять, что это совершенно лишнее, что это не нужно ему и не пристало мне. Я знаю, что это так.
— И все же Сент-Джон хороший человек, — сказала Диана.
— Он добрый и незаурядный человек, но он так поглощен своей задачей, что безжалостно забывает о чувствах и желаниях обыкновенных людей. Поэтому простым смертным лучше не попадаться на его пути, иначе он может растоптать их. Вот он, Диана, я ухожу.
Увидав, что он входит в сад, я быстро поднялась к себе наверх.
Но за ужином мне все-таки пришлось встретиться с Сент-Джоном.
Он казался таким же спокойным, как всегда. Я была уверена, что он не захочет со мной разговаривать и что он, во всяком случае, отказался от своих матримониальных намерений; но я ошиблась и в том и в другом. Сент-Джон беседовал со мной обычным своим тоном, или, вернее, тем тоном, какой он усвоил со мной в последнее время, — то есть был изысканно вежлив. Без сомнения, он обратился к святому духу, прося помочь ему преодолеть гнев, который я в нем вызвала, и теперь ему казалось, что он еще раз меня простил.
Для назидательного чтения перед вечерней молитвой он выбрал двадцать первую главу апокалипсиса. Я любила слушать слова священного писания из его уст; никогда его выразительный голос не звучал так мягко и проникновенно, никогда его манера читать так не пленяла своей благородной простотой, как тогда, когда он произносил слова божественного откровения; а в этот вечер, среди близких, его голос казался еще более торжественным, его интонации — более волнующими. Майская луна ярко сияла сквозь незанавешенное окно, так что горящая на столе свеча казалась ненужной. Сент-Джон сидел, склонившись над большой старинной библией, и читал те строки, где описывается видение «новой земли и нового неба», где рассказывается о том, что «бог будет обитать с людьми» и что «он сотрет всякую слезу с их очей», и где обещано, что «больше не будет ни смерти, ни плача, ни воздыхания, ни болезни… ибо все прежнее прошло».
Для молитвы, последовавшей за чтением этой главы, он, видимо, собрал все свои силы, призвал все свое суровое рвение; казалось, он действительно спорит с богом и уверен, что добьется победы. Он молил о силе для слабодушных, о путеводной звезде для заблудших овец стада Христова, о возвращении, хотя бы в одиннадцатый час, тех, кого соблазны мира и плоти увлекают прочь с тернистого пути к спасению. Он просил, убеждал, требовал, чтобы гибнущая душа была выхвачена из пламени. Глубокая серьезность всегда оказывает свое действие. Сперва эта молитва меня удивила, затем, по мере того как ее пыл возрастал, она все больше волновала меня и внушала мне трепет. Он так искренне был убежден в величии и святости своей задачи, что слушавшие не могли ему не сочувствовать.
После молитвы мы стали прощаться с ним; он уезжал на другой день очень рано. Диана и Мери обняли его и вышли из комнаты, — вероятно, он шепотом попросил их об этом. Я протянула ему руку и пожелала счастливого пути.
— Благодарю вас, Джен. Как я уже сказал, я вернусь из Кембриджа через две недели; даю вам это время на размышление. Если бы я внял голосу человеческой гордости, я больше не стал бы вам напоминать о браке; но я подчиняюсь только голосу долга и верен самому главному — сделать все ради славы божьей. Мой учитель был долготерпелив; таким буду и я. Я не допущу, чтобы вы погибли, как сосуд гнева; раскайтесь, решитесь, пока еще не поздно. Вспомните, что мы призваны работать «доколе есть день», ибо «приходит ночь, когда никто не может делать». Вспомните богача из притчи, который имел все сокровища этого мира. Дай вам бог силы избрать благую часть, которая не отымется от вас.
С этими словами он положил руку мне на голову. Он говорил проникновенно, кротко; его взгляд при этом нисколько не походил на взгляд, каким влюбленный смотрит на свою возлюбленную, — это был взор пастыря, зовущего заблудшую овцу, или, вернее, взор ангела-хранителя, оберегающего вверенную ему душу. У всякого одаренного человека, будь он человеком сильных страстей, или фанатиком веры, или просто деспотом, — если только он искренен в своих стремлениях, — бывают минуты такого подъема, когда он повелевает и властвует. Я благоговела перед Сент-Джоном, и внезапный порыв этого чувства неожиданно толкнул меня в ту пропасть, которой я так долго избегала. Я почувствовала искушение прекратить борьбу, отдаться потоку его воли и в волнах его жизни потерять свою. Сейчас он добивался меня с такой же настойчивостью, как в свое время — правда, совсем с иными чувствами — меня добивался другой. И тогда и теперь я была словно одержимая. Уступить в тот раз — значило пойти против велений совести. Уступить сейчас — значило пойти против велений разума. Теперь, когда бурные переживания той поры проходят предо мной сквозь успокаивающую призму времени, я это вижу ясно, но в ту минуту я не сознавала своего безумия.
Я стояла неподвижно, точно зачарованная властным прикосновением Сент-Джона. Мои отказы были забыты, страх преодолен, борьба прекращена. Невозможное — то есть мой брак с Сент-Джоном — рисовалось мне почти возможным. Все изменилось в одно мгновение. Религия звала, ангелы простирали ко мне объятия, бог повелевал, жизнь свивалась передо мной, как свиток, врата смерти распахивались, открывая вечность; мне казалось, что ради спасения и вечного блаженства там, можно не задумываясь все принести в жертву здесь. Сумрачная комната была полна видений.
— Может быть, вы теперь решитесь? — спросил миссионер. Он спросил очень мягко и так же мягко привлек меня к себе.
О, эта нежность! Насколько она могущественней, чем сила. Я могла противиться гневу Сент-Джона, но перед его добротой склонялась, как слабый тростник. Все же я прекрасно понимала, что если уступлю сейчас, то в будущем мне не миновать расплаты за былое мое неповиновение. Один час торжественной молитвы не мог изменить его натуры, она была лишь обращена ко мне своей возвышенной стороной.
— Я бы решилась связать свою судьбу с вашей, — отвечала я, — если бы только была уверена, что такова действительно воля божия; тогда я готова была бы без колебаний выйти за вас, — а там будь что будет!
— Мои молитвы услышаны! — воскликнул Сент-Джон. Я почувствовала, как его рука тяжело легла на мою голову, словно он уже предъявлял на меня права; он обнял меня почти так, как если бы меня любил (я говорю «почти», — ибо я тогда уже знала разницу, я испытала, что значит быть любимой, но, подобно ему, отвергала любовь и думала только о долге). Мое внутреннее зрение было еще помрачено, его по-прежнему застилали тучи. Искренне, глубоко, горячо я желала лишь сделать то, что правильно, — больше ничего. «Укажи, укажи мне путь», — молила я небо. Я испытывала небывалое волнение; и пусть сам читатель решит, было ли то, что последовало, результатом этого возбуждения или чего другого.
В доме царила тишина; должно быть, кроме Сент-Джона и меня, все уже спали. Единственная свеча догорела, комната была залита лунным светом. Сердце мое билось горячо и часто, я слышала его удары. Вдруг оно замерло, пронизанное насквозь каким-то непонятным ощущением, которое передалось мне в голову, в руки и ноги. Это ощущение не напоминало электрический ток, но оно было столь же резко, необычно и неожиданно, оно так обострило мои чувства, что их прежнее напряжение казалось столбняком, от которого они теперь пробудились. Все мое существо насторожилось; глаза и слух чего-то ждали. Я дрожала всем телом.
— Что вы услышали? Что вы видите? — вскричал Сент-Джон.
Я ничего не видела, но я услышала далекий голос, звавший: «Джен! Джен! Джен!» — и ничего больше.
— О боже! Что это? — вырвалось у меня со стоном. Я могла бы точно так же спросить: «Где это?», потому что голос раздавался не в доме и не в саду, он звучал не в воздухе, и не из-под земли, и не над головой. Я слышала его, но откуда он исходил — определить было невозможно. И это был человеческий голос, знакомый, памятный, любимый голос Эдварда Фэйрфакса Рочестера; он звучал скорбно, страстно, взволнованно и настойчиво.
— Иду! — крикнула я. — Жди меня. О, я приду! — Я бросилась к двери и заглянула в коридор — там было пусто и темно. Я побежала в сад — там не было ни души.
— Где ты? — воскликнула я.
Глухое эхо в горах за Марш-Гленом ответило мне: «Где ты?» Я прислушалась. Ветер тихо вздыхал в елях; кругом простирались пустынные болота, и стояла полночная тишина.
— Прочь, суеверные обольщения! — вскрикнула я, отгоняя черный призрак, выступивший передо мной возле черного тиса у калитки. — Нет, это не самообман, не колдовство, это дело самой природы: веление свыше заставило ее совершить не чудо, но то, что было ей доступно!
Я рванулась прочь от Сент-Джона, который выбежал за мной в сад и хотел удержать меня. Пришла моя очередь взять верх над ним. Теперь мои силы пробудились. Я потребовала, чтобы он воздержался от вопросов и замечаний; я просила его удалиться: я хочу, я должна остаться одна. Он тотчас же повиновался. Когда есть сила приказывать, повиновение последует. Я поднялась к себе, заперлась, упала на колени и стала молиться — по-своему, иначе, чем Сент-Джон, но с не меньшим пылом. Мне казалось, что я приблизилась к всемогущему и моя душа, охваченная благодарностью, поверглась к его стопам. Поднявшись после этой благодарственной молитвы, я приняла решение, затем легла успокоенная, умудренная, с нетерпением ожидая рассвета.
Глава XXXVI
Настало утро. Я поднялась на рассвете. Часа два я наводила порядок в своей комнате, укладывала вещи в комод и гардероб на время своего недолгого отсутствия. Вскоре я услышала, как Сент-Джон вышел из своей комнаты. Он остановился у моей двери; я боялась, что он постучит, но он лишь подсунул под дверь листок бумаги. Я подняла его. Вот что было на нем написано:
«Вы слишком внезапно ушли от меня вчера вечером. Я жду вашего окончательного решения ровно через две недели, когда вернусь. А пока будьте на страже и молитесь, дабы не впасть в искушение; я верю, что дух ваш бодр, но плоть, как я вижу, немощна. Буду молиться о вас ежечасно. Ваш Сент-Джон».
«Мой дух, — ответила я ему мысленно, — готов сделать то, что правильно, а моя плоть, надеюсь, достаточно сильна, чтобы исполнить волю небес, как только эта воля будет мне совершенно ясна. Во всяком случае, у меня хватит сил искать и спрашивать, чтобы найти выход из тьмы сомнений к ясному дню уверенности».
Было первое июня, однако утро стояло пасмурное и холодное; дождь хлестал в окно. Я услышала, как отворилась наружная дверь и Сент-Джон вышел из дому. В окно мне было видно, как он прошел через сад. Он направился по дороге, которая вела по торфяному болоту в сторону Уиткросса, где он должен был сесть в почтовую карету.
«Через несколько часов я последую за вами, кузен, по той же дороге, — думала я. — Мне также надо перехватить карету у Уиткросса. Мне также надо кое-кого повидать и кое о ком разузнать в Англии, прежде чем я навсегда ее покину».
До завтрака оставалось еще два часа. Все это время я тихонько расхаживала по комнате и размышляла о чудесном явлении, перевернувшем все мои планы. Я вновь переживала испытанные накануне ощущения, — мне удалось воскресить их в памяти во всей их необычайности. Я вспомнила голос, который мне послышался; снова и снова задавала я себе вопрос, откуда он, — но так же тщетно, как и раньше. Казалось, он звучал во мне, а не во внешнем мире. Я спрашивала себя, не было ли это игрой нервов, обманом слуха. Нет, я не могла этого допустить, скорее это походило на какое-то наитие свыше. Удивительное смятение чувств во мне было подобно землетрясению, поколебавшему основание тюрьмы, где был заключен Павел; оно распахнуло перед душой двери ее темницы, разорвало ее оковы, пробудило от сна, и она воспрянула и трепетно прислушалась, охваченная страхом; а затем трижды прозвучал этот вопль, поразив мой слух и остановив сердце, и мой дух не испугался и не отступил, но как бы возликовал, радуясь, что ему дано совершить нечто не зависящее от неповоротливой плоти.
«Через несколько дней, — сказала я себе наконец, — я что-нибудь узнаю о том, чей голос вчера вечером призывал меня. Письма не привели ни к чему, придется заменить их личными расспросами».
За завтраком я сказала Диане и Мери, что уезжаю и буду в отсутствии не менее четырех дней.
— Одна, Джен? — спросили они.
— Да, мне нужно повидать друга, о котором я в последнее время беспокоюсь, или хотя бы узнать о нем что-нибудь.
Сестры могли бы ответить, — и мысленно они, наверно, это сделали, — что до сих пор не знали о существовании у меня друзей, кроме них; я сама часто им это говорила, но по своей врожденной деликатности они воздержались от каких-либо замечаний вслух; только Диана спросила, вполне ли я здорова для путешествия. «Ты так бледна», — заметила моя кузина. Я ответила, что меня мучит одна лишь душевная тревога, но я надеюсь скоро успокоиться.
Никто не мешал мне готовиться в дорогу, никто не беспокоил ни расспросами, ни подозрительными взглядами, поскольку я дала понять, что сейчас не могу сообщить своих планов; они приняли это как должное и спокойно и мудро предоставили мне ту свободу действий, какую в подобных же обстоятельствах, без сомнения, предоставила бы им и я.
Я покинула Мурхауз в три часа дня и в начале пятого уже стояла возле придорожного столба в Уиткроссе, ожидая дилижанса, который должен был отвезти меня в далекий Торнфильд. Среди тишины, царившей на этих безлюдных дорогах и пустынных холмах, я еще издалека услышала его приближение. Это был тот же экипаж, из которого я год назад вышла летним вечером на этом самом месте, в полном отчаянии, без надежды, без цели. Я махнула рукой, карета остановилась. Я села в нее; теперь за проезд мне уже не пришлось отдавать все, что я имела. По пути в Торнфильд я чувствовала себя почтовым голубем, летящим домой.
Путешествие продолжалось полтора суток. Я выехала из Уиткросса во вторник днем, а рано утром в четверг мы остановились, чтобы напоить лошадей, в придорожной гостинице, стоявшей среди зеленых изгородей, широких полей и отлогих, спокойных холмов. Как плавны были их очертания и как ласкова их зелень в сравнении с мрачными болотами Мортона! Да, я узнала этот пейзаж, словно черты давно знакомого лица, и была уверена, что приближаюсь к цели.
— А сколько отсюда до Торнфильдхолла? — спросила я кучера.
— Ровно две мили, сударыня, — прямиком через поля.
«Мое путешествие окончено», — подумала я, вышла из дилижанса, отнесла свой саквояж в контору, заплатила за проезд, дала на чай кучеру и двинулась в путь; лучи восходящего солнца играли на золотых буквах вывески над дверью гостиницы, и я прочла: «Герб Рочестеров». Сердце мое забилось, я уже была на земле моего хозяина; но внезапно оно сжалось, — меня поразила мысль: «А может быть, твой хозяин уехал из Англии? И если даже он в Торнфильдхолле, куда ты так спешишь, — кто еще находится там, кроме него? Его сумасшедшая жена. Следовательно, тебе там нечего делать: тебе нельзя ни говорить с ним, ни искать его общества. Напрасно ты приехала, лучше тебе вернуться назад, — настаивал предостерегающий голос. — Расспроси о нем в гостинице; там ты узнаешь все, что тебе нужно, и твои тревоги рассеются. Пойди и спроси, у себя ли в усадьбе мистер Рочестер».
Это было вполне разумное предложение, и все-таки я не могла заставить себя ему последовать. Я так боялась ответа, который повергнет меня в отчаяние! Продлить неведение — значило продлить надежду, еще хоть раз увидеть этот дом, озаренный ее лучами! Передо мной была изгородь, а впереди простирались поля, по которым в утро моего бегства из Торнфильда я спешила, не видя ничего и не слыша, гонимая мстительными фуриями, преследовавшими и терзавшими меня; не успела я сообразить, куда мне идти, как очутилась среди этих полей. Как быстро я шла! Как часто принималась бежать! Как напряженно всматривалась в даль, ожидая увидеть хорошо знакомый мне парк. С каким радостным чувством узнавала отдельные деревья и привычные очертания лугов и холмов!
Наконец меня обступил парк своей густой чащей. Громкое карканье грачей нарушало утреннюю тишину. Странный восторг овладел мною; я спешила все дальше. Еще одно поле, еще тропинка, и вот передо мной стены двора и службы; но самого дома и рощи с гнездами грачей все еще не было видно. «Я хочу посмотреть на него с фасада, — решила я, — чтобы его гордые зубчатые башни поразили мой взор своим благородным величием и я могла сразу же найти окно моего хозяина: может быть, он стоит у окна, — он встает рано; а может быть, гуляет по фруктовому саду или по террасе. Если бы только мне его увидеть на мгновение! Ведь не такая же я сумасшедшая, чтобы броситься к нему? Не знаю, не уверена! А если я это сделаю, что тогда? Ничего ужасного! Разве это преступление, если его взор еще раз оживит мое сердце? Я начинаю бредить. Может быть, в эту минуту он смотрит на восход солнца где-то среди Пиренеев или с берега тихого южного моря?»
Я обогнула низкую ограду фруктового сада и завернула за угол; здесь были ворота, выходившие на лужайку; их каменные столбы увенчаны каменными шарами. Заглянув за столб, я могла свободно окинуть взглядом весь фасад дома. Я осторожно вытянула шею, желая проверить, не подняты ли шторы в какой-нибудь спальне; отсюда все было видно как на ладони — башни, окна, весь фасад.
Быть может, пролетавшие над моей головою грачи следили за мною во время моих наблюдений? Не знаю, что они думали. Вероятно, они подивились моей робости и осторожности, которая внезапно сменилась безрассудной отвагой. Брошенный украдкою взгляд — и я вдруг застыла на месте; я выбегаю из моего убежища и начинаю метаться по луговине, а потом останавливаюсь перед домом и бесстрашно вперяю в него взор. «Что за притворная робость вначале, — могли бы они спросить, — и что за дурацкая неосторожность сейчас?»
Разрешите мне маленькое сравнение, читатель.
Влюбленный застает свою возлюбленную спящей на мшистом склоне. Ему хочется полюбоваться ею, не разбудив ее. Он крадется по траве, стараясь не шуметь; он останавливается; ему кажется — она шевельнулась; он отступает; ни за что на свете не хотел бы он, чтобы она его увидела. Но все тихо, он опять приближается; он склоняется над ней; легкое покрывало накинуто на ее лицо; он приподнимает его, наклоняется ниже; его взор предвосхищает видение красоты, теплой, цветущей и пленительной на ложе сна. С какой жадностью он смотрит на нее! И вдруг цепенеет! Как он вздрогнул! Как бурно сжимает в объятиях тело, которого минуту назад не осмеливался коснуться пальцем! Как громко зовет ее по имени, затем кладет на землю свою ношу, смотрит на нее безумным взглядом. Он схватил ее так порывисто, он зовет ее так громко, он смотрит на нее таким взглядом оттого, что ничем не в силах разбудить ее, никакими звуками и движениями. Он думал, что его любимая сладко спит, — а нашел ее мертвой и недвижной, как камень.
Я готовилась с робкою радостью увидеть величественное здание — и увидела сумрачные развалины.
Нечего было прятаться за столбом и украдкой смотреть на окна, боясь, что за ними уже пробудилась жизнь! Нечего было прислушиваться, не откроются ли двери, не зазвучат ли шаги на террасе или на усыпанных гравием дорожках. Лужайка и сад были заброшенны и пустынны, мрачно зияло отверстие подъезда. От здания (мне вспомнился мой сон) остался лишь фасад, высокая источенная огнем стена, чернеющая пустыми окнами; ни крыши, ни башен, ни труб — все обрушилось.
Над развалинами нависло молчание смерти, тишина безлюдной пустыни. Неудивительно, что письма, посланные сюда, оставались без ответа; с таким же успехом можно было бы обращаться к каменному надгробью в церковном приделе. Почерневшие от огня и дыма камни ясно говорили о судьбе, которая постигла дом, — он погиб от пожара. Но как возник этот пожар? Что за страшную тайну хранили эти развалины? Что погибло в этой катастрофе, кроме штукатурки, мрамора и дерева? Или пострадало не только имущество, но и чья-то жизнь? А если так, то чья? Грозный вопрос! Здесь не было никого, кто мог бы на него ответить, — не было никаких следов, никаких признаков жизни.
Бродя среди разрушенных стен опустошенного здания, я убедилась, что катастрофа произошла довольно давно. Зимние снега, вероятно, лежали сугробами под этими стенами, осенние дожди хлестали в пустые окна; весной, среди куч сырого мусора, зазеленела растительность, здесь и там между камнями и упавшими стропилами стлался мох и росли сорные травы. Но, увы, где же теперь злосчастный хозяин этих развалин? Как он живет? В каком краю? Мой взор невольно устремился к серой церковной башне неподалеку от ворот, и я спросила себя, не разделяет ли он с Дэймером де Рочестером его тесную мраморную обитель? Ответ на эти вопросы надо было получить. Но это было возможно только в гостинице, и я, не медля ни минуты, отправилась туда. Хозяин гостиницы принес мне завтрак. Я попросила его закрыть дверь и присесть: мне нужно кое о чем спросить его. Но когда он присел к моему столу, я не знала, с чего начать, — с таким ужасом ждала я его ответов. Все же безотрадное зрелище, только что бывшее у меня перед глазами, до известной степени подготовило меня к печальному рассказу. Хозяин гостиницы был почтенный человек средних лет.
— Вы, конечно, знаете Торнфильдхолл? — произнесла я наконец.
— Да, сударыня, я там раньше жил.
— Разве?
«Но, верно, не при мне, — подумала я, — ведь я его не знаю».
— Я был дворецким у покойного мистера Рочестера, — прибавил он.
«У покойного!» Казалось, на меня обрушился со всею силою тот удар, которого я так боялась.
— У покойного? — вырвалось у меня. — Разве он умер?
— Я говорю об отце теперешнего владельца, мистера Эдварда, — пояснил он.
Ко мне вернулось дыхание, кровь снова заструилась у меня в жилах. Я убедилась из этих слов, что мистер Эдвард, мой мистер Рочестер (да хранит его бог, где бы он ни был!) во всяком случае жив, ведь было сказано: «теперешнего владельца». Блаженные слова! Казалось, я могу выслушать все, что бы ни последовало за ними, — независимо ни от чего, — сравнительно спокойно. Раз он не в могиле, думалось мне, у меня хватит мужества узнать, что он находится на другом конце света.
— А мистер Рочестер сейчас живет в Торнфильде? — спросила я, зная наперед, каков будет ответ, но пытаясь оттянуть на миг прямой вопрос о том, где он находится.
— Нет, сударыня, нет! Там никто не живет. Вы, вероятно, приезжая? Иначе вы знали бы о том, что приключилось здесь прошлым летом. Торнфильдхолл сгорел дотла! Это случилось как раз во время жатвы. Ужасное несчастье! Сколько ценного имущества погибло, из мебели почти ничего не спасли. Пожар начался глубокой ночью, и когда пожарные прискакали из Милкота, дом был уже весь в огне. Страшное зрелище! Я сам все видел.
— Глубокой ночью? — пробормотала я. Да, это было всегда роковым временем для Торнфильда. — А причина пожара неизвестна? — спросила я.
— Были догадки, были. И они подтвердились, вне всякого сомнения. Знаете ли вы, — продолжал он, придвигая свой стул поближе к столу и понижая голос, — что в доме жила одна… дама… сумасшедшая?
— Я кое-что слышала об этом.
— Ее держали под очень строгим надзором: многие даже не верили, что она там. Никто ее не видел, ходили только слухи, будто такая особа живет в замке; а кто и что она, этого никто не знал. Говорили, будто мистер Эдвард привез ее из-за границы и что будто бы она была раньше его любовницей. Но год назад случилась странная история, очень странная история.
Я боялась, что услышу рассказ о самой себе, и попыталась вернуть его к основной теме.
— А эта дама?
— Эта дама, сударыня, — отвечал он, — оказалась женой мистера Рочестера! И выяснилось это самым странным образом. В замке жила молодая особа, гувернантка, которую мистер Рочестер…
— Ну, а пожар? — прервала его я.
— Я к нему и веду… в которую мистер Рочестер влюбился прямо-таки по уши. Слуги рассказывали, что отроду не видели ничего подобного. Хозяин ходил за ней по пятам. Они все, бывало, подглядывали за ним, — вы знаете, сударыня, служанки охотницы до этого. И говорят, он в ней души не чаял; только он один и видел в ней какую-то красоту. Так — фитюлечка, вроде девчонки! Я-то ее никогда не видел, но мне рассказывала о ней горничная Ли. Та ее хвалила. Ну, мистеру Рочестеру уже под сорок, а этой гувернантке не было и двадцати; а знаете, когда джентльмен его возраста влюбится в такую вертушку, то иной раз кажется, что его околдовали. Так вот, он задумал на ней жениться.
— Об этом вы мне расскажете в другой раз, — остановила я хозяина, — а сейчас мне по некоторым причинам хотелось бы услышать подробности о пожаре. Были подозрения, что дело не обошлось без этой сумасшедшей, миссис Рочестер?
— Вы угадали, сударыня: теперь известно, что как раз она, а не кто другой, подожгла дом. При ней состояла одна женщина, которая ухаживала за ней, миссис Пул. Толковая женщина и вполне надежная, только водился за ней один грешок, — этим грехом страдают многие сиделки и вообще пожилые женщины: она всегда держала при себе бутылку джина, и порой ей случалось хлебнуть лишнее. Оно и понятно — уж больно тяжелая была у нее жизнь; но лучше бы она этим не занималась. Бывало, только миссис Пул заснет после изрядной порции джина с водой, как сумасшедшая, которая была хитра, как черт, достает ключи из ее кармана, выходит из своей комнаты, отправляется бродить по дому и выкидывает всякие штучки, какие придут ей в голову. Говорят, она один раз чуть не сожгла своего мужа, когда он спал; но об этом я ничего не знаю. Так вот, в ту ночь она сперва подожгла занавески в комнате рядом, а потом спустилась этажом ниже и направилась в гувернанткину спальню (словно она обо всем догадывалась и хотела сжить ее со свету) и подожгла кровать; но, к счастью, там никто не спал. Гувернантка сбежала за два месяца до этого, и хотя мистер Рочестер разыскивал ее, как какое-то сокровище, ему ничего не удалось узнать про нее, и он прямо-таки обезумел от горя; он никогда не был тихого нрава, а как ее потерял, начал прямо на людей кидаться, никого не желал видеть. Миссис Фэйрфакс, свою экономку, он отправил к родным, но поступил с ней по совести, назначил ей пожизненную пенсию; и стоило — она очень хорошая женщина. Мисс Адель, свою воспитанницу, он поместил в школу. Он раззнакомился со всеми окрестными дворянами и заперся, как отшельник, в замке.
— Как! Разве мистер Рочестер не уехал из Англии?
— Уехал из Англии? Бог с вами! Нет! Он порога собственного дома не переступал, только по ночам бродил, словно привидение, по парку и по фруктовому саду, будто помешанный; а мне сдается, он и был помешанным, — потому что не было на свете, сударыня, такого умного, гордого и смелого джентльмена, как он, пока не пошла ему наперекор эта пигалица гувернантка. Он не пил, не играл ни в карты, ни на скачках, как иные прочие, и хоть не был слишком красив собой, но уж в храбрости никому не уступит, и вообще человек был с характером. Я его знал еще мальчиком и не раз жалел, что мисс Эйр не свернула себе шею до приезда в Торнфильдхолл.
— Значит, мистер Рочестер был дома, когда вспыхнул пожар?
— А то как же! Он поднялся на верхний этаж, когда все кругом уже пылало, разбудил спавших слуг и сам помог им спуститься вниз, а затем вернулся, чтобы спасти свою сумасшедшую жену. Тут ему крикнули, что она на крыше; и действительно, она стояла там, размахивая руками над башней, и кричала так, что ее было слышно за целую милю; я слышал ее и видел собственными глазами. Высокая женщина, длинные черные волосы; они так и развевались среди пламени. Я видел, да и другие тоже, как мистер Рочестер вылез через слуховое окно на крышу; мы слышали, как он крикнул «Берта!», а потом подошел к ней. И тогда, сударыня, она вдруг завопила да и прыгнула вниз, — и через миг уже лежала, разбившись вдребезги, на камнях.
— Мертвая?
— Мертвая? Ну да, мертвая, как камни, на которые брызнули ее мозги и кровь.
— Боже мой!
— Да уж, сударыня, страшная была картина.
Он невольно содрогнулся.
— А потом? — допытывалась я.
— Ну, а потом все здание сгорело дотла, только кое-где уцелели стены.
— А больше никто не погиб?
— Нет, но, может быть, лучше было бы кое-кому погибнуть.
— Что вы имеете в виду?
— Бедный мистер Эдвард! — воскликнул он. — Думал ли он тогда, что с ним случится такое несчастье! Иные говорят, что он по справедливости наказан за то, что скрывал свой брак да хотел жениться на другой, — это при живой-то жене! Но что до меня, мне его жалко.
— Но вы же сказали, что он жив? — воскликнула я.
— Да, да, он жив, но многие считают, что лучше бы ему умереть.
— Как? Отчего? — я снова вся похолодела. — Где он? — спросила я. — В Англии?
— То-то и есть, что в Англии; он не может уехать из Англии, — я полагаю, он теперь прикован к месту.
Какая пытка! А этот человек, казалось, решил ее продлить.
— Он совсем слепой, — сказал он наконец. — Да, совсем ослеп наш мистер Эдвард.
Я боялась худшего. Я боялась, что он помешался. Собрав все мужество, я спросила, как он потерял зрение.
— Да все из-за своей храбрости и, можно даже сказать, в некотором роде из-за своей доброты; он не хотел покинуть дом, пока все из него не выберутся. Когда он спускался по парадной лестнице, после того как миссис Рочестер уже бросилась с башни, вдруг раздался страшный треск, и все обрушилось. Его вытащили из-под развалин живого, но совсем искалеченного. Балка упала так, что отчасти его прикрыла, но ему выбило один глаз и раздробило кисть руки, и мистеру Картеру, лекарю, пришлось тут же отнять ее. Затем сделалось воспаление в другом глазу, он ослеп и на этот глаз. Теперь он совсем беспомощен — слепой и калека.
— Где он? Где он сейчас живет?
— В Ферндине, у него там замок, милях в тридцати отсюда; очень глухое место.
— Кто с ним?
— Старик Джон с женой; он не захотел брать никого, кроме них. Мистер Рочестер, говорят, конченый человек.
— Есть ли у вас какой-нибудь экипаж?
— У нас есть коляска, сударыня, очень удобная коляска.
— Немедленно прикажите заложить ее, и, если ваш кучер довезет меня сегодня засветло до Ферндина, я заплачу вам и ему двойную цену.
Глава XXXVII
Замок в Ферндине — довольно старинное здание, не слишком обширное, без всяких претензий на архитектурный стиль — стоял среди густого леса. Я и раньше слышала о нем. Мистер Рочестер часто упоминал о Ферндине и иногда туда ездил. Его отец купил это поместье из-за дичи, водившейся в тамошних лесах. Мистер Рочестер охотно сдал бы эту усадьбу в аренду, но не мог найти арендатора, так как дом стоял в глухом и нездоровом месте. Поэтому в Ферндине никто не жил, и дом не был меблирован, за исключением двух-трех комнат, где имелось только самое необходимое, так как хозяин приезжал туда во время охотничьего сезона.
В Ферндин я приехала незадолго до сумерек; небо хмурилось, дул холодный ветер, и моросил пронизывающий дождь. Последнюю милю я прошла пешком, отпустив экипаж и кучера и заплатив ему обещанную цену. Даже на близком расстоянии не было видно усадьбы в этом густом и темном лесу, окружавшем ее со всех сторон мрачной стеной. Железные ворота с гранитными столбами указали мне вход. Войдя в них, я очутилась в густой чаще деревьев. Заросшая травой дорожка вела сквозь лесной массив, извиваясь среди узловатых мшистых стволов, под сводами ветвей. Я пошла по ней, надеясь вскоре увидеть дом; но она вилась все дальше и дальше; казалось, ее поворотам не будет конца; нигде не было видно следов жилья или парка.
Я решила, что пошла по неверному направлению и заблудилась. В лесу и без того густом было еще темнее от вечерних сумерек. Я озиралась в поисках другой дороги, но ее не было; всюду виднелись лишь переплетенные ветви, могучие колонны стволов, непроницаемый покров листвы — и ни единого просвета.
Я продолжала идти вперед; наконец впереди посветлело, стволы как будто расступились; показалась решетка ограды, а затем и дом, в неверном свете угасающего дня он едва отличался от деревьев — так позеленели и заросли мхом его обветшавшие стены.
Войдя в калитку, запирающуюся только на щеколду, я очутилась на обнесенной оградой лужайке, которую полукругом обступил лес. Не было ни цветов, ни клумб, только широкая, усыпанная гравием дорожка окаймляла газон, и все это было окружено густым лесом. На крыше дома высились два шпиля; окна были узкие и забраны решеткой; входная дверь была тоже узкая, и к ней вела одна ступенька. Это было действительно, как выразился хозяин «Герба Рочестеров», «совсем глухое место». Царила тишина, как в церкви в будничный день. Слышен был только шум дождя, шуршавшего в листьях.
«Неужели здесь кто-нибудь живет?» — спрашивала я себя. Да, кто-то жил, ибо я услыхала движение. Узкая входная дверь отворилась, и на пороге показалась чья-то фигура.
Дверь открылась шире, кто-то вышел и остановился на ступеньке среди полумрака; это был мужчина без шляпы; он вытянул руку, словно желая определить, идет ли дождь. Несмотря на сумерки, я узнала его — это был мой хозяин, Эдвард Фэйрфакс Рочестер.
Я остановилась, затаив дыхание, чтобы разглядеть его, оставаясь для него, увы! невидимой. Встреча была неожиданна, и мою радость омрачала глубокая боль. Мне трудно было удержаться от восклицаний и от желания броситься вперед.
Его фигура была все такой же стройной и атлетической; его осанка все так же пряма и волосы черны, как вороново крыло; и черты его не изменились, даже не заострились; целый год страданий не мог истощить его могучих сил и сокрушить его железное здоровье. Но как изменилось выражение его лица! На нем был отпечаток отчаяния и угрюмых дум; он напоминал раненого и посаженного на цепь дикого зверя или хищную птицу, нарушать мрачное уединение которой опасно. Пленный орел, чьи глаза с золотистыми ободками вырваны жестокой рукой, — вот с кем можно было сравнить этого ослепшего Самсона.
Может быть, вы думаете, читатель, что он был мне страшен в своем ожесточении слепца? Если так, вы плохо знаете меня Мою печаль смягчила сладкая надежда, что я скоро поцелую этот мраморный лоб и эти губы, так мрачно сжатые; но минута еще не настала. Я решила с ним пока не заговаривать.
Он сошел со ступеньки и медленно, ощупью, двинулся по направлению к лужайке. Куда девалась его смелая поступь! Но вот он остановился, словно не зная, в какую сторону повернуть. Он протянул руку, его веки открылись; пристально, с усилием устремил он незрячий взор на небо и на стоящие амфитеатром деревья, но чувствовалось, что перед ним лишь непроглядный мрак. Он протянул правую руку (левую, изувеченную, он держал за бортом сюртука), — казалось, он хотел через осязание представить себе, что его окружало; но его рука встретила лишь пустоту, ибо деревья находились в нескольких ярдах от него. Он оставил эту попытку, скрестил руки на груди и стоял, спокойно и безмолвно, под частым дождем, падавшим на его непокрытую голову. В этот миг Джон, выйдя откуда-то, подошел к нему.
— Не угодно ли вам, сэр, опереться на мою руку? — сказал он. — Начинается сильный ливень, не лучше ли вам вернуться домой?
— Оставь меня, — последовал ответ.
Джон удалился, не заметив меня. Мистер Рочестер снова попытался пройтись, но его шаги были неуверенны. Он нащупал дорогу к дому, переступил порог и захлопнул дверь.
Тогда я постучала. Жена Джона открыла мне.
— Мери, — сказала я, — здравствуйте!
Она вздрогнула, словно перед ней был призрак. Я успокоила ее. В ответ на ее торопливые слова: «Неужели это вы, мисс, пришли в такую позднюю пору в это глухое место?» — я пожала ее руку, а затем последовала за ней в кухню, где Джон сидел у яркого огня. Я объяснила им в кратких словах, что знаю обо всем случившемся после моего отъезда из Торнфильда, и прибавила, что явилась навестить мистера Рочестера. Я попросила Джона сходить в сторожку, возле которой я отпустила карету, и принести оставленный там саквояж; затем, снимая шляпу и шаль, спросила Мери, могу ли я переночевать в усадьбе. Узнав, что устроить мне ночлег будет хотя и не легко, но все же возможно, я заявила, что остаюсь. В эту минуту из гостиной раздался звонок.
— Когда вы войдете, — сказала я, — скажите вашему хозяину, что его хочет видеть какая-то приезжая особа, но не называйте меня.
— Не думаю, чтобы он пожелал вас принять, — ответила она, — он никого к себе не допускает.
Когда она вернулась, я спросила, что он сказал.
— Он хочет знать, кто вы и зачем пришли, — ответила она; затем налила воды в стакан и поставила его на поднос вместе со свечами.
— Он для этого вас звал? — спросила я.
— Да, он всегда приказывает приносить свечи, когда стемнеет, хотя ничего не видит.
— Дайте мне поднос, я сама его отнесу.
Я взяла у нее из рук поднос; она указала мне дверь в гостиную. Поднос дрожал у меня в руках; вода расплескалась из стакана; сердце громко колотилось. Мери распахнула передо мною дверь и захлопнула ее за мной.
Гостиная казалась мрачной; огонь едва тлел за решеткой; перед огнем, прислонившись головой к высокому старомодному камину, стоял слепой обитатель этого дома. Недалеко от камина, в сторонке, как бы опасаясь, что слепой нечаянно наступит на него, лежал, свернувшись, его старый пес Пилот. Пилот насторожил уши, когда я вошла; затем вскочил и с громким лаем бросился ко мне; он едва не вышиб у меня из рук подноса. Я поставила поднос на стол, затем погладила собаку и тихо сказала: «Куш!» Мистер Рочестер инстинктивно повернулся, чтобы посмотреть, кто это; однако, ничего не увидев, он отвернулся и вздохнул.
— Дайте мне воды, Мери, — сказал он.
Я подошла к нему, держа в руке стакан, теперь налитый только до половины. Пилот следовал за мной, все еще проявляя признаки волнения.
— Что случилось? — спросил мистер Рочестер.
— Куш, Пилот! — повторила я.
Его рука, державшая стакан, замерла на полпути: казалось, он прислушивался; затем он выпил воду и поставил стакан на стол.
— Ведь это вы, Мери? Да?
— Мери на кухне, — ответила я.
Он быстро протянул ко мне руку, но, не видя меня, не смог меня коснуться.
— Кто это? Кто это? — повторял он, стараясь рассмотреть что-то своими незрячими глазами, — напрасная, безнадежная попытка! — Отвечайте! Говорите! — приказал он громко и властно.
— Не хотите ли еще воды, сэр? Я пролила половину, — сказала я.
— Кто это? Что это? Кто это говорит?
— Пилот узнал меня, Джон и Мери знают, что я здесь. Я приехала только сегодня вечером, — отвечала я.
— Великий боже! Какой обман чувств! Какое сладостное безумие овладело мной!
— Никакого обмана чувств, никакого безумия. Ваш ясный ум, сэр, не допустит самообмана, а ваше здоровье — безумия.
— Но где же та, кто говорит? Может быть, это только голос? О! Я не могу вас видеть, но я должен к вам прикоснуться, иначе мое сердце остановится и голова разорвется на части. Что бы и кто бы вы ни были, дайте мне коснуться вас — не то я умру!
Я схватила его блуждающую руку и сжала ее обеими руками.
— Это ее пальчики! — воскликнул он. — Ее маленькие, нежные пальчики! Значит, и она сама здесь!
Его мускулистая рука вырвалась из моих рук; он схватил меня за плечо, за шею, за талию; он обнял меня и прижал к себе.
— Это Джен? Кто это? Ее фигура, ее рост…
— И ее голос, — прибавила я. — Она здесь вся; и ее сердце тоже с вами. Благослови вас бог, мистер Рочестер. Я счастлива, что опять возле вас.
— Джен Эйр!.. Джен Эйр!!! — повторял он.
— Да, мой дорогой хозяин, я Джен Эйр. Я разыскала вас, я вернулась к вам.
— На самом деле? Цела и невредима? Живая Джен?
— Вы же касаетесь меня, сэр, вы держите меня довольно крепко, и я не холодная, как покойница, и не расплываюсь в воздухе, как привидение, не правда ли?
— Моя любимая со мной! Живая! Это, конечно, ее тело, ее черты! Но такое блаженство невозможно после всех моих несчастий! Это сон; не раз мне снилось ночью, что я прижимаю ее к своему сердцу, как сейчас; будто я целую ее, вот так, — и я чувствовал, что она любит меня, верил, что она меня не покинет.
— И я никогда вас не покину, сэр.
— «Никогда не покину», — говорит видение? Но я каждый раз просыпался и понимал, что это обман и насмешка; я был один и всеми покинут; моя жизнь мрачна, одинока и безнадежна; душа томилась жаждой и не могла ее утолить; сердце изголодалось и не могло насытиться. Милое, нежное видение, прильнувшее ко мне сейчас, ты так же улетишь, как улетели твои сестры; но поцелуй меня перед тем, как улететь, обними меня, Джен!
— Вот, сэр, и вот!
Я прижалась губами к его некогда блестевшим, а теперь погасшим глазам, я откинула волосы с его лба и тоже поцеловала его. Вдруг он точно проснулся, и им овладела уверенность в реальности происходящего.
— Это вы? Правда, Джен? Значит, вы вернулись ко мне?
— Вернулась!
— И вы не лежите мертвая в какой-нибудь канаве или на дне реки? И не скитаетесь на чужбине, отверженная всеми?
— Нет, сэр, теперь я независимая женщина.
— Независимая! Что вы хотите сказать?
— Мой дядя, живший на Мадейре, умер и оставил мне пять тысяч фунтов.
— О, вот это звучит реально, это настоящая действительность! — воскликнул он. — Мне бы никогда это не приснилось. И потом — это ее голос, такой оживленный и волнующий и все такой же нежный; он радует мое омертвевшее сердце, он оживляет его. Как же это, Джен? Вы независимая женщина? Вы богатая женщина?
— Да, сэр. Если вы не позволите мне жить с вами, я могу построить себе дом рядом, и по вечерам, когда вам захочется общества, вы будете приходить и сидеть у меня в гостиной.
— Но раз вы богаты, Джен, у вас, без сомнения, есть друзья, которые заботятся о вас и не допустят, чтобы вы посвятили себя слепому горемыке?
— Я уже сказала вам, сэр, что я и независима и богата; я сама себе госпожа.
— И вы останетесь со мной?
— Конечно, если только вы не возражаете. Я буду вашей соседкой, вашей сиделкой, вашей экономкой. Я вижу, что вы одиноки: я буду вашей компаньонкой — буду вам читать, гулять с вами, сидеть возле вас, служить вам, буду вашими глазами и руками. Перестаньте грустить, мой дорогой хозяин, вы не будете одиноким, пока я жива.
Он не отвечал; казалось, он погружен в какие-то далекие, суровые мысли; вот он вздрогнул, губы его приоткрылись, точно он хотел заговорить, — и снова сжались. Я почувствовала некоторое смущение. Быть может, я слишком поспешно отбросила условности и он, подобно Сент-Джону, шокирован моим необдуманным заявлением? На самом деле я предложила ему это, ожидая, что он захочет на мне жениться. Во мне жила безотчетная уверенность, что он немедленно предъявит на меня свои права. Но так как он ни словом не обмолвился об этом и становился все мрачнее, мне вдруг пришло в голову, что, быть может, я ошиблась и попала в глупое положение; и я начала потихоньку высвобождаться из его объятий, — но он еще крепче прижал меня к себе.
— Нет, нет, Джен, не уходите! Нет! Я коснулся вас, слышал вас, испытал прелесть вашей близости, сладость вашего утешения; я не могу отказаться от этих радостей. Мне так мало осталось в жизни. Вы должны быть со мной. Пусть надо мной смеются, пусть называют безумцем, эгоистом, — мне нет дела до этого! Моя душа жаждет вас, и надо удовлетворить ее желание, а если нет — она жестоко расправится со своей оболочкой.
— Нет, сэр, я останусь с вами; ведь я вам уже обещала.
— Да, но, обещая остаться со мной, вы имеете в виду совсем не то, что я. Может быть, вы решили быть при мне неотлучно, ходить за мной как сиделка (ведь вы добры и великодушны и готовы принести себя в жертву тем, кого жалеете), — и я, конечно, должен бы довольствоваться этим. Вероятно, теперь мне следует питать к вам лишь отеческие чувства? Вы, верно, так считаете? Ну, говорите же!
— Я буду считать, как вы захотите, сэр: я готова быть только вашей сиделкой, если это вам больше нравится.
— Но вы не можете всю жизнь быть моей сиделкой, Дженет; вы молоды, — вы, конечно, выйдете замуж.
— Я не хочу выходить замуж.
— Вы должны хотеть, Джен. Будь я таким, как прежде, я заставил бы вас хотеть, но… слепой чурбан!!!
Он снова помрачнел. У меня, напротив, сразу отлегло от сердца: его последние слова показали мне, в чем состояло затруднение, а так как для меня его вовсе не существовало, то смущение мое рассеялось, и я продолжала разговор в более шутливом тоне.
— Пора вернуть вам человеческий облик, — сказала я, перебирая длинные, густые пряди его отросших волос, — а то, я вижу, вы испытали чудесное превращение — вас обратили в льва или какое-то другое хищное животное. Здесь, среди этих первобытных лесов, вы напоминаете мне Навуходоносора, ваши волосы похожи на перья орла; я не обратила внимания — может быть, и ногти отросли у вас, как птичьи когти?
— На этой руке у меня нет ни пальцев, ни ногтей, — сказал он, вынимая из-за борта сюртука изувеченную руку и показывая ее. — Одна култышка. Ужасный вид! Не правда ли, Джен?
— Мне больно ее видеть, и больно видеть ваши глаза и следы ожога у вас на лбу; но хуже всего то, что рискуешь горячо привязаться к вам, хотя бы из-за одного этого, а это окончательно вас избалует.
— Я думал, вы почувствуете отвращение, увидав эту руку и шрамы на лице.
— Вы думали? Не смейте мне этого говорить, не то я буду о вас дурного мнения. Теперь я на минутку вас покину; надо, чтобы здесь почистили камин и хорошенько протопили. Вы различаете яркий огонь?
— Да, правым глазом я вижу свет — в виде красноватого пятна.
— А свечи?
— Очень смутно, как в светлом облаке.
— А меня вы видите?
— Нет, моя фея; но я безмерно счастлив уже тем, что слышу и чувствую вас.
— Когда вы ужинаете?
— Я никогда не ужинаю.
— Но сегодня вы должны поужинать. Я голодна и уверена, что вы тоже голодны, но забываете об этом.
Я позвала Мери, и вскоре комната приняла более уютный вид; мы приготовили мистеру Рочестеру вкусный ужин. Я была в радостном настроении и весело и непринужденно беседовала с ним далеко за полночь. Мне не надо было обуздывать себя, сдерживать при нем свою природную веселость и живость, с ним я чувствовала себя необыкновенно легко и просто, так как знала, что нравлюсь ему; все, что я говорила, казалось, утешало его и возвращало к жизни. Отрадное сознание! Оно как бы пробудило к свету и радости все мое существо: в присутствии мистера Рочестера я жила всей напряженной полнотою жизни, так же и он — в моем. Несмотря на слепоту, улыбка озаряла его лицо; на нем вспыхивал отблеск счастья, его черты как бы смягчились и потеплели.
После ужина он без конца расспрашивал меня, где я жила, чем занималась и как его разыскала; но я лишь кратко отвечала ему; было слишком поздно, чтобы в этот же вечер рассказывать подробно. Кроме того, я боялась случайно затронуть в его сердце чувствительную струну, коснуться свежей раны; моей главной целью было сейчас ободрить его. Мне это удавалось, но он был весел лишь минутами. Едва разговор на мгновение прерывался, он начинал тревожиться, протягивал руку, прикасался ко мне и говорил: «Джен!»
— Вы человеческое существо, Джен? Вы уверены в этом?
— Совершенно уверена, мистер Рочестер.
— Но как же вы могли в этот темный и тоскливый вечер так внезапно очутиться у моего одинокого очага? Я протянул руку, чтобы взять стакан воды у служанки, а мне его подали вы; я задал вопрос, ожидая, что ответит жена Джона, — и вдруг услышал ваш голос.
— Потому что вместо Мери вошла я с подносом.
— Сколько волшебного очарования в этих часах, которые я провожу с вами! Никто не знает, какое мрачное, угрюмое, безнадежное существование я влачил здесь долгие месяцы, ничего не делая, ничего не ожидая, путая день с ночью, ощущая лишь холод, когда у меня погасал камин, и голод, когда я забывал поесть; и потом безысходная печаль, а по временам — исступленное желание снова встретить мою Джен. Да, я более желал вернуть ее, чем мое потерянное зрение. Неужели же правда, что Джен со мной и говорит, что любит меня? Может быть, она уедет так же внезапно, как приехала? А вдруг завтра я ее больше не увижу?
Я была уверена, что его лучше всего отвлечет от тревожных мыслей самое простое замечание на житейскую тему. Проведя рукой по его бровям, я обнаружила, что они опалены, и сказала, что надо применить какое-нибудь средство, чтобы они отросли и стали такими же широкими и черными, как прежде.
— Зачем делать мне добро, благодетельный дух, когда в некое роковое мгновение вы снова меня покинете, исчезнув, как тень, неведомо куда и скрывшись от меня навеки?
— Есть у вас с собой карманный гребень?
— Зачем, Джен?
— Да чтобы расчесать эту косматую черную гриву. На вас прямо страшно смотреть вблизи. Вы говорите, что я фея; но, по-моему, вы больше смахиваете на лешего.
— Я безобразен, Джен?
— Ужасно, сэр, и всегда таким были, сами знаете.
— Гм! Где бы вы ни жили это время, вы, я вижу, не утратили своего лукавства.
— А между тем я жила с отличными людьми, куда лучше вас, во сто раз лучше; вам и не снились их идеи и взгляды, они такие утонченные и возвышенные.
— С кем же, черт возьми, вы жили?
— Если вы будете так вертеться, я вырву у вас все волосы, и тогда, надеюсь, вы перестанете сомневаться в моей реальности.
— С кем же вы жили, Джен?
— Сегодня вечером вам этого не выпытать, сэр! Придется вам подождать до завтра; если я не доскажу своей повести, это будет гарантией того, что я явлюсь к завтраку и окончу ее. Кстати, в следующий раз я появляюсь у вашего камелька не только со стаканом воды, — я вам принесу по крайней мере одно яйцо, не говоря уж о жареной ветчине.
— Ах вы, лукавый бесенок! Дитя и эльф! С вами я испытываю такие чувства, каких не знал уже целый год. Окажись вы на месте Давида, злой дух был бы изгнан из Саула и без помощи арфы.
— Ну вот, сэр, вы причесаны и у вас совсем приличный вид. Теперь я вас покину; я путешествую уже три дня и, кажется, очень устала. Спокойной ночи!
— Еще одно слово, Джен! В доме, где вы жили, были только одни дамы?
Я рассмеялась и убежала. Поднимаясь по лестнице, я продолжала смеяться. «Прекрасная мысль, — думала я лукаво, — кажется, я нашла средство на некоторое время излечить его от меланхолии». На следующий день мистер Рочестер встал очень рано, я слышала, как он бродит по комнатам. Как только Мери сошла вниз, он спросил:
— Мисс Эйр здесь? — Затем прибавил: — В какой комнате вы ее поместили? Не сыро там? Она уже встала? Пойдите спросите, не надо ли ей чего-нибудь и когда она сойдет вниз.
Я спустилась в столовую, когда мне показалось, что пора завтракать. Я вошла бесшумно, чтобы понаблюдать его, прежде чем он обнаружит мое присутствие. Тяжело было видеть, как этот сильный дух скован телесной немощью. Он сидел в кресле тихо, но не спокойно: видно было, что он ждет; на его энергичных чертах лежал отпечаток привычной печали. Его лицо напоминало погасшую лампу, которая ждет, чтобы ее вновь зажгли, ибо — увы! — сам он был не в силах вызвать в своих чертах пламя оживления: для этого ему нужен был другой человек! Я заранее решила быть веселой и беспечной, но беспомощность этого сильного человека тронула меня до глубины души; однако я сделала над собой усилие и заговорила с обычной живостью.
— Сегодня яркое, солнечное утро, сэр, — сказала я. — Дождь перестал, и теперь мягкая, чудесная погода. Скоро мы с вами пойдем гулять.
Я пробудила в нем огонь жизни; его лицо засияло.
— О, вы на самом деле здесь, моя малиновка! Идите ко мне. Вы не ушли? Не исчезли? Час назад я слышал, как одна из ваших сестер пела в лесу, но ее пение не принесло мне отрады, так же как и лучи восходящего солнца. Вся гармония мира заключена для меня в голосе моей Джен (хорошо, что она от природы не молчалива); солнце восходит для меня только при ее появлении.
Услышав из его уст это признание, я не могла сдержать слез: прикованный к скале царственный орел мог бы так просить воробья приносить ему пищу. Однако я не собиралась плакать; я стерла соленые капли с лица и занялась приготовлением завтрака.
Почти все утро мы провели на воздухе. Я вывела его из сырого дремучего леса на простор веселых полей, я говорила ему о том, как сверкает зелень, как свежи цветы и изгороди, как ослепительно сияет небесная лазурь. Я выбрала для него хорошее местечко в тени — это был старый сухой пень — и позволила ему усадить меня к себе на колени. Зачем мне было ему отказывать, когда мы оба были счастливее рядом, чем в отдалении друг от друга? Пилот улегся возле нас; кругом царила тишина. Сжав меня в своих объятиях, мистер Рочестер вдруг заговорил:
— Ах ты, жестокая, жестокая изменница. О Джен, ты не можешь себе представить, что я пережил, когда выяснилось, что ты бежала из Торнфильда и пропала без следа, а особенно когда, осмотрев твою комнату, я убедился, что ты не захватила с собой ни денег, ни ценностей! Жемчужное ожерелье, которое я тебе подарил, лежало в том же футляре; твои чемоданы стояли запертые и перевязанные, готовые для свадебного путешествия. «Что будет делать моя любимая, — думал я, — без денег и без друзей?» Что же она делала? Расскажи мне теперь.
Уступая его просьбе, я стала рассказывать обо всем, что произошло за этот год. Я значительно смягчила краски, описывая те три дня скитаний и голода, боясь причинить ему лишние страдания, но и то немногое, что я рассказала, ранило его преданное сердце глубже, чем я хотела.
Мне не следовало, сказал он, уходить от него без всяких средств к жизни, я обязана была сообщить ему о своих намерениях, должна была ему довериться; он никогда бы не принудил меня стать его любовницей. Хотя он и доходил до ярости в своем отчаянии, он любит меня слишком глубоко, чтобы сделаться моим тираном; он отдал бы мне все свое состояние, не попросив взамен даже поцелуя, — только бы я не уходила одна, без друзей, в широкий мир. Он уверен, что я рассказала ему далеко не все о своих страданиях.
— Ну, каковы бы ни были мои страдания, они продолжались очень недолго, — отвечала я и затем перешла к тому, как меня приняли в Мурхаузе, как я получила место школьной учительницы, как свалилось на меня наследство, как я нашла своих родственников. Конечно, имя Сент-Джона нередко встречалось в моем рассказе. Это сразу же привлекло его внимание и, когда я кончила, определило дальнейшее течение нашей беседы.
— Так этот Сент-Джон твой кузен?
— Да.
— Ты часто о нем упоминаешь: он тебе нравится?
— Он очень хороший человек, сэр; я не могла не привязаться к нему.
— Хороший человек? Что же, это почтенный и добродетельный человек лет пятидесяти?
— Сент-Джону двадцать девять лет, сэр.
— Jeune encore[37], как говорят французы. Что ж, должно быть, он маленького роста, флегматичен и некрасив? Человек, который может похвалиться скорее отсутствием пороков, чем обилием высоких добродетелей?
— Это человек неистощимой энергии. Цель его жизни — благие, возвышенные дела.
— Ну, а как насчет ума? Вероятно, он не блещет талантом? У него самые благие намерения, но уши вянут, когда он заговорит?
— Он мало говорит, сэр, но всякое его слово попадает в цель. У него замечательный ум, — я бы сказала, скорее властный, чем гибкий.
— Значит, он способный человек?
— Чрезвычайно одаренный.
— И образованный?
— Сент-Джон — человек обширных и серьезных познаний.
— Ты как будто сказала, что тебе не нравится, как он держится? Что же он, напыщенный педант?
— Я ничего не говорила о его манере держаться, но если бы она мне не нравилась, значит, у меня весьма дурной вкус; он изысканно вежлив, спокоен — словом, настоящий джентльмен.
— А его наружность?.. Я забыл, каким ты описывала его; вероятно, это грубоватый викарий, в тесном белом галстуке, выступающий как на котурнах, в своих штиблетах на толстых подошвах, не так ли?
— Сент-Джон хорошо одевается. Он красивый мужчина — высокий блондин с прекрасными голубыми глазами и греческим профилем.
— (В сторону.) Черт бы его побрал! (Обращаясь ко мне.) Он, видно, нравился тебе, Джен?
— Да, мистер Рочестер, он мне нравился; но вы уже спрашивали меня об этом.
Я, конечно, понимала, куда клонит мой собеседник: в нем пробудилась ревность. Она жалила его, но ее укусы были целительны: они отвлекали его от гнетущих мыслей. Поэтому я и не спешила заговорить эту змею.
— Может быть, вы сойдете с моих колен, мисс Эйр? — последовала несколько неожиданная реплика.
— Отчего же, мистер Рочестер?
— Нарисованный вами образ представляет слишком уж разительный контраст со мной. Вы изобразили пленительного Аполлона; он владеет вашей фантазией — высокий, красивый, голубоглазый, с греческим профилем. А перед вами Вулкан — этакий корявый кузнец, смуглый, широкоплечий и к тому же еще слепой и однорукий.
— Мне это не приходило в голову, но вы действительно настоящий Вулкан, сэр.
— Ну, так убирайтесь вон, сударыня, скатертью дорога! Но, прежде чем уйти (и он еще крепче прижал меня к себе), будьте так любезны ответить мне на кое-какие вопросы.
Он помолчал.
— Какие вопросы, мистер Рочестер?
Тут последовал настоящий допрос:
— Когда Сент-Джон устраивал вас на место учительницы в Мортоне, он еще не знал, что вы его кузина?
— Не знал.
— Вы часто с ним виделись? Он иногда заходил в школу.
— Ежедневно.
— Он одобрял вашу работу, Джен? Я знаю, вы делали все безукоризненно, ведь вы же умница.
— Да, он ее одобрял.
— И он, конечно, обнаружил в вас много достоинств, о которых не подозревал? У вас незаурядные способности.
— На этот счет ничего вам не могу сказать.
— Вы говорите, что жили в маленьком коттедже близ школы. Навещал он вас когда-нибудь?
— Иногда.
— По вечерам?
— Раз или два.
Наступила пауза.
— А сколько времени вы прожили с ним и с его сестрами, после того как было установлено ваше родство?
— Пять месяцев.
— Много ли Риверс проводил времени в вашем обществе?
— Много. Маленькая гостиная служила ему и нам рабочей комнатой; он сидел у окна, а мы за столом.
— И подолгу он занимался?
— Да, подолгу.
— Чем?
— Языком индустани.
— А что вы делали в это время?
— Сперва я изучала немецкий.
— Это он с вами занимался?
— Он не знает немецкого.
— А он ничем с вами не занимался?
— Немного языком индустани.
— Риверс занимался с вами индустани?
— Да, сэр.
— И со своими сестрами тоже?
— Нет.
— Значит, ему хотелось учить вас?
— Да.
Снова пауза.
— А с чего он это выдумал? На что вам мог понадобиться индустани?
— Он хотел, чтобы я поехала с ним в Индию.
— Ага! Вот я и докопался до сути дела. Он хотел на вас жениться?
— Он просил моей руки.
— Это ложь, бесстыдная выдумка, мне назло!
— Прошу прощения, но это чистая правда; он просил меня об этом не раз, и притом с настойчивостью, которая могла бы поспорить с вашей.
— Мисс Эйр, повторяю, вы можете уйти. Сколько раз я должен это повторять? Отчего вы упорно продолжаете сидеть у меня на коленях, когда я попросил вас удалиться?
— Мне и здесь хорошо.
— Нет, Джен, вам не может быть здесь хорошо, ваше сердце далеко — оно с вашим кузеном, с этим Сент-Джоном. А я-то считал, что моя маленькая Джен целиком принадлежит мне! Я верил, что она меня любит, даже когда она меня покинула; это была капля меду в океане горечи. Хотя мы и были разлучены, хотя я и оплакивал горючими слезами нашу разлуку, — я все же не мог допустить, чтобы та, о ком я так тоскую, полюбила другого. Но бесполезно горевать. Оставьте меня, Джен, уезжайте и выходите замуж за Риверса.
— Ну, так столкните меня, сэр, прогоните меня, — добровольно я вас не покину.
— Джен, мне так дорог звук вашего голоса, он вновь воскрешает во мне надежду, он такой правдивый. Он напоминает мне то, что было год назад. Я забываю, что вы связаны иными узами. Но я не такой безумец… Идите…
— Куда же мне идти, сэр?
— Своей дорогой — с мужем, которого вы себе избрали.
— Кто же это?
— Вы знаете — это Сент-Джон Риверс.
— Он мне не муж и никогда им не будет. Сент-Джон меня не любит, и я его не люблю. Он любил (по-своему, не так, как вы умеете любить) красивую молодую девушку по имени Розамунда и хотел на мне жениться только потому, что видел во мне подходящую подругу для миссионера, к чему та совершенно не подходит. Он человек возвышенной души, но он суров, а со мной холоден, как айсберг. Он не похож на вас, сэр; я не чувствую себя счастливой в его присутствии. У него нет ко мне снисходительности, нет и нежности. Его не привлекает даже моя молодость, он ценит во мне лишь мои полезные моральные качества. И я должна вас покинуть, сэр, и отправиться к нему?
Я невольно содрогнулась и инстинктивно прижалась к своему слепому, но горячо любимому хозяину. Он улыбнулся.
— Как, Джен? Это правда? И отношения между вами и Риверсом действительно таковы?
— Безусловно, сэр. О, вам незачем ревновать! Я просто хотела немножко вас подразнить, чтобы отвлечь от грустных мыслей; я считала, что гнев для вас полезнее скорби. Но раз вам так дорога моя любовь, успокойтесь. Если бы вы только знали, как я вас люблю, вы были бы горды и довольны. Все мое сердце принадлежит вам, сэр! Оно ваше и останется вашим, хотя бы даже злой рок навеки удалил меня от вас.
Он поцеловал меня, но вдруг лицо его вновь потемнело от мрачных дум.
— Жалкий слепец! Калека! — пробормотал он горестно.
Я ласкала его, желая утешить. Я знала, о чем он думает, и хотела об этом заговорить, но не решалась. Когда он отвернулся на мгновение, я увидела, как из-под его закрытого века скатилась слеза и потекла по мужественному лицу. Сердце мое переполнилось.
— Я совсем, как старый, разбитый молнией каштан в торнфильдском саду, — заговорил он спустя некоторое время. — И какое имеет право такая развалина требовать, чтобы весенняя жимолость обвила ее свежей листвой?
— Вы вовсе не развалина, сэр, и не дерево, разбитое молнией, вы могучий зеленеющий дуб. Цветы и кусты будут и без вашей просьбы расти у ваших корней, им отрадна ваша благостная тень; и, поднимаясь кверху, они прильнут к вам и обовьют вас, ибо ваш могучий ствол служит им надежной опорой.
Он снова улыбнулся: мои слова утешили его.
— Ты говоришь о друзьях, Джен? — спросил он.
— Да, о друзьях, — отвечала я не совсем уверенно, так как имела в виду большее, чем дружбу, но не могла найти подходящего слова. Он пришел мне на помощь.
— Ах, Джен! Но я хочу иметь жену!
— В самом деле, сэр?
— Да. Это для вас новость?
— Конечно, вы об этом ничего еще не говорили.
— Это неприятная для вас новость?
— Смотря по обстоятельствам, сэр, смотря по вашему выбору.
— Вы его сделаете за меня, Джен. Я подчинюсь вашему решению.
— В таком случае, сэр, выберите ту, что любит вас больше всех.
— Ну, тогда я выберу ту, кого я больше всех люблю. Джен, вы пойдете за меня замуж?!
— Да, сэр.
— За несчастного слепца, которого вам придется водить за руку?
— Да, сэр.
— За калеку, на двадцать лет старше вас, за которым вам придется ходить?
— Да, сэр.
— Правда, Джен?
— Истинная правда, сэр.
— О моя любимая! Господь да благословит тебя и наградит!
— Мистер Рочестер, если я хоть раз совершила доброе дело, если меня когда-либо осеняла благая мысль, если я молилась искренне и горячо, если стремилась только к тому, что справедливо, — теперь я вознаграждена! Быть вашей женой для меня вершина земного счастья.
— Это потому, что ты находишь радость в жертве.
— В жертве? Чем я жертвую? Голодом ради пищи, ожиданием ради исполнения желания? Разве возможность обнять того, кто мне мил, прижаться губами к тому, кого я люблю, опереться на того, кому я доверяю, — значит принести жертву? Если так, то, конечно, я нахожу радость в жертве.
— И ты готова терпеть мои немощи, Джен? Мириться с убожеством?
— Его не существует для меня, сэр. Теперь, когда я могу быть действительно вам полезной, я люблю вас даже больше, чем раньше, когда вы, с высоты своего величия, хотели только дарить и покровительствовать.
— До сих пор мне была ненавистна помощь, мне было противно, когда меня водили за руку, а теперь я чувствую, как мне это будет приятно. Мне было тяжело опираться на плечо наемника, но отрадно чувствовать, что моя рука сжимает маленькие пальчики Джен. Лучше полное одиночество, чем постоянная зависимость от прислуги; но нежная забота Джен будет для меня неиссякаемым источником радости. Я люблю Джен, но любит ли она меня?
— Всем существом, сэр.
— Если дело обстоит так, то нам нечего больше ждать: нам надо немедленно обвенчаться.
Он говорил с жаром, в нем пробуждалась его прежняя пылкость.
— Мы должны стать нераздельными, Джен; нечего откладывать, надо получить разрешение на брак и обвенчаться.
— Мистер Рочестер, я только сейчас заметила, что солнце сильно склонилось к западу и Пилот уже убежал домой обедать. Дайте мне взглянуть на ваши часы.
— Прицепи их к своему кушаку, Джен, и оставь их у себя; мне они больше не нужны.
— Уже около четырех часов, сэр. Вы не голодны?
— Через два дня должна быть наша свадьба, Джен. Теперь не нужно ни нарядов, ни драгоценностей, — все это ничего не стоит.
Солнце уже высушило капли дождя на листьях, ветер стих; стало жарко.
— Знаешь, Джен, у меня на шее, под рубашкой, надето твое жемчужное ожерелье. Я ношу его с того дня, когда потерял мое единственное сокровище, — как воспоминание о нем.
— Мы пойдем домой лесом, это самая тенистая дорога.
Но он продолжал развивать свои мысли, не обращая внимания на мои слова.
— Джен, ты, наверно, считаешь меня неверующим, но мое сердце сейчас полно благодарности к всеблагому богу, дающему радость на этой земле. Его взор не то, что взор человека, — он видит яснее и судит не так, как человек, но с совершенной мудростью. Я дурно поступил: я хотел осквернить мой невинный цветок, коснуться его чистоты дыханием греха. Всемогущий отнял его у меня. В своем упорстве я чуть не проклял посланное свыше испытание, — вместо того чтобы склониться перед волей небес, я бросил ей вызов. Божественный приговор свершился: на меня обрушились несчастья, я был на волосок от смерти. Постигшие меня наказания были суровы, одно из них навсегда меня смирило. Ты знаешь, как я гордился моей силой, — но где она теперь, когда я должен прибегать к чужой помощи, как слабое дитя? Недавно, Джен, — только недавно, — начал я видеть и узнавать в своей судьбе перст божий. Я начал испытывать угрызения совести, раскаяние, желание примириться с моим творцом. Я иногда молился; это были краткие молитвы, но глубоко искренние.
Несколько дней назад… нет, я могу точно сказать когда, — четыре дня назад, в понедельник вечером, я испытал странное состояние: на смену моему бурному отчаянию, мрачности, тоске явилась печаль. Мне давно уже казалось, что раз я нигде не могу тебя найти — значит, ты умерла. Поздно вечером, вероятно между одиннадцатью и двенадцатью, прежде чем лечь, я стал молить бога, чтобы он, если сочтет это возможным, поскорее взял меня из этой жизни в иной мир, где есть надежда встретиться с Джен.
Я сидел в своей комнате, у открытого окна; мне было приятно дышать благоуханным воздухом ночи; правда, я не мог видеть звезд, а месяц представлялся мне лишь светлым туманным пятном. Я тосковал о тебе, Дженет! О, я тосковал о тебе и душой и телом. Я спрашивал бога в тоске и смирении, не довольно ли я уже вытерпел мук, отчаяния и боли и не будет ли мне дано вновь испытать блаженство и мир? Что все постигшее меня я заслужил, это я признавал, но я сомневался, хватит ли у меня сил на новые страдания. Я молил его — и вот с моих губ невольно сорвалось имя, альфа и омега моих сердечных желаний: «Джен! Джен! Джен!»
— Вы произнесли эти слова вслух?
— Да, Джен. Если бы кто-нибудь услыхал меня, он решил бы, что я сумасшедший, с такой неистовой силой вырвались у меня эти слова.
— И это было в прошлый понедельник около полуночи?
— Да, но не важно время; самое странное то, что за этим последовало. Ты сочтешь меня суеверным, — правда, у меня в крови есть и всегда была некоторая склонность к суеверию, тем не менее это правда, что я услыхал то, о чем сейчас расскажу.
Когда я воскликнул: «Джен, Джен, Джен!», голос (я не могу сказать откуда, но знаю, чей он) отвечал: «Иду! Жди меня!» — и через мгновение ночной ветер донес до меня слова: «Где ты?»
Я хотел бы передать тебе ту картину, то видение, которое вызвал во мне этот возглас; однако трудно выразить это словами. Ферндин, как ты видишь, окружен густым лесом, и всякий звук здесь звучит глухо и замирает без отголосков. Но слова «где ты?» были произнесены, казалось, среди гор, ибо я слышал, как их повторяло горное эхо. И мне почудилось, будто более свежий, прохладный ветер коснулся моего лба; мне представилось, что я встречаюсь с Джен в какой-то дикой, пустынной местности. Духовно мы, вероятно, и встретились. Ты в этот час, Джен, конечно, спала глубоким сном; быть может, твоя душа покинула комнату и отправилась утешать мою: ибо это был твой голос, — это так же верно, как то, что я жив! Это был твой голос.
Вы знаете, читатель, что именно в понедельник, около полуночи, я услышала таинственный призыв; как раз этими словами я на него ответила. Я выслушала рассказ мистера Рочестера, но ничем на него не отозвалась. Совпадение было так необъяснимо и так меня поразило, что я не могла говорить о нем и обсуждать его. Это неизбежно произвело бы глубочайшее впечатление на душу моего собеседника, а эту душу, которая столько пережила и поэтому имела особую склонность к мрачности, не следовало сейчас уводить в глубокую тень сверхъестественного. Итак, я затаила все это в своем сердце.
— Теперь ты уже не будешь удивляться, — продолжал мой хозяин, — почему, когда ты так неожиданно предстала предо мной вчера вечером, мне было трудно поверить, что ты не видение и не один только голос, который замрет и растворится в тишине, как замерли в тот раз твой шепот и горное эхо. Теперь, благодарение богу, я знаю, что все это другое. Да, я благодарю бога.
Он благоговейно обнажил голову и, опустив незрячие глаза, склонился в безмолвной молитве.
— Я благодарю творца за то, что в дни суда он вспомнил о милосердии. Я смиренно молю моего искупителя, чтобы он дал мне силы отныне вести более чистую жизнь, чем та, какую я вел до сих пор.
Затем он протянул ко мне руку, чтобы я его повела, Я взяла эту дорогую руку, на мгновение прижала ее к своим губам, затем дала ему обнять меня за плечи: будучи гораздо ниже его, я одновременно служила ему и опорой и поводырем. Мы вошли в лес и направились домой.
Глава XXXVIII Заключение
Читатель, я стала его женой. Это была тихая свадьба: присутствовали лишь он и я, священник и причетник. Когда мы вернулись из церкви, я отправилась на кухню, где Мери готовила обед, а Джон чистил ножи, и сказала:
— Мери, сегодня утром я обвенчалась с мистером Рочестером.
Экономка и ее муж были почтенные, флегматичного склада люди, которым можно было в любое время спокойно сообщить самую важную новость, не рискуя услышать визгливые восклицания и быть оглушенной потоком недоуменных расспросов. Мери взглянула на меня с удивлением; ложка, которой она поливала соусом пару жарившихся цыплят, на несколько мгновений замерла в воздухе, и на те же несколько мгновений Джон перестал чистить ножи. Склонившись затем над жарким, Мери только сказала:
— Обвенчались, мисс! В самом деле? — и прибавила: — Я видела, что вы с хозяином куда-то пошли, но не знала, что вы отправились в церковь венчаться. — Сказав это, она продолжала поливать жаркое.
Обернувшись к Джону, я видела, что он широко улыбается.
— Я говорил Мери, что этим дело кончится, — сказал он. — Я догадывался, что у мистера Эдварда на уме (Джон был старым слугою, он знал своего хозяина еще когда тот был младшим в семье, и поэтому часто называл его по имени), и был уверен, что он не станет долго ждать. Что ж, правильно сделал, как мне сдается. Желаю вам счастья, мисс, — и он отвесил мне почтительный поклон.
— Спасибо, Джон! Мистер Рочестер просил меня передать вот это вам и Мери. — Я вложила ему в руку пятифунтовый билет и, не ожидая, что они еще скажут, ушла из кухни. Некоторое время спустя, проходя мимо двери кухни, я услышала следующие слова:
— Она подходит ему куда лучше, чем какая-нибудь важная леди. — И затем: — Правда, из себя она неказиста, но зато сердце у нее доброе и ничего плохого про нее не скажешь; а что до него, то всякому ясно, что она кажется ему первой красавицей.
Я сейчас же написала в Мурхауз и в Кембридж, сообщая об этой перемене в моей жизни и объясняя, чем она вызвана. Диана и Мери одобрили этот шаг. Диана прибавила, что, как только окончится медовый месяц, она приедет меня навестить.
— Лучше ей этого не дожидаться, — сказал мистер Рочестер, когда я прочла ему письмо, — а то она, пожалуй, никогда не приедет: наш медовый месяц будет сиять нам всю нашу жизнь, и его лучи померкнут лишь над твоей и моей могилой.
Не знаю, как принял Сент-Джон это известие; он так и не ответил на письмо, в котором я извещала его об этом событии. Однако спустя полгода он все-таки мне написал; правда, не упоминая ни о мистере Рочестере, ни о моем замужестве. Его письмо было написано в сдержанном тоне, хотя и очень серьезном, но ласковом. С тех пор мы обмениваемся с ним письмами не слишком часто, но регулярно; он надеется, что я счастлива, и верит, что я не из числа тех, кто живет в этом мире без бога и поглощен лишь земными интересами.
Вы еще не совсем забыли маленькую Адель, не правда ли, читатель? Я о ней ни на минуту не забывала. Вскоре я попросила у мистера Рочестера разрешения навестить Адель в школе, куда он ее поместил. Меня тронула ее бурная радость, когда она увидела меня. Девочка показалась мне худой и бледной; она жаловалась, что ей живется трудно. И действительно, порядки в этом заведении оказались слишком строгими и методы обучения слишком суровыми для ребенка ее возраста; я увезла ее домой. Я собиралась снова сделаться ее гувернанткой, но вскоре увидела, что это невозможно: мое время и заботы принадлежали другому, — мой муж так в них нуждался!
Поэтому я нашла более подходящую школу, в нашей местности, где могла часто навещать Адель и иногда брать ее домой. Я заботилась о том, чтобы у нее было все необходимое, и скоро она там освоилась, почувствовала себя вполне счастливой и стала делать быстрые успехи в учении. С годами английское воспитание в значительной мере отучило девочку от ее французских замашек; и по окончании ею школы я приобрела в ее лице приятную и услужливую помощницу, покорную, веселую и скромную. Своими заботами обо мне и о моих близких она давно уже отплатила мне за любовь и внимание, которые встречала с моей стороны.
Моя повесть подходит к концу. Еще несколько слов о моей замужней жизни и о судьбе тех, чьи имена встречались в моем рассказе, — и я кончаю.
Уже десять лет, как я замужем. Я знаю, что значит всецело жить для человека, которого любишь больше всего на свете. Я считаю себя бесконечно счастливой, и моего счастья нельзя выразить никакими словами, потому что мы с мужем живем друг для друга. Ни одна женщина в мире так всецело не принадлежит своему мужу. Нас так же не может утомить общество друг друга, как не может утомить биение сердца, которое бьется в его и в моей груди; поэтому мы неразлучны. Быть вместе — значит для нас чувствовать себя так же непринужденно, как в одиночестве, и так же весело, как в обществе. Весь день проходит у нас в беседе, и наша беседа — это, в сущности, размышление вслух. Я всецело ему доверяю, а он — мне; наши характеры идеально подходят друг к другу, почему мы и живем душа в душу.
Первые два года нашего брака мистер Рочестер оставался слепым. Быть может, это обстоятельство особенно нас сблизило, особенно нас связало; ведь я была тогда его зрением, как до сих пор остаюсь его правой рукой. Я была в буквальном смысле (как он нередко меня называл) зеницей его очей. Он видел природу и читал книги через меня; никогда я не уставала смотреть за него и описывать поля, деревья, города, реки, облака и солнечные лучи — весь окружающий нас пейзаж; передавать впечатления от погоды; доверять его слуху то, в чем отказывали ему глаза. Никогда не уставала ему читать, не уставала водить туда, куда ему хотелось, и делать для него то, о чем он просил. И эти услуги доставляли мне всю полноту радости, утонченной, хоть и немного грустной, ибо мистер Рочестер просил о них без мучительного стыда и без гнетущего унижения. Он любил меня так глубоко, что, не колеблясь, прибегал к моей помощи; он чувствовал, как нежно я его люблю, и знал, что принимать мои заботы — значило доставлять мне истинную радость.
Однажды утром, в конце второго года, когда я писала письмо под его диктовку, он подошел, наклонился надо мной и сказал:
— Джен, у тебя на шее какое-то блестящее украшение?
На мне была золотая цепочка, я ответила:
— Да.
— И на тебе голубое платье?
Это было действительно так. Затем он сообщил мне, что с некоторых пор ему кажется, будто темная пелена у него на глазу становится более прозрачной: теперь он убедился в этом.
Мы обратились в Лондоне к выдающемуся окулисту, и мистер Рочестер через некоторое время стал видеть этим глазом. Он теперь видит не очень отчетливо, не может подолгу читать и писать, но может передвигаться один, и нет надобности водить его за руку; теперь уже небо для него не пустая бездна, и земля не кажется ему мраком. Когда ему положили на колени его первенца, он увидел, что мальчик унаследовал его глаза — такие, какими они были прежде, — большие, черные, блестящие. И он снова с глубокой благодарностью признал, что бог обратил на него свою милость.
Итак, мой Эдвард и я — мы оба счастливы; счастливы также и наши любимые друзья. Диана и Мери Риверс обе замужем; поочередно, раз в год, они приезжают погостить к нам, и мы изредка посещаем их. Муж Дианы — капитан флота, храбрый офицер и прекрасный человек. Муж Мери — священник, школьный товарищ ее брата, по своим дарованиям и моральным качествам он достоин своей избранницы. И капитан Фицджемс и мистер Уортон любят своих жен и взаимно любимы. Что касается Сент-Джона, то он покинул Англию и уехал в Индию. Он вступил на путь, который сам избрал, и до сих пор следует этой стезей.
Он так и не женился и вряд ли женится. До сих пор он один справляется со своей задачей; и эта задача близка к завершению: его славное солнце клонится к закату. Последнее письмо, полученное от него, вызвало у меня на глазах слезы: он предвидит свою близкую кончину. Я знаю, что следующее письмо, написанное незнакомой рукой, сообщит мне, что господь призвал к себе своего неутомимого и верного слугу.
1
Гольдсмит Оливер (1728—1774) — английский писатель, автор романа «Векфильдский священник».
(обратно)2
Перевод Т. Казмичевой.
(обратно)3
Гай Фокс (1570—1605) — английский офицер, один из обвиняемых по делу о Пороховом заговоре, представлявшем попытку католической партии взорвать английский парламент
(обратно)4
«История Расселаса, принца абиссинского» — роман Сэмюэля Джонсона (1709—1784), ученого и критика, составителя толкового словаря английского языка
(обратно)5
как один человек (фр.)
(обратно)6
быть (фр.)
(обратно)7
«Воскресну» (лат.)
(обратно)8
солидному (фр.)
(обратно)9
Thorntree (англ.) — боярышник
(обратно)10
«Что с вами? — сказала одна из крыс. — Говорите!» (фр.)
(обратно)11
Моя коробка, моя коробка! (фр.)
(обратно)12
Сиди смирно, дитя, понимаешь? (фр.)
(обратно)13
О боже! Какая прелесть! (фр.)
(обратно)14
и я на этом настаиваю (фр.)
(обратно)15
Мое платье идет мне?.. А башмачки? А чулки? Я, кажется, сейчас танцевать начну! (фр.)
(обратно)16
Мсье, примите тысячу благодарностей за вашу доброту! Так мама делала, не правда ли, мсье? (фр.)
(обратно)17
таким образом (фр.)
(обратно)18
пылкую страсть (фр.)
(обратно)19
атлетическое сложение (фр.)
(обратно)20
Мой ангел! (фр.)
(обратно)21
мужской красотой (фр.)
(обратно)22
пикантная мордочка (фр.)
(обратно)23
нежных чувств (фр.)
(обратно)24
Риччио Давид (1540—1566) — итальянский музыкант, фаворит Марии Стюарт, королевы Шотландской.
(обратно)25
Босвел Джемс Хэпберн (1536—1578) — шотландский аристократ. Был женат на Марии Стюарт.
(обратно)26
с воодушевлением (ит.)
(обратно)27
Невеста (англ.)
(обратно)28
Брайд — невеста; уэлл — колодец (англ.). Все вместе — тюрьма в Англии.
(обратно)29
Добрый вечер! (фр.)
(обратно)30
готова скушать свою английскую маму (фр.)
(обратно)31
чтобы приободриться (фр.)
(обратно)32
Перевод Б.Лейтина.
(обратно)33
игра природы (лат.)
(обратно)34
«Мармион» — поэма английского писателя Вальтера Скотта.
(обратно)35
Зачем? (ит.)
(обратно)36
Перевод Б.Лейтина.
(обратно)37
Еще молод (фр.)
(обратно)
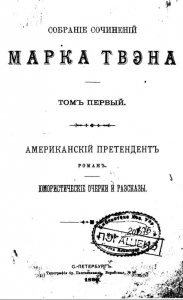

Комментарии к книге «Джен Эйр», Шарлотта Бронте
Всего 0 комментариев